Россия и Франция. Сердечное согласие, 1889–1900 [Василий Элинархович Молодяков] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
В. Э. Молодяков Россия и Франция. Сердечное согласие, 1889–1900
ebooks@prospekt.org
Изображения на обложке: Александр III, фотограф С. Л. Левицкий (wikimedia.org), Президент Феликс Фор, фотограф Ф. Надар (wikimedia.org), а также с ресурса Shutterstock.com В оформлении макета использованы иллюстрации из собрания автора и с ресурса wikipedia.org
Автор: Молодяков В. Э., кандидат исторических наук, доктор политических наук, профессор Университета Такусёку (Токио), автор более 40 книг.
© Молодяков В. Э., 2025 © ООО «Проспект», 2025
* * *
Пролог. «ВЛЕЧЕНЬЕ, РОД НЕДУГА…»
Россию и Францию всегда связывали тесные и непростые отношения. Французское влияние в русской истории и русской жизни, особенно начиная с середины XVIII века, огромно. Пышность версальского двора служила образцом для петербургского. Почти все русские аристократы владели французским языком: многие не хуже французов, многие лучше, чем русским. Парижская мода царила по всей Российской империи, диктуя местным щеголям — которых при Пушкине на французский же лад называли «петиметрами» — во что им одеваться и что как называется: «Ведь панталоны, фрак, жилет — всех этих слов по-русски нет». Потом версальский двор, сметенный великой революцией 1789 года, стал достоянием истории. Петербургский, стремившийся превзойти его, просуществовал еще век с четвертью. Однако Франция несла в Россию не только духи и наряды, не только «суп в кастрюльке прямо из Парижа» и легкомысленные романы, но также новейшие научные открытия и философские учения, литературные моды и революционные идеи. Вольтера при его жизни больше чтили в Пруссии и России: ему покровительствовали монархи — Фридрих Великий и Екатерина Великая, которые переписывались с ним по-французски. Екатерина даже купила библиотеку знаменитого вольнодумца, которая и ныне хранится в Санкт-Петербурге. Французская революция принесла в Россию огромное количество эмигрантов: сначала роялистов, сторонников короля, спасавшихся от революционного террора, потом побежденных революционеров, бежавших от расправы, но старавшихся скрыть свое подлинное прошлое. На русской службе появилось немало французов, оставивших по себе очень разную память. Генерал-губернатор Одессы с 1803 года Арман-Эмманюэль дю Плесси герцог де Ришелье, известный в России официально как Эммануил Осипович и запросто как «наш Дюк» (duc по-французски значит «герцог»), считается основателем города: официально Одесса была создана за восемь лет до назначения градоначальником этого разнообразно одаренного вельможи-эмигранта, но расцвела именно при нем. В 1814 году, после реставрации династии Бурбонов, Ришелье вернулся на родину, где годом позже стал премьер-министром и одним из влиятельнейших людей страны. А в Одессе его место занял граф Александр Федорович Ланжерон, уроженец Парижа, звавшийся там Луи-Александр-Андрэ. Были, конечно, и другие: достаточно вспомнить убийцу Пушкина кавалергарда Жоржа-Шарля Дантеса, который был «заброшен к нам по воле рока» после революции 1830 года. Ришелье Арман-Эммануэль дю Плесси
Ришелье Арман-Эммануэль дю Плесси
Россия охотно принимала французов, стремясь научиться у них тому, чего не знала сама: парижскому шику и тайнам масонства (практически все русское масонство — французского происхождения), танцам и красноречию, церемониалу и вольнодумству. Французы охотно ехали к нам «на ловлю счастья и чинов», как справедливо, но, может быть, излишне резко выразился Лермонтов. Аристократии по всей России, а не только в столицах, требовались танцмейстеры и модистки, домашние учителя и библиотекари, причем в годы революционных потрясений из Франции в нашу страну приезжали не только сомнительные «графы» вроде Сен-Жермена и Калиостро, но и настоящие. Французский театр и книжные лавки наряду с модными магазинами стали неотъемлемой частью русской жизни сначала аристократии, затем дворянства в целом, а потом и всех, у кого водились деньги. Русские тоже стремились во Францию. Правда, не на службу — в императорской России это не было принято, а других посмотреть и себя показать. Франция всегда манила наших соотечественников, будоражила умы и волновала сердца. У русских аристократов была своя Франция, у писателей и художников — своя, у революционеров — своя, но всех тянуло в Париж. Из дневников и путевых записок, стихов и новелл, писем и воспоминаний русских о «прекрасной Франции» можно составить целую библиотеку. Лучшие годы жизни великий Тургенев провел в Буживале под Парижем. Но и великий Оноре де Бальзак венчался со своей любимой Эвелиной Ганской не где-нибудь, а в русском городе Бердичеве. Франция не казалась России врагом даже во время войн с Наполеоном, потому что ассоциировалась не с «корсиканцем», а со «старым порядком». Наполеон больше века занимал воображение русских поэтов — от Пушкина и Лермонтова до Брюсова и Цветаевой — не как противник, но как титаническая фигура истории вроде Александра Македонского или Юлия Цезаря. Отечественная война 1812 года наложила колоссальный отпечаток на жизнь России и русского общества, но не вызвала ни ненависти к Франции, ни отчуждения от нее. Уже в 1839 году на Бородинском поле появился памятник павшим французским воинам — Россия умела чтить достойного противника. Отношение Франции и французов к России и русским было более сложным и менее восторженным. Французская аристократия с некоторым удивлением смотрела на «ле бояр рюсс», прибывших из далекой, неведомой и почти азиатской страны, но тем не менее одетых по последней моде, отлично говоривших на их языке и не жалевших денег. Привыкшие мнить себя воплощением европейского духа и культуры, наследниками Греции и Рима, французы были склонны считать немцев полуазиатами, а русских и вовсе азиатами. Но самобытность и очарование России, загадочной «русской души», воплощенной в «ле мюжик рюсс» и странном слове «нитшево» (то есть «ничего» во всех его значениях), не оставляла их в покое. В нашу страну были влюблены такие разные люди, как Стендаль (участник похода Наполеона на Москву) и Бальзак, Проспер Мериме и Теофиль Готье, Александр Дюма и Гюстав Флобер. Путевые записки Готье или Дюма перевешивают книгу маркиза Астольфа де Кюстина о «николаевской России», ставшую любимым чтением русофобов, несмотря на периодические заявления автора о том, что его многое восхитило. Кюстин зло писал о самодержавной Российской империи 1830-х годов в основном потому, что боялся ее: «фобия» имеет здесь значение «страх», а не «ненависть». Но именно эта имперская мощь, этот абсолютизм власти несколькими десятилетиями раньше так пленили его соотечественника графа Жозефа де Местра, монархиста, католика и «пламенного реакционера», нашедшего спасение от революционного пожара в «Петербургских вечерах», как называлась его самая знаменитая книга. Несмотря на обоюдное влечение и интенсивное цивилизационное и культурное взаимодействие, межгосударственные отношения России и Франции далеко не всегда были дружественными и тем более союзными. В XIX веке наши страны воевали дважды — при Наполеоне I в начале столетия и при его племяннике Наполеоне III в Крымскую войну 1854–1855 годов. Первую войну Россия выиграла: в 1812 году Наполеон был в Москве, но в 1814 году казаки гарцевали по Парижу. Вторую проиграла, хоть и не была разгромлена. Поражение в войне с Пруссией в 1870–1871 годах, отторжение Эльзаса и Лотарингии, огромная по тем временам контрибуция, а также свержение монархии пошатнули положение Франции в Европе, где в то время не было ни одной республики, кроме Швейцарии. В 1875 году дипломатическое вмешательство русского императора Александра II спасло Францию от возможной «превентивной войны» со стороны Германской империи, создание которой было провозглашено четырьмя годами ранее не где-нибудь, а в занятом немцами Версале. Петербург не хотел ссориться с Берлином, но и не жаждал видеть его доминирующей силой в Западной Европе. Париж в свою очередь боялся Берлина и искал если не союзника — мало кто решился бы открыто выступить против растущей не по дням, а по часам империи, — то хотя бы возможного «противовеса». Неудивительно, что в последней четверти XIX века взоры французских государственных мужей обратились к России и даже самые отъявленные республиканцы были готовы на сближение с «империей кнута», как нередко называли нашу страну тогдашние европейские либералы. Франко-русское сближение конца XIX века, закончившееся оформлением военного и политического союза, было направлено против Германии и в итоге стало одной из главных причин Первой мировой войны в 1914 году. Отношения между нашими странами перед войной нельзя считать образцом дальновидной политики, которой стоит подражать, однако события 1890-х годов содержали в себе немало интересного и поучительного. Тем более это относится не только к сфере «тайной дипломатии» или военного сотрудничества.
Глава первая. «ПАРИЖА ВЕЧНЫЙ ГУЛ»: ГЛАЗАМИ РУССКИХ ПОЭТОВ
В 1889 году Франция отмечала столетие своей Великой Революции (оба слова полагалось писать с большой буквы). Третья Республика[1] — так называли режим, возникший в результате отречения Наполеона III от престола и крушения монархии в 1870 году, — заявила о себе как о наследнице лучших завоеваний революции, вроде «Декларации прав человека и гражданина», и постаралась дистанцироваться от ее идейных крайностей и ужасов революционного террора. За эти сто лет Франция пережила еще несколько революций, войн, смен государственного строя и династий, включая реставрации, но вроде бы, наконец, успокоилась. Среди сплошь монархической Европы — республиканскую, точнее конфедеративную, Швейцарию никто в расчет не принимал — Франция казалась некоей политической аномалией наподобие Советского Союза в двадцатые годы двадцатого века. Поэтому ей чаще, чем другим великим державам, приходилось что-то доказывать и самоутверждаться, но французы делали это с умением и блеском. Всемирная выставка 1889 года в Париже стала одной из грандиознейших пиар-акций Третьей республики. Французская столица уже не впервые устраивала подобные действа, так что опыт был, причем успешный. Но сейчас захотелось особенно удивить мир — тем, чего не было больше нигде. Символом выставки стала башня из металлических конструкций высотой 307 метров, выстроенная по проекту и под руководством инженера Александра Эйфеля. Многих это сооружение, появившееся в центре города, восхищало новизной и техничностью, но большинство деятелей литературы и искусства встретили башню в штыки, заявив, что она раз и навсегда испортила исторический облик города. Впрочем, протесты продолжались недолго. С башней смирились, ее приняли, полюбили… Теперь это один из главных символов Парижа, обессмертивший имя своего создателя, но не спасший его от суда и тюрьмы, куда тот угодил в 1893 году за участие в махинациях вокруг строительства Панамского канала: деньги собрали, канал не достроили. Но умер инженер Эйфель в «ранге» национального героя. Париж этих лет описан во множестве книг и статей, в том числе принадлежащих перу наших соотечественников, в изобилии съехавшихся полюбоваться и самим городом, и собранными на всемирной выставке «чудесами света». Выбирай на вкус. Александр Гюстав Эйфель. 1910
Александр Гюстав Эйфель. 1910
 Эйфелева башня. Начало ХХ в.
Эйфелева башня. Начало ХХ в.
У нас будут необычные «русскоязычные гиды» по французской столице рубежа 1880–1890-х годов — Дмитрий Мережковский и Вячеслав Иванов, два молодых в ту пору поэта, которых манил к себе «Парижа вечный гул». Оба не раз бывали там и подробно описали его в 1891 году: первый в обстоятельной поэме «Конец века. Очерки современного Парижа», второй в цикле афористичных, остроумных, порой саркастических «Парижских эпиграмм». Мережковскому было двадцать шесть лет, Иванову — двадцать пять, так что слава их в качестве вождей русского символизма была впереди. Мережковского и в литературе, и в жизни всегда отличала сугубая серьезность. Его ценили за ум, эрудицию, систематичность и трудолюбие, но при этом критиковали за догматичность, схематизм мышления и сухость языка статей и книг. На всех, как известно, не угодишь. Написанные им многие десятки томов сегодня будут интересны немногим, зато эти немногие будут вознаграждены сполна. Другое дело — стихи, хотя и они у Дмитрия Сергеевича похожи на прозу. Что, замечу, для нашей воображаемой прогулки по Парижу, только что украшенному Эйфелевой башней, совсем неплохо. Итак, в путь, по улицам вечерней столицы летом:
 Д. С. Мережковский. Начало 1890-х
Д. С. Мережковский. Начало 1890-х
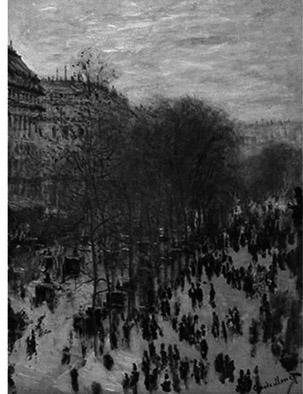 К. Моне. Бульвар Капуцинок. 1873
К. Моне. Бульвар Капуцинок. 1873
Знаменитые парижские кафе — центр интеллектуальной, политической и художественной жизни столицы. За небольшими столиками одних — депутаты и министры, банкиры и адвокаты, роялисты и республиканцы. Здесь говорят о последнем запросе в Палате депутатов, об итогах местных выборов, о ценах на зерно и уголь, передают новости из Лондона, Берлина, Рима, Петербурга, интригуют, составляют коалиции и альянсы. За столиками других — с виду почти такими же — художники, писатели, бойкие журналисты, модные критики и, конечно, поэты, признанные и непризнанные, циничные и вдохновенные. Здесь рождаются и рушатся репутации — забота сегодняшнего дня и содержание завтрашних газетных столбцов и журнальных страниц. Но здесь же рождаются дерзкие эстетические теории, амбициозные литературные манифесты, создаются школы и пишутся — во всей этой суете — гениальные и просто талантливые стихи. Кто-то прославится завтра, кто-то через много лет. Но все талантливое обязательно сохранится и не пропадет. И найдет отклик во всем мире, включая далекую Россию, которая пристально приглядывается к бьющемуся сердцу Парижа, устремленного в новое столетие.
 В. И. Иванов. Около 1900
В. И. Иванов. Около 1900
Вячеслав Иванович Иванов не уступал Мережковскому ни умом, ни ученостью, поэтому и его творчество многим казалось излишне «книжным», перегруженным именами собственными, старинными словами и научными терминами — в основном из области античной истории и культуры, к которой он тяготел так же, как Мережковский к раннему христианству и средневековью. При этом они были совершенно разными людьми — по темпераменту, по складу ума и характера, по стилю жизни. Дмитрий Сергеевич жил полной жизнью за письменным столом или произнося длинные монологи, Вячеслав Иванович — в беседах, в диалоге с людьми. Поэтому и Париж у них получился совсем разный. Мережковский повествует, подробно и неспешно. Иванов рисует четкие и запоминающиеся виньетки — «острые, краткие, стильные», как охарактеризовал их Александр Блок. Например, этот диптих, две части которого иронически озаглавлены Jura mortuorum и Jura vivorum, то есть «Права умерших» и «Права живых»:
 Девиз «Liberté, Égalité, Fraternité» на фронтоне дома. 2010. Фото. Автор: Jebulon. По лицензии GNU Free Documentation License
Девиз «Liberté, Égalité, Fraternité» на фронтоне дома. 2010. Фото. Автор: Jebulon. По лицензии GNU Free Documentation License
Поэт не шутил: официальный девиз Французской революции, а затем и республики, — «Liberté, Égalité, Fraternité», то есть «Свобода, равенство и братство», — должен был украшать все государственные учреждения. Вячеслав Иванович не без иронии откликнулся и на это:
 Казнь Робеспьера. 1794
Казнь Робеспьера. 1794
Публичные казни с помощью гильотины были одним из любимых развлечений парижских зевак не только в годы революции, но сто и даже сто пятьдесят лет спустя (последняя — 17 июня 1939 года[3]). В Третьей республике смертью чаще всего карались убийства, особенно совершенные при отягчающих обстоятельствах, например если убитых было несколько.
 «Динамитчик» Равашоль после ареста
«Динамитчик» Равашоль после ареста
Трудно с уверенностью сказать, насколько Равашоль и его подельники вдохновлялись примером российских «товарищей» — народовольцев, которые в конце 1870-х годов развязали настоящий террор против «царских сатрапов», увенчавшийся убийством самого императора Александра II 1 (13) марта 1881 года. Решительные меры, предпринятые по приказу нового царя, позволили сбить волну террора, но память о нем осталась. Русские газеты скупо и осторожно писали о «подвигах» Равашоля и других «динамитчиков», которые могли вызвать сочувствие у наиболее радикальной части вечно недовольной интеллигенции. Однако разведчики и дипломаты пристально следили за действиями анархистов, видя в них не только признак слабости республиканского режима, но и возможную угрозу для России. Франция конца XIX века казалась русским страной свободы — политической, социальной, моральной (по мнению некоторых, аморальной), духовной, эстетической. Отсюда шли прогрессивные — любимое слово тех лет! — философские и общественные учения позитивизма, социализма и анархизма, оригинальные литературные течения и школы от натурализма до символизма, театральные и художественные новации, начиная с импрессионизма. Об этом с нескрываемой, но доброй завистью написал Мережковский:
Глава вторая. ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО СЛУШАЕТ «МАРСЕЛЬЕЗУ»: НА ПУТИ К РУССКО-ФРАНЦУЗСКОМУ СОЮЗУ
 Александр III. Фотография С. Л. Левицкого
Александр III. Фотография С. Л. Левицкого
Александр III, вступивший на престол весной 1881 года после убийства своего отца Александра II террористами-народовольцами, был первым монархом из дома Романовых, при котором Россия не вела ни одной войны. За это его почтительно звали «Миротворцем», хотя самодержец позволял себе весьма несдержанные высказывания об окружающем мире. Войны он не хотел, но и уступать никому не собирался. Убежденный славянофил, он отрицательно относился к балканской политике Австро-Венгрии и Турции, мечтал о контроле над Босфором и Дарданеллами и о том времени, когда «славянский стяг зареет над Царьградом», и с течением времени стал все более подозрительно относиться к Германской империи. Не подверженный, в отличие от отца, никаким либеральным веяниям и «пустым мечтаниям», Александр III воспринимал республиканский строй как недоразумение, считал парламент «балаганом», а французов несерьезными людьми, но — ничего не поделаешь — повернул российский государственный корабль в сторону «прекрасной Франции». Ни император, ни его бессменный министр иностранных дел Николай Карлович Гирс не оставили дневников или воспоминаний, а официальные документы — при их несомненной важности — по многим причинам не сообщают всей правды. Разумеется, «всю правду» узнать невозможно, но можно к ней приблизиться, если взглянуть на события прошлого глазами наиболее осведомленных и наблюдательных современников. В данном случае нам повезло. Для изучения истории русско-французского сближения в нашем распоряжении есть замечательный источник — подробный дневник первого советника МИД Российской империи графа Владимира Ламздорфа, опубликованный в 1926 году (записи 1886–1890 годов), в 1934 году (записи 1891–1892 годов) и, наконец, в 1991 году (записи 1894–1896 годов). Первые два тома недавно переизданы, но без вступительных статей, комментариев и указателей, которые были в первых изданиях и, конечно, необходимы для любой серьезной работы с источниками.
 Граф Владимир Ламздорф
Граф Владимир Ламздорф
Кто же такой граф Ламздорф, что означала должность «первого советника» и почему его дневник имеет такую ценность? На эти вопросы обстоятельно и точно ответил историк Ф. А. Ротштейн в предисловии к первому изданию второго тома его записей. «Из дневника видно, что первый советник был чем-то вроде начальника кабинета министра, на обязанности которого лежали изучение и разработка текущих дел и заготовление для министра директивных писем дипломатическим представителям за границей. Фактическое ведение переговоров, беседы с иностранными представителями — вообще внешние сношения в собственном смысле слова лежали вне компетенции советника, который поэтому не все знал, но мог знать, если министр питал к нему особое доверие и сообщал ему свои дипломатические разговоры и планы. В данном случае советник, по-видимому, был поставлен в исключительное положение. Насколько велико было доверие к нему начальника, видно из того, что, например, перипетии и даже самый факт создавшегося тогда политического сближения с Францией были во всем иностранном ведомстве известны только Гирсу и Ламздорфу и оставались секретом даже для старых послов, посвященных во множество других тайн русской дипломатической кухни. Отсюда и политическая ценность дневника. Ламздорф очень многое знал, и то, что знал, он записывал с примерной откровенностью, присоединяя к этому свои собственные соображения и комментарии, которые, при его несомненно большом и тонком уме, представляют большой интерес». Граф Владимир Николаевич Ламздорф появился на свет в конце 1844 года по старому стилю, что по новому пришлось уже на начало 1845 года, поэтому в литературе встречается двойная дата его рождения. Он принадлежал к старинному и родовитому, но не слишком богатому немецкому роду из Курляндии (ныне часть Латвии), представители которого находились на русской службе со времен Екатерины Великой. Имений или значительных капиталов граф не унаследовал, а потому зависел от успеха карьеры и царских милостей, которыми, заметим, не был обделен. Невысокий рыжеватый человек с аккуратно подстриженными усами, Ламздорф отличался нелюдимостью и предпочитал проводить время за письменным столом или с книгами, не прекращая работы даже в выходные и праздничные дни. Он никогда не был женат, почти не имел друзей — помимо природной замкнутости мешали острый ум и острый язык, которому он иногда давал волю, — и никогда не служил за границей. Создается впечатление, что Ламздорф предпочитал как можно реже покидать министерское здание у Певческого моста через реку Мойку в Санкт-Петербурге, где находилась и его казенная квартира.
 Николай Гирс
Николай Гирс
На протяжении пятнадцати лет, с 1881 по 1896 год, Владимир Николаевич возглавлял канцелярию МИД, был вторым, а затем первым советником, проделав огромную, хотя внешне невидную работу. Его очень ценил Николай Карлович Гирс, с 1875 года фактически возглавлявший внешнеполитическое ведомство в должности товарища (заместителя) министра при престарелом князе Александре Горчакове, лицейском товарище Пушкина. В 1882 году Александр III назначил Гирса министром, но тот был не более чем главой дипломатической канцелярии при царе, который единолично вершил внешнюю политику империи. Болезнь и смерть императора в 1894 году наложились на расстроенное здоровье пожилого Гирса, который умер в начале 1895 года, немного не дожив до 75 лет, но до последнего, по мере сил, исполнял свои обязанности. Для Ламздорфа это был страшный удар, ибо мало к кому он был так привязан, как к своему «старому начальнику». Со смертью Гирса карьера Ламздорфа не закончилась, так как без него министерство просто не могло работать. «Странным является мое положение в данный момент, — записывал он. — Мои секретные архивы содержат все тонкости политики последнего царствования. Я оказываюсь в положении единственного обладателя государственных тайн, являющихся основой наших отношений с другими державами». Новый министр иностранных дел князь Алексей Борисович Лобанов-Ростовский, богатый и легкомысленный вельможа, много лет был послом в Вене — двор Габсбургов считался самым древним и самым пышным в Европе — но о мировой политике в целом имел весьма поверхностные представления. Отношения с Ламздорфом у него не сложились (граф смертельно обиделся, что начальник не уделил должного внимания его роду в своих трудах по генеалогии), но князь скоропостижно скончался, пробыв во главе министерства всего полтора года. Его преемник — бесцветный бюрократ Николай Павлович Шишкин — так и остался в ранге управляющего министерством и менее чем через год уступил должность амбициозному и авантюрному графу Михаилу Николаевичу Муравьеву, который взял Ламздорфа в заместители. В это время Владимир Николаевич сблизился с еще более амбициозным и авантюрным министром финансов Сергеем Юльевичем Витте, который активно вмешивался во внешнюю политику империи, а на Дальнем Востоке фактически взял ее в свои руки. Министр финансов враждовал с Муравьевым и стремился иметь на Певческом мосту «своего человека», тем более что Ламздорф, по словам Витте, «был ходячим архивом министерства иностранных дел по всем секретным делам». После скоропостижной смерти Муравьева летом 1900 года Сергей Юльевич продвинул Владимира Николаевича в министры, зная, что может на него положиться. Но это уже другая история, причем печальная, — курс Витте привел к русско-японской войне, поражению и революционному пожару 1905 года. В 1906 году Витте и Ламздорф вместе ушли из большой политики. Годом позже Владимир Николаевич умер на французском курорте Сан-Ремо. Таким образом, на протяжении всего описываемого нами периода и даже раньше через руки Ламздорфа проходили все важнейшие документы внешней политики России. Обычная процедура была такова. Послы и посланники присылали в министерство отчеты — кстати, Александр III первым из русских царей заставил своих дипломатов писать по-русски, а не по-французски, как это было принято раньше. Гирс и Ламздорф читали их и отправляли императору, в некоторых случаях вместе с проектами ответов или указаний. Тот читал всю корреспонденцию, равно как и документы, полученные от иностранных послов в Петербурге, и накладывал на нее краткие, выразительные, порой очень резкие резолюции в качестве руководства к действию. Гирс еженедельно ездил к царю с докладами, к которым готовился, как школьник к экзаменам; Ламздорф в это же время ходил молиться в Казанский собор. Министр выслушивал указания монарха, периодически что-то уточняя, отвечал на вопросы и давал необходимые пояснения. По возвращении он передавал Ламздорфу необходимые бумаги и подробно пересказывал содержание беседы. Затем Владимир Николаевич садился за свой любимый письменный стол и принимался за работу — составлял указания главам российских миссий и ответы иностранным послам и министрам, которые Гирс просматривал и подписывал, в необходимых случаях представляя их на рассмотрение самодержца. Дневник, который вел этот осведомленный и умный человек, интересен тем, что он был не только записью наблюдений или впечатлений автора, но и бесценным хранилищем служебной информации. Историк В. М. Хвостов пояснял: «Ежедневно или почти ежедневно Ламздорф заносил заметки о главнейших событиях и свои особые соображения на бумагу в виде черновых набросков. Начисто он переписывал и обрабатывал эти записи обычно позже, часто спустя значительный промежуток после тех событий, которые в них описывались. Таким образом, запись все-таки не является отражением настроений и мыслей, которые порождались у автора теми или иными событиями тотчас же по их возникновении». Это несколько снижает ценность дневника как исторического источника, но ее существенно повышает другое обстоятельство: «В дневнике имеется значительное количество копий, снятых Ламздорфом с дипломатических документов. Нужно иметь в виду, что в некоторых (впрочем, довольно редких) случаях Ламздорф не копировал, а излагал документы своими словами, хотя он и заключает это изложение в кавычки. Впрочем, этот парафраз всегда весьма точно передает суть дела».
 Фрагмент дневника Ламздорфа на французском языке
Фрагмент дневника Ламздорфа на французском языке
Отступление о графе Ламздорфе и его дневнике может показаться читателю слишком длинным и уводящим в сторону от главной темы, но это не так. Во-первых, дневник первого советника является одним из основных источников всего нашего исследования. Во-вторых, он важен не только и не столько в применении к его автору. В. М. Хвостов верно разъяснил значение записей Ламздорфа: «Самая полная публикация документов этого периода нисколько не лишит научного значения того подбора их (или выдержек из них), который имеется в дневнике. Этот подбор всегда останется показателем того, что считалось наиболее важным теми, кто руководил тогда внешней политикой царской России. Всякий, кто работал над историческими источниками подобного рода, поймет, как важно для реконструкции — не самих международных событий, а именно политики русского правительства, — знать, что же именно из огромного вороха дипломатической переписки виднейшими представителями самого этого правительства считалось наиболее важным». В первой книге дневника, охватывающей 1886–1890 годы, записей о Франции на удивление мало. Каковы ее основные темы? Германия: усиление торговых трений с Россией в конце 1880-х годов, восшествие на престол молодого и решительного кайзера Вильгельма II в 1889 году, отставка «железного канцлера» князя Бисмарка годом позже и отказ его преемника князя Каприви от продления «перестраховочного договора» 1887 года с Россией. По этому договору стороны обязались сохранять благожелательный нейтралитет при войне одной из них с любой третьей великой державой, кроме случаев нападения Германии на Францию или России на Австро-Венгрию. Затем Болгария: борьба австрийского и русского влияний в этом полунезависимом государстве, формально остававшемся вассалом Турции, но приобретшем фактическую самостоятельность после русско-турецкой войны 1877–1878 годов. Турция: вечный «восточный вопрос» и финансовое положение Оттоманской империи, обанкротившейся, но продолжавшей контролировать стратегически важные проливы Босфор и Дарданеллы между Черным и Средиземным морями. О Франции почти ничего, но несколько записей по нашей теме — с необходимыми комментариями — необходимо привести. Республиканцы не питали симпатий к царям, но не могли обойтись без опоры на них. «Гамбетта, Клемансо и компания всегда были враждебно настроены по отношению к монархической, самодержавной, набожной и православной России, — записывал Ламздорф 9 (21) января 1890 года. — Под влиянием страха перед Германией они из расчета льнули к нам, но в сущности парижский кабинет имел постоянно целью поссорить нас с Берлином, заставлять нас таскать для него каштаны из огня и лишь стремился пускать нам пыль в глаза очень шумными, но более нас компрометирующими, чем искренними проявлениями своих чувств. Тем не менее г. Гирс остается верен своей системе не ссориться с Францией и не подавать даже и виду, что между нами может произойти охлаждение. В целях поддержания равновесия мы должны сохранить возможность опираться на этот мнимый союз и на эти мнимые симпатии». Русский посол в Париже Артур Моренгейм обратил внимание начальства на речь молодого депутата Теофиля Делькассе при обсуждении очередного государственного бюджета в Палате депутатов. «Он приходит к выводу, — излагал Ламздорф полученную депешу 4 (16) ноября 1890 года, — что единственно практичным и реальным союзом является союз между Россией и Францией, основывающийся не на письменных соглашениях, а на общности интересов. Германия заключила союз с Австрией против России и с Италией против Франции, но эта лига бессильна перед моральным единением Франции и России, сохраняющих в сознании своей силы незыблемое спокойствие. Наконец, он доказывает, что различный образ правления нимало не препятствует франко-русскому соглашению. Глубокое впечатление, произведенное красноречием молодого депутата, — заметил он в заключение, — предвещает ему, по-видимому, блестящую будущность». «Французы добиваются хороших с нами отношений, — подытожил Владимир Николаевич три дня спустя, — и будут вынуждены делать это и впредь, так какони нуждаются в поддержке дружески к ним расположенной России».
 Леон Гамбетта. Портрет работы Л. Бонна
Леон Гамбетта. Портрет работы Л. Бонна
Небольшая историческая справка. Адвокат и политик Леон Гамбетта (1838–1882), к тому времени уже покойный, считался «отцом» Третьей Республики и воплощением ее добродетелей, включая либерализм, парламентаризм и атеизм. Трудно представить себе большую противоположность Александру III, нежели этот буржуа, враг монархии и церкви. Жорж Клемансо (1841–1929) в ту пору был известен только как парламентский скандалист и «ниспровергатель кабинетов»; мировую славу ему принесут пребывание во главе правительства в 1917–1920 годах и решающее участие в выработке Версальского «мирного» договора 1919 года, в котором уже содержался весь сценарий будущей войны в Европе. Теофиль Делькассе (1852–1923) в качестве министра иностранных дел с 1898 по 1905 год сыграл решающую роль в дальнейшем укреплении сотрудничества с Россией и в ухудшении отношений с Германией, войну с которой он продолжал приближать в качестве морского министра в 1911–1913 годах, посла в Петербурге в 1913–1914 годах и снова главы внешнеполитического ведомства в 1914–1915 годах. Николай Гирс носил нерусскую фамилию и считался чуть ли не проводником немецкого влияния в Петербурге. В этом его обвиняли воинственные патриоты вроде влиятельного издателя «Московских ведомостей» Михаила Каткова, призывавшего к союзу с Францией и жесткой политике в отношении Германии. Призывал Катков к этому небескорыстно, ибо выражал интересы той части русских промышленников, которые особенно опасались германской конкуренции. Напротив, помещики, продававшие в Германию зерно, были заинтересованы в наилучших отношениях с ней. Об этом знали и царь, считавшийся с Катковым, и Гирс, и Ламздорф. На Певческом мосту думали об интересах России и не искали никакой иной корысти, кроме царских милостей, от которых министр и его ближайший помощник зависели и материально, и морально. Они не испытывали никакой враждебности к Германии, но отказ Берлина от продления «перестраховочного договора» при условии сохранения Тройственного союза с Веной и Римом показывал, что с уходом Бисмарка внешняя политика империи Гогенцоллернов делает если не крутой, то ощутимый поворот, причем не в сторону интересов России. Правящие круги Петербурга же без всякой симпатии относились к республиканской Франции — Александр III вообще без малейшего стеснения называл любой парламент «балаганом» — но приходили к выводу, что в сложившейся ситуации положиться можно будет только на нее. Об этом хорошо написал Ф. А. Ротштейн, характеристикой которого мы воспользуемся. «Гирс и Ламздорф шли на этот крутой поворот с большой неохотой. Наталкиваясь на каждом шагу в своей среднеазиатской и ближневосточной политике, а в особенности в своих политических устремлениях на Балканы и к проливам, на сопротивление Англии, Россия, покинутая Германией, очутилась в весьма незавидном положении, которое осложнялось еще и таможенной войной с Германией и беспримерным народным голодом, приведшим в чрезвычайное расстройство государственные финансы и обороноспособность страны. При таких условиях — а немцы к тому же беспрестанно муссировали по Европе слухи о возможностях войны — Гирс и Ламздорф сознавали необходимость сближения с Францией, которая уже оправлялась от своего поражения в военном и финансовом отношении и добивалась союза с Россией как старой противницей Англии, а ныне и Германии. Но сблизиться с Францией для того, чтобы выйти из собственного состояния изоляции и застраховать себя на всякий случай против Германии, было одно. Совершенно иное было сближаться с Францией для того, чтобы вывести из изоляции ее и, питая в ней реваншистские идеи, дать вовлечь себя в войну или толкнуть на превентивную войну Германию. Войны Гирс и Ламздорф боялись больше всего на свете, так как были уверены, что она принесет с собой не просто бедствия, но и революцию. Меж тем к Франции с ее вечно меняющимися правительствами, буйными припадками шовинизма и как раз в это время участившимися актами анархического террора у обоих дипломатов не было никакого доверия». Сановные обитатели здания на Певческом мосту постепенно пришли к убеждению, что можно пойти навстречу французским авансам, но в глубокой тайне, дабы не злить Германию. Царь согласился с их доводами, тем более что Ламздорф считал некоторую напряженность между Берлином и Парижем, скажем так, невредной для России. Одним из первых шагов в сторону Франции стало решение Александра III пожаловать президенту Сади Карно высшую награду Российской империи — орден Св. Андрея Первозванного. В то время ордена не столько давали за конкретные заслуги, сколько «жаловали» в знак монаршей милости или для укрепления межгосударственных отношений. Решение далось царю нелегко, ибо из иностранцев до тех пор этот орден получали только монархи или члены королевских домов, но не аристократы и тем более не «простолюдины», к которым формально относился французский президент. Царь долго не подписывал заготовленный указ, так как, по словам Гирса, «не хотел опускаться, оказывая слишком интимные знаки внимания этим республиканцам». «Знак симпатии, высказанный при нынешних обстоятельствах главе французского правительства, — записывал Ламздорф 17 февраля (1 марта) 1891 года, не видя особой разницы между главой правительства и главой государства, хотя речь шла о президенте, — лишь заставит немцев быть более осмотрительными, а французов сделает менее запуганными. Это заставило бы также Берлин не пренебрегать добрыми отношениями с Россией». «Мы со своей стороны не будем испытывать никакого сожаления, — писал он два дня спустя послу в Париже от имени Гирса, — видя, что все усилия Германии достигнуть какого-либо сближения с Францией терпят поражение. От этого может выиграть лишь равновесие, необходимое для спокойствия Европы. Сердечное согласие, которое столь счастливо водворилось между Россией и Францией, представляет в наши дни условие, необходимое не только ввиду их взаимных интересов, но также и для создания определенного противовеса влиянию лиги центральных держав». Сердечное согласие! По-французски l’entente cordiale. Ключевое слово уже сказано, хотя в исторической литературе его обычно относят к более позднему времени, к окончательному оформлению союза Англии, Франции и России против Германии в 1907 году, принесшего в русский политический лексикон слово «Антанта» уже в качестве имени собственного. Однако Ламздорф пишет о достигнутом согласии, формулируя таким образом официальную позицию Петербурга.
 Барон Артур Моренгейм. Портрет работы И. И. Хелмицкого
Барон Артур Моренгейм. Портрет работы И. И. Хелмицкого
Необходимо принять во внимание и личность адресата. Шестидесятисемилетний барон Артур Павлович Моренгейм, с 1884 года занимавший пост посла в Париже, а до того долго служивший посланником в Копенгагене и недолго послом в Лондоне, не пользовался симпатиями в Петербурге, за исключением императрицы Марии Федоровны — бывшей датской принцессы Дагмары, браку которой с наследником российского престола Александром Александровичем он активно содействовал. Его считали не умным, но хитрым и пронырливым, подозревали в еврейском происхождении и слишком тесных связях с французскими политиками и банкирами. Моренгейм стал активным сторонником и проводником идеи франко-русского союза не только из государственных соображений, но и движимый личным честолюбием. Вхожий к премьер-министру Шарлю-Луи Фрейсине и министру иностранных дел Александру Рибо, предприимчивый посол всячески подчеркивал готовность Петербурга к союзу с Францией и даже зачитывал им фрагменты писем Гирса — Ламздорфа, вроде приведенного выше, а также «доверительно сообщил» о готовящемся награждении президента высшим орденом Российской империи. На Певческом мосту об этом узнали не от него, а из перлюстрированного письма Рибо французскому послу в России Антуану Лабуле. Одновременно Моренгейм написал письмо Гирсу «в поучающем тоне» о необходимости дальнейшего сближения с Францией. Документы были посланы царю, и Гирсу пришлось оправдываться за своеволие разговорчивого посла. Александр III, уже готовившийся принять окончательное решение о союзе, не рассердился, хотя в иной ситуации его крутой нрав мог стоить карьеры и послу, и министру. Считавший Моренгейма непорядочным человеком, Ламздорф 6 (18) марта составил ему от имени начальника «кисло-сладкое» письмо, напомнив, что все это сообщалось ему для сведения, а не для оглашения, пусть даже в частном порядке. Во избежание возможных осложнений или недомолвок проект письма был просмотрен и завизирован государем. Болтливость и честолюбие барона раздражали Гирса и Ламздорфа не только сами по себе — они опасались излишних «утечек информации», которые дали бы повод обвинить Россию в антигерманской политике. Немецкие фамилии обоих сановников не должны вводить нас в заблуждение относительно их политической ориентации. Дело было в другом. Молодой кайзер Вильгельм II считался человеком импульсивным, чтобы не сказать неуравновешенным, и способным на необдуманные поступки. Эти качества действительно были присущи императору, но молва существенно и небескорыстно преувеличивала их. Опытный русский посол в Берлине граф Павел Шувалов считал его «в сущности миролюбивым, но крайне обидчивым». Ссориться с Россией Вильгельм не хотел, питая личные симпатии и к Александру, и к его наследнику Николаю, на которые те не отвечали особой взаимностью. Тем не менее царь не только наградил президента Карно орденом Св. Андрея Первозванного, но и пожаловал в мае того же года Фрейсине и Рибо ордена Св. Александра Невского. Но главные события развернулись в июле-августе того же года. 11 (23) июля в Кронштадт прибыла с официальным визитом французская эскадра под командованием красавца-адмирала Альфреда Жерве, пробывшая там до 26 июля (7 августа). Морякам устроили пышную и восторженную встречу. Историк И. С. Рыбаченок пишет: «Подготовка началась заранее: в течение недели повсюду в городе прибирали, чистили, подкрашивали. На пристани огромные флаги России и Франции красовались попарно по обе стороны входного трапа, а над воротами парка два полотнища, изящно связанные концами в виде большого банта, возвышались на трехцветных пятисаженных шестах. Гирлянды дубовых ветвей и трехцветной материи соединили отдельные декоративные элементы в единое целое, а роскошные пальмы в больших вазонах дополняли убранство… Задолго до прихода гостей масса зрителей собралась на стенке Купеческой гавани, откуда открывался превосходный вид на рейд. Тысячи глаз невооруженных и вооруженных всевозможными зрительными приспособлениями были направлены на горизонт в томительном ожидании… Постоянно чередовавшиеся звуки „Боже, царя храни“, „Марсельезы“ и приветственные возгласы разрастались в стихийный гул. Все махали шляпами, платками, зонтами».
 Сади Карно
Сади Карно
В царской России исполнение «Марсельезы» — революционной песни, ставшей государственным гимном Французской республики, — было запрещено законом даже в домашних условиях. В кругу приближенных Александр III выразил легкое неудовольствие тем, что она будет исполняться официально, но не без юмора заметил смущенным царедворцам: «Вы, кажется, хотите, чтобы я сочинил новый гимн для французов! Нет уж, играйте тот, какой есть». Единственное, что он себе позволил, — снял фуражку, чтобы не отдавать честь под столь «возмутительную» музыку. На торжественном обеде император с видимым удовольствием поднял тост за здоровье президента Карно. Адмирал Жерве отвечал: «Со вчерашнего дня я нахожусь в каком-то волшебном, удивительном сне. Так велики симпатии и внимание, оказанные нам в России. Мы должны гордиться этими знаками внимания, счастливые тем, что они относятся не только к нам, но и к дорогой нам Франции. Да примет великая и славная Русская империя привет Франции!» Газета «Московские ведомости», в которой был жив франкофильский дух уже умершего к тому времени Каткова, разъясняла: «Мы имеем дело не с республикой, а с Францией, могущественной державой, с великим, полным жизненной энергии и таланта и симпатичным нам народом. При таком взгляде совершенно естественным является тост, провозглашенный государем императором за главу великой дружественной страны, а „Марсельеза“ является не гимном революции, но национальным гимном Франции, тем более что от этого гимна остался ныне только мотив, слова же утратили почти всякое значение даже в самой Франции». Петербург встречал гостей не менее радостно и торжественно, чем Кронштадт. «Гости разместились в колясках, — продолжает свой основанный на документах рассказ И. С. Рыбаченок, — запряженных тройками в русской упряжи, и отправились на прогулку по нарядным улицам города. Около восьми вечера к памятнику Петру I подкатили Жерве и один из командиров кораблей. Стоя в ландо, с непокрытыми головами, они медленно объехали монумент… С прогулки все гости возвращались под гул приветствий по переполненным публикой Литейному и Невскому проспектам к зданию Городской думы: там в девять часов вечера город давал блестящий раут. Огромная толпа с энтузиазмом встречала французов, которые, поднявшись по лестнице, снимали шляпы и кланялись публике». Обеды и приемы с красноречивыми тостами следовали друг за другом. Один русский генерал, вспомнив события не такого уж далекого прошлого — Наполеоновских войн, — заявил: «Хотя французы сожгли Москву, а русские взяли Париж, те и другие оставались противниками, но никогда не были врагами». Другой назвал Крымскую войну 1854–1855 годов «скорее рыцарским турниром, чем враждебным столкновением». Описывая «братание» французских и русских моряков и гостеприимство простых петербуржцев, «Биржевые ведомости» сделали вывод, что «идея (русско-) французского сближения не составляет больше исключительного достояния интеллигентных и газетных сфер, но успела проникнуть в народную массу». Газета «Новости» увидела в происходящем «блистательное подтверждение глубины и искренности народных симпатий России и Франции». Дополнительным доказательством этого стал впечатляющий успех выставки промышленных и художественных произведений Франции, открывшейся 29 апреля (11 мая) 1891 года в Москве. Ежедневно ее посещали от трех до четырех тысяч человек. Побывал на ней и сам российский самодержец.
 Раймон Пуанкаре
Раймон Пуанкаре
Много лет спустя французский политик Раймон Пуанкаре, неоднократно возглавлявший правительство и приведший свою страну в качестве президента к Первой мировой войне, вспоминал: «Те из нас, которые были взрослыми в 1891 году, не могут даже теперь без волнения вспоминать потрясающий эффект, произведенный в то время во Франции выражениями дружбы со стороны императора Александра III. Для республиканцев это означало не только признание республики правительством, традиции и форма правления которого так сильно отличались от наших и нашего строя. Это означало конец длительного периода изоляции для Франции и внешнее выражение ее воскресения». Сказано откровенно: видно, с чьей стороны шла инициатива и кому это в большей степени было выгодно. Пребывание французских моряков в России широко освещалось всей европейской прессой. Берлин и Лондон были явно встревожены, но о самом важном в газетах не сообщалось. Между тем, 4 (16) июля Гирс в глубокой тайне начал переговоры с послом Лабуле о заключении двустороннего политического соглашения. В Петербурге об этом, кроме Гирса и посла, знали только император и Ламздорф, готовивший тексты документов. Двадцать второго июля (3 августа) Владимир Николаевич предложил положить в основу будущего соглашения готовность сторон согласовывать свои действия так, чтобы «остановить всякие осложнения в их зародыше». Александр III одобрил идею, но потребовал четко сформулировать взаимные обязательства. Два дня спустя выработанный на Певческом мосту и утвержденный царем проект был сообщен в Париж через французского посла. Двадцать шестого июля (7 августа) министр иностранных дел Рибо телеграфировал в Петербург свои пожелания и поправки. Еще через два дня император одобрил проделанную работу и велел вызвать в Россию барона Моренгейма, который узнал о переговорах только по прибытии в столицу 5 (17) августа. Девятого (21) августа Гирс вручил ему официальное секретное письмо для передачи французскому правительству, содержавшее следующий текст соглашения: «1) В целях определения и утверждения сердечного согласия, объединяющего их, и желая сообща способствовать поддержанию мира, который является предметом их самых искренних желаний, оба правительства заявляют, что они будут совещаться между собой по каждому вопросу, способному угрожать всеобщему миру. 2) В случае, если мир оказался бы действительно в опасности, и в особенности в том случае, если бы одна из двух сторон оказалась под угрозой нападения, обе стороны уславливаются договориться о мерах, немедленное и одновременное проведение которых окажется в случае наступления означенных событий настоятельным для обоих правительств». В этом дипломатичном и обтекаемом тексте не было конкретных формулировок, которых желали французы: о том, что «угроза миру» будет исходить от Тройственного союза — в Петербурге больше опасались Англии! — и что «Франция и Россия вступают в соглашение относительно одновременной мобилизации своих сил тотчас же, как только одна из стран, входящих в Тройственный союз, мобилизует свои». Не отказываясь в принципе от перспективы военного сотрудничества, Россия сочла за лучшее не спешить. Общее настроение тех, кто был посвящен в тайну переговоров, остроумно выразил дипломат князь Валериан Оболенский, приятель Ламздорфа: дружба с Францией «подобна мышьяку — в умеренной дозе она полезна, а при малейшем преувеличении становится ядом». Восемнадцатого (30) августа 1891 года специальный дипломатический курьер доставил из Парижа в Министерство иностранных дел Российской империи срочное и секретное письмо барона Моренгейма, написанное тремя днями ранее и снабженное приложениями. Дальше будут говорить документы: откровенные в силу секретности и необходимости четких формулировок, но в то же время уклончивые из-за осторожности обеих сторон и нежелания брать на себя слишком определенные обязательства. Моренгейм сообщил министру иностранных дел Рибо приведенную выше «формулу из двух пунктов», пояснив, что всегда готов к консультациям, о которых говорилось во второй статье проекта. Рибо от имени своего правительства с благодарностью принял известие, но напомнил послу — и письменно, и устно — о необходимости начать конкретные переговоры о мерах возможного противостояния потенциальному противнику. В то же время французский министр сказал, что недоволен инициативой своего генерального штаба начать самостоятельные переговоры с Россией (см. главу третью): «Он назвал этот избыток рвения со стороны генералов, не снабженных на то полномочиями, неловким и находит весьма прискорбным, что они не могли избежать огласки своих частных доверительных бесед». Следует пояснить, что в республиканской Франции военное министерство и независимый от него генеральный штаб не считали нужным ставить министерство иностранных дел в известность о своих международных переговорах, даже если это вело к принятию неких обязательств, — об этом знали только президент республики и глава правительства. Прочитав все эти письма, присланные с курьером из Парижа, Ламздорф вознегодовал и переслал их Гирсу с пространной и сердитой запиской: «Смею думать, что барон Моренгейм значительно превысил пределы предоставленных ему полномочий. Второй пункт соглашения предусматривает возможность договоренности об определенных мерах, если они станут неизбежны для обоих правительств „в случае, если всеобщий мир оказался бы действительно в опасности…“. Но в препроводительном письме на имя г. Рибо наш посол заявляет уже теперь, что дальнейшее развитие обоих принятых пунктов не только возможно, но что оно „должно составить их естественное и необходимое дополнение“. С этой целью он сразу же ставит себя в полное распоряжение министра иностранных дел… Разве барон Моренгейм полагает, что общий мир находится „в опасности“ или одна из обеих сторон сейчас находится „под угрозой“ неминуемого нападения? Между тем, так мало вероятно, чтобы каким-либо образом в России решились начать войну в ближайшее время, и было бы, конечно, очень неосторожно поощрять известные французские устремления, давая обязательства, столь же компрометирующие, сколь и несвоевременные». Ознакомившись с бумагами, старый и осторожный Гирс не решился сразу же докладывать императору, а взял тайм-аут на размышления. Но согласился с общей оценкой, которую Ламздорф дал действиям русского посла в Париже. Дипломатические документы — увлекательное чтение, если найти к ним правильный подход. Французскому дипломату Талейрану, на протяжении долгой жизни успешно служившему многим режимам, приписывается циничный афоризм: «Язык дан дипломату для того, чтобы скрывать свои мысли». Когда партнеры пытаются прийти к письменному соглашению, им необходима формулировка, которая устроила бы все стороны. Однако такие формулировки, даже в самых тайных соглашениях, редко бывают конкретными, поскольку каждая из сторон стремится максимально отразить в ее тексте свои пожелания. Это одно из главных искусств дипломата. Обтекаемый и приемлемый текст найден, но появляется вторая проблема: каждая из сторон пытается трактовать его по-своему. В данном случае все предельно ясно. Смысл проекта Гирса — Ламздорфа был в том, что Россия согласна совещаться с Францией о противостоянии агрессии держав Тройственного союза, если таковая случится. Моренгейм же, идя навстречу пожеланиям французов, предложил договориться о возможных мерах заранее. В Петербурге думали не более чем о «консультативном пакте» или «протоколе о намерениях», как это называется сейчас. В Париже хотели добиться соглашения со взаимными обязательствами, которое до нужного момента лежало бы в секретных архивах, а в случае необходимости моментально вступило бы в действие. Гирс разделял опасения своего первого советника, о чем 22 августа (3 сентября) известил императора. «Смею думать, — писал он, — что при настоящем политическом положении соглашение по двум пунктам… может пока быть признано совершенно достаточным, так как оно вполне ограждает Россию от опасности оказаться изолированною в случае войны[5]… Выходить из этого спокойного и выгодного для нас положения было бы весьма неосторожно, а это легко могло бы случиться, если, согласно предположениям, выраженным в переписке барона Моренгейма с г. Рибо, мы теперь же приступили (бы) к переговорам… Не говоря уже о том, что подобные переговоры, порученные специальным делегатам, вряд ли сохранятся в тайне и что огласка их, послужив к возбуждению умов, может лишь ускорить роковую минуту, мне казалось бы весьма нежелательным связывать себя преждевременно какими-либо положительными обязательствами в военном отношении и тем стеснять нашу свободу действий». Слова о «специальных делегатах» имели в виду предложение Моренгейма, сделанное им французам: этим делегатом с русской стороны честолюбивый посол, конечно, видел себя. В Париже были бы этому рады, поскольку барон был готов обещать все что угодно. В дневнике Ламздорф продолжал изливать свое недовольство по поводу излишней предприимчивости посла, о которой узнал частным образом: «Он, по-видимому, полагает, что является обладателем портфеля министра иностранных дел, и кстати и некстати разглагольствует об исключительной важности той миссии, для поручения которой он вызывался (в Петербург. — В. М.). Не открывая еще предмета этой миссии, он создал столько шума и такую рекламу по поводу своей недавней поездки в Россию, что это начинает привлекать общее внимание. Такого рода агент (т. е. представитель. — В. М.) является настоящим бичом. Можно ли при таких условиях добиться какого-либо успеха?» Историки знают, что после долгого пребывания на посту за границей некоторые дипломаты лучше понимают и даже начинают отстаивать позицию не той страны, которую они представляют, а той, в которой аккредитованы. Случай Моренгейма явно из таких, что было особенно заметно Ламздорфу, не покидавшему центрального аппарата министерства. Многозначительные заявления барона, напустившего на себя необычайную важность, французским газетчикам о взаимных симпатиях и сближении двух стран были с восторгом приняты во Франции и с тревогой в Германии, что, в свою очередь, никак не входило в расчеты Петербурга. Были основания подозревать за действиями Моренгейма не только профранцузскую ориентацию или любовь к похвалам и почестям. Четвертого (16) сентября Ламздорф занес в дневник сообщение о предложении газеты «Ле Галуа» («Галл»[6]) провести «национальную подписку в пользу российского посла, чтобы преподнести ему в той или иной форме большую дотацию в вознаграждение за усердие, проявленное в деле сближения между обеими странами. Они посмели даже обратиться с подобным предложением к Моренгейму, причем он не проявил ни смущения, ни негодования. Напротив, он делает все возможное, чтобы заслугу во всем происшедшем приписать себе одному, и не видит ничего дурного в том, что французы, которым он служит, оплатят его труды». В свете записанной чуть раньше недоуменной фразы: «Бог знает, откуда у него деньги, у него, который в прежнее время всегда был в долгах!» — многое становится ясным. Артур Павлович действительно был странным послом, но пользовался покровительством «в высших сферах», как уклончиво называли на Певческом мосту императрицу-датчанку. Только в конце 1897 года Николай II смог отправить 74-летнего Моренгейма в отставку, назначив его, как полагалось в таких случаях, членом Государственного совета. Престарелый барон остался жить во Франции и умер в 1907 году всеми забытый. Говорят, за гробом шли только самые близкие люди — его портной и парикмахер. Что касается газеты «Галл», то ее издавал еще более одиозный и авантюрный человек — бывший профессор петербургской Военно-медицинской академии Илья Фаддеевич Цион, о котором речь пойдет в главе, посвященной деятельности французского капитала в России. Нетрудно догадаться, чьи деньги стояли за газетой, а сам Цион был протеже ярого франкофила и германофоба Каткова. Александр III ответил на встревоженное письмо Гирса, находясь в Копенгагене. Французы и там не оставляли царя в покое, подослав к нему советника своего МИД Жюля Гансена, датчанина по происхождению и приятеля Моренгейма. Однако их излишняя настойчивость не понравилась монарху, несмотря на все его франкофильство. Он велел ограничиться имеющимися пунктами соглашения как «достаточными», никаких действий сверх этого не предпринимать и сохранять все дело в строжайшей тайне, о чем Гирс 4 (16) сентября официально уведомил Моренгейма. Думается, Ламздорф не без удовольствия составлял проект этого письма. Монаршая воля — закон. Но днем позже в Петербург пришла «странная телеграмма» от Эрнста Коцебу, советника русского посольства в Париже: министр иностранных дел Рибо «хотел бы получить от нас указание, что он должен говорить по вопросам внешней политики». «С какой стати мы примем на себя роль вдохновителя речей г. Рибо!» — с недоумением воскликнул Ламздорф и спешно заготовил телеграмму, запрещавшую давать любые «указания» такого рода. Министр охотно подписал и ее. Окончательную ясность внес приезд Гирса в Париж 7 (19) ноября того же 1891 года, когда министр совершал дипломатическое турне по Европе. Он четко заявил своему коллеге Рибо: «Царь думает, что для текущего момента достаточно основ соглашения, намеченных в августе месяце», — и отказался немедленно вступить в переговоры о военной конвенции, не имея на то полномочий от Александра III, который и сам пока не принял твердого решения.
 Посол Гюстав де Монтебелло
Посол Гюстав де Монтебелло
Напуганные воинственными речами кайзера Вильгельма, который к месту и не к месту стал вспоминать об обидах, нанесенных его стране… Наполеоном Бонапартом, французы всеми силами продолжали свои попытки воздействовать на Россию. Эту миссию они возложили на нового посла в Петербурге 53-летнего графа Гюстава де Монтебелло, прибывшего туда в конце 1891 года на смену Лабуле. Гирс и Ламздорф видели в нем «человека заурядного, (но) приятного в делах, так как он из хорошего общества и не интриган». Французская республика официально не признавала аристократические титулы, но не возбраняла пользоваться ими в частном порядке. «Супружеская пара Монтебелло у нас в большой моде, — записывал Ламздорф 2 (14) февраля 1894 года. — Посол постоянно получает приглашения на охоту от великих князей и цесаревича. Графиня вошла во все маленькие интимные сборища двора и высшего общества. Это нисколько не мешает милостивому высшему свету говорить, что графиня вышла из-за прилавка магазина, что граф Монтебелло представляет республику, а его жена — Парижскую коммуну! Супруга графа Монтебелло красива, но происходит из семьи богатых торговцев». Параллельно с дипломатами активные переговоры о заключении соглашения вели между собой и военные ведомства обеих стран. Пора рассказать о них.
Глава третья. ФРАНЦУЗСКАЯ ПАРТИЯ «РУССКОГО МОЛЬТКЕ»: ГЕНЕРАЛ НИКОЛАЙ ОБРУЧЕВ И ВОЕННАЯ КОНВЕНЦИЯ 1892 ГОДА
Кто творит историю — личности или массы? Думающие люди спорят об этом уже не одно тысячелетие и не могут прийти к определенному ответу. Разумеется, ответить на такой вопрос «в целом» невозможно. В частном же случае русско-французской военной конвенции 1892 года несомненна решающая роль одного конкретного человека, без которого никакой конвенции бы не было. Это начальник Главного штаба русской армии генерал-адъютант Обручев, которого современники — одни с восторгом, другие с иронией — называли «русским Мольтке». Как ни относиться к фельдмаршалу Хельмуту-Карлу-Бернхарду Мольтке-старшему, многолетнему начальнику генерального штаба Пруссии, а затем Германской империи, но сравнение с ним уже по определению делало честь любому генштабисту. Генерал Николай Обручев. 1882
Генерал Николай Обручев. 1882
Николай Николаевич Обручев родился в 1830 году в Варшаве, в семье небогатого и незнатного офицера. Дед «русского Мольтке» дослужился до инженер-генерал-майора, защищал Оренбург от Пугачева, укреплял и строил крепости в западных губерниях. В 1837 году полковник Николай Обручев-старший скоропостижно скончался в возрасте 35 лет, оставив вдову с семью малолетними детьми, включая семилетнего Николая Обручева-младшего. По ходатайству друзей перед императором Николаем I будущий начальник Главного штаба был принят за казенный счет в Александровский сиротский кадетский корпус в Царском Селе. Оттуда его за успехи вскоре перевели в Первый кадетский корпус — старейшее военно-учебное заведение Российской империи, основанное еще в 1731 году. Находясь в стесненных материальных обстоятельствах, кадет Обручев мог рассчитывать только на самого себя. В 1848 году он блестяще окончил корпус, получив на выпускных экзаменах 239 баллов из 240 возможных, и был выпущен прапорщиком в гвардию, получив солидное единовременное пособие. Николай Николаевич смолоду тяготел к наукам. Уже в двадцать лет подпоручик Обручев написал свой первый ученый труд «Опыт истории военной литературы в России», который «был удостоен поднесения Его Величеству» (огромная честь!), получил от царя награду, а через три года опубликован. В 1852 году он поступил в Академию генерального штаба, где на него вскоре обратил внимание профессор полковник Дмитрий Милютин, будущий военный министр Александра II и «отец» военных реформ его царствования. По окончании академии Обручев был причислен к генеральному штабу — с ним и академией будет связана почти вся его дальнейшая служба. Не буду подробно излагать биографию Николая Николаевича, с которой лучше всего познакомиться в книге историка О. Р. Айрапетова «Забытая карьера „русского Мольтке“». Остановимся только на фактах, имеющих прямое отношение к нашей теме. Являя собой яркий тип военного интеллектуала, Обручев занимался не только военными вопросами, но много думал и писал о проблемах безопасности страны, внешней политики, экономики и педагогики, изучал опыт иностранных армий и военную историю. У него сложилось комплексное понимание национальных интересов России и — не без влияния старшего друга и наставника Милютина — того, что в ХХ веке получило название «геополитика» (в XIX веке ее предшественницами были военная статистика и военная география, на которых специализировался Милютин). Важен и личный момент: в 1860 году, находясь в служебной командировке во Франции, полковник Обручев женился на Мари Милле, получившей в России имя Мария Николаевна. Приданым жены был небольшой замок Жор на юге Франции, недалеко от Бордо, где Николай Николаевич проводил ежегодный отпуск, занимаясь садоводством и виноградарством. До поражения в войне с Пруссией в 1870 году французская армия считалась лучшей на континенте, поэтому изучение ее опыта было обязательным. Обручев особенно ценил ее штабную службу. Франко-прусская война не изменила его личных симпатий к Франции, но заставила скептически относиться к ней как к возможному союзнику. Николай Николаевич уже в 1874 году сделал вывод, что политика германского канцлера Бисмарка — одни называли ее энергичной, другие агрессивной — приведет к общеевропейской войне. Побывав в 1879 году на летних маневрах французской армии, он писал в официальном отчете: «Нам все показывали, за нами ухаживали, от нас ничего не скрывали». Армия возрождалась, но общее положение дел показалось Обручеву безрадостным: «Посещая часто Францию, я никогда не видел ее в таком положении, как ныне. Смятение в умах невероятное. Желали-желали республики: но стали в ее главе буржуа-адвокаты, и для большинства общества она сделалась ненавистной». Бисмарк позже утверждал, что Обручев уже тогда взял курс на военный союз с Францией, но это неверно. От такого союза его отвращали нестабильность республиканской власти и подчиненность армии, включая генеральный штаб, военному министру, которым мог стать и штатский. «Генерал, подчиненный адвокату! Это вряд ли могло убедить кадрового русского военного в союзоспособности Франции, ценности и надежности союза с ней», — резонно заметил О. Р. Айрапетов. Против союза с Францией высказался глава военного ведомства Милютин, в те годы самый влиятельный из русских министров. К тому же главный германофоб Петербурга великий князь Николай Николаевич-старший на дух не переносил Обручева. Убийство Александра II и вступление на престол Александра III в марте 1881 года привели к отставке почти всех ключевых фигур прежнего царствования — новый самодержец не был расположен к либеральным реформам, сторонниками которых они выступали. Властного Милютина на посту военного министра сменил дисциплинированный, но вполне заурядный генерал Петр Ванновский. Обручев — по рекомендации Милютина, дружба с которым продолжалась до самой смерти Николая Николаевича, — стал начальником Главного штаба, приобретшего немалую самостоятельность, которой это учреждение было лишено при Милютине. Деятельность Обручева на этом посту как раз и снискала ему прозвище «русского Мольтке». Летом 1890 года — напомню, что это год ухода Бисмарка и отказа Берлина от продления «перестраховочного договора» с Россией, — германский посол в Петербурге генерал Ганс-Лотар фон Швейниц с удивлением отметил присутствие на маневрах в Красном Селе заместителя начальника французского генерального штаба генерала Рауля-Франсуа Буадефра, бывшего военного атташе в Петербурге. «Вероятно, его пригласили по совету генерала Обручева, — докладывал Швейниц в Берлин. — Он был отозван из отпуска в южной Франции и в большой спешке прибыл сюда». Посол не ошибся: Буадефра пригласил именно Обручев. Генералы вели частные, секретные и поэтому вполне откровенные разговоры о возможности военного союза, о чем Буадефр известил военного министра Фрейсине, прося того соблюдать строжайшую тайну. Обручев же под влиянием этих бесед резко изменил свое отношение к перспективам альянса с Францией. Следующий тур секретных переговоров Обручева с Буадефром состоялся в Париже в июле 1891 года, где Николай Николаевич находился как частное лицо. Он заверил коллегу, что Россия придет на помощь Франции в случае нападения Германии на нее, и пояснил, что его страна заинтересована лишь в контроле над черноморскими проливами (без Константинополя!) и в присоединении австрийской Галиции, населенной славянами. Ответных гарантий в случае войны между Россией и Австро-Венгрией Буадефр со своей стороны дать не мог, но высказался за заключение военной конвенции, направленной против Германии. О ходе переговоров он снова проинформировал Фрейсине, который к тому времени уже стал главой правительства. Премьер был неприятно удивлен тем, что происходило за его спиной, и выразил свое недовольство не только Буадефру, но и русскому послу барону Моренгейму, о чем уже говорилось в предыдущей главе. Русско-французское политическое соглашение состоялось в том же 1891 году, но военной конвенции пришлось ждать еще год. Впрочем, это не было пассивным ожиданием «у моря погоды». Двадцать четвертого февраля (8 марта) 1892 года французский посол в Петербурге граф Монтебелло передал министру иностранных дел Николаю Гирсу совершенно секретную записку следующего содержания. Готовил ее, конечно, не сам Монтебелло — это был продукт коллективного творчества дипломатов и военных: «Ввиду того, что и Франция, и Россия одушевлены одинаковым стремлением к сохранению мира, настоящая записка составлена исключительно ввиду оборонительной войны, вызванной нападением со стороны военных сил Тройственного союза на ту или другую из этих держав или на обе сразу. Изложенные ниже соображения исходят из той предпосылки, что Франция и Россия решились применять в отношении друг друга принципы искренней взаимности, иначе говоря, если одна из них подвергнется нападению, то другая немедленно придет ей на помощь всеми вооруженными силами, находящимися в ее распоряжении. Раз этот принцип принят, то первый вывод, обязательный как для России, так и для Франции, чтобы не уменьшать шансов совместно проводимой кампании, заключается в том, чтобы необходимые меры были приняты в обеих странах тотчас, как только обнаружится опасность. Чтобы провести мобилизацию без задержки, ее надо начать одновременно и во Франции, и в России тотчас же по мобилизации сил Тройственного союза. Так как быстрота является здесь более чем когда-либо важнейшим условием успеха, то необходимо, чтобы ни Франция, ни Россия не подверглись изолированно, хотя бы даже только в течение нескольких дней, объединенному нападению, которое позволило бы их врагам одержать с самого начала решительные успехи или же могло бы оказать неблагоприятное влияние на настроение нейтральных стран. Однако этой одновременности выступления далеко не достаточно, чтобы обеспечить успех… Соединенные военные силы Франции и России не имеют существенного перевеса над силами Тройственного союза, в особенности если к ним присоединится Румыния. При таких условиях военные силы обеих сторон приблизительно равны, так как если в смысле численности Франция и Россия имеют небольшой перевес, то на стороне Тройственного союза преимущество быстрой концентрации войск. Россия и Франция могут получить шансы на превосходство над своими противниками только при разумном комбинировании боевых средств для общей цели. Французское правительство проникнуто убеждением, что в подобной войне главное — добиться при помощи всех наличных средств разгрома главного врага. За этим неизбежно последует поражение остальных. Таким врагом является Германия, военная мощь которой превосходит мощь всех ее союзников, взятых вместе, и которая в политическом отношении является главной опорой, душой и центром Тройственного союза. Раз Германия будет побеждена, франко-русские армии смогут сделать с Австрией и Италией все что захотят. С этой точки зрения французский генеральный штаб все приносит в жертву борьбе против Германии… Резюмируя сказанное, чтобы обеспечить себе наилучшие условия обоюдной защиты, Франция и Россия должны заблаговременно договориться, что по первому сигналу к началу враждебных действий, данному Тройственным союзом, они незамедлительно двинут против Германии все силы, кроме тех, которые должны быть противопоставлены второстепенным врагам. От значения этого второстепенного врага зависят размеры сил, которые необходимо ему противопоставить». Далее шли расчеты, по которым Тройственный союз, включая Румынию, мог выставить в качестве войск первой линии 2810 тысяч человек, а Россия и Франция — 3150 тысяч человек. По обыкновению тщательно переписав записку в дневник, первый советник МИД граф Ламздорф прокомментировал ее следующим образом: «Документ излагает точку зрения французского правительства на военную конвенцию, которой оно желало бы дополнить основы согласия, намеченные осенью. Очень любопытный и весьма характерный документ. Я сомневаюсь, чтоб наши военные власти могли согласиться на эти условия. Министр (Гирс. — В. М.) предполагает показать эту записку государю и предложил послу сохранять полную тайну, абсолютную необходимость которой Монтебелло вполне понимает. Доверие к беспокойному и болтливому Моренгейму в Париже в достаточной мере поколеблено. По-видимому, там желают, чтобы переговоры, если они начнутся, происходили в Петербурге. Министр воспользовался этим, чтобы заметить мимоходом, что можно было бы ограничиться обменом мнений и дипломатических сообщений, подобно тому, как это было в сентябре прошлого года, приняв при этом за основание записку, врученную графом Монтебелло, и избежать таким образом всякого рода специальной конвенции. (Это было бы все же выигрышем.) Французский посол не возражал против этой мысли. „Мы работаем в последнее время над очень интересными вещами“, — говорит мне мой дорогой и добрый НиколайКарлович». Днем позже Ламздорф говорил «дорогому начальнику»: «Обязательство, которого они (французы. — В. М.) от нас требуют, дало бы французам карт-бланш на провоцирование конфликтов и авантюр, при которых было бы трудно распознать настоящего зачинщика, а нас это обязало бы оказать поддержку с помощью армии в 800 тысяч человек! Один только факт подобного обязательства отдаст нас в распоряжение французского правительства, которое может ежечасно меняться и перейти в руки фанатических радикалов, которые без зазрения совести, из страха или из расчета, могут продать нас немцам. Стратегическая сторона проекта, конечно, может быть оценена лишь военными, но политическая его сторона представляется весьма опасной. Мы разгромили бы Германию на пользу французам, а они после этого со своей стороны в лучшем случае предоставили бы нам самим управляться с австрийцами и на Востоке, как мы сумеем, не приходя нам ни в чем на помощь». Министр согласился с этими аргументами и в ответ поведал Ламздорфу о только что состоявшемся разговоре с царем, которого он «нашел весьма возбужденным». Самодержец заявил: «Нам действительно надо сговориться с французами и в случае войны между Францией и Германией тотчас броситься на немцев, чтобы не дать им времени разбить сначала Францию, а потом обратиться на нас. Надо исправить ошибки прошедшего и разгромить Германию при первой возможности». «Когда Германия распадется, Австрия уже ничего не посмеет». Ламздорф писал дневник для самого себя и для истории, а потому особо не стеснялся в выражениях. Дальнейший ход разговора, записанный со слов министра, выглядит следующим образом: «Его Величество молол такой вздор и проявлял столь дикие инстинкты, что оставалось лишь терпеливо слушать, пока он кончит. Гирс: Что же выиграем мы, если, поддержав Францию, мы ей поможем разгромить Германию? Александр: Как что? А именно то, что Германии не станет и она распадется, как прежде, на мелкие и слабые государства. Едва ли Германия распадется, когда речь зайдет о ее независимости. Скорее можно предположить, что она сплотится в этой борьбе. Можно предвидеть конец империи и вообще монархического правления в Германии, торжество республиканских и социалистических начал в случае поражения, но возвращение к прежнему порядку вещей немыслимо. Франция в случае успеха, удовлетворенная реваншем, не будет более в нас нуждаться, а враждебное сильное племя останется в нашем непосредственном соседстве вдоль длинной, совсем открытой границы. Министр обратил затем внимание государя на опасность разоблачений, на которые французы вполне способны. Мы имели столько доказательств этому! Так как государь пока желает прежде всего сохранения мира, будет ли удобно оставлять в руках столь непрочного правительства столь компрометирующее нас соглашение? Не в тысячу ли раз лучше ограничиться принципами, изложенными в документах, обмен которыми состоялся осенью прошлого года?» Гирс кратко сообщил Монтебелло, что Александр «в целом одобряет» записку. На сей раз даже Моренгейм призывал не спешить. Двадцать шестого марта (7 апреля) 1892 года он писал из Парижа: «Независимо от того, пойдут ли здесь дела хуже или лучше, я смею думать, что всего осторожнее было бы ограничиться дружественной, но благоразумной выжидательной позицией, так как в первом случае заключение более тесного соглашения, которое недобросовестные люди могли бы использовать нам во вред, представляло бы для нас большую опасность, а во втором случае мы никогда не опоздаем возобновить переговоры в условиях гораздо большей безопасности». Александр III отчеркнул весь этот абзац и на полях депеши посла начертал выразительное: «Да». Обручев пока не предпринимал активных действий, тщательно работая над экспертизой французских предложений и подготовкой собственных. Тем временем Ламздорф доверил дневнику следующие соображения о военно-политической ситуации: «Наше сближение с Францией и проистекающее отсюда пресловутое равновесие сил в Европе на долгое время упрочивает разделение великих держав на два вооруженных до зубов лагеря, которые постоянно подстерегают друг друга и готовятся напасть друг на друга в ущерб безопасности и благосостоянию народов. Бог знает, не было ли бы для нас лучше понемногу изменить свою тактику?.. Бояться полного разгрома Франции при той материальной мощи, которой она обладает, неосновательно. Насколько бы мощной и вооруженной ни была Германия, в войне она приобретет не „провинцию Франция“, а беспощадного врага, который надолго ее свяжет. Столкновение между двумя этими нациями было бы ужасно, но, быть может, закончилось бы победой над разрушительными элементами, развивающимися внутри каждой из них и угрожающими всему цивилизованному обществу в целом. Наше дело сторона! Вместо того чтобы систематически ссориться с немцами и донкихотствовать в пользу французов, мы должны были бы договориться с ними о нашем нейтралитете, необходимом для нас обоих. Мы могли бы его обещать при условии предоставления нам известной свободы действий на Востоке. Россия могла бы обеспечить себе лучшие условия для быстрого урегулирования своих жизненно важных интересов на Балканах, в проливах и в других местах, своих интересов, от которых зависит ее будущее, мирное развитие ее могущества. После этого нам оставалось бы только заниматься нашими собственными делами, предоставив другим устраивать свои дела между собой». Тридцатого мая (11 июня) Владимир Николаевич зафиксировал на тех же страницах мнение военного министра Ванновского о том, что «планы генерала Обручева относительно военного соглашения непрактичны и неосторожны. Основания, указанные в документах, которыми мы обменялись с французским правительством в августе 1891 года, вполне достаточны с политической точки зрения. Если военные считают нужным сговориться между собой на случай некоторых возможностей, они должны, во всяком случае, сделать это так, чтобы не скомпрометировать нас каким-либо письменным документом, сохраняя за нами полную свободу действий. Генерал Ванновский, кажется, понял, что целью французов является именно покушение на нашу свободу действий и стремление распоряжаться нами при помощи какого-либо формального соглашения, компрометируя нас в глазах других держав». Наконец, Обручев подал свою записку, которую Ламздорф 31 мая (12 июня) тоже переписал в дневник, видимо, потратив на это все воскресенье. Этот блестящий образец русской военно-политической мысли, написанный четким, недвусмысленным и в то же время элегантным языком, заслуживает того, чтобы привести его полностью. Для удобства читателя я лишь заменил архаичное «сей» на современное «этот» и «кой» на «который», а также снабдил текст некоторыми примечаниями из дня сегодняшнего, что позволит нам лучше оценить правоту или неправоту «русского Мольтке», причем не только в данном конкретном случае, но и применительно к мировой политике в целом. Итак, слово Николаю Николаевичу Обручеву: «В предположении заключения военной конвенции с Францией необходимо прежде всего иметь в виду следующие обстоятельства: 1) Вооружения европейских государств доведены ныне до крайней степени, а мобилизационная их готовность измеряется уже не неделями, а днями и часами. Весь успех борьбы (при равных других условиях) рассчитывается ныне на возможно скорейшей выставке (т. е. выдвижении. — В. М.) возможно большей массы войск и на упреждении противника в действии. Кто скорее собрал свои войска и скорее ударил на неготового еще противника, тот и обеспечивает себе наибольшую вероятность первой победы, за которою облегчается выигрыш и целой кампании. Приступ к мобилизации не может уже ныне считаться как бы мирным еще действием. Напротив, это самый решительный акт войны. Отсюда тот вывод, что ныне, при неизбежности наступления войны, мобилизация противных сторон должна по возможности происходить одновременно, в один и тот же час, ибо та сторона, которая промедлит хоть сутки, может уже горько за это поплатиться. Слово же „мобилизация“ должно ныне выражать и открытие самих военных действий, хотя бы передовыми отрядами, которые с обеих сторон будут стремиться, обеспечивая мобилизацию и сосредоточение собственных войск, мешать таким же операциям противника. Невозможность промедления в фактическом открытии войны указывает, что в минуту объявления мобилизации не может быть уже допускаемо никаких дипломатических колебаний. Все решения дипломатии должны быть установлены заранее, с вполне ясным определением военно-политической стороны борьбы. 2) Чтобы в минуту мобилизации дипломатия могла ясно определить, с кем именно мы начинаем войну, необходимо принять в соображение следующее. При доведенном до крайности военном напряжении Европы, подготовившей миллионные армии со всем необходимым для них военным материалом, трудно допустить, чтобы впредь начавшаяся на континенте война могла бы ограничиться лишь изолированной борьбой между какими-либо двумя государствами. Державы, остающиеся первоначально в стороне, сделаются, несколько ранее или позднее, участниками столкновения: одни открытою силою, другие политическим своим влиянием. Во всяком же случае столкновение закончится общим конгрессом, и на этом конгрессе та сторона будет иметь наибольший вес, которая в данную минуту будет представлять наибольшую силу. Не столько победитель, если он уже истощил свои силы, будет редактировать мирный договор, сколько тот, кто, сохранив свои силы, может грозить новою, выгодною для него войною. Нашей дипломатии, менее чем всякой другой, возможно рассчитывать на изолированность столкновения России, например, с одною Германиею или с одною Австриею или Турциею. Берлинский конгресс (1878 года, по итогам русско-турецкой войны 1877–1878 годов. — В. М.) был достаточным в этом отношении для нас уроком и научил, кого нам следует считать опаснейшим врагом: того ли, кто непосредственно с нами сталкивается, или того, кто выжидает нашего ослабления, чтобы предписывать потом условия мира (намек на Англию и Германию. — В. М.). Поэтому, хотя в договоре, которым связаны между собой державы Тройственного союза, и есть оговорка, допускающая возможность самостоятельного, отдельного той или другой державы действия на свой страх и снимающая в этом случае с прочих договаривающихся сторон ответственность за последствия начатия войны, тем не менее нам не следует принимать этой оговорки в серьезный расчет, ибо сущность Тройственного союза по отношению к России останется всегда неизменной, а оговорка дает лишь удобный для наших соседей способ маскировать действительный объем их соглашения и порождать с нашей стороны колебания и сомнения в минуту самого разрыва. В начале каждой европейской войны для дипломатии всегда является великим соблазном по возможности ее локализировать и ограничить ее бедствия. Но при настоящем вооруженном и возбужденном состоянии континентальной Европы к подобному локализированию войны России следует относиться лишь с особым недоверием, ибо оно может слишком усилить выгодные шансы не только сомнительных, не открывшихся еще наших врагов, но и колеблющихся союзников (так!). Сопоставляя вышеизложенные соображения с теми желаниями, которые высказываются относительно заключения конвенции с французской стороны, выясняется следующее: 1) Французы говорят не о союзном договоре, а лишь о военной конвенции, которая определяла бы одновременность мобилизации французской и русской армий и согласованный заранее способ их действий. Подобного рода акт им представляется наиболее удобным потому, что заключение союзного договора, как и объявление войны, требует разрешения палат (Сената и Палаты депутатов. — В. М.), тогда как мобилизация армии может быть объявлена президентом республики помимо палат, не теряя времени на парламентские прения, которым (палатам. — В. М.) придется затем иметь дело уже с совершившимся фактом. Такая постановка вопроса кажется вполне сообразной. Имея дело непосредственно лишь с французским правительством, мы ограждаем соглашение от влияния партий, препирательству которых открыт полный простор в палатах. Форма соглашения в виде военной конвенции может быть, следовательно, принята. 2) Что касается одновременности мобилизации армий, то это условие как вполне рациональное не только может, но и непременно должно войти в основу конвенции, только тут предстоит определить случай самой мобилизации. Французы своим непосредственным врагом считают почти исключительно Германию; Италии они придают лишь второстепенное значение, а к Австрии питают даже некоторые симпатии, продолжая видеть в ней исторического антагониста Германии. Поэтому французы желали бы, буде возможно, заключить с нами конвенцию исключительно на случай войны с Германией. В известной мере это условие обоюдно выгодно. Но нельзя не заметить, что оно значительно более выгодно для Франции, чем для нас. Заручившись гарантией против самого опасного для нее врага, Франция могла бы в случае войны России с Австриею, возникшей хотя бы по приказу Германии[7], оставаться безучастной и выжидать событий, что могло бы иметь для нас гибельные последствия. При чрезвычайном миролюбии массы французского народа[8] и искусстве германской дипломатии, способной обещанием некоторых уступок удержать хотя бы временно Францию от разрыва, мы были бы предоставлены собственным силам и, конечно, должны были бы тогда бороться не только с Австриею, но и с большею частью сил Германии, а легко может быть — и с другими ее союзниками. Нам крайне невыгодно появляться на военной арене одним. Наша изолированность всегда будет действовать слишком ободряющим образом на наших противников. Насколько грозные соединенные силы России и Франции могут многих сдерживать от участия в конфликте, настолько же легко может разрастись коалиция против одной России, вынужденной отбиваться на все стороны. Поэтому едва ли удобно нам заключать конвенцию исключительно на случай войны с Германией. Перед нами стоит тесно сплоченный в военном отношении Тройственный союз. Никоим образом мы не можем себе представить отдельных против нас действий Австрии или Германии. Следовательно, и в конвенции необходимо нам обусловить одновременную мобилизацию армий Франции и России случаем нападения на них не Германии, а какой бы то ни было державы Тройственного союза, считая их безусловно солидарными и нераздельными. С дипломатической точки зрения может, конечно, подвергнуться критике вытекающее из вышеприведенного условия обязательство России в случае столкновения Италии с Францией тотчас же начать войну на западной нашей границе. Но только этим обязательством можно уравновесить налагаемое и на Францию обязательство тотчас же мобилизоваться и начать войну в случае нападения на нас хотя бы одной Австрии. Только это условие устраняет всякие экивоки, обеспечивает нас во всех случаях неколеблющимся союзником и ограничивает сферу возможной против нас коалиции. 3) Затем вопрос о согласовании военных действий договаривающихся сторон может быть решен весьма различно. Так, державы Тройственного союза, насколько известно, взаимно обязались выставкой в определенных случаях определенного числа корпусов. При наиболее, например, вероятном возникновении войны между Австрией и Россией, ко всем силам Австрии должны присоединиться две вспомогательные германские армии (6–7 корпусов) и два корпуса итальянских. Подобно этому и при заключении Россиею конвенции с Франциею может явиться предложение определить взаимное их участие в борьбе известным числом корпусов. Кажется, однако, что подобное определение будет для нас делом неподходящим. Раз мы будем вызваны на войну, мы не можем вести ее иначе, как всеми нашими силами против обоих наших соседей. Иной войны, кроме самой решительной, которая уже надолго определила бы относительное политическое положение европейских держав и особенно России и немцев, нельзя и мыслить при готовности к борьбе целых вооруженных народов. Начиная же войну по всей западной границе, мы не можем себя связывать условием направить столько-то корпусов или сот тысяч войска собственно против Германии и столько-то против Австрии. Мы должны сохранить за собой полную свободу распределять так свои войска, чтобы нанести решительный удар армиям Тройственного союза. Может быть, для достижения этой цели нам прежде всего придется направить главные силы против Германии как опаснейшего и сильнейшего противника; но, может быть, представится еще более выгодным сокрушить как можно скорее Австрию, чтобы затем легче справиться с изолированною Германиею. Нам надо сохранить за собой безусловную свободу действий, и потому в вопросе о совместных с Франциею операциях, кажется, наилучшим будет ограничиться лишь общим обязательством: в случае нападения одной из держав Тройственного союза на Францию тотчас же мобилизовать свою армию и начать военные действия против ближайших к нам держав этого союза — Германии и Австрии, требуя и с французской стороны соответственного же обязательства». Доводы генерала Обручева трудно признать неубедительными: при всем своем франкофильстве и определенной германофобии он в первую очередь думал о национальных интересах и государственной безопасности России. Более всего начальник Главного штаба опасался изоляции нашей страны перед лицом возможной коалиции, а потому настаивал на полной взаимности обязательств двух держав. Дипломатам, по долгу службы предпочитавшим неконкретные, обтекаемые формулировки, могло казаться, что Обручев в своих предложениях заходит слишком далеко, однако сам Николай Николаевич резонно предупреждал о нежелательности закрепления на бумаге слишком определенных обязательств, например о количестве корпусов, выставляемых в том или ином случае. Знал, наверно, известную солдатскую песню, сочиненную Львом Толстым во время обороны Севастополя: «Гладко вышло на бумаге, да забыли про овраги, а по ним ходить». Министр иностранных дел Гирс настороженно отнесся к записке Обручева, незнакомого с подробностями переговоров посла Моренгейма с французами, и предложил военному министру Ванновскому, а затем и императору ввести генерала в курс дела, чтобы тот не предпринял слишком резких движений. Двадцатого июля (1 августа) 1892 года в Петербург снова прибыл генерал Буадефр, который привез с собой французский проект военной конвенции. Ванновский и Обручев начали переговоры с ним, опираясь на записку Николая Николаевича, но не спешили принимать предложение Парижа о закреплении достигнутых договоренностей в виде особого документа, с подписями и печатями. Буадефр был принят царем, с которым у него состоялся предметный разговор относительно важнейшего пункта конвенции — понимания мобилизации. «Мобилизация — это объявление войны, — сказал французский генерал, — мобилизоваться — это значит заставить своего соседа сделать то же самое. Мобилизация ведет за собой выполнение стратегических передвижений и концентрацию войск. Позволить мобилизовать на своей границе миллионную армию, не сделав одновременно того же самого, — это значит лишить себя всякой свободы движений в дальнейшем и поставить себя в положение человека, который, имея в кармане револьвер, позволяет своему соседу приставить себе оружие ко лбу, не вынимая своего». Александру III это убедительное сравнение понравилось. «Я именно так понимаю дело», — ответил он. Двадцать девятого июля (10 августа) приемлемый для обеих сторон текст конвенции был наконец-то выработан. В его основу был положен французский проект с учетом поправок, которые предложил и на которых настоял Обручев. Буадефр отправил текст документа с курьером в Париж. Французское правительство, понимая важность именно формального закрепления договоренности в столь важном для него вопросе, немедленно согласилось. Пятого (17) августа генералы подписали следующий текст: «Одушевленные одинаковым стремлением к сохранению мира, Франция и Россия, имея единственной целью приготовиться к требованиям оборонительной войны, вызванной нападением сил Тройственного союза против одной из них, условились относительно следующих положений: 1. Если Франция подвергнется нападению Германии или Италии, поддержанной Германией, Россия употребит все свои наличные силы для нападения на Германию. Если Россия подвергнется нападению Германии или Австрии, поддержанной Германией, Франция употребит свои наличные силы для нападения на Германию. 2. В случае мобилизации сил Тройственного союза или одной из входящих в него держав Франция и Россия, немедленно по поступлении этого известия и не ожидая никакого предварительного соглашения, мобилизуют немедленно и одновременно все свои силы и придвинут их как можно ближе к своим границам. 3. Силы, которые должны быть направлены против Германии, будут со стороны Франции равняться 1 300 000 человек, со стороны России — от 700 000 до 800 000 человек. Эти силы будут целиком и со всей быстротой введены в дело, так чтобы Германии пришлось сражаться сразу и на востоке, и на западе. 4. Главные штабы обеих стран будут все время сноситься, чтобы подготовить и обеспечить проведение предусмотренных выше мер. Они будут сообщать друг другу в мирное время все данные относительно армий Тройственного союза, которые дойдут до их сведения. Пути и способы сношения во время войны будут изучены и предусмотрены заранее. 5. Ни Франция, ни Россия не заключат сепаратного мира. 6. Настоящая конвенция будет иметь силу в течение того же срока, что и Тройственный союз. 7. Все перечисленные выше пункты держатся в строжайшем секрете». Уже после подписания конвенции премьер-министр Рибо предложил дополнить статью 2 словом «всеобщей мобилизации», что избавляло бы Францию от необходимости мобилизовать свою армию в случае частичной мобилизации Австрии из-за каких-либо проблем на Балканах, чего можно было ожидать почти что в любой момент. Обручев согласился, но отверг предложенную Парижем новую формулировку последней статьи: «Перечисленные постановления могут быть опубликованы лишь с согласия обеих сторон». Французы хотели придать конвенции форму официального, пусть и секретного, двустороннего договора, подписанного также министрами иностранных дел и ратифицированного главами государств. В то же время президент и правительство Франции не имели права заключать секретные соглашения без ведома Палаты депутатов, что Рибо как раз и пытался обойти. Но здесь Александр III и его генералы решительно настояли на своем: конвенция заключается и держится «в строжайшем секрете» и никак иначе. Обручев поставил подпись под конвенцией с одобрения императора — «в принципе» — и военного министра, но это еще не означало ее окончательного утверждения в существующей форме. Документ, ввиду политического значения, был передан министру иностранных дел Гирсу, для воздействия на которого Николай Николаевич употребил все свое несомненное обаяние. Гирс же своим собеседником «вначале был очень недоволен, а затем до известной степени удовлетворен, так как проект генерала показался ему в принципе приемлемым». Но Николай Карлович, не сочувствовавший принятию Россией на себя каких-либо определенных обязательств военного характера, остался верен выжидательной тактике, предложив считать закрепленные на бумаге договоренности не более чем «проектом», который нуждается в дальнейшем рассмотрении и официальном высочайшем утверждении. На чем он настаивал категорически, так это на сохранении тайны. И поспешил отбыть в Европу в трехмесячный отпуск для поправки здоровья. Буадефр уезжал из Петербурга удрученным, считая, что его миссия закончилась если не откровенным провалом, то неуспехом. С одной стороны, он увозил с собой документ исторического значения, подписанный начальником Главного штаба Российской империи и «в принципе» утвержденный императором. С другой, документ пока ничего не гарантировал и даже не мог быть использован как аргумент в каком бы то ни было споре ввиду своего совершенно секретного характера. Французы продолжали «нажимать» на Гирса, отправившегося отдохнуть и подлечиться в курортное местечко Экс-ле-Бен, куда 24 августа (5 сентября) 1892 года его приехали «проведать» Рибо и Фрейсине. Русский министр, несмотря на преклонный возраст и расстроенное здоровье, бдительности не терял, о чем свидетельствует донесение другого старого хитреца — барона Моренгейма, присутствовавшего при разговоре. О чем же беседовали почтенные сановники? «Речь, разумеется, зашла о результатах переговоров между начальниками генеральных штабов. Николай Карлович в весьма общих выражениях, нисколько не касающихся их содержания, ему лишь поверхностно известного за невозможностью заниматься серьезно важными делами, довольствовался намеком на, кажется, удовлетворительный шаг вперед в желанном направлении, налегая, впрочем, на исключительно военный и, так сказать, технический характер намеченных подготовительных соглашений, оставляющий пока в стороне политические стороны вопроса, предоставленного основательному разбирательству до более благоприятного времени. Рибо не скрыл, как желательно было бы ускорить ход дела ввиду парламентских соображений, крайне важных в интересах министерства (т. е. правительства. — В. М.), на что отвечено ему было, что именно всякое парламентское вмешательство тщательно устранено должно быть, так как преждевременное разглашение оказалось бы в высшей степени неудобно и противоречило бы нашим взглядам, намерениям и имеющейся в виду миротворной политике, составляющей главную нашу заботу. Этими несколькими словами исчерпан был весь разговор». Однако французы не сдавались. Дождавшись, когда Гирс поправится после сильного плеврита (Ламздорф даже выезжал к начальнику за границу), Рибо послал ему письмо, в котором, пугая русского министра германской угрозой, настойчиво требовал официального оформления конвенции в политический договор. Николай Карлович, обладавший железными нервами, сослался на то, что еще не поправился, и переслал письмо царю, который сделал на нем недовольную запись: «Не понимаю, чего они хотят еще? Кажется, могли бы теперь успокоиться». Конечно, он все понимал, но идти дальше пока был не готов, а к мнению своего министра иностранных дел иногда все-таки прислушивался. Окончательное решение вопроса отложилось почти на год. Обручев более не настаивал, понимая, что теперь все зависит исключительно от Александра III как последней инстанции в любом деле. В сентябре 1893 года, после долгих раздумий и согласований, в Петербурге было принято решение ответить на визит французских военных моряков и направить в порт Тулон Средиземноморскую эскадру русского флота под командованием контр-адмирала Федора Авелана. Понимая, что обменом визитами и взаимной демонстрацией дружеских чувств дело не ограничится, министерство иностранных дел подготовило для царя записку о состоянии отношений с Францией, указав на нежелательность и даже опасность любых соглашений с ней, которые могли бы связать свободу действий России в условиях кризиса.
 Контр-адмирал Федор Авелан
Контр-адмирал Федор Авелан
Визит эскадры Авелана в Тулон стал новой демонстрацией дружбы двух держав, хотя и морякам, и дипломатам было строжайше предписано воздерживаться от каких бы то ни было политических заявлений и даже намеков, чтобы не усиливать и без того напряженное внимание к происходящему Лондона и Берлина. Простые французы принимали гостей не менее радушно, чем простые русские два года назад. Описания торжеств, банкетов и тостов похожи друг на друга как две капли воды, что позволяет не повторять рассказанное в предыдущей главе. Отмечу только, что к месту событий лично приехали редакторы и издатели ведущих русских газет и журналов: Алексей Суворин («Новое время»), Сергей Татищев («Русский вестник»), Виссарион Комаров («Свет»), Павел Гайдебуров («Неделя») и другие. Одновременно с этим произошло еще одно символическое событие, о котором рассказывает И. С. Рыбаченок: «В тот день, когда русская эскадра вошла на тулонский рейд, Александр III с Марией Федоровной и наследником цесаревичем прибыли в Копенгаген. На его верфи император вбил первый гвоздь в доску строившейся новой (императорской. — В. М.) яхты „Штандарт“, а после церемонии закладки с наследником и свитой посетил стоявший во внутренней гавани французский броненосец „Isly“, внимательно осмотрев его… В тот же день Сади Карно и Александр III обменялись телеграммами. Информация об этих событиях и публикация в газетах текстов документов сразу существенно подняли уровень тулонского визита, значение которого резко выросло и в глазах Европы». Ничего важного, кроме заверений в «живой симпатии», телеграммы не содержали — важен был сам их факт. Если сначала уровень визита был не вполне ясен и главным действующим лицом с французской стороны был мэр Тулона, то теперь посетившего Париж адмирала Авелана торжественно принимали все первые лица республики: президент, премьер-министр и председатели Сената и Палаты депутатов. Визит сделал свое дело. Пятнадцатого (27) декабря 1893 года министр иностранных дел Гирс направил послу графу Монтебелло следующее официальное и секретное послание: «Изучив по Высочайшему повелению проект военной конвенции, выработанный русским и французским генеральными штабами в августе 1892 года, и представив мои соображения Императору, я считаю долгом сообщить Вашему превосходительству, что текст этого соглашения в том виде, как он был в принципе одобрен Его Величеством и подписан генерал-адъютантом Обручевым и дивизионным генералом Буадефром, отныне может рассматриваться как окончательно принятый в его настоящей форме. Оба генеральных штаба будут иметь, таким образом, возможность периодически сговариваться и обоюдно обмениваться полезными сведениями». Монтебелло немедленно написал Буадефру о случившемся, заметив, что «в этой странной стране» решения принимаются долго и объявляются внезапно, в самый неожиданный момент. Французский военный агент в Петербурге капитан Мулен поздравил Буадефра с Новым годом и новым успехом: «Ваше имя стоит под наиболее счастливым документом в нашей истории после несчастий 1870 года». В ответном послании от 23 декабря 1893 года (4 января 1894 года) французский посол, текстуально подтвердив, как это полагается в дипломатической практике, содержание полученного письма, сообщил: «Я поспешил известить об этом решении свое правительство, и я уполномочен заявить Вашему превосходительству, с просьбой довести это решение до сведения Его Величества Императора, что президент Республики и французское правительство также рассматривают вышеупомянутую военную конвенцию, текст которой одобрен той и другой стороной, как подлежащую выполнению. В силу этого соглашения оба генеральных штаба теперь будут иметь возможность периодически сговариваться и обоюдно обмениваться полезными сведениями». Отныне русско-французское военное сотрудничество могло стать реальностью. Итоги сближения наших стран в военной области подвел О. Р. Айрапетов: «Русско-французский договор был после ратификации конвенции в 1893 году промежуточной позицией для дальнейшего развития с учетом возможного улучшения русско-германских отношений. Режим секретности и равенство обязательств при большей уязвимости Франции должны были облегчить эту задачу русской дипломатии. Улучшения не наступило, и русско-французский договор стал развиваться в другом направлении. Парадокс ситуации состоял в том, что в мирное время от политической изоляции больше всего проигрывала Франция, и именно ввиду ущербности своего военно-стратегического положения. Но в военное время роли менялись. Россия, в силу своего географического положения лишенная выхода в океан, не имевшая незамерзающего открытого порта, который позволил бы свободно связываться с мировой торговлей, оказывалась изолированной. Русская экономика, менее развитая по сравнению с потенциальными противниками и союзниками, больше страдала от этой, по сути дела, блокады. Россия неподвижная была более важным фактором мировой политики, чем Россия в движении, тем более что ей приходилось двигаться сразу в нескольких направлениях». Генерал Обручев ушел, точнее, был отправлен в отставку вслед за военным министром Ванновским в конце 1897 года, за полгода до пятидесятилетнего юбилея службы в офицерских чинах. Молодой император Николай II не счел нужным лично известить его об этом, что обидело генерала, хотя в остальном необходимые приличия были соблюдены. Обручев уехал во Францию, но продолжал пристально следить за событиями и периодически наведывался в Петербург. Однако, как писал один из современников, «с той поры его обширным опытом по обороне государства никогда не пользовались». Умер Николай Николаевич летом 1904 года, тяжело переживая события русско-японской войны. Одной из причин отставки Обручева было неумение ладить с министрами финансов Иваном Вышнеградским и Сергеем Витте, которые играли важную, хотя и не всегда заметную роль в русско-французских отношениях. Пришло время подробнее рассмотреть эту сторону дела.
Глава четвертая. «И ЦИФРЫ СВОДОК БИРЖЕВЫХ»: ФРАНЦУЗСКИЙ КАПИТАЛ И РОССИЯ
Среди того, что объединяло самодержавную Россию с республиканской Францией, немаловажную роль играли деньги. Экономическое развитие нашей страны во второй половине XIX века, особенно после смерти императора Николая I в 1855 году и отмены крепостного права в 1861 году, шло динамично и интенсивно, но неровно. Главной причиной этого была хроническая нехватка средств, которых требовалось все больше и больше. Министерство финансов традиционно придерживалось курса на жесткую экономию в расходах, но с течением времени это стало тормозить промышленное развитие России, расширение ее транспортной сети, а также поддержание обороноспособности на современном уровне. Еще в 1866 году Николай Обручев, только что произведенный в генерал-майоры и считавшийся «мозгом» русской армии, выступил в печати с серией статей «Наше финансовое положение», резко критиковавшей позицию министерства финансов. Детально проанализировав историю и причины кризиса, от которого страдала Российская империя, будущий начальник Главного штаба писал: «Все ее (России. — В. М.) государственное существование было непрерывным экономическим и финансовым кризисом, и то, что она ныне испытывает, есть не более как расплата за вековое прошедшее, расплата, необходимая для вступления в новую жизнь… Чем энергичнее боролась Россия за упрочение своего политического существования, тем шире приходилось ей прибегать к долгам». Биограф Обручева О. Р. Айрапетов поясняет ход его мыслей: «Быть мощной империей или прекратить политическое существование — вот выбор путей России. При Петре I Россия предпочла бытие небытию… Громадный потенциал внутренних сил России не был развит, и фатальное несоответствие между требованиями внешними, заданными самим географическим положением России, и этой неразвитостью вынуждало жить в долг, в счет будущего». Начиная с Петра I, развитие России — не только экономическое — пошло по мобилизационному пути. «Нужен царю дворец, — образно писал Обручев, — он сам берет топор и рубит себе дворец. Нужна регулярная армия — всех обязывает военною службою, всех обязывает кормить, одевать, помещать, передвигать войска, частью деньгами, но преимущественно натурою». При Екатерине II этого стало недостаточно, и государство приступило к выпуску бумажных денег — ассигнаций или кредитных билетов, которые оно бралось обеспечить, взяв таким образом кредит у собственного населения. «Государство, — пояснял Обручев, — стало отказываться от умножения насильственных бесплатных услуг и в тех случаях, когда не находило денег для покрытия своих потребностей, стало выдавать за доставленные ему предметы или услуги расписки (т. е. ассигнации. — В. М.), гарантировавшие их владельцам вознаграждение соответственными же предметами или услугами». Переход от внеэкономических методов к экономическим принято считать шагом вперед. Он временно облегчил положение страны, но проблему нехватки средств так и не решил. «Рубль ассигнациями» стал стоить дешевле «рубля серебром», причем в кризисные моменты разница становилась весьма ощутимой. К окончанию неудачной Крымской войны и началу царствования Александра II в 1855 году общий долг России составлял полтора миллиарда рублей серебром. Обручев считал главной причиной этого запоздалую отмену крепостного права, которая, наряду с другими жизненно необходимыми «великими реформами» 1860-х годов, потребовала новых финансовых «вливаний» и, соответственно, новых долгов. По его убеждению, преодолеть дефицит бюджета в долгосрочной перспективе можно было лишь за счет политики интенсивного развития всей страны и всей массы населения. «Государство заимствует силу у единиц общества только для того, — писал Николай Николаевич, — чтобы в измененном виде возвращать им ее обратно. И если оно им ее не возвращает, общество слабеет, приходит в упадок и своим бессилием начинает компрометировать самое существование государства». Отношения между военным и финансовым ведомствами Российской империи были напряженными на всем протяжении ее существования. Военные считали, что казна отпускает недостаточно средств для обороны страны и подготовки к возможной войне. Финансисты парировали, что в мирное время не следует наращивать вооружения и что войны надо избегать, а не готовиться к ней, в свою очередь кивая на дипломатов. И те, и другие были по-своему правы, но узкое понимание ведомственных интересов мешало видеть перcпективу национальных интересов и задач в целом. Обручев был одним из немногих, кто обладал действительно широким, стратегическим кругозором. Он не просто требовал денег на новые винтовки или крепости. Он разъяснял, что, гарантируя свою национальную безопасность и внешнюю свободу, а без сильной армии это немыслимо, — государство тем самым обеспечивает развитие благосостояния своего населения. Равнение на Европу, обгонявшую Россию в развитии, становилось неизбежным. «Как было бы ныне немыслимо выставлять против европейских армий отдельные дворянские дружины с толпой безоружных челядинцев, так же немыслимо тягаться и с настоящей европейской производительностью, выставляя против нее лишь отдельные богатые имения, за которыми следуют избы в развалинах, — решительно заявлял генерал. — Весь наш экономический и финансовый вопрос сводится к тому, как добиться, чтобы у нашего мужика стали являться избытки, чтоб из простой рабочей силы, едва поддерживающейся кормом, он обратился, наконец, в полного человека с непрерывно возрастающими потребностями и средствами к их удовлетворению». Это было сказано за четверть века до рассматриваемых нами событий, но и к концу XIX столетия Россия не смогла в полной мере достичь того состояния, которое Обручев считал необходимым для ее стабильности и безопасности. В последней четверти XIX века Российской империи нужны были все новые и новые кредиты. Интенсивное развитие промышленности и транспорта становилось залогом того, что они будут вовремя возвращены, поскольку полагаться исключительно на экспорт леса и зерновых (как сейчас — на экспорт нефти и газа) было опасно ввиду возможного увеличения ввозных пошлин или колебания мировых цен. Но где было взять необходимые средства? Британские банкиры не спешили давать деньги вековой сопернице своей империи, предпочитая вкладывать средства в эксплуатацию колоний и строительство самого сильного в мире флота — торгового и военного. Германская империя, образовавшаяся только в 1871 году, переживала период интенсивного экономического развития и сама нуждалась в капиталах: она была надежным покупателем русского зерна и исправным поставщиком промышленного оборудования, но в кредиторы годилась мало. Нидерландские и бельгийские банкиры охотно давали займы России, но их возможности были ограничены. Наконец, Австро-Венгрия, экономически отсталая и раздираемая межнациональными противоречиями, солидно смотрелась только со стороны. Оставалась Франция — главный ростовщик Европы. Но получить деньги у французов можно было только при условии взаимного интереса и взаимной выгоды. Здесь надо было учитывать следующие обстоятельства. Во-первых, в Париже очень нервно воспринимали любое «потепление» в отношениях между Петербургом и Берлином, хотя именно давление со стороны русского императора Александра II в 1875 году удержало «железного канцлера» Бисмарка от решительных действий в отношении Франции, которые могли вылиться в «превентивную войну» против республики, еще не окрепшей после поражения 1870 года и наложенной на нее контрибуции. Во-вторых, политические и общественные круги республиканской и буржуазной Франции больше симпатизировали русским оппозиционерам и даже революционерам, нежели самодержцу и его министрам. Иными словами, французов надо было очень сильно заинтересовать. Усилия Обручева по заключению союза с Францией диктовались не только военными или политическими соображениями. «Не достаточно не желать войны, — писал он все в той же работе 1866 года, — надо, чтобы это желание уважалось другими. А для этого первое условие — сделаться сильными, не многочисленною только армиею, которую мы уже имеем, а собственным, внутренним развитием народа, основанным на знании, дружбе и единении». Вторым условием стало наличие союзников, особенно на базе взаимных интересов. Как мы помним, Обручев уже в 1874 году сделал вывод, что внешняя политика Германии в перспективе приведет к общеевропейской войне, но лишь к 1890 году в полной мере «дозрел» до понимания необходимости оборонительного союза с Францией. Не в последнюю очередь это было подкреплено финансовыми соображениями. Мобилизационные ресурсы Франции слабели, но денег у нее по-прежнему было много. Она была готова вкладывать эти деньги в то, что сулило ей выгоду, или давать их взаймы под проценты. Иван Вышнеградский
Иван Вышнеградский
В понимании необходимости иностранных займов Обручев сошелся со своим главным противником, чтобы не сказать врагом, — министром финансовИваном Алексеевичем Вышнеградским, блестящим математиком и экономистом, но склонным считать в свою пользу. По всей видимости, именно он ввел в употребление систему, известную сегодня под названием «откат»: размещал государственные займы у тех банкиров, которые «отстегивали» наибольший процент лично ему. Его преемник Сергей Витте, подробно передав слухи о махинациях Вышнеградского, коротко заметил, что не верит этим рассказам, но написанное им создает прямо противоположный эффект. Обручев открыто и только что не в лицо называл министра финансов «вором», но тот не унывал и продолжал свои операции. Однако оценивать деятельность Вышнеградского только отрицательно, как это делали современники из числа петербургских бюрократов, было бы неверно. Его личные связи в банковских кругах Парижа, как, впрочем, и Берлина, обеспечивали Россию кредитами, без которых ее интенсивное развитие на тот момент было едва ли возможно. Французские банкиры доверяли Вышнеградскому, как французские генералы доверяли Обручеву. В Париже Ивана Алексеевича представляли его сын Александр Иванович, крупный банкир и будущий наследник огромного состояния отца, финансист и аналитик Артур Рафалович и публицист Илья Цион, упоминавшийся выше как один из главных пропагандистов русско-французского союза. Выдающийся физиолог (учитель великого Павлова!), но крайний реакционер по убеждениям и скандалист по характеру, Цион в результате бунта студентов был вынужден покинуть Военно-медицинскую академию в Петербурге и занялся публицистикой. Став одним из протеже могущественного Каткова, он перенес свою деятельность во Францию, обличая на страницах газеты «Галл» русских революционеров, Германию и сторонников «германского влияния» в правящей элите России — министра иностранных дел Гирса и министра финансов Николая Бунге.
 Илья Цион
Илья Цион
Цион получал крупные суммы денег от парижских банкиров, а с приходом Вышнеградского на пост министра в 1888 году стал одним из главных лоббистов французских займов России. «Первый более или менее большой заем во Франции, — вспоминал Витте, — был сделан при посредстве Циона, который был послан с этой целью к группе французских финансистов, во главе которой стоял Госкье, старый, но второстепенный банкир… Прежде он (Госкье. — В. М.) жил в Копенгагене и был известен императрице Марии Федоровне. Когда император Александр III бывал в Дании, то Госкье был ему представлен». Личные связи сыграли свою роль и здесь. «Впоследствии Вышнеградский узнал, — продолжал свой рассказ Витте, — что, когда этот заем был сделан, Цион от банкиров получил довольно большую комиссию — в несколько сот тысяч франков. Он потребовал, чтобы Цион подал в отставку. Можно сказать, что он Циона выгнал со службы». Это произошло в конце 1888 года. Посвященный во многие секреты как Петербурга, так и Парижа, Илья Фаддеевич в долгу не остался. Вскоре Вышнеградский провел успешную операцию по конверсии займов, то есть по замене старых займов новыми с целью удлинения сроков кредита и понижения заемного процента, взяв одновременно во Франции новые крупные кредиты. Это была первая операция, в которой партнером России выступил банкирский дом Ротшильдов, ранее не желавший вести с ней дела из-за дискриминации евреев императорским правительством. У Госкье и его партнеров требуемых сумм не было, а у Ротшильдов были, поэтому сотрудничество с ними Вышнеградский и его помощники считали своим большим успехом — деньги-то стране были нужны. После завершения сделки Цион заявил в печати, что при совершении этой операции Вышнеградский получил «откат» в размере полумиллиона франков, и довел это до сведения Александра III, обещая представить копии компрометирующих Ивана Алексеевича документов, которые он раздобыл в Париже. Летом 1892 года царь передал записку Циона своему любимцу Витте и попросил его высказать свое мнение. Прочитав записку, содержавшую резко критическую оценку всей деятельности министра[9], Витте уклончиво сказал, что, по его мнению, Вышнеградский взятки от французских банкиров не брал, хотя раньше, когда работал в «частном секторе», «делал многие некорректные вещи, конечно, не такие, которые были бы воспрещены законом, но такие, которые человек в его положении, себя более или менее уважающий, не должен был бы делать». В это же время Иван Алексеевич внезапно заболел (перенес легкий инсульт) и был отправлен в отставку — в первую очередь усилиями своего «друга» Витте, который всячески раздувал слухи о его болезни и неспособности к делам. Сергей Юльевич так охарактеризовал разницу между собой и своим предшественником: «Вышнеградский был более, чем я, деталист; он более изучал детали всякого дела, нежели я, но у него не было никакого полета мысли, никакого полета воображения, а без полета воображения и полета мысли даже в самых материальных экономических делах, коль скоро это дела большого масштаба, дела, имеющие государственное значение, — творить большие вещи невозможно. Вышнеградский по свойству своего ума был довольно мелочен и осторожен. Я же был гораздо более широкий и гораздо более смелый — это просто свойство натуры». Так все-таки взял министр финансов Российской империи у Ротшильдов полмиллиона франков или нет? Негласное расследование, учиненное Витте после вступления в должность министра финансов, показало, что взял… и отдал всю сумму Госкье и его партнерам из Парижско-Нидерландского банка в благодарность за первый заем, жизненно необходимый в то время российской казне. Вышнеградский хотел привлечь группу Госкье и ко второму крупному займу, но Ротшильд, исходя из своих соображений, категорически отказался иметь с ним дело. Выслушав доклад Сергея Юльевича и просмотрев представленные им расписки банкиров из группы Госкье, император остался доволен, что «министр его — человек корректный, но, с другой стороны, сделал совершенно правильное замечание, что тот прием, который употребил Вышнеградский, — прием все-таки крайне неудобный, с чем, конечно, я (Витте. — В. М.) вполне согласился. Но прием этот именно был свойствен характеру Вышнеградского и был привит ему его прежней деятельностью, когда он имел различные дела с различными банкирами в различных обществах, — дела, которые не были всегда вполне корректны». Не знавший и не желавший знать тонкости финансового мира, генерал Обручев называл это по-другому. И по-своему, возможно, тоже был прав.
 Сергей Витте
Сергей Витте
Когда Витте в августе 1892 года возглавил министерство финансов, Цион сразу же письменно предложил ему свои услуги посредника и пиарщика. Сергей Юльевич, по его собственным словам, на письмо одиозной личности из Парижа даже не ответил, чем нажил себе нового врага. Илья Фаддеевич стал обличать не только нового министра лично, но и всю финансовую политику империи в целом, предрекая ей скорое банкротство. Он открыто призывал французских держателей не приобретать новые русские ценные бумаги, а в случае конверсии старых займов отказываться от обмена процентных бумаг и требовать выплаты процентов в соответствии с первоначальными условиями. Во Франции многие верили Циону — все-таки он был чиновником особых поручений при министре финансов! Апогеем его деятельности стала выпущенная в начале 1895 году брошюра «Господин Витте и русские финансы». В апреле того же года в Петербурге по требованию Сергея Юльевича было созвано «особое совещание для обсуждения преступной деятельности проживающего за границей действительного статского советника Циона и тех мер, кои необходимо предпринять к прекращению таковой его деятельности». Илье Фаддевичу запретили дальнейшее проживание в Париже и потребовали от него в двухмесячный срок вернуться на родину, чтобы держать ответ. Разумеется, в Россию, где его ждала уголовная ответственность, Цион не поехал, за что в августе 1895 года был лишен русского подданства, всех наград и пенсии. Его ответом стали брошюры с многозначительными заглавиями вроде «Куда временщик Витте ведет Россию?». Пресечь его деятельность «временщику» не удалось, но неугомонный обличитель был взят под наблюдение русской полицейской агентурой во Франции. Единственная, по уверению Витте, личная встреча бывших врагов состоялась в Париже осенью 1905 года, когда Сергей Юльевич возвращался из Америки после подписания Портсмутского мирного договора с Японией. В воспоминаниях Витте утверждал, что инициатива встречи исходила от Циона, но факты говорят об обратном: Сергей Юльевич первым телеграфировал ему еще из Портсмута. Авторитет Циона во Франции был уже невелик, но Витте, резонно ожидавший нового политического взлета на родине, видимо, решил подстраховаться и на всякий случай нейтрализовать возможного противника и неприятного критика. Еще одним лоббистом французских займов — по общему мнению, не вполне бескорыстным, — был многолетний русский посол во Франции Артур Моренгейм. Двадцать четвертого апреля (6 мая) 1891 года первый советник МИД граф Ламздорф занес в свой знаменитый дневник секретную информацию, полученную от министра: «Г. Гирс передает мне весьма доверительное письмо барона Моренгейма, которое ему было привезено вчера банкиром Госкье (тем самым! — В. М.), большим другом нашего посла в Париже. Последний имел беседу с министром иностранных дел Рибо, который высказал ему опасение, как бы Германии не удалось вовлечь Россию в экономическое объединение, имеющее своей целью изоляцию Франции. Рибо высказал, впрочем, большое доверие к нашим добрым намерениям и уверенность в том, что в задачи России не входит нанесение ущерба интересам Франции. Поэтому он желал бы предупредить наше торговое соглашение с Германией, заключив вместо того договор между Россией и Францией в целях урегулирования торговых отношений в интересах обеих стран… Г. Гирс тотчас же посоветовался по этому делу с министром финансов (Вышнеградским. — В. М.), и оба нашли, что домогательства Рибо чрезмерны. Нельзя ставить таким путем в затруднительное положение дружественную державу, запрашивая ее по поводу секретных переговоров, которые мы начали для ограждения своих торговых интересов. Подобное соглашение с Францией не может нам дать серьезных выгод, в то время как соглашение с Германией, покупающей у нас одного лишь зерна на триста миллионов (рублей. — В. М.), является неизбежной необходимостью. Оба министра полагают, что надо дать барону Моренгейму ответ такого рода, чтобы он почувствовал нескромный характер заявления, которое согласился передать и которое он, быть может, сам и вызвал. По поводу наших переговоров с Германией они решают ответить уклончиво, заверив, что мы питаем наилучшие чувства и намерения в отношении Франции». Это соответствовало общей внешнеполитической линии Александра III, который всегда оставался «собственным министром иностранных дел». Апологет его политики — великий химик и выдающийся мыслитель Дмитрий Иванович Менделеев утверждал, что «в союзе с Францией и с Китаем Россия может спокойно ждать предстоящих событий ХХ века». Однако не стоит забывать, что это был союз с двумя проигравшими странами против стран-победительниц — Германии, разгромившей Францию в 1870–1871 годы, и Японии, нанесшей Китаю серьезное поражение в войне 1894–1895 годов. Можно попытаться увидеть в этом тонкий расчет, например стремление уравновесить усиление Берлина и Токио как наших потенциальных противников. А можно увидеть и несомненную ограниченность, чреватую конфликтом с двумя молодыми и динамично развивающимися империями на западе и на востоке России. Александр III по натуре был склонен к глобальным проектам. Наиболее известным из них стала Сибирская железная дорога, призванная связать Европейскую Россию с Дальним Востоком. «Вдумчивые люди, — восторженно писал Менделеев, — видели в ней великое и чисто русское дело». Об истории Транссиба, как стали сокращенно называть эту магистраль, можно рассказывать долго, но мы не должны уходить в сторону от главной темы нашей книги. В воскресенье 19 (31) мая 1891 года во Владивостоке состоялась торжественная закладка дороги, причем первую тачку земли под полотно высыпал лично цесаревич Николай. Однако дело застопорилось из-за недостатка средств, точнее, из-за позиции Вышнеградского: он не верил в будущее дороги, считая ее заведомо убыточной (точнее, не сулящей гарантированных скорых прибылей) и не принимая во внимание военно-стратегические соображения. Строительство требовало огромных капиталовложений, причем чем дальше на восток, тем больших, а отдачи приходилось ждать нескоро. Перемены начались в августе 1892 года, когда министром финансов был назначен Витте. Десятого (22) декабря царь повелел создать Комитет по сооружению Сибирской железной дороги во главе с наследником престола, что подчеркивало статус этого национального проекта. Дорога сразу же получила 170 млн рублей. Вопрос финансирования первой, как водится, самой трудной очереди Транссиба Витте решил весьма оригинальным способом: вновь пустил в оборот подлежащие уничтожению кредитные билеты на сумму около 93 млн рублей в надежде на долгосрочные займы у Франции. Но рост доходов, благодаря промышленному подъему 1890-х годов, при одновременном увеличении золотого запаса позволил построить Транссиб без иностранных займов. Рискованное предприятие сошло Витте с рук. Однако при этом Сергей Юльевич постоянно сокращал бюджетные расходы на армию и флот, игнорируя запросы военного ведомства. Французы были первыми, кто попытался принять участие в амбициозном проекте. В 1891 году группа предпринимателей попросила сооружение этой линии в концессию, в чем их поддержал генерал Михаил Анненков, ведавший строительством казенных железных дорог. «Синдикат французских банкиров выражает готовность дать нужные для постройки деньги… На постройку этой линии протяжением семь тысяч верст французские банкиры выражают готовность дать необходимые 300 млн рублей, но с тем, чтобы постройка была отдана Анненкову по цене 40 тысяч рублей верста, на чем Анненков вместе с ними полагает нажить не менее двух или трех тысяч рублей с версты. При этих условиях Анненков обязуется окончить постройку всей линии до Владивостока в течение трех лет». Вышнеградский решительно выступил против, и дело «не выгорело». Царь поддержал министра финансов, не желая отдавать под иностранный контроль свое любимое детище, к тому же имевшее отнюдь не только экономическое значение.
 Торжественная закладка Сибирской железной дороги. Иллюстрация из книги «XIX век. Иллюстрированный обзор минувшего столетия» (СПб., 1901. С. 156)
Торжественная закладка Сибирской железной дороги. Иллюстрация из книги «XIX век. Иллюстрированный обзор минувшего столетия» (СПб., 1901. С. 156)
Годом позже в Петербург приехал французский сенатор Поль Дековиль, крупный железнодорожный инженер и предприниматель, представлявший потенциальных концессионеров, и добился приема у императора (современники утверждали, что это было сделано по настоянию наследника цесаревича). Аргументы визитера, которого сопровождал сенатор Лессер, были просты и завлекательны: «Происшедшее между Россиею и Франциею сближение заставляет Францию желать, чтобы Россия была в состоянии весь избыток средств своих употребить на усиление свое по западной границе (т. е. против Германии. — В. М.), что на эту цель могли бы быть употреблены все суммы, предназначавшиеся для постройки Сибирской линии, а Сибирская дорога могла бы быть построена на деньги, имеющие быть внесенными тем синдикатом банкиров, коего они состоят представителями». Это дневниковая запись от 16 (28) февраля 1892 года государственного секретаря Александра Половцева, человека если не очень влиятельного, то очень осведомленного. А вот запись Ламздорфа, сделанная двумя днями раньше: «Два французских сенатора приехали сюда с целью использовать нашу дружбу с их страной, чтобы получить концессию на постройку Сибирской железной дороги. Они просили разрешения представиться государю, и министр (Гирс. — В. М.) убедился, что Его Величество очень расположен их принять, полный, как всегда, чувств симпатии к Франции, кумиром которой наш государь себя воображает. Г. Гирс поражается, до какой степени Его Величество падок на французские заискивания и с какой наивностью принимает их за чистую монету. Вышнеградский просил, чтобы этим сенаторам аудиенция была дана лишь после его доклада, который должен состояться сегодня». Первый советник МИД не преминул отметить, что сенаторам помогали советник французского посольства граф Вовинэ и… генерал Обручев (как раз шли переговоры о военной конвенции!). Днем позже Ламздорф узнал, что Витте будет назначен управляющим министерством путей сообщения. Через три дня Гирс рассказывал Ламздорфу о своем еженедельном докладе императору: «Говоря о французских сенаторах, которых Его Величество принял в воскресенье (16 [28] февраля. — В. М.), наш государь казался не очень довольным тем обстоятельством, что они осмелились подать ему записку о железнодорожной концессии. Государь им сказал, что решение касательно Сибирской железной дороги было уже принято и не может быть изменено. „У нас решено строить Сибирскую железную дорогу своими средствами на казенный счет, не допуская даже частной компании. С какой стати передавать им, и притом финансовая сторона их проекта очень слаба“. Государь добавил: „Нет, я впредь не буду принимать таких господ“. Министр заметил, что все французы используют теперь русско-французские симпатии для устройства своих частных дел». Заполучить Сибирскую железную дорогу в концессию французам не удалось, но их предприимчивости это не убавило. В 1893 году на юге России активизировало свою деятельность французское акционерное общество «Русский стандарт», занимавшееся разработкой нефтяных месторождений Кубани и экспортом нефти через порт Новороссийск. Основанное еще в 1881 году, оно до 1892 года было вынуждено действовать полулегально, точнее, через подставных лиц, не располагая необходимыми для иностранных подданных разрешениями на разработку полезных ископаемых и ведение коммерческой деятельности. Ситуация изменилась после заключения русско-французских соглашений… и после того, как акции «Русского стандарта» купил парижский банкирский дом Ротшильдов. Администрация Кубанской области не верила в перспективность разведки и добычи нефти в этом регионе, а потому охотно привлекала туда иностранный капитал и специалистов. Во второй половине 1890-х годов «Русский стандарт» развернул особенно бурную деятельность, которая объективно шла на пользу не только ему, но и российской экономике. Однако, по мнению специалистов, оно не добилось всего того, что можно было сделать для развития нефтедобычи на Кубани. Следует заметить, что разнообразно богатый и плодородный юг России вообще привлекал французский капитал, зачастую в содружестве с бельгийским. Например, из 15 иностранных акционерных обществ, действовавших в Донской области, 14 принадлежали франко-бельгийскому капиталу и только одно — немецкому. В 1896 году группа влиятельных парижских банкиров учредила «Генеральное общество для развития русской промышленности» с первоначальным капиталом пять млн франков. К 1900 году из восьми крупнейших рудников Донской области семь принадлежали франко-бельгийскому капиталу. Большое значение придавалось и личному присутствию на местах. Например, французским консульским агентом в Ростове-на-Дону в 1890-е годы был Рене Мишо, представитель крупного банка «Сосьете женераль»; он же возглавлял правление «Ростовского-на-Дону купеческого банка», хотя тот и не находился под французским контролем. Работавшие в России французские, равно как и немецкие, предприниматели и инженеры стремились завязывать и поддерживать наилучшие отношения с русскими коллегами, видя в этом залог успеха своей деятельности. Не редкостью были и смешанные браки: например, заключенный в Баку как раз в описываемое нами время между инженером-технологом нефтедобывающих промыслов братьев Нобель немцем Густавом-Вильгельмом-Рихардом Зорге и русской девушкой Ниной Семеновной Кобелевой. Один из их десяти детей — Рихард Зорге — впоследствии станет одним из величайших разведчиков ХХ века. Русско-французские браки, кажется, столь знаменитого потомства не принесли, но история каждой семьи интересна по-своему. К помощи французских банкиров императорское правительство снова обратилось в 1895 году, причем уже не столько по финансовым, сколько по политическим причинам. Для правильного понимания операции, задуманной и осуществленной министром финансов Витте, нам придется перенестись из Европы на Дальний Восток, где летом 1894 года вспыхнула война между Китаем и Японией из-за контроля над Кореей. Аналитики уверенно предрекали победу Китаю, поскольку не имели ни малейшего представления о военном потенциале его противника. Однако к весне 1895 года Страна восходящего солнца нанесла сокрушительное поражение Срединной империи и на суше, и на море. России, во главе которой только что встал молодой император Николай II, предстояло отреагировать на происходящее. Дело было не только в положении на Дальнем Востоке в целом, но и в дальнейшей судьбе Сибирской железной дороги: Витте склонялся к тому, чтобы провести ее от Читы до Владивостока кратчайшим путем через северную Маньчжурию, т. е. по китайской территории. Для этого требовалось согласие Китая, который, конечно, не дал бы его «просто так». В условиях открытого противостояния вопрос стал ребром: Пекин или Токио? Япония и Китай подписали мирный договор, по которому победитель получал не только внушительную контрибуцию, но и территории — остров Тайвань в собственность, стратегически важный Ляодунский полуостров в Южной Маньчжурии в аренду. Двадцать пятого марта (6 апреля) 1895 года министр иностранных дел Лобанов-Ростовский подал царю записку, в которой высказался за союз с Японией и за раздел сфер влияния в Китае. Одной из причин министр назвал то, что «главный и самый опасный противник наш в Азии — бесспорно Англия» (на полях против этой фразы Николай II написал: «Конечно»), а «без японских гаваней борьба с Англией едва ли мыслима». Однако на Особом совещании под председательством великого князя Алексея Александровича 30 марта (11 апреля) Лобанов неожиданно заявил: «На дружбу Японии ни в каком случае рассчитывать нельзя. Предпринятая ею война направлена не столько против Китая, сколько против России, а затем и всей Европы». Он не произнес ни слова в защиту собственного предложения, которое защищал… Обручев (есть все основания предполагать, что основная идея записки исходила от него лично или от его окружения). Участники совещания вели себя пассивно — за исключением Витте, который предложил припугнуть Японию, потребовав от нее отказа от претензий на южную Маньчжурию, а если та «не послушает наших дипломатических настояний», то «предписать нашей эскадре, не занимая никаких пунктов, начать враждебные действия против японского флота и бомбардировать японские порта». «Мы приобрели бы при этом роль спасителя Китая, — не без цинизма добавил он, — который оценил бы нашу услугу и согласился бы потом на исправление мирным путем нашей границы» для проведения Сибирской железной дороги кратчайшим путем. По инициативе Витте Россия, Германия и Франция дали Японии «дружеский совет» не трогать южную Маньчжурию — в историографии это называется Тройственным вмешательством. Совет пришлось принять, хотя это было унизительно для Токио: договор с Китаем был уже не только подписан, но и утвержден императором. Затем, в конце июня того же года, русские и французские банкиры по инициативе Сергея Юльевича дали Китаю заем в 400 млн франков для выплаты контрибуции японцам. Российская доля составляла 150 млн, французская — 250 млн, но под гарантии русского правительства. Заем был дан сроком на 36 лет под рекордно низкие 4 % годовых, что тоже подчеркивало его политический характер. Затем на свет появился «Русско-Китайский банк» с привлечением французских капиталов, но под контролем Министерства финансов Российской империи, то есть самого Витте. Сергей Юльевич получил возможность строить дорогу в соответствии со своим замыслом, укрепил связи с финансовым миром Франции и… безнадежно испортил отношения с Японией, а также усилил трения между Петербургом, с одной стороны, и Лондоном и Берлином — с другой. «Наш прекрасный китайский заем дает в политике лишь отрицательные последствия, — саркастически заметил Ламздорф, еще не подпавший под влияние Витте. — Мы сами стараемся сплотить все державы в коалицию против нас, и все это совершенно даром, ничего не получая взамен, если не считать мнимых успехов в довольно проблематичной области финансовых комбинаций. Вот так большая политика! С нами остаются наши друзья-французы».
 Жюль Мелин
Жюль Мелин
То, что Россия могла рассчитывать на финансовую помощь Франции, — разумеется, небескорыстную — с точки зрения государственных интересов было неплохо, и заслуга Витте в этом несомненна. Однако «друзья-французы» осмелели настолько, что попытались вмешаться уже во внутреннюю политику России, чего Сергей Юльевич допустить никак не мог, как по государственным, так и по сугубо личным соображениям. Во время официального визита Николая II в Париж в 1896 году (см. главу восьмую) глава французского правительства Жюль Мелин передал ему несколько подробных записок по поводу предполагавшейся в России финансовой реформы, основанной на введении золотого рубля. «В этих записках, — вспоминал Витте, — авторы считали нужным предостеречь государя императора, что введение мною металлического обращения, основанного на золотой валюте, будет пагубно для России, и проводили мысль о введении валюты, основанной если не исключительно на серебре, то на биметаллизме, т. е. основанной как на серебре, так и на золоте, подобно тому, как это существует во Франции. Я, — заметил Сергей Юльевич, — почел со стороны председателя совета министров Французской республики такое действие в высшей степени некорректным, так как это вопрос чисто внутренний России и ни русский император, ни русское правительство не нуждались в этом отношении в советах Мелина». Царь заявил Витте, что сам этих записок не читал и читать не будет, но поручил министру финансов ознакомиться с ними и высказать свое мнение. Какую реформу собирался проводить Витте, и почему это так задело Францию? Экономический кризис мог России и не грозить — значительная часть страны продолжала жить натуральным хозяйством и фактически обходилась без денег, но для развития промышленности и транспорта, для закупки за границей товаров и технологий были необходимы деньги, причем твердо обеспеченные золотом. Выпуск «пустых», т. е. не полностью обеспеченных золотом, хотя и гарантированных казной, бумажных денег — кредитных билетов — мог решить проблему только на время и в итоге привел к весьма плачевному положению. Введение свободного обмена «кредиток» на золото представлялось очень рискованной операцией, последствиями которой могли быть и рост цен, прежде всего на зерно, и отток золота в «кубышки», и его уход за границу. С другой стороны, введение «твердого», т. е. обеспеченного золотом, рубля подняло бы его мировой престиж, упрочило кредит России и могло привести в страну иностранные инвестиции, жизненно важные для развития промышленности, которое в свою очередь к концу XIX века стало необходимым условием поддержания статуса великой державы. Витте сделал ставку на развитие промышленности и транспорта, пусть даже в ущерб сельскому хозяйству. «Исключительно земледельческие страны, — убеждал он несклонного к реформам монарха, — по праву считаются более бедными, чем те, в которых народный труд находит разнообразное применение, создавая новые источники благосостояния». Франция была страной как индустриальной, так и аграрной, но парижский оппонент Витте Мелин относился к числу «аграриев» и сохранил за собой пост министра сельского хозяйства, даже находясь во главе правительства. Однако расчеты французских финансистов, включая Ротшильдов, пытавшихся повлиять на русского царя, строились, видимо, на ином. «К числу лиц, веривших в серебро и находивших, что надо делать денежное обращение, как выражаются, хромое, т. е. основанное как на золоте, так и на серебре, — со знанием дела разъяснял Витте, — принадлежали, например, такие выдающиеся финансисты, как Альфонс Ротшильд, глава в мое время фирмы „Ротшильд“ в Париже, один из редкостно умных финансистов из тех, которых мне приходилось встречать, человек с громадным политическим умом. К той же школе принадлежал и друг Альфонса Ротшильда, известный экономист и министр финансов Французской республики Леон Сэй, который также был биметаллистом. Отчасти на их мнение могло влиять и то, что Франция вообще была весьма заинтересована в участи серебра… Франция и есть та страна, которая имеет в обращении громадное количество серебряной монеты, а следовательно, в ее интересах было, чтобы Россия основала свое металлическое обращение на биметаллизме, или, вернее, „хромом“ биметаллизме, т. е. как на золоте, так и на обесцененном серебре (выделено мной. — В. М.). Я думаю, — заключил Сергей Юльевич с прямотой, свойственной его высказываниям о поступках других людей, — что мотивом некорректного действия со стороны Мелина было главным образом то, чтобы повысить цену серебра и, если возможно, даже сплавить часть своего обесцененного серебра России… Если бы Россия пошла на это, то Франция могла бы выиграть многие сотни миллионов франков. Но, к счастью, благодаря доверию, которое мне Его Величество всегда оказывал в вопросах финансовых, Россия на этот путь не пошла и, вопреки всем препятствиям, император Николай совершил великую денежную реформу». Витте не был ни франкофилом, ни франкофобом. Он прежде всего был финансистом — человеком, хорошо умевшим считать деньги (во всех смыслах), но порой забывавшим о долгосрочных перспективах и даже о государственных интересах. Он управлял страной как корпорацией или банком: стремился не допустить ее банкротства, но как будто не исключал такой перспективы. В принципе ему было все равно, в какой стране и у каких банков брать займы — Сергея Юльевича интересовали прежде всего условия займов и лишь потом их возможные политические последствия. Будучи авантюристом по натуре, глупцом или безумцем он, разумеется, не был и считал необходимым поддерживать баланс в отношениях России не только с Францией, но и с Германией, — политических, экономических и торговых. Уверенный в собственной правоте, Витте по большому счету презирал и своих оппонентов во власти, особенно «стариков» в Сенате и Государственном Совете, и общественное мнение, хотя умел заигрывать с ними. Этим он был схож с французскими банкирами: убежденных русофилов среди них не было, зато на выгодных условиях работать с Россией были готовы даже русофобы. Учитывая потенциал нашей страны, они понимали, что под гарантии государства давать ей деньги в долг безопасно. Главное, чтобы не было войны. Денежная реформа, которой Витте гордился всю жизнь, дала мощный импульс развитию России и не поссорила ее ни с Францией, ни с Германией. Понимая важность не только финансовых, но и моральных факторов, Сергей Юльевич начал с девальвации, опустив золотой рубль до кредитного, что позволило избежать повышения цен в абсолютном выражении и тем самым предотвратило возможный всплеск недовольства и социальной напряженности. «Я совершил реформу так, — с гордостью вспоминал он на склоне лет, — что население России совсем и не заметило ее, как будто бы ничего, собственно, и не произошло». К моменту его ухода в отставку с поста министра финансов летом 1903 года иностранные инвестиции в России достигли огромной суммы — три млрд рублей, среди которых немалую часть составляли французские капиталы. За десять с половиной лет его пребывания в должности промышленный потенциал страны почти удвоился, а темпы роста в ведущих отраслях составляли 15–20 %. Конечно, это не только его личная заслуга, но без «руководящей и направляющей роли» министра финансов в таких делах не обойтись. «Оборотная сторона» реформ дала знать о себе только в новом веке. Включенность России в мировую экономику и финансы позволяла ей быстрее и динамичнее развиваться, но и с неизбежностью вовлекала ее в мировые кризисы. Пришедший с Запада промышленный кризис 1900–1903 годов особенно больно ударил по нашей стране, сельское хозяйство которой, подорванное реформой Витте, не смогло создать достаточно емкий рынок для промышленных товаров, которых продавалось не так много, как требовалось для нормального развития экономики в целом. Многие индустриальные начинания закончились крахом, но виттевский рубль все-таки выдержал и русско-японскую войну, и годы революционной смуты, окончательно рухнув только в годы Первой мировой войны. Экономику России не спасли даже постоянные «инъекции» французских, а затем и английских займов, на «иглу» которых все прочнее садилась империя Романовых. Впрочем, это уже другое столетие и другая история.
 Русский павильон на Всемирной выставке 1900 г. в Париже
Русский павильон на Всемирной выставке 1900 г. в Париже
В 1900 году Париж принимал очередную Всемирную выставку. Для России она стала не просто триумфом, но триумфом, получившим всеобщее признание. К нашему павильону выстраивались огромные очереди, чтобы увидеть неподвижный вагон Сибирской железной дороги, за окнами которого двигались нарисованные панорамы бескрайних просторов Евразии. Приамурский генерал-губернатор Николай Гродеков сравнил Великий Сибирский путь с Суэцким каналом. Транссиб стал приобретать почти мифические очертания. Французы восторгались, японцы беспокоились, англичане задавались вопросом, не очередная ли это «потемкинская деревня». Но, несмотря на издержки «пиара», это было правдой. Россия уверенно вступала в новый век, не догадываясь — а кто тогда догадывался?! — о предстоящих ей потрясениях и катастрофах. У нее были все основания для оптимизма.
Глава пятая. ЭТЮДЫ ОПТИМИСТА: ИЛЬЯ МЕЧНИКОВ В ПАСТЕРОВСКОМ ИНСТИТУТЕ
К концу XIX века французская наука имела всемирную славу, особенно в таких областях, как математика и биология, успешно соперничая с не менее известной и уважаемой немецкой наукой. Признание ученого, в какой бы стране он ни жил и какой бы национальности ни был, начиналось с публикаций в профильных научных журналах этих стран и докладов на международных симпозиумах, рабочими языками которых были французский и немецкий. Люди, принесшие славу и почет русской науке, шли этим же путем. Одним из немногих русских ученых, кого на рубеже XIX — ХХ веков знал весь мир, был великий физиолог, оригинальный философ и обаятельный человек Илья Ильич Мечников, сыгравший без преувеличения огромную роль в научном и культурном сотрудничестве России и Франции.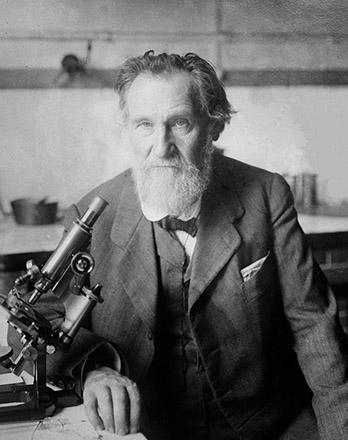 Илья Мечников в последние годы жизни
Илья Мечников в последние годы жизни
Илья Ильич родился 15 (27) мая 1845 года в имении Ивановка неподалеку от Харькова в семье отставного офицера. Он рано выучился и полюбил читать, а с 12 лет его главной страстью стал… микроскоп. Еще учась в Харьковском лицее, Илья отправил первую научную статью с критикой учебника геологии в «Бюллетень Московского общества испытателей природы», где она и была опубликована. В 1862 году Мечников с золотой медалью окончил лицей и поступил в Харьковский университет, но уже через год подал прошение об отчислении. Не справился с нагрузками? Ничего подобного. Напротив, был недоволен… медленностью учебного процесса и решил готовиться самостоятельно. Четырехгодичный курс естественного отделения физико-математического факультета он прошел за два года и успешно сдал все экзамены. Сразу стало ясно, что это человек сугубо неординарный. В 18 лет Илья Ильич опубликовал первую работу в Германии, а годом позже выступил с двумя докладами на общегерманском съезде биологов и врачей. Юность докладчика привлекла всеобщее внимание, но поблажек на возраст в профессиональной среде не делали — немцы оценили уровень работы. Слухи о харьковском вундеркинде дошли до столицы. Когда Мечников окончил университет, знаменитый физиолог и врач-хирург Николай Иванович Пирогов выхлопотал ему государственную стипендию для научной командировки в Германию. В 22 года, когда его товарищи только заканчивали университетский курс, Мечников защитил магистерскую диссертацию и был избран доцентом Новороссийского университета в Одессе. Блестящее начало карьеры! Но годом позже он стал доктором зоологии, защитив диссертацию в Петербургском университете, а в 25 лет — профессором, работая в столице и в Одессе. Слава о молодом ученом стремительно распространялась в научных кругах Европы. Вместе со своим другом Александром Ковалевским Илья Ильич создал новую научную дисциплину — сравнительную эмбриологию, то есть сравнительную историю развития животных. В 1882 году он открыл явление фагоцитоза — процесса поглощения и переваривания клетками организма чужеродных для него частиц, на чем позднее были основаны методы профилактики инфекционных болезней. Не будучи исключительно кабинетным ученым, Мечников в 1886 году вместе с Николаем Гамалея создал в Одессе первую в России бактериологическую станцию. Еще будучи студентом Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге, Гамалея стал одним из его главных учеников и последователей, вдохновившись открытием фагоцитоза и перспективами, которые оно открывало перед медициной. Примером для Мечникова и Гамалеи стали открытия и работы великого французского микробиолога, физиолога и врача Луи Пастера, для всей жизни которого была характерна теснейшая связь теории с практикой. Одним из его многочисленных достижений стало доказательство того, что брожение служит источником энергии для вызывающих его микроорганизмов. Это представляло не только отвлеченный, лабораторный интерес. Пастер предложил оригинальный и очень действенный способ предохранения вина — национальной гордости Франции — от порчи и прокисания, названный в его честь «пастеризацией». Вскоре он стал использоваться в производстве пива, молока, фруктово-ягодных соков, так что Пастер по праву считается одним из основоположников современной пищевой промышленности. Кстати, Мечникову принадлежит наиболее популярный способ приготовления йогурта, использующийся по сей день. Однако, вовремя не оформив необходимых заявок и свидетельств, ученый ничего не получил за свою «болгарскую простоквашу», как тогда назывался этот продукт. Кроме всемирной славы: в начале ХХ века в далекой Японии приготовленный по его способу йогурт называли просто… «Илья».
 Луи Пастер. 1852
Луи Пастер. 1852
Наибольшую славу и благодарность человечества Пастеру принесли работы по установлению причин и профилактике заразных болезней животных и человека, которые увенчались созданием действенной предохранительной прививки против сибирской язвы и бешенства. Шестого июля 1885 года пастеровская прививка впервые спасла жизнь — Жозефу Мейстеру, девятилетнему мальчику из Эльзаса, укушенному бешеной собакой. Внедрением этого открытия занялись в Одессе Мечников и Гамалея, которым Пастер прислал… зараженных бешенством животных. Подарок оказался как нельзя кстати — не пришлось тратить время на выращивание возбудителя. «Всем памятен тот взрыв всеобщего восторга, — писал классик отечественной биологии Климент Аркадьевич Тимирязев, — который пронесся из края в край образованного мира при слухе, что самая страшная из болезней побеждена наукой. Это было высшей точкой научной деятельности Пастера и его славы. Имя его стало достоянием всех людей, как ценящих науку, так и равнодушных к ней. Выражением всеобщего увлечения его открытиями явилась международная подписка на постройку достойной его лаборатории — знаменитого Пастеровского института, которому суждено играть такую роль в будущих судьбах созданной Пастером новой науки». Труды Пастера были хорошо известны в России: в 1884 году французский ученый был избран членом-корреспондентом, а в 1893 году — почетным членом Академии наук. Но самую громкую славу в нашей стране ему принесла история, начавшаяся ранним утром 17 февраля 1886 года в уездном городе Белый Смоленской губернии. Голодный бешеный волк, прежде чем его удалось убить, жестоко искусал около 20 человек. Пострадавших доставили в городскую больницу, но объяснили, что надеяться не на что, — медицинских средств против бешенства пока не существует. И тут случилось чудо! Член земской управы Грабленов вспомнил, что недавно читал в газетах о Пастере и его открытии, и рассказал об этом родственникам укушенного волком священника Василия Ершова, убедив их отправить телеграмму в Париж. Пастер немедленно согласился принять пострадавших, зная, что волчьи укусы намного опаснее собачьих. Незадолго до того посещая его лабораторию, великий князь Владимир Александрович, брат Александра III, обещал сообщать ученому о случаях нападения бешеных волков на людей в России. Владимир Александрович рассказал брату о трагедии в городе Белом, поэтому отправка 19 больных во Францию была экстренной и хорошо организованной. В Париже ими занимался сам Пастер, которому активно помогал стажировавшийся у него Гамалея. Но время было упущено, и троих спасти не удалось: за гробом одного из умерших, пожарного Кожеурова, шел сам российский посол барон Артур Моренгейм. Французская пресса широко освещала буквально каждый шаг смоленских мужиков в столице, как будто это были коронованные особы. Русские газеты охотно перепечатывали эти статьи, которые, таким образом, сыграли немалую роль в укреплении двусторонних отношений. Друзья, как известно, лучше всего познаются в беде. Что еще сближало Мечникова с Пастером, помимо сугубо научных интересов? Материалисту по философским взглядам и демократу по общественно-политическим убеждениям, Илье Ильичу не мог не импонировать тот факт, что великий физиолог в молодости был участником французской революции 1848 года. Сам Мечников был близок к революционному движению, а его старший брат Лев Ильич, медик по образованию, стал не только одним из наиболее выдающихся историков и географов своего времени как автор теории «цивилизации великих исторических рек», но и участвовал в борьбе Джузеппе Гарибальди за объединениеИталии, а затем сблизился с Михаилом Бакуниным и Карлом Марксом, вошел в анархистскую секцию Международного товарищества рабочих (Первый Интернационал) и в итоге стал политическим эмигрантом. Преследования оппозиционно настроенных людей, даже не принимавших участия в антиправительственной деятельности, которыми было отмечено царствование Александра III, повлияли и на судьбу Ильи Ильича. Нет, он не стал эмигрантом, как брат, но после разгрома «Народной воли» в 1881 году ушел из Новороссийского университета и на время уехал в Италию, а в 1888 году принял приглашение Пастера переехать во Францию для работы в его только что созданном бактериологическом институте. Главной причиной было то, что в Одессе чиновники стали чинить препятствия работе бактериологической станции. Сыграла свою негативную роль и пресса: безответственные газетчики, объединившись с ретроградами от медицины, стали упрекать сменившего специальность Мечникова в шарлатанстве и корили его отсутствием базового врачебного образования. С той же самой травлей сталкивался и Пастер, поскольку не все прививки по его методу оказались удачными: многие были сделаны слишком поздно. Впервые ученые лично встретились осенью 1887 года. Вот как описал этот исторический день Илья Ильич, обладавший незаурядным литературным талантом:
 Луи Пастер. 1895
Луи Пастер. 1895
«Придя в маленькую лабораторию барака, расположенного в Латинском квартале Парижа (на улице Воклена), наскоро устроенного для предохранительных прививок против бешенства, я увидел дряхлого старика (Пастеру было 65 лет. — В. М.) небольшого роста с полупарализованной левой половиной тела, с проницательными серыми глазами, с седыми усами и бородой, в черной ермолке, покрывавшей коротко остриженные волосы с проседью. Поверх пиджака на нем была надета широкая пелеринка. Болезненно бледный цвет лица и утомленный вид подсказали мне, что я имею дело с человеком, которому осталось жить недолгие годы, быть может, лишь несколько месяцев. Пастер принял меня очень радушно и тотчас заговорил об особенно интересовавшем меня вопросе — о борьбе организма против микробов. „В то время как мои молодые сотрудники очень скептически отнеслись к вашей теории, — сказал он мне, — я сразу стал на вашу сторону, так как я давно был поражен зрелищем борьбы между различными микроскопическими существами, которых мне случалось наблюдать. Я думаю, что вы попали на верную дорогу“. Поглощенный вопросом о предохранительных прививках против бешенства, которые тогда еще находились в первой стадии практического применения, Пастер вскоре заговорил о них и повел меня присутствовать при их выполнении. Он останавливался на малейших подробностях, отчаивался при малейшей неудаче, утешал детей, плакавших от боли, причиняемой впрыскиванием, совал им в руки медные деньги и конфеты. Легко было видеть, что Пастер всем существом своим предан делу и что страстность его натуры не уменьшилась с годами». Тем не менее силы великого ученого были на исходе, и он решил посвятить остаток жизни тому, чтобы сделанное им не пропало. «Выработка способа предохранения от бешенства была последней законченной работой Пастера. Хотя он при исполнении ее и пользовался сотрудничеством такого мастера, как доктор (Эмиль. — В. М.) Ру, но не подлежит сомнению, что гениальность Пастера сказалась и в этой лебединой его песне. Ру уверял меня (Мечникова. — В. М.), что без постоянного участия Пастера, направлявшего и воодушевлявшего своих учеников, они никогда не дошли бы до тех результатов, которые были ими достигнуты». Для закрепления сделанного ученый добился создания в Париже особого института, в котором под одной крышей должны были находиться научно-исследовательский центр, диспансер для проведения прививок против бешенства и учебное заведение. «Пастер не отличался большой практичностью, — вспоминал Мечников, — и потому неудивительно, что организация этого учреждения была далека от совершенства». Мешали староверы от науки, просто не понимавшие содержания его открытий. Мешали завистники и конкуренты, называвшие гениального новатора шарлатаном и распространявшие списки тех, кого не спасли его прививки. Мешали бюрократы, с требованиями которых независимый нрав ученого отказывался мириться. Мешали политические противники: к концу жизни бывший революционер стал чуть ли не монархистом, что в условиях Третьей республики было не лучшей рекомендацией. «Все это в конце концов привело к тому, — продолжал Илья Ильич, сам знавший подобные гонения не понаслышке, — что город отказался уступить в дар участок земли, вследствие чего последний пришлось купить за наличные деньги, что значительно уменьшило средства зарождающегося учреждения. Постройка института была задумана в слишком больших размерах, вследствие чего, когда он был закончен в 1889 году, осталось лишь очень немного денег из подписной суммы на его содержание. Отсюда заботы Пастера о приискании новых источников доходов, заботы, которые немало отравляли последние годы его жизни. Хлопоты по делу предохранительных прививок и заботы о будущности института и особенно расстроенное здоровье привели к тому, что Пастер должен был навсегда отказаться от научной деятельности… и стал сильно грустить. Он чувствовал, что не выполнил всего того, что ему хотелось еще совершить, и эта неудовлетворенность мучила его. Напрасно мы убеждали его, что он сделал так много для науки и человечества, что со спокойной совестью может почить на лаврах. Все это нисколько не удовлетворяло его ненасытной потребности к делу, которое стало его второй натурой». Поэтому летом 1888 года он уговорил русского коллегу и единомышленника поступить на постоянную работу в институт в качестве руководителя исследовательского центра, или, как сейчас бы сказали, заместителя директора по науке. Сорокадвухлетний Мечников без колебаний согласился. Примерно в то же время и примерно тем же его пытался соблазнить принц Александр Петрович Ольденбургский, член дома Романовых, но Илья Ильич не хотел зависеть от возможных капризов царственного спонсора и не поддался даже на уговоры Гамалеи. В конце концов он был первым, кого Пастер официально пригласил в только что созданный институт. Доктор Ру позже писал Мечникову: «Пастер встретил вас с распростертыми объятиями — ведь вы принесли ему не более и не менее, как доктрину иммунитета». Русский ученый получил возможность для длительной и спокойной работы, в которой не зависел ни от каких властей, рядом с коллегами-единомышленниками и если не под руководством, то вблизи человека, к которому относился с благоговением. Илья Ильич не закрывал глаза на несимпатичные ему черты пожилого мэтра — любовь к орденам, почестям и юбилеям, ненависть к немцам, распространявшуюся на немецких ученых (этого Мечников категорически не понимал и не принимал), монархические симпатии, правда, личного, а не общественного характера (Наполеон III благоволил Пастеру). Однако сделал в своих мемуарах категорический вывод: «У Пастера, разумеется, как и у всех на свете, были свои слабости, но не подлежит сомнению, что помимо огромного блага, принесенного им человечеству, это был во всех отношениях превосходный человек с необыкновенно отзывчивым и добрым сердцем». Успех работы во многом определялся такой важной особенностью характера Пастера, как доброжелательное отношение к коллегам по работе: «Свое воодушевление и необыкновенную энергию он старался вложить в своих учеников и сотрудников. Он никогда не отравлял скептицизмом, столь свойственным достигшим апогея своей славы ученым, а, наоборот, всегда поддерживал дух и надежду на успех. Озабоченный успехом института, он очень поощрял работавших в нем, надеясь обеспечить этим будущность излюбленного им учреждения». Как уже говорилось, Мечников одним из первых в России оценил важность и перспективность открытий Пастера и употребил свое немалое влияние на их изучение и внедрение в нашей стране. Еще в 1886 году он устроил командировку к нему своему ученику Гамалее. Пастер высоко оценил знания и способности молодого врача, предложив тому постоянную работу в Париже. Поблагодарив учителя, Николай Федорович отказался, хотя позже не раз приезжал во Францию, в том числе к Мечникову. В отличие от старшего друга, он был прежде всего практиком, заложив основы широкомасштабных санитарно-гигиенических мероприятий в России, включая обязательные прививки против оспы, тифа и туберкулеза, а также борьбу с вшами и крысами как разносчиками смертельно опасных бактерий. Неслучайно одна из первых улиц, названных именем Пастера, появилась в Одессе: именно там многие годы продуктивно работал Гамалея, всегда гордившийся тем, что успел поучиться у великого физиолога. Складывавшийся союз двух держав отразился на работе Мечникова у Пастера: из России в Париж один за другим поехали стажеры, кто за государственный счет, кто за общественный, а кто и за свой собственный. Оба ученых отделяли науку от политики и старались служить не столько своим странам, сколько всему человечеству, но не все их коллеги думали таким образом. Вот еще один занятный эпизод из воспоминаний Ильи Ильича о своей работе в институте, связанный с политическими сюжетами нашего исследования: «В то время, когда я попал в Пастеровский институт, уже ходили толки о франко-русском союзе, к которому он относился с необыкновенным увлечением. По этому поводу припомню следующий случай. В числе моих учеников находился в те годы один русский доктор, отличавшийся крайней неаккуратностью. Уехав на несколько месяцев из Парижа, он оставил свое место в моей лаборатории заполненным массой старых препаратов и никому не нужным хламом. Когда по возобновлении занятий после каникул потребовались места для новых учеников, я велел очистить стол и шкап неисправного доктора и перенести его вещи в другую комнату. По истечении некоторого времени этот доктор, однако же, вернулся и, узнав происшедшее, напал на меня самым грубым образом. Я, разумеется, не остался у него в долгу и выпроводил его из института. На другой день приходит ко мне Пастер, ужасно взволнованный, с двумя большими исписанными листами в руке. „Что вы наделали, — обратился он ко мне, — вы выгнали князя, доктора А., отсюда, между тем как он командирован русским правительством. Прочитайте-ка его письмо ко мне, а вот и мой ответ, который, я уверен, вы вполне одобрите“. В письме к Пастеру князь горько жаловался на меня и грозил, что русское правительство не оставит так этого дела, намекая, что последнее может даже повлиять на франко-русскую дружбу. В своем проектированном ответе Пастер стал усиленно извиняться перед грозным князем и уверять его в самых лучших чувствах к нему. Я, разумеется, не согласился на отправку такого письма, написанного почти в унизительном тоне, и убедил Пастера в том, что мой противник вполне заслужил наложенную кару, что командированный за границу доктор — кавказский князь, человек крайне невоздержанный и несерьезный работник — не должен быть терпим в нашем институте. Мне стоило немало труда, чтобы успокоить Пастера и уговорить его изменить редакцию своего ответа. Вскоре Пастер убедился, что уход раздраженного князя от нас ничуть не помешал франко-русскому союзу». Смерть Пастера 28 сентября 1895 года положила конец дружбе двух великих ученых. О «встрече на небесах» они не думали, потому что оба не верили в бессмертие души. По воспоминаниям Мечникова, его французский учитель «избегал разговоров на религиозные темы и всегда обнаруживал чрезвычайную терпимость. Когда при мне ему случалось заговорить о религии, то он всегда отделывался самыми общими фразами на тему о бесконечности и о том, что наука еще не в состоянии решить множества самых важных вопросов». Сам Илья Ильич был атеистом, что, в дополнение ко всему прочему, осложняло его жизнь и карьеру в России. Он был не столько богоборцем, сколько гуманистом, делавшим акцент на земной жизни человека. «Подобно тому, как человек изменил природу животных и растений, — писал Мечников, — человек должен будет изменить свою собственную природу для того, чтобы сделать ее гармоничной». Для этого у него были и личные мотивы: он пережил смерть первой жены, опасную болезнь второй и сам несколько раз болел настолько тяжело, что пытался покончить с собой (один раз принял большую дозу морфия, в другой раз привил себе возвратный тиф), но жизненные силы организма — моральные и физические — восторжествовали. Около 1881 года ученый расстался с пессимистическими настроениями и объявил себя философом оптимизма. Одна из его главных книг так и называется «Этюды оптимизма».
 Мечников в парижской лаборатории
Мечников в парижской лаборатории
Философские взгляды Ильи Ильича, разработанные и изложенные им как раз в парижский период, нашли заинтересованный отклик не только в России, но и во Франции. Конец XIX и начало ХХ веков были временем «торжества наук», особенно естественных, которые брались не только «все объяснить», но и многое исправить. Философия позитивизма, господствовавшая в то время во Франции, если не «отменяла» Бога полностью, то знаменовала собой решительный разрыв и с клерикализмом, и с традиционным религиозным мировоззрением в целом. Мечников хорошо вписался в господствующие идейные тенденции времени, но не следуя моде, а исходя из собственных, глубоко выстраданных воззрений. Как чистый позитивист он заявлял: «Мы не можем постичь неведомого, его планов и намерений. Оставим же в стороне Природу и будем заниматься тем, что доступно нашему уму». Уверенный, что только научные методы могут приблизить нас к познанию бытия, Илья Ильич дал центральному понятию своего мировоззрения название «ортобиоз», т. е. научная регуляция жизни. Однако, по мнению известного мыслителя-идеалиста и историка русской философии В. В. Зеньковского, в признании, что «человек есть существо ненормальное, больное, подлежащее ведению медицины», Мечников в программной книге «Этюды о природе человека» в некоторой степени приблизился к христианскому учению о «поврежденности природы», но как человек, преисполненный веры в мощь науки, был убежден в том, что «человек при помощи науки в состоянии исправить несовершенства своей природы». «У русских ученых, — заметил Зеньковский, — мы вообще часто находим попытки философски выразить то, что дали им специальные научные изыскания. Но почти все эти построения ограничены общими тенденциями эпохи, нашедшими свое выражение в позитивизме». Придя к убеждению, что смерть становится желанной в итоге длительной жизни, Мечников считал, что идеал для человека заключается в том, чтобы «достичь долгой, деятельной и бодрой старости, приводящей, в конечном периоде, к развитию чувства насыщения жизнью и к желанию смерти». «Величайшее счастье, — писал он, — заключается в нормальной эволюции чувства жизни, приводящего к спокойной старости и, наконец, к чувству насыщения жизнью». Для этого надо было переделать и физическую, и нравственную природу человека. Очевидно, что помимо личного опыта на него повлияла своеобразная культура умудренной опытом, но светлой «красивой старости», присущая французам — писателям и ученым, политикам и философам. Примеры Виктора Гюго, который на девятом десятке не только продуктивно работал, но и интересовался молодыми женщинами, и химика Мишеля-Эжена Шевреля, танцевавшего на банкете по случаю своего столетия в 1886 году, не могли пройти мимо Ильи Ильича, жившего в одно время и в одном городе с ними. А ведь Шеврель застал и Великую французскую революцию, и строительство Эйфелевой башни. От философского осмысления старости Мечников пришел к ее научному исследованию, став одним из создателей, наряду с Шеврелем, новой научной дисциплины — геронтологии. Это наука о старении организмов и «правильном» долголетии, ориентированном на продление полноценной жизни, а не на тоскливое ожидание смерти, как это случилось с главным героем повести Льва Толстого «Смерть Ивана Ильича», прототипом которого, как известно, послужил самый старший из братьев Мечниковых Иван (автор даже не изменил его имя). В январе 1900 года русские газеты взахлеб писали: «Из Парижа только что пришли вести о новом удивительном открытии нашего соотечественника профессора Мечникова. Это открытие если не сулит нам вечную молодость, то, во всяком случае, отсрочивает на много лет гибель человека — его смерть. Победить анемию можно увеличением в организме красных кровяных телец. Насколько именно может быть продлена человеческая жизнь, сказать нельзя, но, во всяком случае, в Англии в начале нынешнего столетия один старик дожил до 260 лет. Вот какая долгая жизнь предстоит людям, если профессору Мечникову удадутся его дальнейшие опыты, так блестяще начавшиеся. Очевидно, теперь взоры всего человечества будут направлены на институт Пастера в Париже — направлены со страхом и надеждой». Газетчики, как водится, переборщили — победить смерть никому так и не удалось. Однако работы Ильи Ильича в области геронтологии упрочили его всемирную славу, хотя далеко не все физиологи сразу признали их в должной степени научными. Зато его труды по проблемам иммунитета были в 1908 году отмечены Нобелевской премией в области медицины, которую он разделил с выдающимся немецким биохимиком Паулем Эрлихом. После Ивана Петровича Павлова, получившего эту премию в 1904 году, Мечников стал вторым нобелевским лауреатом среди русских ученых. Замечательный физиолог Иван Михайлович Сеченов с полным правом назвал его «гордостью русской науки». Добавлю, что уже в 1891 году Мечников получил степень почетного доктора Кембриджского университета, которая — особенно в случае присвоения ее иностранцу — высоко ценилась во всем мире. До Ильи Ильича из наших соотечественников ее получили Тургенев и Чайковский, а после него — такие выдающиеся люди, как Павлов, историк Павел Милюков, композитор Александр Глазунов, экономист Петр Струве, философ Николай Бердяев и другие.
 Лев Толстой и Илья Мечников в Ясной Поляне. 1909
Лев Толстой и Илья Мечников в Ясной Поляне. 1909
Илья Ильич прекрасно влился в академическую и интеллектуальную среду Франции, но не порывал отношений с родиной, куда ездил почти каждый год. В конце мая 1909 года он приехал к Толстому в Ясную Поляну, попросив о встрече. «Приезжает интересный для меня Мечников, — писал Толстой своему помощнику В. Г. Черткову, — к посещению которого готовлюсь, чтобы не оскорбить его неуважением к его деятельности, которой он посвятил свою жизнь и которую считает очень важной». Разговор получился интересный, но напряженный. «Когда мы со Львом Николаевичем поднялись в его рабочий кабинет, — вспоминал ученый, — он, пристально посмотрев на меня, спросил: „Скажите мне, а зачем вы, в сущности, приехали сюда?“». Не привыкший терять времени даром, Илья Ильич хотел и поделиться мыслями с великим писателем и мыслителем, и посмотреть на активную жизнь «яснополянского старца», разменявшего девятый десяток и не утратившего интереса к жизни. Моралист Толстой пенял гостю, что тот в своей философии забывает о нравственности и о необходимости смягчения страданий человека, сводя все к физиологии. Хотя и признал, что Илья Ильич произвел на него «самое благоприятное впечатление своей простотой и глубоким интересом ко всему». В 1913 году Мечникову предложили вернуться в Россию, чтобы возглавить Институт экспериментальной медицины. Он отказался, сославшись на возраст (68 лет) и болезни, а также на неспособность к административной работе. Начавшаяся годом позже Первая мировая война фактически отрезала пожилого ученого от родины, хотя в союзной Франции он был окружен всяческим почетом и уважением. Затяжная и кровавая бойня, о которой он ежедневно узнавал из газет, тяжело повлияла на душевное состояние Ильи Ильича — он не понимал, зачем люди это делают, как бы опровергая своим безумием его оптимизм и теории «научной организации жизни». Последние два года он почти не занимался практической работой, сосредоточившись на написании книги «Основатели современной медицины», где рядом с французом Пастером стоял немец Кох. «Следует надеяться, — оптимистически и, возможно, наивно писал он в предисловии, — что эта беспримерная бойня надолго отобьет охоту воевать и драться и вызовет в непродолжительном времени потребность более разумной работы». Илья Ильич умер в Париже 15 июля 1916 года в возрасте 71 года после нескольких инфарктов миокарда. По завещанию урна с его прахом была установлена в библиотеке Пастеровского института, которому он отдал лучшие годы своей жизни и работы. Еще при жизни Мечников стал символом русско-французского сотрудничества и, шире, «всемирной отзывчивости» русского гения, о которой так проникновенно и точно сказал Достоевский в знаменитой речи о Пушкине.
Глава шестая. «МАДОННЫ ЛИК, ВЗОР ХЕРУВИМА…»: ФРАНЦУЗСКИЙ ТЕАТР В РОССИИ
Французский театр в императорской России имел долгую и славную историю. Начиная с эпохи Екатерины II выступления французских трупп стали неотъемлемым атрибутом культурной и светской жизни Северной Пальмиры, как стали называть столицу Российской империи. Парижским звездам охотно покровительствовали сановные театралы, включая императоров и наследников престола. Золотой век русской сцены при Александре I, эпоха Нимфодоры Семеновой и Александры Колосовой, был немыслим без французской гастролерши Маргариты-Жозефины Жорж-Веммер, она же «девица Жорж», — трагической актрисы редкой силы, которую Пушкин в «Моих замечаниях о русском театре» несправедливо назвал бездушной. О более позднем времени пишет театровед М. Г. Литаврина: «Обратимся к примеру ярчайшему — Михайловскому театру в Петербурге[10]. Прочно обосновавшаяся в нем с тридцатых годов ХIХ века казенная (т. е. входившая в систему императорских театров. — В. М.) французская труппа имела от российского государства ассигнования, ощутимо превосходившие оплату русских актеров, и достигла высочайшего профессионализма, засвидетельствованного многочисленными хроникерами и историками… „Комеди Франсэз“[11] сама перешла сюда. Перед ее премьершами вроде Арну-Плесси, перекочевавшими на сцену Михайловского, преклонялись видные театралы России — от императора Николая до вольнодумца Герцена. Оставившие сцену Парижа Г. Вормс, М. Делапорт, С. Напталь-Арно успешно продолжали свою карьеру в течение многих лет на сцене Михайловского театра в российской столице». Следует добавить, что именно сюда съезжался весь высший свет — члены императорской фамилии, придворные, гвардейские офицеры, титулованные аристократы и иностранные дипломаты. До последней четверти ХIХ века влияние французского театра — драмы, оперы, балета — на русский было фактически односторонним. Затем ситуация начала меняться. Европейская, прежде всего французская, аудитория узнала Тургенева (в том числе как драматурга), Толстого и Достоевского, что стало для нее эпохальным открытием. Звезды европейской сцены ехали в Россию не на «гастрольный чес», а на своего рода экзамен, зная, что встретят достойных соперников и взыскательную публику, знающую и понимающую настоящее искусство. Успех в Петербурге стал необходим и для творческой самореализации, и для сценической карьеры. Летописец русского театра Александр Кугель
Летописец русского театра Александр Кугель
 Михайловский театр в Петербурге. Начало XX в.
Михайловский театр в Петербурге. Начало XX в.
В описываемое время из мужчин-гастролеров на русской сцене блистали итальянские трагики Эрнесто Росси и Томмазо Сальвини. Среди женщин доминировали француженки. Особенную популярность в нашей стране снискали драматические актрисы Сара Бернар (1844–1923) и Габриель Режан (настоящее имя Шарлотта Режю; 1856–1920), а также опереточная и комедийная артистка Анна Жюдик (1850–1911). Как мы сегодня можем оценить их игру или хотя бы составить о ней некое представление? Что осталось от их спектаклей, кроме редких фотографий? Только впечатления современников и отзывы критики — субъективные, а нередко и откровенно пристрастные. Делать нечего, приходится полагаться именно на них. Однако наш главный свидетель, театральный критик Александр Рафаилович Кугель (1864–1927), признан специалистами одним из самых понимающих и честных, умным и неподкупным. Но и он откровенно признавался: «Нет ничего печальнее на свете, чем передача театральных впечатлений… Хотите — верьте, хотите — нет. Может быть, сказка, может быть, миф; может быть, и ничего не было, а только привиделось». Критик скромничал: если та же Сара Бернар и «привиделась», то всей Европе. Кугель имел собственные взгляды на театр и его предназначение и многие десятилетия горячо отстаивал их, что, впрочем, не мешало ему искренне дружить со своими противниками, будь то Леонид Андреев или Владимир Немирович-Данченко, драматургию и эстетику которых он решительно не принимал. В отличие от большинства своих собратьев по перу Александр Рафаилович не стремился создавать или разрушать репутации, за чем нередко стояли личные интересы, а то и откровенные взятки. Кугель был не только хроникером и критиком, но и историком театра, стараясь сохранить для потомков волшебство сцены, а не только фактическую сторону дела. Поэтому его статьи, особенно блестящие «Театральные портреты», с интересом читаются и сегодня. Сурово критикуя актеров за отступление от эстетических и этических норм «высокого искусства», он неизменно оставался их другом и защитником в профессиональном плане и резко осуждал режиссерский произвол, который видел в деятельности Станиславского и особенно Мейерхольда. «Я видел Сару Бернар множество раз и всякий раз получал большое удовольствие, — признавался Кугель. — Я отчетливо помню удивительные по правде и силе выражения, ноты и жесты, вижу ее глаза, слышу обольстительные слова. Из тысяч театральных снов, которые мне снились, сон о Саре Бернар один из самых оригинальных и сложно-занимательных». В ХХ веке Сару Бернар назвали первой суперзвездой. Любители статистики подсчитали, что если склеить все посвященные ей публикации, то этой лентой можно опоясать экватор, а если положить друг на друга все ее снимки, опубликованные в прессе, то по высоте выйдет как раз Эйфелева башня. Еще при жизни она стала легендой и как женщина, и как актриса. Дочь красивой еврейки-музыкантши, она получила воспитание в монастыре, но только отточила там свой сильный и своевольный характер. В 18 лет она впервые вышла на сцену «Комеди Франсэз», покорив зрителей не столько игрой, сколько красотой, хотя худые актрисы — а Сара Бернар была исключительно худа — в то время красивыми не считались. Но она переломила все стандарты и стереотипы. «Слава Сары Бернар создавалась из всего, — вспоминал Кугель уже после смерти великой актрисы. — И эта необычная худоба создала ей славу. Она была стремительного нрава, но как туалетами подчеркивала свою худобу, так, вооружившись хлыстом, случалось, доводила свою необузданность до бешеной грации. Она много любила, и каждый роман ее был сенсацией. Она ценила эффект романтических контрастов. Она необычайно гримировалась. Она гримировала многое, что не принято было гримировать, вроде кончиков пальцев, которые она красила, и тогда игра пальцев приобретала особую живописность. Она была вообще замечательная гримировщица — на сцене и в жизни». Игра Сары Бернар редко кого оставляла равнодушной — и друзей, и врагов. Великий Гюго был в восторге, но не менее великий Тургенев считал ее безвкусной и бездарной. Позже она пленила Станиславского, но Чехов увидел в ее игре «не что иное, как безукоризненно и умно заученный урок». Когда в 1881 году, во время первых гастролей в России, в Зимнем дворце ее представляли Александру III, она приготовилась сделать глубокий реверанс, как того требовал придворный этикет, но молодой император остановил ее словами: «Нет, мадам, это я должен склониться перед вами».
 Сара Бернар в роли Клеопатры. 1899
Сара Бернар в роли Клеопатры. 1899
Оценивая ее игру в пьесе «Клеопатра» модного драматурга Викторьена Сарду, мастера квазиисторической мелодрамы, во время московских гастролей 1892 года, критик Иван Иванов писал в журнале «Артист», что «общая сценическая фигура египетской царицы у С. Бернар в высшей степени ярка, интересна и правдива». При этом он отмечал, что знаменитая гастролерша «модернизирует образ египетской царицы», что она «скорее международная чаровательница сердец, чем античная нильская змейка». Сказано красиво, но наивно. Ни драматург, ни тем более сама звезда не стремились к «исторической правде», тем более если речь шла о столь далеких временах. Какой «на самом деле» была Клеопатра? Никому не известно. Кугель, видевший этот спектакль, и много лет спустя захлебывался от восторга: «Вот Клеопатра — какая царица! Какая нильская змея! Все, что могла дать культура Франции и старая еврейская раса, быть может, где-то, в каких-то нервных центрах или извилинах мозжечка хранившая еще воспоминания о стране пирамид, и красота скульптурных форм, изученная на практике, и вся сумма „ума холодных наблюдений и сердца горестных замет“[12] — все было тут». Девятнадцатилетний гимназист Валерий Брюсов, назвавший в дневнике этот спектакль «важнейшим событием недели», с молодой самоуверенностью заявил, что «Сара холодна, как лягушка». Но куда более искушенный и чуткий театрал князь Сергей Волконский утверждал: «Она прекрасно владела полярностью переживаний — от радости к горю, от счастья к ужасу, от ласки к ярости — тончайшая нюансировка человеческих чувств. Последняя ступень мастерства — ее взрывы… Как она умела принизиться, чтобы вскочить, собраться, чтобы броситься». Кроме Клеопатры, русский зритель конца XIX — начала ХХ веков имел возможность видеть все лучшие роли Сары Бернар, включая Маргариту Готье в «Даме с камелиями» Александра Дюма-сына и Орленка, несчастного сына Наполеона герцога Рейхштадтского, в одноименной пьесе Эдмона Ростана. Восторг, вызванный ее игрой в «Даме с камелиями», — может быть, неглубокой, но удивительно сценичной пьесе, — был понятен и предсказуем. Более трех тысяч раз она выходила на сцену в роли Маргариты Готье — и всегда с успехом! Этот шедевр, по словам Кугеля, «был памятен по нежной женственности и грации первых актов, по изяществу и стилю, по этой, какой-то совершенно исключительной, выразительности ее плачущих рук и рыдающей спины — и всего менее в сценах внутреннего переживания и великой скорби».
 Сара Бернар в роли Маргариты Готье. 1882
Сара Бернар в роли Маргариты Готье. 1882
Современники, в том числе в нашей стране, невольно сравнивали Сару Бернар с ее не менее прославленной современницей и соперницей — итальянкой Элеонорой Дузе, «образцом гениальной неврастении», как писали в то время. Сегодня спорить о том, кто из двух великих актрис более велик, не имеет смысла, а столетие назад все определялось личными пристрастиями зрителей и критиков. Бернар была более знаменита в том смысле, что ее известность не ограничивалась сценой, а создавалась, как верно отметил Кугель, «из всего». Она была «культовой фигурой», как принято выражаться в наши дни, в то время как Дузе — прежде всего актрисой. Они играли одни и те же роли, толкуя их по-разному. Тот же Кугель считал, что в «Клеопатре» Дузе — гениальная трагическая актриса — явно превосходила соперницу-француженку, которой не хватало «силы трагической интуиции». Зато в такой «стопроцентно французской» пьесе, как «Дама с камелиями», в которой Дузе, разумеется, тоже играла, в том числе и на русской сцене, итальянка, по мнению Кугеля, «была жалка в сравнении с Сарой Бернар. Дузе была просто страдающей женщиной, с дешевеньким букетиком пармских фиалок, приколотым к корсажу. Но мы все же плакали, глядя на ее страдания, плакали вообще, из сочувствия к вселенскому горю. Сарой Бернар мы восхищались. Нельзя лучше изобразить женщину определенного круга, дешевое великолепие ее социальной профессии и глубокое, где-то очень спрятанное чувство безысходной неудовлетворенности. В трагических местах ей не хватало способности сочувственно заражать зрителя муками и страданиями своей души. Нет, тут не было „вселенского страдания“, а был необычайной художественности документ социальной культуры. Натура, нравственные запросы души, влечение сердца — все это приобретает совершенно особые черты и свойства, именно черты и свойства социального типа». Искушенный русский зритель конца XIX века ценил в драме не только трагизм «вне времени и пространства», как у Дузе, но и социальность, жизненность и узнаваемость изображаемых типов. И это, безусловно, было одной из причин непреходящей популярности Сары Бернар в России, куда она последний раз приезжала в 1908 году. Популярный театральный критик Юрий Беляев приветствовал начало ее гастролей в столице: «Когда я вижу ее, слушаю, читаю о ней, мне кажется, что существуют на свете сказки. Эта волшебница, заворожившая мир своим чудодейственным даром, своим серебряным голосом и мерцанием продолговатых глаз, стоит в моем воображении на грани возможного». Ее вторая культовая роль — Орленок — стала самой удивительной. В 56 лет, уже не такая худая, как в молодости, она решила сыграть романтического юношу, использовав, по ироническому замечанию одного из критиков, «единственный оставшийся ресурс женщины: безбородое лицо». За свою жизнь она вообще переиграла множество мужских ролей, включая пажа Керубино из «Женитьбы Фигаро» Бомарше и даже Гамлета. Мастер романтической декламации, Ростан как будто писал для юных, восторженных зрителей и юных актеров, переживающих все с особой остротой. Насчет зрителей он не ошибся — в Орленка, с отрочества и на всю жизнь, влюбилась Марина Цветаева. Но сделала эту роль и эту пьесу бессмертной именно зрелая, умудренная жизнью и сценой Сара Бернар.
 Сара Бернар в роли Орленка. 1900
Сара Бернар в роли Орленка. 1900
Премьера пьесы состоялась в театре Сары Бернар в Париже 15 марта 1900 года. Русские газеты немедленно сообщили о спектакле, оценив его как «сплошной триумф для автора, артистки и ее партнеров» и «самый крупный театральный успех сезона». «Кричащий драматизм положений, страшная сила монологов Сары Бернар, превосходный ансамбль, декорации пленяют вас и захватывают до глубины души», — писало влиятельное «Новое время». Кугель, смотревший «Орленка» в Париже через несколько месяцев после премьеры, критически отозвался о содержании пьесы, которое посчитал шовинистическим: страдания юного французского герцога при дворе его деда — австрийского императора, — и о ее языке, но признал успех спектакля. В начале следующего года нашумевшая пьеса вышла в России в прекрасном, до сих пор переиздающемся стихотворном переводе Татьяны Щепкиной-Куперник. Десятого (24) апреля 1901 года «Орленок» был поставлен в Петербурге независимой труппой, которой руководила одна из лучших русских актрис рубежа XIX–XX веков Лидия Яворская, подруга Щепкиной-Куперник, которая сделала перевод специально для нее. В «Орленке» Яворская, которую современники часто сравнивали с великой француженкой, заслужила похвалы публики и ценителей. Игру Сары Бернар в этой роли она не видела и не могла копировать, но, безусловно, использовала ее творческий опыт. Знавшая огромную популярность при жизни, но забытая ныне Габриель Режан во многих отношениях была противоположностью Бернар. В конце XIX века она считалась подлинным и единственным олицетворением парижанки. Что это значит? Одна из петербургских газет по случаю очередных гастролей Режан в России предложила читателям такое объяснение: «Настоящая парижанка с ног до головы оденется вам на сто франков (скромная сумма даже по тем временам. — В. М.), и вы будете поражены ее шиком. Простое черное платье, какой-нибудь бантик вместо галстука, самая дешевенькая шляпа, но так надетая, как ни одна женщина в мире надеть не сумеет, простой зонтик — вот сам весь шик парижанки. Вечером, накинув на половину лица вуалетку, небрежно озираясь по сторонам, она спешит на свидание со своим милым, и уже по тому, как она поднимает кончик платья, вы сразу видите: да, это парижанка». Объяснение красочное, но не совсем понятное. Это попытка зафиксировать облик героинь, которых играла Режан, — актриса, по оценке Кугеля, из числа «наводящих на образ, но не рисующих его». Вот как этот блестящий знаток театра попытался описать «парижскую психологию» Режан на сцене: «Человек никогда во всю ширь легких не смеется и никогда с полным отчаянием не плачет, но только усмехается и только утирает набежавшую слезу… По убеждению парижанина, искренний смех звучит вульгарно, а горькие слезы жгут лицо и портят его цвет. Это психология догадок и недомолвок, условностей и приличий, намеков и полуслов». Современник-француз оценил психологический тип Режан еще резче: «Красота без красоты, безнравственность без пороков, ничто, способное на все, — вот что такое парижанка».
 Габриель Режан
Габриель Режан
В Европе Режан имела огромный успех, причем не только во Франции, но и в Германии, куда Сара Бернар после франко-прусской войны 1870–1871 годов почти не ездила из патриотических соображений. Немецкий критик и публицист Максимилиан Гарден, демократ в политике и эстет в искусстве, считавшийся выразителем тонкого и слегка тронутого тленом духа «конца века», восхищался Режан как наиболее совершенным воплощением на сцене типа современной женщины — в противоположность «вечным» героиням Бернар или Дузе. Ее игра была окрашена изящной иронией, свойственной французской драматургии второй половины XIX века. Русскому зрителю это, однако, было не столь близко. «Ирония ведь утешение и наслаждение усталых, которые уже не верят ни во что, даже в самих себя, — замечал романтик и идеалист Кугель. — Естественный, здоровый человек не знает и не понимает иронических побуждений. Наличие их уже доказывает перезрелость культуры, утрату веры и поврежденные основы». И в доказательство цитировал знаменитые стихи Некрасова:
 Габриель Режан в роли Норы. 1900
Габриель Режан в роли Норы. 1900
Во время гастролей Режан в России Кугель, как и все другие записные театралы, не пропускал ни одного заметного спектакля с ней. Актриса любила русскую публику, хотя, может быть, не очень хорошо понимала ее. И русская публика любила французские «комедии положений», в которых Режан блистала и в зрелые годы. «В ней есть — еще до сих пор, до шестидесяти лет — секрет вечной женственности, какая-то особая мягкая наивность, придающая пикантность нескромным вещам и нескромным положениям. В голосе ее нет рыдания, а есть неожиданное тремоло[13] набегающей слезы. Она дразнит воображение, чувство, ум. Вы никогда не можете ее понять всю, охватить всю, исчерпать всю, пронзить всю. Она близка и далека. Вот-вот, кажется, она взволнует вас, опрокинет душу… но нараставшее чувство охлаждено. Это скорее кокетство сценическим искусством, чем искусство. Может быть, в этой холодной теплоте и тепловатой холодности секрет того, что французские актрисы и в шестьдесят лет еще нравятся и вызывают интерес?» А может, дело все-таки в несомненном таланте… Ведь Режан играла — и не без успеха — такие сугубо трагические роли, как Нора в знаменитой драме Генрика Ибсена «Кукольный дом». Русский зритель рубежа веков любил Ибсена и с интересом оценивал различные интерпретации пьес гениального норвежца. Неслучайно в игре Лидии Яворской, яркой представительницы «новых течений» в театре, критика усматривала творческое усвоение уроков и Сары Бернар, и Габриель Режан. В ярком, хотя и не вполне справедливом театральном портрете Режан Кугель сравнил ее с третьей героиней этой главы — певицей и опереточной артисткой Анной Жюдик. Для театрального критика сравнение рискованное и явно не в пользу первой из актрис: оперетта, несмотря на всю свою бешеную популярность, «высоким искусством» не считалась и не могла считаться. Критик это понимал и сравнение сделал осторожное: не актерской игры как таковой, что было бы проявлением непрофессионализма, но выразительности каждой в своем жанре. Русский зритель узнал и полюбил Анну Жюдик еще в 1870-е годы. Ее имя мелькает не только в театральной критике и светской хронике, но и втаком зеркале эпохи, как очерки Салтыкова-Щедрина или стихи Некрасова:
 Анна Жюдик. 1875
Анна Жюдик. 1875
В написанном о ней нередко царит иронический тон, но иронизировали по большому счету над «легким жанром» и его популярностью в ущерб «высокому искусству». Юная, веселая и грациозная француженка с прекрасным голосом, не претендовавшая на серьезность, очаровала публику. «Вся она была грация, — писал Кугель, видевший ее „правда, не в самом расцвете сил, а когда она уже была чуть-чуть на излете“, — тонкость, нежность, лирика, прерывающаяся взрывами шаловливого, но отменно изящного смеха. Жюдик была маркизой оперетки. Что за нежное создание было перед нами!» Одни критиковали оперетту за «легкомысленность» и «несерьезность», другие, напротив, за излишний демократизм, но любили по большому счету все. Демократизм традиционно был одной из лучших черт русского театра, куда при наличии приличного костюма и умении вести себя в обществе допускались представители всех сословий, но каждый в свою «зону». Этим же, начиная с Великой революции, отличался и французский театр. Драматические спектакли, особенно популярные в ту эпоху трагедии из античной и средневековой истории, требовали определенных знаний, а потому были понятны не всем. Сила оперетты была в ее общедоступности. Путь к «высокому искусству» лежал через «легкий жанр». Королями оперетты в то время считались французы Жак Оффенбах («Орфей в аду» и «Прекрасная Елена») и Флоримон Эрве («Мадемуазель Нитуш» и «Возраст любви») — классики жанра, сочетавшие игривую легкомысленность со злободневными намеками, узнаваемость персонажей с невероятными сюжетами, иронию и наивность. Русский зритель, всегда любивший без злости посмеяться, принял это, как говорится, на ура. Анна Жюдик — сочетание милого лукавства, немного показной стыдливости, благовоспитанности и балансирования на грани приличия — запомнилась зрителям «стыдящейся и потому особенно греховной, кокетливой и потому скромной, стесняющейся и оттого такой пикантной». Помимо блистательных успехов в оперетте, Жюдик принесла на русскую сцену новый жанр — шансонетку, мелодичную, легко запоминающуюся песенку (так переводится французское слово chansonette, в отличие от более общего chanson, т. е. песня), как правило, игривого содержания. Цензура Российской империи, стоявшая на страже нравственности своих подданных и боровшаяся с разного рода крамолой, отличалась консерватизмом и строгостью нравов, переходящей в ханжество. Для французских шансонеток было сделано приметное исключение, хотя в них можно было усмотреть не только «разврат», но и проповедь «республиканского духа». Видимо, здесь сказали свое слово не только зрительские симпатии, но и «высокая политика» эпохи Сердечного Согласия. Что же представляли собой шансонетки Жюдик? Слушавший их и в России, и во Франции, Кугель — при всей его серьезности и требовательности — был пленен. «У Жюдик был очаровательный, мягкий, теплый голос, чудесно поставленный, сохранивший свои милые модуляции и свою теплоту до конца дней ее. Жюдик была артистка с ног до головы, вся — поэзия, ум, мера, вкус… Она умела вплетать нежную фиалку лирики в самые яркие букеты нескромностей. Местами очень фривольно, но у Жюдик все выходило поэтично… Меня больше всего пленяла именно эта тончайшая лирика Жюдик… Содержание шансонетки, да и форма ее, да и музыка не представляют ничего интересного, но Жюдик умела в этой тривиальной безделке давать, так сказать, суммарную философию буржуазки». «Да, все это было прекрасно — этот нежный узор догоревших огней», — закончил Кугель рассказ о ее выступлении, которое слышал в 1900 году в Париже. Громкая слава была уже позади, но талант не угас. Жюдик принесла в Россию мир французского кафешантана (дословно «поющее кафе»). Слово это часто употреблялось у нас в пренебрежительном смысле, как символ чего-то несерьезного, неосновательного, недостойного внимания, а то и не вполне приличного. Однако в республиканской Франции, в повседневной жизни которой политические страсти играли большую роль, даже массовая культура оказалась политизированной. Русско-французское сближение, а затем и союз стали популярной темой как патриотических, так и легкомысленных песенок, что немало способствовало популярности России и русских у их новых союзников. Одну из них под заглавием «Ничего!», не переведенным на французский язык, и девизом «Привет России!» под гром аплодисментов исполняла молодая соперница Жюдик — «дитя бульваров» Иветта Гильбер.
Глава седьмая. «ПУТЕВОДНАЯ ЗВЕЗДА В ТУМАНЕ»: ФРАНЦУЗСКИЕ УЧИТЕЛЯ ВАЛЕРИЯ БРЮСОВА
О русско-французских литературных связях написано множество книг — и в России, и во Франции. Целую книгу о них можно написать даже на материале рассматриваемого нами периода — немногим более десяти лет — причем имена в ней будут самые что ни на есть знаменитые. Но я выбрал только один сюжет и одно имя. Имя — общеизвестное. Сюжет — менее известный, но исключительно важный и для истории русской литературы в целом, и для нашей темы в частности. Валерий Брюсов. 1893. Фото, приложенное к прошению о приеме в Московский университет
Валерий Брюсов. 1893. Фото, приложенное к прошению о приеме в Московский университет
Четвертого (16) марта 1893 года девятнадцатилетний Валерий Яковлевич Брюсов, ученик выпускного класса частной гимназии Льва Поливанова в Москве, занес в свой дневник следующие строки: «Талант, даже гений, честно дадут только медленный успех, если дадут его. Это мало! Мне мало! Надо выбрать иное. Без догматов можно плыть всюду. Найти путеводную звезду в тумане. И я вижу их: это декадентство и спиритизм. Да! Что ни говорить, ложны ли они, смешны ли, но они идут вперед, развиваются, и будущее будет принадлежать им, особенно когда они найдут достойного вождя. А этим вождем буду я! Да, я!» Эти слова впервые появились в печати в 1927 году, через три года после смерти их автора (правда, без упоминания о спиритизме, поклонником которого в то время был Брюсов), и с тех пор цитировались бесчисленное количество раз. Что стояло за ними — юношеский задор или мания величия, откровение или строгий расчет? Вероятно, все это вместе. Но предсказанное сбылось, причем полностью. Валерий Брюсов действительно стал основателем и вождем русского символизма как литературного направления, «последнего великого течения русской литературы», как через много лет назвала его Анна Ахматова. Но какое отношение это имеет к нашей теме, кроме хронологического? Самое прямое. Месяцем раньше Брюсов прочитал в гимназии свое стихотворение:
 Шарль Бодлер
Шарль Бодлер
Поэтический ветер дул из Франции и имел расхожее название «декадентство», от французских слов decadent, что значит «упадочный, разлагающийся», и decadence — «упадок». Этим собирательным термином недоброжелательные критики называли те явления литературы, которые считали «больными», «изломанными», «надуманными», «вычурными» и которым противопоставляли «здоровые», а главное, понятные произведения эпигонов реализма или романтизма[14]. В «декаденты» записывали умерших и здравствующих: Шарля Бодлера (1821–1867) и Поля Верлена (1844–1896), Артюра Рембо (1854–1891) и Стефана Малларме (1842–1898), чьи произведения давно составляют гордость французской и мировой поэзии, а тогда считались почти что неприличными. Представители более младшего поколения, почитавшие Бодлера, Верлена и Малларме как своих учителей (у Рембо литературные наследники появились позже), предпочитали называться «прóклятыми поэтами», как Тристан Корбьер (1845–1875) и Морис Роллина (1846–1903), «символистами», как Жан Мореас (1856–1910), автор самого термина «символизм», Жюль Лафорг (1860–1887) или Лоран Тальяд (1854–1919), или вовсе обходились без обозначения школ и направлений, как бельгийцы Эмиль Верхарн (1855–1916) и Морис Метерлинк (1862–1949), оказавшие огромное влияние на французскую поэзию. В ту пору в России их знали мало — главным образом потому, что мало знали и во Франции. Исключением был Бодлер, которого начали переводить еще в 1860-е годы, но на него обратили внимание не эстеты, а поэты-демократы, критики царского режима и непримиримые противники всяких «красивостей». Судьба «русского Бодлера» оказалась парадоксальной: первое отдельное издание переводов его стихотворений увидело свет в Москве в 1895 году без обозначения имени переводчика, но с предисловием Константина Бальмонта — звезды только что народившегося русского символизма и многолетнего «друга-врага» Брюсова, с которым он познакомился годом раньше. Назвав Бодлера «певцом тоски, порочности и смерти», Бальмонт завершил предисловие собственными стихами о французском поэте:
 Первое русское издание стихотворений Бодлера. 1895. Собрание В. Э. Молодякова
Первое русское издание стихотворений Бодлера. 1895. Собрание В. Э. Молодякова
Полтора десятилетия спустя, подводя итоги своей работы и раздумывая о русской судьбе Бодлера, Якубович с горечью писал: «В России в то время (1879 год, когда он начал работать над переводами. — В. М.) неизвестно было даже само слово „декадент“, и естественно, что в поэзии Бодлера я обратил внимание главным образом на то, что в ней было истинно поэтического, а к тем ее сторонам и чертам, которые впоследствии так незаслуженно прошумели и создали целую школу кривляющихся поэтов, отнесся с равнодушной снисходительностью, как к больным причудам и капризам великого поэта». Можно сказать, что Якубович махал кулаками после драки, поскольку «кривляющиеся поэты», как он назвал символистов, к тому времени не только создали мощную литературную школу и вернули русской поэзии ее былую славу, но и на много десятилетий определили облик «русского Бодлера». Не отрицая достоинств переводов Якубовича, необходимо признать, что опыты «декадентов» в этом отношении оказались гораздо удачнее. Но молодого Брюсова больше пленил не Бодлер, мрачный и инфернальный певец «цветов зла», как называлась его самая знаменитая книга, а нежный и меланхоличный Поль Верлен. Его стихи Валерий Яковлевич открыл для себя осенью 1892 года, после того как прочитал в известном и респектабельном журнале «Вестник Европы» статью критика Зинаиды Венгеровой «Поэты-символисты во Франции». Будущий отец русского символизма, как примерный ученик, тщательно законспектировал ее в рабочей тетради, со множеством сокращений и пометок для себя: «Поэты-символисты. Основатели школы (во Франции) — Поль Верлен (1 сбор<ник> вышел <в 18>65 г. — реформировал и размер. Перелом в деят<ельности> — по напр<авлению> к символизму в <18>71 г. С <18>81 года увлекся католичеством) и Маллармэ — (пишет непонятно, понимают лишь посвященные). Артур Римбо (наименее понятный)* Жюль Лафорг (музыкальность). Роденбах, Тальяд, Г. Кан, Маргерит, Ренье, Мерсо. Жан Мореас (стоит несколько особо). Из статьи Зин. Венгеровой „В<естник> Е<вропы>“, <18>92, № 9. *Пис<ал> <18>69-<18>71 (лет 18), а в нач<але> 80<-х> год<ов> исчез, не напечатав ни одного стих<отворения>. Верл<ен> тщат<ельно> сохра<нил> уцелевшие и превозн<осил> его гениальн<ость>». Издания французских поэтов, сборники и антологии с их стихами свободно продавались в Москве, но почти не находили покупателей. Брюсов пополнял ими свою библиотеку в магазине Александра Ланга на Кузнецком мосту. Сын книгопродавца, тоже Александр — по воспоминаниям современников, «странный долговязый юноша с темными безумными глазами» — был одним из ближайших гимназических друзей Валерия Яковлевича и стал первым участником его литературных проектов. Брюсов принялся переводить Верлена в конце 1892 года. Именно им было навеяно то стихотворение, над которым ехидно, но не зло посмеялся Поливанов. «Мой томик Верлена брал у меня учитель французского языка, — вспоминал позже Валерий Яковлевич, — читал и, кажется, кое-чем остался доволен». Весной 1893 года он принялся за перевод стихов и прозы Стефана Малларме, произведения которого казались большинству современников образцом бессмыслицы: гимназического учителя французского языка «Малларме привел в отчаяние». Честолюбивый юноша сразу же задумался о публикации своих опытов и обратился в несколько редакций, где у него имелись кое-какие знакомства. Однако, даже несмотря на знакомства, переводы энтузиазма не вызвали. Дело было не столько в юном возрасте или качестве работы начинающего переводчика, сколько в незавидном положении стихов в тогдашнем журнальном мире, где они, за исключением произведений немногочисленных признанных мэтров, воспринимались как «второй», а то и «третий сорт» литературы. Чтобы облегчить «проталкивание» своих переводов, Брюсов написал статью о Верлене — первую в России! — и работал над статьей о Малларме, чтобы представить этих авторов русскому читателю. Чем же именно Брюсов пытался заинтересовать русского читателя, незнакомого с новинками французской поэзии? «На Поля Верлена как на поэта-декадента у нас смотрят с пренебрежением, — начал он литературный портрет своего кумира, — между тем знакомство с его поэзией представляет глубокий интерес. Прежде всего надо указать на то, что Верлен обладает действительно значительным дарованием… Истинный талант всегда достоин внимания, даже когда стоит на ложном пути». Последняя осторожная оговорка предназначалась не столько для читателей, сколько для строгих и придирчивых критиков, равно как и такие слова: «Известность всех этих Малларме, Гилей, Пеладанов основана на простом любопытстве, которое возбуждают их странные творения».
 Поль Верлен. Рисунок Л. Анкетена. 1895. Из книги В. Брюсова «Французские лирики XIX века» (1909). Собрание В. Э. Молодякова
Поль Верлен. Рисунок Л. Анкетена. 1895. Из книги В. Брюсова «Французские лирики XIX века» (1909). Собрание В. Э. Молодякова
Здесь Валерий Яковлевич покривил душой, потому что уже не только переводил Малларме, но и намеревался опубликовать эти переводы. Объявивший себя Великим Мастером ордена Розенкрейцеров и носителем древнего титула «Сар», который его предки якобы получили от… королей Вавилона, Жозефин Пеладан сегодня больше памятен как оккультист, нежели писатель. Другое дело поэт и теоретик Рене Гильбер, выступавший под именем Рене Гиль. Через десять лет этот не слишком талантливый, но трудолюбивый и амбициозный литератор, создавший теорию «научной поэзии», познакомится с Брюсовым и станет писать статьи о французской поэзии для журналов «Весы» и «Русская мысль», в редактировании которых Валерий Яковлевич принимал ближайшее участие. Не особо читаемый и почитаемый у себя на родине, Рене Гиль в России выступал как посол всей французской словесности. Но это уже совсем другая эпоха. Статья о Верлене имела компилятивный характер и была составлена по доступным в Москве французским источникам. Однако Брюсов попытался — и не без успеха — нарисовать портрет любимого поэта, которого в России знали только понаслышке. «Верлен принадлежит к тому типу людей, который создала разлагающаяся цивилизация Запада, — писал он, приноравливаясь к тону и стилю тогдашней литературной критики. — Передавая, как поэт очень субъективный, почти исключительно чувства и настроения, Верлен передает этим чувства и настроения всех людей того же типа. Поэзия Верлена — это памятник души современного западного человека, одаренной утонченной организацией, измученной постоянным мелким самоанализом и утомленной пустым эгоизмом… Лучшим материалом для биографии Верлена служат его произведения. Он не только рассказывает в стихотворениях важнейшие моменты своей жизни, но и вообще постоянно выставляет напоказ свою частную жизнь… Таким образом, кроме литературного значения, произведения Верлена имеют еще интерес исторический. Они — важный документ для изучения своего времени и нравов». Далее следовало изложение основных этапов биографии поэта, иллюстрированное переводами его стихов. «Длинный и неровный путь прошел Верлен в жизни, — заключил юный Брюсов изложение биографии поэта, который был на тридцать лет старше его. — Вот светлые надежды юности; вот первая чистая любовь и буря следующих лет; вот покаяние у подножия креста, слава, пришедшая немного поздно, новые сомнения и новая любовь. Все это перечувствовано, мало того, все это воплощено в ряде созданий. Неудивительно, что на склоне жизни поэт все чаще и чаще начинает задумываться над своей жизнью, своей деятельностью. Ему хочется подвести итоги своим трудам. Поэт чувствует за собой заслуги, но его тревожит вопрос, не были ли ошибками его стихи греха и наслаждений (т. е. декадентство. — В. М.). Впрочем, даже осуждая их, Верлен не хочет отвергнуть их: слишком дороги они ему, так как все, выраженное в них, было когда-то пережито». И вот окончательный вывод, обращенный к читателю, который, возможно, еще не готов принимать всерьез «декадентские штучки»: «Непонятность Верлена зависит не от того, чтобы он преднамеренно набирал темные образы, а от непонятности, исключительности тех настроений, которые изображает поэт. Таким образом, произведения Верлена смело может взять каждый истинный ценитель поэзии, который ищет эстетического наслаждения, впечатлений и образов… Конечно, кое-что покажется ему странным, слишком смелым, но талант автора не даст задуматься над этим и, во всяком случае, искупит маленькие недостатки. Что касается до своих лучших творений, как „Романсы без слов“, то ими Верлен-поэт создал себе вечный памятник в литературе. Имя его не будет забыто как имя одного из лучших лириков и как поэта, твердо державшего знамя чистой поэзии в тяжелые годы гонения на нее». Сказано, может быть, немного пафосно, но верно, хотя подлинное признание Верлена было еще впереди. Не рассчитывая на восторженный прием своих опытов, Брюсов все же надеялся, что произведения признанного — пусть только в литературных кругах — французского поэта заинтересуют редакторов и читателей, испытывавших немалый пиетет перед европейской литературной модой. Однако из этого ничего не вышло: статья осталась в бумагах поэта и пролежала ненапечатанной почти сто лет. Тогда Валерий Яковлевич решил предстать перед публикой как автор отдельной книги, выпустив ее за свой счет. Первоначально она называлась «Символизм. (Подражания и переводы)», но по ряду причин этот замысел не осуществился. Зато осуществился другой. Тридцатого декабря 1893 года (11 января 1894 года) цензура разрешила выпуск тоненькой тетрадки с громким названием «Русские символисты» и двумя фамилиями на обложке: Валерий Брюсов и А. Л. Миропольский. Миропольским назвал себя Ланг, которому отец не разрешил выступать в печати под собственной, известной в Москве фамилией, не веря в литературные достоинства его первых опытов. Издателем книжечки, увидевшей свет в конце февраля 1894 года, числился Владимир Александрович Маслов, просивший присылать ему рукописи на московский почтамт до востребования. Под этим именем тоже скрывался Брюсов, открывший сборник таким «прологом»:
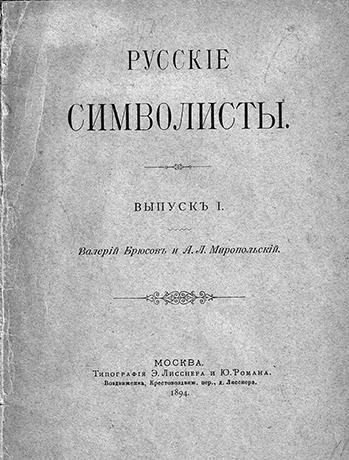 Русские символисты. Выпуск первый. 1894. Собрание В. Э. Молодякова
Русские символисты. Выпуск первый. 1894. Собрание В. Э. Молодякова
«Эта тетрадка имеет несомненные достоинства, — писал Соловьев в том самом „Вестнике Европы“, из которого Брюсов впервые узнал о существовании символизма. — Она не отягощает читателя своими размерами и отчасти увеселяет своим содержанием. Удовольствие начинается с эпиграфа, взятого г. Валерием Брюсовым у французского декадента Стефана Малларме… Общего суждения о г. Валерии Брюсове, — заключал строгий критик, — нельзя произнести, не зная его возраста. Если ему не более 14 лет, то из него может выйти порядочный стихотворец, а может и ничего не выйти. Если же это человек взрослый, то, конечно, всякие литературные надежды неуместны». Брюсову только что исполнилось 20 лет, и он уже в полной мере осознал, что «рожден поэтом». Соловьев ошибся, хотя сам как поэт был вовсе не чужд «новых веяний».
 Владимир Соловьев
Владимир Соловьев
Так что же, первый опыт пересадки цветов французского декадентства на русскую почву окончился провалом? Ничуть не бывало. Скандал вокруг первого сборника привлек к нему внимание и побудил Брюсова работать дальше. Двадцать третьего августа (4 сентября) 1894 года цензура разрешила второй выпуск «Русских символистов», который был напечатан в начале октября того же года. На сей раз число авторов дошло до восьми, а переводчиков — до четырех. Правда, под большей частью этих имен — Валерий Брюсов, В. Даров, Ф. К., К. Созонтов, З. Фукс, А. Бронин и *** — скрывался сам Валерий Яковлевич, продолжавший выступать и под маской издателя В. А. Маслова. Однако рукописи теперь просили присылать на Цветной бульвар, в собственный дом Брюсова. Склад издания был в магазине Ланга-старшего: против того, чтобы продавать эти книжки, он не возражал… Предисловие Брюсова в форме письма к «очаровательной незнакомке» стало одним из первых манифестов именно русского символизма, не скрывавшего свою связь с французской поэзией, причем не только символистской, но и обозначившего имевшиеся между ними расхождения и различия. «От символизма, — заявлял Валерий Яковлевич, — необходимо отделять некоторые, несомненно чуждые ему элементы, присоединившиеся к нему во Франции. Таков мистицизм, таково стремление реформировать стихосложение и связанное с ним введение старинных стихов и размеров, таковы полуспиритические теории. Все это в символизме случайные примеси». Может быть, поэтому в сборнике всего четыре перевода с французского, причем из относительно респектабельных авторов: два из Верлена, один из Малларме, один из забытой поэтессы первой половины XIX века Марселины Дебор-Вальмор. Вот как зазвучал по-русски Верлен в переводе Брюсова:
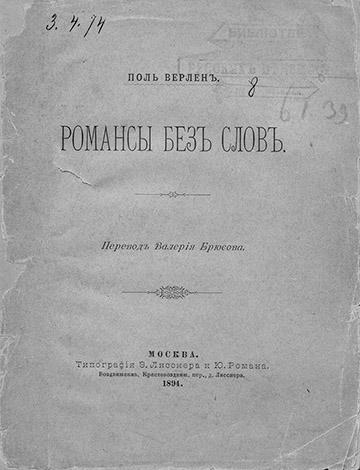 «Романсы без слов» в переводе Брюсова. 1894. Собрание В. Э. Молодякова
«Романсы без слов» в переводе Брюсова. 1894. Собрание В. Э. Молодякова
Краткое предисловие переводчика открывалось декларацией: «Верлен один из самых субъективных поэтов». Не давая очерк его жизни и творчества (этот текст, как мы помним, остался в рукописи), Брюсов ограничился указанием на то, какое место в наследии поэта занимают «Романсы без слов» и почему русскому читателю для первого полноценного знакомства с Верленом предлагается именно этот сборник: «Хотя „Романсы без слов“ и прошли в свое время незамеченными, они были откровением для поэзии, первой книгой вполне выраженного, но еще не искаженного символизма». Коротко указав на трудность переложения стихов Верлена — немногословных, но насыщенных образами и богатых смыслом — на чужом языке, Брюсов завершил предисловие необходимой оговоркой: «Недостатки этой книги надо приписывать переводу, а не шедеврам Верлена». От газетной и журнальной брани это не спасло. Критики дружно нападали на качество перевода, но делали это в грубой форме и без каких-либо конкретных замечаний. «Брюсовский Верлен настолько далек от оригинала, — уверенно писал Коринфский, — что вызывает только усмешку, нелестную для переводчика». «Брюсов совершенно не понял Верлена, — вторил ему анонимный рецензент „Недели“, — все тонкие, неуловимые оттенки мысли он принял за бессмысленный набор слов, вставленный только для рифмы, и вообразил, будто заменить его аналогичным набором бессмысленных слов будет значить „перевести Верлена“».
 Поль Верлен. Портрет работы Н. Гончаровой. Из книги П. Верлена «Записки вдовца» (1911). Собрание В. Э. Молодякова
Поль Верлен. Портрет работы Н. Гончаровой. Из книги П. Верлена «Записки вдовца» (1911). Собрание В. Э. Молодякова
О семейной драме Верлена к тому времени в печати писалось уже не раз, а проблема выбора между литературным призванием, любовью и материальным благополучием была актуальной и для Валерия Яковлевича. В его пьесе талантливый и мятущийся Поль Ардье готов ради любимой жены, находящейся под влиянием своего отца, пожертвовать творческими исканиями. Он перестает писать «непонятные» стихи и принимается за традиционный реалистический роман, который может принести ему хороший гонорар, но оригинальничающий декадент-индивидуалист Этьен Рио, выступающий в роли драматического злодея, снова сбивает его с «пути истинного». Однако в итоге даже рационалист Тиссо, не лишенный ума и вкуса, признает правду поэта-символиста и говорит Полю: «У вас есть гений. Я ошибался, когда требовал от вас отказаться от декадентства. Это только внешность. Вам надо преобразить вашу душу. Откажитесь не от декадентства, а от внешних ошибок, от желания быть странным, от постоянной погони за минутной славой… Главное же, пишите просто и искренне. Не насилуйте своего воображения, не извращайте своей души, пишите как хотите, будьте декадентом в своих стихах, если это вам нужно, но пишите то, что вы чувствуете». Так история жизни французского поэта сыграла свою роль в личном и творческом становлении молодого вождя московских декадентов. Русская литературная среда привыкла оглядываться на Европу и ее мнения. Союзниками в борьбе за символизм должны были стать иностранные поэты — причем не только классики (Верлена уже можно было считать классиком), но и молодые современники, еще неизвестные в России. Настоящим открытием для Брюсова стала французская поэтесса Приска де Ландель[15], выпустившая в самом начале 1895 года единственный сборник стихов «Радости и горести». Сегодня она полностью забыта даже у себя на родине. Брюсов обнаружил ее книгу 6 февраля 1895 года, когда просматривал новинки в магазине Ланга, и зафиксировал это в дневнике. Что привлекло его внимание прежде всего? Несомненно, раздел, озаглавленный «Символизм», и отзвуки Верлена и Бодлера. Валерий Яковлевич сразу же прочитал сборник и написал «милостивому государю» автору на адрес издателя, указанный в книге. И вскоре получил ответ, из которого узнал, что автор «Радостей и печалей» — девушка по имени Луиза Бургуэн, живущая в Лез-Анделис, а потому подписавшаяся «Приска из Анделя», и что это ее литературный дебют.
 Книга стихов Приски де Ландель (де л’Андель) «Радости и горести» (1895) с дарственной надписью, подписанной настоящим именем «Луиза Бургуэн». Собрание В. Э. Молодякова
Книга стихов Приски де Ландель (де л’Андель) «Радости и горести» (1895) с дарственной надписью, подписанной настоящим именем «Луиза Бургуэн». Собрание В. Э. Молодякова
Брюсов смолоду тщательно относился к своей корреспонденции и составлял черновики всех важных посланий, переписывая их по несколько раз. Многие из отправленных им писем пропали, но в рабочих тетрадях сохранились черновики. Из них мы узнаем, что он высоко оценил стихи новой знакомой и попросил разрешения поместить их переводы в «Русских символистах» как образцы молодой французской поэзии. Приска де Ландель не знала русского языка, но охотно дала разрешение на публикацию. В начале апреля Валерий Яковлевич сообщил ей, что отобрал для перевода две дюжины стихотворений, рассчитывая представить «более или менее символические» в своем альманахе. В третьем выпуске «Русских символистов», который увидел свет в августе 1895 года, появились восемь стихотворений поэтессы с кратким предисловием переводчика. Брюсов выделил ее стихи в персональный раздел, подчеркнув этим статусность публикации, и подумывал о переводе большей части «Радостей и горестей» для отдельного издания. Он также послал поэтессе обратные французские переводы своих переложений, которые она одобрила, равно как и отбор текстов: «По тому, какие из моих стихотворений Вы выбрали, — а Ваш выбор кажется мне вполне обоснованным — я вижу, что Ваши читатели получат достаточно полное представление об особенностях моего творчества». Русская слава Приски де Ландель так и не состоялась, хотя начало ей было положено. В конце 1895 года переписка поэтов по неизвестным причинам прекратилась, и Брюсов окончательно потерял из виду свою корреспондентку. Вместе с ним теряем ее из виду и мы… Однако сравнение русских текстов с французскими показывает, что Валерий Яковлевич вольно обошелся даже с теми стихотворениями, которые объявил переведенными «близко к оригиналу». Те же, которые «с дозволения автора переданы более вольно», порой просто не узнать: перевод «Тому, кто далеко» не имеет ничего общего с оригиналом, озаглавленным «Отсутствующему». Исходя из общей задачи своих сборников, Брюсов, если так можно выразиться, «одекадентил» скромные и тихие стихи Приски де Ландель, придав им страстный и мрачный колорит, но при этом перевел только одно стихотворение из раздела «Символизм». Вот «Надпись на экземпляре Бодлера» из «Русских символистов»:
 С. В. Малютин. Валерий Брюсов. 1913
С. В. Малютин. Валерий Брюсов. 1913
Валерию Яковлевичу «предстояло много учиться, и перевод стал отличной школой», — заметила американский историк русского символизма Джоан Гроссман. «Вы знаете иностранные языки? Тогда переводите. Это лучшая школа», — наставлял он сам начинающих поэтов двадцать лет спустя. В рабочих тетрадях Брюсова оригинальные стихи чередуются с переводными, столь же исчерканными и переправленными в стремлении к совершенству. После изруганных критикой «Романсов без слов» его переводы из французских поэтов появились в печати только в 1899–1900 годы. С началом нового века Брюсов публиковал их регулярно, а затем объединил в книги, из которых наиболее известны антология «Французские лирики XIX века» (1909; 1913) и собрания стихотворений Верлена (1911) и Эмиля Верхарна (1906; 1916; 1917; 1923). Начавшаяся в эпоху русско-французского сближения 1890-х годов, эта работа сыграла огромную роль в творческом становлении и развитии Брюсова-поэта, и в культурных контактах между нашими странами, которые уже не зависели от желания или прихоти политиков. Выступая 16 декабря 1923 года на пятидесятилетии Валерия Яковлевича с докладом «Брюсов и французские символисты», писатель и литературовед Леонид Гроссман подвел итог трудам юбиляра: «Общий фон французской лирики представляется нам наиболее благоприятным материалом для оттенения основных свойств хорега[16] русских символистов. Недаром он столько потрудился для передачи на наш язык почти всех поэтов французской речи. „Острый галльский смысл“, по слову Блока, не только пленил, но и образовал Брюсова. При всем своеобразии его поэтического лица, на нем определяющими чертами легли эти отражения французского гения в его неустанном завоевании новых эстетических ценностей и кристаллической отшлифовке их для всего человечества. Эти боевые и созидательные традиции старого „галльского духа“ были восприняты у нас в начале 1890-х годов юным поэтом Валерием Брюсовым. Приняв их от великих лириков Франции, он с рыцарственной верностью лозунгам своей молодости пронес их через три десятилетия напряженного художественного труда, ненарушимо сохранив их в своем творческом облике во всей их непреклоннойвыразительности». Лучше не скажешь.
Глава восьмая. «БЕЛЫЙ ЦАРЬ» И «РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ»: НИКОЛАЙ II И РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ФРАНЦИЯ
 Николай II. Портрет работы И. Е. Репина. 1895
Николай II. Портрет работы И. Е. Репина. 1895
Николай Александрович Романов, последний русский царь Николай II, остался в нашей истории как одна из самых противоречивых личностей, единства мнений в отношении которой не будет, вероятно, никогда. Сторонники крайних взглядов именуют его то «святым», то «кровавым», то «мучеником», то «палачом». Одним он кажется чеховским персонажем, другие вспоминают, что его любимыми писателями были юмористы Аверченко и Тэффи. В общем, однозначной картины никак не получается. О Николае II написаны тысячи книг на многих языках, на прочтение которых самому одаренному полиглоту придется потратить годы, если не десятилетия. Новые книги появляются каждый год, что-то прибавляя к давно сложившимся образам, но не снимая рокового противоречия между ними. Если даже ученые-историки, которым по долгу службы положено быть объективными, не могут избавиться от субъективных, эмоционально окрашенных оценок, то что говорить о прочих. Не претендуя ни на полноту психологического портрета, ни тем более на завершенность «вердикта истории», попробуем рассмотреть роль молодого царя в русско-французских отношениях конца XIX века, которые являются главной темой нашей книги. Император Александр III умер 20 октября (1 ноября) 1894 года в Ливадийском дворце в Крыму. Ему было всего сорок девять лет. Самодержца, от природы отличавшегося богатырским телосложением и крепким здоровьем, свели в могилу больное сердце и острая болезнь почек, которую недоброжелатели объясняли излишним пристрастием к спиртному. Унаследовавшему престол старшему сыну Николаю было 26 лет. Нового монарха уже тогда оценивали по-разному, порой диаметрально противоположно: одни отмечали у него хорошее образование, другие — отсутствие систематических знаний и интеллектуальных интересов, одни — доброе сердце и набожность, другие — черствость и равнодушие. Но, пожалуй, все были едины в том, что к управлению страной он не готов, а русскому царю полагалось не только царствовать, но и управлять. Александр III привык все решать сам и отучил почти всех министров мыслить и действовать самостоятельно — пожалуй, кроме одаренного и неугомонного министра финансов Витте, с которым ему приходилось считаться. Последние несколько лет император болел, но никто не ждал его скорой смерти, меньше всего — он сам. В государственном, политическом плане преемника себе он не успел — не сумел? не захотел? — воспитать. Николай II оказался в полной зависимости от отцовских министров и придворных, на первых порах не решившись расстаться ни с кем из них. Поэтому все знакомые нам лица — Гирс, Ламздорф, Витте, Обручев, Ванновский и другие — остались на своих местах. Уже из первых бесед с царем министр иностранных дел Гирс, который сам, как говорится, дышал на ладан (умер в январе 1895 года), понял, что тот ничего не знает о секретных соглашениях с Францией, прежде всего о военной конвенции. «Покойный государь не предвидел своего конца и не посвящал меня ни во что», — признался Николай.
 Феликс Фор
Феликс Фор
В это же время произошла смена президента Французской республики. После убийства Сади Карно анархистами в конце июня 1894 года Палата депутатов избрала на этот пост премьер-министра Жан-Поля Казимира-Перье (в Третьей республике президент избирался парламентом, а не непосредственно народом), но он не сработался со следующим правительством и вышел в отставку всего через полгода. Его преемником стал 55-летний Феликс Фор, избранный незначительным большинством, да к тому же при неодобрительных криках «Долой воров!». Оппоненты имели в виду связи главы государства с торгово-промышленными кругами — утверждали, что небескорыстные. В историю республики Фор вошел главным образом тем, что завел в своей резиденции — Елисейском дворце — порядки, более подходившие королевскому двору: на официальных торжествах он предпочитал не стоять рядом с премьер-министром и председателями Сената и Палаты депутатов, подчеркивая свое более высокое положение. По общему мнению, эти черты развились у президента — бывшего владельца кожевенной фирмы и сына обойщика — под непосредственным влиянием официального визита во Францию в 1896 году императора Николая и его супруги Александры Федоровны. Судя по дневникам всеведущего первого советника МИД Российской империи графа Ламздорфа, «вопросом номер один» в отношениях с Францией стало пожалование президенту Фору ордена Св. Андрея Первозванного, которым Александр III, как мы помним, не без колебаний наградил президента Карно. Пожалование высшей награды вступившему на престол монарху союзной или дружественной страны было в тогдашней Европе в порядке вещей. Теперь это распространялось и на республику. Шестнадцатого (28) мая 1895 года император Николай, после доклада министра иностранных дел князя Лобанова-Ростовского, принял решение о награждении Фора. За решением царя стояла дипломатическая интрига с далеко идущими целями. В это время в Париже находился государственный секретарь Александр Половцев, приятель Лобанова. Пятнадцатого (27) мая Ламздорф занес в дневник встревожившие его известия о дипломатической активности Половцева, о чем ему конфиденциально сказал министр: «Как выясняется, этот господин вошел в сношения с французским министром иностранных дел Аното и ведет речь ни больше ни меньше как о форменном договоре, который нужно будет заключить с французским правительством… Вот так новость! Неужели Лобанов поручил своему другу Половцеву провести переговоры вне обычных путей, и мы вот-вот окажемся связанными каким-то форменным договором с правительством Французской республики, вместо того чтобы удовлетвориться той превосходной позицией, которую нам создали принципы наших соглашений 1891–1893 годов? Час от часу не легче!» Осторожному и педантичному Ламздорфу не понравилось многое. Во-первых, то, что министр затеял подобное предприятие на свой страх и риск, не получив санкции монарха. Во-вторых, то, что французский министр иностранных дел Габриэль Аното (в русских документах того времени его часто называли Ганото) неодобрительно отозвался о послах Моренгейме и Монтебелло — какие-никакие, но они официальные представители! — и даже предложил русскому коллеге вступить в личную переписку, минуя послов. Тот отказался, ссылаясь на соображения корректности и уважение к традициям дипломатической практики, хотя не любил Моренгейма. «В этом Лобанов тысячу раз прав, — заметил Ламздорф, — в особенности в связи с тем обстоятельством, что речь идет о французском министре, а они там меняются беспрестанно». Наконец он с тревогой узнал о том, что Аното будто бы хотел назначить послом в Петербург генерала Буадефра, соавтора военной конвенции 1892 года. Но более всего Ламздорфа взволновала перспектива того, что «доза мышьяка», с которой он и его ближайший друг Оболенский сравнивали дружбу с Францией, могла стать для России опасной.
 Орден Святого Андрея Первозванного
Орден Святого Андрея Первозванного
На следующий день Лобанов поехал с докладом к царю. На сей раз самоуверенный и легкомысленный министр проявил чудеса осторожности, не сообщив ни о переговорах относительно заключения формального договора, ни о критических замечаниях в адрес Моренгейма. Ламздорф с удовлетворением отметил, что награждение Фора станет «знаком закрепления нашего союза» и «свидетельством успехов обеих наций в настоящем и, разумеется, в будущем», не связывая их никакими дополнительными обязательствами. Каково же было его удивление, когда через несколько дней Лобанов приказал не торопиться с подготовкой орденских знаков и соответствующих бумаг, «сохранить все дело в тайне и ждать дополнительных приказов». Исполнение воли императора застопорилось из-за очередной задержки на переговорах о французском займе. Кроме того, в это время готовился визит в Германию русской эскадры во главе с великим князем Алексеем Александровичем, генерал-адмиралом и главным начальником флота и морского ведомства. Понимая, что визит вызовет во Франции как минимум беспокойство, Николай распорядился вручить орден Фору именно в те дни, когда русские корабли будут стоять на рейде Киля, в качестве «ловкого болеутоляющего средства», как остроумно назвал это решение Ламздорф. Молодой монарх не хотел осложнений ни на одном из направлений своей внешней политики. Пятого (17) июня Фор поблагодарил императора за награду и сопровождавшее ее письмо: «Я придаю данному выражению особой благосклонности Вашего Величества тем большее значение, что вся Франция в целом усматривает здесь новое подтверждение тесных дружественных уз, объединяющих наши страны». Назвав царя «дражайшим другом», президент, вероятно, почувствовал и себя членом «пурпурного интернационала», как неофициально называли в те годы царствующие дома Европы. В октябре 1895 года Францию потряс очередной правительственный кризис — одиннадцатый за последние двенадцать лет, как сообщил из Парижа барон Моренгейм. При смене кабинета министр иностранных дел Аното ушел в отставку, но президент Фор «энергично заверил» русского посла «в сохранении той же самой внешней политики, как до сих пор». «И вот с такой-то неуправляемой страной у нас хотят иметь прочный союз!» — неодобрительно заметил Ламздорф, прочитав депешу Моренгейма. Незадолго до того Аното был награжден орденом Св. Александра Невского, но орденские знаки еще не были отправлены в Париж. Лобанов передал Ламздорфу — для помещения в секретный архив министерства — письма Аното, заметив, что последний сохраняет немалое политическое влияние и, вероятно, еще вернется к власти, а пока обещал ему хранить в строжайшей тайне все дипломатические секреты двусторонних отношений, поделившись ими только с президентом. «Все это пахнет легкомыслием», — недовольно отметил Ламздорф. Какую резолюцию наложил Николай II на депешу о смене правительства во Франции, нам неизвестно: он часто ничего не писал, а лишь ставил особый знак, свидетельствующий о том, что ознакомился с документом. Но сомнения в необходимости дальнейшего укрепления союза с Францией у него могли появиться. Одиннадцатого (23) октября в Царском Селе Лобанов докладывал царю о своем визите в Берлин и беседе с кайзером Вильгельмом, состоявшейся десятью днями ранее. Русский министр, приехавший в Германию из Франции, попытался уверить венценосного собеседника, что «французское правительство одушевлено самыми мирными намерениями и у него нет никакого чувства вражды к Германии». «То, что вы мне рассказываете, — ответил Вильгельм, знавший, что Лобанов был официально приглашен президентом Фором на маневры французской армии, — весьма возможно; однако не менее правдиво и то, что шовинизм французов и их замыслы реванша отнюдь не уменьшились. Они поддерживаются всеми теми царственными и княжескими визитами, которые следуют друг за другом в Париже и служат лишь укреплению существования республики, выставляя ее в глазах народов в качестве режима столь же нормального, как и любой другой, заставляя тем самым забывать, что монархии — учреждение Бога, а республики — всего лишь создание людей. Между тем консолидация республиканского режима во Франции является реальной опасностью для всех монархий. Разрешите сказать вам, что самое досадное и самое необычное заключается в том, что наиболее монархическое правительство Европы поддерживает с этой республикой самые близкие отношения».
 Кайзер Вильгельм II
Кайзер Вильгельм II
Князь Лобанов, которого трудно было заподозрить в особых симпатиях к республиканцам, ответил, что «Франция — слишком важный фактор европейской политики, чтобы ей можно было пренебрегать» и что «какова бы ни была форма ее правительства, с этой страной приходится договариваться». Николай, если и не принял аргументы «кузена Вилли», то не мог не прислушаться к ним. Сказанное Вильгельмом, разумеется, предназначалось не министру, а императору. Тринадцатого (25) октября он отправил Николаю длинное личное письмо (монархи переписывались по-английски), передав его через посетившего Германию великого князя Михаила Николаевича. Посмотрим, как общались между собой императоры и в чем они пытались убедить друг друга. «Визит Лобанова был для меня очень интересен. Это, несомненно, очень способный дипломат и великолепный собеседник. То, что он рассказывал мне насчет Франции, было весьма успокоительно… Я постарался показать ему, что не хочу быть неправильно понятым. Беспокойство мне причиняет не факт „отношений“ дружбы между Россией и Францией — каждый монарх является единственным господином интересов своей страны и соответственно формирует свою политику (выделено мной. — В. М.) — а та опасность, которая создалась для монархического принципа из-за возвышения республики на какой-то пьедестал благодаря той форме, в которой проявляется указанная дружба… Каковы же последствия этого в наших собственных двух странах? Республиканцы по существу являются революционерами, и, как правильно говорят наши верные подданные, с ними надо обращаться как с людьми, заслуживающими расстрела или повешения. А между тем республиканцы получают возможность возразить: „О нет, мы не опасные и не плохие люди, посмотрите на Францию! Там можно увидеть царствующих особ, водящих дружбу с революционерами! Почему того же самого не может быть и у нас?“ Французская республика возникла из великой революции. Она распространяет и неизбежно должна распространять идеи революции. Не забывай, что Фор — не по его собственной вине — восседает на троне „Божьей милостью“ короля и королевы Франции, чьи головы были отрублены французскими революционерами!.. Ники, поверь моему слову, проклятье Бога навсегда заклеймило этот народ!.. Прости, пожалуйста, что я высказываюсь столь откровенно, но хочу, чтобы ты понял, как тепло я к тебе отношусь, как боюсь за тебя, и ты должен полностью понять движущие мной побуждения». О Вильгельме II написано не меньше, чем о «кузене Ники», и хулы на него возведено тоже не меньше, особенно после поражения Германии в Первой мировой войне. Спорить о его личности можно долго, но сейчас это не к месту. Бесспорно одно: кайзер, особенно в молодости, был идеалистом и действительно верил в то, что говорил и писал, нередко попадая из-за этого в щекотливые ситуации и вызывая политические осложнения. Считая себя монархом именно «Божьей милостью», он хотел лично управлять всем, но был ограничен законами, правительством и Рейхстагом (парламентом). Напротив, самодержавный по своему статусу, Николай II не любил принимать решения и брать на себя ответственность, а потому стремился править как можно меньше, перелагая эту ответственность на министров и великих князей. К сожалению, самодержец просыпался в нем в самые неподходящие моменты, когда ему как раз стоило бы прислушаться к мнению более компетентных людей, как, например, в годы Первой мировой войны. Американский историк и публицист Джордж Вирек, хорошо знавший кайзера в 1920–1930-е годы, заметил, что с учетом сложившихся условий Вильгельм был бы отличным русским царем, а Николай — германским кайзером. И тогда оба императора, возможно, остались бы на своих престолах… Николай II тоже считал себя помазанником Божьим, но не был идеалистом и не считал республиканцев «исчадьем ада» и угрозой своему правлению. А потому принял — по настоятельному совету Лобанова-Ростовского — приглашение президента Фора посетить Францию с официальным визитом во время предстоящей поездки по Европе и первых в качестве императора встреч с тамошними монархами. «Отличаясь особой торжественностью, — отмечает историк И. С. Рыбаченок, — официальный визит главы государства обычно является важной вехой во взаимоотношениях двух стран, имеет большое международное значение и, как правило, завершается подписанием соглашений, закрепляющих основные позиции сторон, согласованные заранее. В XIX веке во время таких встреч монархи нередко сами вели переговоры, которые происходили за закрытыми дверями, а их итоги становились известны лишь узкому кругу посвященных». Нечто подобное ожидалось и на этот раз — неслучайно в составе официальной французской делегации, прибывшей в мае 1896 года в Москву на коронацию Николая II, были генерал Буадефр и адмирал Жервэ. Однако торжества были омрачены трагическим происшествием, тень которого волей-неволей пала и на Францию. Восемнадцатого (30) мая, через четыре дня после церемонии коронации в московском Кремле, во время раздачи «царских подарков» народу на Ходынском поле началась страшная давка, в результате которой, по официальным данным, 1389 человек было буквально затоптано и еще столько же ранено и покалечено. Вечером того же дня французский посол граф Монтебелло должен был давать бал в честь венценосной четы. Узнав о трагедии, он решил отменить празднество, но император попросил не делать этого и танцевал первый контрданс с графиней Монтебелло, а императрица Александра Федоровна — с графом. Многие, разумеется, шепотом или втайне, упрекали молодого царя в бесчувственности, но дневники его дяди, великого князя Константина Константиновича — президента Академии наук и известного поэта, выступавшего в печати под скромными литерами К. Р. (Константин Романов), — рисуют совсем иную картину: «Государь не хотел было ехать на французский бал, но его убедили показаться там хотя бы на один час, и что же: на балу Владимир, Алексей и сам Сергей (великие князья Владимир, Алексей и Сергей Александровичи. — В. М.) упросили государя остаться ужинать, так как отъезд с бала показался бы „сентиментальностью“… Сам же Сергей (московский генерал-губернатор. — В. М.), которому следовало бы сокрушаться не менее государя, вместе с братьями уговаривает государя остаться на балу». Девятнадцатого и 20 мая император и императрица посетили раненых и отпустили по тысяче рублей семьям пострадавших, но даже несуеверные люди увидели в случившемся дурное предзнаменование новому царствованию. Приняв приглашение Фора в начале августа, но еще не объявив об этом официально, царь заколебался: не будет ли воспринят его визит в республиканскую Францию наравне с европейскими монархиями как оскорбление всему «пурпурному интернационалу». Окончательно рассеял его сомнения обладавший даром убеждения Витте: он узнал, что Альфонс Ротшильд лично явился в русское посольство в Париже и предупредил, что успех нового займа будет напрямую зависеть от приезда императора. Протоколом встречи монарха, которого должны были встретить с истинно царскими почестями, занимались совет министров и канцелярия президента, а окончательно детали согласовывались между послом Моренгеймом и министром иностранных дел Аното. Особое внимание было уделено мерам по обеспечению безопасности и охране венценосной четы в столице столь многих революций, для чего в Париж прибыли наделенные особыми полномочиями гофмаршал двора Александр Бенкендорф (будущий многолетний посол в Англии) и заведующий заграничной агентурой департамента полиции Петр Рачковский. Тринадцатого (25) сентября все детали пятидневного визита были согласованы и официально объявлены. Николая должен был сопровождать генерал Буадефр, Александру Федоровну — адмирал Жервэ как лично знакомые им люди и, добавим, знаковые фигуры русско-французского сближения. Днем позже газеты сообщили, что гость со всем согласен и всем доволен. Феликс Фор, пожелавший не ударить в грязь лицом перед иностранным самодержцем, решил встать с ним наравне и придумал себе для торжественной встречи экстравагантный костюм: брюки и жилет из белого кашемира с золотым галуном и голубой атласный кафтан, расшитый орнаментом из дубовых листьев, желудей, цветов нарцисса и листьев анютиных глазок; шляпа с белыми перьями и шпага с черепаховым эфесом. Королевские замашки президента изрядно раздражали не только политических противников, но и его окружение, которое, однако, вынуждено было мириться с причудами законно избранного главы государства. Однако тут правительство категорически восстало против его затеи как несовместимой с республиканским духом. Поскольку речь шла не о личной прихоти, а о государственном деле, раздосадованному Фору пришлось смириться и ограничиться простым черным фраком с белым жилетом. Двадцать третьего сентября (5 октября) Николай II с супругой и свитой прибыл из английского порта Портсмут во французский Шербур на своей яхте «Полярная звезда». Утром того же дня в Шербур прибыли президент с министрами и барон Моренгейм со всеми чинами русского посольства. На рейде была выстроена французская эскадра. В Ла-Манше штормило, торжественное убранство города пострадало от сильных дождей, но в нужный момент погода исправилась, как по мановению волшебной палочки. «В три часа пополудни дождь прекратился, и выглянувшее из-за туч солнце осветило золотом лучей историческую картину. Русская императорская чета ступила на французскую землю: он был в морском мундире, адмиральской треуголке и ленте Почетного легиона, она — в элегантном туалете цвета крем со стоячим воротником, пелеринке того же цвета и шляпке, украшенной розами. Николай II легко спустился по трапу, пересек пристань и стремительно приблизился к помосту, где его ожидал Фор. Президент двинулся навстречу, поклонился царю, который, ответив таким же поклоном, быстро шагнул вперед, пожал Фору руку, а затем обнял его. Трепет гордости охватил очевидцев этой непредвиденной сцены (помазанник Божий обнимает народного избранника как равного! — В. М.), а по толпе, наэлектризованной долгим ожиданием, прокатилось грандиозное „Ура!“ и загремели возгласы: „Да здравствует царь! Да здравствует Россия!“ Затем Фор поцеловал руку Александре Федоровне, которой преподнесли чудесный букет белой сирени… Под звуки национальных гимнов Фор, Николай II и Александра Федоровна направились в зал празднеств по длинной крытой галерее, увешанной флагами. В зале ожидали члены французского правительства и русского посольства… Фор представил Николаю II президентов Палаты депутатов и Сената, председателя Совета министров, а затем царь обошел ряды выстроившихся по старшинству государственных и политических деятелей республики».
 Встреча императора Николая II в Париже. 1896
Встреча императора Николая II в Париже. 1896
В вопросах официального протокола мелочей нет, поэтому современники, а за ними историки тщательно фиксировали все детали встречи, вплоть до того, какие букеты подносились императрице и в каком порядке шло представление присутствующих высоким гостям. Увидев экс-премьера Александра Рибо, Николай сказал ему: «Вы были министром иностранных дел в 1891 году. Это был зародыш…» Прежде чем он успел закончить фразу, Рибо почтительно и в то же время с гордостью подхватил: «Да, государь, это было зародышем великого дела». На торжественном обеде Фор величественно произнес, обращаясь к гостю: «Завтра в Париже Ваше Величество почувствует биение сердца французского народа, и прием, который он устроит императору и императрице России, докажет им искренность нашей дружбы». Николай II поехал в Париж на собственном поезде (такая практика сохраняется до сих пор, только сейчас используются обычно не поезда, а лимузины), который уже несколько дней стоял на вокзале Сен-Лазар, привлекая всеобщее внимание. Только в Версале он пересел в президентский поезд Фора, на котором утром 24 сентября (6 октября) прибыл во французскую столицу. Парижская печать, особенно националистическая, была на редкость единодушна в отношении к происходящему. Газета «Галл» писала о возвращении Франции в число мировых держав и конце кошмара изоляции. «Солей» утверждала: «Царь нас уважает за то, что, будучи сильными, мы все-таки оставались благоразумными». Реваншистская «Рапель» прямо заявляла: «Франко-русский союз являет собой ту силу, которая способна заставить соблюдать мир тех, кто пытался бы его нарушить». Визит российского императора должен был убедить весь мир в действительном существовании союза двух держав, который пока не был объявлен официально. «Лига патриотов» во главе с пламенным реваншистом Полем Деруледом, постоянный источник политической «головной боли» для всех кабинетов министров, постановила воздержаться от каких бы то ни было демонстраций на время пребывания августейших гостей в Париже и только молча возложила к подножию одной из статуй в Тюильрийском саду венок с надписью «Александру III, Скобелеву, Каткову», почтив память лучших русских друзей Франции. Покойный генерал Скобелев попал в их число главным образом за свою ненависть к Германии, которая и сближала с ним Поля Деруледа. «Прибытие молодой императорской четы во Францию, — вспоминал Витте, — очаровало всех французов. Во-первых, это был первый визит русского императора после визита его деда императора Александра II Наполеону III… Во-вторых, этим визитом император подчеркивал свое твердое решение следовать по стопам своего отца, создателя франко-русского соглашения. В-третьих, это качество французов увлекаться всем тем, что им приятно и что величественно. Наконец, французы-республиканцы имеют то свойство, что они особливо восхищаются царствующими особами, а такая царствующая чета, как русский самодержавный государь, держащий в своей державной руке одну пятую часть пространства всего мира, конечно, не могла не возбуждать во Франции чувства не только восхищения, но и своего рода экстаза. Поэтому та неделя, которую провел государь в Париже и Версале, в окрестностях Парижа, была названа русской неделею». Расписывая подробности пышных церемоний и восторженного приема, оказанного парижанами Николаю и Александре Федоровне, и русские, и французские журналисты в один голос утверждали, что таких торжеств столица не видела даже во времена Второй империи, несмотря на известную любовь Наполеона III к пышным церемониям. Обед в Елисейском дворце — официальной резиденции президента Франции — вечером 24 сентября (6 октября), казалось, готов был затмить пышность версальского двора. На следующий день влиятельная газета «Журналь де деба» с удовлетворением отметила, что «императорский тост, обращенный не к личности президента республики, а ко всей Франции, которой Фор избранный представитель и истолкователь, будет услышан всей Францией» и «успокоит самые беспокойные умы». Фраза русского монарха: «Эта дружба устойчивостью может оказать лишь благодетельное влияние», — повторялась на все лады. В те времена за тостами следили не менее внимательно, чем за тронными речами или выступлениями в парламенте. «Союз, который страдал некоторой неопределенностью, — отметила одна из парижских газет, — со вчерашнего дня приобрел точно определенный и окончательный характер». Никаких официальных документов подписано или обнародовано не было, но «Галл» со знанием дела — или хотя бы с претензией на знание дела — писал: «Вчерашний день не избавляет от договора, но заменяет всякие договоры».
 «Московские ведомости». 1896
«Московские ведомости». 1896
Телевидения и интернета в ту пору, разумеется, не было, но телеграф позволял следить за событиями почти в «реальном времени». Двадцать седьмого сентября (9 октября) в «Московских ведомостях», верных националистическому, франкофильскому и германофобскому духу Каткова, появилась передовая статья под многозначительным заголовком «Неписаный союз». При Каткове неподписанные, но, как правило, принадлежавшие перу самого редактора передовицы этой газеты читались по всему миру, где кроме него никого из русских журналистов не знали. По ним старались угадать подлинную позицию Петербурга, которую, как считалось, Михаил Никифорович не только выражал, но и на которую влиял. После его смерти авторитет газеты несколько снизился, и в поиске ключей к секретам русской политики иностранные наблюдатели все чаще стали обращаться к «Новому времени» Алексея Суворина, которое освещало визит императорской четы подробно и со всем необходимым пиететом. Однако в свете нашей темы без «Московских ведомостей», столь долго и активно ратовавших за союз с Францией, никак не обойтись. Вот наиболее интересные и содержательные фрагменты этой статьи:
 Михаил Катков — главный «передовик» «Московских ведомостей»
Михаил Катков — главный «передовик» «Московских ведомостей»
«Вся политическая жизнь Европы на время точно затихла… Всякий сознает, что в Париже происходит исторический акт, значение которого лучше всего выражается в том необычайном народном подъеме духа, который проявляется в поведении населения Франции и отзывах печати и который не оставляет сомнений в том, что по одному мановению руки Русского Монарха восстанет для защиты священных своих интересов, если нужно, не только стомиллионный русский народ, но и народ французский. Но никто не дерзнет нарушить мир после тех торжественных заявлений, которые раздались в залах Елисейского дворца… Слова Государя Императора служат торжественным подкреплением тех отношений, которые установились между Россией и Францией при императоре Александре III. После этих слов излишни всякие толки о договоре между обеими державами, связанными узами, „которые соединяют обе страны в гармонической деятельности и во взаимном доверии к их призваниям“… Говоря о союзе, г. Фор указывал не на существующий письменный договор, а на то единодушие, с каким Россия и Франция действовали во всех вопросах, чтобы „оказать благодетельное влияние“ в интересах мира, и Государь Император, желая устойчивости „этой дружбе“, только укрепил этот союз, столь благодетельный для всего мира… Никакой письменный договор не может заменить слова Русского Монарха. Слова Монарха, служащие обеспечением мира и устраняющие всякое покушение на спокойствие Европы, указывают нашим союзникам, что заботы добиться письменного договора совершенно излишни, так как „неписаный договор“ еще лучше способен содействовать поддержанию устойчивости дружбы».
 Владимир Грингмут — ученик и наследник Каткова
Владимир Грингмут — ученик и наследник Каткова
Без сомнения, эту статью внимательно прочитали во всем мире, причем не один раз, чтобы в полной мере понять ее смысл и оценить ее значение. Сами по себе слова Николая II не выходили за рамки протокола и приличествующих случаю выражений. Никаких определенных политических заявлений в них не было. «Московские ведомости» авторитетно — но при этом неофициально — давали понять, как именно их следует толковать. Зная подробности обсуждения вопроса о сближении с Францией в придворных, дипломатических и военных кругах Петербурга, мы видим, что статья вполне отражала господствовавшую в них позицию: Россия дала понять всему миру, что считает Францию своей союзницей, но не дает — по крайней мере, открыто — никаких конкретных обязательств и не намерена фиксировать их на бумаге. Единственной гарантией этого выступало честное слово императора. Монархи, считавшие друг друга «братьями» даже во время войны, могли полагаться на слово друг друга… и, увы, нарушать его — как ответственные, по их убеждению, только перед Богом.
 Николай II у гробницы Наполеона. 1896. Иллюстрация в журнале The Illustrated London News
Николай II у гробницы Наполеона. 1896. Иллюстрация в журнале The Illustrated London News
Республиканская Франция, страна биржевиков и адвокатов, не верила ничьим словам, если они не были занесены на бумагу и, так сказать, не заверены нотариально. Слова о «неписаном союзе», который лучше любого писаного, были адресованы прежде всего ее правящей элите. Ей таким образом давался совершенно определенный совет — не настаивать на заключении письменного договора. Серьезность намерений России и ее верность союзническому долгу были подкреплены несколькими символическими жестами: Николай II возложил пышный венок из орхидей, роз и лилий на могилу президента Сади Карно, начавшего сближение с Россией[17], поклонился гробнице Наполеона (а до того в Соборе Парижской Богоматери задержался у гробницы Луи Пастера, прах которого еще не был перенесен в Пантеон) и почтительно приветствовал ветеранов Крымской войны, давая понять, что вся вражда осталась в прошлом. Затем он и императрица приняли участие в закладке нового моста, который получил имя Александра III и до сих пор носит его, и посетили Французскую Академию, на заседании которой некогда побывал Петр Великий. Кстати, среди тех, кто приветствовал августейших гостей на одном из обедов, были известные нам звезды парижской сцены Сара Бернар и Габриель Режан. Не обошлось, конечно, и без военного парада. «В Париже Ваши Величества, — многозначительно произнес президент Фор, — были встречены ликованием всей нации, в Шербуре и Шалоне (где проходил смотр сухопутных войск. — В. М.) вас встретило то, что больше всего дорого сердцу Франции, — ее армия и флот». «Обе страны связаны неизменною дружбою, — ответил русский император, — точно так же, как между нашими обеими армиями существует глубокое чувство братства по оружию». «За последние три дня нечто изменилось во Франции, — воскликнул в беседе с русскими журналистами воинственный Поль Дерулед, — мы воспрянули духом». В Берлине и Вене, надо полагать, сказанное оценили по-другому. Визит закончился, начались рабочие будни. В Палате депутатов оппозиция — от социалистов «слева» до монархистов «справа» — потребовала от правительства внятного ответа о соглашении с Россией и точного отчета о расходовании средств, истраченных на прием гостей. Пресса муссировала слухи, что союз уже оформлен документально — военной конвенцией и дипломатическим протоколом. Однако ни президент, ни правительство никаких разъяснений не дали: официозные газеты ссылались на необходимость учитывать позицию партнера, а тот уже все сказал статьей о «неписаном союзе». Несмотря на всеобщий восторг, оттенок недосказанности остался. Поэтому особые надежды возлагались на ответный визит президента Фора в Петербург, о принципиальной возможности которого 15 (27) ноября 1896 года сообщило Русское телеграфное агентство. Однако договоренность о конкретных сроках и программе визита была достигнута только к лету 1897 года и закреплена обменом посланиями между императором и президентом 10 (22) июня и 20 июня (2 июля). По свидетельству очевидцев, письмо Николая II, врученное честолюбивому президенту во время официального приема в Елисейском дворце, стало для него, да и для всех присутствующих, предметом радости и гордости. В ответе Фора обращает на себя внимание один абзац, над которым российский самодержец, возможно, улыбнулся: «Я уже представил на рассмотрение правительства и парламента мой проект путешествия и уверен, что своим решением парламент пожелает одобрить действия Президента Республики, когда он будет передавать Вашим Императорским Величествам пожелания от всей Франции счастья Императорской семье и величия России». В парламенте, к которому Фор обратился за выделением значительных бюджетных средств на представительские расходы, оппозиция, конечно, попыталась выступить против инициативы президента — на то она и оппозиция! — но общественное мнение решительно встало на его сторону. Богатому Фору были нужны не столько деньги, сколько публичное одобрение его курса, свидетельство того, что за ним, за его речами и действиями стоят не только голосовавшие за него избиратели, но и вся Франция. В итоге он получил необходимые средства, а значит, и одобрение своей политики, но снова вынужден был считаться с республиканскими традициями и ограничиться строгим черным фраком в качестве парадного костюма. Важность государственного визита президента с отданием ему всех приличествующих рангу почестей понимали даже политические противники Фора. «Когда Европа увидит, — писала влиятельная газета „Фигаро“, — что президенту Французской республики оказываются русским правительством такие же почести, как императору германскому или австрийскому, она, конечно, не придет к заключению, что наша правительственная система — верх совершенства (больной вопрос для единственной республики среди великих держав. — В. М.), но убедится, что у Франции и России установились самые тесные, самые доверительные и самые устойчивые отношения». Российские власти в свою очередь развернули интенсивную подготовку к приему высокого гостя, понимая, что визит имеет огромное политическое значение — точнее, может иметь, если все будет организовано должным образом, а может остаться просто протокольным визитом вежливости. Деликатность ситуации усугубилась тем, что ранее французского президента в Петербург приезжал германский император Вильгельм II, который, произнося тост на торжественном обеде в Петергофе в его честь, пообещал всеми силами содействовать «кузену Ники» в борьбе за мир и против возможных нарушителей спокойствия. Результатом стали слухи о том, что кайзер хотел задержаться в России для встречи с Фором и что французская сторона отвергла его предложение. Но это были не более чем слухи. Шестого (18) августа из Дюнкерка в Россию торжественно отбыла французская эскадра (яхту Вильгельма II сопровождали шесть броненосцев и два крейсера!), флагманский корабль которой уносил на своем борту президента и его свиту. Официозная газета «Тан» велеречиво заявила, что «Феликс Фор увозит в свое путешествие все французские сердца». У оппозиционной прессы не нашлось возражений, что особо отметило петербургское «Новое время»: в вопросах национальных интересов и национальной гордости французы забывают о внутриполитической розни и партийных распрях. Дескать, нам бы так…
 Встреча Николая II и президента Фора в Кронштадте. 1897
Встреча Николая II и президента Фора в Кронштадте. 1897
Через пять дней французская эскадра прибыла в Кронштадт. Таких высоких гостей из Франции здесь еще не принимали. Царь встретил гостя не на пристани, а на борту своей яхты «Штандарт», причем до того на борт французского флагмана «Потюо» для приветствия поднялся великий князь Алексей Александрович. Президент был во фраке с лентой ордена Св. Андрея Первозванного, Николай II — в морском мундире с лентой ордена Почетного легиона. И на этот раз они не только пожали друг другу руки, но обнялись и чуть ли не расцеловались. Пока яхта шла в Петергоф, «самодержцы» беседовали на борту с глазу на глаз. В Петергофе снова звучали «Марсельеза» и «Боже, царя храни». Фор с цилиндром в руках обошел строй почетного караула, который затем прошел перед ним церемониальным маршем. Встреча была организована и проведена без сучка и задоринки — главе республики были оказаны королевские почести. По замечанию Витте, Фор «держал себя довольно высокомерно; конечно, в душе он сожалел, что он, собственно, только президент Французской республики, а не король или не император Франции». Газеты вспомнили, что Фор уже приезжал в Россию в 1869 году с торговой миссией, и сообщили, что перед новым визитом президент старательно учил русский язык. Говорить на нем ему было тяжело, но, прибыв 12 (24 августа) в Петербург, он бодро приветствовал выстроенный в его честь почетный караул словами: «Здорово, молодцы!» Первым делом гость посетил Петропавловскую крепость, где с поклоном возложил оливковую ветвь на гробницу Александра III — отца союза двух держав. Германский кайзер во время недавнего визита вообще встал перед ней на колени, но ему не надо было ни перед кем отчитываться в своих поступках. Программа пребывания Фора в России была составлена с учетом прошлогоднего визита царя в Париж. «Почет за почет, они нас уважили, и мы их уважим», — подслушал один из журналистов слова какого-то мастерового в толпе (а может, и сам их придумал). На закладку моста Александра III во французской столице Северная Пальмира ответила закладкой первого камня Троицкого моста и французского госпиталя св. Магдалины с участием президента. Витте свозил высокого гостя в Экспедицию заготовления государственных бумаг. Фор «взял себе на память несколько безделушек из произведений этого замечательного в техническом и художественном отношении заведения». Здесь Сергей Юльевич проявил несвойственную ему скромность. Для президента были подготовлены выполненные на высочайшем уровне образцы печатных работ, включая портреты самого Фора, Вышнеградского и Витте в технике офорта, фотографии и гелиогравюры, цинкографии и хромолитографии. Все это уложили в дорогой ларец в русском стиле, крышка и стенки которого были отделаны серебром, украшены эмалью и уральскими самоцветами. Как говорится, дорог не подарок… Тем более что таких подарков гостям за эти дни вручили поистине бессчетное количество. Тринадцатого (25) августа президент присутствовал на большом параде в Красном Селе, который составил известную проблему с точки зрения протокола. В ту эпоху все коронованные особы и члены их семей мужского пола считались на военной службе и имели воинские звания, в том числе иностранные. Во время визита кайзера самодержцы верхом объезжали выстроенные в поле войска, а за ними в экипаже следовали императрицы. Затем состоялся парад, во время которого Вильгельм II, будучи шефом 85-го Выборгского пехотного полка (распространенная практика среди «пурпурного интернационала»), шел во главе своего полка, салютуя «кузену Ники» шашкой. В случае Фора этот вариант не подходил: у него не только не было никакого мундира, но он, вступая в должность президента, официально отказался от чина майора, как того требовали тогдашние французские законы (целью этого было предотвращение возможности военного переворота и в перспективе реставрации монархии во Франции). Годом раньше во время смотра французской армии в Шалоне Николай II, Александра Федоровна и Фор сначала ехали втроем в экипаже, а потом император в красном мундире казачьего полковника пересел на коня. В Красном Селе царь принимал парад, стоя у подножья так называемого Царского валика, а президент с императрицей смотрели на это величественное зрелище из шатра наверху. Парадом, в котором участвовало более пятидесяти тысяч человек, командовал великий князь Владимир Александрович — тот самый, который дружил с Пастером и возглавлял Академию художеств. Сочетание монархических и республиканских традиций и обычаев породило многовопросов и проблем, которые надо было решать. Фору нравились царские почести, но он должен был помнить, что за каждым его шагом внимательно следят на родине, где у него есть не только сторонники, но и противники, которые могли поставить ему в упрек и чрезмерную любовь к церемониям (нарушение республиканских традиций!), и, наоборот, недостаток оказанных ему почестей (унижение национального престижа республики!). Положение самодержцев было несколько проще: в своей «монаршей милости» они могли в виде исключения «снизойти» до чего-то, выходящего за рамки правил. Например, Николай II во время официального визита в Париж завез свои визитные карточки (!) президентам Сената и Палаты депутатов, как это принято у дипломатов и в высшем свете, но не по императорскому протоколу. Возможно, многие из консервативных придворных не одобрили этот экспромт, но во Франции он имел невероятный успех: официозная пресса увидела в нем формальное признание республиканской формы правления. Кто подсказал царю этот шаг или это было его личной инициативой, мы не знаем, но идея была отличная, поскольку учитывала настроения французов. Нарушать протокол иногда полезно, если делать это с умом. Французская пресса ликовала: «Президент республики в Петербурге! Эти простые слова ни в каких комментариях не нуждаются». Это был первый официальный визит главы Третьей республики за границу за все двадцать пять лет ее существования. Более того, ее конституция даже не предусматривала механизма замещения власти и полномочий президента в случае его временного отсутствия в стране. «Фигаро» поместила карикатуру, изображавшую Фора и Николая II за милой беседой на скамейке в саду. «Итак, дорогой мой президент, — спрашивал хозяин, — что же удивило Вас здесь больше всего?» — «Сир, — отвечал гость, — видеть здесь себя самого!» Иными словами, этим визитом Франция убила двух зайцев — закрепила союзнические отношения с Россией и официально вернула себе статус великой державы, активно и на равных участвующей в мировой политике. Слово «союз» носилось в воздухе, но еще не было произнесено официально, хотя время шло и программа визита близилась к концу. За кулисами празднеств министры иностранных дел Аното, снова занявший этот пост, и Муравьев, преемник Лобанова, согласовывали не только позиции двух держав по внешнеполитическим вопросам, но и решали, как лучше официально оформить их. С одобрения русского министра его французский коллега включил в прощальный тост президента слова «две дружественные и союзные нации». Теперь предстояло добиться аналогичного заявления от императора. Четырнадцатого (26) августа, в день отъезда, Фор давал прощальный завтрак на борту «Потюо» в честь Николая II, которого буквально в последнюю минуту решила сопровождать Александра Федоровна, а с ней еще группа великих князей и княгинь. Когда оркестр заиграл гимны, все напряглись: завтрак подходил к концу, пришло время обмена тостами. Фор прочитал заготовленную речь. В воцарившейся тишине император поднял бокал и произнес тост… с долгожданными словами о союзе, хотя в тексте, который Аното накануне получил от Муравьева, их еще не было. Это был апофеоз визита. Царское слово назад не бралось, а «союз» — это совсем иное, нежели «дружба», о которой он говорил в Елисейском дворце годом раньше. Однако в Париже восторги первых дней вскоре сменились критикой. Радикалы потребовали опубликовать текст союзного договора, но их требования были дезавуированы ссылкой на конституцию, которая позволяла президенту информировать Сенат и Палату депутатов о своих сношениях с иностранными державами, исходя из интересов национальной безопасности. Президент был вправе, но не обязан делать это, как опасались в Петербурге, где не слишком разбирались в республиканском законодательстве. Роялисты и реваншисты требовали использовать новый союз для возвращения Эльзаса и Лотарингии, которые по условиям Франкфуртского мира 1871 года были переданы Германии. Это было чревато войной и в расчеты правительства, при всем его патриотизме, разумеется, не входило. В расчеты России — тем более. Германская печать делала вид, что ничего не произошло. Официальный Берлин вообще хранил молчание. По замечанию американского историка С. Фэя, «Германия не проявляла признаков беспокойства, так как она сознавала, что Тройственный союз был по силам равен вновь созданной комбинации. Германия, кроме того, была уверена, что Англия, поддерживающая систему равновесия держав, никогда не присоединится к таким своим постоянным противникам, как Франция или Россия. Существование франко-русского союза, однако, усилило в Германии уважение к обоим ее соседям и побудило ее старательнее искать возможностей сотрудничества с ними по международным вопросам». Находившийся в отставке, но сохранявший огромный авторитет, князь Бисмарк заявил, что «для оценки союза и его значения прежде всего надо знать содержание союзного договора», и выразил надежду, что никакой союз не толкнет Россию на авантюру в интересах Франции, если только «у нас не начнут действовать очень неумно». Последние слова бывшего канцлера служили предостережением увлекающемуся кайзеру, но тот и сам понимал серьезность ситуации. Английские газеты злорадно писали, что визит Фора в Россию можно считать дипломатическим поражением Вильгельма II. В ответ на это берлинская и парижская печать констатировала усиление изоляции Британской империи. До «сердечного согласия» Лондона с будущими союзниками по антигерманской Антанте было еще далеко. Провозглашением союза дело не окончилось — за ним последовала серия визитов на министерском уровне. Когда Витте приехал в Париж договариваться об очередных займах, Фор пригласил его в свою летнюю резиденцию Рамбуйе и дал в его честь торжественный обед. Смерть Фора в феврале 1899 года ничего не изменила: его преемник Эмиль Лубэ, ранее бывший председателем Сената, в точности продолжил его внешнеполитический курс. В конце июля (по старому стилю) 1899 года в Петербург приехал новый министр иностранных дел Теофиль Делькассе — тот самый, на которого десятью годами ранее обратили внимание Моренгейм и Ламздорф, — ярый сторонник укрепления союза, считавший, что его надо детально закрепить на бумаге. Французского гостя приняли министр иностранных дел Муравьев, военный министр генерал Алексей Куропаткин (сподвижник Скобелева и преемник Ванновского), а затем сам император.
 Теофиль Делькассе
Теофиль Делькассе
Вечером 24 июля (5 августа) Куропаткин, последователь Скобелева и германофоб, отправил Муравьеву срочное и секретное письмо, краткое и лишенное обычных дипломатических экивоков: «Если мы отпустим г. Делькассе с пустыми руками, то мы сыграем в руку Германии и партии во Франции, которая ищет сближения с Германией… Он должен возвратиться во Францию, привезя с собою документ, подтверждающий существование соглашения с Францией и подписанный, с соизволения Государя, Вами и Делькассе… В бытность в Париже я слышал от г. Фора то же желание получить подтверждение Конвенции с новыми подписями. Буадефр, Ганото, Обручев, Лобанов, Гирс — все это во Франции ныне недостаточно авторитетно[18]. Надо слово нашего Государя, надо только Вашу подпись и подпись Делькассе. Я говорил по этому поводу с С. Ю. Витте, и он вполне разделяет мои мнения и мои опасения». Делькассе подготовил текст договора, который был одобрен российской стороной. Он подтвердил дипломатическое соглашение 1891 года, скорректировав его задачу как «поддержание всеобщего мира и равновесия европейских сил», и военную конвенцию 1892 года, сделав ее бессрочной (ранее ее действие обусловливалось существованием Тройственного союза Германии, Австро-Венгрии и Италии). Соглашению снова была придана форма обмена совершенно секретными письмами между главами внешнеполитических ведомств. Подписание документов и обмен ими состоялись 28 июля (9 августа) 1899 года. Принимая во внимание исключительную важность документа, Делькассе увез подлинник на груди под рубашкой, а в Париже вручил его лично президенту Лубэ, оставив себе копию. Ни кабинет министров, ни премьер, ни парламент не были поставлены в известность. В 1900 году состоялось первое совещание начальников генеральных штабов России и Франции, предусмотренное статьей 4 военной конвенции, но до того не проводившееся. В мае 1901 года Делькассе предложил Ламздорфу, занявшему пост главы МИД после скоропостижной смерти Муравьева, скреплять подписями министров иностранных дел протоколы этих совещаний, придавая им таким образом характер межправительственных, а не только межведомственных соглашений, но в Петербурге это сочли излишним и ответили отказом. Впрочем, на двусторонних отношениях это не отразилось. Новый приезд Николая II во Францию четыре месяца спустя, в сентябре 1901 года, подтвердил, что союз не только остается в силе, но крепнет. В мае 1902 года президент Лубэ совершил ответный визит в Россию, где имел не меньший успех, чем его предшественник. Но это уже события ХХ века, выходящие за хронологические рамки нашей книги.


Последние комментарии
1 час 56 минут назад
4 часов 21 минут назад
6 часов 53 минут назад
1 день 2 часов назад
1 день 6 часов назад
1 день 6 часов назад