Библиотека литературы США [Бенджамин Франклин] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
Уильям Брэдфорд История поселения в Плимуте Бенджамин Франклин Автобиография. Памфлеты Сент Джон де Кревекер Письма американского фермера
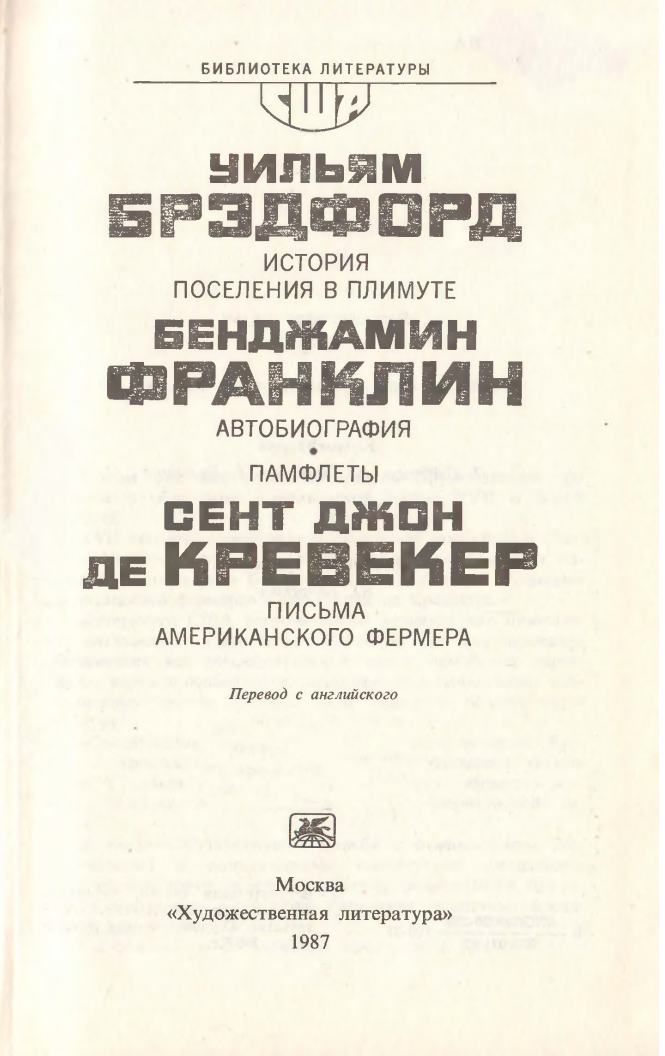
НАЧАЛО АМЕРИКАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1
В этом томе «Библиотеки литературы США» читатель знакомится с образцами американской прозы XVII и XVIII столетий. XVII столетие представлено «Историей поселения в Плимуте» Уильяма Брэдфорда. XVIII — «Автобиографией» и маленькими памфлетами Бенджамина Франклина и «Письмами американского фермера» Сент Джона де Кревекера. Литература США первоначально возникла как ответвление английской словесности и лишь в ходе формирования американцев как самостоятельной нации приобрела характерные черты и особенности, позволившие в дальнейшем американскому народу сделать свой вклад в общемировую культуру. «Соединенные Штаты… были основаны мелкими буржуа и крестьянами, бежавшими от европейского феодализма с целью учредить чисто буржуазное общество…» — писал Энгельс о начальном периоде американской истории[1]. В Англии XVII столетия борьба с отживающими экономическими и политическими институтами феодализма была первое время облечена в форму религиозного брожения, и бунтарями в ту пору выступали различные протестантские секты, подвергавшиеся всю первую четверть века жестоким церковным и правительственным преследованиям. Одна из таких религиозных общин, зародившаяся в крестьянско-ремесленной среде в Ноттингемпшире, бежала от кар и преследований сначала в Голландию, а позднее в Америку. Именно этой общине — «сепаратистам», — принадлежавшей к одному из крайних направлений в английском протестантском движении, было суждено основать в 1620 году Плимутское поселение у полуострова Кейп-Код, на восточном побережье Североамериканского материка. Хотя это было уже второе английское поселение (первое было основано за тринадцать лет до того в Виргинии), ему отводится в американской национальной истории особое место и с ним исторически связано наибольшее число памятных дат и реликвий, почитаемых в США вплоть до нашего времени. Имя парусника «Мэйфлауэр» («Майский цветок»), на котором поселенцы после долгого и опасного плавания подошли к полуострову Кейп-Код, известно каждому американскому школьнику. Отмечается дата высадки «отцов пилигримов» и день торжеств после первого урожая (День Благодарения в четвертый четверг ноября). В США считается также «престижным» возводить свою личную генеалогию к какому-нибудь из пассажиров «Мэйфлауэра» и по сей день существует общество лиц, претендующих на такое родство. Нет недостатка и в произведениях художественной литературы и изобразительного искусства, идеализирующих, подчас неумеренно, все эти события. Даже в «Сватовстве Майлса Стэндиша» У.-Г. Лонгфелло, относящемся к американской классике, жизнь плимутских поселенцев представлена как пастораль, нарушаемая лишь набегами «кровожадных» индейцев. В канун высадки на материк, 22 декабря 1620 года, на «Мэйфлауэре» было также составлено знаменитое «Соглашение», в котором будущие основатели Нового Плимута заявляли о создании «гражданского политического сообщества» для разработки в дальнейшем ради общего блага колонии «справедливых и равных законов», для всех обязательных. Долгое время американские историки апологетического направления восхваляли договор на «Мэйфлауэре» как основу всего последующего буржуазно-демократического законодательства в США. Однако новейшие исследователи усматривают в нем не только антифеодально-освободительную тенденцию, но и зародыш последующих ограничений гражданских свобод, ибо равенства у новоприехавших не было. Наряду со «святыми» (saints), как именовали себя полноправные члены сепаратистской общины, на «Мэйфлауэре» плыли и «чужаки» (strangers), подлежавшие морально-религиозной «опеке» «святых», а также работники — «сервенты», которым предстояло отработать расходы хозяев на их переезд, прежде чем претендовать на какие-либо права. Книга Уильяма Брэдфорда (1590–1657) содержит предысторию сепаратистской общины сначала на севере Англии (автор примкнул к ней еще в ранней юности), а позднее в Голландии. Это — первая, меньшая часть книги. Во второй, собственно американской части своего сочинения Брэдфорд выступает как летописец-хронист и дает погодичную, порою весьма подробную и снабженную комментарием хронику «дней и трудов» поселенцев. И ранее выделяясь в общине как активный участник, он вскоре стал губернатором Нового Плимута, многолетним руководителем и наставником всего поселения. Чтобы понять пафос книги, значение, какое автор придает своей хронике, надо ясно представить, что «отцы пилигримы» считали себя выполнителями определенной им свыше «божественной миссии». Они полагали, что их толкование религиозно-нравственных задач человека и назначения его на земле является единственно правильным и что они пересекли океан, чтобы беспрепятственно претворить свою теорию в жизнь. Все, что встречало их, и трудности и успехи колонии, толковалось ими исключительно по этому признаку: несчастья — как проявления божьего гнева, удачи — как благословение небес. Помехи, или то, что они полагали помехами на пути к поставленной цели, подлежали безусловному осуждению и устранению. При таком сугубо религиозном обличье практика их была целиком буржуазной. Маркс характеризует протестантизм как буржуазную разновидность христианства. После недолгого совместного ведения хозяйства новоплимутцы поделили общую землю колонии на участки, передаваемые в личное пользование, а далее и в собственность. Наряду с характерным для пуритан аскетизмом, простотой и строгостью нравов, по мере того как экономика колонии крепла, все более ценились скопидомство и сметка в коммерции как добродетели, украшающие христианина и отвечающие предъявляемым к нему нравственным требованиям. Отсутствие на новой земле сословных и прочих преград к независимой экономической деятельности служило для колонистов социальной гарантией и одновременно — в их толковании — «божественной санкцией» правильности избранного ими пути. Все сильнее возраставшее имущественное неравенство их не смущало. Когда Брэдфорд на более поздних страницах своего сочинения сетует на ухудшение нравов среди колонистов, он упускает из виду имущественный, экономический фактор, который с течением времени подтачивает ветшающую, становящуюся все более формальной религиозную оболочку их жизни. Если подходить к книге Брэдфорда — ее композиции, элементам стилистики, лексике — как к образцу словесности своего времени, ее легко трактовать как мемуарную, деловую, религиозно-нравственную английскую прозу первой половины XVII столетия. Но если взять ее в целом как литературно-исторический памятник, запечатлевший начальные шаги и первые думы одной из особо характерных по своим устремлениям группы английских поселенцев на неосвоенном еще европейцами клочке колонизуемой заокеанской земли, ее можно с не меньшим правом рассматривать как один из начальных, а в некотором смысле и краеугольных камней в фундаменте будущей американской культуры. В наиболее основательной американской антологии литературы США XVII столетия один из ее составителей и комментаторов пишет, что из всей литературы американского пуританства «История поселения в Плимуте» Уильяма Брэдфорда «с наибольшим правом может быть поименована произведением искусства»[2]. Конечно, трудно было бы ожидать, чтобы в горстке протестантских сектантов, прибывших из Англии за океан, оказался еще один Мильтон или даже Джон Беньян. Да и общее отношение идеологов американского пуританства к литературе, к искусству как суетному началу, отвлекающему человека от главных религиозно-моральных задач, не способствовало совершенствованию артистических сторон в новой заокеанской культуре. Знакомясь с повествованием Брэдфорда, более чем перегруженным библейскими цитатами и коммерческой деловой перепиской, современный читатель — при всей ценности книги как исторического источника — лишь с очень большим сомнением отнесет ее к изящной словесности. И тем не менее определенные поводы к тому существуют. Не слишком часто, но все же время от времени читатель встречает страницы, где непосредственное чувство, эмоция преодолевают деловитую сухость губернатора Брэдфорда и дают достаточно яркий, в определенной мере художественный эффект. Таковы, например, разделы, посвященные высадке и первым шагам «пилигримов» (это имя пассажирам «Мэйфлауэра», кстати, первым дал Брэдфорд) в новой суровой стране — а условия были настолько тяжелыми, что половина новоприбывших, не перенеся испытаний, умерла в тот же год. Такова посмертная похвала одному из духовных вождей и наиболее образованных членов колонии Уильяму Брюстеру, описание жизни которого должно, по замыслу автора, служить примером и для него, и для всех остальных. Такова, в другом роде, исполненная сарказма характеристика одного из прибывших позднее в роли священнослужителя некоего Джона Лайфорда, скрывавшего — в сатирическом освещении автора — под ханжеской маской паразитизм, распущенность и интриганство. Заслуживает внимания автобиографизм, вносимый Брэдфордом в книгу, — история жизни крестьянского сына и автодидакта, мужественного, готового к жертвам во имя своих убеждений. Отметим и чуждость Брэдфорда литературным претензиям, прокламируемое им уже в самом начале книги стремление к «простому стилю», доступному широкому кругу читателей. Брэдфорда трудно причислить к оригинальным мыслителям — В.-Л. Паррингтон, известный историк общественной мысли в США, не посвящает ему ни строки, — но очевидная искренность Брэдфорда, наивная подчас прямота, нечуждость — к случаю — юмору заметно выделяют его из числа ищущих лишь славы и выгоды честолюбцев и казуистов, которых находим немало среди лидеров американского пуританизма этого времени. В заслугу ему можно также поставить терпимость к недолго пробывшему в Плимуте Роджеру Уильямсу, выступавшему за свободу совести и в защиту прав индейского населения. Этот близкий к левым левеллерам в Англии передовой и высокообразованный идеолог, друг Мильтона и Генри Вэйна, подвергся в дальнейшем преследованиям в более фанатичном соседнем с Плимутом Массачусетсе. При том не следует преувеличивать гуманность или широту взглядов губернатора Брэдфорда. Всех «благочестивых pilgrim-fathers («отцов-пилигримов»)», как пишет Маркс, сближало беспощадное отношение к коренному населению колонизуемых территорий, американским индейцам, которые на первых порах бескорыстно оказали неоценимую помощь европейским пришельцам (научили их местным методам земледелия и рыболовства). Правда, однажды, в интересах поддержания законности, три колониста были преданы в Плимуте казни за убийство и ограбление встреченного индейца. Однако, коль скоро грубо обманываемые навязываемыми им «договорами» индейские племена решались открыто противодействовать экспансии белых захватчиков, Брэдфорд, как и другие пуританские руководители, проявляет безжалостность. Так, повествуя об уничтожении огнем и мечом индейцев-пекотов в 1637 году, проведенном Массачусетским и Коннектикутским поселениями (плимутцы не подоспели к расправе), Брэдфорд сообщает: «Страшно было взирать, как они заживо жарятся в пламени, в то время как потоки их крови, заливая огонь, вызывают невообразимый чад и зловоние. Но победа была сладостной жертвой, и они вознесли хвалу господу». Эти позорящие губернатора Брэдфорда строки заставляют читателя вспомнить о фанатической ярости пуритан — так, десятилетием позднее, богомольные солдаты Кромвеля зверствовали в Ирландии, считая «папистов» (католиков) недостойными жалости. Встает и вопрос об уже зарождающемся американском расизме, с точки зрения которого индеец был не более чем «частью флоры и фауны»[3] колонизуемых территорий, которую надлежало эксплуатировать или же истреблять. Нельзя не отметить, что посреди многочисленных «чудес свыше», какими они спешили объявить все свои удачи и достижения, выделяется сотворенное американскими пуританами несомненное экономическое, чисто буржуазное чудо — превращение сохранившегося у индейских племен кровавого воинского атрибута эпохи родовых отношений в пользующийся спросом товар. «Пуритане Новой Англии — эти виртуозы трезвого протестантизма, — писал Маркс в «Капитале», в главе «Так называемое первоначальное накопление», — в 1703 г. постановили… выдавать премию в 40 ф. ст. за каждый индейский скальп… в 1744 г., после объявления в районе Массачусетского залива одного племени бунтовщическим, были назначены следующие цены: за скальп мужчины 12 лет и старше 100 ф. ст. в новой валюте… за скальп женщины или ребенка — 50 фунтов стерлингов»[4]. О том, что с окружающими индейскими племенами были реально возможны и сотрудничество, и дружба, свидетельствует практика того же Роджера Уильямса в основанном им поселении в Род-Айленде. Более того, он изучал быт и внутриплеменную жизнь соседей-индейцев и написал о них книгу. Однако практика большинства других американо-пуританских колоний была прямо противоположной, направленной на оттеснение и истребление индейцев. Оценивая наследие пуританизма в США в целом, надо сказать, что плебейско-демократические традиции английского пуританства исторически сыграли определенную прогрессивную роль в подготовке американской буржуазной революции XVIII столетия. По-иному было в сфере культуры и литературы. Если на мощном стволе вековой английской культуры пуританизм был не более чем боковой ветвью дерева, то, привитой в заокеанских колониях к «дичку» новосоздаваемой цивилизации, он вошел в плоть и кровь новой нации и надолго стал одним из формирующих факторов в общедуховном развитии страны. Не умершая в пуританские годы традиция Чосера и елизаветинцев и антипуританская сатира периода Реставрации действовали активно лишь в Англии; США оставались заводью пуританизма все XVII столетие и большую часть XVIII. Борьба с его цепкими пережитками оставалась актуальной для американской литературы и позже, вплоть до начала нашего века[5]. Если говорить об иных, не запятнанных фанатизмом и ханжеством сторонах пуританской культуры, формировавших национальный характер и духовный облик американца, то к пуританской традиции в определенной мере относятся и суровые черты романтизма Натаниеля Готорна и Германа Мелвилла, ригоризм Эмерсона и Торо, моральная сосредоточенность в творчестве Сары Орн Джуэт и Эмили Дикинсон.2
При жизни Франклина получила известность шутливая эпитафия, написанная им самому себе еще молодым человеком — историки американской литературы именуют ее «знаменитейшей из созданных в США эпитафий».«Здесь лежит тело типографа Вениамина Франклина, Как переплет старой книги, Лишенный своего сочинения, своея надписи и позолоты В снедь червям; Но сочинение само не пропало, Оно, как он уповает, когда-нибудь Паки в свет покажется В новом и лучшем издании, Исправлено и украшено Сочинителем».Эта автоэпитафия Франклина весьма показательна для тех перемен, которые произошли в духовной жизни американских колоний за столетие, протекшее с высадки пассажиров «Мэйфлауэра». В душном мире нетерпимости новоанглийских теологов повеяло свежим воздухом. С характерным деистическим свободомыслием юный автор непринужденно трактует основополагающий пуританский догмат о бессмертии души в терминах своего типографского ремесла. Русский текст анонимного переводчика, напечатанный в 1780 году в петербургском журнале, с несомненным искусством передает пародийно-торжественную стилистику подлинника[6]. В ряду замечательных людей, прославивших век Просвещения, американец Франклин занимает видное место. Он не был великим ученым, как Ломоносов, или великим социальным мыслителем, как Жан-Жак Руссо, или великим политическим писателем подобно Вольтеру. Но во все эти сферы интеллектуально-общественной деятельности, которые мощно преобразовывала революционизирующая мысль Просвещения, Франклин внес бесспорный вклад. Он также сумел сочетать в своей жизни и личности эти широкие интересы своеобразным и гармоническим образом. Долгая жизнь Франклина захватила чуть ли не весь XVIII век. Он пережил почти всех своих современников, великих писателей европейского Просвещения, и в полной мере реализовал программу, возможную для передового человека своего поколения: прошел путь просветителя от пропаганды начатков деистических и антиабсолютистских идей до практического участия в борьбе за буржуазно-демократическую республику в последней четверти века. Франклин родился в 1706 году в Бостоне. Младший сын переселившегося из Англии, обремененного многодетным семейством ремесленника, он с двенадцати лет уже начал грудиться. В своей «Автобиографии» Франклин подробно рассказывает, как, будучи учеником в типографии в этом крупном по тому времени городе, он жадно и самоотверженно занимался самообразованием, как пристрастился к печатному делу и к книге, стремясь стать самому типографщиком — наборщиком, автором, редактором и издателем в одном и том же лице, — как в то время бывало принято. Весь средний период жизни Франклина тесно связан с другим городским центром колониальной Америки — с Филадельфией. Начав с малого, он развернул здесь широкую и настойчивую просветительскую деятельность. Он организует сообщество ремесленников и подмастерьев, которое ставит своей целью самообразование, борьбу с религиозной нетерпимостью и распространение полезных знаний. Позднее, когда он заводит свою типографию, он предпринимает издание газеты и расходящихся по стране календарей-альманахов. Пропагандируя деистические идеи и научное знание, издания Франклина исподволь подрывают теологическую и клерикальную традицию в культуре колониальной Америки. Типография приносит доход, Франклин становится состоятельным человеком и вынуждает считаться с собой чванную квакерскую филадельфийскую буржуазию. Он добивается ответственных должностей в муниципальных органах Пенсильвании, проявляет инициативу в создании общественных учреждений, в том числе городской больницы (первой в Америке) и публичной городской библиотеки, основывает училище для юношества, из которого вырастает в дальнейшем Пенсильванский университет, и в 1743 году создает Американское Философское общество, объединяющее американских ученых. Довольно рано Франклин начинает самостоятельно выступать по интересующим его научным проблемам. Маркс высоко оценивает высказывания молодого Франклина по вопросам, касающимся политической экономии. «Первый сознательный, почти тривиально ясный анализ меновой стоимости, — пишет Маркс, — сводящий ее к рабочему времени, мы находим у человека Нового Света, где буржуазные производственные отношения, ввезенные туда вместе с их носителями, быстро расцвели на почве, на которой недостаток исторической традиции уравновешивался избытком гумуса. Этот человек — Бенджамин Франклин…»[7]. В середине 40-х годов Франклин предпринял свои первые опыты по изучению атмосферного электричества. Отсутствие специальной теоретической подготовленности ограничивало поле его исследований. Однако выдающееся дарование экспериментатора и изобретателя позволило Франклину сделать важные практические выводы из своих научных открытий. После знаменитого опыта с запуском в грозовую тучу оснащенного металлическим острием бумажного «змея» Франклин приходит к идее громоотвода. Достижения Франклина в далекой заокеанской стране вызвали сенсацию в европейских ученых кругах. «Никто бы не чаял, чтобы из Америки надлежало ожидать новых наставлений о электрической силе, а однако учинены там важнейшие изобретения, — писали летом 1752 года «Санкт-Петербургские ведомости». — В Филадельфии, в Северной Америке, господин Вениамин Франклин столь далеко отважился, что хочет вытягивать из атмосферы тот страшный огонь, который часто целые земли погубляет». Ломоносов, сам занимавшийся вопросами атмосферного электричества, с большим интересом отнесся к экспериментам Франклина. В течение 50-х и 60-х годов многие из европейских ученых обществ включили американца как равного в состав своих членов, а университеты поднесли ему почетные ученые степени. Он стал известен в Европе как «доктор Франклин». Громоотвод не принадлежит к самым крупным изобретениям XVIII столетия. Но трудно назвать другое открытие, которое так настраивало бы на полемический лад в борьбе с суеверием, вызывало бы такое озлобление церковников и так подходило бы для пропаганды научного знания в самых широких массах. Это было изобретение «с идеологией». Позднее, когда создатель громоотвода стал одним из видных вождей американской Войны за независимость, получила широкую известность латинская подпись Тюрго под изданным во Франции гравированным портретом Франклина: «Eripuit coelo et fulmen sceptrumque tyrannis» («Исторгнул молнию с неба и скипетр у тирана»). Радищев приводит ее в своем «Путешествии из Петербурга в Москву». Долгое время, пока не были исчерпаны конституционные формы борьбы с метрополией, Франклин живет и работает в Англии в качестве представителя Пенсильвании, Массачусетса (позднее и Джорджии), энергично отстаивает в английских королевских инстанциях экономические и политические интересы колоний, ведя одновременно неофициальную кампанию в печати. Когда политический разрыв становится неизбежен, он возвращается в Филадельфию, чтобы принять деятельное участие в революционных событиях. Как один из руководящих делегатов Второго Континентального конгресса он участвует в редактировании написанной Джефферсоном американской Декларации независимости, одного из важных политических документов буржуазной революции XVIII столетия. Используя противоречия в лагере абсолютизма, восставшие американцы ищут военной и финансовой помощи у Людовика XVI, главного соперника Англии в Европе и за океаном. Франклин появляется при версальском дворе, заключает американо-французский союз и ведет искусную дипломатическую борьбу против лондонского правительства. В успешном выполнении этой ответственной миссии ему немало помогают его авторитет как ученого и писателя и обширные связи с научными и литературными кругами в Европе. В 1785 году Франклин вернулся на родину и прожил в Филадельфии еще несколько лет. В 1790 году он скончался. Незаконченная (выполненная едва ли на треть) «Автобиография» Франклина — важный памятник американской словесности XVIII столетия. Его обширное литературно-публицистическое и эпистолярное наследие представляет непреходящую ценность для истории американской культуры и восполняет недописанные главы задуманной книги[8]. Своей безыскусственностью и прямотой «Автобиография» как бы наследует «простому стилю» губернатора Брэдфорда, но полностью свободна от тяготевшей над всем, что вышло из-под пера пуритан, «божественной санкции». Вместе с «божественной санкцией» уходит и вековой пиетет перед книжной торжественностью библейской прозы как литературного образца. Франклин чуток к повседневному разговорному языку и прибегает к нему без стеснения. Особое место «Автобиографии» Франклина — первого американского литературного произведения, получившего известность в Европе, — в немалой мере объясняется тем, что он выступает в ней не только автобиографом, но также как бы создателем нового, выдвигаемого эпохой положительного литературного персонажа. Сын мыловара, ремесленник-типографщик, скромный гражданин Филадельфии, он становится «велик и знаменит», опираясь не на родовитость и знатность, а лишь на трудолюбие и разум. В качестве посла первой буржуазной республики он стоял в темном квакерском платье перед раззолоченными царедворцами и монархами и разговаривал с ними с уверенностью представителя нового класса, вступившего на историческую арену. В таком зрелище было от чего возгордиться и прийти в умиление людям из поднимающихся социальных низов. Горячо убеждая Франклина довести до конца историю своей жизни и деятельности, его друг англичанин Воуэн так говорит во включенном Франклином в книгу известном обращении к нему: «Ваш рассказ о себе покажет, что Вы не стыдитесь своего происхождения… Вы доказываете, как это малосущественно, когда дело идет о счастье, добродетели и величии», и заключает, что, когда книга появится, она будет полезнее для человечества, «чем все жизнеописания Плутарха, взятые вместе». Франклин-сатирик — выдающаяся фигура американской литературы XVIII столетия. Его маленькие памфлеты входят по праву в общемировое сатирическое наследие эпохи. Они были написаны частью в ходе борьбы американских колоний за независимость («Об экспорте преступников в колонии», «Эдикт прусского короля», «Продажа гессенцев» и др.), частью в борьбе с социальным злом в молодой американской республике («Заметки о североамериканских дикарях», «О торговле рабами» и др.). Метод Франклина-сатирика своеобразен. Он редко негодует «в открытую». Под маской строгой, как бы беспристрастной подачи фактов он методично разоблачает противника, после чего представляет читателю сделать самому неизбежные выводы. Прочитав «Заметки о североамериканских дикарях», читатель не может не задаться вопросом, кого же на самом деле надо именовать североамериканскими дикарями — американских индейцев или белых захватчиков?[9] С той же целью, желая подвести читателя к самостоятельным выводам, Франклин прибегает к мистификациям, искусно вводя в оборот вымышленные скрыто-пародийные «документы», бросающие беспощадно-разоблачительный свет на проявления феодально-абсолютистского произвола («Продажа гессенцев») или рабовладение в буржуазной Америке («О торговле рабами»). В этом последнем он в речи восточного деспота и пирата, якобы вычитанной им в некоем старинном издании, развивает аргументацию против освобождения захваченных в плен христиан, почти дословно воспроизводящую доводы сторонников рабовладения в США, и выражает далее свое недоумение и удивление по поводу этого постыдного сходства. Сатирические мистификации Франклина имели шумный литературный успех у современников. Анализируя дальнейшую репутацию Франклина как идеолога и писателя, необходимо коснуться собственно буржуазных моментов в его жизни и творчестве. В 30–50-х годах в Филадельфии — и в выпускаемой им газете и в альманахах — Франклин вел активную пропаганду повседневной житейской морали в духе новых буржуазных воззрений, проповедуя бережливость, расчетливость и коммерческое благоразумие. В этих произведениях Франклина («Путь к богатству», «Совет старого торговца молодому торговцу» и др.) специфически буржуазный момент выражен очень отчетливо и заставляет читателя помнить, что автор и сам одно время был торговцем, нажившим себе состояние. Когда в новом столетии романтики подвергли запальчивой критике утилитаризм Просвещения, попытку рассматривать и природу, и душевный мир человека лишь с критериев полезности, они обрушили свой гнев на Франклина, который давал в этом смысле особенно сильные основания для критики. Китс назвал его «квакером, набитым скаредными поучениями», а Карлейль «прародителем всех будущих янки», имея в виду торжество материальной выгоды над духовными интересами человека, столь характерное для ведущих тенденций жизни и деятельности в заокеанской буржуазной республике. Действительно, канонизованный к тому времени в США, хрестоматийный Франклин представлял собою довольно жалкое зрелище. В его образе было старательно вытравлено все, что выходило за рамки примитивно-буржуазного здравого смысла. Это был американский благонамеренный бюргер, какой-то бизнесмен XVIII столетия. Рисовать так, однако, Франклина можно только вопреки исторической истине. Ни взгляды, ни личность Франклина-просветителя никак не укладываются в рамки буржуазно-охранительной идеологии. И он сам не по плечу тем из своих соотечественников, кто пытается его истолковывать в этом духе. В вопросах об отношении к религии Франклин проявлял известную осторожность. Хорошо зная нравы американских церковников, он не шел дальше признания в деизме даже в частных письмах к друзьям. Тем не менее его крупные заслуги в деле расшатывания традиционного религиозного мировоззрения в США остаются бесспорными. Добавим, что один из его французских друзей оставил свидетельство, что Франклин «почитал только великую природу». Возвратившись на родину, когда закладывались основы американской буржуазной республики, уже обремененный годами и томимый недугами престарелый Франклин остается верным своим основным демократическим и просветительским идеалам. В «Вопросах и замечаниях по поводу перемен в конституции Пенсильвании» (1789) он резко выступает против создания верхней палаты, представляющей крупную собственность. «Или вы полагаете, что мудрость непременный спутник богатства?..» — не скрывая насмешки, вопрошает Франклин. По поводу рабства негров некоторые из американских просветителей под давлением влиятельных в Конгрессе южных плантаторов заняли половинчатую позицию. Такого упрека нельзя сделать Франклину. Возглавляя Пенсильванское общество за освобождение негров, он подписал обращение к Конгрессу о законодательном запрещении рабовладения на всей территории США и, потерпев неудачу, опубликовал за месяц до смерти свой бескомпромиссный памфлет «О торговле рабами».
3
Хотя «Письма американского фермера» бесспорно принадлежат американской литературе, их автора трудно без оговорок признать подлинно американским писателем. Не говоря уже о Франклине, этом живом воплощении материальных и духовных интересов английских колоний в Америке XVIII столетия, даже йоркширский крестьянин Брэдфорд, ступивший впервые на американский берег с «Мэйфлауэра», был более американцем, чем этот американизировавшийся (и далее полностью «разамериканизировавшийся») француз. И «Письма» его — своеобразное сочетание подлинных наблюдений над жизнью американцев в годы, предшествующие борьбе за независимость США, и сильно идеализированных представлений об английских колониях в Америке, насаждавшихся некоторыми из писателей французского Просвещения в те же годы в Европе. Весьма знаменательно в этом смысле посвящение Кревекером своей книги «аббату Рейналю». Тесно связанный с французскими просветителями, Г.-Т. Рейналь, выпустивший в 1770 году широко читавшуюся «Политическую и философскую историю поселения и торговли европейцев в обеих Индиях», рисовал из своего парижского далека жизнь колонистов в Америке как род руссоистской утопии. Мишель-Гийом Жан де Кревекер (1735–1813) родился в дворянской семье в Нормандии и получил первоначальное образование в иезуитском коллеже. Повздорив с отцом, он уехал сперва в Англию, а оттуда в 1755 году в Канаду, где участвовал в англо-французской войне сперва как топограф, а позже как офицер в регулярных французских частях. После разгрома французов он переехал в Нью-Йорк и, оставшись в английских колониях, принял имя Джеймс Гектор Сент Джон. Десять лет он вел бродячую жизнь, работая попеременно то землемером, то торговцем вразнос, заходя в своих странствиях в малонаселенные районы и часто общаясь с индейцами. В 1769 году он женился на дочери состоятельного землевладельца и, купив сто двадцать акров лесистой земли в колонии Нью-Йорк, расчистил своими силами почву для земледелия, выстроил дом, вырастил сад и прожил еще десять лет в качестве американского фермера, совершенствуя и расширяя хозяйство и время от времени путешествуя. Он был, однако, не рядовым колонистом, обрабатывающим землю для хлеба насущного, но образованным «фермером-джентльменом» и «землепашцем-философом», черпающим моральное и эстетическое удовлетворение от жизни на лоне природы. Ферма давала доход, и вскоре он получил возможность уделять время литературным занятиям и написал свои первые очерки. Трудно представить, чтобы этот фермер-философ был настолько оторван от политической жизни страны, как фермер Джеймс в его книге, но, как видно, он тоже воспринял восстание американцев против британского гнета и начало Гражданской войны как трагический крах своего наполовину реального, наполовину дополненного воображением беспечального мира. В 1779 году, оставив семью в Америке, он решает ехать во Францию, чтобы восстановить связь с родными, и, быть может, туда перебраться. После множества злоключений (англичане в Нью-Йорке заподозрили его в шпионаже и держали в военной тюрьме) он добрался к концу 1780 года до Лондона, где и продал издателю взятые им с собой «Письма американского фермера», которые были опубликованы в Лондоне в 1782 году. В том же году Кревекер переезжает в Париж, где благодаря своим аристократическим связям становится вхож в литературные салоны столицы. В атмосфере уже определившейся победы американско-французских армий над англичанами и отчасти под эгидой французских друзей Франклина он получает известность как автор вышедших в Лондоне «Писем», готовит расширенный французский вариант своей книги и вскоре, как признанный знаток американских колоний, добивается должности французского консула в обретших уже независимость США. По прибытии в Нью-Йорк Кревекер, к ужасу своему, узнает, что дом его в ходе военных действий сожжен, жена умерла, семейство рассеяно. Таков был горький конец жизни и мечты Кревекера в роли американского фермера. В течение следующих нескольких лет он деятельно исполнял свою должность французского консула в США. На протяжении 1780-х годов «Письма американского фермера» выдержали два французских издания, вышли в Германии, в Голландии и получили европейскую репутацию (из объявлений петербургских и московских книгопродавцев видно, что книга была известна и русским читателям)[10]. В 1790 году Кревекер навсегда покидает Америку. В 1801 году он еще раз выступает в печати уже по-французски, опубликовав в Париже трехтомное «Путешествие по Верхней Пенсильвании и штату Нью-Йорк», несколько хаотичный свод накопившихся у него сведений об Америке. Почти через полтора века после первого выхода «Писем» в США увидели свет сохранившиеся в архиве семьи Кревекеров во Франции еще одиннадцать очерков и незавершенные драматические сцены под названием «Пейзажи», не включенные автором в книгу[11]. «Письма американского фермера» были написаны Кревекером, как указано им на титуле, «для сведения друга, живущего в Англии». Хорошо известные слова Маркса, что США были «обетованной землей» для «миллионов безземельных Европы»[12], выражали вполне реальные обстоятельства эмиграции пауперизоввнпых крестьян и ремесленников из феодально-сословного Старого Света, мечтавших стать независимыми земледельцами га океаном. Такие важнейшие главы у Кревекера (составляющие почти треть его книги), как «О положении, чувствах и радостях американского фермера» и «Что такое нмсриканец?», собственно говоря, отражают эти реальные обстоятельства, но в сильно идеализированном автором виде. «Здесь все ново, мирно и благодетельно», — сообщает «американский фермер» своему воображаемому европейскому адресату. «Война никогда не опустошала наши поля, вера наша не угнетает земледельцев, нам чужды феодальные учреждения… Законы наши просты и справедливы; мы — народ земледельцев, земледелие наше ничем не ограничено, и потому все вокруг цветет и преуспевает». И далее: «Когда европеец приезжает в Америку, его намерения и взгляды кажутся узкими… Но… уже с первыми глотками нашего воздуха он начинает строить планы и замышлять предприятия, о которых у себя на родине не смел бы и мечтать». Кревекер иллюстрирует эти слова во вставной новелле «Повесть об Эндрю, шотландце с Гебридских островов» — истории нищего иммигранта, который при братской помощи и общем доброжелательстве приехавших до него колонистов превращается из забитого бедняка в независимого американского фермера. Даже Джордж Вашингтон, ознакомившись с «Письмами» Кревекера, нашел, что тот «приукрашивает» американскую жизнь. С точки зрения историка здесь замалчиваются наиболее мрачные стороны эмиграции. В сильно смягченном виде представлены и чрезвычайные трудности, которые ждали крестьянина при освоении целины и обзаведении хозяйством. Сохранилось свидетельство, что партия переселенцев из Франции, вдохновлявшаяся в своем решении ехать за океан «Письмами» Кревекера, тяжко бедствовала и частью нашла свою гибель в непроходимых чащах Огайо. При том не следует недооценивать конкретные наблюдения автора, касающиеся образа жизни, обычаев, нравов в американских колониях. Показывая предприимчивость и кипучую энергию американского фермера, Кревекер говорит об индивидуализме и собственничестве как могучих стимулах его трудолюбия и в числе его характерных черт называет эгоизм и «сутяжничество». Неумеренно превознося добродетели квакеров (что делает также Рейналь, но чего избегает, заметим, отлично знакомый с квакерским обиходом Франклин), Кревекер все же не забывает сказать об их «аппетите к коммерции». Он также говорит о разнузданности признающих лишь право сильного пионеров на американской «границе». Бесспорный историко-бытовой интерес представляют пять глав (письма IV–VIII), посвященных жизни и профессиональным занятиям американцев, населивших острова у берегов Массачусетса, Нантакет и Мартас-Винъярд. И здесь присутствует общая идеализирующая тенденция, но вместе с тем отчетливо сказываются демократические воззрения автора: труд и простота нравов обеспечивают, по его мнению, здоровый социальный климат в этих приморских селениях. На подобных примерах автор демонстрирует свой общий тезис, что человек — плод воспитывающих его обстоятельств: «Нас всех создает не что иное, как воздух, которым мы дышим… правительство, которому мы подвластны… и род наших занятий». Независимость, смелость и чувство собственного достоинства массачусетских китобоев описаны у Кревекера с неподдельным восторгом. Изображение опасной морской охоты и классификация добываемых нантакетскими моряками китов как бы предшествует «Моби Дику» у Мелвилла. Обращаясь к вопросу о рабстве, Кревекер клеймит беспощадную эксплуатацию негров на Юге и в IX письме, посвященном Чарльстону, рисует страшную казнь негра-раба, восставшего против надсмотрщика. Но он довольно терпим к рабству негров на Севере (фермер Джеймс, от лица которого ведется рассказ, владеет невольниками), при условии, что невольник сыт, обут и одет и не подвергается жестокому обращению. В одном из последних писем Кревекер выводит некоего путешествующего «русского джентльмена И—на А—ча», который навещает знаменитого американского ботаника-квакера Джона Бертрама и беседует с ним о положении крепостного крестьянства в Российской империи. Заметим, что Кревекер еще дважды выводит в своих произведениях образованных русских людей, путешествующих в английских колониях в Америке[13]. Значительное место в «Письмах американского фермера» занимает изображение американской природы, лесов и полей, деревьев, цветов, животных. Автор выступает на этих страницах как одаренный художник-натуралист. «Письма американского фермера», признанные новейшими американскими литературоведами как «малая классика», не имели прямого литературного влияния в США; книга фактически оставалась там почти нечитаемой. На фоне американской словесности своего времени проза Кревекера выделяется поэтичностью и изяществом и была высоко оценена такими мастерами английского эссе, как Хэззлит и Лем. Не исключается, что пафос «естественной жизни» у Кревекера имел отклик у французских сентименталистов и предромантиков начала столетия (у Бернардена де Сен-Пьера в «Поле и Виргинии» и Шатобриана в его «Атала»). Что касается уже названных, не включенных им в книгу и остававшихся долгое время безвестными очерков Кревекера, то, характеризуя их, надо отметить два важных момента. Во-первых, в иных из них в значительно большей мере отражены трудности, поджидающие европейского поселенца в Америке. Обрисованные автором мошенничества при продаже земли и паутина долгов, в которой безнадежно запутываются многие из поселенцев, вносят существенную поправку в буколическую историю шотландца Эндрю с Гебридских островов. Во-вторых, из других очерков и из драматических набросков «Пейзажи» выясняется, что Кревекер, лавируя между «лоялистами» — американцами, оставшимися верными британской короне, и «патриотами» — сторонниками независимости страны, более сочувствовал первым (вместе с тем глубоко осуждая жестокость и тех и других). Он словно совсем не видит идейных борцов за национальную независимость и за республику, и рисуемая им картина в этом смысле ограниченна и одностороння. В то же время, как бы заглядывая намного вперед, он сумел усмотреть «в зародыше» характерную фигуру американского политикана, ханжи, лицемера и демагога, не гнушающегося самых бесчестных и низменных средств и под прикрытием показных патриотических чувств занимающегося личным обогащением. Надо думать, что, если бы эти очерки оказались в свое время включенными в «Письма американского фермера», ответ Кревекера на вопрос «Что такое американец?» был бы менее оптимистичным.А. Старцев
УИЛЬЯМ БРЭДФОРД ИСТОРИЯ ПОСЕЛЕНИЯ В ПЛИМУТЕ Преревод З. Александрова
КНИГА 1-я
Прежде всего о причинах, побудивших к написанию сей истории, которую, чтобы изложить ее правильно, начать должно от самых корней. Что и буду тщиться делать, излагая ее языком простым и строго во всем придерживаясь истины, в той мере, в какой способен постичь ее слабым моим разумением.1 ГЛАВА
Людям разумным и благочестивым известно, что, с тех пор как истина Святого писания озарила Англию (первую страну, которую просветил господь послекромешной тьмы папизма, окутавшей христианский мир), Сатана повел против святых войну{1} и тем ли, другим ли способом ведет ее и поныне. То кровавыми казнями и жестокими пытками; то заточением, изгнанием и иными гонениями; опасаясь, как бы не пришел конец его царствию, а церковь божья не обрела былой чистоты и не вернулась к изначальному порядку, свободе и благолепию. Не сумев всеми средствами этими одолеть истину Святого писания, которая во многих местах пустила корни и принесла сладостные плоды — ибо оросила ее кровь мучеников и осияло благословение небес, — обратился он к прежним своим ухищрениям, на какие пускался некогда противу первых христиан. Когда кровавые и жестокие гонения, какие воздвигли на них императоры-язычники, не помешали быстрому распространению Святого писания во всех известных в ту пору странах, принялся он сеять заблуждения, ереси и разлад среди самих же христиан (пользуясь гордостью, честолюбием и иными пороками, присущими всем смертным, а отчасти даже и святым{2}), а это имело следствия самые прискорбные; не только ярые раздоры, зависть, схизму и прочую безобразную смуту; но еще навязывает Сатана гнусные свои обряды со множеством ненужных канонов и установлений, коими поныне улавливают, как в ловушки, немало несчастных душ. Гонения, коим в древние времена подвергали христиан язычники и их императоры, не более были жестоки, чем те, что воздвигли одни христиане на других; как, например, ариане и сообщники их на истинных христиан. Так говорит в своей второй книге Сократ{3}, и вот слова его:[14] «Воистину (говорит он) не менее было тут жестокости, чем прежде проявляли против христиан, когда принуждали их приносить жертвы идолам; ибо многие подвергнуты были различным пыткам, вздернуты на дыбу и четвертованы; лишены имения; изгнаны из родной страны; испустили дух в руках палача или же скончались в изгнании, не узрив родины, и т. д.». Подобные средства употребляет Сатана и в наше время, когда истина стала распространяться после ущерба, нанесенного ей антихристом, человеком греха. Ибо бесчисленны примеры, во многих странах и среди разных народов, включая и наш, когда древний змий, не сумев победить с помощью костров и других лютых казней, какие по его наущению были в ходу при королеве Марии{4} и прежде нее, повел иного рода войну и взялся за дело еще усерднее, дабы не только нападать на Христово царство, но и вовсе его разрушить средствами более скрытыми и хитрыми, раздувая пламя раздоров, сея семена несогласия и вражды среди самих приверженцев реформированной церкви. Не одолев прежними способами самые основы веры, направил он свои усилия против святой дисциплины церковной и земной рати царства Христова, коими священные правила эти и истинное благочестие соблюдаются святыми и народом божиим. Мистер Фокс повествует, что, кроме мучеников и исповедников, сожженных и еще как-либо замученных при королеве Марии{5}, «были тогда и бежавшие за пределы страны (студенты-богословы и иные), числом до 800. Они-то и составили общины в Везеле, Франкфурте, Базеле, Эмдене, Марбурге, Страсбурге, Женеве и др.». И тут пошли у них (особенно во Франкфурте) неистовые споры насчет обрядов, богослужебных книг и иного папистского, нехристианского мусору, доныне оскверняющего Англию и подобного жертвенникам на высотах Израиля, которые пророками обличаемы были и разрушены. Лучшая часть общин, придерживаясь Писания, решилась полностью отвергнуть его и искоренить. Другая же часть (скрываясь под различными предлогами) в собственных корыстных целях столь же усиленно защищала его и поддерживала, что видно из диспута, выданного в свет в 1575 году, каковая книга достойна более внимательного с ней ознакомления{6}. Одни тщились установить в церкви истинное служение господу и христову дисциплину, согласную с простотою Писания, по слову божию, а не по людским выдумкам, и чтобы отправляли ее, как велит Писание, пасторы, наставники и старейшины. Другие же, хоть и скрывали это под разными отговорками и предлогами, желали сохранения епископата (как у папистов) и всей власти его, церковных судов, канонов и обрядов; а также бенефициев и подчиненных епископу служащих и прочих средств, кои прежде поддерживали всю их нехристианскую пышность и позволяли надменно угнетать бедных слуг божиих. Раздоры эти столь были яростны, что ни страх божий, ни преследования, коим подвергались все они совокупно, ни посредничество м-ра Кальвина и других тамошних служителей божиих не мешали приверженцам епископата всячески нарушать мир в несчастной, гонимой церкви, вплоть до того, что некоторых главных своих противников обвиняли они (несправедливо и безбожно, но как и свойственно прелатам) в мятеже против императора, государственной измене и тому подобных преступлениях. И борьба эта не прекратилась с кончиной королевы Марии и не осталась за морем, ибо после смерти ее, при милостивой королеве Елизавете{7}, люди те вернулись в Англию, где многие из них получили епископский сан и иные почести, а неискоренимая ненависть их к святой дисциплине церкви христовой длится и по сей день. Чтобы не дать ей укрепиться, всевозможные строятся козни и к разным прибегают уловкам; восстанавливали против нее королеву и правительство, как якобы опасную для государства; утверждали, что при общем невежестве и суевериях всего важнее проповедь главных истин веры; что для умов слабых и темных следует сохранить некоторые безобидные обряды; что хотя кое-что и нуждается в исправлении, но не настало еще для него время. И многое в таком роде, чтобы вынудить благочестивых умолкнуть и соглашаться то на один, то на другой обряд; хитростями этими кого обманывая, а кого совращая, пока не начали словом и делом преследовать всех ревнителей веры в стране (хоть не знали толком, что есть эта дисциплина), если те отказывались выполнять их обряды и подчиниться папистским бредням, которые не от слова божьего идут, но от человека греха. И чем ярче воссиял свет истинной веры, тем более настаивали они на подчинении этой мерзости. Так что (несмотря на все прежние их заверения и хитрые уловки) все, кого господь не ослепил, ясно могли увидеть, к чему идет дело. И дабы еще более очернить истинных слуг божиих, дали им оскорбительное название пуритан, которое, как говорят, из гордости присваивали себе новатиане[15]. И прискорбно видеть, какие это имело следствия. Вера была поругана, благочестивые люди погружены в скорбь, преследуемы, многие изгнаны, иные расстались с жизнью в темнице или как-либо иначе. А грех, напротив того, поощрялся, невежество, кощунство и безверие распространялись, и паписты были вновь обнадежены. Вот отчего м-р Перкинс, этот святой человек, призывает к раскаянию, проповедуя на текст из Библии: «Религия (говорит он) вот уже 35 лет среди нас; но чем более распространяется она, тем большие терпит поношения от многих и т. д. Не грех и нечестивость, но сама религия стала посмешищем, притчей во языцех и укором; так что в нынешней Англии мужчине или женщине, решившим исповедовать истинную религию и служить богу, следует быть готовыми терпеть насмешки и оскорбления, словно бы жили среди врагов религии». Истинность этих слов опыт подтвердил и обнаружил слишком даже явно.Позднейшее примечание, как бы попутное, но о предмете важном
Не думал я, начиная эти записки (а начал я их примерно году в 1630-м и позже на досуге продолжил), что падение епископов со всеми их судами, канонами и обрядами было столь близко{8} и что доведется до него дожить; и свершилось это божьим велением, и ему подобает дивиться! «Всякое растение, которое не отец мой небесный насадил, искоренится». От Матфея, 15, 13. «Я расставил сети для тебя, и ты пойман, Вавилон (то есть епископы), не предвидя того; ты найден и схвачен, потому что восстал против господа». Иерем., 50, 24. «Неужели мы решимся раздражать господа? Разве мы сильнее его?» I Коринф., 10, 22. Да, нашлась на них сила сильнее всех. «Вот я на тебя, гордыня, говорит господь бог Саваоф; ибо пришел день твой, время посещения твоего». Иерем., 50, 31. Разве не может теперь народ божий (в том числе и эти несчастные) сказать: «Господь вывел на свет правду нашу; пойдем и возвестим на Сионе дело господа бога нашего». Иерем., 51, 10. «Да молчит всякая плоть перед лицом господа! Ибо он поднимается от святого жилища своего». Зах., 2, 13. Теперь несчастные люди эти (из всех сонмов народа израилева) могут сказать: «Когда возвращал господь плен Сиона, мы были как бы видящие во сне». Псалтырь, 126, 1. «Великое сотворил господь над нами; мы радовались». Пс., 3. «Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью. С плачем несущий семена возвратится с радостью, неся снопы свои». Пс., 5, 6. И разве не узрели вы теперь плоды трудов ваших, слуги божии, все, кто страдал за истину его и верно ее свидетельствовал; также и вы, малая горстка их, малейшая среди сонмов народа Израиля? Не только сеятелями были вы, но многие из вас узрели и радостную жатву; возрадуйтесь же и ликуйте, возгласите Аллилуйя, спасение, и сила, и слава господа нашего; «ибо истинны и праведны суды его». Откров., XIX, 1, 2. Но в чем дело, спросишь ты? Что именно сделано? Уж не чужеземец ли ты в Израиле, что не знаешь этого? Разве не повержены иевуситы, столь долго терзавшие народ Израиля, владевшие Иерусалимом вплоть до дней Давидовых, многое время словно тернии язвившие тело его; они похвалялись, что не сыщется на них Давида, и принялись укреплять башню свою, словно древние вавилоняне; и вот повержены надменные анакимы, и в пыли лежит слава их. Тираны-епископы изгнаны, суды их распущены, каноны утратили силу, служения отменены, обряды преданы презрению; их папистские заговоры раскрыты, все суеверия их отброшены и возвращены Риму, породившему их, и поклонение идолам искоренено во всей стране. А надменные, нечестивые и жестокие покровители их (кровавые паписты, мерзкие афеи и все коварные их пособники) чудесным образом повержены. Разве не великое свершилось дело? Кто станет отрицать это? И кто же свершил это? Тот, кто восседает на белом коне и зовется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Откров., 19, 11. Кто облечен в одежду, обагренную кровью. Имя ему Слово Божье. Ст. 13. Он пасет их жезлом железным; он топчет точило вина ярости и гнева Бога-вседержителя. На одежде и на бедре его написано имя Царь царей и господь господствующих. Ст. 15, 16. Аллилуйя. Вернусь, однако, к тому времени в повествовании моем, когда, трудами и усердием благочестивых и ревностных проповедников и с благословения божьего, на севере страны, как и в других ее местах, многие просвещены были словом божиим, познали невежество свое и грехи, исправились и вступили на путь праведный; но едва проявилась на них небесная благодать, как подверглись они насмешкам и поношениям нечестивой толпы, а проповедников заставили умолкнуть или же принести присягу на верность епископату. Несчастным житья не стало от церковных судов и чиновников их, и это сносили они терпеливо не один год, пока (с усилением гонений и по иным причинам, посланным в ту пору господом) в свете слова божьего не прозрели еще глубже истину. Что незаконны не только жалкие и гнусные обряды, но что не должно подчиняться надменной тирании прелатов; ибо такое подчинение, противореча свободе Святого писания, отягощает совесть человека и вынуждает его в молитвах своих греховно смешивать бога и людей. И что службы их, церковные должности, суды, каноны и прочее незаконны и противны христианству, ибо не подтверждены словом божиим, но подобны обрядам папистов, а все же сохранены. Вот что пишет об этом известный автор в своих голландских комментариях{9}: с прибытием в Англию короля Якова{10} (так пишет он) «новый король застал там церковь, какою была она после реформ Эдуарда 6-го. Сохранившую епископат и прочее на старый лад и весьма отличную от реформированной церкви в Шотландии, Франции и Нидерландах, в Эмдене, Женеве и др., где реформация куда более приблизила ее к первым церквам христианским, какие были во времена апостолов». Вот почему многие верующие, кто увидел царившее здесь зло, чьи сердца господь исполнил святого усердия к истине его, сбросили чуждое христианству иго и, как подобает свободным людям, объединились (вступивши в соглашение с господом) в церковную общину, дабы, познавая Святое писание, следовать путями его, какие открылись им, или по усердию их откроются, с божией помощью, чего бы это ни стоило. А чего это им стоило, покажет моя повесть. Люди эти составили 2 отдельные общины, или церкви, отдельно и собирались; ибо жили в разных городах и селениях, кто в Ноттингемшире, кто в Линкольншире, а кто и в Йоркшире, где они всего ближе друг с другом соседствуют. К одной из этих общин (в числе иных достойных членов) принадлежал м-р Джон Смит, человек даровитый и хороший проповедник, избранный впоследствии их пастором. Однако большинство членов ее, переселившись в Нидерланды, впало в некоторые заблуждения, а там и в безвестность. Вторая же община (о которой речь должна идти особо) имела, кроме других достойных членов, м-ра Ричарда Клифтона, почтенного проповедника, коего усердием много было содеяно доброго и многие обращены к богу. Был там также славный ученостью, достойный м-р Джон Робинсон, который позднее на много лет стал нашим пастором, пока господь не призвал его к себе. А также м-р Уильям Брюстер, почтенный человек, который был впоследствии избран старейшиной и до старости с нами оставался. Однако недолго дали им жить спокойно; отовсюду подвергались они преследованиям, рядом с которыми прежние невзгоды казались не более чем укусами блох. Ибо некоторых заключили в тюрьму, других днем и ночью осаждали в собственных жилищах, так что едва удалось им спастись; и большинство вынуждено было бежать, покинув дом и средства к существованию. Впрочем, эти и многие другие выпавшие им бедствия были именно тем, чего ожидали они, а значит, готовы были с помощью божией перенести. Но, видя, как теснят их, и нет надежды, что дадут им здесь жить, члены общины сообща решили перебраться в Нидерланды, где, как они слышали, всякий свободно исповедует свою веру; и что многие, подобно им гонимые за веру, уехали туда из Лондона и иных мест и поселились в Амстердаме или еще где-либо. Пробыв вместе с год времени и всякое воскресенье собираясь для совместной молитвы, несмотря на неусыпный надзор злобных противников своих, убедились они, что долее это им не удастся, и постановили переселиться в Голландию; было это в годы 1607 и 1608, а подробнее рассказано будет в следующей главе.2 ГЛАВА
Об отъезде в Голландию, о трудностях его и некоторых из многочисленных препятствий, какие при этом встретилисьANNO 1608
Необходимости покинуть родину, средства к жизни, всех друзей и близких, одного этого достаточно было, чтобы устрашить многих. Но ехать в страну известную лишь понаслышке, где придется учиться новому языку и неведомо как добывать пропитание; притом еще в страну, где шла война и жизнь была дорогая, — это многим казалось предприятием отчаянным и бедствием худшим, нежели смерть. И потому в особенности, что не были они знакомы с ремеслами и торговлей (которыми живет Голландия), а знали лишь простую сельскую жизнь и безгрешный труд земледельца. Все это, однако, не отвратило их (хотя и немало заботило), ибо желанием их было следовать слову божьему и повиноваться его воле; они вручили себя божественному промыслу и знали, в кого веруют. И это еще не все; ибо хотя нельзя было оставаться, но не дозволяли им и уехать, закрыв для них гавани и порты, так что поневоле пришлось искать тайных путей, подкупать моряков и платить за переезд неслыханные суммы. А многих при этом предали, и они были перехвачены со всем имуществом и много испытали мучений и понесли потерь; чего примеров приведу один или два, остальное же опущу. Большая часть их готовилась переправиться из Бостона в Линкольншире и наняла для этого целый корабль, договорившись с капитаном насчет дня и места, где будут его ждать. Прождав его долго и много потратившись, ибо в назначенный день он не прибыл, они все же наконец дождались его и ночью погрузились на корабль. А когда они со всем имуществом были уже на борту, он их выдал, сговорившись прежде с приставами и другими чиновниками; а те схватили их, посадили в лодки, в поисках денег раздели до рубашек даже женщин, не пощадив их стыдливости; а затем отвезли обратно в город, где выставили на потеху толпе, отовсюду стекавшейся на них поглядеть. Обобрав их, отняв деньги, книги и много другого имущества, судебные приставы отвели их к городским властям; а те послали доложить о них лордам Совета{11} и заключили пока в тюрьму. Правда, обошлись там с ними учтиво и смягчали их участь сколько могли; но освободить их было нельзя до распоряжения Совета. Продержав в тюрьме месяц, большую часть их отпустили и отправили в родные места; но семеро главарей все еще содержались в тюрьме и предстали перед выездным судом. Весною следующего года некоторые из них, а также другие попытались переправиться в другом месте. Нашли в Гулле некоего голландца, имевшего в Зеландии свой корабль, во всем открылись ему и договорились, положась на него больше, чем на того своего соотчича. Он велел им не опасаться и обещался все сделать как подобает. Условились, что он возьмет их на борт между Гримсби и Гуллем, где был большой луг, удаленный от жилых мест. К назначенному времени отправили они туда женщин, детей и имущество на небольшой барже, нарочно для этого нанятой; а мужчины должны были добираться до места берегом. Баржа вышла днем ранее, но так как море было бурное и женщины мучались морской болезнью, то уговорили они моряков переждать непогоду в ближней бухте, и во время отлива баржа оказалась на берегу. Наутро подошел корабль, а баржа не могла сдвинуться. Капитан корабля послал покуда шлюпку за мужчинами, ожидавшими на берегу. Когда шлюпка доставила часть их на борт и готовилась перевезти остальных, капитан увидел множество пеших и конных солдат с алебардами, ружьями и другим оружием; ибо за ними снарядили уже погоню. Тут голландец выругался по-своему: «Sacramente» и, так как ветер был попутный, поднял якорь и паруса и отплыл. Несчастные, оказавшиеся на борту, сокрушались о беззащитных женах и детях своих, которых на их глазах схватили; сами же они остались в чем были и почти без денег, ибо все имущество их было на барже. Слезы лились из глаз их, и они отдали бы все, лишь бы вновь очутиться на берегу; но делать было нечего, и так разлучились они с семьями. А на море настигла их ужасная буря, и они достигли гавани лишь спустя четырнадцать дней, из коих семь дней не видели ни солнца, ни луны, ни звезд и оказались у берегов Норвегии; даже моряки не раз уже сочли себя погибшими; а однажды, когда корабль накренился, закричали в отчаянии, что идут ко дну. Но где бессильны люди, там являет себя могущество и милосердие божие; корабль выпрямился, и моряки, ободрившись, снова взялись им управлять. Если бы позволяла на то скромность, я мог бы рассказать, какие пламенные молитвы возносились к господу в тот страшный час; не отчаивались и тогда, когда вода заливала уже рот и уши. И когда моряки кричали: «Тонем! тонем!», пассажиры восклицали (если не с чудотворной, то все же с великой верою): «Ты можешь спасти, о господи, ты можешь спасти», — и иные слова, которые я опускаю. И тут не только выпрямился корабль, но вскоре стала стихать буря, и господь ниспослал скорбным душам утешение, которое не всякому дано понять, а затем привел в желанную гавань, где люди собрались подивиться чудесному их спасению, ибо буря бушевала долго и множество причинила бед, как поведали капитану друзья, пришедшие его поздравить. Вернемся, однако, к тем, кто остался на берегу. Мужчины, которым грозила наибольшая опасность, успели скрыться, прежде чем их настигли солдаты; остались лишь те, кто лучше других мог помочь женщинам. Надо было видеть, сколь жалостное зрелище являли несчастные женщины, и слышать, какой раздавался плач; одни призывали мужей, увозимых, как уже сказано, на корабле; другие рыдали над судьбою своей и детей своих или заливались слезами при виде несчастных малюток, которые жались к ним, плача от страха и дрожа от холода. Их схватили и отправляли с места на место, jot одного судьи к другому, но не знали, как с ними поступить; ибо бросить в темницу стольких женщин и невинных детей за то лишь, что отправились вслед за мужьями, казалось невозможным и вызвало бы всеобщее негодование; вернуть их домой было столь же трудно, ибо они справедливо указывали, что вернуться им некуда; свои дома и имущество они продали или еще как-либо ими распорядились. Словом, передавая от одного констебля другому и достаточно помучив, рады были избавиться от них любым путем, ибо всем это порядком надоело. Несчастные немало за это время натерпелись; но пришлось-таки наконец оставить их в покое. Дабы не наскучить, опускаю остальное, хотя немало еще мог бы рассказать примечательного об их злоключениях на суше и на море; но спешу к другим предметам. Нельзя, однако, не упомянуть, что даже это принесло свои плоды; ибо стало во многих местах известно, и дело их большую получило огласку, многих вынудив над ним задуматься; а достойное их поведение и христианское терпение также немалое произвели действие. И хотя кое-кто из них оробел при первых суровых испытаниях, зато многие другие почерпнули там новое мужество и тем весьма ободряли остальных. Так что в конце концов, несмотря на столь жестокое сопротивление, все они уехали, кто раньше, а кто позже, и воссоединились, как того желали, к великой своей радости.3 ГЛАВА
О том, как поселились они в Голландии и как там жилось Оказавшись в Нидерландах, увидели они множество отличных укрепленных городов, обнесенных крепкими стенами и охраняемых вооруженною стражей. А также услышали незнакомый, неблагозвучный язык и увидели иные нравы и обычаи, равно как и непривычную для них одежду; и так все это разнилось от простых сельских мест (где они выросли и столь долго жили), что они словно бы очутились в ином мире. Впрочем, они недолго на это глядели и занимали этим свои мысли; ибо другая ожидала их работа и другие сражения. Кроме цветущих городов, обильных всяким богатством, предстал им скоро угрюмый, страшный лик нищеты, наступавшей на них подобно вооруженному врагу, с которым надо сразиться, а бежать некуда; однако они вооружены были верою и терпением и хоть порою бывали повержены, но с божьей помощью выстояли и победили. Когда прибыли к ним м-р Робинсон, м-р Брюстер и другие видные члены общины (ибо они оставались последними, помогая переправляться слабейшим), стали они обдумывать, как лучше устроиться и как наилучшим образом уладить церковные дела. А когда прожили они в Амстердаме с год времени, их пастор м-р Робинсон и еще некоторые из наиболее мудрых, видя, что м-р Джон Смит и друзья его не поладили с церковной общиной, прежде там основанной, что примирить их нет никакой возможности, и предвидя, что пламя раздора может вспыхнуть также внутри старой общины (как позже, к сожалению, и случилось), сочли за благо удалиться, прежде чем быть в эти раздоры втянутыми; хоть и знали, что делают это во вред собственному благосостоянию в настоящем и будущем; именно так оно и оказалось.ПЕРЕСЕЛЕНИЕ В ЛЕЙДЕН
По этим и некоторым другим причинам переехали они в Лейден, город изрядный и в отличной местности расположенный, но более всего славный университетом, лучшим своим украшением, где столько в наше время собралось ученых мужей. Не имея, в отличие от Амстердама, морской торговли, он менее мог доставить средств к существованию. Однако, очутившись там, переселенцы взялись за все, что можно было найти; ибо душевный мир ценили превыше всех иных богатств. И в конце концов непрестанным тяжким трудом достигли некоторого достатка и благополучия. Устроив дела свои (после многих трудностей), прожили они безбедно немало лет, сообща вкушая множество духовных радостей и служа богу, благодаря истинно пасторской заботе и мудрому руководству м-ра Джона Робинсона и м-ра Уильяма Брюстера, помогавшего ему в качестве старейшины, каковым избрала его община. Так, умножая познания свои и иные ниспосланные богом дары, жили они в мире, любви и благочестии; и многие стекались к ним из разных мест Англии, так что конгрегация эта весьма увеличилась. И если порой возникали у них несогласия или совершались проступки (ведь иначе и быть не может, даже меж лучшими людьми), их так умели уладить или своевременно пресечь, что любовь, мир и согласие царили по-прежнему; а неисправимых, сперва применив к ним, с великим терпением, все возможные средства, изгоняли из общины, что случалось редко. И таковы были взаимная любовь и уважение между достойным этим человеком и его паствою, что о них можно было сказать, как некогда о славном императоре Марке Аврелии[16]{12} и народе римском: что трудно решить, кому более надлежит радоваться, ему ли на такой народ или народу на подобного пастыря. Велика была любовь его к ним и велика неустанная забота о благе их, как духовном, так и телесном; ибо, кроме редкостных познаний в делах веры (где не было ему равных), умел он также мудро наставить в делах житейских и предвидеть опасности и трудности; благодаря чему большой был опорою в жизни каждого и поистине общим отцом. И никто так не огорчал его, как скупцы и нелюдимы, сторонившиеся общих дел; равно как и те, кто сурово требовал исполнения внешних правил и всегда готов был осуждать ближнего, к себе же был куда менее строг и не спешил утвердиться в добродетели. Паства, в свою очередь, высоко чтила его и ценила, как того заслуживали достоинства его и мудрость; и хотя был он чтим покуда среди них жил и трудился, но еще более после кончины своей, когда лишились его помощи и убедились (на горьком опыте), какое утратили сокровище, к великой своей печали и сокрушению; то была утрата незаменимая; ибо найти другого подобного руководителя во всех делах было им столь же трудно, как таборитам обрести второго Жижку. И хотя они не назвали себя, как те, после его смерти сиротами, но имели столько же оснований печалиться о тогдашнем своем положении и о будущей судьбе. Вернусь, однако, к своему повествованию. Истинно можно сказать, во славу божию и никому не в обиду, что подлинным благочестием, смиренным усердием и пламенной любовью к богу, искренней взаимной любовью друг к другу люди эти (пока пребывали вместе) каждый сообразно положению своему столь же приблизились к образцу первых церквей, как любая церковь нашего времени. Однако целью моей является не повесть обо всем, приключившемся этим людям, пока жили они в Нидерландах (что потребовало бы отдельного большого сочинения), но объяснение того, как началось наше поселение; а поскольку иные их противники, прослышав об отъезде их оттуда, чернили их, утверждая, будто они надоели приютившей их стране и были изгнаны (как говорили языческие историки об исходе Моисея и евреев из Египта), а вовсе не уехали по собственной воле, то приведу некоторые подробности, из коих явствует обратное: что на новом местожительстве были они приняты радушно. Хотя многие из них были бедны, но даже и беднейшим, если известно было о принадлежности их к этой конгрегации, голландцы (пекари и другие) оказывали доверие, когда не хватало им денег. Ибо по опыту знали, как держат они слово, и видели, сколь усердно трудятся; за такую честность и трудолюбие давали им работу вперед других или старались иметь их клиентами. Кроме того, незадолго перед отъездом их, отцы города публично высказались о них с похвалою, поставив в пример валлонам, имевшим там французскую церковную общину. Эти англичане, сказали они, живут среди нас уже 12 лет, и ни разу не было на них жалобы; тогда как вы непрестанно шумите и ссоритесь и т. п. Большой беспорядок учинили тогда же арминиане{13}, много досаждавшие всей стране, особенно же городу Лейдену, где помещался главный университет; так что жаркие споры разгорались там ежедневно; и не только студенты разделились во мнениях, но и оба профессора богословия; и сегодня выступали там за арминиан, а назавтра против. И до того дошло, что ученики одного из них все почти отказывались слушать другого. Но м-р Робинсон, хотя и сам преподавал там трижды на неделе, написал несколько книг и много имел другого дела, ходил на эти лекции и слушал обоих; благодаря чему глубоко вник в контроверзу, постиг все доводы и уловки противников и, будучи сам весьма силен, лучше всех мог с ними сразиться, что и доказал в нескольких диспутах; а когда сделался он для арминиан опасен, епископиус (арминианский проповедник) собрался с силами и выставил тезисы, которые вызвался защищать в публичном диспуте против кого угодно. Второй профессор, Полиандер, и главные проповедники города хотели, чтобы выступил против него м-р Робинсон; тот считал, что ему это не подобает, как чужестранцу, но его упрашивали, говоря, что если он им не поможет, ловкость и умелость противника большой нанесет вред истине. Тогда он согласился и стал готовиться; а когда настал день, господь столь помог ему отстоять истину и сразить противника, что тот посрамлен был при большом стечении народа. И так повторилось 2 или 3 раза. Многие тогда воздали хвалу богу, радуясь торжеству истины, а м-ру Робинсону снискало это большой почет и уважение среди ученых мужей и других приверженцев истины. Они не только не тяготились им и его конгрегацией или желали их отъезда, как говорили некоторые, и даже видные люди, но, если бы не опасались неудовольствия Англии, еще более его возвысили бы и воздали почестей. Когда зашла речь о переезде их в Америку, многие высокого ранга люди хотели, чтобы они остались, и делали им выгодные предложения. Подобных примеров мог бы я привести еще множество, дабы показать лживость и неправдоподобие клеветы, но довольно и этих, ибо лишь немногие поверили злобным наветам тех, кто силился их погубить.4 ГЛАВА,
в которой излагаются причины переезда Когда прожили мы в том городе лет 11 или 12 (что легко запомнить, ибо то были как раз годы перемирия между Нидерландами и испанцами) и уже не один из нас похищен был смертью, а другие, удрученные годами, многому успели научиться у сурового наставника по имени Опыт, мудрые наши руководители и мудрейшие из членов общины задумались над опасностями, настоящими и грядущими, и над тем, как бы своевременно их избегнуть. Много над этим думая и не раз совещаясь, стали они склоняться к переселению в иное место. И не из прихоти или непоседливости, кои нередко влекут людей к затеям вредным и опасным, но по многим веским и важным причинам, главные из которых я вкратце изложу. Во-первых, опыт показал, сколь тяжела тамошняя жизнь и что немного найдется охотников к нам присоединиться, а еще меньше будет тех, кто эту жизнь вынесет и С нами останется. Ибо многие из приезжавших и желавших остаться не выдерживали тяжкого труда и суровой жизни, а также других трудностей, какие приходилось терпеть. И хотя нас любили, сочувствовали нашему делу и чтили наши страдания, но все же со слезами покидали нас, как покидала Орфа свекровь свою Ноеминь или как покидали римляне Катона в Утике, прося простить их, ибо не все они могли быть Катонами. Многие, желавшие блюсти в чистоте господние заветы и молиться по Писанию, все же, увы, смирялись с игом и опасностью для совести своей, лишь бы не терпеть подобных лишений; а иные даже предпочитали английскую темницу голландской свободе, со столькими бедствиями сопряженной. Потому и решено было, что более благоприятное место жительства устранит эти опасения и многих к нам привлечет. Как часто говаривал наш пастор, многие из тех, что против нас писали и проповедовали, очутившись там, где можно обрести и свободу, и довольство, сами бы к нам присоединились. Второе. Стало очевидно, что, находясь в расцвете лет, люди бодро и мужественно несли все тяготы, теперь же ко многим из нас подкралась старость (а неустанный тяжкий труд и горести приблизили ее прежде времени); и можно было не только предположить, но и ясно видеть, что еще через несколько лет люди поневоле разбредутся или же падут под непосильною ношей. И как в притче благоразумный видит беду и укрывается, см. Притчи, 22, 3, так и мы, подобно умелым и закаленным войнам, не хотели оказаться в ловушке и окружении, где нельзя ни биться, ни спастись бегством; а сочли за лучшее вовремя отступить туда, где удобнее и безопаснее, если такое место найдется. В-третьих, понукаемые суровой необходимостью, мы и сами вынуждены были поступать сурово не только со слугами, но и с детьми своими; что ранило сердца многих любящих отцов и матерей и печальные имело следствия. Ибо те из детей, кто наилучшие имел задатки и наклонности и с малых лет привык нести все тяготы, желая делить их с родителями, не выдерживали непосильного бремени; и хотя духом по-прежнему готовы были к трудам, но тела их под этим бременем изнемогали и природные силы увядали, прежде чем расцвесть. Но изо всех горестей наигоршим было то, что многие другие дети, видя это и увлекаемые примером тамошней развращенной молодежи и многочисленными соблазнами города, в вступали на гибельный путь, сбрасывали узду и покидали родителей. Одни вербовались в солдаты, другие уходили, в дальнее плавание, а кто и того хуже: предавался распутству и губил свои души, к великой скорби родителей и вреду для божьего дела. Оказывалось, что потомству нашему грозит духовная погибель и вырождение. Последней (но не менее важной) из причин были одушевлявшие нас надежда и стремление заложить основу или хоть первые сделать к тому шаги, для распространения Евангелия и проповеди царства Христова в далеких странах; пусть даже суждено нам стать лишь ступеньками, по которым другие пойдут на великое это дело. Вот эти-то и некоторые иные причины побудили нас решиться на переселение; что и совершили мы с великими трудностями, о которых пойдет рассказ. Местность, какую имели мы в виду, была которая-нибудь из обширных и безлюдных просторов Америки, плодородных и пригодных для жилья, но населенных лишь дикими людьми, которые рыщут там наподобие лесных зверей. Когда предложение это обсуждалось всею общиной, мнения разделились и немало возникло колебаний и страхов. Одни, исполнившись надежд, старались ободрить и убедить остальных; другие же, полные опасений, старались отговорить их, приводя множество доводов, не вовсе не разумных или не основательных, а именно: что предприятие изобиловало опасностями, коих нельзя даже и предвидеть; что, помимо опасностей плавания (от которых не огражден никто), самый путь предстоял столь долгий, что женщины, слабые по природе, и люди, изнуренные трудом и годами (а таковых было среди нас немало), не смогут его выдержать. А если и выдержат, то лишения, ожидающие на берегу, будут еще тяжелее, так что часть из нас, а быть может, и все неминуемо погибнут. Ибо будет там и голод, и холод, и всевозможные лишения. Перемена климата, непривычная пища и вода сулят тяжелые недуги. Тем, кто переживет и это, грозят нападения дикарей, которые жестоки и коварны, страшны в ярости своей и беспощадны, когда побеждают; не довольствуясь умерщвлением врага, они с наслаждением подвергают его кровавым пыткам, как-то: с живых сдирают кожу острыми раковинами, отрезают понемногу конечности, поджаривают их на углях и поедают на глазах у еще живой жертвы; и другие совершают зверства, слишком ужасные, чтобы о них говорить. От подобных рассказов волосы на голове шевелились; кто послабее, приходил в трепет. Говорилось также, что такое путешествие и нужное для него снаряжение больше требует денег, чем можно выручить за все наше имущество; и искать придется не только корабли, но и тех, кто помог бы уплатить за припасы. Нетрудно было найти и привести множество примеров неудач и тяжких бедствий, выпавших на долю тех, кто подобное замышлял; да и напомнить собственный наш опыт при переселении в Голландию, и как трудно пришлось нам на новом месте, хоть бы и в стране соседней, обжитой и богатой. На это отвечали, что все великие и славные дела с великими сопряжены трудностями, которые надлежит мужественно преодолеть. Опасности, конечно, велики, однако нельзя назвать их непреодолимыми; трудности многочисленны, но их можно одолеть. Многие из них вероятны, но не обязательны; многое из ожидаемого может вовсе не случиться; остальное же удастся в большой мере избежать заранее принятыми мерами; а все вместе, с божьей помощью, терпеливо и стойко вынести и одолеть. Конечно, за подобное дело не берутся без важных к тому причин; опрометчиво и легкодумно, из любопытства или жажды наживы, как иные. Но наше положение особое; цели наши благородны; желание законно и не терпит отлагательства; а потому можно уповать, что с нами пребудет благословение божие. А если суждено нам погибнуть, утешимся тем, что стремления наши были возвышенны. Здесь ведем мы жалкую жизнь изгнанников; а впереди ждут, быть может, испытания еще горшие; ибо истек 12-летний срок перемирия и барабанный бой возвещает войну, коей исход всегда бывает неясен. Испанец может оказаться столь же жесток, что и дикие жители Америки, голод и мор — столь же губительны здесь, как и там, а свобода наша более будет под угрозой. Когда обе спорившие стороны все это изложили, большинством решено было привести замысел в исполнение и взяться за это как сумеем лучше.5 ГЛАВА
О том, как готовились к этому труднейшему путешествию Смиренно испросив у бога руководства и помощи и созвав на совещание всех членов общины, стали решать, куда именно плыть. Одни (в том числе люди именитые) высказались за Гвиану или иную плодородную местность в жарких краях; другие стояли за Виргинию, где англичане положили уже начало поселениям. Те, кто предлагал Гвиану, говорили, что в тех богатых и плодородных местах царит вечная весна и вечное цветение; могучая природа все рождает в изобилии, не требуя от человека больших трудов или искусства. Поэтому там легко обогатиться, ибо даже одежды и прочего нужно меньше, чем в странах более холодных и не столь урожайных. К тому же испанцы (имеющие больше земель, чем могут освоить) еще не поселились там или где-либо поблизости. На это отвечали, что местность там, конечно, плодородна и приятна и может легче, чем где-либо, доставить поселенцам богатство, однако во многом другом не столь для них пригодна. Во-первых, жаркий климат порождает тяжкие болезни и много вредоносного, от чего свободен климат более умеренный, и английским телам окажется вреден. Во-вторых, если мы там и преуспеем, завистливый испанец долго этого не потерпит и выселит или выбьет нас оттуда, как он это сделал с французами во Флориде, а ведь те селились даже дальше от его богатейших колоний; и сделает это тем скорее, что нам неоткуда ждать защиты, а собственных сил слишком мало, чтобы отражать столь могучего противника и столь близкого соседа. Были также возражения против Виргинии; ибо если селиться среди англичан или так от них близко, что окажемся подчиненными их правительству, это грозит теми же гонениями за веру, какие пришлось терпеть в Англии, а быть может, и худшими. Если же поселиться подальше, то не будет ниоткуда помощи и защиты. В конце концов решили жить сами по себе, подчиниться правительству Виргинии, но при посредстве друзей просить его величество даровать нам свободу верований; в этом обнадеживали переселенцев некоторые люди высокого звания, ставшие нашими друзьями. Тут же отрядили (за общий счет) 2-х человек в Англию, чтобы хлопотать об этом; приезд их оказался весьма желательным Виргинской компании, изъявившей готовность выдать нам патент со всеми возможными привилегиями и обещавшей всяческое содействие. Некоторые из главных членов компании были уверены, что удастся получить и королевское разрешение на свободу верований, скрепленное, как мы того желали, большой королевской печатью. Это дело, однако, оказалось труднее, чем ожидали; умного усилий было приложено, но все напрасно; несколько Достойных людей хлопотали перед королем (в том числе один из главных его секретарей);[17] другие ходатайствовали о том же перед архиепископом; и все было тщетно. Одно только удалось выяснить: что его величество готов нам попустительствовать, если будем вести себя мирно. Но признать нас по всей форме и за своей печатью не пожелал. Вот и все, что мог для нас сделать глава Виргинской компании или кто-либо другой из лучших друзей. Тем не менее все убеждали нас ехать и не опасаться гонений. С этим ответом оба посланца возвратились и доложили, что было сделано и чего удалось добиться. Это все же замедлило дело, ибо многих расхолаживало; они страшились сняться с места, полагаясь на одни лишь надежды, и считали опасным строить на песке. Думали, что лучше было вовсе не подавать прошения, нежели, подавши, получить отказ. Главные люди общины были иного мнения, уповая, что его величество готов терпеть нас и не чинить препятствий, хотя по разным причинам не пожелал подтвердить это официальною грамотой. И что если не верить нынешнему его обещанию, то и от подтверждения немного было бы проку; если явится причина или желание преследовать нас, не поможет и печать, будь она размерами с дом; и найдется довольно поводов все отменить. Так что следует уповать на божественный промысел, как мы и всегда делали. После такого решения отправлены были другие посланцы, чтобы больше выговорить льгот у Виргинской компании. И получить патент со всеми полномочиями, каких можно добиться. А также договориться с купцами и теми из друзей, кто изъявил готовность помочь и участвовать в снаряжении путешествия. Посланцам было указано, на какие условия соглашаться, и чтобы ничего не заключать, не уведомив пославших. Здесь надобно привести некоторые письма, из которых видно будет, как шло дело.Копия письма сэра Эдвина Сэндиса{14}
к м-ру Джону Робинсону и м-ру Уильяму Брюстеру
Примите сердечные наши приветствия. Посланные вашей конгрегации Роберт Кашмен и Джон Карвервстретились с некоторыми членами Его Величества Совета по Виргинии; врученные ими за вашими подписями 7 пунктов вполне их удовлетворили, что и побудило поддержать вашу просьбу всеми способами, ради вашего и общего блага. Подробности они изложат вам сами; а здесь поступали они весьма разумно, что делает честь как им, так и пославшим их. Поскольку представляли они столь многочисленную общину, то просьба их дать им время посоветоваться с лицами заинтересованными насчет некоторых подробностей, могущих впоследствии оказаться весьма важными, охотно была удовлетворена. Сейчас они возвращаются к вам. И если богу будет угодно, чтобы с вашей стороны никаких не произошло помех, заверяю вас, что и мы в свой черед приложим все старания, чтобы наилучшим образом вас снарядить. Поручаю вас и предприятие ваше (поистине божье дело) милости всевышнего. Любящий друг вашЭдвин Сэндис.Лондон, ноября 12-го дня,Anno 1617.
Ответ был следующий:
Милостивые государи, от себя, посланцев наших и нашей общины смиренно вам кланяемся и приносим благодарность за любовь вашу к нам, особенно же за заботу и великие старания об успехе путешествия нашего в Виргинию, за которые мы тем усерднее должны молить бога вознаградить вас, что сами мало чем можем заплатить; но как ныне, так и впредь (опять-таки с помощью божьей) приложим все усилия, дабы любовные труды ваши ради нас наилучшие принесли плоды. Мы со всею поспешностью и тщанием изложили наши пожелания письменно, за подписями, как вы того желаете, большинства членов нашей конгрегации, и послали таковые Совету с диаконом церкви нашей Джоном Карвером, к которому по нашей просьбе присоединился еще один джентльмен из общины; этим двоим и поручаем мы вести дело. Теперь же, милостивые государи, считаем, что не должны более утруждать вас никакими хлопотами, ибо такова была ваша заботливость, что более всех, после бога, полагаемся мы на любовь вашу, мудрые наставления и могущественную поддержку. Однако, дабы еще более уверить вас в успехе предприятия и более к нему склонить, не можем не упомянуть следующее: 1. Мы истинно веруем, что господь, которому служили мы среди множества испытаний, пребудет с нами; и что он благословит труды наши, если с чистым сердцем за них возьмемся. 2. Мы давно отлучены от матери-родины, привыкли к трудностям жизни в стране чужой и суровой и сумели терпением своим большую часть их преодолеть. 3. Большинство людей наших трудолюбием и неприхотливостью не уступают, смело можем сказать, никакой другой общине. 4. Все мы тесно меж собой связаны святым господним союзом и соглашением, нарушать который весьма остерегаемся и который[18]{15} обязывает каждого из нас заботиться о благе остальных, а всех нас о каждом. 5. И наконец, в отличие от других людей, мелкие неурядицы не могут отвратить нас, мелкие огорчения не побудят вернуться. Мы знаем, сколько можем заработать в Англии и Голландии, и отъездом своим много повредим своему благосостоянию, которое, если бы пришлось нам вернуться, не надеемся обрести вновь, равно как и достичь прежнего достатка в любом другом месте в течение всей жизни нашей, которая близится уже к концу. Все это осмеливаемся мы вам сообщить, дабы вы, если сочтете нужным, передали другим достопочтенным нашим доброжелателям в Совете, чье расположение к скромным нашим особам мы высоко ценим и всячески стараться будем заслужить. Не желая далее утруждать вас, вновь смиренно кланяемся вам, милостивые государи, а также (если позволено будет) всем нашим доброжелателям в Совете и поручаем Всемогущему. Много обязанные вамРади большей ясности привожу еще некоторые письма и записки.Джон Робинсон,Уильям Брюстер.Лейден, декабря 15-го,Anno 1617.
Копия письма к сэру Джону Уолстенхолму{16}
Достойный сэр, почтительно вас приветствуя, выражаем признательность за особые ваши заботы и старания насчет Виргинии, на благо наше, а также, надеемся, и общее. К сему прилагаем, как требовалось от нас, разъяснение касательно 3-х пунктов, отмеченных некоторыми из членов Его Величества Тайного Совета; сокрушаясь о том, что высказаны против нас несправедливые обвинения, мы, вместе с тем, рады случаю оправдаться перед столь почтенными лицами. Из прилагаемых нами заявлений одна, более краткое, и надлежит, по нашему мнению, им представить; второе более пространно, и в нем излагаем мы некоторые мелкие и незначительные различия; но если вы и кто-либо еще из почтенных друзей наших сочтете нужным, можно послать его вместо первого. Молим господа, да приведет он вас, милостивые государи, узреть плоды трудов ваших, о чем мы, со своей стороны, всемерно станем стараться. Соблаговолите возможно скорее сообщить, каков успех нашего дела в Тайном Совете Его Величества, а также каковы дальнейшие ваши желания касательно того же. Остаемся покорные ваши слугиДжон Робинсон,Уильям Брюстер.Лейден, января 27-го дня,Anno 1617 по старому стилю.
Первое (краткое) заявление гласило следующее:
Во всем касающемся церковного устройства, то есть пасторов для поучений, старейшин для управления и диаконов, ведающих церковными сборами; а также обоих таинств — крещения и евхаристии, — мы полностью согласны с догмами французской реформированной церкви{17}, как они изложены в обнародованном ею Символе Веры. Присягу о Супрематии мы охотно принесем, если таковая от нас требуется и принесенная нами присяга Верности оказалась недостаточной.Джон Робинсон,Уильям Брюстер.
Второе заявление было следующее:
Во всем касающемся церковного устройства и пр. упомянутого в первом заявлении, мы полностью согласны с догмами французской реформированной церкви, как они изложены в ее Символе Веры; хотя имеются некоторые незначительные различия, не затрагивающие сущности вероучения. 1. У них пасторы молятся в головных уборах; тогда как наши обнажают голову. 2. В старейшины избираем мы только тех, кто способен наставлять; у них это не требуется. 3. Они избирают старейшин и диаконов на год, самое большее на 2 или 3; мы — пожизненно. 4. Наши старейшины увещевают или подвергают отлучению за проступки публично, перед всей конгрегацией; у них приватно, в консисториях. 5. Мы крестим лишь тех младенцев, у кого хотя бы один из родителей принадлежит к какой-либо общине; у них некоторые общины этого не придерживаются; хотя в этом поступаем мы согласно с их Символом Веры и с мнением наиболее ученых из них. Иных различий, стоящих упоминания, мы не знаем. Относительно присяг все как в первом заявлении.Подписали: Джон Р.,У. Б.
Часть письма от того, кто доставил предыдущие:
Лондон, февр. 14-го, 1617. Письмо ваше к сэру Джону Уолстенхолму вручил я немедленно в собственные его руки, и он при мне вскрыл его и прочел. Приложенные 2 заявления он прочел, как и письмо, про себя, а читая спросил меня: кто же возводит их (т. е. пасторов) в сан? Я ответил его милости, что делается это в церкви, возложением рук, как наиболее для того пригодным способом. Ибо если не в церкви, то через папу, а ведь папа есть Антихрист. О! сказал сэр Джон, что признает папа (как в троице), то и нам следует признавать; но прибавил, что не станет сейчас спорить. Что до писем ваших, то он никому их не покажет, чтобы не испортить дело. Он ожидал, что насчет посвящения в пасторы вы согласны с архиепископом, а вы с ним, оказывается, расходитесь. Лучше было бы мне знать, что именно сказано в ваших двух заявлениях; он долго их разбирал, особенно более пространное. Я спросил его милость, какую добрую весть могу вам передать. Он сообщил вести весьма хорошие, ибо как его величество, так и епископы изъявили свое согласие. И сказал, что нынче же пойдет к канцлеру, сэру Фулку Грэвиллу, и на той неделе я все буду знать подробнее. С сэром Эдвином Сэндисом встретился я в среду ввечеру; он предложил мне явиться в собрание компании в следующую среду, что я и намерен сделать. Не желаю далее утруждать внимание ваше, ибо надеюсь на той неделе иметь сведения более верные. Поручаю вас господу — вашВсе это долго обсуждалось, и посланцы ездили туда и обратно; и много оказалось преград на пути наших надежд; ибо, вернувшись в Англию, посланцы застали там вовсе не то, чего ожидали. Виргинская компания так была раздираема внутренней борьбою, что никакое дело не могло подвинуться. Что лучше всего видно из следующего письма одного из посланцев:С. Б.
Возлюбленным друзьям моим и т. д. Долго собирался я писать к вам, но ничего еще не смог добиться и устроить как хотел; не сомневаюсь, что м-р Б. писал уже к м-ру Робинсону, однако и сам чувствую себя обязанным это сделать, дабы не подумали вы, что пренебрегаю вашим поручением. Главной помехою нашему делу с Виргинской компанией являются раздоры и раскол, как они это называют, в Совете и в Компании; а раздоры таковы, что с самого приезда нашего никакое дело не может быть ими решено. Причиною всего то, что сэр Томас Смит, жалуясь, что отягощен многими должностями, просил недавно Виргинскую компанию освободить его от обязанностей казначея и директора. Пользуясь случаем от него избавиться, Компания избрала казначеем и директором сэра Эдвина Сэндиса. Он получил 60 голосов, сэр Джон Уолстенхолм — 16, а олдермен Джонсон — 24. Однако сэр Томас Смит, видя в этом для себя бесчестье, весьма разгневался, стал собирать единомышленников, чтобы оспорить выборы, и обвинил сэра Эдвина во многом таком, что могло его опозорить и лишить должности директора. Раздоры все еще длятся, почему и не могут они заняться никаким делом; а чем все окончится, неизвестно. Похоже, что верх возьмет сэр Эдвин, и тогда дела в Виргинии пойдут хорошо; если же нет, там всегда будет плохо. Мы надеемся, что за 2–3 заседания Совета все решится. Пока намерен я съездить в Кент и вернуться через 4 или 3 недели; если только упомянутые раздоры или дурные вести из Виргинии вконец не испортят нам дела; а каковы эти вести, я сейчас скажу. На этой неделе воротился капитан Арголл (будучи извещен о намерениях Совета, он отплыл прежде, чем добрался туда сэр Джордж Ярдли{18}, так что немалое вышло несогласие). Ему рады, хотя вести он привез дурные. Он говорит, что корабль м-ра Блэквела прибыл туда только в марте, ибо отправился накануне зимы, и северо-западные ветры снесли его с курса к югу. Капитан и человек шесть моряков умерли, так что они достигли гавани лишь после долгих поисков. Скончался и м-р Блэквел, и капитан м-р Маггнер, и еще 130 человек; а всего было их там 180, значит, набились как сельди в бочку. Начался среди них понос, и не хватало пресной воды; так что более дивятся здесь не тому, сколько их умерло, а тому, сколько уцелело. Здешние купцы говорят, что во всем виноват м-р Блэквел, зачем набрал на корабль столько людей; они сильно ропщут и поносят м-ра Блэквела за то, как он с ними поступил и какую причинил обиду. На улицах Грэйвзенда шум стоит от их ссор и взаимных попреков; вот, мол, до чего ты меня довел, а вот что по твоей милости вышло. Невеселые это вести, и хорошо, если не отвратят они людей. Здесь этого не видно; напротив, люди готовы учиться на чужих ошибках и исправить то, что не удалось другим. Мы намерены служить друг другу в любви и согласии; остерегайтесь подчиниться человеку властному, особенно такому, кто печется о собственной выгоде. Меня часто смущает, что всем нам в этом деле надо бы поучиться, а поучить некому; но лучше пусть так, чем положиться на наставников вроде м-ра Блэквела. Однажды в Эмдене он такое подстроил м-ру Джонсону и людям его, что вконец сгубил их дело. В тот раз он ловко (хоть и бесчестно) спас свою шкуру, зато теперь попался. Письма еще не пришли; корабль капитана Арголла находится пока в западных областях, и всего у нас вестей, что из его отчета; он, как видно, уехал тайком. А корабль, на котором был м-р Блэквел, скоро сюда прибудет. Верно сказал когда-то м-р Робинсон: добра от них не дождемся. Мистер Б. хворает; не знаю еще, вернется ли он к вам или поедет на север. А я надеюсь дождаться здесь окончания дела, хоть и печалит меня разлука с вами. Если бы все шло гладко, я был бы у вас не позднее чем через четырнадцать дней. Молю бога наставить нас и вселить в нас дух, подобающий такому делу. Итак, сообщив вам кратко то, о чем м-р Брюстер (как я полагаю) написал м-ру Робинсону более подробно, поручаю вас господу. Готовый к услугамТут сделаю я отступление, чтобы сказать несколько слов о м-ре Блэквеле; в амстердамской церкви он был старейшиной и большинству тамошних хорошо известен. Он отступил от истины вместе с м-ром Джонсоном и другими и с ними ушел, когда случился прискорбный раскол, принесший посрамление имени божиему, ущерб истине и разорение им самим. Надеюсь, однако, что ныне, по милости божией, души их упокоились в небесах и обрели вечное блаженство; хотя тела некоторых погребены в морской пучине, а другие сломлены были жестокими житейскими невзгодами. Вместе с несколькими спутниками он готовился плыть в Виргинию. И разом со многими достойными людьми схвачен был в Лондоне на тайном молитвенном собрании (кажется, во время поста). Но он пустился в объяснения с епископами и скрыл либо отверг начисто истины, которые прежде исповедовал; более того, подло предал и обвинил одного благочестивого человека, которому удалось тогда скрыться; вверг другого в оковы, чтобы спастись самому. И тем такую снискал милость у епископов (утратив зато милость божию), что не только был отпущен, но получил от архиепископа публичную похвалу и благословение в путь. Но если таковы следствия епископского благословения, счастливы те, кому оно не досталось; лучше сохранить чистую совесть, а благословение, в жизни и смерти, иметь от господа. Но вот что пишет другу своему человек, схваченный по навету м-ра Блэквела:Роберт Кашмен.Лондон, мая 8-го,Anno 1619.
Любезный друг мой и брат во Христе м-р Карвер, приветствую вас и близких ваших и т. д. Что до нынешнего моего положения, то о нем вы верно извещены уже нашим братом Мастерсоном, который испил бы ту же чашу, будь его имя и местожительство столь же хорошо известны, как мои. То, о чем писал я м-ру Кашмену, все еще длится. Дважды обращался я к шерифам и однажды к милорду Куку, приводя доводы, способные тронуть их сердца, так что скоро был бы освобожден, если бы не взяли верх другие; я писал, что человек я молодой и весь достаток мой — в добром имени; что задолжал нескольким горожанам; томлюсь в тюрьме и за пребывание свое плачу более обычного; плачу также аренду, а мастерская моя простаивает; единственный слуга мой обезножел и лежит в деревне; а жена моя ожидает ребенка. Но ответа нет, покуда нет на то согласия Совета Его Величества. А м-р Блэквел, не менее меня причастный к делу, был освобожден без больших затрат и хлопот; да еще и с архиепископским благословением. Я скорблю о слабости м-ра Блэквела и желал бы, чтоб не было это чем-то худшим. Ведь он и некоторые другие, выйдя на свободу, не сожалели обо мне, а, напротив, считали, что выдать надлежало именно меня, и не потому, что господь и зло обращает к добру, а потому, что так вообще лучше. Один из доводов его я хорошо запомнил, а именно, что это на пользу виргинскому поселению, ибо больше людей склонно теперь ехать; и если бы не назвал он таких, как я, то сам не был бы ныне на свободе, ибо известно, что, кроме него, находились там и другие. Ожидаю вскорости ответа о дальнейших их намерениях насчет меня; и буду писать также другим из вас, а вы от них все узнаете. Не имея пока больше вестей, на этом кончаю, прошу для себя молитв ваших, а вас и всех нас поручаю господу. Писано в моей камере в Вyдстрит-Комптер. Плененный друг ваш и братЭто привел я попутно, но, быть может, не без пользы. Наконец, после долгого ожидания, получен был патент, скрепленный печатью компании; хотя неурядицы и раздоры поколебали многих из тех, кто звался другом, а отъезжавших лишили немалой доли средств, какие предлагались и на какие они надеялись. По совету некоторых друзей патент взят был не на их имя, а на имя м-ра Джона Уинкоба (благочестивого джентльмена из домочадцев графини Линкольн), который также намеревался ехать. Но богу угодно было, чтобы он не поехал, а патент, стоивший стольких трудов и расходов, вовсе не понадобился, как видно будет из дальнейшего. Патент был послан для обсуждения, как и пункты соглашения с купцами или друзьями, собиравшимися ехать или взять пай в деле; особенно же с, теми[19] кто обещался щедро помочь и на кого всего более полагались мы, когда понадобятся суда и деньги; и было велено со всей поспешностью собираться в дорогу. И вот, быть может, отличный пример того, сколь неверны земные предприятия; люди пекутся о них, а они исчезают додобно дыму.Сэбин Стэрсмор.Сент. 4-го,Anno 1618.
6 ГЛАВА
О соглашениях и договорах с купцами и всеми, кто вложил в дело деньги; а также о том, как делали запасы на дорогу Получив такие вести от одного из посланцев своих, все собрались на торжественный день покаяния, чтобы испросить указаний у господа; а пастор произнес проповедь на текст из I Книги Пророка Самуила, 23, 3, 4: «Но бывшие с Давидом сказали ему: вот мы боимся здесь в Иудее, как же нам идти в Кеиль против ополчений филистимских? Тогда снова вопросил Давид господа, и отвечал ему господь и сказал: встань и иди в Кеиль, ибо я предам филистимлян в руки твои». Из этого текста извлек он немало такого, что касалось до тогдашнего нашего положения, успокаивало страхи и сомнения и укрепляло решимость. После этого решено было, скольким и кому именно отправляться первыми; ибо не все желавшие ехать могли столь быстро приготовиться; а если бы и были готовы, то не было судов, способных переправить всех сразу. Оставшиеся, будучи более многочисленны, попросили, чтобы с ними остался и пастор; а как он и по другим причинам не мог еще ехать, то тем охотнее согласился. Уезжавшие просили старейшину, м-ра Брюстера, ехать с ними, на что также получили согласие. Договорились также, что уезжавшие составят полноправную церковь, равно как и остающиеся; ибо путь был далек и опасен и, быть может, не суждено было в этом мире вновь собраться (всем вместе); вот и условились, что когда кто-либо из оставшихся к ним присоединится, либо из уезжавших кто вернется, то станет членом общины безо всяких исключений и свидетельств. Остававшиеся обещали также уезжавшим, что не замедлят к ним присоединиться, если господь дарует им жизнь, средства и возможности. Примерно в это же время, когда все озадачены были делами Виргинской компании и дурными вестями о м-ре Блэквеле и его людях и справлялись насчет найма и покупки судов, некие голландцы сделали нам выгодные предложения для совместного плавания. Тогда же прибыл в Лейден лондонский купец м-р Томас Уэстон (хорошо знавший некоторых из нас и прежде нам помогавший); посовещавшись с м-ром Робинсоном и другими главными в общине лицами, он убедил нас не иметь дела с голландцами и не слишком полагаться на Виргинскую компанию; а если те подведут, то он и другие купцы из числа друзей его помогут (добавив к собственным нашим деньгам), и чтобы мы готовились и не опасались, что не достанет судов или денег; ибо все будет нам предоставлено. И не столько для него самого, сколько для друзей, коих уговорит он участвовать в деле, надлежит составить договор, с такими пунктами, которые склонили бы их к участию. После чего составили и показали ему соглашение, и он его одобрил; а затем отправили эту бумагу в Англию с посланцем (м-ром Джоном Карвером), которому, вместе с Робертом Кашменом, надлежало получить деньги и подготовить суда и все иное нужное в пути; с наказом не превышать своих полномочий и придерживаться соглашения. Другим поручены были прочие приготовления; те, что должны были отплыть, спешно к тому готовились, продавали имущество свое и вносили (кто мог) деньги в общую казну, которой распоряжались, для общих расходов, особо назначенные лица. В это же время доведались у м-ра Уэстона и других, что некие лорды получили от короля жалованную грамоту на владение северной частью края, не входившей в патент Виргинской компании и совершенно независимой от тамошнего правительства, так что и называться должна была иначе, а именно Новая Англия. Тут м-р Уэстон и другие решили, что ехать стоит, более всего в надежде на барыши от ловли рыбы, которая там изобиловала. Но как во всяком деле выполнение есть часть наиболее трудная, особенно когда участвует в нем множество людей, так оказалось и тут; ибо некоторые из живших в Англии ехать раздумали; кое-кто из купцов и друзей, обещавших вложить в дело деньги, под разными предлогами отказались. Одни потому, что не выбрана Гвиана; другие не согласны были ни на что, кроме Виргинии. А были и такие (и как раз те, на кого всего более рассчитывали), что невзлюбили Виргинию и ничего не хотели сделать, раз выбрали именно ее. Среди всех этих неурядиц лейденцы, которые распродали уже имущество и вложили в дело свои деньги, оказались в трудном положении, не зная, как решится дело; наконец большинство склонилось к последнему предложению. Но тут возникла новая помеха, ибо м-р Уэстон и еще некоторые, именно за это стоявшие, потребовали — то ли ради собственной выгоды, то ли, как уверяли они, для привлечения новых участников, — чтобы изменены были некоторые из условий, о которых еще прежде договорились в Лейдене. На что два агента, посланные из Лейдена (или по крайней мере один из них, тот, кого более всего потом винили), согласились, видя, что иначе случай будет упущен, дело расстроится, а те, кто уже расстался с имуществом и внес деньги, вовсе разорятся. Они взяли на себя договориться с купцами на этих новых условиях, кое-в чем преступив свои полномочия и никого не предупредив; и даже утаили это, дабы избежать новых задержек; что стало впоследствии причиною многих раздоров. Здесь надлежит мне привести эти условия:Anno 1620, июня 1-го. 1. Купцы-пайщики и переселенцы договариваются, что каждый уезжающий, достигший 16-ти лет, вносит 10 ф., каковая сумма и принимается за одну долю участия в деле. 2. За каждым, кто едет и при этом затрачивает 10 ф. деньгами или провиантом, будет считаться 20 ф., и при разделе получит он двойную долю. 3. После переезда переселенцы и пайщики останутся компаньонами на 7 лет (разве что обстоятельства непредвиденные вынудят их всех договориться иначе); за каковой срок все барыши и выгоды от торговли, менового торга, различных работ, рыболовства и всего прочего, что будет предпринято одним или несколькими переселенцами, пойдут, вплоть до раздела, в общую казну. 4. По прибытии на место выделено будет нужное число людей, сведущих в снаряжении кораблей и лодок для морского рыболовства; остальных же употребят, смотря по их умению, для работ на суше, как-то: постройки домов, пахоты, сева, а также изготовления предметов, наиболее для поселения нужных. 5. По истечении 7-ми лет капитал и имущество, а именно: дома, земли и движимость, поделены будут поровну между пайщиками и переселенцами; после чего каждый будет свободен от всяких обязательств и долгов по настоящему предприятию. 6. Всякий, прибывший в поселение позже или внесший что-либо в общую казну, после 7-ми лет получит свою долю, смотря по времени, когда он это сделал. 7. Кто привезет с собою жену, детей или же слуг, при разделе получит на каждого достигшего 16-ти лет по одной доле, а если снарядил их за свой счет, то по две; а каждые двое детей в возрасте от 10 до 16-ти лет считаться будут за одного человека, как в пути, так и при разделе. 8. Отъезжающие дети, не достигшие 10-ти лет, не получат никакой доли, кроме 50-ти акров невозделанной земли.. 9. Если кто умрет до истечения 7-ми лет, наследники его получат при разделе его долю, смотря по времени, какое прожил он в поселении. 10. Все поселенцы получают пищу, одежду и все необходимое из общей казны и складов указанного поселения.Главных различий между этими условиями и прежними было 2: дома и возделанная земля, в особенности же сады и приусадебные огороды, должны были через 7 лет целиком отойти поселенцам. Во-вторых, каждый должен был иметь 2 дня в неделю для работы по дому, на себя и семью, особенно семейные. Но поскольку мудрые люди считают письма лучшей частью всякого повествования, я покажу недовольство поселенцев с помощью собственных их писем, где оно всего яснее выражается.
Письмо м-ра Робинсона к Джону Карверу:
Июня 14-го, 1620 нового стиля. Возлюбленный друг мой и брат, которого, со всеми близкими его, неизменно люблю и за которого не устану возносить к господу самые усердные мои молитвы. Из писем наших вам хорошо известно про наши дела, а дела эти поистине плачевны; прежде всего потому, что нет кораблей и нет вероятности, а тем паче уверенности, что они будут; не хватает и денег на самые насущные потребы. М-р Пикеринг, как вы уже знаете, не внесет здесь ни пенни; хотя Роберт Кашмен ждал не знаю уж сколько раз по 100 фунтов от него и еще кого-то. Не странно ли, что мы должны включить в число пайщиков и его, и компаньона его, а м-р Уэстон пишет ему, что по этой причине Пикеринг выдал на него вексель еще на 100 фунтов. Но тут кроется некая загадка, как и во всем этом деле. К тому же иные, еще не внесшие деньги полностью, внести их отказываются, покуда нет кораблей и ничего для этого не делается. Не думаю также, чтобы кто-либо из здешних внес деньги, если бы снова имел их в кошельке. Вы знаете, что мы положились на одного лишь м-ра Уэстона и на то, что может он устроить для общего нашего дела; и хотя уже рядились с голландцами, но по одному слову его переговоры прервали и приняли условия, какие он предложил. Знаю, что сделал он это из любви к нам, но надежд наших покамест не оправдывает. Многие считают, что ему надлежало первому внести свою долю, но это я ему прощаю, ибо он купец, и деньги его постоянно должны быть в обороте, тогда как другие, имея их в руках, истратили бы. А вот что он по сей день не приготовил корабли и даже ничего для этого не предпринимает и не сообщает нам, если решил что-либо иное, этому я, по совести, оправданий не вижу. Слышал я, что, когда приняли его в пайщики, он от всего уклонился и передал другим; и справлялся о ходе дел у Джорджа Мортона, словно сам едва имеет до них касательство. Не знаем, обманут ли он теми, от кого ждал помощи, и потому не может довести дело до конца; или поопасался, что вы слишком скоро будете готовы и тем увеличите расходы на переезд более чем подобает; или надеется, что, отстранившись, поставит нас в трудное положение, и тогда м-р Брюэр и м-р Пикеринг поневоле сделают больше; или тут иная тайность; одно мы видим: что дела идут плохо. М-р Уэстон посмеивается над нашими стараниями приобрести корабль; между тем я убежден, что мы имели веские причины для всего, что делали, кроме разве двух вещей: во-первых, когда поручили соглашение Роберту Кашмену (человеку хорошему и в своем деле искусному), но непригодному, чтобы заключать сделки за других, ибо он чудаковат и совершенно безразличен к условиям; вот почему (по правде говоря) имеем мы от него одни лишь оговорки и отступления. Во-вторых, когда чересчур занялись делами общими и не видели всех подробностей подготовки столь трудного дела. Что касается кораблей, м-р Уэстон, как видно, склоняется их нанять, и хорошо бы, чтобы сделал это поскорее; но если будет так, то отсюда помощи ждать нечего. Чего ждать от м-ра Брюэра, вы знаете сами. Не думаю, что м-р Пикеринг войдет в дело, разве только будем покупать, как условлено было в прежних письмах. Что до условий, то наше мнение вам известно. И особенно следует помнить, что большая часть переселенцев наверняка не столько будет обрабатывать свои участки и строить дома, сколько ловить рыбу, торговать и т. п. Так что купцам-пайщикам при разделе не много будет корысти от земли и домов, тогда как для переселенцев это потеря большая, особенно если кто над ними усердно станет трудиться, урывая часы от сна. По той же причине, то есть потому что большинство постоянно будет занято на общих работах, не следует лишать небольшую часть переселенцев 2-х дней на домашние дела, когда и без того все подчинено делу общему. Помыслите также, сколь несправедливо заставить вас и вам подобных отбывать 7-летнее ученичество, не имея и дня, свободного от труда. Известите меня, кто именно едет, сколько есть из них искусных в ремеслах, и обо всех подробно. Я знаю, что разума вам не занимать. Прискорбно, что вас не было все это время в Лондоне, но для подготовки дела вы необходимы. За недостатком времени не пишу более. Да пребудет с вами и близкими вашими благословение господа, на которого и я уповаю. Готовый к услугамДжон Робинсон.
Еще письмо от нескольких лиц, относящееся к тому же времени:
Возлюбленным друзьям Джону Карверу и Роберту Кашмену наши и т. п. Любезные братья, примите наш привет и т. д. С м-ром Нэшем и нашим лоцманом получили мы несколько писем, с вестями, весьма нас ободрившими, за которые надеемся впоследствии возблагодарить господа; если бы не послали вы их, многие готовы были идти на попятный. Как из-за принятых вами новых условий, которые никому не пришлись по душе, так и потому, что мы не в силах выполнить ни одно из важных дел, кои вы на нас здесь возложили. Что до условий, то раз Роберт Кашмен просит указать причины нашего неудовольствия и обещается условия изменить, чтобы не считали мы, будто у него нет мозгов, пусть и поработает ими; напоминаем ему доводы нашего пастора и порицание благочестивых и разумных людей. Мы желаем, чтобы вы не давали за себя и за нас столь неразумных обещаний, как-то: отдать купцам при разделе половину домов и участков; и лишить людей ранее оговоренных 2-х дней в неделю, то есть не оставить им вовсе времени на собственные их нужды; для чего тогда везти с собою слуг себе в помощь; ибо не можем мы требовать от них большего, чем потребуется от каждого. Все это известно нам единственно от м-ра Нэша, но не из писем ваших, а потому надеемся, что без нашего участия вы не зашли далеко в столь важном деле. Просим вас не превышать полномочий ваших, кои состояли в том, чтобы держаться уже заключенного письменно соглашения (когда были вы с этой целью посланы); и дивимся, что вы, зная (как вы сами пишете), какой малости довольно, чтобы внести смущение, и сколь немногие судят о деле правильно, тревожите нас подобными вещами и т. д. Передайте наш поклон м-ру Уэстону, в котором надеемся не обмануться; сообщите ему о нашем положении, а если сочтете нужным, покажите и письма наши или хотя бы скажите, что, кроме бога, только на него уповаем и ему вверяемся; как вам хорошо известно, если бы не стал он пайщиком, мы и за дело бы не взялись; но мы уверены были, что раз взялся он, то знает и способы успешно его завершить; в нынешней нашей крайности мы опять-таки надеемся, что он наших чаяний не обманет. И коль скоро, любезные братья, открыли мы вам нынешнее положение дел, то и вы и т. д. Молим всемогущего, да извлечет нас из бездны трудностей; да явит отеческую заботу о бедных чадах и слугах своих, чтобы утешились мы, увидев перст господень в этом нашем деле, которое предприняли во имя его; и на том прощаемся с вами и остаемся, в тревоге, но и в надежде,братья вашиС. Ф., Э. В., В. Б., И. А.Июня 10-го нового стиля, Anno 1620.
Письмо Роберта Кашмена к вышеуказанным:
Братья, из писем ваших и дошедших до меня слухов усматриваю я большое недовольство моими действиями. Я узнал это с прискорбием, но снесу с терпением, ибо не сомневаюсь, что в письмах, а более всего при встрече, сумею оправдаться перед любым разумным человеком. Некоторые, и прежде всего податель этого письма, убеждали меня явиться и все вам объяснить; однако в настоящее время я не могу отлучиться ни на один день, не подвергая опасности все дело. Да и не вижу в этом большого проку. Примите же, братья, это письмо как начало моего пред вами оправдания. Что до недовольства вашего изменением одного из условий соглашения, если правильно его понимать, то моей вины тут вовсе нет. Ибо соглашения, привезенного Джоном Карвером, никто из здешних пайщиков не видел, кроме м-ра Уэстона; и никому оно не понравилось из-за этого самого пункта; да и самому м-ру Уэстону, когда он его хорошо обдумал. Потому-то сэр Джордж Фэррер и брат его взяли обратно свои 500 ф.; так же поступили бы все прочие (кроме м-ра Уэстона), если бы это условие не изменили. Когда мы в Лейдене составляли соглашение, то в этом пункте ошиблись, но не по моей вине. Я указал вам в письме на справедливость изменения его; и пусть м-р Робинсон против этого возражает; наши возражения будут поважнее; без изменения этого условия не будет у нас, на чем туда добраться и чем существовать, когда доберемся. На все эти доводы, а они даже и не мои, но людей более мудрых, ответа не было; а доходят ко мне одни только укоризны и жалобы, будто вознесся я над братьями своими и от себя сочиняю условия, пригодные более для воров и каторжников, чем для людей честных. Но вот наконец получил я письменные возражения против этого условия; и раз вручены они открыто, то открыто на них и отвечаю. В них указано на неудобства, могущие от этого условия произойти, но неудобств и с противной стороны можно привести хоть 20 и все-таки ничего тем не доказать; а видно тут непонимание самой сути условия, да и всего соглашения. Сказано, во-первых, что без раздела домов и участков лучше будет тем, кто беден. Верно; но в том и состоит несправедливость прежнего условия; ибо больше должно чтить того, кто рискует и деньгами и собою, чем того, кто рискнул только собою. 2. Вспомним, что делаем: не милостыню подаем, но делаем запасы; в течение 7-ми лет ни один не будет беднее другого, и если кто-то будет богат, то бедных быть не может. Нельзя в таком деле, как наше, кричать: подайте им на бедность! Благотворительность там уместна, где разорение, но не там, где вложены деньги; а вы именно ею и собираетесь, к сожалению, заняться; а потому не жалуйтесь прежде времени. 3. Никто не станет строить добротных домов, какие советуют политические трактаты. Ответ: вот и хорошо; нам сейчас так надо строить, чтобы, если придется, не жаль было поджечь и бежать при свете зарева; богатство наше не в роскоши состоять будет, но в силе; если бог пошлет нам богатство, мы употребим его на то, чтобы больше иметь работников, судов, снаряжения и пр. В лучших из ученых трудов говорится, что стоит где завестись роскошным домам и пышным нарядам, как общество клонится к упадку. 4. Излишества в постройках можно запретить указом правительства. Ответ: но если все и сами решили строить скромно, правительству меньше будет забот. 5. Люди не равны. Ответ: если разумеете вы богатство, то заблуждаетесь; а если качества души, то я скажу: кто недоволен, когда у соседа дом, пища, имущество и др. не хуже, чем у него самого, то это дурные качества. Второе. Нелюдимам, которые пекутся лишь о себе, лучше быть там, где идет лов, чем где его запретили; и лучше им жить наособицу, а не в общине, гражданской или религиозной. 6. Ценность дома не превысит 5-ти ф. Ответ: верно; а быть может, и половины того. Если люди таким удовольствуются, к чему нам хлопотать и дать себя заподозрить в алчности и пристрастии к земным благам? Чего только не слышал я с тех пор, как дошли сюда эти возражения. 7. Друзья, взявшие паи в нашем деле, не пекутся о своих прибылях, как прежние купцы. Ответ: значит, они лучше нас, которые из одного лишь опасения за прибыли готовы уже отступиться; и похоже, что прибыль сделалась главной целью нашей; раскайтесь, иначе не следует и ехать, дабы не уподобиться Ионе на пути в Фарсис. Во-вторых: если одни из них не пекутся о прибылях, то не все таковы. Ну и что же, раз и мы о том хлопочем? Среди пайщиков разные бывают люди, и нам надо стараться удовольствовать их всех. 8. Это разобщит людей, и многими доводами можно это доказать. Ответ: сказать можно все, а я скажу, что, напротив, больше объединит их, и это опять-таки можно многими доводами доказать. 9. Большие прибыли принесут рыболовство, меновая торговля и др. Ответ: это лучше как для них, так равно и для нас; ибо половина достанется нам, и дальше будем мы этим жить, и если прибыльнее будут эти занятия, значит, меньше станем работать на земле, а тогда дома и участки будут менее ценными. 10. Мы больше рискуем, чем они. Ответ: верно, но разве они предприняли дело? Разве они нас к нему понуждают? Разве все решения принимались не нами? Разве они, видя нашу решимость, для которой недостает средств, не предоставляют нам эти средства на равных условиях? Если мы не поедем, они охотно оставят свои деньги при себе. Вот так предлагаю я разрешить сомнения и надеюсь, что вы серьезно все обдумаете, и более шуму не будет. Слышу также, будто заключил я кабальные условия; но вот все, что изменил я, а о причинах вам сообщал. Если речь идет о 2-х днях в неделю для работы на себя, как говорят некоторые, то тут ошибка; по мне, так пусть этих дней будет хоть 3. Когда заговорил я с пайщиками, они сказали, что почитают нас за людей совести и чести, которым можно в этом довериться. Поистине, все в Лейдене решалось не с того конца, отсюда и теперешние шатания и пр. А тем, кто в Амстердаме, думается мне, более по пути в Рим, чем с нами; ибо свободы наши для них все равно что крысиный яд, а нам их строгости не лучше испанской инквизиции. Если они мною недовольны, пусть отступятся; я берусь устроить, чтобы деньги им вернули. А если все почитают меня за Иону, пусть бросят в море еще прежде, чем мы уедем; я и сам готов остаться в чем стою, лишь бы был у нас покой и более не слышалось нареканий; поистине не ожидал я подобного и т. д.Не знаю, дошло ли это его письмо в Лейден; полагаю скорее, что оно было задержано м-ром Карвером, который оставил его у себя; ибо оно было оскорбительным. Но письмо, приводимое ниже, было там получено; я же счел нужным привести оба.Ваш Р. Кашмен.
Еще одно его письмо к вышеуказанным, от июня 11-го, 1620:
Приветствия и т. д. Письмо ваше получил я вчера с Джоном Тернером и в тот же день другое, из Амстердама, через м-ра У., сильно отзывающее амстердамским духом. Ко всем моим здешним огорчениям столько тамошних возражений и отказов, что я сказал: отчитаюсь Джону Карверу, когда он приедет, передам ему дела, а сам отстранюсь совершенно, хоть бы остался при этом в чем стою. Однако, поразмыслив, решил попытаться еще раз и сообщил м-ру Уэстону о плачевном нашем положении; а он, хоть в последнее время весьма нами недоволен и часто говорит, что, если бы не обещался, бросил бы все дело; но уж коли зашло у нас так далеко и либо удача, либо гибель, то он скрепился духом; придя ко мне 2 часа спустя, сказал, что не отступится. Посовещавшись, решили мы нанять корабль и один к понедельнику присмотрели, измещением около 60 ластов, потому что бóльшего не найти, либо уж чересчур большие; а этот хорош. И раз тамошние друзья наши так уж строги, надеемся, что сговорим его, не утруждая их более; а если окажется маловат, пусть те, кто спотыкается о соломинку, лучше остается, а то как бы за 7 лет не повстречалось на пути чего похуже. Если бы вы хорошенько все это обсудили месяц назад и написали нам то, что сейчас пишете, мы сумели бы все устроить куда лучше. А теперь как уж есть; надеюсь, что тамошние друзья наши, если освободить их от расходов на корабль, больше вложат денег. Сейчас мне нужно только, чтобы вы закупили соль и сети, а все прочее мы добудем здесь; а если и этого нельзя, пусть месяц-другой подождут, и мы все оплатим векселем. Пусть м-р Рейнольдс побудет с вами и ведет корабль в Саутгемптон. Здесь наняли мы еще одного капитана, некоего м-ра Кларка, что о прошлом годе возил в Виргинию скот. Более подробные вести пришлю с Джоном Тернером, который, должно быть, выедет отсюда во вторник вечером. Я и сам думал с ним ехать, чтобы ответить на обвинения; но надо мне научиться меньше принимать их к сердцу; а если стану не столько хлопотать о нашем важном деле, сколько спорить и препираться, то сам уподоблюсь тем, кто живет одними криками и раздорами. Но я не свободен ни телом, ни духом, ибо обременен делами, и лучше бы мне отдохнуть, чем отвечать на обвинения. Если хотят, пусть сотрясают воздух; надеюсь, что истинные мои друзья не сомневаются, что для действий моих я могу привести причины. О том, как вы в этом деле ошиблись и о прочем, что до него касается, скоро сообщу подробнее. А покамест убедите наших друзей не толковать о том, чего еще не знают. Если же я не сумею дать в своих поступках отчета, значит, вы поручили дело свое дураку; вот и пеняйте на себя и пошлите другого, а меня отпустите к моей чесальной машине. Есть и у меня недостатки, но пускай судит меня бог и все непредубежденные люди; а когда свидимся, я отчитаюсь в здешних своих действиях. Пусть господь, судия праведный и нелицеприятный, увидит правоту мою и пошлет нам во всех треволнениях этих мир и терпение и освятит бремя наше. Прощаюсь с любовию со всеми вами. Надеюсь, что через 14 дней все здесь будет готово. Бедный брат вашКроме всего этого, возникли разногласия между тремя людьми, коим вручены были деньги для закупок в Англии; ибо к двоим уже упомянутым, посланным для этого из Лейдена, то есть м-ру Карверу и Роберту Кашмену, добавили еще одного, выбранного в Англии; это был м-р Мартин из Биллирайка в графстве Эссекс; оттуда сбирались в путь и другие, равно как из Лондона и иных мест; вот в Голландии и решили, чтобы эти незнакомцы, которым предстояло с нами ехать, выбрали своего земляка, не столько потому, что такуж необходима была его помощь, сколько затем, чтобы отвести подозрения в какой-либо за их счет несправедливости. Старания никого не обидеть в этом деле, а впоследствии и в других делах, обернулись, как увидим позже, большими для нас неудобствами; однако указывают на нашу справедливость и честность. Закупки сделаны были большей частью в Саутгемптоне, наперекор желанию м-ра Уэстона и Роберта Кашмена (которые обычно были меж собою согласны). Кое-что из этого видно из письма к м-ру Карверу, а остальное станет ясно позже.Июня 11-го, 1620.Роберт Кашмен.
Возлюбленному другу моему м-ру Джону Карверу и т. д.
Возлюбленный друг мой, получил от вас письма, полные недовольства и жалоб, и не пойму, чего вы от меня хотите; столько упреков в небрежении! — небрежении! — что дивлюсь, как это вы поручили дело человеку столь небрежному. Знайте, что во всем, что я в силах тут сделать, задержки не будет ни на час, ручаюсь вам. Вы хотите, чтобы м-р Уэстон ссудил нас деньгами сверх того, что вложил в дело; а он уверяет, что, если бы не данное слово, не делал бы вообще ничего. Он полагает, что мы действуем опрометчиво, и недоволен, зачем делаем закупки столь далеко; и зачем не сообщили ему, какое нужно количество; и говорит, что, покуда будем из 3-х мест, друг от друга удаленных, ездить туда и обратно, да еще препираться, пройдет все лето, прежде чем будем готовы в путь. И правду сказать, меж нами произошел уже настоящий раскол; и мы больше спорим, чем готовимся в путь. Думается, что мы разочли неверно; на 150 человеку нас имеется верных денег всего 1200 с небольшим ф.; не посчитали сукно, чулки и обувь; так что не хватит, по крайней мере, 300 или 400 фунтов. Я предлагал сократить несколько количество пива и другой провизии, в надежде на новые взносы; сейчас и в Амстердаме и в Кенте можно бы взять пива сколько нам надо, но нельзя этого сделать без ущерба. Вы опасаетесь, что мы не доведем дело до конца; и верно, что никогда не действовали мы согласно, вот и приходится теперь опасаться за исход дела. Да и мы трое с самого начала были меж собой не согласны. Вы писали м-ру Мартину, чтобы не закупал провизию в Кенте, а он это сделал и решил, сколько чего возьмет, не слушая ни советов, ни возражений. Кто состоит в общине, а не внемлет советам, тому лучше быть королем, чем членом общины. Словом, если не договоримся, то вместо союза смиренных и мирных станем примером ссор и взаимных оскорблений. Однако деньги ваши, нужные вам сейчас, доставим немедленно. Вы пишете, что хватит 500 ф.; остальное, на расходы здесь в Голландии, придется нам наскрести. Хотя м-р Крэйб[20], о котором вы пишете, обещался ехать с нами, я не буду спокоен, пока не взойдет он на борт; он со многим спорит, надеюсь, однако, что не подведет. Уповайте на лучшее и с терпением сносите все неудачи, и да поможет нам всем господь. Любящий друг вашЯ пишу об этом пространно и прошу дозволения еще кое-что добавить (хотя о других делах буду говорить более кратко), дабы дети переселенцев узнали, какие трудности преодолевали отцы их, зачиная дело, и как бог привел их к цели, невзирая на их греховные слабости. А также затем, чтобы пригодилось это другим в подобных важных начинаниях; на том и кончаю я эту главу.Роберт Кашмен.Лондон, июня 10-го, Anno 1620.
7 ГЛАВА
Об отъезде из Лейдена и иных событиях; и о прибытии в Саутгемптон, где все соединились и погрузили свои припасы Наконец, после многих поездок и споров, все было готово. В Голландии был куплен и оснащен небольшой корабль[21], с тем чтобы он не только перевез переселенцев, но служил впоследствии для рыбной ловли и иных нужд поселения. Еще один нанят был в Лондоне, вместимостью 180 тонн. Приготовили и все прочее. Готовясь к отъезду, назначили торжественный день покаяния и выслушали проповедь пастора на текст из Книги Эзры, 8, 21: «И провозгласил я там пост у реки Агавы, чтобы смириться нам пред лицом бога нашего, просить у него благополучного пути для себя и для детей наших и для всего имущества нашего». Это заняло у него немалую часть дня с большой пользой, ибо соответствовало нашему положению. Остаток времени провели в усердных молитвах, сопровождая их обильными слезами. А когда настал час отъезда, все отправились, вместе с провожавшими нас братьями, в ближний городок названием Дельфсхавн, где ожидал корабль. Так покинули мы славный город, служивший нам приютом почти 12 лет; но мы почитали себя пилигримами[22]{19} и не задерживали на нем взоров, но устремляли их к небесам, желанной своей отчизне, и это принесло нашим душам покой. На корабле все было готово; те друзья, которые не могли с нами ехать, пришли проводить; а кое-кто прибыл из Амстердама, чтобы с нами проститься. В ту ночь мало кто спал; она прошла в дружеских беседах, благочестивых размышлениях и иных выражениях любви истинно христианской. Наутро подул попутный ветер, и мы, вместе с некоторыми из провожавших, взошли на борт, где и произошло печальное расставание; и столько слышалось вздохов, рыданий и молитв, столько было каждым пролито слез и сказано слов, потрясавших сердца, что многие из голландцев, собравшихся у причала, тоже не могли удержать слез. Вместе с тем отрадно было видеть столь живые и искренние выражения горячей и непритворной любви. Прилив (который никого поджидать не станет) побуждал спешить тех, кому столь тяжко было уезжать; почтенный пастор наш преклонил колени (а за ним и все) и, проливая слезы и горячо молясь, поручил нас милости божией. Так простились мы, обнимаясь и плача, и для многих расставание это оказалось последним. Итак, подняв паруса[23], при попутном ветре, прибыли мы вскоре в Саутгемптон, где ожидал больший из кораблей с остальными спутниками. После радостной встречи, взаимных приветствий и дружеской беседы принялись мы обсуждать общее дело и как его наилучшим образом выполнить; поговорили и с агентами об изменении в условиях. М-р Карвер оправдывался тем, что, будучи в Саутгемптоне, не мог знать, что именно второй посланец делал в Лондоне. М-р Кашмен отвечал, что делал лишь то, к чему вынуждаем был отчасти справедливостью, но более всего необходимостью, ибо иначе поездка не состоялась бы и многие были бы разорены. Он еще в начале известил обо всем других агентов, которые с ним согласились и предоставили ему действовать: получить деньги в Лондоне и переслать их в Саутгемптон, для закупок; так он и сделал, хотя сам он, да и некоторые из купцов, вовсе не считали, что закупать следует там. Известить лейденцев об этом изменении он не мог за недостатком времени; да и знал, что это их смутит и замедлит дело, которое и без того слишком затянулось; упущено благоприятное время года, и он опасается, что это дорого нам станет. Его объяснения никого однако не удовлетворили. Тут как раз прибыл из Лондона м-р Уэстон, чтобы проводить нас и подтвердить изменение условий; это мы сделать отказались, заявив, что, как ему хорошо известно, в первоначальном соглашении этих условий не было, и не можем мы их принять без согласия всех остальных, кто оставался. Более того, главные из оставшихся особо наказали нам не соглашаться. Этим он весьма оскорбился и сказал, что пусть тогда полагаются только на себя. И вернулся разгневанный, а с того и пошли между нами несогласиями хотя нам при отъезде не хватало для расчетов около 100 фунтов, он не выдал чеков ни на один пенни; пусть обходятся как сумеют. Так что пришлось для покрытия недостачи продать часть провизии, а именно 3–4 дюжины бочонков животного масла; без них легче всего можно было обойтись, ибо запасли его слишком много. И тут же написали купцам и другим пайщикам следующее письмо относительно спорных условий:Авг. 3-го, Anno 1620. Любезные друзья, сожалеем, что вынуждены писать к вам, ибо многих из вас ожидали здесь увидеть, но более всего из-за несогласий, меж нами возникших. Но коль скоро не можем с вами побеседовать, считаем нужным (хотя бы кратко) изложить важные причины несогласия нашего с условиями, которые Роберт Кашмен заключил без нашего ведома и согласия. И хотя сделал так, должно быть, с хорошими намерениями, это его ни в какой мере не оправдывает. Несогласие касается пунктов 5 и 9, о разделе домов и участков, владение которыми, как некоторым из вас хорошо известно, было одной из главных причин, среди многих прочих, побудивших нас к отъезду. Это признано было столь справедливым, что крупнейший из пайщиков (заслуженно нами уважаемый), когда сам предложил нам соглашение, записал и это условие; а мы один список с него послали вам, кое-что добавив; а так как обе стороны были с ним согласны, назначили день для взносов, и голландские братья внесли свою долю. После чего Фоберт Кашмен, м-р Пирс и м-р Мартин чисто его переписали и занесли в книгу, которую мы храним у себя; а когда Роберт показал его м-ру Маллинсу и вручил подписанную копию (она также находится у нас), то и он внес деньги. Здесь в Голландии, до приезда в Саутгемптон, другого соглашения не видели; только один из нас переписал его для себя; и все мы, прочтя его, крайнее выразили недовольство; но мы уже распорядились имуществом нашим, готовясь в путь, и отказываться было поздно. Умоляем вас рассудить дело по справедливости, и, если совершена была ошибка, возложите вину на кого следует, но не на нас; у нас более причин стоять за первое соглашение, нежели у вас за второе. Никогда не поручали мы Роберту Кашмену составлять за нас какое-либо условие и посылали его только для получения денег на условиях, заключенных ранее, а также, чтобы делал закупки до приезда Джона Карвера, а затем помогал ему в этом. Но если вы тоже, как и мы, почитаете себя обиженными, надо, думается нам, сделать к пункту 9 приписку, которая почти поправит беду, если вы таковую усматриваете. Дабы всем видно было, что мы не себялюбцы, но желаем также блага и обогащения друзей наших, доверивших нам свои деньги, мы в этой приписке от лица всей общины вновь заверяем, что если за 7 лет не прибудет нам больших барышей, то мы, с благословения божьего, останемся с вами дольше[24]. Надеемся, что этого достаточно, чтобы всех удовольствовать, особенно же друзей, ибо мы уверены, что если разделить все расходы на 4 части, 3 из них возражать не станут и т. д. А ныне находимся мы в такой крайности, что вынуждены, чтобы выйти в море, продать на 60 ф. провизии; во всем мы стеснены; почти нет у нас ни масла, ни кожи на починку обуви; не у каждого найдется шпага, не хватает мушкетов, доспехов и пр. Однако мы скорее готовы подвергнуться всем неминуемым опасностям и ввериться божьему провидению, чем допустить, чтобы из-за нас мог кто-либо порочить имя его и истину. С любовию вас приветствуя и моля господа благословить труды наши и сохранить в сердцах наших мир и любовь, мы на этом с вами прощаемся.Письмо было подписано многими главными участниками дела. При расставании м-р Робинсон обратился ко всем с письмом, которое, хотя оно было уже опубликовано, я счел желательным поместить и здесь, вместе с кратким, тогда же написанным, письмом к м-ру Карверу, где явил он нежную любовь и заботливость истинного пастыря.Ваши и т. д.Августа 3-го, 1620.
Любезный брат мой, к последнему письму вашему приложена записка, которую я бережно сохраню и при случае ею воспользуюсь. Сочувствую душевной тревоге вашей и телесному утомлению; надеюсь, однако, что вы, который всегда нес другим утешение в испытаниях, найдете его и для себя, чтобы трудности гораздо бóльшие, нежели пережитые вами (хотя и они, как я понимаю, достаточно были велики), не могли, говоря словами апостола, сразить вас, сколько бы ни разили. Дух человека (с помощью духа божьего) побеждает слабости его; не сомневаюсь, что так будет и с вами. Тем более что часть бремени вашего облегчена будет присутствием и помощью столь многих благочестивых и мудрых братьев, которые не допустят в сердца свои ни малейшего подозрения как в небрежении, так и в самонадеянности с вашей стороны, что бы ни думали они об остальных. Что могу я сказать или написать вам или супруге вашей, а моей возлюбленной сестре, кроме одного; что желаю вам (и всегда желал) от господа того же, что и собственной душе своей; и заверяю вас, что сердцем я с вами, а при первой возможности буду к вам и собственной особой. Я написал пространное письмо ко всей общине, но сожалею, что не говорю с ними, а пишу; тем паче что нет у них теперь проповедника, и это также заставит меня поспешить вослед за вами. Шлю вам с любовию свой поклон; а если бы думал, что вы сколько-нибудь в любви моей сомневаетесь, изъяснил бы вам ее более пространно. Пусть господь, которому вы вверяетесь и которому служите самым делом и путешествием вашим, руководит вами и хранит вас крылом своим и дарует вам и нам спасение души, а прежде сведет нас всех в избранном нами месте, если такова будет воля его, спасителя Христа ради. Аминь.Таково было последнее письмо, какое м-р Карвер успел при жизни от него получить. А вот и второе:Ваш и т. д.Дж. Р.Июля 27-го, 1620.
Возлюбленные друзья во Христе, любовно всех вас приветствую, ибо вас более всего люблю и к вам стремлюсь, хоть вынужден временно с вами разлучиться. Говорю «вынужден», ибо господу известно, сколь охотно разделил бы я с вами первое испытание, если бы суровая необходимость не удерживала меня сейчас здесь. Думайте пока обо мне как о человеке, раздираемом великою болью, лучшая часть которого (не говоря об узах крови) постоянно с вами. И хотя не сомневаюсь, что в благочестивой мудрости вашей вы позаботились, вместе и каждый в отдельности, обо всем касающемся до нынешнего положения вашего, все же почел я своим долгом еще ободрить тех, кто готов в путь, если не потому, что они в том нуждаются, то по долгу своему и любви. Если подобает нам ежедневно каяться богу нашему в явных и тайных грехах наших, то в час трудностей и опасностей, какие вас ожидают, господь велит особенно тщательно очиститься пред лицом его; дабы он, вспомнив грехи, которые мы позабыли или в которых не покаялись, не покарал за них гибелью; тогда как, искупив их искренним раскаянием, получив от господа прощение и храня его в душе своей, человек среди опасностей пребудет безопасен и покоен, в горестях своих сладостно утешен и от всякого зла избавлен, как в жизни, так и в смерти. Примирившись с богом и совестью, должны мы затем стремиться к миру со всеми людьми, особенно же с товарищами нашими, а для этого остерегаться как наносить обиды, так и гневаться на всякую обиду, нам наносимую. «Горе миру от соблазнов, ибо надобно придти соблазнам (столь лукав Сатана и греховен человек); но горе тому человеку, через которого соблазн приходит», говорит Христос. От Матфея, 18, 7. И если, как учит апостол (1 Кор., 9, 15), даже вещей безобидных, но некстати сделанных, следует опасаться более смерти, то тем паче — дел злых, когда пренебрегают и служением богу, и любовью к человеку. Воздерживаться, с божьей помощью, от нанесения обид еще недостаточно, если не вооружены мы также против обид, наносимых нам другими. Ибо мало благодати в человеке, которому недостает милосердия, чтобы прощать многие обиды, как велит Писание. И к этому призывает вас не одна лишь, всем христианам общая, истина: что людям обидчивым недостает либо милосердия, либо мудрой терпимости к слабостям человеческим; либо, наконец, являются они теми грубыми, хоть и скрытыми, лицемерами, о которых говорит господь наш Иисус. От Матфея, 7, 1, 2, 3. По собственному опыту знаю я, насколько меньше встречаем мы тех, кто обиды наносит, чем тех, кто их не может снести; и никогда эти обидчивые не были полезными и надежными членами общества. Есть и еще причины, почему именно вам подобает особенная терпимость. Во-первых, вам еще незнакомы свойства и слабости многих спутников ваших; а потому сугубая нужна сдержанность, чтобы, обнаружив в мужчинах и женщинах слабости, каких вы не подозревали, не слишком давать волю негодованию; и много тут нужно мудрости и милосердия, чтобы не причинить обиду нечаянно. Намерение ваше объединиться в гражданское общество постоянно будет давать к таким обидам поводы и питать этот огонь, если не гасить его старательно братской терпимостью. И если столь тщательно должны мы остерегаться беспричинно или чересчур легко обижаться на людей, насколько же усерднее надо стараться не обижаться на бога; а ведь это делаем мы всякий раз, когда ропщем на ниспосланные нам испытания или не умеем терпеливо сносить несчастия, какими угодно ему посетить нас. Запаситесь же терпением на лихую годину; иначе обижаемся мы на самого господа и на святые и справедливые дела его. В 4-х, еще об одном надлежит позаботиться, а именно, чтобы, объединясь для трудов, объединились вы и душевно, чтобы искренне стремились к общему благу и как чумы избегали гибельной для всех вас и для каждого заботы о собственной выгоде в чем бы то ни было; пусть каждый подавляет в себе себялюбие, пусть делает это община в каждом из членов ее и подавляет, как мятежников, восстающих против общего блага, всякое своекорыстие, не отвечающее общим целям. И как люди опасаются сотрясать новое здание, покуда не подогнали прочно все части его, так и вас молю, братья мои, не сотрясать едва воздвигнутый дом божий, который предстоит вам составить, ненужными новшествами и разногласиями. И, наконец, поскольку составили вы как бы государство, должны иметь правительство, и нет среди вас людей особо над прочими выдающихся, пусть мудрость и благочестие ваше проявится не в том только, что изберете лиц, которые всецело преданы общему благу и будут ему способствовать; но и в том, что воздадите им должную честь и окажете повиновение законному их правлению, видя в них не собственную их обыкновенность, но божью волю, указывающую путь ко благу вашему; да не уподобитесь бессмысленной толпе, которая более чтит пышные одежды, чем добродетель человеческую или святые таинства божьи. Вы не таковы; вы знаете, что божественную власть, почиющую на правителе, следует чтить, как бы скромна ни была особа его. И честь эту воздадите вы тем охотнее и усерднее, что править вами, по крайней мере в ближайшее время, будут единственно те, кого сами вы для этого изберете. Много еще важного мог бы я вам напомнить, а об уже сказанном сказать подробнее; но не стану обижать вас предположением, будто вы всем этим пренебрежете; ибо немало среди вас таких, кто и себя и других может наставить. Вот почему лишь это немногое, да и то в немногих словах, обращаю я к совести вашей; присоединив к сему ежедневные неустанные молитвы господу; пусть владыка, сотворивший небо и землю, моря и реки и осеняющий промыслом своим все творения свои, особенно всех детей своих, руководит и хранит вас, как внутренне, духом своим, так и мощной своей дланью, чтобы вы, и мы также, могли славить имя его всякий день жизни вашей и нашей. Да пребудет с вами тот, на кого все мы уповаем. Искренне желаю вам совершенного успеха в многообещающем путешествии вашем.Письмо это, хотя и пространное, столь поучительно само по себе и настолько соответствовало случаю, что я почел нужным его привести. Покончивши все дела и приготовления, созвали мы всех вместе и прочли письмо, которое всем пришлось по душе, а многим принесло впоследствии пользу. Распределили затем уезжавших, как сочли лучше, на оба корабля. И на каждый избрали старшего, с 2-мя или 3-мя помощниками, чтобы руководить в пути остальными, выдавать припасы и прочими делами ведать. Все это не только с согласия капитанов, но и по их желанию. После чего, примерно 5 августа, пустились в путь; а что приключилось далее у берегов Англии, о том сказано будет в следующей главе.Джон Робинсон.
8 ГЛАВА
О бедах, какие случились на побережье и на море и вынудили путешественников покинуть один из кораблей и часть своих товарищей. Не успели мы далеко отплыть, как м-р Рейнольдс, капитан меньшего из кораблей{20}, пожаловался, будто корабль его такую имеет течь, что он не осмеливается плыть дальше, не заделав ее. Посовещавшись с капитаном большего корабля{21} (звавшимся м-р Джонс), решили причалить в Дартмуте, чтобы осмотреть и починить корабль, что и было сделано и большие повлекло расходы, потерю времени и попутного ветра. Корабль тщательно осмотрели от носа до кормы, заделали несколько пробоин; и теперь мастера и все остальные сочли его пригодным для дальнейшего безопасного плавания. Оттуда вновь пустились в море, надеясь, что не случится более подобных помех; но вышло иначе, ибо когда уже отошли более чем на 100 лье от Лэндс-Энда, все время держась вместе, капитан меньшего корабля пожаловался на такую течь, что впору идти ко дну, ибо воду едва успевают откачивать. Снова посовещавшись, решили, что — оба корабля вернутся еще раз и причалят в Плимуте, что и было сделано. Больших пробоин не обнаружили, однако предположили, что корабль сам по себе недостаточно надежен для подобного плавания. Решено было оставить его, вместе с частью пассажиров, и плыть на втором корабле. Так и пришлось поступить (хоть всех это немало опечалило). Погрузив на второй корабль все припасы, какие мог он вместить, и решив, скольких людей и кого именно оставить, все снова с сокрушением простились, и один из кораблей возвратился в Лондон, другому же предстояло плыть дальше. Возвращались более те, кто сами того пожелали, то ли чем-то недовольные, то ли из боязни, что путешествие окажется неудачным, раз столько бед уже случилось и столько потеряно времени; но были и другие, обремененные множеством детей, кого сочли менее полезными и неспособными вынести тяготы такого предприятия; эти подчинились воле божией и решению собратьев. Итак, подобно Гедеонову воинству, малое число наше было еще уполовинено, словно господь судил, что и этих чересчур много для его великого дела. Здесь должен я сказать, что ненадежность корабля, как позднее обнаружилось, произошла отчасти из-за перегрузки его снастями и парусами; ибо когда его продали и оставили на нем снастей сколько было прежде, он долго плавал и исправно служил, к большой выгоде владельцев. Главной же причиной было коварство и предательство капитана и команды, которых подрядили на целый год службы в новом крае, а они, не желая того и убоявшись лишений, замыслили эту хитрость, чтобы освободиться; так стало известно позже, а некоторые признались и сами. Ибо они опасались, как бы больший из кораблей, на котором везли и большую часть припасов, не присвоил их себе, не заботясь о них и о пассажирах; эти опасения кое-кто из них высказывал; несмотря на уверения и на то, что главные из лейденцев нарочно, чтобы успокоить капитана, выбрали именно его корабль, столь велики были его себялюбивые страхи, что он забыл свой долг и все, чем прежде был нам обязан, и предал нас, хоть и заверял в противном. В числе вернувшихся был м-р Кашмен с семейством, который, как видно, еще прежде оробел и в душе стремился вернуться, хотя тело его возвращалось лишь теперь. Об этом говорит исполненное отчаяния письмо, написанное им некоему другу в Лондон из Дартмута, пока чинился корабль; в нем, кроме собственных его страхов, видим мы и то, как божий промысел устраивает все на благо, сверх ожиданий наших; а также другие подробности тогдашнего трудного положения. Привожу его здесь. И хотя писавший обнаружил в нем некоторые свои слабости (а кто не обнаружит их в час испытаний?), впоследствии оказался он истинным орудием провидения, любящим и верным другом и братом переселенцев и разделил с ними также и многие их радости. Вот это письмо:Возлюбленному другу Эд. С., Хенидж-хаус, Дьюкс-Плейс, из Дартмута, авг. 17-го. Любезный друг, сердечный мой привет вам и супруге вашей, а также любезным Э. М. и др., с которыми не чаю на этом свете свидеться. Ибо, кроме неминуемых опасностей плавания, воистину смертельных, одолевает меня недуг[25], который, как видно, не оставит меня до смерти. Как назвать его, я не знаю; но словно свинцовый груз все более давит мне на сердце вот уже 14 дней, и я, хоть и двигаюсь как живой, а чувствую, что словно мертв; но да будет воля божия. Наша пинасса все еще течет, не то мы уже прошли бы полпути до Виргинии; путешествие наше столь же полно бед, сколько в нас самих криводушия. Сюда прибыли мы, чтобы починить корабль, а останься мы в море еще 3–4 часа, он неминуемо затонул бы. И хотя он дважды чинился в Саутгемптоне, сейчас дыряв как решето; там оказалась доска в 2 фута длиною, которую запросто можно было оторвать руками; туда и попадала вода, как в кротовую нору. В Саутгемптоне чинились мы 7 дней, при отменной погоде, а здесь снова стоим уже 4 дня, и ветер таков, что лучше не бывает, а можем прождать еще 4, а там ветер переменится, как уже было в Саутгемптоне. Думается, что половина провизии нашей будет съедена, прежде чем отплывем от английского берега, а если плавание продлится долго, то по прибытии нам не достанет ее и на месяц. В Саутгемптоне израсходовано почти 700 ф., а на что, не знаю. М-р Мартин сказал, что отчитаться за них не может и не хочет, а когда этого требуют, кричит о неблагодарности, а он, мол, столько трудился; и убегает, и ничего не хочет делать. И так оскорбляет бедных людей наших и такое к ним выказывает презрение, словно они и в услужение ему не годятся. Вам больно было бы видеть, что он делает[25] и как горюют наши люди. Они жалуются мне, но я, увы, ничего для них не могу; стоит с ним заговорить, как он готов обвинить в мятеже и заявляет, что с жалобами должны они обращаться только к нему; а они, мол, дерзки, сварливы, всем недовольны, и слушать их нечего. Иные готовы потерять все, что внесли, или уплатить за все на них истраченное, лишь бы вернуться; но он их не слушает и не пускает на берег, чтобы не сбежали. Моряки также недовольны тем, как нагло он вмешивается в то, чего не смыслит; одни грозят сместить его, другие говорят, что уйдут с корабля. А чего он уже добился, так это сделаться для них посмешищем. А м-р Уэстон, если только не снизойдет на него благодать, возненавидит нас в десять раз больше, чем когда-либо любил; зачем не признали условий. Правда, теперь, когда их прищемило, стали проговариваться, что виноват м-р Робинсон; это он велел ни за что на эти условия не соглашаться и меня не выбирать и указал выбрать тех, кого они и выбрали[26]. И он, и они пожалеют, да будет поздно; и устыдятся, что поступали так бестолково и необдуманно. Раз не хотели они соглашаться на эти условия, жаль, что не решился я в Саутгемптоне бросить все дело, и лучше бы путешествие вовсе не сладилось, чем навлекло такие бедствия на нас, такое посрамление имени божиего и такой ущерб возлюбленным друзьям нашим, какой сейчас может произойти. 4 или 5 главных лейденцев решили на таких условиях не ехать. А м-р Мартин заявляет, будто на этих условиях денег не получал и купцам не должен ни за одно сосновое бревно, а они кровососы и не знаю уж что еще. Этот простак действительно не заключал соглашения с купцами, да никогда с ними и не говорил. Но все эти деньги, они что ж, сами прилетели в Саутгемптон? Или это всё его собственные? Кто же тратит деньги так смело и расточительно, как он, и не знает, откуда они и на каких условиях получены? 2-е. Об изменениях я сказал ему давно, и он не противился; а сейчас помыкает всеми и говорит, будто я предал их в руки рабовладельцев; а он, мол, ничем им не обязан и сам может снарядить 2 корабля. Хотел бы я знать, когда? Он всего-то внес 50 ф., а если бы сейчас отчитался, я уверен, что у него не осталось бы ни одного пенни и т. д.[27]. Друг мой, если удастся нам основать поселение, это будет поистине чудо; ибо припасов у нас мало, большинство меж собой несогласны, и нет у нас добрых наставников и порядка. Все сгубит дух насилия. Где кроткий и смиренный дух Моисеев? Где Неемия, что восстановил стены иерусалимские и страну Израиль? Не раздается ли среди нас постоянно похвальба Ровоама? И разве философы и все мудрые люди не заметили, что даже в государствах, давно основанных, деспотичные правители навлекают гибель на себя, на народ свой или на всех вместе? А тем паче в обществах, едва устроенных, когда не затвердел еще раствор, которому надлежит скрепить стены его. Если стану я писать обо всем, что предвещает нам гибель, не выдержит мой слабый разум и опечалится нежное сердце ваше; одно скажу: готовьтесь со дня на день услышать о нас дурные вести. И молитесь за нас, быть может, господь еще смилостивится над нами. Не знаю, как удастся нам избежать прежде всего голода; но бог может многое, и да свершится воля его. Лучше бы мне умереть, чем сносить то, что сношу я ежедневно и ожидаю ежечасно, приговоренный к смерти как недугом, так и опасностями. Бедняга Уильям Кинг и я не знаем, кто из нас двоих первый достанется в пищу рыбам; однако уповаем на блаженное воскресение; телесными очами не узрим Иисуса Христа, но в чаянии ожидающей нас радости все стерпим и все сочтем ничтожным в сравнении с нею. Передайте любовный мой привет друзьям нашим, как если бы я всех их назвал поименно; прошу их молиться за меня и хотел бы вновь их увидеть, но не прежде, чем смогу спокойнее глядеть им в лицо. Да ниспошлет нам господь то истинное утешение, какое никто отнять не может. Хотелось мне кратко рассказать другу о положении нашем. Не сомневаюсь, что ваша мудрость укажет вам, что именно говорить, когда вас о нем спросят. А писал я здесь одну лишь правду и о многом даже умолчал. Пишу это как последнюю свою исповедь в Англии. Что полезно сейчас огласить, о том расскажите, а что следует скрыть, то скройте. Не обессудьте, если писано плохо, ибо ослабели у меня и тело, и голова; да укрепит меня господь, и да хранит он вас и близких ваших. Любящий друг ваш. Роберт Кашмен. Дартмут, авг. 17-го, 1620.Если таковы были его опасения в Дартмуте, еще сильнее должны они были стать в Плимуте.
9 ГЛАВА
О путешествии, о том, как переплыли океан и благополучно прибыли к Мысу Код Сент. 6-го. Когда все уладилось и все разместились на одном корабле, он вновь вышел в море при попутном ветре, который длился несколько дней, что ободрило путешественников; многие, однако, страдали, как водится, морской болезнью. И здесь должен я упомянуть об одном случае, в котором явственно проявился божественный промысел. Был в числе моряков некий надменный и нечестивый юноша, крепкий телом и оттого еще более заносчивый; он презирал несчастных больных, постоянно их клял и прямо говорил, что за время плавания надеется половину их выбросить за борт и поживиться их имуществом; а когда кротко увещевали его, бранился пуще. Но корабль не проплыл еще и полпути, как богу угодно было поразить этого юношу тяжким недугом, от которого он в страшных муках скончался, так что оказался первым, кого бросили за борт. Так пали его проклятия на собственную его голову, что поразило всех товарищей его, увидевших в том праведный суд божий. После попутного ветра и ясной погоды довелось путешественникам испытать и противный ветер, и не одну яростную бурю, так сотрясавшую корабль, что надводная часть его стала сильно протекать, а один из главных бимсов треснул посредине и погнулся; это заставило опасаться, что корабль не выдержит плавания. Главные из пассажиров, видя, что матросы не уверены в надежности корабля, как явствовало из их ропота, стали обсуждать с капитаном и его помощниками, как им вовремя оценить опасность и не лучше ли возвратиться, нежели плыть навстречу неминуемой гибели. Среди самих моряков согласия не было; они бы и рады, ради обещанной платы, сделать что возможно (ведь пройдено было уже полпути); однако не хотели слишком уж рисковать. Выслушав всех, капитан и другие заверили, что корабль в подводной своей части крепок; а если погнулся главный бимс, так ведь пассажиры везут из Голландии большой железный болт, которым можно его укрепить; когда это было сделано, плотник и капитан заявили, что если подпереть его стойкой, вбитой в нижнюю палубу и закрепленной, то этого довольно. Что до палуб и всей надводной части, то можно их хорошо проконопатить; пока корабль в море, он не сможет долго не пропускать воду, но большой опасности все же не будет, лишь бы не ставить слишком много парусов. И вот, поручив себя богу, решили плыть дальше. По временам ветер столь был силен, а море бурно, что нельзя было поставить ни одного паруса и приходилось по целым дням дрейфовать. Однажды, когда легли мы таким образом в дрейф, а море было бурное, один крепкий юноша (по имени Джон Хауленд), поднявшись зачем-то над решетчатым люком, был, при внезапном крене судна, сброшен в море; но бог помог ему ухватиться за фалы марселя, которые свисали с борта и до конца раскрутились (оказавшись глубоко под водой); он все ясе крепко за них держался, пока на том же канате вытянули его на поверхность, а затем лодочным крюком подняли на корабль и спасли; и хотя он после того хворал, но прожил долгую жизнь, став полезным членом общины и поселения. За весь путь, и то когда приближались уже к берегу, умер лишь один из пассажиров, Уильям Баттен, молодой слуга Сэмюела Фуллера. Опуская (краткости ради) другие события, скажу, что после долгих поисков суши оказались мы вблизи места, называемого Мысом Код; и, убедившись в этом, немало обрадовались. Посовещавшись между собой и с капитаном корабля, повернули и пошли к югу (ветер и погода этому благоприятствовали), чтобы найти место для поселения где-нибудь близ реки Гудзон. Однако пройдя этим курсом полдня, оказались мы среди опасных мелей и ревевших бурунов и зашли столь далеко, что почли себя в большой опасности; а так как ветер стих, решили вернуться к мысу, чтобы в этом опасном месте не застигла нас ночь; это с божьей помощью удалось. На следующий день вошли в гавань у мыса, где были в безопасности. Скажу кстати два слова об этом мысе; первое свое название получил он в 1602 году от капитана Госнола{22} и его команды;[28] позже капитан Смит{23} назвал его Мысом Якова, однако среди моряков сохранилось старое название. А косу, с которой открылись нам опасные мели, назвали мы Косою Забот или Страхом Такера; а французы и голландцы по сей день зовут ее Малабар, из-за этих опасных мелей и крушений, какие они там терпели{24}. Достигнув благополучно удобной гавани и сойдя на сушу, все преклонили колена, славя бога, приведшего нас туда через необозримый бурный океан и хранившего нас от всех опасностей и бедствий, пока снова не очутились мы на твердой земле, в родной своей стихии. И не диво, что мы так радовались; ибо мудрый Сенека, пройдя всего несколько миль вдоль берегов родной своей Италии, так истомился, что предпочел бы, по его словам[29]{25}, двадцать лет добираться куда-либо по суше, нежели быстро прибыть туда морем; столь ужасным и тягостным это ему показалось. Тут должен я остановиться и ужаснуться положению бедных этих людей; то же, думаю, испытает и читатель, хорошенько над ним задумавшись. Одолев океан, а до этого — море бедствий, когда готовились в путь (что видно из ранее рассказанного), не имели они здесь ни друзей, чтобы их встретить; ни постоялых дворов, где подкрепили бы изнуренные тела свои; ни домов, а тем более городов, где могли бы укрыться и искать помощи. В Писании[30] повествуется, как апостол и спутники его, потерпевши кораблекрушение, гостеприимно были встречены варварами; но те дикари, что встретились нашим путешественникам (как видно будет далее), более склонны были пронзить их стрелами. А время было зимнее, и тем, кому известны тамошние зимы, ведомо, сколь они суровы и какие бывают свирепые бури, так что путь там опасен даже и по знакомой местности, а тем более вдоль неведомых берегов. Что увидели мы, кроме наводящей ужас мрачной пустыни, полной диких зверей и диких людей? и сколь много их там было, мы не знали. Не могли мы и взойти на вершину Фасги, дабы искать оттуда взором страну, более отвечающую упованиям нашим, ибо, куда ни обращали мы взор (разве лишь к небесам), ни на одном из видимых предметов не мог он отдохнуть. Лето уже миновало, и все предстало нам оголенное непогодой; вся местность, заросшая лесом, являла вид дикий и неприветный. Позади простирался грозный океан, который пересекли мы и который теперь неодолимой преградою отделял нас от всех цивилизованных стран. Могут сказать, что у нас был корабль; но что слышали мы всякий день от капитана и моряков? Чтобы без промедления садились в шлюпку и искали место неподалеку; ибо в такое время года корабль не тронется с места, пока не найдена надежная гавань, куда безопасно можно войти; что, хотя съестные припасы на исходе, себе они оставят довольно на обратный путь. А иные из моряков ворчали даже, что если вовремя не отыщем места, то выгрузят нас и имущество на берег и там оставят. Вспомним также, много ли надежд на помощь оставили путники на родине, чтобы могли поддерживать их дух в тяжких испытаниях; таких надежд было мало. Правда, лейденские братья питали к нам истинную любовь; но едва ли чем могли помочь нам, да и себе тоже; а как обошлись с нами при отъезде купцы, о том было уже сказано. Что же могло ныне поддержать нас, как не дух божий и милость его? Разве не вправе дети наши сказать: «Отцы наши были англичане, которые пересекли безбрежный океан и блуждали в пустыне по безлюдному пути[31], где погибли бы; но они воззвали к господу в скорби своей, и он спас их от бедствий их и т. д. Да славят господа за милость его и за чудные дела его[32]. Пусть те, кого сохранил господь, свидетельствуют, как избавил он их от врагов. Когда блуждали они в пустыне и не находили города, чтобы приютиться, когда терпели голод и жажду, смутилась в них душа. Пусть восславят они милость господню и чудные дела его среди сынов человеческих».10 ГЛАВА
О том, как искали место для жилья и что при этом произошло Прибыв 11 ноября к Мысу Код{26}, были мы вынуждены необходимостью (а также понуканиями капитана и матросов) искать место для жилья; а так как привезли мы из Англии большую шлюпку, которая хранилась в кормовой части корабля, то и велели своим плотникам оснастить ее; однако она столь сильно пострадала от бурь, что пришлось бы долго ее чинить. Тут несколько человек вызвались, покуда идет починка, разведать окрестности по суше; тем более что, входя в гавань, приметили мы в 2-х или 3-х лье нечто, по мнению капитана, похожее на устье реки. Попытка могла оказаться опасной, но, видя решимость людей, их отпустили; было их 16, хорошо вооруженных, во главе с капитаном Стэндишем, который получил соответствующие наказы. В путь они вышли 15 ноября и, пройдя берегом моря примерно милю, увидели 5 или 6 человек и собаку, шедших им навстречу; то были дикари, которые, кинулись в лес; англичане за ними последовали, частью чтобы попытаться с ними заговорить, частью затем, чтобы убедиться, не сидит ли кто-либо еще в засаде. Индейцы, видя, что за ними следуют, выбежали из леса и помчались по прибрежным пескам с такою быстротой, что приблизиться к ним не удалось; однако, идя по следам их, увидели, что пришли они именно оттуда. Надвигалась ночь; наши остановились на ночлег, выставив часовых; ночь прошла спокойно, а наутро, идя дальше по следам дикарей, достигли широкого речного устья и свернули с берега в лес, Дальше пошли наудачу, надеясь найти жилье дикарей, но вскоре потеряли их след, да и забрели в такую чащу, что могли изорвать одежду и доспехи; но более всего страдали от жажды. Вода наконец нашлась; первая новоанглийская вода, какую они отведали{27}, показалась им, истомленным жаждою, слаще вина или пива прежних дней. Затем стали они пробираться к другому берегу залива, видя, что для этого надо перейти через косу; и вышли наконец на берег моря в поисках предполагаемой реки, а по пути встретилось им озеро с чистой пресной водой, а вскоре затем расчищенное место, где прежде индейцы растили маис; было там и несколько их могил. Идя далее, увидели свежее жнивье, где маис рос еще в том же году, и тут же остатки дома, доски, уцелевший большой котел и кучи песку; порывшись в нем, нашли несколько красивых индейских корзин, полных маиса, частию в початках, отменно хорошего и разных цветов, которым они подивились (ибо прежде таких не видели). Было это вблизи той самой реки, которую они искали; к ней они и вышли и обнаружили, что она делится на 2 рукава, а в устье высокий утес из песчаника; однако вода была там скорее всего соленая; был и хороший причал для шлюпки; в шлюпке они и постановили прийти, когда та будет готова. Так как отведенное им время истекло, они вернулись на корабль, чтобы о них не тревожились; прихватили с собой часть маисовых зерен, остальное же закопали; и подобно людям из Эшкола принесли плоды земли братьям своим, которые и плодам, и возвращению их несказанно обрадовались и воспрянули духом. Когда шлюпка была готова, они отправились снова, чтобы получше разведать местность; с ними вызвался идти капитан, и теперь стало их около 30-ти; оказалось, однако, что гавань для кораблей непригодна, разве что для лодок; попались им 2 местные хижины, крытые матами, а в них — разная утварь; но обитатели убежали и их нигде не было видно; нашли также маис и разноцветные бобы. Маис и бобы они взяли, полагая за них, сполна расчесться, когда хоть кого-нибудь встретят (к их удовольствию, так оно и случилось месяцев 6 спустя). Был в том особый промысел божий и великая милость бедным этим людям, ибо теперь были у них семена для посева, иначе погибли бы они от голода; ибо у них семян не было и неоткуда взять их до конца следующего года (как и оказалось в дальнейшем). Не было бы у них и этих семян, если бы не первый их поход; ибо теперь земля замерзла и занесена была снегом. Но господь никогда не оставляет в беде детей своих; да святится имя его. В этих заботах прошел ноябрь; настала непогода. 6 декабря выслали шлюпку снова, а в ней 10 главных из поселенцев и нескольких моряков, чтобы далее разведать местность и обойти глубокий залив у Мыса Код. Стужа была такая, что брызги морской воды замерзали на одежде, и она стала словно стеклянная; однако в тот вечер успели они проплыть в глубь залива, аподходя к берегу, завидели человек 10–12 индейцев, чем-то очень занятых. Они высадились в 1–2 лье от них, что оказалось трудным из-за множества отмелей. Было уже поздно, и, огородившись, как сумели, стволами, и ветвями деревьев, выставили часового и отошли ко сну, видя вдали дым индейского костра. Утром они разделились; одни повели шлюпку вдоль берега, другие пошли лесом, в поисках пригодного для жилья места. Дошли и туда, где видели накануне индейцев; оказалось, что те потрошили тогда огромную рыбу, вроде дельфина, а жиру было на ней дюйма 2, как у свиньи; несколько кусков от нее осталось; а шлюпка наткнулась еще на 2-х или более таких рыб, выброшенных на песок, что обычно бывает там после бури, из-за больших песчаных отмелей. Весь день ходили они туда и обратно, но не нашли ни людей, ни подходящего места. Перед заходом солнца поспешили они выйти из леса к своей шлюпке, которой показали знаками, чтобы вошла в ближнюю бухту, пользуясь приливом; и очень друг другу обрадовались, ибо не виделись весь день. Соорудили (как делали это каждую ночь) ограждение из бревен и толстых сосновых веток, высотою в рост человека, оставив с подветренной стороны проход; как для защиты от холода и ветра (костер развели они посредине и легли вокруг него), так и на случай внезапного нападения дикарей, если бы те их окружили. Будучи очень утомлены, они улеглись спать. Около полуночи услышали громкий, отвратительный вой а часовой закричал: «К оружию, к оружию!» Схватив мушкеты, они раза два выстрелили, после чего все стихло. Решили, что то были волки или иные дикие звери; ибо один из моряков сказал, что в Ньюфаундленде часто слыхал подобный вой. Часов до 5-ти утра они отдыхали; прилив и желание поскорее уйти рано их подняли. Помолясь, стали готовить завтрак и, так как уже светало, решили грузить вещи в шлюпку. Кое-кто сказал, что оружие лучше туда не носить, другие сказали, что так будут они наготове, ибо оружие укрыли они под одеждою, храня от росы. Трое или четверо не хотели относить свое, пока не погрузятся сами; однако вода еще не прибыла, и они, сложив оружие на берегу, пошли завтракать. Но тут услышали они странный громкий крик и узнали его за тот самый, что слышался ночью, хотя на разные тона, и один из них, отошедший в сторону, подбежал и крикнул: «Эй, люди! Индейцы, индейцы!»: и вот уже полетели в них стрелы. Люди кинулись за оружием и, благодарение богу, успели. Двое из тех, что приготовились раньше, выстрелили из мушкетов; еще двое встали у входа в ограждение, но им приказано было не стрелять, пока не удастся тщательно прицелиться; а первые двое поспешно перезаряжали оружие, ибо для зашиты баррикады в первые минуты было оно только у четверых. Индейцы испускали ужасные крики, особенно когда завидели людей, выбежавших из-за баррикады к шлюпке за оружием, и кинулись за ними. Но на некоторых были кольчуги, а в руках тесаки; они схватили оружие и, бросившись на врагов, скоро их отразили. Но один крепкий и отважный индеец, укрывшись за деревом, на расстоянии половины мушкетного выстрела, пускал оттуда стрелы. Видели, как он пустил 3, но в цель не попал. В него трижды стреляли из мушкета, пока выстрел не угодил в дерево, так что его осыпало обломками; тогда издал он пронзительный крик, и все они убежали. Переселенцы, оставив нескольких человек стеречь лодку, пошли следом, прошли около четверти мили, раз или два крикнули и выстрелили, затем вернулись. Этим хотели они показать, что не боятся. Итак, богу угодно было даровать им победу над врагом и спасение; по особой милости его никто не был ранен, хотя стрелы летали вокруг них, а одежда, висевшая на баррикаде, была во многих местах пробита. Возблагодарив бога за свое избавление, собрали они пучок стрел, которые после отправили в Англию с капитаном корабля, а место нарекли местом первой схватки. Оттуда поплыли они дальше вдоль берега, но удобной гавани не нашли; поэтому поспешили туда, где, по словам одного из моряков (некоего м-ра Коппина, уже побывавшего в тех краях), была хорошая гавань; он там, бывал, и можно было поспеть туда до ночи; это их обрадовало, ибо погода становилась ненастной. Так плыли они несколько часов; пошел снег с дождем, а к концу дня ветер усилился, море разбушевалось, у них сломался руль, и 2 человека с великим трудом правили с помощью весел. Моряк, однако, ободрял их, ибо завидел уже гавань; но буря крепчала, надвигалась ночь, и, пока еще можно было что-то разглядеть, они поставили паруса. Тут сломалась в 2-х местах мачта, а парус упал за борт, в высокие волны, так что не миновать было крушения; однако, по милости божьей, они не пали духом, и волны вынесли их в гавань. Тут оказалось, что моряк ошибся и сказал: помилуй нас господь, никогда я этого места не видал; он и капитан хотели причалить, при попутном ветре, в бухте, где бились волны. Но бравый матрос, который был за рулевого, крикнул гребцам: поворачивайте, кто из вас мужчины, не то разобьемся; и они это быстро проделали. А он велел не унывать и грести веселей, ибо по звукам угадал, что есть места, где пристать можно безопасно. И хоть было очень темно и лил дождь, им удалось подойти с подветренной стороны к какому-то островку и там заночевать. Пока не рассвело, они не знали, что это остров; а тогда заспорили; одни хотели оставаться в лодке, опасаясь индейцев; другие так ослабели и иззябли, что непременно хотели сойти на берег, где с великим трудом разожгли костер (ибо все промокло); тут и остальные охотно к ним присоединились, ибо после полуночи ветер сменился на северо-западный и сильно подморозило. И хотя минувший день и ночь полны были тревог и опасностей, бог послал им наутро отдохновение (как обычно посылает детям своим), ибо день настал солнечный; на острове были они в безопасности, могли просушить вещи, вычистить оружие и отдохнуть; и возблагодарили бога за многие милости его. А как был это последний день недели, приготовились справить его. В понедельник осмотрели гавань и нашли ее пригодной для корабля; потом пошли в глубь суши, нашли маисовые поля и ручьи, то есть место (как показалось им), пригодное для жилья; во всяком случае, лучшее из всего, что сумели найти; а время года и крайность, в которой находились мы, вынуждали на этом остановиться. С такой вестью посланные возвратились к кораблю и немало порадовали остальных. 15 декабря подняли якорь, чтобы идти к найденному месту; не дойдя 2-х лье, вынуждены были снова отойти; однако 16-го ветер нам благоприятствовал, и мы вошли в гавань. После чего оглядели местность получше и решили, где быть жилью; а 25-го начали возводить первый общий дом{28}, который должен был приютить нас и вер имущество наше.КНИГА 2–Я
Дальнейшее повествование (если господь продлит дни мои и пошлет возможность) поведу я, ради краткости, по годам, отмечая лишь главные дела и события в том порядке, как они случились, и в той мере, в какой сведения о них могут принести пользу. Итак, будет это книга 2-я.КОНЕЦ ГОДА 1620
Вернусь несколько назад и начну с договора, какой заключен был еще прежде высадки на берег{29}, ибо он послужил первоосновой управления в тех краях; заключить его побудили отчасти ропот и мятежные речи некоторых пассажиров, которые были среди нас чужими. Что, сойдя на берег, они, мол, устроят все по-своему; ибо никто над ними власти не имеет, патент выдан на Виргинию, а не на Новую Англию, а ею ведают другие власти, к которым Виргинская компания касательства не имеет. Отчасти же потому, что такой договор, нами составленный, был бы (в нашем положении) столь же крепок, как и любой патент, а кое в чем даже надежнее. Договор этот гласил следующее:Во имя господа бога, аминь. Мы, нижеподписавшиеся, верноподданные могущественного короля нашего Якова, божией милостью владыки Великобритании, Франции и Ирландии, защитника веры и пр., предприняв во славу божию, ради распространения христианской веры, во славу короля и родины нашей основание первой колонии в северной части Виргинии, настоящим торжественно, перед богом и друг другом, договариваемся объединиться в политическое сообщество, дабы лучше способствовать указанным выше целям; и посредством сего вводить время от времени справедливые законы, постановления и указы, какие окажутся наиболее соответствующими общему благоденствию колонии и каковым обязуемся мы подчиняться. В чем и подписываемся у Мыса Код, ноября 11-го, в год правления короля нашего Якова над Англией, Францией и Ирландией восемнадцатый, над Шотландией же пятьдесят четвертый. Anno Dom. 1620.После этого был избран, а вернее утвержден, в должности губернатора на тот год м-р Джон Карвер (человек благочестивый и всеми уважаемый). Разместив общее имущество (длилось это долго из-за нехватки лодок; из-за зимнего ненастья и болезней среди переселенцев) и научав постройку нескольких Жилых хижин, все, насколько позволяло время, собирались для установления наиболее нужных законов, как гражданских, так и военных, не раз что-то к ним добавляя, когда требовали того обстоятельства. В то первое трудное время случалось слышать ропот, а то и мятежные речи; но все преодолевала мудрость, терпеливость и справедливые решения губернатора и лучших людей, которые держались согласно и дружно. Наиболее прискорбным было то, что за 2–3 месяца умерла у нас половина, особенно же за январь и февраль, ибо не имели мы в зимнюю стужу крова и многого необходимого; а после долгого пути и всяческих неудобств страдали цингою и другими недугами; и бывало, что в день умирало по 2–3 человека; так что из 100 с лишком выжило едва 50. А из них в самое тяжкое время оставалось всего 6–7 здоровых, которые, к чести их будь сказано, трудились денно и нощно, не покладая рук; с опасностью для собственного здоровья ходили за больными, приносили дрова, разводили огонь, готовили пищу, стелили больным постель, стирали их одежду, запачканную нечистотами, одевали их и раздевали; словом, оказывали им все неприятные и необходимые услуги, о каких люди брезгливые и привередливые не позволяют даже упоминать; и совершали все это с охотой и радостью, без малейшего неудовольствия, выказывая тем истинную любовь к друзьям и братьям своим. Особо заслуживает упоминания один пример. В числе этих 7-ми были почтенный старейшина м-р. Уильям Брюстер и военный начальник капитан Майлс Стэндиш, коим я и многие другие, в беспомощном нашем состоянии, весьма были обязаны. И господь хранил этих людей, так что среди общего бедствия не заразились они и не покалечились. Сказанное о них мог бы я повторить о многих других, скончавшихся во время общего тяжкого испытания или переживших его; пока были они в силах, не отказывали в помощи никому из нуждавшихся в ней. Не сомневаюсь, что господь наградит их. Не могу умолчать здесь и о следующем примечательном случае. Когда недуг поразил пассажиров, прибывших здесь поселиться, их стали поспешно высаживать на берег, где они пили одну воду[33] чтобы морякам больше досталось пива; а когда один из больных попросил всего лишь малую банку пива, ему ответили, что не дали бы его и родному отцу; тут стали болеть и моряки, так что до отплытия домой умерла почти половина команды, в том числе многие офицеры и самые здоровые из моряков: боцман, пушкарь, 3 каптенармуса, кок и другие. Это оказало действие на капитана, и он велел сказать больным, а также губернатору, что пришлет пива, кому требуется, хотя бы самому пришлось на обратном пути пить воду. И совсем иначе, чем пассажиры, вела себя в беде его команда; те, что в благополучное время были веселыми собутыльниками, в час бедствия отвратились друг от друга, говоря, что не хотят рисковать собственной жизнью и, помогая другим, самим схватить заразу; не входили в каюты больных, а когда те умирали, ничего почти для них не делали; пусть себе умирают. Зато те из пассажиров, что находились еще на борту, проявили к ним столько милосердия, что смягчили некоторые сердца; таков был (в числе нескольких других) боцман, спесивый юноша, который частенько бранил или высмеивал пассажиров; а они, когда он ослабел, пожалели его и помогли; тогда признался он, что не заслужил этого, ибо оскорблял их словом и делом. Вижу теперь, сказал он, что вы являете друг другу любовь, по-христиански, мы же оставляем товарищей своих издыхать как собак. Один из них то клял жену свою, говоря, что только она заставила его пуститься в злополучное плавание, то проклинал товарищей, для которых столько-то сделал и столько-то истратил, а теперь надоел им, и они не хотят ему помочь. Другой посулил в случае смерти своей оставить товарищу все имущество, лишь бы помог; тот достал немного приправ и раза два приготовил ему кушанье, но так как больной медлил умирать, он сказал товарищам, что мошенник вздумал его одурачить, и пусть подохнет, а больше он стряпать ему не станет; бедняга в ту же ночь умер. Между тем индейцы бродили поблизости и иной раз оказывались, но стоило к ним приблизиться, как они убегали. Однажды они похитили инструменты у работавших, пока те обедали. Но около 16 марта некий индеец смело подошел к нам и заговорил ломаным английским языком; его понимали без труда и очень тому дивились. Из беседы с ним выяснилось, что был он не здешний, а с восточного побережья, куда английские корабли приходили ловить рыбу; он с ними спознался, иных мог назвать по именам и у них-то и выучился языку. Он оказался весьма полезен, много поведав о крае, где жил, что позднее очень пришлось кстати; а также о здешних жителях, об их именах, численности и силе; и сколь далеко живут, и кто их вождь. Индейца этого звали Самосет; рассказал он также о другом индейце, по имени Скуанто, который родом был из здешних мест, побывал в Англии и умел по-английски лучше его. Угостив и одарив индейца, поселенцы отпустили его, но вскоре он явился снова, а с ним еще 5, и принесли все инструменты, украденные прежде, а также возвестили о прибытии их великого сахема{30} по имени Массасойт, который явился через 4–5 дней со свитой, где был и упомянутый Скуанто. Для них устроили угощение и поднесли дары, после чего заключили мир (и вот уж 24 года, как он длится), а условия были следующие{31}:
1. Ни он, ни люди его не станут чинить поселению вреда. 2. Если же вред будет кем-либо из них причинен, виновного обязуются выдать для примерного наказания. 3. Если будет что похищено, вождь заставит похищенное вернуть; то же обязуются делать и поселенцы. 4. Если кто начнет с ним несправедливо войну, поселенцы окажут ему помощь; если кто пойдет войной на них, он им поможет. 5. О договоре обязуется он известить союзные племена, дабы и они не чинили поселенцам вреда и также к договору присоединились. 6. Приходя к поселенцам, они не станут брать с собою луков и стрел.После этого сахем вернулся к себе, а звалось то место Соуэмс и находилось милях в 40 от поселения; а Скуанто остался при нас за толмача, и поистине была в том особая милость божия, какой и не ждали. Он научил нас, как сажать хмаис, где ловить рыбу и добывать иную снедь, а также служил проводником, по неизвестной местности и не покинул нас до самой смерти своей. Он был родом из этих мест и едва ли не единственным уцелевшим из своего племени. В свое время был он, вместе с несколькими другими, взят в плен неким Хантом, капитаном корабля, который думал продать их в рабство в Испанию; но Скуанто сумел убежать в Англию, где приютил его один лондонский купец; работал в Ньюфаундленде и других местах и наконец привезен был обратно на родину неким м-ром Дармером, которого сэр Фердинандо Горджес и другие послали сюда для разведки местности и иных целей. О Дармере надлежит кое-что сказать, ибо в книге, выданной в свет в 1622 году президентом и Советом Новой Англии, говорится, будто он заключил мир между здешними дикарями и англичанами, принесший поселению большие выгоды. А каков оказался этот мир, видно будет из того, что сталось с ним и с людьми его. Мистер Дармер побывал здесь тогда же, когда прибыли поселенцы, как явствует из написанного им отчета, помеченного 30 июня 1620-го, а мне переданного одним моим другом. Он прибыл в ноябре следующего года, то есть всего через 4 месяца. В этом отчете почтенному другу своему вот что пишет он о здешних местах:
Начну (так пишет он) с местности, откуда увезен был Скуанто, иначе Тискуинтем, которая на карте капитана Смита названа Плимут; и хорошо бы нашему Плимуту столько иметь преимуществ. Именно здесь основал бы я первое поселение, если прибудет человек 50 или более. Можно и в Чарльстоне, ибо там дикари менее опасны. А поканаквиты, обитающие к западу от Плимута, питают к англичанам закоренелую злобу и более могущественны, чем все дикари отсюда до Пенобскота. Мстительные чувства их происходят от того, что некий англичанин, имея множество их на борту своего корабля, перебил всех из мортир или дробью, тогда как они (по их словам) никакого вреда не чинили. Неизвестно, были ли то англичане; но индейцы в этом убеждены, ибо так внушили им французы; вот почему, как подтвердит и Скуанто, они меня убили бы, когда я был в Намаскете, если бы он не вступился. А земля по берегам большого здешнего залива не хуже, чем в большинстве поселений, какие видел я в Виргинии. Почвы здесь различные; в Патуксайте плотная, но хорошая, в Наусете и Саутугтете все больше чернозем толстым слоем, похожий на тот, что в Виргинии, где растет наилучший табак. В заливе водится в изобилии треска, морской окунь, кефаль и др.Но более всего хвалит он Поканаквит за плодородную почву и множество открытых мест, пригодных под английское зерно и др.
Массачусетс лежит примерно в 9-ти лье от Плимута, на полпути между ними, и изобилует островами, и полуостровами, большей частью весьма плодородными.Следуют и другие сведения, которые я не привожу, ибо теперь все это известно лучше, чем было известно ему. Он был взят в плен индейцами в Манамойаке (ныне хорошо разведанной местности неподалеку отсюда) и дал за себя выкуп, какой требовали; однако они, получив желаемое, не отпустили его, а людей его пытались убить; он вырвался, схватил нескольких из индейцев и держал связанными, пока не дали ему каноэ, груженное маисом. Об этом см. Парч., кн. 9, fol. 1778{32}. Но то был год 1619. Написав упомянутый отчет, прибыл он на остров Капавак (к югу отсюда, на пути в Виргинию) вместе со Скуанто, сошел по своему обыкновению на берег, чтобы торговать с индейцами, но те предательски на него напали и убили его людей, кроме одного, остававшегося стеречь лодку; сам он, хоть и тяжело раненный, успел до нее добраться, но его обезглавили бы уже в лодке, если бы уцелевший спутник его не отбился шпагой. Так спаслись они и добрались до Виргинии, где Дармер умер то ли от ран, то ли от местных болезней, а может, и всего этого вместе. Из чего видно, как мало здешние жители думали соблюдать мир и какие опасности окружали поселение с самого начала, если бы не хранил его всемогущий господь. Отчасти поэтому индейцы держались в отдалении и нескоро пришли к англичанам. Была тому и другая причина (как позднее доведались от них же самих); года за 3 перед тем возле Мыса Код выбросило на берег французский корабль, но люди спаслись и спасли также большую часть припасов и другого имущества; индейцы, прознав об этом, собрались и подстерегали их, а улучив удобное время, убили; кроме 3-х или 4-х, которых взяли в плен и водили то к одному, то к другому сахему, забавляясь ими и истязая хуже, чем рабов (двоих из них выкупил упомянутый м-р Дармер); вот и решили они, что наш корабль пришел за это отомстить. Кроме того (как сделалось известно позже), индейцы, прежде чем предложить англичанам дружбу, созвали колдунов со всей округи и 3 дня подряд проклинали англичан с мерзкими и бесовскими обрядами, собравшись для этого в мрачной болотистой глуши. Продолжу, однако, свой рассказ. С приближением весны моровое поветрие, благодарение богу, пошло на убыль, больные стали выздоравливать, и это словно бы вселило во всех новую жизнь; хотя и тяжкие бедствия вынесли поселенцы с таким терпением и бодростью, что большего не мог бы никто. И это потому, что господь укрепил их и заранее ко всему приготовил; ибо многие из них терпели невзгоды с младых лет. Опускаю здесь множество подробностей, ибо некоторые опубликованы уже в виде дневника{33}, который вел один из них; опубликованы и некоторые другие отрывки из дневников и отчетов; к ним отсылаю я тех, кто пожелает все знать подробно. А я, дойдя в повествовании моем до 25 марта, начну год 1621-й.
ANNO 1621
Стали снаряжать в обратный путь доставивший нас корабль, который до начала апреля все еще стоял там. Столь долгая стоянка его была вынужденной, ибо только к концу декабря можно было что-либо выгрузить и найти этому грузу место на берегу. А 14 января выстроенный там общий дом случайно загорелся, так что некоторым пришлось искать приюта на борту. Затем начались повальные болезни, а погода была столь ненастной, что не много можно было успеть. Губернатор и его окружение, видя, сколь многие ежедневно заболевают и умирают, сочли за лучшее корабль не отпускать; да и опасность, грозившая со стороны индейцев, требовала этого, пока не соорудили для всех крова; и пошли на лишние расходы себе и друзьям, лишь бы не рисковать всем. А капитан и команда, прежде торопившие пассажиров высаживаться, теперь, когда умерло столько моряков и притом, как уже говорилось, самых искусных, а многие другие лежали больные и ослабевшие, не отваживались выйти в море, пока не оправятся люди и не минуют наиболее суровые дни зимы. Вскоре поселенцы (все, кто был в силах) начали сеять маис, в чем большую помощь оказал им Скуакто, показав, как надлежит это делать и как ходить за ним далее. Он сказал, что от посева на старых местах толку не будет, если не утучнять почву рыбою; а еще сказал, что в середине апреля много рыбы подымется вверх по ручью там, где начали мы строиться; показал, как ловить ее и где добыть иные нужные припасы; все так и оказалось, как увидели мы из опыта. Посеяли также семена, привезенные из Англии, а именно пшеницу и горох, которые, однако, взошли плохо; — то ли плохи были семена, то ли сеяли поздно, то ли по обеим этим причинам или еще почему-либо. В том же месяце апреле, когда все заняты были севом, губернатор (м-р Джон Карвер) пришел в жаркий день с поля совсем больной, пожаловался на головную боль и лег; а спустя несколько часов впал в беспамятство и, не сказав более ни слова, через несколько дней скончался. Смерть его ввергла всех в глубокую скорбь, и немудрено. Схоронили его со всеми почестями и залпами из всех имевшихся мушкетов. Жена его, женщина болезненная, последовала за ним 5–6 недель спустя. Вскоре избран был на его место Уильям Брэдфорд, а как он не вполне еще оправился от болезни, едва не унесшей его в могилу, то в помощники ему избрали Исаака Элдертона; скажу тут же, что ежегодно переизбираясь, проработали они вместе немало лет. Мая 12-го состоялось первое здешнее бракосочетание{34}, которое, согласно похвальному обычаю Нидерландов, где поселенцы перед тем жили, совершено было должностными лицами, ибо установление это — гражданское, связанное с вопросами наследства и прочим, что сюда же относится; и это вполне согласно с Писанием, Книга Руфи, 4, ибо нигде не сказано там, что является это обязанностью священника. «Закон о браке, изданный Нидерландскими Штатами в 1590 году, гласит, что лицам любого исповедания, после должных извещений, надлежит предстать перед магистратом в ратуше, где их сочетают браком». «История» Пти́{35}, 1029. И так делается Не у них одних, но во всех церквах христовых, какие известны в здешних краях по сие время — год 1646-й. Устроив несколько домашние дела, решили навестить нового друга своего Массасойта и кое-что ему поднести, дабы еще более его к себе привязать; а заодно обозреть его владения, посмотреть, как живет он, много ли у него воинов и каковы ведущие к нему дороги, на случай, если это понадобится. Итак, 2 июля посланы были к нему м-р Эдвард Уинслоу и м-р Хопкинс с упомянутым Скуанто, который был за проводника; а в дар послали сюртук, плащ и кое-что еще; это было милостиво принято, но кормили там впроголодь, и вернулись они усталые и голодные. Ибо индейцы в те времена не сеяли столько маиса, сколько потом, когда англичане снабдили их мотыгами и они увидели, как те вскапывают ими целину. Жилище вождя оказалось милях в 40, земля хорошая, но людей было немного, вследствие морового поветрия, посетившего их года за три до прибытия англичан{36}; когда люди умирали тысячами, не успевая погребать мертвецов; черепа и кости во многих местах еще лежали непогребенные возле жилищ, являя зрелище весьма печальное. Однако посланные сообщили, что по другую сторону большого залива живут наригансеты, племя сильное и многочисленное, которой держится вместе и не подверглось губительному поветрию. К концу того же месяца некий Джон Биллингтон заблудился в лесу и блуждал 5 дней, питаясь ягодами и всем, что ему попадалось. Наконец в 20-ти милях к югу от нас набрел он на индейское селение, называвшееся Манамет, откуда препроводили его в Наусет, к тем самым индейцам, что напали на англичан, когда те, как уже говорилось, плыли вдоль берега в лодке, а корабль их стоял у мыса. Но губернатор посылал к индейцам разузнать о пропавшем, так что Массасойт известил наконец, где тот находится; губернатор послал за ним шлюпку, которая и доставила его сюда. Те индейцы также явились и заключили мир; и им возместили полностью зерно, взятое у них возле Мыса Код. Так удалось установить мир и добрососедство с окрестными жителями; и еще один индеец, по имени Хобомок, поселился среди нас, человек могучего сложения, славный меж индейцев отвагой талантами и оставшийся до смерти своей верен и англичанам. Однажды он и Скуанто отправились по каким-то своим делам к индейцам, но на обратном пути, в индейском селении Намаскете, в 14-ти милях к западу отсюда, сахем Корбитант, союзник Массасойта, но до того времени англичанам не дружественный (из зависти ли к ним или по злобе на англичан), встретил их бранью и хотел заколоть Хобомока; но тот, будучи весьма ловким, вырвался и весь в поту прибежал к губернатору сообщить о случившемся; он опасался, что Скуанто убили, ибо угрожали им обоим, и за то лишь, что дружат с англичанами и оказывают им услуги. Губернатор, посовещавшись, решил, что терпеть подобное нельзя; ибо если дать в обиду друзей и посланцев своих, то никто не станет с нами дружить, сообщать нам сведения или оказывать услуги; а там и сами на нас пойдут. Решено было поэтому послать капитана и 14 хорошо вооруженных людей, чтобы напасть на них ночью, и если окажется, что Скуанто убит, то и Корбитанта обезглавить; но трогать лишь тех, кто был к убийству причастен. Хобомока спросили, пойдет ли он проводником, чтобы дойти туда до рассвета. Он сказал, что готов, приведет их к дому сахема и на него укажет. 14 августа они отправились и окружили дом; капитан, приказав никого не выпускать, вошел в дом искать хозяина. Тот был, однако, в отлучке, а Скуанто оказался жив; ему только пригрозили, что заколют. Поэтому никого не тронули, а жители, дрожа от страха, принесли лучшее угощение, какое было, когда узнали от Хобомока, что было задумано. Из дома вышли 3 тяжело раненных и пытались прорваться мимо часовых. Этих взяли с собою; раны их перевязали и излечили, а уж тогда только отпустили восвояси. Это доставило нам множество изъявлений дружбы от различных сахемов и укрепило с ними мир; явились даже жители островов Капавак; и сам Корбитант, через посредство Массасойта, искал мира, хотя прийти долго не решался. 18 сентября к массачусетсам отправили в шлюпке 10 человек, а с ними Скуанто за проводника и толмача, чтобы обследовать залив и торговать с туземцами; что они и сделали, и прием им оказали хороший. Тамошние люди жили в страхе перед тарратинами, которые обитали к востоку от них и в пору жатвы приходили отнимать урожай, а часто и убивать. Шлюпка возвратилась благополучно; привезли много бобровых шкур и описали местность, сожалея, что не там поселились (но господь, всем людям указующий место их поселения, судил иначе). И мы убедились, что господь пребывает с нами и благословил все начинания наши, да святится имя его во веки веков. Стали собирать свой небольшой урожай и готовить жилища к зиме, ибо все выздоровели, и запасов было довольно{37}; а пока одни совершали эти походы, другие промышляли треску, окуня и иную рыбу и запасли ее столько, что хватило каждой семье. Все лето нужды ни в чем не терпели. С приближением зимы стали добывать и дичь, которая в этих местах в первое время изобиловала (хотя позже стало ее меньше). Кроме водоплавающих птиц, много было диких индеек, которых добыли множество, не считая оленины и др. В неделю приходилось на душу по четверть бушеля муки, а когда собрали урожай, вышло по стольку же маиса. Многие написали тогда друзьям в Англию о том, как сытно живут, и то была истинная правда. В ноябре, как минул год со времени нашего прибытия, появился нежданно небольшой корабль, доставивший м-ра Кашмена (о котором столько уже говорилось), а с ним 35 человек, желавших остаться в поселении; что немало всех обрадовало. Да и те, сойдя на берег и увидя общее благополучие и достаток в каждом доме, порадовались не менее. Ибо были то в большинстве своем люди молодые, а многие столь беспечны, что было им безразлично, куда и зачем плыть, пока не прибыли к Мысу Код, где увидели голое и безлюдное место. Тут они задумались, как им быть, предполагая, что поселенцы умерли или перебиты индейцами. Стали совещаться (услышав, что говорят меж собой моряки), не снять ли паруса с рей, чтобы корабль не ушел, а их не покинул. Капитан, однако, был к ним добр и сказал, что если и случилась с поселением беда, то у него достанет припасов, чтобы добраться до Виргинии; а покуда есть кусок у него, то и с ними поделится; это их успокоило. Итак, все они высадились; но не было у них провизии[34], даже сухарей; не было постелей, а в каютах лишь кое-какое тряпье; ни горшка, ни сковороды, чтобы сготовить пищу; мало было и одежды, ибо многие, уезжая из Плимута, расстались с сюртуками и плащами. На корабле нашлась, впрочем, подержанная одежда, из которой им и выдали. Поселенцы обрадовались подкреплению, хотя нашли, что многим из прибывших хорошо бы быть более степенными, а всем им — получше снарядиться. Но тут уж делать было нечего. С тем же кораблем м-р Уэстон прислал м-ру Карверу, губернатору, которого не было уже в живых, пространное письмо, полное жалоб и укоров насчет событий в Саутгемптоне; а также в том, что надолго задержали корабль, а вернули не загрузив и пр.; это я ради краткости опускаю. А вот остальное.Часть письма м-ра Уэстона:
Я не решился сообщить пайщикам об изменении условий, прежде с вами заключенных, и хорошо сделал, ибо убежден, что если бы знали они все, что известно мне, то не дали бы и полпенни на снаряжение этого корабля, А что вы отослали назад первый, не загрузив его, вызвало удивление и справедливое неудовольствие. Знаю, что причиной была ваша слабость, но думаю, более слабость разума, нежели рук. За одну четверть времени, что потратили вы на рассуждения, пререкания и совещания, было бы сделано куда больше, но это дело прошлое и т. д. Если намерены вы честно соблюдать условия, нами заключенные, благоволите переписать их начисто и поставить подписи ваших главных. А также отчитайтесь возможно точнее, как израсходованы наши деньги. Тогда смогу я удовольствовать пайщиков, а сейчас вынужден отделываться обещаниями. И знайте, что все дело зависит от того, как загрузите вы этот корабль, а если хорошо, так, чтобы мог я вернуть большие деньги, какие затратил на первый и должен тратить на этот, то обещаю, что никогда дело не брошу, хотя бы отступились все другие пайщики. Мы исхлопотали вам хартию{38}, лучшую, какую смогли; она лучше вашей прежней, ибо менее вас ограничивает. Обо всем прочем, достойном упоминания, справьтесь у м-ра Кашмена. И прошу тотчас написать к м-ру Робинсону, чтобы ехал к вам. Да благословит вас бог в этой жизни и будущей. Остаюсь любящий друг вашЭтот корабль (называвшийся «Форчюн») быстро отправлен был обратно с полным грузом хорошей бочарной клепки и 2-мя бочками бобровых и выдровых шкур, выменянных на разные мелочи, которые поселенцы привезли с собой, ибо ничего более для торга у них не было, и никто из них в глаза не видел бобровой шкуры, пока не прибыли сюда и не показал ее Скуанто. Груз оценен был примерно в 500 фунтов. С тем же кораблем вернулся и м-р Кашмен, как было ему указано м-ром Уэстоном и другими, желавшими получить более точные сведения. Ни он, ни поселенцы не сомневались, что вскоре получат они свежие припасы; особенно потому, что, поддавшись на уговоры м-ра Кашмена и получив письма из Лейдена, где указывали им это сделать, приняли упомянутые условия и под ними подписались. Но вышло иначе; хотя м-р Уэстон в письме своем обещался (как показано выше), что не выйдет из дела, даже если выйдут все остальные, и останется нам верен, лишь бы согласились мы на условия и прислали корабль с товаром; а м-р Кашмен, слышавший перед отъездом такие заверения из собственных его уст, также был в том уверен. Но все оказалось пустыми словами, а Уэстон — первым и единственным человеком, который от нас отступился, и еще прежде, чем узнал о возвращении корабля и о том, что нами сделано (такова тщета надежд, возлагаемых на людей). Но об этом в свое время будет еще сказано. Ответ на письмо к м-ру Карверу послан был губернатором; здесь привожу я из него то, что относится к делу:Т. Уэстон.Лондон, июля 6-го, 1621.
Сэр! Пространное письмо ваше к м-ру Карверу от 6 июля 1621, полученное мною 10 ноября, содержит (кроме оправданий для вас самих) много тяжких обвинений ему и всем нам. Что до него, то он скончался и упокоился во господе от всех хлопот и треволнений, какие нам еще предстоят. Он в оправданиях не нуждается; ибо труды его и заботы об общем благе, вашем и нашем, столь были велики, что подточили его силы и (как полагают) сократили его дни; и эту потерю не устанем мы оплакивать. Признаю, что на предприятие наше понесли вы большие расходы и можете понести немало убытку; но такие утраты, как жизнь его и многих других честных и трудолюбивых людей, никакими деньгами не оценить. Первые можно надеяться наверстать, но последние невозместимы. Не стану долее повторять эти истины и подойду ближе к делу. Вы вините нас в том, что надолго задержали здесь корабль, а затем отправили его порожняком. 5 недель стоял он у Мыса Код, пока мы, едва передвигая ноги (после долгого плавания) и многие преодолевая трудности, искали среди зимнего ненастья место для жилья. В ту же непогоду пришлось и сооружать укрытие для себя и имущества; а что сил своих мы при этом не жалели, о том поныне свидетельствуют наши натруженные руки и ноги. Но тут господь посетил нас бедствием, и столько было больных и ежедневно умиравших, что живые едва успевали хоронить мертвецов, а здоровые ходить за больными. Столь суровое осуждение за то, что не нагрузили корабль, кровно нас оскорбляет и весьма удручает. Вам известно, пишете вы, что мы станем оправдываться слабостью нашей; а разве не было для нее причин? Вы ее допускаете, но считаете, что слабы мы более разумом, чем нехваткою рабочих рук. Признаем, что слабость наша велика, и терпеливо будем сносить это, пока бог не пошлет нам людей более разумных. Те, кто сказал вам, будто тратили мы столько времени на рассуждения, совещания и т. д., сами в душе сознают, что лгут. Но их заботят лишь собственные царапины, а ни то, какие раны наносят они другим. Поистине, главная беда наша в том, что мы (более чем ожидали) оказались связаны с людьми недостойными{39}, которые не принесут пользы, а станут только развращать или вводить в обман других и т. д.Далее в письме говорилось, что мы подписали угодные ему условия и послали весьма подробный отчет; и о том, как нагрузили новый корабль, и как обстоят у нас дела, и что из-за вновь прибывших неминуемо ожидает нас голод, если не будут вовремя доставлены припасы (о чем ему и остальным пайщикам подробнее сообщит м-р Кашмен). И что раз удовлетворены все его требования, пусть забудет он обиды и помнит свое обещание и т. д. Когда корабль ушел (простояв всего 14 дней), губернатор с помощником своим расселил вновь прибывших по семейным домам, как сумел лучше; сделал точный реестр всем запасам, разделил их на число людей и убедился, что нам не продержаться более 6-ти месяцев даже на половинных рационах, и то едва ли. А меньше зимою выдавать было нельзя, пока не ловится рыба. И стали все без различия получать вдвое меньше, но сносили это терпеливо, надеясь, что припасы доставят. Едва корабль ушел, как могучее племя наригансетов бросило нам вызов, прислав с гонцом пучок стрел, обвязанный большой змеиной шкурой, что, по словам толмача, означало вызов и угрозу. На это губернатор по совету остальных дал решительный ответ: что если миру предпочитают они войну, то могут начать когда им угодно; что он им зла не чинил, но не боится их и к отпору готов. А с другим посланцем возвратил змеиную шкуру, вложив туда пули; но те ее не приняли и прислали обратно. Все это я лишь упоминаю, ибо подробнее, по просьбе друзей, поведал об этом м-р Уинслоу в своей книге. Надо полагать, что индейцы движимы были честолюбием и стремлением (после гибели столь многих из них) захватить власть над остальными; в англичанах виделось им препятствие, особенно потому, что и Массасойт отдался уже под их покровительство. Это вынудило поселенцев к большей бдительности, и решено было обнести жилища крепким палисадом, а в удобных местах разместить дозорных и сделать ворота, которые на ночь запирались; при них поставили часовых, а в случае нужды ходили дозором и в дневное время. По решению капитана и губернатора поселенцы разделены были на 4 отряда и каждому указано место, куда должен он являться по тревоге. А на случай пожара также назначена была вооруженная мушкетами стража, чтобы не застало врасплох коварство индейцев, пока остальные тушат огонь. Все это было с готовностью выполнено; к началу марта поселение обнесли городьбой, внутри которой каждой семье отвели отличный участок под огород. Тем и закончу я повествование об этом годе. Приведу лишь один случай, более забавный, нежели важный. На рождество губернатор созвал всех (как обычно) на работу, но большая часть вновь прибывших выйти отказалась, говоря, что работать в такой день не велит им совесть. Губернатор сказал, что раз это для них дело совести, он освободит их от работы, пока не просветятся. И, оставив их, увел с собой остальных; однако, воротясь в полдень с работы, застал их на улице за играми: бросали дубинку, кто дальше; гоняли мяч или еще что. Тут, подойдя к ним, отнял он принадлежности игр и сказал, что совесть не велит ему, чтобы они играли, когда остальные трудятся. Если хотят справлять рождество из благочестия, пусть сидят по домам, но уличных игр и увеселений не допустим. С тех пор такого не случалось, по крайней мере явно.
ANNO 1622
Условлено было с массачусетсами{40}, что весною этого года станем с ними торговать, и в конце марта начали к тому приготовляться. Однако состоявший при нас индеец Хобомок сказал, что; по слухам, индейцы эти объединились с наригансетами и, если не остеречься, могут предать. Высказал он и подозрение насчет Скуанто, который будто бы шептался о чем-то с другими индейцами. Все же решено было ехать; в начале апреля отправили шлюпку с 10-ю из числа главных поселенцев, а с ними и Скуанто и Хобомока, раз стали они соперниками. Но едва успела шлюпка отплыть, как прибежал индеец, один из родичей Скуанто, с виду перепуганный, и сказал, что на нас во множестве идут наригансеты, а с ними Корбитант и даже, кажется, Массасойт; сам же он, рискуя жизнью, прибежал о том сообщить. Говоря с губернатором, уверял он, будто они уже близко, и все оглядывался, словно за ним гнались. Губернатор велел всем вооружиться и быть наготове; полагая, что люди в шлюпке могут еще услышать (ибо погода стояла тихая), решил остеречь их парою выстрелов, которые они услышали и вернулись. Индейцы, однако, не появлялись; сторожили всю ночь, но никого не было. Хобомок ручался за Массасойта и полагал, что весть была ложная; все же губернатор велел ему послать свою жену (будто по другой надобности), чтобы разведала; но все было спокойно. Поездка к массачусетсам состоялась, торговали, благодарение богу, с выгодой и возвратились благополучно. Однако случай этот и другие подобные показали, что Скуанто имел свои цели и вел свою игру; держа индейцев в страхе, он получал от них приношения и обогащался; а их уверял, будто может с кем угодно разжечь войну и с кем угодно заключить мир. Уверил он их также, будто поселенцы зарыли в землю моровую язву и могут наслать ее на кого захотят, что очень страшило индейцев, так что они стали чтить его более, чем Массасойта, а это вызвало зависть и могло стоить ему жизни. Ибо, узнав о его проделках, Массасойт тайно и явно стремился его убить; поэтому он все более прилеплялся к англичанам и до самой смерти не решился их покинуть. Поселенцы использовали также соперничество меж ним и Хобомоком, побуждавшее обоих к большему усердию. Губернатор делал вид, будто поддерживает одного из них, а капитан{41} — другого; так получали они более верные сведения, а обоих индейцев вынуждали больше стараться. Запасы между тем подошли к концу, а долгожданная помощь не приходила. В конце мая замечена была в море лодка, которую приняли сперва за французскую; но это оказалась шлюпка с корабля, который м-р Уэстон и еще кто-то послали ловить рыбу в бухте Дамаринс, в 40 лье к востоку от нашего поселения, где в тот год собралось для этого много судов. Шлюпка доставила 7 пассажиров и письма, но никаких припасов или надежд на них. Часть писем этих я приведу.М-р Карвер, последние письма мои посланы были с «Форчюн», на котором уехал и м-р Кашмен, надеюсь, к вам уже прибывший, ибо мы со дня на день ждем корабль обратно. Отсюда вышел он в начале июля, имея на борту 35 человек, но не слишком обильный груз нужных вам припасов, по причине скаредности пайщиков. Я просил их, чтобы еще раз, до возвращения его, послали вам людейи припасы. Все они отвечают, что сделают много, когда получат добрые вести. А до этого — ничего; вот сколь верны, постоянны и заботливы о благе вашем честные старые друзья ваши; пока, мол, нет от вас вестей, нет вам и припасов и т. д. Расскажу теперь, как снаряжали этот корабль, и надеюсь, что вы мне поверите и лучшего будете об этом мнения, чем иные здешние пайщики, в том числе м-р Пикеринг, который пеняет мне, зачем суюсь в чужие дела, и отчасти он, конечно, прав и т. д. Небольшое судно это купил и снарядил я вместе с м-ром Бичемом; как затем, чтобы помочь поселению[35], так и для того, чтобы, помогая другим, иметь кое-что и для себя, хотя бы возместить себе прежние убытки; пусть нас за это осуждают и т. д. Итак, отправили мы этот корабль и пассажиров за наш счет; и просим оказать им гостеприимство и снабдить всем, что им может потребоваться, а вы сумеете уделить и т. д. В том числе одолжить или продать семенного зерна, а если осталась с прошлого года соль, то и ее дать на первое время; а мы либо заплатим за нее, либо вернем с лихвою, когда начнет работать наш чрен для выпарки соли, а его надо установить на одном из малых островов в вашем заливе и т. д. Намерены мы также, если богу будет угодно (а прочие пайщики этого не сделают), отправить к вам, не далее как через месяц, еще один корабль, который высадит пассажиров и пойдет в Виргинию, и т. д. А возможно, что пошлем вам также небольшое судно, чтобы оно осталось при вас, и полагаю, что будет оно для поселения немалым подспорьем. Чтобы задуманное нами удалось, а это, я уверен, пойдет и вам на пользу, просим приютить прибывших у себя в домах, дабы не теряли они времени и тотчас принялись валить и раскалывать деревья для погрузки и не задерживали бы корабль. Кое-кто из пайщиков посылает вам при сем указания насчет содействия общему делу, уподобясь тем, о ком говорит святой Иаков, что уговаривали брата своего подкрепиться и обогреться, но при этом ничего не давали и т. д. Так и вас уговаривают, чтобы добывали сольи укрепляли поселение, но ничего для этого не шлют и т. д. Со следующим кораблем думаем мы прислать за наш счет еще людей и взять патент; это на случай, если ваши люди окажутся столь же жестокосердны, как иные из пайщиков, и не примут нас у себя, что было бы сущим варварством, и никогда мне в голову не придет, чтобы нашлись среди вас подобные пикеринги. Но для спокойствия наших пассажиров сделать это вынужден; а также по некоторым другим причинам, о которых писать не обязательно, и т. д. Пайщики столь медлительны, а лейденские ваши друзья столь равнодушны, что вам, боюсь я, придется стать на собственные ноги и положиться, как говорят, на бога и на себя. Подписал любящий друг вашОпускаю многое другое, ибо может прискучить и к делу не относится. Все это было слабым утешением для голодных желудков; и мало похоже на недавние его обещания; и так же не могло напитать и обогреть нас, как и тех, о ком говорил апостол Иаков, которого упоминает он. И тотчас пришли нам на ум слова псалмопевца, псалмы 118,8: «Лучше уповать на господа, нежели надеяться на человека». И псалом 146: «Не надейтесь на князей (а тем более на купцов), на сынов человеческих, в которых нет спасения». Ст. 5: «Блажен, кому помощник бог Иаковлев, у кого надежда на господа бога его». Итак, надежды на помощь от него и прочих были обмануты, когда особенно велика была нужда; и ведь они-то и навлекли ее, когда навязали цоселенцам столько людей, сколько было их самих вначале, а припасов не дали; и это в такое время, когда почти целый год надо было дожидаться нового урожая или хоть сколько-то получить из Англии; с тех пор мы ничего и не получали (кроме того, что посылал господь другими путями); ибо того, что присылали купцы, всякий раз оказывалось мало для тех, кто при этом приезжал. Тот же корабль доставил и другие письма, более поздние, одно от м-ра Уэстона, второе от части пайщиков, где говорилось:Т. Уэстон.Янв. 12-го, 1621.
М-р Карвер, со времени последнего моего письма было у нас собрание некоторых главных пайщиков, которые ради скорейшей помощи поселению внесли предложение, всеми присутствующими (исключая Пикеринга) одобренное, а именно, чтобы каждый внес третью долю от прежнего своего взноса. Нашлись, однако, и другие, кто по примеру Пикеринга более вносить не хотят. А потому большая часть пайщиков, желая поддержать предприятие, но не видя причины, зачем желающие должны поддержать его в интересах тех, кто не желает, бездействием своим обескураживает действующих и отвращает от дела новых пайщиков, по зрелом размышлении и согласно одному из условий нашего договора (позволяющему, с общего согласия пайщиков и поселенцев, когда есть на то причина, произвести раздел общего капитала) постановили таковой разделить; просим и вас, с вашей стороны, это решение утвердить. После чего мы тем охотнее вам поможем и снабдим всем необходимым. Нужно, однако, чтобы вы согласились с условиями и с первой же оказией сообщили об этом за вашими подписями и печатями. С тем и остаюсь любящий друг вашЕще одно письмо о том же самом написано было частью пайщиков, за 9-ю подписями, в том числе м-ра Уэстона и м-ра Бичема. Подобное непостоянство и увертки показались странными; решили, что кроется тут какая-то тайность. Поэтому губернатор скрыл письма эти от поселенцев, показав их лишь нескольким надежным друзьям, дабы с ними посоветоваться; и общим их мнением было, что грозит это расколом (да еще в столь трудное время); и если м-р Уэстон и другие, задумавшие отделиться, прибудут, и притом с грузом, как сулят они в письмах, то большинство к ним переметнется, в ущерб как поселенцам, так и дружественным нам пайщикам, от которых вестей еще не было. И можно было подозревать, не с этой ли целью присланы были люди, доставленные предыдущим кораблем. Все же мы пожалели тех семерых, которых этот корабль, ушедший на восток от нас ловить рыбу, задерживал, пока не упустили они время посеять маис; других же припасов у них не было (ибо с корабля спустили их без таковых, сами в них нуждаясь); не доставили еще и чрен для соли, так что прибывшие не могли выполнить ничего из указанного м-ром Уэстоном и умерли бы с голоду, если бы не помогли поселенцы, которые, сами терпя лишения, уделили им столько же, сколько получали свои. Корабль отправился в Виргинию, где проданы были и корабль, и рыба, о чем (можно полагать) м-р Уэстон едва ли получил отчет. Пришел и еще один его корабль, а с ним письмо от м-ра Уэстона, помеченное 10-м апреля и гласившее следующее:Т. Уэстон.Янв. 17-го, 1621.
М-р Брэдфорд, примите и т. д. Корабль «Форчюн» привез добрые вести о вас и делах ваших, чему я весьма рад. И хотя в пути был он ограблен французами, я надеюсь, что потери ваши не будут велики; ибо надежда на столь большие барыши весьма одушевила пайщиков, так что они, надеюсь, сделают теперь немало, и т. д. Что до меня, то я продал им и долю свою, и долги, так что теперь разделался с вами[36], да и вы со мною. Но хоть и не могу уже ни на что претендовать в качестве пайщика, хочу дать вам полезный совет, если только верно его поймете. Я не хуже других вижу, каково расположение ваших пайщиков, которыми до сей поры во всем руководила надежда на барыши; но боюсь, что одними надеждами из них ничего более не извлечь. Кроме того большая их часть высказывается против приезда к вам лейденцев, ради которых и было затеяно все дело; а наиболее набожные (как, например, м-р Грин) очень на них ополчаются. Так что мой вам совет (можете ему следовать или отвергнуть) — немедля разделить общий капитал; а это вы вправе сделать по закону и по совести, ибо большинство пайщиков уже на то пошли, как сообщают в ранее посланном письме. Собственные ваши средства, которые, я надеюсь, увеличатся после весеннего торга, и помощь некоторых здешних друзей покроют расходы на переезд лейденцев; а когда будут они с вами, не сомневаюсь, что с божьей помощью справитесь далее сами. Это, однако, оставляю я на ваше усмотрение. Кое-кому из пайщиков, как-то; м-ру Пирсу, м-ру Грину и другим, предложил я, если желают что-либо вам послать, провизию ли, письма ли, чтобы воспользовались нашими кораблями; подивившись, отчего не послали они даже письма, спросил я наших пассажиров, не везут ли от кого писем, и один из них нехотя признался, что письмо везет, только вручено оно в большой тайности, а для верности велели ему купить себе новые башмаки и вложить его под стельку, чтобы не перехватили. Дивясь, какая тут может быть тайность, я письмо вскрыл и увидел, что коварное послание это подписано м-ром Пикерингом и м-ром Грином. Если б дошло оно до вас без нашего ответа, то большой причинило бы вред, а может быть, и погибель нашу. Когда бы вы их послушались и высказали нам ту враждебность и недоверие, какие советуют они, как якобы врагам вашим, это нас рассорило бы, на общую нашу беду. Я уверен, что в этом случае, зная, что меж нами было, не один лишь брат мой, но и другие обрушили бы на вас свой гнев и т. д. Людей, которых послал я прежде и посылаю сейчас, думал я поселить с вами или вблизи вас ради большей безопасности как их, так и вашей и помощи во всех случаях. Но пайщики оказались столь завистливы и подозрительны, что я передумал и сказал брату и спутникам его, чтобы сами решали, как сочтут нужным. Остаюсь и т. д. Любящий друг вашТ. Уэстон.Апреля 10-го 1621.
Часть упомянутого письма от м-ра Пикеринга:
М-ру Брэдфорду и м-ру Брюстеру и т. д. Любовный привет мой всем вам и т. д. Общество пайщиков выкупило у м-ра Уэстона его долю и очень радо от него избавиться, ибо человек этот слишком высоко себя ставит и мало имеет в себе страха божьего, подобающего тому, кому доверено дело такой важности. Не стану говорить обо всем, что против него известно, но мудрому и нескольких слов достаточно. М-р Уэстон не позволяет брать на корабли свои писем или чего-либо вам нужного, и это ради каких-то своих целей и т. д. Брат его Эндрю, коего шлет он старшим на одном из этих судов, — юноша грубый и вспыльчивый и расположен враждебно и к вам, и к пайщикам; вместе с м-ром Уэстоном он замыслил вредить и вам, и нам, здешнему нашему делу и благим целям. Нам доподлинно известно, что едет он в поселение якобы как посланец пайщиков и погрузит все вами заготовленное на свои корабли, будто бы присланные пайщиками, а между тем все заберет себе. Попытается он также выведать, что вами здесь обнаружено прибыльного, дабы и это отнять, и т. д. Да избавит вас господь, неусыпно бодрствующий над Израилем, от столь безрассудных людей. Скорбим, что вынуждены предостеречь вас против них; и поручаем вас богу, да благословит и умножит он вас тысячекратно, во славу учения господа нашего Иисуса. Аминь. Будьте здравы. Любящие друзья вашиЭдвард Пикеринг,Уильям Грин.
Получение настоящего письма просим скрыть, но извлечь из него возможную пользу. Мы и сами надеемся еще в этом месяце снарядить корабль.
Краткое содержание ответа:
М-р Брэдфорд, вот упоминавшееся мною письмо, на которое отвечать подробно было бы излишне и скучно. Совесть моя свидетель, и это подтвердят все наши люди, что, посылая к вам корабль «Спэрроу», имел я в виду ваше благо и т. д. Не стану отрицать, что среди присланных нами немало найдется грубых парней, как названы они в письме; полагаю, однако, что те, кого я над ними поставил, справятся с ними. И надеюсь, что сумею не только отучить их от сквернословия, способного оскорблять слух их спутников, но и обратить мало-помалу к богу и т. д. Я далек от того, чтобы посылать к вам грубых парней, которые хитростью или силой лишат вас того, что вам принадлежит, а, напротив, поручил капитану «Спэрроу» оставить вам не только 2000 хлеба, но также изрядное количество рыбы и т. д.[37]. Но помыслите, сколько зла могло причинить их письмо, если бы попало к вам в руки и имело желаемые ими следствия. Если же вы разделяете мнение этих людей, будьте с нами откровенны, и мы поищем приюта в ином месте. А если так к нам расположены, как мы полагали, встретьте нас как друзей своих, а мы не примем от вас ни пищи, ни крова без того, чтобы так или иначе за них не расплатиться, ит. д. Я намерен оставить у вас небольшой корабль (если бог пошлет ему благополучное плавание), а с ним моряков и рыбаков, которые станут плавать вдоль побережья и торговать с туземцами и старым поселением. Возможно, что мы будем столь же полезны вам, как вы нам. Думаю будущей весною свидеться с вами и поручаю вас богу, да хранит вас. Любящий друг вашТак рассыпались прахом все надежды на м-ра Уэстона, и обещанная им помощь обернулась пустым советом, коему следовать поселенцы сочли незаконным и невыгодным. И не только остались мы без помощи в крайней нужде, не имея ни припасов, ни товару для торговли; но у нас готовились отнять и то, что мог дать здешний край. Что до злобных осуждений и подозрений, высказанных в этих и прежних письмах, то поселенцы желали судить о них милосердно и мудро, взвесив их на весах любви и разума; и хоть исходили они (частию) от друзей благочестивых и любящих, многое могло быть порождено завистью и страхами, а также раздражением; однако ясно было, что м-р Уэстон имел собственные цели и ожесточился духом. Ибо после приведенных писем губернатор получил письмо от м-ра Кашмена, который с тем же кораблем вернулся на родину, а с м-ром Уэстоном всегда был близок (что видно из прежних писем); и дивился, отчего все это время нет от него вестей. Оказалось, — что их трудно было послать, а это письмо адресовано было женою одного поселенца своему мужу, который и принес его губернатору. Вот что оно гласило:Т. Уэстон.
Любезный сэр, сердечно вас приветствую, надеюсь, что вы в добром здравии, и благодарю за любовь вашу. Божиим произволением 17 февраля достигли мы родной земли. В пути были мы ограблены французами, которые увезли нас во Францию и там держали 15 дней, отняв все, что отнимать стоило; но, благодарение богу, сами мы и корабль от них спаслись. Не вижу, чтобы здесь это отбило у кого охоту. Бог даст, скоро с вами свижусь, в июне или ранее. А пока вот что надлежит вам знать, чтобы остеречься. М-р Уэстон совсем от нас отошел, поссорившись с некоторыми из наших пайщиков, и выкупил всё им внесенное, а сейчас послал 3 небольших корабля для собственного поселения. На самом большом из них, в 100 тонн, капитаном будет м-р Рейнольдс, и сам он также намерен ехать; с какой целью — мне неведомо. Люди, которых везут они, нам отнюдь не годятся, а потому прошу, не принимайте их и не обменивайтесь людьми, разве что отдадите взамен наихудших из ваших. Уэстон взял патент на себя. Если захотят они что-либо от вас купить, отдавайте только из излишков, и пусть дают хорошую цену. Если что возьмут взаймы, берите поболее залога и т. д. Они, надо думать, поселятся к югу от мыса, ибо Уильям Тревор много рассказал из того, что знал или вообразил себе, о капуэках, мохиггенах и наригансетах. Боюсь, что люди эти и к туземцам не станут относиться как должно. А потому прошу предуведомить Скуанто, что они сами по себе и с нами ничего не имеют общего; за их провинности мы не в ответе, а за честность не ручаемся. Потери наши во Франции мы вот-вот наверстаем. Наши лейденские друзья здоровы и на сей раз во множестве к вам будут. Надеюсь, что все обернется к лучшему, и прошу не падать духом, но бодро и мужественно преодолевать все трудности там, куда направил вас господь, покуда не настанет день отдохновения. Да соединит нас вновь владыка моря и суши, если будет то во славу его.На обороте того же листа было несколько строк от м-ра Джона Пирса, на которого взят был патент; о нем будет еще в свое время сказано.Ваш Роберт Кашмен.
Достойный сэр, прошу принять во внимание все написанное на обороте и ни в коем случае не губить поселение ваше, которое и без того слабо, а может быть ослаблено еще более. Со следующим кораблем пришлем мы вам учредительный устав, который, надеюсь, вас удовольствует; а кого примете вы, тех я и одобрю. А люди м-ра Уэстона кажутся мне (в большинстве) столь низкого разбора, что честным людям знаться с ними не подобает. Желал бы, чтобы оказались они иными. Не стану распространяться далее и ограничусь этими немногими строками. Любящий друг вашНад всем этим крепко пришлось задуматься; но прибывающим все же решили мы оказать гостеприимство; отчасти ради м-ра Уэстона и всего, чем был он прежде и что для нас сделал, в особенности для некоторых; отчасти же из сострадания к людям, которых привезли в дикую местность (как это было и с нами), а теперь оставят на берегу (ибо корабль должен был доставить других своих пассажиров в Виргинию, а простой обходился дорого); и все им тут незнакомо, и не знают они, как быть. И как ранее приняли 7 человек и кормили наравне со своими, так приняли и этих (а было их около 60-ти здоровых мужчин) и приютили вместе с их товарами, а заболевшим, коих было среди них немало, предоставили все лучшее, что имелось. Они пробыли почти все лето, покуда корабль не возвратился из Виргинии. А затем, по распоряжению Уэстона или тех, кого он над ними поставил, перебрались к заливу Массачусетс, ибо патент он добыл на те места (а прознал о них из прежних писем, писанных нами на родину). Однако всех больных своих они оставили здесь, покуда не устроятся сами. А провизии не дали, хотя была в ней большая нужда, и ничем иным не возместили оказанную им помощь; впрочем, поселенцы этого и не желали, видя, какова эта беспутная ватага и как мало у них порядка, так что скоро впадут они в нищету, если м-р Уэстон вовремя не явится; и чтобы не иметь с ними более дела, ничего с них не спросили. В этой крайности, когда покинули нас те, от кого чаяли мы помощи, когда начали уже мы голодать и не знали, что делать, была нам от господа (который никогда не оставляет детей своих) нежданная милость. Корабль, пришедший с восточного побережья, доставил письмо от человека, о коем мы прежде и не слыхали, — от капитана одного из судов, ходивших на лов рыбы. Письмо адресовано было всем добрым друзьям в Плимуте и т. д.Джон Пирс.
Друзья, соотечественники и соседи, приветствую вас и желаю от господа здравия и счастия. Осмеливаюсь писать к вам эти немногие строки, ибо надо быть бесчеловечным, чтобы ничего для вас не сделать. Дурные вести расходятся быстро; но скажу, что и сам я, со многими друзьями моими из Виргинского южного поселения, такой получили удар{42}, какого не возместят 400 великодушных людей. Прошу вас поэтому (хоть вам и незнаком) позволить мне соблюсти старое правило, еще в школе мною усвоенное: блажен тот, кого чужая беда не оставляет равнодушным. Вновь и вновь желая всем, кто служит господу, здоровья и счастья на сем свете и вечного покоя в жизни грядущей, остаюсьГубернатор с тем же кораблем послал, как и подобало, благодарный ответ и отправил в лодке м-ра Уинслоу получить, что удастся, на кораблях; он был приветливо встречен упомянутым джентльменом, который не только поделился с ним всем, чем мог, но и другим написал, чтобы сделали то же. Таким образом м-р Уинслоу получил немало и благополучно возвратился, а для поселения была в том двойная польза: во-первых, подкрепились доставленной пищей, а во-вторых, узнали дорогу в те места, и это оказалось полезно в будущем. Конечно, от провизии, уместившейся в небольшой лодке и разделенной среди стольких людей, каждому досталось немного, однако, благодарение богу, это нас поддержало до нового урожая. Хлеба приходилось на душу всего по четверти фунта в день; и губернатор велел выдавать его ежедневно, не то, получив все сразу, люди сразу его и съедали бы, а потом голодали. А так, вместе с другою пищей, какую удавалось найти, смогли продержаться, пока не созрел маис. В то лето выстроили мы из доброго крепкого дерева укрепление, прочное, да и на вид красивое, весьма для обороны пригодное, с плоскою крышей и зубчатыми стенами, где разместили пушки и постоянно стоял караул, особенно когда грозила опасность. Служило оно и для собраний{43}, и внутри все было для этого устроено. В тот год тяжких лишений строить было трудно; но этого требовали окружавшие нас опасности; постоянные слухи о грозящем нападении индейцев, особенно наригансетов, и весть о резне, учиненной в Виргинии, заставили всех участвовать в постройке. Близилось желанное время жатвы, которая напитала все голодные чрева. Однако урожай был не таков, чтобы его хватило на год; отчасти потому, что мы не вполне еще научились выращивать маис (а другого ничего не было), отчасти по разным другим причинам; а более всего потому, что ослабевшие от голода люди не в силах были обработать поля как должно. Кроме того, многое расхищалось, ночью и днем, прежде чем становилось съедобным, а еще больше, когда созрело. И хотя за несколько початков человека секли (когда удавалось застигнуть), голод толкал на это всех, кого не удерживала совесть, Было ясно, что голод грозит и на следующий год, если как-либо не предотвратить его или не будут доставлены припасы, а на это мы рассчитывать не смели. Рынков здесь не было, одни лишь индейцы, но предложить им взамен было нечего. И вот еще одна милость божия: в гавань приходит корабль под командой некоего капитана Джонса. Он послан был несколькими купцами, чтоб обследовал все гавани от нашей местности до Виргинии, а также мели возле Мыса Код, и в пути вел бы, где сумеет, меновой торг. На корабле было много английских бус (которые в те времена ценились), а также ножи; хотя просили за них дорого и продавали только большими партиями. Но поселенцы и тому были рады и готовы платить двойную цену, а то и более, сами же отдавали по 3 шиллинга за фунт наилучшие бобровые шкуры, которые всего несколько лет спустя шли уже по 20 шиллингов. Было теперь на что выменивать бобра и другое и можно было купить сколько угодно маиса. Тут позволю я себе небольшое отступление. На корабле том находился джентльмен по имени м-р Джон Пори; он был в Виргинии секретарем, а теперь возвращался домой. А когда уехал, написал губернатору письмо со следующей припиской:ваш Джон Хадлстон.
Вам и мистеру Брюстеру обязан я весьма многим; и поверьте, что подаренные вами книги умею ценить и почитаю за драгоценности. В спешке забыл я упомянуть (а тем более-попросить) искусное сочинение м-ра Эйнсуорта о Пятикнижии Моисеевом. Сочинения его и м-ра Робинсона являют нам несравненные познания этих авторов в Святом писании. И кто знает, сколько добра сделают труды эти, если угодно будет богу, через меня, недостойного, который такое в них черпает утешение. Да хранит вас господь. Искренний и верный друг вашПривожу я это затем, чтобы почтить память авторов, как сделал с большою искренностью этот джентльмен; а сам он, возвратясь на родину, немало способствовал доброй славе скромного нашего поселения{44} среди лиц весьма значительных. Вернусь, однако, к своему повествованию. Вскоре после жатвы люди м-ра Уэстона, которые жили теперь в Массачусетсе и (как видно) нерасчетливо тратили свои припасы, поняли, что на них надвигается голод. Прослышав, что здешние закупили товаров и намерены менять их на маис, они написали к губернатору, желая к этой торговле присоединиться и предлагая пользоваться их небольшим судном; а также просили ссудить или продать им столько меновых товаров, сколько на их долю придется; а расплатиться обещали, когда прибудет м-р Уэстон или же пришлют им припасы. Губернатор на этих условиях дал согласие, намереваясь на их судне обойти мыс и пройти к югу, где можно было достать маис. В конце сентября все было готово; с ними должен был плыть капитан Стэндиш, а также Скуанто, за проводника и толмача; однако противный ветер вынудил их вернуться; а когда собрались вторично, капитан Стэндиш занемог лихорадкой, так что губернатор отправился без него. Отмели и буруны помешали им обогнуть Мыс Код; Скуанто не умел указать лучшего пути, а капитан корабля не решался плыть дальше, так что пришлось войти в залив Манамойак и что-нибудь там промыслить. Тут Скуанто занемог индейской лихорадкой с обильным кровотечением из носа (почитаемым у индейцев за предвестие смерти) и спустя несколько дней умер, прося губернатора молиться за него, чтобы ему попасть на небо, к богу англичан; кое-что из имущества своего завещал он английским друзьям, на память. То была большая потеря. За эту поездку добыли мы в разных местах 26–28 бочек маиса и бобов, больше чем могли бы уделить соседние с нами индейцы, которые мало их выращивали, пока не получили английских мотыг. Пришлось возвращаться, сожалея, что не удалось пройти вокруг мыса; тогда добыли бы больше. После того губернатор с несколькими людьми побывал и во внутренних частях края, чтобы добыть что можно и доставить к весне в поселение; и это нас несколько выручило. Позднее, в феврале, явился посланец от Джона Сэндерса, который поставлен был за старшего над людьми м-ра Уэстона в заливе Массачусетс, и доставил письмо, где говорилось об их великой нужде; и что он хотел занять бочку маиса у индейцев, но те ничего не дали. Он спрашивал совета, не взять ли ее силою, чтобы накормить своих людей, пока он не вернется с востока, куда сбирался. Губернатор и другие всячески его от этого отговаривали, ибо этим он так ожесточил бы индейцев, что всем будет угрожать опасность и все могут поплатиться; а эти, по слухам, и без того уже обидели индейцев, воруя у них маис, и очень против себя восстановили. А нашлись и среди здешних такие подлецы, которые сказали индейцам, будто губернатор идет на них, чтобы отнять маис силою. От этого и от других причин произошел заговор против англичан, о котором сказано будет ниже. И на том кончаю я повествование об этом годе.Джон Пори.
ANNO DOM. 1623
Может показаться странным, что люди эти так скоро дошли до крайней нужды; ибо корабль, уходя, оставил им полный запас, не считая маиса, что пришелся на их долю от торговли, и еще многого, добытого тем или иным путем от соседних индейцев. Виною было, конечно, их безрассудство, ибо когда имели, то потребляли без меры и счета; а часть, быть может, досталась индейцам (о начальнике их говорили, не знаю, верно ли, будто он держал у себя индейских женщин). А когда стали они голодать, многие продали одежду и постель; другие (столь низко они пали) пошли в услужение к индейцам, затпапку маиса рубили им дрова и носили воду; были и такие, что просто принялись красть, по ночам и днем, у индейцев; и те очень на это жаловались. Дошло наконец до того, что некоторые умерли от голода и холоду. Один, собирая съедобные ракушки, так был слаб, что завяз в иле и там найден был мертвым. Большинство покинули свои жилища и разбрелись по лесам и морскому берегу, где можно было сыскать десяток земляных орехов или моллюсков. Всем этим навлекли они на себя презрение индейцев, и те весьма дерзко стали его высказывать; и нередко, когда один из этих бродят варил в горшке земляные орехи или моллюсков, индейцы подходили и все съедали; а ночью, если было у кого жалкой одеяло или что иное, во что завернулся он, индейцы его отнимали, а те всю ночь мёрзли; так что положение их было поистине плачевное. Пришлось в конце концов повесить одного из них, который никак не хотел отстать от воровства; и тем удовлетворить индейцев. Пока дела шли таким образом, до губернатора и людей его дошло, что друг наш Массасойт лежит при смерти. Послали навестить его и доставили ему много такого, что весьма пришлось ему по душе и помогло выздороветь; тут открыл он нам, что индейцы замыслили убить людей м-ра Уэстона, от которых постоянно терпят обиды; а для этого воспользоваться нынешней их слабостью; и уговорились уже с другими индейцами, своими соседями. Полагая, что здешние поселенцы станут за эту расправу мстить, они и с ними решили поступить так же, а Массасойта просили быть с ними заодно. Он посоветовал нам предотвратить это и, пока не поздно, захватить нескольких вождей; и уверял, что все — чистая правда. Это нас весьма встревожило и заставило много совещаться; обнаружились и другие доказательства, о чем рассказывать было бы слишком долго. Тем временем явился из Массачусетса человек с котомкой за спиною; дороги он не знал, но все же добрался; а что сперва сбился с пути, то это его спасло, ибо за ним была погоня, но прошла мимо. Он поведал, как обстояли у них дела и что дольше оставаться там боялся, ибо всех их (как он заметил) собирались убить. Тут уж пришлось поспешить; послали в лодке капитана Стэндиша и еще нескольких человек; он застал их в жалком положении, из которого вызволил, кое-чем их снабдил, убил нескольких главных заговорщиков{45} и, как было ему поручено, предложил всем людям Уэстона перебраться сюда, если хотят, и жить наравне со всеми, пока не прибудет м-р Уэстон или не пришлют им припасов. А если изберут они что иное, он также окажет им посильную помощь. Они поблагодарили его и спутников его. Но большинство из них попросило лишь немного маиса, а они на небольшом своем корабле пойдут к востоку, где, быть может, застанут м-ра Уэстода или посылки от него, ибо как раз в то время года приходят рыболовецкие суда, а не то станут работать с рыбаками за пропитание и чтобы заработать та переезд в Англию, если не будет известий от м-ра Уэстона. Они погрузили на корабль что имели сколько-нибудь ценного, а капитан Стэндиш отдал им сколько мог маиса (едва оставив себе на обратный путь); убедился, что они благополучно вышли из залива и подняли паруса, и возвратился к себе, не взяв у них ничего ни на пенни. Об этом говорю я кратко, ибо более подробный рассказ уже напечатан. Таков был конец тех, кто похвалялся своей силой (все это были крепкие, здоровые мужчины) и всем, чего они достигнут, не в пример нашим, среди которых много было женщин, детей и людей недужных; кто, приехав и увидя здешние лишения, заявили, что у них все пойдет по-иному, и не станут они терпеть нужду, подобно этим простакам. Однако дела человека не в его руках; господь может дать силы слабому, и тот устоит; да остережется стоящий, как бы ему не упасть. Вскоре затем прибыл, вместе с рыболовами, м-р Уэстон, под другим именем и под видом кузнеца; и узнал о гибели своего поселения. Он достал лодку и с 2-мя людьми отправился узнать, в чем дело. Не будучи искусным моряком и застигнутый бурею, он утопил свою лодку в заливе, между рекою Мерримак и Паскатакуаком, сам едва спасся, а потом попал в руки индейцев, которые отняли у него все, что спас он от бури, и раздели до рубашки. Наконец добрался он до Паскатакуака, одолжил одежду и сумел добраться до Плимута. Странно изменился весь облик его для тех, кто знал его в прежнем благоденствии; таковы превратности бренного мира земного. А между тем люди стремятся к мирским благам, хоть ежедневно видят всю тщету их. После долгих с нами переговоров (ибо прежние замыслы еще кипели в нем, хотя и сдерживаемые) он попросил одолжить ему бобровых шкур; и сказал, что ожидает корабль с большим грузом и тогда расплатится всем, что окажется нам нужным. Этому никто не поверил, однако его пожалели ради прежнего добра, какое от него видели. Мы сказали, что и сами терпим лишения и не знаем, когда придет помощь; как обстоят дела с пайщиками, ему хорошо известно; шкур у нас немного, и если дадим ему, как бы не взбунтовалось поселение, ибо только за шкуры и удается добыть столь нужную всем пищу, да и одежду. Помочь ему мы обещали ввиду крайней нужды его; но по причине только что названной пришлось это сделать тайно. Он получил 100 бобровых шкур весом в 170 фунтов с липшим. Так помогли мы ему, когда отступился от него весь свет; с этим вернулся он к кораблям, оснастил свой малый корабль, взял нескольких из своих людей, купил припасов и снаряжение; и с этим готовился начать все сызнова. Нас он отблагодарил плохо, ибо после неизменно выказывал себя нашим лютым врагом и расплатился с нами одними лишь укорами и поношениями. Когда шкуры еще были у него на корабле, он сказал некоторым недоброжелателям нашим, что может теперь всех нас перессорить, ибо шкуры ему дали, не имея на то права. Однако, злобствуя так, он ничего не достиг. Между тем припасы нам все не слали, и неизвестно было, когда их ждать. Стали подумывать, как бы вырастить побольше маиса, получать более обильные урожаи и не терпеть такой нужды. Долго мы судили и рядили, а затем губернатор (по совету главных поселенцев) согласился, чтобы маис сеял каждый для себя{46} и только на себя при этом полагался; а все прочие работы чтобы шли по-старому, сообща. Для этого каждой семье отведен был участок по числу душ на данное время (но без права раздела при наследовании): а юношей всех причислили к какой-либо из семей. Это решение оказалось весьма правильным; ибо все принялись усердно трудиться и посеяли куда больше маиса, чем губернатору или кому-либо другому удалось бы добиться иными способами. Теперь женщины охотно выходили в поле сеять маис и брали детей с собой, тогда как прежде ссылались на недуги и неумение; а если бы их к этому принудить, назвали бы это тиранией и угнетением. Опыт, приобретенный таким путем и в течение многих лет проверенный, притом на людях благочестивых и разумных, опровергает измышления Платона и других древних, поддержанные кое-кем и в позднейшее время; будто, лишив людей собственности и сделав все имение общественным, можно привести их к счастию и благоденствию; словно они мудрее господа. Ибо оказалось, что эта общность имущества (насколько она была введена) большую рождала смуту и недовольство и многие затрудняла работы, которые могли принести пользу и доставить удобства. Люди молодые и наиболее к труду способные роптали, зачем должны они тратить время и силы, работая безвозмездно на чужих жен и детей. Сильный и умелый получал при разделе не больше, чем слабый, не могущий выполнить и четверти того, что мог сильный; это почитали несправедливостью. Люди старые и почтенные, когда приравнивали их по части трудовой повинности, пищи, одежды и пр. к молодым и ничем еще не отличившимся, видели в том обиду и непочтение. А что женщинам приходилось обихаживать чужих мужчин, стряпать и стирать на них и др., это сочли за некое рабство, и многим мужьям было не по нраву. Постановив, чтобы всем и получать, и трудиться равно, полагали, что достигли равенства; а это если не порушило связей, какие установил между людьми бог, то во всяком случае немало повредило взаимному уважению, какое должно между ними царить. А среди иного сорта людей было бы еще хуже. Пусть не говорят, будто причиною тут людская порочность, но не порочность самой идеи. Я отвечаю, что коль скоро порочность эта присуща всем людям, то господь в мудрости своей указал им иной, более пригодный для них путь. Вернусь, однако, к своему повествованию. Когда новое решение было принято и маис посеян, все припасы кончились и оставалось лишь уповать на божественный промысел; вечером зачастую не знали, найдется ли кусок на следующий день. Так что более чем кому-либо, как заметил один из нас, надлежало нам молиться, чтобы хлеб наш насущный дан был днесь. Однако все лишения поселенцы выносили с великим терпением, не падая духом, и так без малого два года; это приводит мне на память слова Петра Мученика (славившего испанцев) в его 5-й Декаде, на стр. 208: «По 5 дней подряд (говорит он) питались они сухими зернами маиса, и то не досыта»; и заключает, что «подобные лишения, подобные муки и голод никто из людей, кроме испанцев, не смог бы вынести». Увы! Когда у наших поселенцев был маис, это был для них праздник; и не по 5 дней, а порою по 2 и 3 месяца голодали они, не имея ни хлеба, ни маиса. Правда, в другом месте, во 2-й Декаде, на стр. 94, он говорит, что другим было еще хуже и пришлось питаться собаками, жабами и трупами, отчего все почти умерли. От такой крайности милосердный господь уберег народ свой; и в самое тяжкое время сохранил ему жизнь и здоровье; да святится имя его. Но хочу привести заключительные слова этого сочинения, которые отчасти применимы и к нам: «Через бедствия свои открыли они путь в новые земли; после этих бурь другие люди находят там покой, купленный — страданиями тех; и приходят словно на брачный пир, где все для них приготовлено». Когда осталась в поселении всего одна лодка, да и та не слишком хорошо оснащенная, людей разделили на несколько отрядов, человек по 6–7, чтобы каждому отряду по очереди выходить в море с сетью, купленной для лова морского окуня и другой рыбы. Едва лодку разгружали, как следующий отряд выходил на ней в море. И не возвращались, пока хоть что-нибудь не добудут, хотя бы рыбачить приходилось по 5–6 дней, ибо они знали, что дома нет ничего и вернуться порожним значило бы очень всех опечалить. Отряды даже соревновались, кто выловит больше. Если лодка долго не возвращалась или мало привозила, шли собирать съедобных моллюсков, которых выкапывали из песка во время отлива. Так жили в летнее время, пока бог не пошлет что-нибудь получше; зимою большим подспорьем были земляные орехи и дичь. А летом удавалось иной раз подстрелить оленя; за этим отряжали в лес одного-двух лучших охотников, а добычу делили между всеми. Пришли наконец письма от пайщиков, которые приводить целиком будет чересчур долго и скучно и из которых узнали мы о новых напастях и испытаниях. Начинались они так:Возлюбленные друзья, невзгоды и горести ваши были велики, но немало и нам довелось испытать неудач и трудностей. С большими хлопотами и затратами отправив корабль «Парагон», полагали мы, что на том кончатся наши заботы; а он спустя 14 дней вернулся потрепанный бурей, с опасной течью, так что пришлось поставить его в док и затратить на него 100 фунтов. Пассажиров пришлось содержать 6–7 недель, причем недовольство и роптание их так были велики, словно готовился бунт. Надеемся, однако, что все будет хорошо и обернется к вашей пользе, если только станете терпеливо ждать и хватит у вас сил продержаться. Тем временем корабль м-ра Уэстона доставил нам ваши письма и др. Добрые вести, которые шлете вы, весьма нас порадовали и т. д.Письма были от декабря 21-го 1622-го. Об этом письме сказано довольно. Упомянутый в нем корабль привел к нам м-р Джон Пирс, который снарядил его за свой счет, в надежде сделать большие дела. За пассажиров и товары, отправленные с ним пайщиками, получил он фрахт и должен был выгрузить их здесь. На его имя взят был первый патент, ибо с некоторыми пайщиками он связан был дружбою или родством. Но тогда они лишь воспользовались его именем. Увидев, что здешнее поселение с божьей помощью преуспело и Тем снискало благоволение Совета Новой Англии, он испросил другой патент (на имя поселенцев), с правами куда большими, и без труда его получил. Однако он намерен был владеть им сам, а поселенцев сделать как бы своими арендаторами, чтобы давать им лишь то, что ему заблагорассудится, и быть для них также и главным судьею; как видно будет из дальнейшего. Да только господь не допустил этого. После первого плавания с упомянутым грузом м-р Пирс снова снаряжает корабль, набирает побольше пассажиров не слишком высокого сорта, лишь бы возместить свои убытки, и во второй раз пускается в путь. А что случилось после, видно из другого письма, посланного губернатору одним из главных пайщиков 9 апреля 1623-го и гласившего следующее:
Возлюбленный друг, отправляя последнее свое письмо, рассчитывал я, что ныне будут уже вести от вас. В декабре, когда писал к вам, думал я, что м-р Джон Пирс вернется не иначе как с добрыми вестями. Но богу угодно было, чтобы привез он дурные вести о буре, вынудившей его вернуться с полпути; хотя милосердный господь и сохранил жизнь всем 109-ти, Но потери м-ра Пирса, а значит и наши, столь велики, что поистине и т. д. С большими хлопотами и расходами добились мы, чтобы м-р Джон Пирс передал нам главный патент, который взял он на свое имя и тем сделал недействительными прежние наши права. С прискорбием должен сообщить, что очень многие здесь видят в неудачах первого и второго плавания справедливую божью кару; тот, кому так доверяли мы, когда воспользовались его именем, вознамерился взять власть над всеми нами и сделать вас и нас своими арендаторами, во всем от его воли зависимыми, ибо права наши и патент стараниями его оказались недействительны. Я хотел бы судить о нем милосердно. Однако нежелание его отказаться от своей власти и цена в 500 фунтов, которую запросил он за то, что обошлось ему всего в 50 фунтов, многих вынуждают сурово его порицать. Общество пайщиков потеряло на товарах, отправленных с его кораблем, считая расходы на пассажиров, 640 фунтов и т. д. Мы срядились с 2-мя купцами насчет корабля «Анна», в 140 тонн, который к концу этого месяца готов будет доставить 60 пассажиров и 60 тонн товару и т. д.Это письмо было от 9 апреля 1623-го. Так судили они сами о поступках этого человека; и мне подобало сообщить о них именно не моими, но собственными их словами. И хотя все истраченные крупные суммы не возместил он ничем, кроме возвращения патента и своего пая, он не успокоился и подавал иски во многие суды Англии, а когда в исках ему отказали, пожаловался парламенту. Но сейчас его нет в живых, и господь ему судья. Во второе плавание корабль его потерпел величайшие бедствия, какие возможно перенести и не погибнуть; как слышал я от м-ра Уильяма Пирса, который был тогда на нем капитаном, а также от многих пассажиров. Дело было в середине февраля. Буря бушевала почти 14 дней, а в течение 2-х или 3-х суток сила ее была необычайной. Когда срубили мачту, снесло кормовую рубку и всю почти надводную часть. 3 человека едва справлялись с рулем; рулевого пришлось привязать, не то был бы он смыт волной; корабль так заливало, что люди на палубе часто не различали, на борту они или за бортом; а однажды он так накренился, что казалось, уже не выпрямится. И все же господь сохранил их и благополучно привел корабль в Портсмут, на удивление всем, кто увидел, как он выглядел, и услышал, что вытерпели на нем люди. В конце июня прибыл корабль, доставивший капитана Фрэнсиса Уэста, назначенного адмиралом Новой Англии, чтобы препятствовать вторжению чужеземных кораблей, а также рыболовных судов, если идут на лов или для менового торга без разрешения Совета Новой Англии, за которое немало приходилосьплатить. Да только сделать он ничего не мог; ибо они были сильнее, и рыбаки оказались упрямыми. А владельцы судов подали жалобу в парламент и добились решения о свободе рыбной ловли. Капитан Уэст рассказал губернатору, что повстречал он в море некое судно и даже всходил на борт его; оно держало путь к нашему поселению и везло немало пассажиров; он подивился, отчего оно еще не прибыло; можно было опасаться беды, ибо его потеряли из виду в бурю, начавшуюся вскоре после их встречи. Весть эта исполнила нас страха, смешанного, однако, с надеждою. У капитана адмиральского корабля были для продажи 2 бочки гороха; видя нашу нужду, запросил он по 9 фунтов стерлингов за бочку и меньше чем за 8 не уступал; зато бобровые шкуры хотел купить по дешевке. Но мы сказали, что долго без этого обходились, обойдемся и далее, лишь бы столько не переплачивать. Корабль тут же ушел в Виргинию. Надо сказать, что, несмотря на все наше усердие и надежды на хороший урожай, господь, казалось, вознамерился сгубить его, и нам грозил еще более длительный и жестокий голод из-за великой засухи, длившейся 3 недели мая и до половины июня, при сильной (почти все время) жаре, так что маис начал сохнуть, хотя сеяли его, удобряя рыбою, а это хорошо увлажняет почву. Скоро стал он и вовсе гибнуть, а на самых сухих участках походил на высушенное сено, и там спасти его не удалось. Тогда назначен был торжественный день покаяния, чтобы пламенно и смиренно молить господа о помощи в столь великом бедствии. И ему угодно было милостиво и скоро внять мольбе нашей, на удивление как нам самим, так и жившим среди нас индейцам. Ибо хотя утро и большая часть дня были безоблачными и знойными, без малейших предвестий дождя, к вечеру небо затянулось, и полил дождь, столь теплый и благостный, что все возрадовались и благословили бога. Дождь начался в тишине, без ветра или грозы, но так был обилен, что глубоко пропитал землю. И тут ожил на глазах засохший маис и другие злаки, так что индейцы только дивились; после того господь посылал нам ко времени дожди, а между ними столь ясные и теплые дни, что, по милости его, урожай созрел обильный, к немалому нашему утешению и радости. За эту милость (выбрав время) назначали мы день благодарения. Пропущенное мною сообщение это счел я нужным сюда вписать. Спустя 14 дней прибыл и корабль «Анна» с капитаном Уильямом Пирсом, а еще через неделю или дней 10 пришла и пинасса, которую потеряли из виду в бурю, отличное новое судно в 44 тонны, которое общество пайщиков построило для поселения. Эти суда доставили около 60-ти человек для поселения, из коих некоторые сделались весьма полезными ее членами; были среди них также жены и дети ранее прибывших. Но были и столь недостойные, что в следующем году пришлось потратиться и отослать их обратно. Кроме того, прибыли и лица посторонние, по собственному почину, которые должны были получить землю и жить наособицу, подчиняясь, однако общему управлению; это, как видно будет далее, привело к спорам и несогласиям. Тут я снова позволю себе привести выдержки из писем, доставленных тем кораблем, желая показать все это собственными их словами, а не моими, насколько можно, чтобы не наскучить.
Возлюбленные друзья, приветствую вас всех, надеюсь, что находитесь в добром здравии, и сожалею, что столь долго были вы лишены припасов; в свое оправдание сошлюсь на письма, совместно нашими пайщиками написанные. Впрочем, и сейчас посылаем мы меньше, чем хотели бы и могли, будь у нас больше денег. Зато людей, шлем более чем достаточно (хоть и не всех, кого должны бы), ибо люди к нам спешат, деньги же идут неспешно. Но едут к вам и старые друзья ваши и т. д. Мало-помалу они съезжаются, а скоро, надеюсь, и все будут с вами. И столь докучают нам охотники ехать, зачастую не самые подходящие, что прошу вас: напишите к казначею и укажите строго, каких именно людей присылать. Мне досадно видеть, кого послали на сей раз; но не будь здесь меня, не то еще было бы. Требуйте от пайщиков, чтобы слали людей честных, а если, мол, приедут иные, пригрозите отправить их обратно и т. Нет для нас большей опасности, чем от людей развращенных и буйных. Такой-то и такой-то приехали без моего дозволения; друзья их в мое отсутствие добились обещания у нашего казначея. Но нет у нас нужды набирать распутников, когда довольно найдется людей порядочных и т. д.А вот письмо совместное:Верный друг ваш Р.К.{47}
Возлюбленные друзья, сердечно вас приветствуем; уповаем, что бог, который доныне хранил вас чудесным произволением своим, сохранит вас и впредь в добром здравии, во славу его и к общей нашей радости. Весьма сожалеем, что все это время ничего вам не посылали и т. д. С этим кораблем отправили мы к вам тех женщин, что пожелали ехать к мужьям и друзьям своим, а также детей их и т. д. Не пеняйте нам, если не отправили мы больше старых друзей ваших и того, в особенности, в ком более всего нуждаетесь[38]. Отнюдь нету тут пренебрежения к вам или же к нему. Время покажет, что всё мы выполним по совести, как обещали, и все ожидания ваши оправдаем. Прибыли к вам также несколько честных людей, которые заведут вблизи вас собственное хозяйство. Если бы мы не дали на то согласия, было бы хуже и для них, и для вас. Для них, ибо в иных местах было бы им не столь удобно; а для вас потому, что честные люди поселению будут защитою, а вам добрыми соседями. Два совета хотим мы дать вам, как уже дали им. Во-первых, скупку мехов вплоть до раздела вести сообща, для всех пайщиков. Во-вторых, поселить прибывших на шпаком от вас отдалении, чтобы не было неудобства вашим участкам, однако не мешало быстро и с легкостью собираться всем вместе. Посылаем к вам нескольких рыбаков с запасом соли и т. д. А также некоторые другие припасы, как видно из накладной, и хоть это не все, что хотели бы мы послать, но (из-за скудости наличных средств наших) все, что можем, и т. д. И хотя открыли вы, по видимости, еще много рек и плодородных земель кроме тех, на которых живете, но раз богу угодно было, чтобы именно они достались вам на долю, считайте их вашими; и лучше устремите взоры на то, что можно еще сделать на этих землях, нежели томиться тоскою по иным. Если места ваши не самые богатые, оно даже и к лучшему, ибо меньше станут вам завидовать и к вам вторгаться; и алчущие земных благ не поселятся чересчур к вам близко[39]. Раз земли эти дают вам хлеб, а море — рыбу, довольствуйтесь покуда этим, и бог однажды пошлет вам нечто лучшее. И все узнают, что вы не беглецы и не смутьяны. И можете, если угодно богу, не печалясь взять себе худшее, ближнему же оставить лучшее. Не сетуйте, что явились орудием, разбившим лед, чтобы другие с большей легкостью шли вам вослед; честь будет принадлежать вам до скончания веков и т. д. Мы постоянно держим вас в сердцах наших и всех вас сердечно любим, как и сотни других, кто никогда вас не видел, но молится о спасении вашем как о собственном; молимся и мы и всегда будем молиться, пусть господь, чудесно спасший вас на море, от врагов и от голода, хранит вас среди всех грядущих опасностей и пошлет вам почет от людей и блаженство в вечности. Итак, да хранит вас бог, да пошлет он нам добрые о вас вести и да поможет нам, хоть мы сейчас об одной руке, довершить дело, во славу того, кто дарует слабому победу над сильными и малое может возвеличить. Да будет сила его и слава во веки веков.Это письмо подписало 13 из них. А прибывшие, увидя нищету поселенцев, смутились и приуныли, но, смотря по нраву каждого, выражали это различно; одни желали вновь оказаться в Англии; другие заливались слезами, при виде чужих бед предчувствуя собственные; или же сострадали друзьям, которые столь долго терпели лишения и все еще их терпят; словом, опечалены были все. Лишь немногие из старых друзей радовались, что не было еще хуже, ибо иного не ожидали, и надеялись, что вместе увидят лучшие дни. И неудивительно, что вид поселенцев так всех поразил, ибо был он поистине плачевным; многие были в лохмотьях, а некоторые почти нагишом; правда, те, у кого больше было припасено, еще выглядели пристойно. Что до пищи, тут все были равны, разве что у иных осталось немного гороху с предыдущего корабля. Лучшее, чем могли они попотчевать друзей своих, был омар или кусок рыбы, без хлеба или чего-либо еще, да кружка родниковой воды. Долгое время питаясь такой пищей и работая в поле, утратили они несколько свежесть лиц своих. Но все же господь сохранил им достаточно здоровья и сил и на собственном их опыте показал истину слов Пятикнижия (8, 3), «что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст господа, живет человек». Подумать, как печально говорится в Писании о голоде во времена Иакова, когда сказал он сынам своим: пойдите туда и купите нам оттуда хлеба, чтобы нам жить и не умереть. Бытие, 42, 2 и 43,1. Ибо страну постиг голод; а ведь у тех были большие стада, различный скот, кроме мяса, дававший и другую пищу; молоко, масло, сыр и т. д. И все же почиталось это тяжким бедствием; каково же было здесь, где не было ничего этого, а к тому же и хлеба; не было и Египта, где можно спастись. Но бог напитал нас более всего дарами моря; так чудесен промысел его во все времена, ибо милость его бесконечна. Со своей стороны, поселенцы-старожилы опасались, что урожаем, когда он созреет, придется делиться с новоприбывшими, у которых привезенных припасов не хватит до следующего года (как оно и оказалось). Они обратились к губернатору, напоминая, что, как было условлено, каждый сеял маис для себя; а потому трудились они с особенным усердием, чтобы самим пожать плоды трудов своих; они куска не съедят из привезенной провизии, но станут дожидаться своего урожая; а приезжие пусть едят то, что привезли; они этого не возьмут, разве что смогут купить или выменять. Просьбу удовлетворили, ибо обеим сторонам пришлась она по душе; вновь прибывшие не менее опасались, как бы оголодавшие поселенцы не съели привезенные припасы, и тогда голодать придется им. Трудами многих рук корабль быстро нагружен был клепкой. С ним послали также все имевшиеся бобровые и другие шкуры, и отправился м-р Уинслоу, чтобы обо всем доложить и достать кое-что необходимое нам в тогдашнем нашем положении. Тут созрел и урожай, и господь после голода ниспослал нам изобилие, и все переменилось, на радость сердцам, восславившим бога. И стало очевидно, сколь выгодно сеять каждому отдельно, ибо у всех оказалось, так или иначе, довольно, чтобы дождаться следующего урожая; а наиболее искусные и усердные имели даже излишек, который могли продать желающим, так что голода мы с тех пор и поныне уже не испытывали. Те, что приехали жить наособицу, надеялись на большее, нежели то, что здесь застали или могли получить; как бы выстроить себе большие дома и другое, что им вздумается; точно сбирались сразу сделаться великими и богатыми; но все оказалось пустыми мечтаниями. Поселение заключило с ними следующие условия. Во-первых, губернатор, от имени и с согласия всех, дружественно их примет и приветствует, и отведет подходящие участки под жилье в границах поселка. А также обещает, в разумных пределах, иную помощь, какая им потребуется, а мы сумеем оказать. 2. Они, со своей стороны, подчинятся всем законам и установлениям, имеющим целью общее благо; как уже принятым, так и будущим. 3. От общих рабочих повинностей (какие требуются нынешним состоянием поселения) они освобождаются, исключая совместную оборону и те общие работы, какие окажутся нужными для будущего блага поселения. 4. На содержание губернатора и прочих должностных лиц поселения каждый мужчина старше 16-ти лет внесет в общий фонд один бушель маиса или нечто ему равноценное. 5. От всякой торговли с индейцами на меха и тому подобное новоприбывшие (согласно уговору с купцами, заключенному перед выездом) отстраняются вплоть до истечения срока общего хозяйствования. В середине сентября прибыл в Массачусетский залив капитан Роберт Горджес, а с ним несколько пассажиров с семьями, намереваясь основать там поселение; и расположился на месте, покинутом людьми м-ра Уэстона. Совет Новой Англии назначил его губернатором всего края, а в помощь ему дал упомянутого ранее капитана Фрэнсиса Уэста, Кристофера Левита, эсквайра, и нынешнего губернатора Плимута и т. д. Его уполномочили избрать также других, по своему усмотрению. Ему и помощником его или любым 3-м из них, из коих одним неизменно должен быть он сам, даны были полные права в решении всех дел, особо тяжких преступлений, уголовных и гражданских дел и т. п.; даны были и другие указания. Нынешнему губернатору дозволил он снять копии со всех этих документов. О прибытии своем известил он письмом, но прежде чем собрались ему представиться, направился на том же корабле к востоку; однако поднялась буря, и они (не имея лоцмана, знакомого с этими водами) вошли в здешнюю гавань. Здесь он и спутники его радушно были встречены и провели 14 дней. Тем временем прибыл м-р Уэстон на малом судне, которое он себе вернул, капитан Горджес, пользуясь этим случаем, уведомил здешнего губернатора, что одною из целей поездки его в восточные области было найти м-ра Уэстона и спросить с него за злоупотребления, в коих обвинялся он. Ему велели предстать перед ним, помощниками его и здешним губернатором и обвинили прежде всего в дурном поведении его людей на Массачусетском заливе, что нарушало спокойствие края, а ныне немало повредит и капитану Горджесу, и людям, коих привез он, чтобы там поселить. На это м-р Уэстон спокойно ответил, что все происходило в его отсутствие, да и со всякими могло случиться; он их снабдил всем необходимым и полагал, что за ними есть присмотр; а за собственные свои провинности он уже достаточно поплатился. Во-вторых, обвинили его в том, что он обманул отца капитана, сэра Фердинандо Горджеса, и правительство. Дело состояло в следующем: Уэстон просил у него и других членов Совета Новой Англии лицензию на поставку в Новую Англию множества крупных орудий якобы для сооружаемых там укреплений и каких-то судов. А получив ее, продал орудия за океаном и деньги присвоил, чем правительство (по словам капитана) сильно было разгневано; отцу его выражено было большое неудовольствие, а Уэстона велено арестовать. Тот оправдывался как умел, но отрицать не мог; именно это и было (как говорили) главной причиной, побудившей его скрываться. В конце концов заступничество губернатора и некоторых здешних друзей несколько смягчило Горджеса (хотя обиду, нанесенную отцу, чувствовал он глубоко); а м-р Уэстон, видя это, обнаглел и позволил себе речи столь дерзкие и язвительные, что тот в негодовании поклялся усмирить его или отправить в Англию. Это несколько испугало м-ра Уэстона, и он пришел тайком к здешнему губернатору узнать, неужели допустят, чтобы капитан Горджес его арестовал. Ему было сказано, что помешать этому не может никто, а виноват он сам; едва удалось немного уладить дело, как он выскочил и своей глупостью и безрассудством навлек беду и на себя, и на нас. Он признал, что не сдержался, и умолил губернатора вступиться и уговорить Горджеса, если сможет. Что и удалось, но с большим трудом; его вызвали снова, и губернатор поручился, что пришлет его, если этого потребует Горджес или члены Совета. В конце концов тот удовлетворился поручительством и дружественно распрощался. Однако после его отъезда м-р Уэстон, взамен благодарности губернатору и здешним друзьям своим за все старания их, насмеялся за их спиною над ними же. Он сказал, что они не мастера судить, зато мастера выпрашивать. С тем они и расстались. Губернатор края отправился в Массачусетс по суше, весьма признательный за гостеприимство. Корабль остался и приготовился плыть в Виргинию, куда надлежало ему доставить нескольких пассажиров; на нем отбыли также некоторые из тех, кто прибыл хозяйствовать наособицу; одни потому, что здешний край им не понравился; другие из-за пожара, истребившего их жилища и все их запасы, так что они были к тому вынуждены. Виновниками пожара были моряки, которые устроили пирушку в одном из домов, откуда все и началось; из-за стужи развели они большой огонь, который вырвался из трубы на соломенную кровлю и спалил 3 или 4 дома со всем хранившимся там имуществом и припасами. Дом, откуда начался пожар, соседствовал со складом, где держали общественное имущество и все припасы; с великим трудом удалось отстоять его от огня; если бы сгорел и он, поселению пришел бы конец. Но его, благодарение богу, удалось спасти общими усилиями поселенцев и стараниями губернатора и его помощников. Некоторые предлагали вынести оттуда все имущество; но тогда многое было бы расхищено буйной командой с 2-х кораблей, которая в то время почти вся находилась на берегу. Вместо того поставили внутри помещения нескольких надежных людей, а снаружи другие, смочив одежду водою, боролись с огнем, готовые, если понадобится, быстро все вытащить. Подозревали тут злой умысел, если не прямое предательство; а было ли это лишь подозрением, о том ведает один бог; одно известно доподлинно, что в самый разгар пожара послышался (неведомо откуда) голос, призывавший хорошенько оглядеться, ибо не все, кто около них, им друзья. А после, когда пожар стал уже стихать, замечен был дым в сарае, примыкавшем к складу; он сплетен был из ветвей с сухими листьями, которые и загорелись; а прибежавшие тушить нашли внутри, под стеною, длинную, локтя в два головешку, которая, по мнению всех ее видевших, никак не могла очутиться там случайно, а была чьею-то рукой подложена. Но что бы ни было задумано, господь беду отвратил. Возвратясь к себе в Массачусетс, главный губернатор капитан Горджес вскоре присылает ордер на арест м-ра Уэстона и его корабля; присылает и капитана, чтобы вести корабль, а также некоего капитана Хэнсона (из своих приближенных), чтобы увезти на нем арестованного. Здешний губернатор и другие весьма таким решением огорчились, а ордер признали незаконным; и тотчас написали к капитану Горджесу, силясь отговорить его и указывая, что он только себя запутает и обременит, а м-ру Уэстону (в его положении) даже окажет большую услугу; ибо на корабле у него много людей, которым давно задолжал он жалованье, да и припасов там, можно сказать, нету (а время зимнее); так что, задержав корабль, капитан Горджес тяжкое возьмет на себя бремя. М-ра Уэстона тем временем предупредили, чтобы сам искал, как ускользнуть; но он, видно, не знал, куда податься и как поправить дела свои, был даже рад такому случаю и с места не двинулся. А губернатор Горджес не дал себя уговорить и прислал ордер по всей форме, за своей подписью и печатью, предупредив, что за неисполнение ответят перед правительством; и написал также, что, вернувшись к себе, снова все обдумал и отпустить Уэстона не может; к тому же ему сделались известны и другие дела, за которые тот также должен держать ответ. Ему повиновались, но позднее он убедился, что совет был ему дан дельный; ибо когда составили опись корабельному грузу, припасов оказалось там всего на 14 дней при обычном рационе; и более ничего сколько-нибудь ценного; а команда так ему докучала, требуя жалованье и прокорм, что изрядно ему надоела. Так что он понес убытки и вынужден был расходовать собственные припасы; к весне (когда побывали они в восточных областях), договорились, что губернатор возвратит корабль владельцу и возместит галетами, мукою и другой провизией все, что было израсходовано тому принадлежащего и что люди его потребили или испортили. М-р Уэстон вернулся сюда, а затем отправился в Виргинию, где я его покамест и оставлю. Губернатор Горджес и приближенные его возвратились в Англию, едва успев принять бразды правления, ибо сочли здешние условия неподходящими для лиц столь высокого звания и положения. Люди его рассеялись; кто также направился в Англию, кто в Виргинию; несколько человек остались, и Им помогали отсюда. Губернатор Горджес привозил с собою священника, некоего м-ра Морелла, который спустя год после отъезда губернатора также уехал. У него были не знаю уж какие полномочия по надзору за церковными общинами и еще какие-то инструкции, но он их не предъявил и ими не воспользовался (как видно, зная, что все будет тщетно); и только уезжая упомянул о них некоторым лицам. Таков был конец 2-го поселения в здешних краях. В том же году кое-кто пытался поселиться в других местах; м-р Дэвид Томпсон в Паскатауэе; другие в Мохиггене и еще где-то. Теперь надлежит мне сказать несколько слов об уже поминавшейся пинассе, которая прислана была пайщиками для нужд поселенцев. То было красивое и нарядное судно;[40] но боюсь, что пайщики слишком уж его расхвалили, ибо удачи ему не было. Во всяком случае, сделаны были две крупные ошибки; во-первых, хотя капитан там был умелый, зато команду набрали буйную, и все работали за долю от прибылей, а жалованье положено было одному только капитану. Во-вторых, задавшись целью торговать, не прислали для торга ничего стоящего. Когда матросы прибыли сюда и наслушались дурных советов м-ра Уэстона с братией и других им Подобных, ни капитан, ни губернатор не могли с ними сладить; они кричали, что обмануты, что набирали их будто бы на военный корабль, чтобы брать в плен французов, испанцев и не знаю уж кого еще и т. д. Они не хотели ни торговать, ни ловить рыбу, если не будут им платить жалованье; можно было опасаться, что они либо уведут пинассу, либо сбегут на другие суда, а это бросят; поэтому м-р Пирс и другие упросили губернатора положить им жалованье, что и было сделано. Пинассу отправили вокруг мыса для торга с наригансетами, но удачи ей не было. Немного маиса и бобровых шкур удалось добыть; но голландцы снабжали тамошних индейцев тканями и более ценными товарами; у этих же имелось лишь немного бус и ножей, которые не слишком высоко там ценились. А на обратном пути у самого входа в здешнюю гавань пинасса едва не потерпела крушение; поднялась буря, пришлось срубить грот-мачту, не то судно понесло бы на мели, называемые островами Брауна, ибо столь велика была сила ветра, что он сорвал якоря и нес судно прямо туда; однако, срубив мачту и такелаж, его удержали, покуда ветер не переменился.
ANNO DOM. 1624
Настало время ежегодного избрания должностных лиц{48}, а так как населения прибыло, а с ним и хлопот, губернатор посоветовал избрать новых людей, а также, для лучшего ведения дел, придать губернатору больше помощников. И доказывал необходимость этого. Если должности эти приносят почет или выгоды, надобно, чтобы и другие могли ими воспользоваться; если же являются бременем (как оно несомненно было), то справедливо, чтобы и другие помогали его нести; в том и назначение ежегодных выборов. Вот и решили вместо одного помощника губернатора избрать 5, а губернатор получил два голоса; позже число это было увеличено до 7-ми и таким остается поныне. В начале марта с немалым трудом и затратами поставили на пинассе новую мачту и оснастку и, щедро снабдив провизией, послали к востоку на лов рыбы. Прибыв благополучно к бухте Дамаринс, она стала в удобной гавани, вместе с другими судами, в том числе только что прибывшими из Англии. Вскоре однако поднялась буря такой силы, что волны залили гавань там, куда прежде никогда не достигали; они бросили пинассу на скалы, пробившие в ее корпусе дыру, куда въехала бы лошадь с повозкой, а потом повлекли на глубокую воду, где она затонула. Капитан погиб; команда, исключая одного человека, с трудом спаслась; погибли также припасы, соль и все прочее, что на ней было. Тут я ее покамест и оставлю. Некоторые из живших наособицу, кто еще оставался здесь, принялись строить козни; зная, что и в Англии имеется среди пайщиков немало недовольных, от которых иные из них были к тому же зависимы, они своими нашептываниями склонили к себе кое-кого из поселенцев, кто послабее был духом, и такое вселили в них недовольство, что те непременно захотели тоже хозяйствовать особно{49}; и немалые предлагали суммы, чтобы выкупиться из общины. Губернатор, посовещавшись с мудрейшими из членов ее, решил это дозволить, на тех же условиях. А именно на тех, что приводились выше. Добавили только, чтобы не отделялись, прежде чем истечет срок общности имущества. И чтобы вносили в общую казну половину всего, что вырастят и добудут, сверх своего пропитания, в возмещение затраченного на них ранее, и тому подобное. Когда вышло такое решение, убыль людей из поселения прекратилась, ибо лишь немногие на то согласились, как дошло до дела; да и им вскоре прискучило. Ибо те, кто уговорил их и м-ра Уэстона, уверяли, что для поселения припасов более не пришлют, зато у тех, что живут отдельно, есть друзья, которые все возьмут на себя и чего только для них не сделают. Вскоре прибыл м-р Уинслоу и привез много припасов; а корабль пошел затем на лов рыбы, который для поселения нашего всякий раз кончался неудачей. Еще привез он 3-х телок и быка, первых в этом крае; а также одежду и другую утварь, о которых речь пойдет ниже. Сообщил он и о кознях многих пайщиков против поселения; особенно же против приезда сюда остальных лейденцев; и с каким трудом удалось на сей раз снарядить корабль с припасами; и как из-за этих помех такое вышло промедление, что он не только опоздал к началу лова, но и отобрали у него лучших в западных областях рыбаков, так что капитана и команду пришлось набирать, какую удалось. Все это лучше видно из следующих писем:Достойные и возлюбленные друзья, любезные послания ваши получил и много за них благодарен и т. д. Господу угодно было тронуть сердца наших пайщиков и побудить их потратиться на снаряжение этого корабля, называемого «Чэрити», который везет вам людей и все нужное как для поселения, так и для рыбной ловли, хотя удалось это с великим трудом; ибо есть среди нас такие, что более пекутся о собственной выгоде и о том, как бы стать поперек дороги здешним, да и иным достойным орудиям господа[41], чем об общем благе и содействии благородному и достохвальному предприятию. Есть здесь, однако, и другие, и таких, я надеюсь, большинство, кто, как подобает истинным христианам, ревнует о славе господа нашего Иисуса Христа, о распространении слова его и обращении к богу несчастных дикарей{50}. Но недаром говорит пословица, что одна паршивая овца портит все стадо; так и эти недовольные и смутьяны всячески стараются отвратить сердца людей от вас и друзей ваших и даже от общей нашей цели; и все это под видом благочестия и забот о поселении. На деле же выходит совсем обратное; именно об этом говорили на недавнем нашем собрании люди более честные (хоть до недавнего времени бывшие с теми заодно). Но к чему тревожить вас, да и себя, рассказами об этих неугомонных противниках всякого добра, которые, как я опасаюсь, не перестанут и впредь нарушать мир и согласие собраний наших. В четверг 8 января совещались мы насчет нашего с вами договора; и тут добивались они отмены того, на что в недавних письмах убеждали мы вас согласиться (а именно на продление срока нашего акционерного предприятия). И заявляли при этом, будто совесть не велит им требовать от вас большего срока, чем вначале установленный. В тот вечер так упирались они в неправоте своей и так были раздосадованы, что предложили продать свои доли; нашлись и желающие купить. Этого я, однако, не допустил, ибо опасался, что они больше станут мутить воду и распускать ложные слухи и более причинят нам вреда, если удалятся в гневе, чем оставаясь с нами в доле. Января 12-го было у нас еще одно совещание, а перед тем некоторые из нас потолковали с большинством их в четыре глаза, и много было при этом споров и много сказано «за» и «против». Зато вечером, когда собрались мы прочесть общее наше письмо, меж нами царили мир и согласие, каких не упомню[42], и самые ярые из противников наших предложили нам взаймы 50 фунтов. Я послал за полгаллоном вина (желал бы, чтоб и вы могли сделать то же самое[43]), и мы дружно его распили. Когда богу угодно, он может смягчить сердца людей и т. д. А теперь, возлюбленные друзья, сердечно приветствую всех вас во господе. Готовый в меру сил служить вамДжеймс Шерли.Янв. 25-го, 1623.
Еще одно письмо:
Возлюбленный сэр и т. д. Надеюсь, что на сей раз послали мы вам и людей и средства для всех 3-х дел, то есть рыболовства, добычи соли и постройки лодок; если удастся вам сколько-нибудь их наладить, это покроет ваши потребности. Прошу вас приложить к этому все старания. Корабль надлежит возможно быстрее нагрузить и отправить в Бильбао. Факторами следует послать людей благоразумных и уполномочить их также подтвердить условия. Если можете отпустить м-ра Уинслоу, я желал бы, чтобы он приехал снова. Корабельный плотник слывет за самого искусного во всей стране и наверняка будет вам полезен. Отдайте ему в полное распоряжение подручных его и тех, кого к нему приставите. Пусть поскорее сделает вам два 2-мачтовых галиота, лихтер и 5–6 шлюпок. Солевар искусен и усерден; приставьте к нему нескольких человек, чтобы быстро переняли ремесло. Проповедник, которого мы посылаем, человек простой и честный (как мы надеемся), хотя и не из самых известных. Избрать ли его пастором, это уж вы решайте сами. Он знает, что среди вас он пока лицо небольшое, хотя, быть может, привыкнув, позабудет об этом. Мы с м-ром Уинслоу согласились послать его по просьбе некоторых здешних, и худого в том не видим, разве что он обременен детьми. Мы взяли патент на Мыс Энн и т. д. Прискорбно, что некоторые[44] в письмах своих сюда столь несдержанны. Одни уверяют, будто у вас свирепствует голод телесный и духовный; другие, будто едите вы дохлых свиней и собак; а еще пишут, что все вести о плодородии земель ваших — явная и грубая ложь; что не видно там ни дичи, ни рыбы; и много еще подобного. Пусть бы эти недовольные возвратились сюда; беда, если о положении всего поселения станут судить по жалобам нескольких раздраженных людей. Отныне буду удерживать каждого, кто вознамерится к вам ехать, прежде чем не научится спокойствию. А сейчас это крест наш, и приходится его нести. Сожалею, что не послали мы вам побольше и получше; но мы так истратились на провизию, на соль, рыболовные снасти и др., что не могли послать других хороших вещей, как, например, масла, сахару и т. п. Надеюсь, что с возвращением этого корабля, а также «Литтл Джеймса» нам прибудет наличных. Да ниспошлет вам господь мужества в хлопотном деле, от которого теперь уж не должны мы отступаться, пока бог не пошлет вам отдохновения от трудов. Верный друг вашК предыдущему посланию м-ра Шерли приложены было возражения, о которых он написал так: «Вот главные недостатки, какие нашли у вас и в вашем крае те, что оттуда возвратились. Прошу вас рассмотреть эти обвинения и при первой возможности на них ответить»{51}. Обвинения исходили от некоторых из тех, кто приезжал хозяйствовать особно, и были того же сорта, что и упоминавшиеся в только что приведенном письме. Перечисляю их здесь вместе с ответами, которые отосланы были с тем же кораблем, и столь сильно смутили обвинителей, что некоторые признали свои ошибки, другие отказались от слов своих; а были и такие, кто вернулся и, живя здесь, сами в этих ошибках убедились и убедили других. 1. О б в и н е н и е: Существуют религиозные разногласия. О т в е т: Таковые нам неведомы, ибо с самого приезда нашего никаких контроверз и несогласий, ни публичных, ни приватных (насколько нам известно) не было. 2. О б в.: По воскресным дням пренебрегают семейными обязанностями. О т в.: Этого мы не допускаем и порицаем за то как себя, так и других; а те, кто об этом доносит, поступил бы более по-христиански, любовно указав провинившимся на вину их, чем укоряя их за их спиною. И лучше бы сами (чтобы не сказать больше) подавали в том пример. 3. О б в.: Не свершается ни одно из таинств. О т в.: Тем более скорбим мы, что не пускают к нам нашего пастора, чтобы их совершать; ибо прежде была у нас евхаристия каждое воскресенье, а крещение совершалось при рождении каждого ребенка. 4. О б в.: Детей не обучают ни катехизису, ни грамоте. О т в.: Это неверно; ибо многие родители учат детей своих как умеют; правда, нет у нас школы за неимением подходящего учителя; а до сей поры не было и средств на содержание такового; но теперь думаем мы это осуществить. 5. О б в.: Многие из особно хозяйствующих не желают участвовать в общих работах. Отв.: Это также не вполне верно; ибо работают все, хотя иные неохотно, а иные недобросовестно; кто работает хуже всех, получает только пищу и очень немного сверх того. От работ мы таких людей не освобождаем, но стараемся исправить или же исключаем из числа поселенцев. 6. О б в.: Вода у вас плохая. О т в.: Если хотят этим сказать, что она хуже хорошего лондонского пива и вина (до которого они столь большие охотники), мы с этим спорить не станем; но вода здесь не хуже любой другой на свете (насколько нам известно) и для нас достаточно хороша. 7. О б в.: Почва бесплодна, и не растет даже трава. О т в.: Здесь (как и всюду) есть земли получше и похуже, и если хорошенько подумать, то в Англии не найдется такой травы, как в здешних полях и лугах. Скот траву находит, раз он достаточно упитан; и нам бы хоть сотую часть скота, какой здесь можно пасти. Обвинение это, как и некоторые другие, кажется нелепым всем здешним, кто сам видит, что все обстоит как раз наоборот. 8. О б в.: Рыбу не удается сохранить, ибо соль ее не берет. О т в.: Это столь же верно, как и то, что здесь не видно ни дичи, ни рыбы. Как может это быть правдою, если столько судов ежегодно приходит сюда на ловлю; это все равно, что сказать, будто в Лондоне не сохранить ни эля, ни пива и все скисает. 9. О б в.: Многие вороваты и крадут друг у друга. Отв. Если бы в Лондоне не водилось воровства, то и мы не страдали бы от него здесь; известно, что некоторые жестоко за это поплатились; то же станется и с остальными, если будут пойманы. 10. О б в.: Край наводнен лисицами и волками. О т в.: То же и во многих других хороших странах; но с помощью отравы, капканов и других средств мы их выведем. 11. О б в.: Возле Гудзонова залива поселились голландцы{52} и могут вытеснить нашу торговлю. О т в.: Они и здесь поселятся, если мы и другие вернемся домой и все им оставим. Мы скорее одобряем, нежели порицаем их за это. 12. О б в.: Очень досаждают москиты. О т в.: Те, кто не выносят укуса москита, чересчур изнежены и не годятся для новых поселений и колоний; им следует сидеть дома, пока не закалятся хотя бы против москитов. Впрочем, в нашей местности их немного, и опыт показал, что где больше обработано земли и вырублено леса, там и москитов становится меньше, а затем они и вовсе переведутся. Покончив с этим и чтобы покончить также с другим предметом, приведу 2 письма от пастора — м-ра Робинсона: одно к губернатору, другое к нашему старейшине м-ру Брюстеру, которые многое объяснят из предыдущего и покажут любовь и заботу истинного пастыря о своей пастве.Р.К.Янв. 24-го, 1623.
Письмо к губернатору:
Возлюбленный друг, господь, доныне вас сохранивший, да хранит вас и впредь ко славе своей и на благо многим; да благословит он ваши благочестивые и мудрые начинания сообразно важности их в ваших краях. Никогда не усумнились мы в вашей к нам любви и заботе о нас; и рады узнать об этом. Любовь эта взаимна, хотя надежды приехать к вам меньше чем когда-либо. Но об этом скажу подробнее в письме к м-ру Брюстеру, ибо мне известно, что получаемые письма вы друг другу показываете; так же прошу вас поступить и с моими, и т. д. Что до убийства несчастных индейцев{53}, о котором сперва дошли до нас слухи, а затем и достоверные известия, каким было бы счастьем, если бы сумели вы кого-либо из них обратить к богу, прежде чем убивать; скажу также, что где однажды пролита кровь, там долго не устанет она литься. Вы скажете, что они заслужили это. Допускаю; но разве не довели их до того христиане, поступавшие как язычники?[45] К тому же, не будучи над ними начальством, вы должны были руководствоваться не тем, заслужили ли они это, но тем, какова необходимость в такой каре. Необходимости убить столь многих (а еще больше готовились убить, если бы смогли) я не вижу. Думается, что одного-двух зачинщиков было бы вполне достаточно, согласно известному правилу: карая немногих, многим внушаем страх. Вот почему осмеливаюсь я просить, чтобы не забывали вы, каков нрав вашего капитана, которого я люблю и который, как я убежден, послан милосердным господом на благо всем вам, если должным образом его направите. В обычное время он смирен и кроток с вами и со всеми. Однако из человеколюбия следует опасаться, что иногда, особенно в раздражении, не выкажет он надлежащей бережности к жизни человека (образа и подобия божьего). Вселять ужас в несчастных темных людей более доблестно в глазах света, чем угодно богу и подобает христианам; и боюсь, как бы после этого случая не встали и другие на тот же путь насилия. Убежден, что слова мои не примете вы в обиду, а быть может, и принесут они пользу. Легче было бы нам помогать друг другу, будучи вместе; но коль скоро это невозможно, будем постоянно и с любовию думать о вас и ждать назначенного богом времени. У большинства пайщиков нет, как видно, ни денег, ни большой охоты нам помочь. Они отрицают, что уговаривались перевезти нас, и я не жду от них дальнейшей помощи, пока не прибудут деньги от вас. Мы для них оказались чужими; да и вы также (разве что преодолеете это своей мудростью и заслугами); из главных зачинателей дела стали вы лицами второстепенными и т. д. Жена моя вместе со мною еще раз шлет вам привет. Поручаю вас тому, кто пребывает всюду с детьми своими, а всего ближе к тем, кто друг от друга далеко, и остаюсь любящий васДжон Робинсон.Лейден, дек. 19-го, 1623.
От него же к м-ру Брюстеру:
Возлюбленный и дорогой друг и брат, то, чего прежде всего просил я у бога, а именно жизни и здоровья вашего и благополучного прибытия посланных к вам, осуществилось; о чем узнал я с радостью и возблагодарил бога. Надеюсь, что расстроенное здоровье миссис Брюстер улучшится с приездом дочерей ее и доставкой припасов на этом судне и предшествующих; это позволит нам более терпеливо сносить собственное наше печальное положение и промедление с желанным отъездом; говорю, желанным, но едва ли возможным, что бы ни говорили об этом другие. Ибо, во-первых, нет, сколько я понимаю, ни малейшей надежды собрать для него средства; так что все зависит от прибылей, какие пришлете вы; а это вещь столь неверная, что ничего верного отсюда не заключить. Во-вторых, хотя сейчас единственной неодолимой помехою пайщики называют нехватку денег, но если вы и устраните ее, то наверняка отыщутся другие. Чтобы стало это ясно, разделим пайщиков на 3 части; человек 5–6 стоят целиком за нас; еще 5–6 являются заклятыми нашими врагами. Остальных, то есть большинство, считаю я людьми честными и к нам расположенными; однако и для них те другие (а именно излишне усердные проповедники) ближе, чем мы, и поддерживать, в случае разногласий, станут скорее их, нежели нас. А каково влияние этих людей на верующих, вы и сами знаете. Я убежден, что изо всех особенно нежелателен им мой переезд, и тому прежде всего, кто сам в ту сторону поглядывает, полагая, что с приездом моим к вам будет им труднее доставлять туда своих. И если у противников хоть вполовину столько ума, сколько злобы, они всегда сумеют чинить мне препятствия{54}, и нынешние промедления очень им на руку. Как одна упрямая лошадь, пятясь назад, пересилит 2-х или 3-х, которые стали бы (по крайней мере, хотели бы, если не вполне вольны) рваться вперед; так будет и в этом случае. А пример они показали, когда в присутствии посланцев ваших вынудили компанию обещать, что ничто из собранных ныне денег не будет истрачено на переезд к вам кого-либо из нас. Касательно заданного вами вопроса полагаю, что если являетесь вы начальствующим старейшиной (см. К Римл., 12, 7, 8 и 1 К Тим., 5, 17) в отличие от тех старейшин, что учат, увещевают и трудятся в слове и учении, а сюда относятся и таинства, значит, не имеете права управлять ими, а если бы имели, было бы то неуместно. Не знаю, приедет ли к вам какой-либо служитель божий; а если да, то следует вам consilium capere in arena[46]. Самый сердечный привет вам и жене вашей от меня и моей семьи. Пусть бог ваш и наш, он же бог всех детей своих, соединит нас, если такова воля его; а пока да хранит нас ко славе своей и чтобы могли мы служить его величию. Аминь. Любящий брат вашТеперь могу я продолжить повествование о здешних делах. И прежде всего должен рассказать о посевах того года; о том, как все, довольные прошлогодним урожаем, убедились, насколько выгоднее сеять маис каждому для себя; и терпеливым усердием победили голод. Что приводит мне на память слова Сенеки в Послании 123-м: «Что свобода — это более всего умение обуздать чрево свое и терпеливо сносить всякую нужду». Маис стали теперь ценить дороже серебра, а те, у кого оказались излишки, выменивали на него разные продукты квартами, полгаллонами или четвертьгаллонами; ибо денег у них не было; а когда и были, предпочитали все же маис. Дабы увеличить посевы его, попросили губернатора отвести участки в постоянное пользование, а не на один только год; ибо наиболее усердные, улучшив (с великим трудом) землю, должны были оставлять ее на следующий год другим, которые этим улучшением пользовались; выходило, что об улучшении почвы стараться не стоит, и урожаи с нее стали уменьшаться. По зрелом размышлении просьбу удовлетворили. Каждый получил всего по одному акру земли на себя и семью, возможно ближе к поселку; и больше, в течение 7-ми лет, не полагалось. Этим надеялись удержать людей ближе друг к другу ради безопасности и обороны, а также для более удобного выполнения общих работ. При этом часто вспоминал я прочитанное у Плиния[47] о том, как начинали хозяйство свое римляне{55} во времена Ромула. Как каждый довольствовался 2-мя акрами земли и больше не получал. В главе 3-й сказано, что получить от народа римского пинтузерна почиталось большой наградой. И еще долго спустя величайшей наградой военачальнику за победу над врагом был участок, какой можно вспахать за один день. И тот, кто не хотел довольствоваться 7-ю акрами, почитался человеком опасным. И как толкли зерно в ступках, и пришлось это делать много лет, прежде чем построили мельницу. Корабль, доставивший на сей раз припасы, быстро отпустили и послали с ним капитана и команду ловить рыбу на Мысе Энн (на эту местность, как уже говорилось, взят был патент); а поскольку сезон лова давно начался, в помощь им послали кое-кого из поселенцев, которым пришлось бросить свою работу, чтобы ставить рамы и подмостки для сушки рыбы. Однако из-за опоздания, а более всего из-за гнусного поведения капитана, некоего Бейкера, мало что удалось. Он оказался пьяной скотиной: только и знал, что пить, объедаться и тратить время и припасы; а большая часть команды следовала его примеру; и хотя м-р Уильям Пирс должен был надзирать за ними, а на обратном пути быть за капитана, сделать он ничего не мог, так что убытки были велики и оказались бы еще больше, если бы не вели там менового торга, который отчасти выручил, доставив бобровые шкуры. Присланный корабельный плотник был человеком честным и весьма усердным; он трудился очень прилежно и того же требовал от всех своих помощников; он быстро соорудил 2 отличные, прочные шлюпки (сослужившие впоследствии большую службу), большой и прочный лихтер и заготовил дерево на два 2-мачтовых галиота; но оно пропало, ибо он захворал в жаркое время лихорадкой и скончался, хотя уход ему доставили какой могли лучше; и было это для поселения большой потерей и сильно всех опечалило. Зато человек, присланный для добычи соли, оказался невежествен, глуп и своеволен; он уверял, будто может по части соли великие творить дела; вот и послали его искать подходящее место; поискав, сообщил он губернатору, что нашел место с хорошим дном, которое удержит воду и во всем прочем удобно; и не сомневается, что вскоре все оборудует и пойдут большие прибыли; но только нужно ему человек 8–10 в постоянные помощники. Его просили удостовериться, действительно ли место и все прочее ему подходят и сумеет он как следует все наладить; иначе введет поселение в большие расходы на содержание себя и стольких рабочих. Но он, сделав какие-то пробы, такую выказал уверенность, что послали плотников ставить остов большого помещения для хранения соли и иных надобностей. Ничего, однако, не получилось. Вину свалил он на почву, в которой якобы ошибся; а вот если дадут ему лихтер, чтобы возить глину, он наверняка дело наладит. Губернатор и некоторые другие предвидели уже, что толку не будет, но столько было среди нас злобствующих, что в жалобах, какие посылались пайщикам, тотчас обвинили бы их, зачем не дают мастеру работать и довести дело до конца; ибо тот своей наглой уверенностью и обещаниями не только обманул тех, кто прислал его из Англии, но и здесь ко многим втерся в доверие; так что пришлось дать ему действовать, пока все не убедятся в его хвастовстве. Он только и умел, что выпаривать соль в чренах, подручным же внушал, будто знает великий секрет, который нелегко постичь, и для отвода глаз поручал им множество ненужных дел, пока не разгадали его хитрость. На следующий год послали его на Мыс Энн, и чрены установлены были там, где ловили рыбу; но он еще до конца лета спалил помещение, и огонь так был силен, что испортил чрены, во всяком случае, часть их; на том и кончилось это убыточное предприятие. Третьим примечательным лицом (упоминавшимся в письмах) был присланный сюда священник по имени м-р Джон Лайфорд; о нем и о делах его должен я рассказать подробнее, хотя и тут постараюсь быть сколько возможно кратким. Впервые сойдя на берег, человек этот приветствовал всех с почтительностью и смирением, какие редко доводится видеть; и столь раболепно кланялся, что всех поверг в смущение; и готов был целовать всем руки, если бы допустили это[48]; и проливал слезы, благословлял бога, что привел его всех нас увидеть; и восторгался всем, что было здесь сделано, и т. д.; словом, весь был любовь и смирение. А между тем все это время (если судить по дальнейшим его поступкам) подобен был тому, о ком сказано в Псалтыре, 10,10: «…сгибается, прилегает — и бедные падают в сильные когти его». Или же подобен коварному Ишмаилу, который, убив Годолию, с плачем вышел навстречу тем, кто шел с дарами и диваном в руках для принесения их в дом господень; и говорил: идите к Годолии, а сам готовился убить их[49]. Мы приняли его (в простоте души) как могли лучше, положили ему из общих наших запасов более обильный рацион, чем кому-либо другому; и как губернатор обо всех важных делах имел обыкновение совещаться со старейшиной — м-ром Брюстером (вместе с помощниками его), так теперь стали призывать и Лайфорда на все важнейшие совещания. Вскоре изъявил он желание вступить в здешнюю церковную общину и был в нее принят. Он пространно изложил свой символ веры, признал, что вел прежде беспорядочную жизнь, что множество грехов отягощает его совесть, и благословил бога за возможность свободно и в чистоте исповедовать учение его среди избранного им народа; и многое подобное. Здесь должен я упомянуть также м-ра Джона Олдома, соучастника в дальнейших его делах. Этот был зачинщиком прежней смуты среди особно хозяйствующих и доносчиком, писавшим в Англию. Теперь же, когда прибыл корабль с обильными припасами, он покаялся некоторым из главных поселенцев и признался, что вредил им словом и делом и в письмах своих в Англию; а ныне увидел, что с ними бог и благословение его, сокрушился сердцем и ни в чем более не будет орудием тех, что в Англии; прошлое просил он предать забвению и считать его во всех делах преданным другом; и многое еще в таком роде. Было ли то лицемерием или внезапными укорами совести (как склонен я думать), одному богу ведомо. Ему тотчас выказаны были дружеские чувства и полное доверие; как и того, другого, стали его звать на совещания обо всех важнейших делах. Все теперь, казалось бы, шло гладко, к общей немалой радости; но длилось это недолго, ибо оба они, и Олдом и священник, оказались негодяями и величайшее проявили коварство, вовлекая в козни свои кого только могли; будь то последние из нечестивцев, они и тех обхаживали и лелеяли, лишь бы стояли за них и высказывались против здешней общины; и пошли у них тайные сходки и перешептывания; а питали они себя и других слухами о том, чего добьются в Англии стараниями тамошних друзей своих; увлекая себя и других этими пустыми мечтаниями. Как ни таились они, многое из слов и дел их стало известно, хотя видимость ими еще соблюдалась. Когда корабль готов был в обратный путь, заметили, что Лайфорд усердно писал письма, а ближайшим дружкам своим сообщал нечто, от чего они смеялись в кулак, и полагал, что хорошо выполнил их поручение. Губернатор и некоторые друзья его, зная, как обстояли дела в Англии и сколько могло произойти вреда, сели в шлюпку, 1–2 лье следовали за кораблем и потребовали все письма Лайфорда и Олдома. Капитан корабля, м-р Уильям Пирс (хорошо знавший злые козни в Англии и здесь), оказал им всяческое содействие. Обнаружено было более 20-ти писем Лайфорда, в том числе много пространных, полных клеветы и лживых обвинений, способных не только повредить делу, но и совершенно его погубить. Большую часть писем они не взяли, а сняли только копии; но наиболее важные изъяли, заменив копиями, чтобы можно было, если станет отпираться, предъявить своеручно им написанное. Оказались там и копии двух писем, вложенные в письмо к священнику, м-ру Пембертону, ярому нашему противнику. А письма, с коих Лайфорд эти копии снял, писаны были: одно м-ру Брюстеру от некоего английского джентльмена, второе м-ру Робинсону в Голландию от м-ра Уинслоу, писанное, когда корабль их стоял в Грейвзенде. Запечатанные письма лежали там в главной каюте, и хитрец (пока м-р Уинслоу занят был делами корабля) вскрыл их, снял копии и запечатал снова; а теперь не только посылал их своему другу, а нашему недругу, но еще добавил на полях множество непристойных и издевательских замечаний. Под вечер корабль отправился далее, а к ночи губернатор возвратился. Виновные несколько опешили, но когда прошли недели и все было тихо, они снова оживились, думая, что ничего о них не известно, что все сошло благополучно, а губернатор для того лишь догонял корабль, чтобы отправить собственные письма. Губернатор и другие не спешили с обличением, желая, чтобы заговор вполне созрел и легче было обнаружить всех их приверженцев и истинные намерения. А более потому, что среди писем оказалось письмо одного такого приспешника, сообщавшее, что м-р Олдом и м-р Лайфорд замышляли перемены в церковной общине и в поселении; едва уйдет корабль, как намеревались они объединиться, ввести таинства и т. д. Что до Олдома, то от него писем почти не было (в этом был он столь неискусен, что написанное им едва можно было прочесть); зато в кознях был он замешан не менее того, другого. Почуяв теперь в себе довольно силы, они всюду искали поводов для ссоры. Олдом, когда назначили его (как положено) в дозор, идти отказался, побранился с капитаном, обозвал его мерзавцем и нищебродом, сопротивлялся и вынул нож, хотя никто ему не грозил, не обругал, а всего лишь учтиво предложили исполнить свою обязанность. Губернатор, услышав шум, послал людей навести порядок, а тот бесновался, уподобляясь более дикому зверю, чем человеку, называл всех предателями и мятежниками, а всю его грязную ругань стыдно и вспомнить; но когда подержали его взаперти, пришел в себя, и его, слегка наказав, отпустили, с тем чтобы впредь вел себя пристойно. Короче говоря, дело дошло до того, что Лайфорд с сообщниками своими, ни словом не обмолвясь о том губернатору, общине или старейшине, отделились и в воскресный день созвали собственное собрание; а к этому добавили другие дерзкие выходки, о которых рассказывать было бы слишком долго; словом, стали открыто творить то, что втайне давно уже замышляли. Пора было (для предотвращения дальнейших бед) призвать их к ответу. Губернатор назначил суд и предписал всем им явиться. Тут объявили Лайфорду и Олдому все их вины. Они, однако, упорствовали, почти все отрицали и требовали доказательств. Сравнили тогда письма из Англии с тем, что творили здесь обвиняемые; и стало очевидно, что здешние вместе с теми замышляли против поселения и нарушали покой как церковной общины, так и поселения, что весьма им вредило; ибо им, как и всему миру, известно было, что поселенцы прибыли сюда ради свободы совести и свободного исповедания слова божьего; а для этого подвергали опасности жизнь свою, испытали множество лишений и вместе с друзьями своими взяли на себя расходы на первое устроение, а были они немалые. И что за их же счет приехал сюда Лайфорд, от них он, со всей большой семьею, получал содержание, ими принят был в общину; и большим коварством было замышлять против них и готовить им гибель. Что до Олдома и других, прибывших за собственный счет, то и они были приветливо встречены, когда попросили приюта и защиты, не умея еще стоять на собственных ногах; как Еж (из басни), которого Кролик милосердно приютил в ненастный день в своей норе, а он, не довольствуясь этим, острыми иглами своими вытеснил бедного Кролика из собственной его норы; так и эти люди столь же бессовестно хотели поступить с приютившими их. Лайфорд отрицал, что как-либо сносился с теми, что в Англии, или знал о тамошних делах; отверг он и другие обвинения. Тогда предъявили его письма, а некоторые из них прочли, и тут лишился он дара речи. А Олдом пришел в ярость оттого, что письма его были вскрыты и прочитаны, принялся угрожать в выражениях весьма сильных, дерзко встал и обратился к собравшимся, говоря: «Судари мои, где же ваша решимость? Вот когда надо проявить ее; не вы ли часто жаловались мне на то или другое? Время пришло, действуйте, а я с вами и т. д.». Он надеялся, что каждый, кто (зная нрав его) поддакивал ему, или льстил, или выказывал при нем свое недовольство чем-либо, подымет теперь вместе с ним открытый мятеж. Но он ошибся, ибо никто и рта не раскрыл; все молчали, пораженные обнаруженным коварством. Тогда губернатор, обратясь к м-ру Лайфорду, спросил, считает ли он, что они поступили дурно, вскрыв его письма; но тот молчал и не сказал ни слова, отлично зная, что могут ему ответить. Губернатор показал собравшимся, что сделал это как должностное лицо; к тому обязывала его должность ради предотвращения беды, какую эти заговоры навлекли бы на несчастное поселение. А заговорщик, кроме этого злого дела, коварно поступил и с друзьями, доверявшими ему; выкрал их письма, вскрыл и снял копии, которые послал своим приятелям в Англию, с гнусными приписками. Тут губернатор предъявил эти письма и другие, своеручно писанные (и этого он отрицать не мог), и велел прочесть их во всеуслышание; тут все дружки его смутились, и сказать им было нечего. Письма эти при мне, но приводить их здесь было бы слишком долго и скучно (их хватило бы почти на целый том). Приведу лишь главное, что можно из них извлечь, вместе с ответами, которые были тогда же на них даны; но и из этого лишь немногое, для примера, чтобы можно было судить об остальном. 1. Во-первых, говорит он, община никого сюда не допускает, кроме своих. 2-е. Да никто и не хотел бы тут жить, если бы было с кем поселиться в другом месте. О т в.: Утверждение это лживо в обеих своих частях; ибо любой честный человек будет здесь желанным, если ведет себя мирно, стремится к общему благу или хотя бы не чинит вреда. И многие не хотят жить нигде больше, если могут жить здесь. 2. Что если приезжают честные люди, к сепаратистам не принадлежащие, от них тотчас отвращаются. О т в.: И это также клевета, ибо многих таких здесь приняли и соседством их довольны; так же готовы встретить и других подобных. 3. Что он подвергся гонениям за приверженность 2-м правилам, какие извлек из 2-й Книги Самуила, 12, 7. Во-первых, что пасторам надлежит порою применять поучения свои к отдельным лицам; 2-е, что порицать можно и важных особ. О т в.: Здесь также нет и тени правды (как было ему доказано), ибо в это верили мы и этому учили задолго до того, как узнали м-ра Лайфорда. 4. Что поселенцы хотят разорения и гибели тех, кто хозяйствует особно, и это видно из того, что никому из поселения не дают у них покупать или продавать им что-либо, а также меняться. О т в.: Это злобная клевета, где нет и капли правды, как было ему принародно доказано; ибо любой из поселенцев и покупал, и продавал, и менялся с ними всякий раз, когда был к тому случай. Им даже ссужали и давали, когда они в том нуждались; не отрицали этого и сами хозяйствующие особно и на суде открыто подтвердили. Дело обстояло гораздо хуже, ибо Лайфорд участвовал в совещаниях. И когда некоего человека вызвали туда и допросили, ибо он получил порох и сухари от пушкаря малого корабля — а было это имущество компании, и покупку сунули ему ночью в окно, — а также купил соль у того, кто продавать ее не имел права, Лай-форд не только выгораживал его (а был это один из хозяйствующих особно), всячески приуменьшая вину его, но именно на этом основал злобное и лживое обвинение; раз не позволяли им покупать краденое, значит, замышляли их разорение и гибель. Славная же логика у духовного лица! 5. Еще писал он, будто людей отделяли на самостоятельное хозяйство, а потом морили голодом, лишая всяких средств к жизни. О т в.: На это ответили, что и тут он клевещет, ибо никого не отделяли, а делалось это по собственному их настоянию, которому приходилось уступать. За подтверждением обратились к самим этим людям. И те перед всеми собравшимися свидетельствовали против Лайфорда и говорили, что нет у них причин жаловаться на дурное обхождение. 6. Жаловался он также на несправедливый раздел; странно, писал он, что одним выдают на неделю 16 фунтов муки, а другим всего 4. И добавил (в насмешку), что у некоторых, как видно, рты и чрева гораздо против других поменьше. О т в.: Это и впрямь может показаться странным тем, кому пишет он в Англию и кто не знает тому причины; для него же самого и всех здешних странным быть не может, ибо они знают, в чем дело. Первые поселенцы вовсе ничего не получали, а жили на своем маисе. Те, что приехали на «Анне» в августе прошлого года и должны были 13 месяцев питаться тем, что привезли с собою, большую часть года получали муки и гороху сколько хватало; но незадолго перед жатвою, когда была уже у них рыба и поспевали фрукты, им давали всего по 4 фунта, ибо они могли и сами кое-что промыслить. А некоторым из тех, что прибыли последними, как-то: корабельному плотнику, пильщикам, солеварам и другим, кто постоянно занят был своим ремеслом и после тяжкого труда не имел времени что-либо добыть себе сверх своего содержания, выделили сперва по 16 фунтов, а потом, когда можно было наловить рыбы и добыть еще что-нибудь, давали им кому 14 и 12, а кому и 8, смотря по времени. И все же те, кто сеял и еще что-либо промышлял, а получал всего 4 фунта муки в неделю, жили лучше других, и это всем известно. Вспомним также, что Лайфорд и семья его всегда получали самое лучшее содержание.Джон Робинсон.Лейден, дек. 20-го, 1623.
Во многом еще обвинял он нас в письмах своих, и все преувеличивал; например, будто не берегли и губили утварь и рабочий инструмент; но и тут, когда надо было доказать это, мог вспомнить разве лишь 1–2 развалившиеся бочки да пару поломанных мотыг, оставленных кем-то на поле. И притом знал, что надзирать за этим особо приставлен надежный человек. Но все это писал он, лишь бы очернить нас и опозорить, надеясь, что словам священника всегда дадут веру. Еще сообщал он, будто Уинслоу говорил, что из пайщиков всего каких-нибудь 7 человек желают поселению добра. Что м-ру Олдому и ему туго здесь пришлось, а хитростью здешние поспорить могут с иезуитами. И много еще тяжких укоров и обвинений. 1. Далее дает он друзьям своим советы и наставления. Во-первых, чтобы лейденцев (м-ра Робинсона и остальных) и далее сюда не пускали, иначе, мол, испортят все задуманное. А чтобы кого из них (как можно опасаться), не перевезли в Англию не спросясь, надлежит сменить капитана корабля (м-ра Уильяма Пирса), да и м-ра Уинслоу, который ведает погрузкой, тоже кем-нибудь заменить, иначе этому не помешать. 2. Во-вторых, надобно побольше присылать таких людей, чтобы пересилили здешних. И для всех особно хозяйствующих добиваться права голоса на всех собраниях и на выборах, а также права занимать любую должность. И чтобы каждый из таких, будь то даже работник, ехал под видом пайщика; пусть кто-либо другой внесет 10 фунтов; счет можно выписать на имя работника, а затем передать лицу, внесшему деньги, и заключить между ними соглашение по части расчетов; это (говорит он) еще более укрепило бы их сторонников. 3. Еще пишет он, что если капитан, о котором была у них речь, приедет как поселенец, его наверняка изберут военным начальником; ибо капитан Стэндиш всего лишь глупый юнец и его ни во что не ставят. 4. Указывает он также, что если всеми перечисленными средствами не удастся им одолеть и все повернуть по-своему, то лучше поселиться отдельно и выговорить себе право выбрать место по душе, милях в 3-х или 4-х, ибо много есть мест для поселения куда лучше здешнего. 5. В заключение говорит он, что если не прибудет довольно людей, чтобы держать их сторону, то им не дадут житья, и придется тогда присоединиться к здешним. И добавляет: «Когда начал я писать, пришли от вас письма, которые здешнего губернатора наделяют всеми правами; если это свершится, ve nobis[50]. Надеюсь, однако, что впредь будете вы бдительны и подобного не допустите. Полагаю (говорит он), что м-р Олдом пишет вам подробнее. А меня прошу не выдавать и т. д.».
Изложив вкратце главное, что было в письмах, вернусь к тому, как поступили с автором их. Когда письма были прочитаны перед всеми собравшимися, его спросили, что может он сказать. Но он мог только ответить, что многое сообщали ему Биллингтон и некоторые другие и на многое жаловались, а теперь отпираются. Его спросили, достаточно ли этого, чтобы обвинять и шельмовать в письмах людей, с коими связан он тесными узами, а им не сказать ни слова. Разбирая по порядку каждое обвинение, просили, чтобы он, его друзья и единомышленники никого не щадили; и если имеют доказательства или свидетелей каких-либо порочных и злых деяний здешних, чтобы заявили о них тут же, благо собралось все поселение, а также немало посторонних. Он ответил, что сам введен был в заблуждение (как теперь убедился), потому и сбивал с толку других. Вот и весь ответ, какого от него добились, и никто его сторону не принял; а Биллингтон и прочие, кого назвал он, все отрицали и заявили, что он их оболгал, что силился втянуть их то в одно, то в другое, да только они не соглашались, хотя на собрания свои ему иной раз удавалось их зазвать. Стали затем разбирать его обман касательно устройства церкви: и как заверял он, будто во всем он с нами одних мыслей, и какой, в день приезда своего, изложил символ веры и заявил, что не почитает себя священником, пока не посвятили его заново, и т. д. А теперь вступил с нами в борьбу, откололся и других увлек за собой; и намеревался (будучи посвящен епископом) совершать таинства, ни словом не уведомив нас ни как должностных лиц, ни как братьев своих. Кончилось тем, что он во всем был уличен, залился слезами и признал себя «закоснелым в грехах, а грехи свои столь тяжкими, что едва ли будет ему от бога прощение, что исполнен всякой скверны и т. д. и столько причинил зла, что искупить его невозможно; что всё против нас написанное было ложью и по словам и по сути». И всё это говорил он пространно и с обильными слезами. После суда обоих приговорили к изгнанию из поселения; Олдому велели удалиться немедленно, однако жене его и детям дозволили остаться на зиму или дольше, пока не обоснуется он на новом месте. Лайфорду позволили оставаться еще 6 месяцев. Это означало, что его могут помиловать, если все это время будет вести себя хорошо и раскаяние его окажется искренним. Лайфорд признал, что наказание было куда меньше, чем он заслуживал. Затем покаялся он всенародно в церкви, пролив еще больше слез. Вот это покаяние, записанное слышавшими его очевидцами. Он признал, «что поступал очень дурно, что чернил и клеветал, надеясь, что большинство за ним пойдет и ему удастся силой одержать верх». И что на совести его могла быть кровь невинных, ибо неведомо, какие беды произошли бы от его писаний, и слава богу, что они перехвачены. Что он неустанно собирал всё, что говорилось дурного, но закрывал глаза и уши, дабы не видеть и не слышать хорошего; и если бог судил ему скитаться, подобно Каину, то это будет справедливо, ибо он так же грешил завистью и злобой против братьев своих. И признал, что причиною его поступков были 3 вещи: гордость, тщеславие и себялюбие. И много еще к этому добавил с великим сокрушением. И вот о нем снова стали думать хорошее, видя такое раскаяние; а диакон Сэмюел Фуллер и другие мягкосердечные люди так были его раскаянием и сокрушением тронуты, что готовы были на коленях испрашивать ему помилование. Но всего более поразило нас и должно поразить всех, кому станет это известно (ибо редко случается наблюдать подобное), что месяц или 2 спустя, несмотря на все признания и покаяние в присутствии церковной общины и всех жителей, все слезы и самобичевание перед лицом бога и людей, снова принялся он оправдывать свои поступки. Ибо он втайне написал 2-е письмо в Англию к пайщикам, подтверждая все прежде им написанное (кроме некоторых вещей, которые могли быть для них неблагоприятны); письмо это, поскольку оно короче первого, я здесь приведу.
Достойные государи мои, хотя мерзость дел моих следует бросить мне в лицо, дабы я, устыдясь, навсегда умолк, решился я еще раз к вам писать, дабы не повредить истине, а вы не пребывали в заблуждении и неправедные дела не вершились и далее с великой наглостью. Признаю прежде всего, что изрядную проявлял нескромность в некоторых личных письмах своих к друзьям касательно приезда сюда и тому подобного; отнюдь не пытаюсь оправдываться, хотя побудило меня к тому коварство иных людей, как здесь, так и у вас, преследующих собственные цели. Однако душевно раскаиваюсь и вину свою признаю, во славу божию и к моему посрамлению. Письма мои были перехвачены губернатором, и за них приговорен я к изгнанию. Если бы не уважение, которое к вам питаю, и некоторые личные причины, я возвратился бы в Англию на пинассе; ибо не намерен здесь оставаться, если не получу от вас лучшего вознаграждения, чем имею от церкви (как они себя именуют). Отъезжая сюда, готовился я терпеть лишения, а потому бодро стану переносить здешние условия, хотя они поистине жалкие; а жалованье меняли уже раз десять. Полагаю, что письма мои или хотя бы списки с них до вас дошли, ибо так здесь говорят; а если дошли, то прошу заметить, что писал я одну лишь истинную правду и мог бы доказать это любым нелицеприятным людям, сколько бы ни старались всё затемнить, что некоторые и делают здесь весьма дерзко; да и многое другое находится здесь в большом беспорядке. Не хотел я далее распространяться, если бы многие бедные души, о коих забота лежит отчасти и на вас, не были лишены средств к спасению. Ибо церковь существует здесь для тех, кто составляет лишь малую часть поселенцев, но пастырство присвоили они себе, утверждая, будто господь не назначил никаких священников для обращения тех, кто оказался за оградой, так что иные из этих несчастных слезно мне жаловались; я же обвинен был в том, что проповедую для всех. А по правде сказать, здесь с самого их приезда богослужений не было, кроме разве таких, какие любой из вас мог бы совершить, сколько бы они ни утверждали обратное; но они и тут лукавят, как во многом другом. Не стану переходить границы, какие себе поставил, и на этом кончаю, пока не будет вестей от вас, если поспеют они в отведенное мне время, и остаюсь неизменно вашНа некоторые пункты этого письма дали мы краткие ответы, но более на прежние его письма. Вот главное, что было сказано: что если бы божественный промысел не дал нам в руки эти письма (как прежние, так и последнее), были бы мы обмануты, преданы, оклеветаны и погублены, так и не узнав, кем и за какие вины. И одного только желаем по справедливости: чтобы выслушали наши правдивые слова в защиту свою, а не одни лишь его обвинения, и взвесили их на весах справедливости и разума, а тогда уж осуждали. Мы уже ответили вкратце на все пункты обвинения и готовы в любое время ответить подробнее; а касательно последнего письма да будет нам позволено несколько слов добавить. 1. Хотелось бы знать, что за мерзость следует, как сам он признает, бросить в лицо ему, вынуждая устыдиться и умолкнуть; видно, вещь немаловажную! А потом оказывается, что это всего лишь нескромность; однако оправдывается он тем, что побудило его к этому коварство здешних людей. Но здесь это-то как раз его не смущало; и сам он, и приятели его сочли это за пустяк; это, мол, каждый мог бы: советовать друзьям, как им выгоднее сюда ехать. Он сокрушался и рыдал над злом и обидою, какие причинил нам, а вовсе не над той, какая якобы нанесена вам; это почел он всего лишь нескромностью. 2. Оправдавшись таким образом перед вами, он полагает, что тем больше можно свалить на нас. И прежде всего жалуется, что ему десять раз меняли размер его жалованья. А мы и не договаривались с ним о жалованье, да и вообще ни о чем, а был ли у него какой договор с вами, нам неизвестно. Вы послали его сюда наставником и просили ласково с ним обойтись; а более ничего. Что с ним хорошо обошлись (куда лучше, нежели он заслуживает), о том скажем мы собственными его словами. Если угодно вам заглянуть в то из его писаний, которое называет он общим отчетом и где он также нас оболгал, вы увидите, что в этом он нас не винит. В конце отчета сказано так: «Это говорю я (так он пишет) не по злобе на здешних людей, ибо обошлись со мною весьма ласково». Таковы слова, написанные собственной его рукою. 2-е. Там же можно видеть, что все время получал он для себя и семьи своей больше провизии из общих запасов, чем кто-либо; а также одежды сколько было надобно; жилище отвели ему в одном из лучших домов наших и дали особого человека для услуг. Судите же, имел ли он причины жаловаться; а что хочет он сказать в своей речи, не знаем; разве что намекает на Иакова и Лавана. А если вы сулили ему больше или нечто иное, можете ему это предоставить. 3. Он имеет наглость заявлять вам, будто (в письмах своих) писал одну лишь истинную правду и может доказать это любым нелицеприятным людям. Подобная лживость и закоренелая порочность поражает и заставляет содрогнуться; вот поистине надругательство над вещами священными. Поразительно, что после всенародного покаяния и признания вины своей на суде и в церкви, перед богом и людьми, после сокрушенных речей и слез он снова во всем оправдывается. Если бы еще все свершалось скрытно, можно было бы отрицать; но когда делалось оно у всех на виду, более чем странно обещать оправдаться перед любыми нелицеприятными людьми; и это здесь, где все и происходило и можно было приводить какие угодно доказательства; однако он ничего этого не сумел, и даже друзья осудили его и требовали наказать, столь явными были его вины; судите же обо всем сами. Но чтобы человек этот не торжествовал в неправде своей, мы готовы ответить ему, когда и где вы пожелаете, на любое его обвинение, хотя и так уже отвечали достаточно. 4. Еще говорит он, что не стал бы распространяться, если бы не было здесь бедных душ, лишенных средств к спасению, и т. д. Но старается он лишь о том, чтобы вы похлопотали о снятии с него вины, и он мог бы далее здесь подвизаться; и чтобы хоть вы постояли за него, пока не выяснится, что могут для него друзья (на которых он надеется). Ибо подобные люди много говорят о бедных душах, но заботит их лишь жалованье и условия; и если таковые им не подходят, пусть бедные души делают что хотят; а они устроятся иначе и поищут бедных душ там, где побогаче тела. Далее ополчается он на нашу церковную общину; вот где у него самое больное место. И прежде всего на то, что, по нашему мнению, господь не указал священникам обращать тех, кто вне общины. А церкви нашей стыдиться тут нечего, ибо в этом следует она слову божьему; священники поставлены блюстителями, пасти церковь господа и бога (Деяния Апост., 20, 28) и не должны покидать их, оставляя на растерзание лютым волкам. Но и здесь, как и в другом, извращает он истину, ибо господь определил им также и обращать, как и пасти обращенных; и говорить иначе значит клеветать на церковь. Еще уверяет он, будто порицали его, зачем проповедовал для всех без разбору. Это ложь, ибо лицемеру известно, что каждый воскресный день посылаем мы кого-нибудь посетить подозреваемых в нерадении, и если кто праздно проводит время и (по лености или неверию) не идет внимать слову божию, бывает за то наказан. Созывать всех к проповеди, а потом порицать за то, что проповедует он всем, могли бы разве умалишенные. 6. Еще (говорит он) будто после приезда сюда не было богослужений, хоть мы этим и похваляемся, и т. д. На это мы отвечаем: тем больше наша обида, что происками этих людей не пускают к нам нашего пастора, а потом нас же в том укоряют. Впрочем, мы не вовсе лишены были средств к спасению, как хочет уверить всех этот человек; ибо почтенный наш старейшина еще до приезда сюда прилежно учил слову божьему; а здесь столь же усердно его проповедовал; и скажем не хвалясь, что он не уступает м-ру Лайфорду (да и некоторым получше его) ни дарованиями, ни ученостью, хоть и не соглашается занять должность более высокую. И никогда мы ничем большим не похвалялись. А упрек в лукавстве может обратить к себе самому; чего придерживается наша церковная община, о том говорилось открыто, как в публичных заявлениях, в учении, так и письменно. Такова была суть ответов наших, и на том я покамест кончу. И без того уж говорил я об этом подробнее, нежели того желал, хотя и менее подробно, чем, может, следовало, ибо о многом умолчал, а многое другое заслуживало большего внимания. Вернусь к иным событиям, а об этих доскажу в свое время. Как уже говорилось, пинасса лежала на дне вблизи бухты Дамарине, но капитаны рыбачьих судов решили, что жаль бросать такое хорошее судно, и послали сказать поселенцам, что если примут они участие в расходах, то им покажут, как поднять его, и пришлют своих плотников, чтобы починить. Мы поблагодарили и послали людей, а также бобровых шкур в уплату (иначе ничего не вышло бы). Нашли также бочаров и не знаю уж сколько бочек; закупорив их и прикрепив к пинассе во время отлива, ее подняли на воду; а там, с помощью многих рук вытащили на берег в удобном месте, где можно было ее чинить; а для этого наняли нескольких плотников и еще одного, чтобы напилить досок; привели ее в исправность и отправили домой. Но обошлось это очень дорого, как подъем, так и оснастка, а паруса покупали ей теперь и прежде, до того как лишилась она мачты; так что всё оказалось для бедного поселения чересчур накладно. Вот и отправили ее домой, а с нею послал Лайфорд последнее свое письмо, в большой тайности; однако тот, кому было оно поручено, отдал его губернатору. Зима прошла в обычных делах, без каких-либо событий, достойных упоминания; разве что многие, ранее сторонившиеся церкви, увидев неправедные поступки Лайфорда и злобные нападки его на церковную общину{56}, теперь в нее вступили; и заверяли, что столь долго держались в стороне не потому, чтобы им не нравилось, но из желания сделаться более достойными; а теперь увидели, что господь призывает их и помощь их нужна. Таким образом, смута имела следствия, обратные тому, на что уповали противники. И это сочтено было великим делом господним, что удалось привлечь людей способом столь необычным, и притом тогда, когда скорее могли они отстраниться. Тем и закончу я повествование об этом годе.Джон Лайфорд, изгнанник.Авг. 22-го, 1624.
ANNO DOM. 1625
Весною, перед выборами, снова появился Олдом; хотя ему, в наказание за бунт и бесчинства, запрещено было возвращаться без дозволения, он осмелился сделать это не спросясь, побуждаемый дурными советами. Более того, в дерзости своей преступил границы всякого разума и пристойности; так что пришедшие с ним посторонние устыдились его безобразного поведения и стали ему выговаривать; однако укоры лишь подливали масла в огонь и разжигали его неистовость. Он яростно всех поносил, называл бунтовщиками, предателями и не знаю уж как еще. Его заперли, чтобы утих, а затем прогнали сквозь строй мушкетеров, из которых каждому велено было ударить его по заду прикладом мушкета; после этого отвели его на берег, где ожидала лодка, готовая его увезти. Ему велели уезжать и исправиться. В это самое время шли с берега м-р Уильям Пирс и м-р Уинслоу, прибывшие из Англии; но все так были заняты Олдомом, что не заметили их, пока те с ними не поравнялись. Они велели не церемониться ни с ним, ни с Лайфордом, оказавшимися такими негодяями. А чтобы с ним покончить, расскажу сейчас кратко обо всем, что произошло с ним далее. После того как увез он отсюда свою семью, он впал (как и некоторые другие) в крайнюю нужду, а примерно год спустя задумал ехать в Виргинию; однако по воле божией судно, везшее его и много других пассажиров, в такой оказалось опасности, что не чаяли они спастись; и многие стали молиться и каяться в грехах, наиболее тяготивших их совесть. А м-р Олдом со многими подробностями каялся в зле, какое причинил здешним людям и церкви их; и как замышлял он погубить их, так теперь господь шлет гибель ему самому; он полагал, что и спутники подверглись опасности из-за него; он вымаливал у бога прощение и давал обеты, если спасется, сделаться другим человеком. Это слышал я от заслуживающих доверия людей, доныне живущих на берегу залива, а тогда оказавшихся вместе с ним среди опасных мелей Мыса Код; все это слышали они собственными ушами. Богу угодно было сохранить их, хоть и потеряли они имущество; а Олдом после того вел себя с поселенцами порядочно, признал, что на них почиет благодать божия, и оказывал им уважение; и настолько с ним примирились, что он получил дозволение приезжать и общаться с нами. Он все же поехал в Виргинию, тяжко захворал там, но оправился, вернулся на залив, к семье, и там жил, пока не прибыло из-за океана еще множество людей. Наконец отправился он торговать с индейцами на небольшом судне с малочисленной командой и во время ссоры получил удар боевым топором по голове, от которого упал мертвым, не произнеся ни слова. Два мальчика, родичи его, уцелели, хотя были ранены, а судно чудом удалось вызволить одному из жителей поселения на заливе; и гибель Олдома стала одной из причин начавшейся вскоре войны с пекотами. Скажу теперь о м-ре Лайфорде. Данная ему отсрочка истекла, и его ожидало изгнание. Он не оправдал надежд на его исправление, а, напротив, еще больше творил зла. Но божий суд настиг его, и сбылись слова псалмопевца, Псалмы 7, 15. Рыл ров, и выкопал его, и упал в яму, которую приготовил. Думая навлечь позор на поселенцев, обнаружил он перед целым светом свой собственный, Когда осуждали его за второе письмо, жена его так была удручена его поступками, что не могла долее скрывать свое сокрушение и открылась одному из диаконов и некоторым друзьям своим, а также м-ру Пирсу, когда тот приехал. Ибо боялась суда божиего над их семьей и над нею за грехи ее мужа; теперь, когда предстояло им уйти из поселения, она боялась попасть в руки индейцев и быть обесчещенной, как сам он бесчестил других женщин; или что постигнет их кара, какою грозил бог Давиду. II Сам., 12, 11. Я воздвигну на тебя зло из дома твоего, и возьму жен твоих перед глазами твоими и отдам их и т. д. И поведала, какие терпела от него обиды; что имел он, прежде чем на ней женился, внебрачного ребенка; и когда был женихом, она, прослышав о его распутстве, хотела ему отказать; но так как были то лишь смутные слухи, он не просто отперся, но и торжественно поклялся, что ничего подобного нет. Тогда согласилась она за него пойти; а после все оказалось правдой, и внебрачного ребенка привели к ним в дом. Тут напомнила она ему о клятве, но он умолял простить его, ибо иначе не получил бы ее в жены. А потом не было у нее служанки, которой он бы не домогался; и ей случалось заставать их в постели, и еще были тут подробности, которые стыжусь приводить. Жена его была почтенная женщина и скромно вела себя все время, пока была здесь, а рассказывала это с сердечным сокрушением и как бы нехотя, а видно, что могла бы поведать еще многое. Что, по-видимому, крушило ее всего более, так это его раскаяние, и не только теперь, перед общиною, но и прежде, когда он каялся ей со слезами и трогательными словами, после чего все начиналось сызнова. С этим совпали другие события того же рода. Когда прибыли м-р Уинслоу и м-р Пирс, м-р Уинслоу сообщил, что были у них такие же стычки с тамошними друзьями Лайфорда, какие имели мы со здешними его друзьями касательно писем его и содержащихся там обвинений. Тамошние друзья его не раз собирались и много шумели о том, что нельзя этак порочить священника, человека благочестивого, и грозились подать в суд. Решение этого дела постановили перенести в общее собрание пайщиков, а посредниками избрать 2-х именитых людей. Сторонники Лайфорда избрали м-ра Уайта, адвоката; другая сторона избрала священника, преподобного м-ра Хукера. От обеих сторон явилось множество людей, так что собрание было многолюдным. Между тем богу угодно было, чтобы дурные дела Лайфорда, еще в бытность его в Ирландии, оказались известны некоторым из присутствующих; а они сообщили об этом м-ру Уинслоу, сославшись на 2-х благочестивых и почтенных свидетелей, готовых (если понадобится) всё подтвердить под присягою. А дело было вот в чем: прибыв в Ирландию, Лайфорд вошел в доверие к нескольким благочестивым и ревностным людям, которые, тяготясь обрядностью в Англии, нашли там несколько больше свободы для своей совести; в числе их были и те двое, что вызвались теперь быть свидетелями. Среди слушавших его проповеди был благочестивый юношд, который задумал жениться и остановил выбор свой на одной тамошней девице; желая, однако, чтобы выбор его был угоден богу, и страх божий ставя превыше всего, решил он, прежде чем дать волю чувствам, просить у м-ра Лайфорда (своего пастора) совета и суждения о девице; тот обещал ему дать верные сведения, а чтобы лучше узнать девицу, побеседовать с нею наедине, что он и сделал, и не однажды; после чего горячо хвалил ее молодому человеку как самую подходящую для него жену. Брак был заключен; но женщина стала вскоре терзаться укорами совести, не переставая плакала, и муж долго не мог дознаться у нее причины ее скорби. Наконец она все же открылась ему и умоляла ее простить; оказалось, что Лайфорд одолел ее и осквернил до брака тело ее, когда предложил ей в мужья себя самого и получил согласие. Подробности приводить не стану, дабы не оскорбить целомудренный слух (ибо хотя утолил он свою похоть, но зачатие постарался предотвратить). Когда это, открылось, муж женщины созвал честных друзей, чтобы расправиться с Лайфордом. Тот во всем сознался, выказав сожаление и раскаяние, однако Ирландию пришлось ему покинуть; а когда прибыл он в Англию, то был, к неучастью, выбран и послан сюда. На том многолюдном собрании, когда в присутствии посредников разбирали дело с письмами, м-р Уинслоу, отвечая кому-то из сторонников Лайфорда, сгоряча назвал его поведение подлым; тут один из заступников, призывая всех собравшихся в свидетели того, как проповедник слова божьего назван подлецом, пригрозил подать в суд; поднялся шум, и тогда (короче говоря) обнаружилось и другое дело; выступили свидетели; особы их были столь почтенны, улики столь явны, а содеянное столь гнусно, хоть и описано было в словах скромных и целомудренных, что все заступники умолкли и устыдились; а посредники со всей серьезностью заявили, что и первого, в чем обвиняли его, было довольно, чтобы изгнать его и поступить с ним именно так, как сделали это поселенцы; но последнее лишает его священнического сана, как бы ни стал он каяться; и, продолжая в том же роде, велели заступникам его умолкнуть. Тем дело и окончилось. Отсюда Лайфорд с несколькими приятелями отправился в Натаско, что на заливе Массачусетс; там жил и Олдом. Затем перебрался он в Намкек, называемый теперь Салемом{57}; но когда там поселились некоторые из новоприбывших, он покинул приятелей своих и то ли в надежде на большие выгоды, то ли еще почему, направился в Виргинию, где вскоре умер, так что пусть судит его господь. Жена его вернулась в здешние края; вот и все об этом деле. Итак, буря пронеслась, оставив, однако,некоторые печальные следствия; ибо компания пайщиков после того распалась и большая их часть отступилась совершенно от поселения, от снабжения его и других о нем забот. Кроме того, некоторые друзья Лайфорда и Олдома и сторонники их за свой счет отправили на рыбный лов корабль и, обогнав суда, шедшие в поселение, захватили их помост и другие дорогостоящие приспособления, приготовленные за год до того для лова на Мысе Энн, и вернуть их можно было только с бою. Губернатор послал нескольких поселенцев помочь рыбакам соорудить новый помост, а старый остался у тех. Тот же корабль доставил немного припасов, не бог весть каких; но рыбачили они так неудачно (да и нечем было рассчитаться за припасы), что больше этим уже не занимались. С тем же кораблем некоторые из пайщиков (от имени остальных) прислали изъяснение причин, побудивших их отступиться от поселения; однако предлагали, на известных условиях, восстановить свой союз с нами. Перечислять условия эти было бы долго и скучно, да и касаются они предметов уже упоминавшихся; поэтому я опускаю их и приведу лишь один-два примера. 1. Поселенцы обвинялись в том, что в петиции к его величеству и когда договаривались с пайщиками, слукавили насчет французской церковной дисциплины{58} и др. 2-е в том, что приняли в свою церковную общину человека[51], в своем символе веры отрекшегося от всех церквей, общих, национальных и епархиальных и т. д.; и показали тем самым, что, отвергая название браунистов{59}, на деле таковыми являются и т. д. А помогать таким людям значило бы грешить перед богом. К этому добавляли: таковы причины нашего неудовольствия, и чтобы далее иметь с вами дело, в согласии и доверии, нам желательно следующее: во-первых, чтобы быть нам компаньонами не в одной лишь торговле, но и в управлении поселением, ибо патент и на это дает нам права и т. д. 2. Чтобы французскую дисциплину ввели в поселении и по форме, и по сути; дабы покончить с позорным названием браунистов и другими церковными разногласиями. 3. И, наконец, чтобы м-р Робинсон и друзья его не приезжали в поселение, пока все они не присоединятся к нашей церковной общине, подписав отречение. Ответ на это гласил между прочим следующее:Упреки ваши в том, будто мы слукавили перед его величеством и пайщиками насчет французской дисциплины, несправедливы; ибо мы придерживаемся дисциплины французской и других реформированных церквей (как она изложена в Гармонии Символов Веры) в меру наших сил, и по форме, и по сути. Однако, стараясь во всех случаях связать нас французской дисциплиною{60}, вы отступаете от свободы, какую имеем мы во Христе. Апостол Павел никому не велит следовать ему в чем-либо кроме того, в чем сам он следует Христу; тем менее должен это делать любой христианин или же церковь. Французы могут заблуждаться; можем заблуждаться и мы, и другие церкви; и так оно несомненно зачастую и бывает. Непогрешимо лишь слово божие и христово Евангелие; его и надлежит распространять и ему следовать, как единственному правилу и образцу всех церквей и всех христиан. И слишком это большая самонадеянность — любому человеку или церкви полагать, будто до конца постигли слово божие и могут, не ошибаясь ни в сути, ни в форме, утверждать церковную дисциплину так, чтобы всякому другому предосудительно было в чем-либо от нее отступить. И нетрудно показать, что реформированные церкви во многих подробностях меж собою различаются.Остальное я, ради краткости, опускаю и более к этим людям и делам их не вернусь; а вернусь к тем членам компании, которые оставались верны поселенцам. И прежде всего приведу некоторую часть их писем; ибо считаю, что лучше излагать их мысли собственными их словами.
Возлюбленным друзьям нашим и т. д. Хотя то, чего опасались мы, наступило, и беда, которую тщились мы отвратить, постигла нас, не можем мы забыть ни вас, ни дружбу нашу и товарищество, которое несколько лет нас связывало; и хотя выражали мы его недостаточно, сердечное расположение наше к вам (кого мы и в лицо не знаем) не меньше было, чем к ближайшим нашим друзьям и даже к себе самим. И хотя друг ваш м-р Уинслоу сам может поведать вам о здешних делах, мы, чтобы не показалось это небрежением к вам, с кем соединил нас промысел божий, сочли нужным еще раз к вам писать, дабы сообщить обо всем, что случилось и почему; а также о дальнейших наших желаниях и намерениях относительно вас. Прежняя компания распалась совершенно; и теперь мы с вами уже не компаньоны во всех сделках и предприятиях, но сами должны решать, как быть дальше, чтобы вам не губить жизней ваших, а нам — наших денег. Причины перемен этих были следующие. Прежде всего и более всего многие потери и убытки на море и мошенничество моряков, повлекшие за собою такие траты, долги и обязательства, что не можем мы вести дело далее и не разориться, ибо недостаточно для этого богаты, а компаньоны наши недостаточно надежны. 2-е. Вот уже 2 года как нет меж нами согласия, а ныне произошел полный разрыв, и две трети членов компании стоят за то, чтобы совершенно вас оставить и никаких не иметь с вами дел. И хотя мы убеждены, что главная тому причина — нехватка у них денег (а люди при этом разные ищут предлоги), но выставляются и другие причины, как, например, то, что вы браунисты и т. д. Следует подумать, как вам и нам надлежит к этому отнестись, ибо есть тут несомненно десница божия и некое знамение. И хотя сейчас и вам, и нам поправить все это уже нельзя, не поздно еще выказать терпение, мудрость и беспорочную честность, чтобы снести испытания и правильно поступать в будущем. Что до нас, то мы готовы воспользоваться любым случаем служить делу, которое столь много доброго обещает, и более склонны восхищаться тем, что сделано, нежели пенять на то, чего нет; а потому от вас одних зависит, чтобы все опять было по-хорошему. И если ничего другого нельзя вам поставить в заслугу, знайте, что заслуга ваша заключается в чистой совести, и оставайтесь столь же невинны посреди ваших испытаний и горестей. И если после таких перемен поведете вы себя мудро и достойно, как подобает людям, уповающим не на одну лишь земную жизнь, то не понадобится иного оружия, чтобы сразить противников ваших; ибо когда воссияет, подобно свету, праведность ваша, посрамлены будут те, кто беспричинно искал погибели вашей. Нам думается, что все общее имущество следует сохранить и ежедневно приумножать, не допуская его расточения или присвоения кем бы то ни было в собственных целях. А вам, после того как обеспечите себя необходимым, надлежит собрать все, что можно в ваших краях добыть, и прислать сюда для погашения здешних долгов и обязательств, каковые составляют не менее 1400 фунтов. И мы надеемся, что для уплаты по нашим обязательствам сделаете вы все возможное и т. д. Будем же все стараться вести дело честно и посмотрим, что принесет нам будущее и как вознаградит нас божественный промысел. Мы убеждены по-прежнему, что именно вам суждено основать поселение в далекой стране, где это никому другому не удавалось. Вы успели уже убедиться, что промысел божий над вами бодрствует, и надеемся поэтому, что не падете духом, хоть и оставили вас друзья (чего мы не сделаем, пока живы и пока сами вы поступаете по чести). А если бы и мы вас покинули, помощь пришла бы еще откуда-либо, раз уповаете вы на бога и идете путем праведным. А еще просим всех вас быть осмотрительными и так во всех делах ваших поступать, чтобы никто не мог вас ни в чем справедливо упрекнуть. И молим, да будет над вами милость божия, да ниспошлет вам господь радость и покой посреди невзгод, чтобы могли вы сказать, как Давид: отец мой и мать моя оставили меня, но господь примет меня. Мы отправили вам скот, а также сукна, чулок, башмаков, кожи и др., но иным манером, нежели прежде, ибо так нам удобнее; все товары поручили мы факторам нашим м-ру Эллертону и м-ру Уинслоу, чтобы по своему усмотрению вам их продали, взяв за них опять-таки товарами. И чем дороже они вам встанут, тем бережнее следует с ними обходиться и т. д. Бодритесь же, добрые друзья, во всех трудностях ваших будьте мужчинами, чтобы наперекор зложелательству и угрозам продолжать дело свое, не допуская к нему небрежения. А вершите вы его во славу божию и на благо соотечественникам; и лучше человеку отдать ему всю жизнь свою, чем дожить до мафусаиловых лет среди земель и плодов, другими возделанных и другими взращенных. Сердечно всех вас приветствуя и усердно за всех вас вознося молитвы, любовно с вами прощаемся. Верные друзья вашиИз письма этого видно, каковы были в ту пору дела поселения. Упомянутые товары были нами куплены, но по ценам весьма высоким, ибо с надбавкой в 40 процентов на прибыль и на риск; а чтобы оправдать риск обратного пути, накинули нам еще 30[52], то есть всего 70 процентов; это иные сочли ценой непомерно высокой и для бедных людей разорительной. Выгоднее всего оказался скот; ибо остальное было не лучшего качества (часть) и по ценам не самым подходящим. Многие друзья наши не одобрили столь высоких цен, но делать было нечего, ибо товары присланы были многими купцами. Присланы были также за собственный их счет 2 корабля для рыбной ловли; одним из них была пинасса, затонувшая здесь за год до того и (как уже говорилось) поднятая со дна поселенцами; когда она вернулась в Англию, один из пайщиков взял ее в уплату долга и теперь снова прислал, за свой счет. Второй корабль был большой и хорошо оснащенный, с опытным капитаном и командой из рыбаков, которые должны были затем доставить рыбу в Бильбао или Сан-Себастиан; меньшему судну приказано было нагрузиться соленой треской, а также доставить в Англию бобровые шкуры, полученные от поселения в уплату за доставленные товары. Большой корабль повез много отличной сушеной рыбы, за которую (таковы были тогдашние цены на эту рыбу) получили бы на рынке 1800 фунтов и могли бы обогатиться. Но прошел слух о войне с Францией, и капитан (испугавшись) не выполнил приказа и пошел сперва в Плимут, а затем в Портсмут, упустил случай и понес убытки. Меньшему кораблю также не было удачи, хоть и он надеялся принести купцам барыши; ибо его нагрузили по края отличной соленой треской, взятой на берегу; да сверх того было там 800 фунтов бобровых шкур и других мехов немалой ценности. Капитан, увидя столько груза, поместил его, безопасности ради, на большом корабле; а м-р Уинслоу (наш фактор в этом деле) под залог в 500 фунтов обязался отослать его в Лондон на малом судне; об этом у него с капитаном начались перекоры. Он сказал капитану, что полученный им приказ выполнит; и если тот переместит груз, то на свой страх. Так что груз отправлен был на малом судне, а накладные посланы с обоими. Капитан радовался столь обильной добыче; они отправились вместе, а погода так им благоприятствовала, что он вел малое судно на буксире всю дорогу, до самого Английского канала; но там, почти уже в виду Плимута, было оно захвачено турецким военным кораблем и отведено в Сале, где капитана и команду продали в рабство, а многие бобровые шкуры распродали по 4 пенса за штуку. Так погибли все их надежды, и радостные вести, которые везли они на родину, обернулись самыми печальными. Иные говорили, что бог покарал их за то, что чересчур много взяли с бедных поселенцев; но пути господни неисповедимы, и я о них судить не дерзаю; однако из этого видно, сколь неверны все предприятия человека и сколь мало у нас причин радоваться им или на них полагаться. На большом корабле послан был из поселения капитан Стэндиш с письмами и указаниями как для тех членов компании, которые еще оставались нам верны, так и для Высокого Совета Новой Англии. Членов компании просили: раз теперь присылали они товары только на продажу, то нельзя ли назначать цены более сходственные, ибо столь высокий процент нам не под силу; а расчеты вести в деньгах или таких товарах, какие нам требуются и хорошего качества. Сообщали им также содержание писем к Совету, а именно, что просим благоволить к нам и помогать; и тех пайщиков, что от нас отступились, призвать к порядку, а не так, чтобы пайщики ото всего освободились, а поселенцы были связаны. Чтобы либо держались прежних уговоров, либо заключили с кредиторами справедливое соглашение. Время, однако, выдалось весьма неудачное, ибо в государстве были смуты{61}, а в Лондоне чума, так что никакие дела не велись; все же капитан Стэндиш говорил с несколькими членами Высокого Совета, обещавшими поселенцам всякую помощь, какую они в силах оказать. А дружественные нам пайщики понесли в том году огромные убытки, потеряли корабль, захваченный турками, потеряли и рыбу, которую по причине войны пришлось выгрузить в Портсмуте, где ничего почти за нее не выручили; так что при всем их желании мало что могли сделать. И столько людей умирало еженедельно от чумы, что замерла вся торговля и неоткуда было добыть денег. С большим трудом занял он из 50-ти процентов 150 фунтов (из коих много ушло на его расходы) и вложил их в товары, годные для обмена или наиболее нужные поселенцам; а затем вернулся пассажиром на рыболовном судне, успев немало подготовить для заключенного впоследствии соглашения. Тем временем господу угодно было послать поселению мир, здоровье и спокойствие духа и благословить труды поселенцев, так что маиса оказалось достаточно (а у иных было и чем поделиться), а также другой пищи; и ни разу с тех пор не привозили нам припасов, кроме того, что привезли с собою вначале. В тот год после жатвы отправили мы гружённую маисом лодку на 40–50 лье к востоку, вверх по реке Кенебек; это была одна из 2-х шлюпок, сделанных для нас плотником за год до того; ибо большего судна у нас не было. Посредине лодки настлали небольшую палубу, чтобы сохранять маис сухим; но люди в любую погоду оставались без крова над головою; а погода бывает в то время ненастная. Однако бог сохранил их и послал им удачу, ибо они привезли 700 фунтов бобровых шкур, не считая других мехов, а с собой имели один лишь маис, который сами вырастили. Эту поездку совершил м-р Уинслоу и некоторые из старожилов, ибо моряков с ними не было.Дж. Ш., У. К., Т. Ф., Р. X. и др.
ANNO DOM. 1626
В начале апреля узнали о прибытии капитана Стэндиша и послали лодку за ним, а также за привезенными им вещами. Приезду его радовались, но вести он привез все больше плохие; не только об убытках, ранее упомянутых, какие понесли наши друзья, о том, что иные вконец разорились, другие тоже ничем не могли помочь, а кое-кто умер от чумы; но также о кончине нашего пастора м-ра Робинсона, причинившей нам глубочайшую скорбь, ибо утрата была велика. Его — и наши — недруги долго строили козни против приезда его сюда, но господь уготовал ему место лучше здешнего; а какова была кончина его, видно из нескольких строк, присланных губернатору и м-ру Брюстеру.Возлюбленные друзья и т. д. Не знаю, дойдет ли до вас это письмо или пропадет, как это с моими письмами уже бывало; но имею большое желание поведать вам о том, что посылает нам господь, ибо знаю, что вы хотели бы делить с нами и радости, и горести, как и мы хотим делить их с вами. Знайте же, что господу угодно было призвать из сей юдоли слез вашего и нашего возлюбленного пастора, а моего дорогого и чтимого брата, м-ра Джона Робинсона, после 8-дневной болезни. Он недомогал еще в субботу с утра, однако на следующий день (в воскресенье) дважды нам проповедовал. Всю неделю он с каждым днем слабел, но болей не ощущал, а одну только слабость. Принятое лекарство, как считают, подействовало, однако он все слабел, хотя почти не чувствовал болей и до конца был в сознании. Он занемог 22 февр., а скончался 1 марта. Его все время лихорадило, но болезнь его не была заразительной, и все друзья свободно его навещали. И если бы молитвы и слезы могли сохранить ему жизнь, он от нас не ушел бы. Но он, завершив свой жизненный путь и честно окончив труд, назначенный ему господом на земле, вкушает ныне вечное блаженство. Нам и всем служителям церкви недостает его, однако (милостью божией) мы тесно сплотились и пребываем в согласии и мире, надеясь управиться, несмотря на всю слабость нашу. И желали бы (если богу угодно) вновь соединиться с вами, будь то у вас или здесь; но раз нет на это воли божией, следует терпеть и смиряться, пока господь не распорядится иначе. Новостей у нас немного; в Англии потеряли мы старого короля Якова, скончавшегося с месяц назад; а здешние люди потеряли старого принца Морица, который умер уже после моего брата Робинсона. В Англии у нас теперь новый король Карл, на которого большие возлагают надежды; а здесь место брата своего занял принц Гендрик. Любовно вас приветствуя, остаюсь любящий и верный друг вашИтак, два великих монарха и пастор покинули здешний мир одновременно. Смерть различий не ведает. Капитан Стэндиш привез также весть о смерти старого друга нашего, м-ра Кашмена, которого господь призвал к себе в том же году и почти в то же время; во всех делах, какие вели мы с пайщиками, он был нашей правой рукою и все эти годы старался о наибольшей нашей пользе. Всего за несколько месяцев перед тем писал он губернатору о тяжкой болезни м-ра Джеймса Шерли, одного из лучших друзей поселения, который, находясь при смерти, заверял в своей любви и готовности помогать; и м-р Кашмен сокрушался о потере, какая постигнет их, если господь призовет к себе м-ра Шерли, бывшего опорой и душою всего предприятия. Писал он и о своем намерении в том же году приехать и навсегда с нами поселиться. Рассказывая о болезни другого, не знал он, как близка собственная его смерть. Из этого видим мы, что судьба человека отнюдь не в его руках, но в деснице того, кто властен над жизнью и смертию. Человек предполагает, а бог располагает. Другие лейденские друзья также много писали, скорбя о тяжкой утрате; и хотя желали приехать, возможности к тому не видели и полагали, что надежды нет; а многие, будучи уже в летах, один за другим умирали. От всего этого (выше рассказанного) поселенцы неминуемо должны были впасть в величайшие сомнения; и если подумать, каково было тогдашнее их положение, диву даешься, как не пришли они в совершенное отчаяние и не погибли. Но они скрепились духом, и господь, чье дело они творили, так помог им, что из наихудшего состояния[53] воспрянули они вновь; будучи лишены (можно сказать) всякой надежды и помощи от людей, волею божественного провидения не только получили они поддержку, но честь и хвалу, и сделались примером для подражания, как видно будет из моего повествования, если господь пошлет мне силы и время, чтобы завершить его. Не имея теперь ни рыбного лова, ни иных занятий, кроме менового торга, поселенцы обратили на этот последний все усердие свое. Когда оказалось, что излишки маиса также являются товаром (ибо его продавали по 6 шиллингов за бушель), стали больше его сеять. А губернатор и другие, кому поручена была торговля (ибо велась она сообща, и никто не торговал от себя), старались извлечь из нее наибольшую выгоду; как раз когда товару у нас не хватило, прошел слух, что распалось поселение в Мохиггене, принадлежавшее неким плимутским купцам, и продаются там различные нужные товары; губернатор, вместе с м-ром Уинслоу, взявши лодку и гребцов, сами туда отправились. Некий м-р Давид Томсон, живший в Паскатауэе, узнав про цель поездки, присоединился к ним, что было некоторым неудобством; ибо продававшие, видя и у него желание купить, запросили дорого и к тому же не захотели продавать по частям, а только все целиком. Тогда, чтобы не быть друг другу помехою, договорились купить все и разделить поровну. Купили также несколько коз, которых роздали нуждавшимся, и маиса для коз, чем продававшие остались довольны. Доля поселенцев превышала 400 фунтов стерлингов. Тою же весной разбился у Сакадахока французский корабль, везший множество бискайских покрывал и других товаров, которые достались тем же мохиггенам и рыбакам из бухты Дамаринс; это также купили сообща, так что на долю поселенцев пришлось уже более 500 фунтов. За это сумели частию расплатиться бобровыми шкурами и иным товаром, добытым зимою или собранным летом. М-р Томсон, потратившись более чем мог, предложил нам купить кое-что из его доли, но мы согласились взять одни лишь французские товары и с тем, чтобы купец (а был он из Бристоля) взял вексель с оплатою в будущем году. Оба на то согласились, и сделка состоялась. Таким образом оказалось у поселенцев много пригодного для менового торга и удалось погасить некоторые другие долги, как-то: деньги, занятые капитаном Стэндишем, и остатки старых долгов. С этими товарами и урожаем маиса было чем торговать, так что по обязательствам уплатили загодя, да еще купили для поселенцев кое-что из одежды и иные предметы. Но тут стали нам завидовать; нашлись другие и так завалили индейцев маисом, что сбили цены{62}, давая им вдвое больше против прежнего; и по другим товарам также торговлю нашу подрывали. В тот год послали в Англию м-ра Эллертона, поручив заключить с пайщиками соглашение на условиях сколь возможно выгодных (что было отчасти подготовлено за год до того капитаном Стэндишем); но окончательно не договариваться, пока не сообщит сюда условия, чтобы хорошенько их обдумать; а только старался бы выговорить как можно больше, решение же предоставить нам. Дали ему также поручение, за нашими подписями и печатями, занять сколько-нибудь денег, но не более указанной суммы, которую обязывались мы вернуть; указали ему также, как именно деньги эти израсходовать на нужды поселения. И видя, сколь опасны длительные путешествия в малой открытой лодке, особенно же в зимнее время, стали подумывать, не обзавестись ли небольшой пинассой, как по причине только что названной, так и потому, что конкуренты, торгуя с индейцами, подняли цены более чем на половину того, что давали прежде, и в малую лодку не могло уже вместиться товару сколько надобно. Корабельного плотника среди поселенцев не нашлось, и неизвестно было, где его теперь раздобыть; но был просто плотник, человек смышленый, поработавший с (покойным) корабельным мастером, когда тот строил нам лодки; по просьбе поселенцев взялся он испробовать свое мастерство; взял одну из больших шлюпок, распилил ее посредине, удлинил футов на 5–6, укрепил досками и настлал палубу; получилось судно удобное и прочное, которое прослужило нам 7 лет; в следующем году его закончили и поставили паруса и якорь. Так прошел этот год.Роберт Уайт.Лейден, апреля 28-го, 1625.
ANNO DOM. 1627
В обычное время прихода кораблей м-р Эллертон вернулся и привез, как было ему поручено, некоторые нужные товары. По доверенности нашей занял он 200 фунтов из 30-ти процентов. Товары прибыли благополучно и в хорошей сохранности, к большой радости поселенцев. Он рассказал им, что с немалым трудом и хлопотами заключил с пайщиками соглашение, в чем помогли ему тамошние верные друзья, также много труда на это положившие. Привез он и черновик соглашения, с приложением списка пайщиков, составленный, ради большей верности, самым лучшим стряпчим, какого удалось сыскать. Пункты соглашения этого я и привожу.С приветствием ко всему люду христианскому и т. д. Собравшись 26 октября текущего года, все подписавшиеся на особо к сему приложенном листе пайщики поселения Новый Плимут, расположенного в Новой Англии, в Америке, согласились за сумму в одну тысячу восемьсот фунтов стерлингов (кою выплатить надлежит в указанные ниже сроки) продать все паи, доли, земельные участки, товары и движимое имущество, какие упомянутым пайщикам и прочим их компаньонам по Новому Плимуту как-либо совместно причитаются или принадлежат на основании сумм, когда-либо в них вложенных, или каком-либо ином; для чего упомянутые пайщики, к сему подписи свои приложившие, отчуждают, продают и передают все упомянутые паи, товары, земельные участки и движимое имущество, им принадлежащие, Исааку Эллертону, поселенцу, проживающему в Новом Плимуте и присланному в качестве представителя остальных тамошних поселенцев, и тем поселенцам Нового Плимута, коих упомянутый Исаак Эллертон, его наследники и правопреемники, по прибытии сюда, письменно или как-либо иначе, сочтут нужным в настоящее соглашение включить, равно как и наследников их и правопреемников, как во всем полноправных и действительных участников. Каковые паи, доли, земельные участки и др., упомянутым пайщикам или любому из них отведенные, выделенные или так или иначе принадлежащие, упомянутые пайщики настоящим обязуются передать указанному Исааку Эллертону, наследникам его и правопреемникам и от них отказываются как за себя, так и за наследников своих и правопреемников. А посему упомянутый Исаак Эллертон за себя, наследников своих и правопреемников уславливается, обещает и обязуется действительно уплатить нижеподписавшимся пайщикам, наследникам их и т. д. или 5-ти из них, на указанном собрании для сего избранным, а именно: купцам Джону Пококу, Джону Бичему, Роберту Кину, Эдварду Бэйсу и Джеймсу Шерли, наследникам их и т. д. сумму в 1800 ф. полноценных английских денег, в месте, для уплат отведенном на западной стороне Лондонской Королевской биржи; выплату же производить ежегодно по 200 ф., в день св. Михаила, причем первый взнос сделать в году 1628 и т. д. А также должен означенный Исаак получить от поселенцев вышеупомянутого Н. П. долговые обязательства на сумму 1800 ф. на перечисленных выше условиях настоящего соглашения. В подтверждение чего один экземпляр соглашения, врученный упомянутому Исааку Эллертону, подписали упомянутые пайщики и т. д. Второй же экземпляр, остающийся у упомянутых пайщиков, подписан Исааком Эллертоном ноября 15-го дня 1626 года, в царствование его величества год 2-й.Соглашение это весьма понравилось и одобрено было всем поселением, хоть и не знали мы, как сумеем выплачивать по нему, да еще и по другим обязательствам и при этом обеспечивать нужды поселения; ибо вынуждены были брать деньги или товары из столь высокого процента. Все же мы за это взялись, и 7–8 человек из числа главных сообща поручились (от имени остальных) за выплату 1800 фунтов{63} в указанные сроки. В тогдашнем нашем положении было это большим риском, ибо на нас и без того тяжкое лежало бремя и ни в чем не было уверенности. В следующий приход кораблей соглашение утверждено было обеими сторонами и переписано набело на пергамент, по совету самого ученого стряпчего, какого сумели найти; а чтобы из-за просрочки платежа не пострадали все, было сказано: за каждую просроченную неделю взимается 30 шиллингов пени; все это скреплено было подписями и печатями, как можно видеть на документе. Были у нас и люди строптивые, приехавшие вначале из Англии либо присланные позднее пайщиками из дружбы или иных чувств; и хотя часть их разъехалась кто в Виргинию, а кто еще куда, некоторые оставались еще в нашем поселении; а потому губернатора, его советников и друзей немало заботило, как при новом соглашении распределить обязанности теперь и на будущее время. Когда не стало прежних связей и обязательств, ничего не удалось бы сделать, но все можно было сгубить, если не сохранить мир и согласие. Вот и решили мы принять участниками соглашения всех отцов семейств, а также молодых и здоровых холостяков (способных вести себя степенно и быть полезными поселению). Во-первых, потому, что нуждались в людях как для обороны, так и для работ. Во-вторых, потому, что большинство их вынесли вместе со всеми лишения и бедствия, а значит, имели (как бы) право разделить с нами также и лучшую долю, если пошлет ее господь. Более же всего потому, что иначе нельзя было сохранить согласие, но можно было вызвать опасные волнения, к большому для всех ущербу. Землю, однако, решили распределять так, чтобы не препятствовало это принятию новых членов. Созвали общий сход и, посовещавшись, решили меновую торговлю вести по-прежнему, дабы легче было выплатить долги; распределили и долю доходов на всех указанных выше лиц, которых включили в число участников соглашения; холостой свободный человек получал одну долю; отец семейства мог приобрести долей по числу членов семьи, то есть одну себе, одну жене и по одной на каждого находившегося при них ребенка. Работникам не полагалось ничего, кроме того, что уделит им хозяин из собственных долей или что могут они со временем заслужить от поселения. Итак, все разделено было на столько-то равных долей; и каждому надлежало, смотря по числу своих долей, участвовать в выплате установленного соглашением долга и других долгов, если недостанет для этого прибылей от торговли; а именно: холостяку — с одной доли, а главе семьи со стольких, сколько их имеет. Этим все остались довольны. И прежде всего поделили все небольшое поголовье скота; на каждые 6 человек, то есть долей, по одной корове и по 2 козы; их сперва уравняли сообразно возрасту и годности, а затем тянули жребий; холостяки и малые семьи для получения скота объединялись, как было им удобнее; так же распределили свиней, но числом поболее. Затем условились на каждого человека, или долю, выделить 20 акров земли сверх того, чем владели ранее; решили, откуда нарезать участки по одну сторону от поселка и на какое расстояние; то же и по другую сторону, и тянуть жребий; а для этого назначили людей и учредили некоторые правила, как, например, распределять только землю, пригодную для обработки или хотя бы такую, чтобы примыкала к воде (а такова была большая часть тамошней земли); остальную же считать негодной и общей; но что признано будет годным, то брать. А о годности рассудить прежде жеребьевки, когда неизвестно еще, что кому достанется; и этого держались все время. И, стараясь, сколько возможно, сплотить людей, договорились вот еще о чем, опять-таки до жеребьевки: кому, достанется участок всего ближе к поселку, а потому удобный, чтобы допустил туда одного-двух соседей, по своему выбору, и они бы сеяли там маис 4 года; зато сам мог потом, если захочет, делать то же на их земле. И каждый участок в 20 акров должен был иметь в ширину 5 акров вдоль водоема, а в длину 4 акра, исключая углы, которые вымерять следовало как можно выгоднее. Луга не делили еще много лет, ибо луговых угодий было немного, и если бы их теперь поделили, их нельзя было бы после расширять; но каждое лето указывали мы каждому, где косить, смотря по тому, сколько кто имел скота. Такой дележ понравился и всех успокоил. Губернатору и 4-м или 5-ти главным лицам оставлены были дома, где они жили; все остальные были оценены, так что каждый оставался у себя, но у кого дом был получше, уступал что-либо из своей доли тому, у кого похуже. В начале зимы произошло нечто, о чем надобно упомянуть здесь, чтобы заодно рассказать и обо всем этом деле. В Виргинию шел корабль с товарами и множеством пассажиров. Он сбился с курса то ли из-за неумелости капитана, то ли из-за болезни его; ибо он тяжко хворал цингою и распоряжения мог отдавать только лежа на пороге своей каюты; как видно, боцман и матросы оказались ему плохими помощниками; или же пассажиры, в страхе и смятении, вынудили их идти между юго-западом и северо-западом, лишь бы поскорее достичь берега, все равно какого. Ибо они находились в море уже 6 недель и не оставалось у них ни воды, ни пива, ни дров, и уже сожгли они все пустые бочки; у одного только были 1–2 бочки вина, и то почти всё выпили и опасались погибнуть в море от голода или болезней; потому и приняли столь отчаянное решение. Но хотя прошли они возле мелей Мыса Код или ночью случайно меж них проскочили, богу угодно было, чтобы принесло их легким ветром в небольшую закрытую бухту, примерно посредине залива Манамойак, к югу от Мыса Код; приливом прибило их к песчаной банке у входа в бухту, но судна не повредило, ибо море было спокойным; тут и бросили они якорь. К вечеру, однако, поднялся ветер столь сильный, что сорвал канат и через банку понес их в бухту, где они спаслись вместе с товаром, хотя многое попорчено было соленой водой; ибо корабль так трепало, что отскочила пара досок обшивки и выпала конопать; все же они оказались на суше, внутри бухты; а дождавшись отлива, вынесли товары на берег, высушили все, что промокло, большую часть спасли и особого ущерба не понесли; не слишком пострадал и корабль, так что после починки мог еще служить. Спасению своему они немало порадовались, но, отдохнувши, опечалились, ибо не знали, где они и что им делать. Вскоре завидели они нескольких индейцев, которые приближались в своих каноэ, и насторожились. Однако, когда некоторые индейцы обратились к ним по-английски, они весьма ободрились, особенно когда те спросили, кто они, не люди ли плимутского губернатора или друзья его; и предложили проводить их до поселения или доставить туда письма. Индейцев этих они угостили, щедро их одарили и послали с ними 2-х людей и письмо к губернатору, в котором просили прислать им лодку, а в ней смолы, конопата, клиньев и всего, что нужно для починки судна (которое можно было спасти). Просили они также маиса и еще кое-чего, чтобы им добраться до Виргинии; а они будут ему много обязаны и готовы расплатиться любыми товарами, какие при них есть. Губернатор, узнав от посланцев об их положении, велел приготовить лодку и все, о чем просили они, а так как многие уехали торговать или посланы были по другим делам, отправился к ним сам, взяв с собой разных меновых товаров, чтобы купить для них маису у индейцев. В это время года путь вокруг мыса невозможен; но, поняв, где находится их судно, он прошел внутри залива до речного устья, называемого Ноумскачет, всего в 2-х милях по суше от их бухты, а там индейцы готовы были отнести им все что нужно. Прибытие губернатора очень обрадовало потерпевших; теперь было у них все для починки судна и другие необходимые вещи. Купил он им также маису, сколько было нужно; вернул на корабль нескольких из их матросов, сбежавших к индейцам, и оставил их снабженными всем необходимым и весьма признательными за оказанные услуги. Губернатор побывал затем в других соседних бухтах, нагрузил лодку свою маисом, который выменял, и возвратился домой. Всего несколько дней спустя получил он от потерпевших весть, что сильная буря выбросила на берег их корабль, который плохо был пришвартован (это уж после починки), и так его потрепала, что теперь на нем не выйти в море. И они просили дозволения перебраться к нему и побыть у него, покуда не придумают они, как добраться до Виргинии; и не пособят ли им переправить их груз, а они за это заплатят, а также за все, чем помогут им поселенцы. При таком бедственном их положении просьбу уважили и во всем помогли; товары перевезли, а самих приютили, как могли, у себя в домах. Главными среди них были некие м-р Феле и м-р Сибсби, у которых было много работников, в большинстве ирландцев. Были и другие, имевшие по одному, по двум работникам; большинство составляли, таким образом, работники, товары же большей частью принадлежали их хозяевам. Прибыв сюда и оглядевшись, хозяева пожелали иметь сколько-нибудь земли, которую работники могли бы возделать; ибо до Виргинии удастся добраться лишь к концу года, и им предстоит здесь зимовать; так нельзя ли им расчистить немного земли и что-нибудь посеять (а у них для этого все есть), чтобы не быть в тягость поселенцам, а работникам дать работу; а если сумеют уехать прежде чем созреет урожай, то продадут его на корню. Им отвели удобные участки, и Феле и еще некоторые вырастили много маиса, который перед отъездом продали. Этот самый Феле имел в числе слуг своих девушку, которая вела его хозяйство и, как намекали некоторые близкие к нему люди, была также его любовницей; оба они были допрошены, но доказать ничего не удалось, а они отпирались; после увещевания их отпустили. Вскоре оказалась она беременной, и он достал лодку и бежал с ней, боясь наказания. Сперва он отправился на Мыс Энн, потом в Массачусетский залив, но дальше пробраться не сумел и мог погибнуть; так что пришлось ему вернуться и повиниться; но его при первой возможности отослали прочь со всеми его домочадцами, да и остальных тоже, ибо было среди них немало буйных голов; были, впрочем, и такие, что все время вели себя весьма пристойно. От них имело поселение и некоторую пользу: им давали маис и другие припасы в обмен на одежду; ибо были у них различные шерстяные и иные ткани, а также чулки, обувь и другие предметы, в которых нуждались поселенцы. Так что польза выходила обоюдная; а в конце лета они уехали на двух барках. И некоторые присылали после из Виргинии изъявления благодарности. Чтобы наилучшим образом вести торговлю как на собственное содержание, так и для выплаты обременявших их долгов, поселенцы решили построить в Манамете, на побережье, в 20-ти милях к югу от поселения небольшую пинассу; туда, по другому речному устью, на нашей стороне, можно было доставлять товары на расстояние всего 4–5 миль, а оттуда по суше к кораблю; избежав таким образом пути вокруг Мыса Код и опасных мелей; и любое плавание к югу совершать куда быстрее и безопаснее. Ради сохранности судна и товаров построили там дом и держали работников, которые посеяли маис, стали разводить свиней и всегда, когда требуется, могли на новом судне выйти в море. Все это оказалось весьма удобным и выгодным. Мистера Эллертона снова снарядили в Англию (с возвращавшимся кораблем), снабдив его, за нашими подписями и печатями, всеми полномочиями для заключения с пайщиками упомянутого соглашения; послали и долговые обязательства. Для уплаты части долгов и для покрытия его расходов набрали, сколько смогли, бобровых шкур; ибо поселенцам, из-за всех этих обязательств, все еще приходилось туго. Поручили ему также достать патент на подходящее для торговли место на реке Кенебек; ибо конкуренты из поселений в Паскатауэе и в других местах к востоку отсюда, а также с рыболовных судов, имевшие большие прибыли с тамошних индейцев, грозились добыть патент и вытеснить нас оттуда; особенно когда увидели у нас обилие товаров, угрожавшее их торговле. Этому необходимо было помешать и добиться хотя бы права свободно торговать там, где мы первые эту торговлю открыли и так хорошо наладили. В том же году прибыли к здешнему губернатору посланцы из голландского поселения с письмами на голландском и французском языках. Голландцы торговали в тех южных областях за несколько лет до нашего прибытия; однако поселение основали лишь через 4–5 лет после нас. Вот эти письма, со множеством почетных званий, как это у них принято.
Eedele, Eerenfeste Wyse Voorsinnige Heer en, den Goveerneur, ende Raeden in Nieu-Pliemuen resider ende; onse seer Goede vrinden. Den directeur ende Raed van Nieu-Nederlande, wensen uwe Edn: eerenfesten, ende wijse voorsinnige geluck salichitt (gelukzaligheid?), in Christi Jesu onsen Heere; met goede voorspoet, ende gesonthijt, naer Siele, ende Lichaem. Amen[54].Дальнейшее приведу по-английски, опустив повторение излишних титулов{64}:
Мы и прежде часто желали иметь случай поздравить вас с процветающими и достохвальными делами вашего поселения и управлением им. Тем более что и мы успешное положили начало поселениям в здешних краях; а поскольку родина наша находится от вашей невдалеке и предки наши (уже несколько сот лет назад) имели с вашими дружбу и союз, что видно из старых договоров и соглашений военных и торговых, за подписями королей и князей; и это всякий может прочесть в старинных хрониках. А ныне царствующий король не только это подтвердил, но и по зрелом размышлении соизволил новый заключить договор с Генеральными Штатами, дорогой нашей отчизной, с тем чтобы взяться за оружие против общих наших врагов, испанцев, стремящихся захватить и поработить земли других христианских королей и князей, дабы распространить власть свою на весь христианский мир, и повелевать, как им заблагорассудится, совестью многих сотен тысяч людей, от чего да сохранит нас бог. А ныне стало нам известно, что некоторые из людей наших ходили на шлюпках к северу и повстречали индейцев, сообщивших, что от вашего поселения отделяет их всего полдня пути, и предложивших доставить вам письма; вот и спешим мы в этих немногих строках приветствовать вас и выразить чувства дружества и добрососедства. И если случится, что получаемые нами с родины товары окажутся вам потребны, сочтем себя обязанными их предоставить; а в уплату возьмем бобровых шкур либо иной товар, какой будет вам угодно. Если же в настоящее время нет у нас желательных для вас товаров, не продадите ли за наличные деньги шкур бобра, выдры либо другого подобного товара, нам нужного; в этом случае просим письменно ответить через подателя сего (коему велено дня 3–4 ожидать вашего ответа), а мы, зная решение ваше, отрядим кого-либо, куда угодно будет вам указать. Пока же молим господа принять вас, уважаемые друзья и соседи, под свое святое покровительство. От имени губернатора, Совета и т. д.На это послан был следующий ответ:Исаак де Разьер, секретарь.Дано в Манатасе, в крепости Амстердам{65}.Марта 9-го дня 1627.
Достопочтенным и т. д. Губернатор и Совет Нового Плимута желают и т. д. Мы получили письма ваши и т. д., выражающие ваше к нам расположение и дружбу; однако величаете вы нас чересчур высокими званиями, коих не имеем и иметь нам не подобает. За благоволение ваше и за поздравления с процветанием скромного нашего поселения весьма вам признательны, почитая их большой для нас честью и доказательством дружественности и добрососедства. Далее желаем мы сказать вашим милостям, что немало были обрадованы, узнав, что Его Величество не только подтвердил давнюю дружбу и союз и другие договоры, некогда заключенные славными предшественниками его, но и сам (как вы сообщаете) скрепил их новым союзом ради лучшего отпора общему врагу нашему, надменному испанцу, от чьей жестокости да спасет господь обе наши родины. И хотя одного этого было бы довольно, чтобы сделать нас друзьями и добрыми соседями, но многие из нас еще более вам обязаны за дружественный прием, оказанный нам в вашей стране, где прожили мы немало лет свободно и в довольстве и где доныне проживает много друзей наших; за это мы, а после нас дети наши должны быть благодарны вашей стране, и никогда ее не забудем, но всегда будем желать вашего блага и процветания, как своего собственного. Любезное ваше предложение снабдить нас любыми товарами, какие вы имеете или ожидаете, в обмен на шкуры бобров, выдры или что иное, весьма нам подходит, и мы не сомневаемся, что в скором времени будемвести с вами выгодную торговлю. В нынешнем году мы вполне обеспечены всем необходимым, как одеждой, так и прочим, в дальнейшем же, вероятно, будем их у вас покупать, если цены окажутся сходными. Поэтому, когда будет вам угодно снова к нам послать, желательно сообщить, будете ли брать бобра на фунты, а выдру поштучно; и какой даете процент за другие товары и чем можете нас снабдить. И какие еще наши товары вам желательны, как-то: табак, рыба, маис и другое, и какие дадите цены и т. д. Не обессудьте, если дурно на вашем языке пишем и не умеем поэтому должным образом выразить, что хотели бы, или вас вполне понять. Смиренно молим милосердного господа взять вас под свой святой покров.После того мы еще много раз обменялись письмами и немало лет выгодно торговали, пока некоторые события этого не нарушили, о чем будет более подробно сказано далее. Прежде чем на сей раз послать в Англию м-ра Эллертона, губернатор и некоторые друзья его много размышляли; и не о том лишь, как расплатиться с отягощавшими нас долгами, о которых уже говорилось, но и как помочь (если это возможно) перебраться сюда лейденским друзьям и братьям, которые столь же жаждали воссоединения с нами, как и сами мы того желали. Потому и решились мы на дело, весьма опасностями чреватое, ибо не знали, как достичь этого иначе. А именно: откупить на несколько лет торговлю всего поселения, а за этот срок обязаться выплатить 1800 фунтов и все прочие долги поселения, составлявшие еще около 600 фунтов; освободить таким образом поселение от долгов и в конце этого срока вернуть право торговли всему поселению. Решив так, созвали поселенцев, растолковали им, каковы долги и на каких условиях беремся мы их от долгов очистить и за какое время. Вторую цель нашу пришлось, однако, утаить, сообщив ее лишь немногим верным друзьям, которые рады были о ней услышать, хоть и усомнились, удастся ли осуществить ее. После общего обсуждения пришли к согласию на следующих условиях:Губернатор и Совет Нового Плимута,Ваших милостей добрые друзья и соседи и т. д.Новый Плимут, марта 19-го.
Соглашение между поселением в Новом Плимуте, с одной стороны, и Уильямом Брэдфордом{66}, капитаном Майлсом Стэндишем, Исааком Эллертоном и др., с другой, и теми, кого сочтут они нужным взять себе в компаньоны и предприниматели, на предмет скупки бобровых и других шкур, а также иных товаров и т. д.
Заключено в июле 1627.
Во-первых, упомянутые стороны договорились, что указанные Уильям Брэдфорд, капитан Майлс Стэндиш, Исаак Эллертон и др. настоящим обязуются погасить и выплатить все долги упомянутого поселения, как задолженность за приобретение паев, так и все прочие, какие к настоящему времени за ним числятся. Во-вторых, указанные лица получают право свободно пользоваться недавно построенной пинассой, лодкой, что в Манамете, и шлюпкой под названием «Басс», со всеми их принадлежностями, находящимися на складе упомянутого поселения, а также всем запасом мехов, шкур, бус, маиса, вампума{67}, топоров, ножей и др., какие находятся ныне на складе или имеют быть получены в счет причитающихся сумм. 3. Указанные лица, их наследники и правопреемники получают в полное свое распоряжение всю торговлю, со всеми до нее относящимися преимуществами, какими пользуется в настоящее время поселение, на полных 6 лет, считая с последнего дня сентября нынешнего года. 4. В целях выплаты упомянутых долгов каждый покупатель обязуется ежегодно в течение означенных 6-ти лет поставлять упомянутым лицам 3 бушеля маиса или 6 фунтов табака, по выбору предпринимателя. 5. Указанные предприниматели ежегодно в течение означенного срока закупают для поселенцев на 50 ф. чулок и обуви, каковые продают им в обмен на маис, считая его по 6 шилл. за бушель. 6. По истечении означенных 6-ти лет вся торговля и приносимый ею доход будут по-прежнему собственностью поселения. И последнее: если указанные предприниматели, ознакомив друзей своих в Англии (при первой оказии) с настоящим соглашением, подтвердят готовность свою выплачивать долги указанного поселения, как того требуют условия настоящего соглашения (и о том сообщат), соглашение вступает в силу; в противном же случае все остается по-прежнему, и указанное поселение должно получить о состоянии дел полный отчет.Копию этого соглашения м-р Эллертон взял с собою в Англию, и в числе прочих наставлений было ему указано, чтобы предложил наиболее близким из друзей присоединиться к перечисленным условиям; а также сообщил им о второй цели, побудившей нас эти условия составить, а именно, способствовать приезду друзей наших из Лейдена; а если кто согласится в этом деле участвовать, такое изъявление дружбы с признательностью принять. Все это давало нам некоторую надежду на успешное исполнение задуманного.
ANNO DOM. 1628
Прибыв в Англию, м-р Эллертон сообщил тамошним, что уполномочен заключить с ними упоминавшийся выше договор о покупке паев; ознакомясь с ним и получив обязательства по ежегодным выплатам (о котором уже говорилось), пайщики заключили его и вручили ему этот документ[55], переписанный на пергамент, за их подписями и печатями. Переговорил он с ними и о других предметах, как было ему указано. А именно, не хотят ли присоединить к договору этому еще кого-либо из друзей своих; и не снизят ли процент на ссужаемые нам деньги и т. д. Здесь приведу я письмо м-ра Шерли к губернатору, из коего понятнее станут дальнейшие события.Сэр, письмо ваше от мая 26-го, посланное с м-ром Гибсом и м-ром Гоффом, я получил, равно как и бочонок выдровых шкур, которые освободили мне от пошлины, и продал его за 78 ф. стерлингов и 12 шилл.; а деньги вручил м-ру Эллертону, как увидите из счета. Правду пишете вы, что долги ваши велики, и не только за покупку; еще приходится занимать нужные для оборота средства, да не из 6-ти или 8-ми процентов, какие приняты у нас, но из 30-ти, 40, а то и 50-ти; и если бы не большие прибыли ваши и божие благословение, почиющее на честном вашем предприятии, недолго удалось бы вам вести земные ваши дела. Честный и усердный агент ваш м-р Эллертон тщательно обдумал, как это ваше бремя облегчить. Он сообщил мне, что вы готовы взять меня и некоторых других в компаньоны по откупу торговли; за это сердечно всех вас благодарю и охотно соглашаюсь. И хотя нахожусь вдали от вас, готов участвовать во всех расходах, какие вы и остальные сочтете нужными; в этом году отказываюсь я от прежних 50 ф. и от процента на риск за 2 года, что составляет 80 ф.; и не оговариваю для себя ничего из прибылей, какие вы (то есть поселение) можете иметь от рейса к вам и обратно. М-ра Эндрюса и м-ра Бичема убедил я поступить так же; вот и избавлены вы от высокого процента на другие 2 года. Предоставляю вам самим выплачивать нам сколько пожелаете, глядя по тому, что пошлет вам господь. М-р Бичем намерен во всем моему примеру следовать; и если прежде он был, или казался, суровым, то теперь, как вы увидите, стал иным. Из письма вашего вижу, что вы желали бы иметь меня здешним вашим агентом или фактором. Вы неизменно оказывали себя людьми столь верными, честными и праведными, что я решил (с божией помощью) делать для вас все, что в силах моих; и если угодно вам избрать для ведения ваших дел человека немощного телом и небогатого дарованиями, то обещаю (и да поможет мне бог) отдать делам этим все способности, какими он меня наделил, а если потерплю неудачу, вините себя, что не сделали лучшего выбора. Но как я слаб здоровьем и все мы смертны, то посоветовал я м-ру Эллертону придать в помощь мне м-ра Бичема, что, полагаю, будет вам нужным и полезным; расходов вам не прибавится, ибо не ради жалованья берусь я за ваши дела. А сейчас, поручая вас и всех людей божиих руководству и покровительству всемогущего, остаюсь верный и любящий друг вашА вот еще письмо от него же, которое следовало поместить раньше:Джеймс Шерли.Лондон, ноября 17-го 1628.
Заметим, как господу угодно было расстроить все расчеты наши, отчего произошло много бед. Единственной тому причиной полагаю то, что мы или многие из нас иные имели цели, а не славу божию; но теперь, я надеюсь, причина устранена; а соглашение утверждено, насколько мы в том полномочны, за нашими подписями и печатью, и вручено м-ру Эллертону и прочим его и вашим компаньонам. Что до меня, то как мог я противиться соглашению, будучи первым, кто его предложил в нашем собрании; но, с другой стороны, не хотелось приложить руку к продаже, ибо, будучи владельцем большей части паев, сделался одним из виновников задолженности вашей; к тому же на меня более всего направлена зависть (словно избран я мишенью их злобы). Какую могут они иметь на то причину, поистине не знаю; никому не удастся доказать, что я хоть раз за эти смутные 2 года вольно или невольно причинил ущерб им или кому-либо из пайщиков хоть на одно пенни из всех истраченных фунтов. Нет, единственной причиной, отчего клевещут на меня (так полагают и другие), — это зачем не держал их сторону против вас и переезда к вам лейденцев. Но как прежде, так и ныне меня мало заботит, что могут мне сделать; хотя расходов и огорчений причинить сумеют немало. Вот отчего хотел я убедить остальных 4-х подписать соглашение без меня, да только они не согласились; чтобы не пропали даром все труды м-ра Эллертона, я и подписался вместе с прочими; с той оговоркой и обещанием с его стороны, что если что-либо здесь не заладится, то половину убытков понесете вы. Не сомневаюсь, что теперь вы вполне удовольствуете всех поселенцев и пребудете в мире как меж собою, так и с туземцами, а тогда господь-миротворец благословит пути ваши и ниспошлет успех всем начинаниям вашим; о чем неустанно буду молить господа, да будет на то его святая воля. Если господь не смилуется над нами и над всею страной, участь наша будет много печальнее вашей. Если господь допустит здесь смуту и гонения (чего очень даже можно опасаться) и укажет нам искать убежища, то не знаю лучшего для нас пути, чем к вам (ибо все страны Европы восстали одна на другую, а более всего на нас); не сомневаюсь, что у вас встретим мы, по чести и совести, дружественный прием, несмотря на недавние недоразумения наши. Даю слово честного человека, что, если бы не желание оградить ваш покой от здешних смутьянов, не подписал бы я последнего соглашения, хотя бы вы мне отдали полностью и долю мою, и долг. Призывая на вас благословение божие, остаюсь верный и любящий друг вашВместе с этим письмом прислан был экземпляр доверенности, которую надлежало снабдить печатью и вернуть им и которая уполномочивала их быть нашими агентами согласно приведенному письму; а как произошли отсюда впоследствии некоторые неудобства, то привожу ее здесь.Джеймс Шерли.Декабря 27-го дня.
С приветствием ко всем, кто с настоящим документом ознакомится, извещаем, что мы, Уильям Брэдфорд, губернатор Плимута в Н. А., в Америке, Исаак Эллертон, Майлс Стэндиш, Уильям Брюстер и Эдвард Уинслоу, купцы, жители упомянутого Плимута, настоящим назначаем Джеймса Шерли, ювелира, и Джона Бичема, торговца солью, жителей города Лондона, законными нашими агентами, факторами, заместителями и представителями, как для приема и получения всех товаров, какие будут от нас или кого-либо из нас присланы указанным представителям нашим или кому-либо из них, в город Лондон или иное место Британского Королевства; равно как и для продажи или обмена товаров, какие могут в разное время быть посланы тому или иному лицу или лицам, в кредит или как-либо иначе, как это найдут нужным указанные агенты и факторы или кто-либо из них в отдельности. Далее уполномочиваем мы указанных заместителей и представителей наших, и каждого из них в отдельности, покупать для нас и за наш счет и посылать нам в Новую Англию здешние товары, как то найдут нужным указанные представители или кто-либо из них. А также любым способом требовать и получать для нас и от нашего имени все долги и денежные суммы, какие нам в настоящее время причитаются или будут причитаться в будущем; равно как и выплачивать все долги или денежные суммы, какие с нас или кого-либо из нас кому-либо причитаются или будут причитаться, а также входить по таковым долгам в соглашение с кредиторами. И совершать для нас и от нашего имени любые сделки, какие указанные представители наши или кто-либо из них сочтут нужными, также и на нашей территории, во всех отношениях так, как если бы мы или кто-либо из нас при сем присутствовал. И все, что сделают или о чем распорядятся указанные агенты и факторы наши, вместе или в отдельности, то мы и каждый из нас настоящим подтверждаем и утверждаем. В знак чего ставим наши подписи и печати.Так утверждено было названными лицами и еще 4-мя из главных поселенцев, за их подписями и печатями; и документ вручен сторонам. М-р Эллертон и ранее имел подписанные нами полномочия на ведение прежних дел, на получение денег и др., и продолжал ими пользоваться, ибо поселенцы полностью доверяли ему и прочим друзьям своим, а потому подолгу не проверяли подписанные ими бумаги и не уделяли им внимания, что немалый причинило нам ущерб, как видно будет из дальнейшего. Уладив столь успешно все дела, м-р Эллертон поспешил в начале весны вернуться с необходимыми для менового торга товарами (ибо рыболовы, с которыми прибыл он, выезжали обычно еще зимою, чтобы поспеть ко времени). Он привез немало товаров для поселения, и без тех высоких процентов, что были ранее; привез он и счета за проданные бобровые шкуры и за купленный на эти деньги товар, а также расписки, полученные при уплате долгов, ибо расплатился там со всеми, исключая м-ра Шерли, м-ра Бичема и м-ра Эндрюса, от которых привез счета на сумму не свыше 400 фунтов, и выдал на нее векселя. Сделал он и первый взнос за покупку на текущий год, а именно 200 фунтов и привез погашенное обязательство на него; так что теперь долги наши за океаном не превышали упомянутых 400 с небольшим фунтов и остававшихся ежегодных платежей. Были еще здешние долги, но те были без процентов и было чем уплатить их, когда подойдет им срок. Так помог господь устроить дела. М-р Эллертон привез также весть о том, что друзья, как упомянутые, так и некоторые другие, решившие присоединиться к договору о покупке, намерены послать за лейденцами и достаточное число их непременно в будущем году перевезти, если будет на то благословение божие. Привез он и патент на Кенебек, но столь неполный и неточно составленный, что пришлось его на следующий год возобновить и расширить, равно как и тот, что уже имелся. А это большие повлекло за собой расходы, как видно будет далее. До той поры м-р Эллертон служил нам честно и верно; если бы только он и продолжал так или же не посылали его более в Англию. Но подробнее скажу об этом позже. Получив (как уже сказано) патент на Кенебек{68}, поселенцы выстроили выше по реке дом в наиболее, как им думалось, удобном для торговли месте; и запасли там на весь год не только маису, но и других товаров, какие продавали с рыболовецких судов, как-то: плащей, рубашек, покрывал, одеял, сухарей, гороху, чернослива и др.; чего не могли получить из Англии, то брали на рыболовецких судах, и так вели торговлю в меру сил своих. В тот год голландцы снова прислали из своего поселения любезные письма, а также различные товары: сахар, полотно, сукно, голландские тонкие и более грубые ткани и др. Они приехали в своей лодке в Манамет, к тамошнему дому, в том числе и секретарь Разьер в сопровождении трубачей и другой свиты; и пожелал, чтобы за ним послали лодку, ибо не мог ехать так далеко по суше. Послали лодку в Манонскуссет и доставили в поселок его и некоторых сопровождавших его особ. Погостив несколько дней, вернулся он к своей лодке, а с ним несколько поселенцев, чтобы купить кое-что из его товаров. Так положено было начало, и после того часто встречались они в том же месте и несколько лет торговали; в том числе много продали табаку, а покупали полотно и другие ткани, с большой для себя выгодой, покуда поселок их не обнаружили виргинцы. Но наибольшей удачей стала со временем торговля вампумом, которого сперва купили у голландцев примерно на 50 фунтов; они сказали, какой это ходовой товар у них, в форте Орания, и убедили, что таков же будет он и в Кенебеке; так и оказалось, хотя сперва он не пошел, и прошло 2 года, пока удалось сбыть это малое количество, то есть пока не узнали о нем жители удаленных от моря мест; зато потом его не могли напастись, и так было много лет подряд. Этот и другие товары помогли перехватить всю торговлю у рыболовов и большую часть у соседних мелких поселений. И удивительные перемены произвел вампум всего за несколько лет среди самих индейцев; ибо здешние и массачусетские прежде почти его[56] не имели; разве только сахемы и другие важные особы носили несколько штук в виде украшения. А делали его одни лишь наригансеты и пекоты, которым доставил он богатство и могущество; здешние же индейцы были бедны и убоги, и он им был ни к чему. Не был он известен и англичанам ни здесь, ни во всей стране; и пока не доведались у голландцев, не знали, что он такое, а тем более какой это ценный товар. Но когда распространился он в здешних местах, переняли его и здешние индейцы и научились делать; а наригансеты собирают на своих берегах раковины, из коих его делают. Вот уж 20 лет, как является он ходовым товаром; однако со временем может от него быть немалый вред. Здешним индейцам доставляет он богатство и могущество, и делает кичливыми; позволяет им добывать ружья, порох и дробь; не помогут тут и законы. А все из-за недостойного поведения некоторых людей, как англичан, так и голландцев или французов; и это много может принести бед. Прежде здешние индейцы не имели ружей и иного оружия, кроме луков и стрел; и так было много лет; до ружья они едва решались дотронуться, столь велик был их страх; один вид ружья (даже неисправного) вселял в них ужас. Но индейцы, жившие к востоку от нас и знавшиеся с французами, получали от них ружья, и те принялись ими торговать; со временем и наши английские рыболовы, побуждаемые той же алчностью, ради наживы последовали их примеру; но когда пошли жалобы, Его Величество король особым постановлением строго воспретил подданным своим продавать туземцам любое оружие и боеприпасы. Года за 3–4 до этого прибыл сюда некий капитан Уоластон (человек больших дарований), а с ним еще 3–4 особы из дворян, привезшие с собою множество слуг, а также имущества, чтобы основать поселение; и обосновались в Массачусетсе, назвав местность свою Маунт-Уоластон, в честь капитана. В числе их был некий м-р Мортон, как видно, имевший небольшую долю в этом предприятии (на свое, а быть может, на чужое имя); но уважения не снискавший даже среди слуг. Пробыв там сколько-то времени, но не найдя того, на что надеялись они, и не видя ожидаемых прибылей, капитан Уоластон с большей частию слуг перебрался в Виргинию, где с немалой выгодой стал ссужать слуг своих другим; и написал м-ру Рассделю, одному из главных своих компаньонов, кажется купцу, чтобы еще нескольких слуг отправил к нему в Виргинию для той же цели. А вместо себя, с согласия упомянутого Рассделя, назначил некоего Фишера, чтобы ведал поселением, пока он сам или Рассдель не вернутся им распорядиться. Но упомянутый Мортон, человек лукавый и бесчестный (был он прежде судейским крючком в Фарнфелс-Инн), воспользовался их отсутствием, добыл крепких напитков и разных закусок (а кормились они там неважно) и задал слугам пир; а когда уж были они навеселе, дал им совет. Как видите (так он сказал), многих из вас увезли в Виргинию; а станете ждать, пока вернется Рассдель, увезут и вас и всех продадут в рабство. Поэтому советую вам прогнать управителя Фишера; а я, как пайщик предприятия, возьму вас в компаньоны; вот вы уж более не слуги и станете, как равные, вести вместе со мною хозяйство и торговлю, друг другу помогать и тому подобное. Совет охотно был принят; управителя Фишера выгнали и к себе не пускали, вынудив просить хлеба и помощи у соседей, пока не сумел он вернуться в Англию. А у них пошла после этого разгульная жизнь и всяческие бесчинства. Мортон объявил себя главным шутом и завел (можно сказать) школу безбожия. Захватив немало товаров и выгодно продав их индейцам, стали они все это расточать, упиваясь без всякой меры вином и другими горячительными напитками, как говорят некоторые, пропивая 10 фунтов за один только день. Поставили они также Майский шест{69} и много дней вокруг него пили и плясали, и приводили индейских женщин себе в подруги, и вместе плясали и резвились (точно феи, а вернее сказать, фурии), а кое-что делали и похуже; словно возродили празднества во славу богини римской Флоры или бесстыдные и безумные вакханалии. Мортон (желая блеснуть талантом) сочинил различные стихи, из коих одни воспевали любострастие, другие же поносили и порочили некоторых здешних особ; и прикреплял их к языческому Майскому шесту. Переменили и название поселения, вместо Маунт-Уоластон назвав его Мерри-Маунт, словно веселье их будет длиться вечно{70}. А длилось оно недолго; после того как Мортона отправили в Англию, прибыл оттуда достойный джентльмен, м-р Джон Эндикотт{71}, и привез патент с большой печатью на управление Массачусетсом; прибыв в поселок, велел он срубить Майский шест, а жителей много корил за беспутство и увещевал исправиться; и тогда они или другие снова переменили название места, назвав его Маунт-Дагон{72}. Чтобы было на что продолжать разгул и попойки, Мортон, полагая себя вне закона и услышав, какие прибыли имеют французы и рыболовы от продажи индейцам ружей, пороха и дроби, принялся, во главе своей шайки, за то же дело в здешних местах; а сперва обучил индейцев обращению с ружьем; как заряжать его и разряжать, и сколько класть пороху, смотря по величине ружья, и какою дробью по дичи бить, а какою по оленям. Обучивши их, он нескольких послал добывать ему дичь, и они преуспели в этом много лучше любого англичанина благодаря быстрым ногам, ловкости, зоркому глазу, а также знакомству с местами, где водится дичь. Когда увидели они действие ружья и сколько можно с ним добыть, они словно обезумели и за ценою не стояли, почитая теперь свои луки и стрелы пустыми игрушками. И тут пользуюсь я случаем посетовать на зло, какое повелось от этого дурного человека, а теперь, из-за низкой алчности людей, от которых такого нельзя бы и ожидать, распространилось по всей стране, наперекор законам; индейцы теперь в изобилии имеют оружие, охотничьи ружья, мушкеты, пистолеты и др. Есть у них и формы, чтобы отливать дробь и пули всяких сортов: мушкетные, пистолетные, дробь на лебедей и гусей, а также мелкую; видели у них также винторезные доски, чтобы самим нарезать винты, когда есть в том надобность, и другие приспособления, коими обычно снабжены они лучше англичан. Известно, что получают они порох и дробь, когда англичане в них нуждаются, а достать не могут. Известно из опыта, что во время войны или какой опасности, когда не хватало свинца, каждый, чтобы защищаться, готов был дать хорошую цену, по 4 пенса за фунт; но его скупали и отправляли туда, где торгуют с индейцами, чтобы продать по 12 пенсов за фунт; а там дают, кажется, и 3 и 4 шиллинга, ибо хотят иметь его непременно. И люди делают это, когда соседи и друзья их ежедневно гибнут от рук индейцев или живут в постоянном страхе. А некоторые (в числе других вещей) рассказали индейцам, как делается порох, и из чего, и что все это можно добыть в их краях; и я уверен, что сумей они получать селитру, обучили бы их делать и порох. О, гнусное предательство! Сколько голландцев и англичан было за недавнее время убито индейцами, которых снабдили оружием; и нету от этого зла средства, оно, напротив того, растет, и боюсь, что кровь братьев продается ради барышей; а в какой опасности находятся все эти поселения, известно слишком хорошо. О, если бы государи и парламенты вовремя положили конец этому злу и искоренили его, примерно наказав алчущих наживы убийц (ибо лучшего названия они не заслужили), пока их колонии в этих краях не разорены еще вконец дикарями, которых вооружили сами же эти злодеи, предавшие ближних своих и свою страну? Однако я чересчур отвлекся и теперь вернусь к моему повествованию. Научив индейцев обращению с оружием, Мортон продал им все, что мог уделить; решив, вместе с приспешниками своими, достать побольше ружей из Англии, он послал с каким-то из кораблей заказ более чем на два десятка. Это сделалось известно, и соседи его, жившие в одиночку и беззащитные, ужасались, встречая в лесах индейцев, вооруженных ружьями. В других местностях (хотя и более отдаленных) увидели, что зло распространяется повсюду, если его не пресечь. Увидели также, что нельзя будет держать слуг, ибо Мортон переманит к себе любых, даже самых беспутных, и весь сброд, все смутьяны отовсюду к нему соберутся, если не разорить гнездо его; иначе скоро более станут люди опасаться за жизнь свою и имущество со стороны преступной и развращенной шайки, чем даже дикарей. Поэтому главные жители мелких, разбросанных поселений, собравшись, решили просить плимутцев (в ту пору более сильных, чем все они вместе) объединиться с ними и для предотвращения худших бед расправиться с Мортоном и пособниками его, пока не вошли они еще более в силу. Для этого (а затем и для расходов на отправку его в Англию) объединились жители Паскатауэя, Намкека, Уинисимета, Уисагаскусета, Натаско и других мест, где проживали англичане. Плимутцы, к коим обратились они с письмами, видя бедственное их положение и общую опасность, решили помочь, хотя им самим опасность грозила всего менее. Сперва постановили совместно написать к Мортону и по-дружески, по-соседски увещевать его, чтобы изменил свое поведение; а посланному с письмами этими велели дожидаться ответа. Он, однако, надменно пренебрег советами и спросил, кто таковы, чтобы в дела его вмешиваться; он, мол, как продавал оружие индейцам, так и далее будет; и ко всему этому присовокупил грубую брань. Послали к нему в другой раз, советуя быть благоразумнее и воздержаться от брани, ибо никто во всем крае не намерен долее терпеть чинимый им вред; это всем им грозит опасностью и нарушает королевский указ. Он отвечал столь же дерзко, что королевский указ не закон, и спросил, чем его нарушение карается. Ему ответили, что карается наказанием весьма тяжким — королевской немилостью. А он заявил нагло, что король в могиле и там же немилость его, и далее в таком роде; и пригрозил, если кто его тронет, пусть остерегается, он их встретить готов. Тут уж все убедились, что совладать с ним можно единственно силою; а если теперь отступиться, это еще прибавит ему спеси и наглости. Решили действовать и упросили плимутского губернатора послать капитана Стэндиша с отрядом, чтобы захватить Мортона. Так и сделали; он, однако, приготовился защищаться; запер двери, вооружил приспешников своих и разложил на столе порох и пули; и если бы не вооружились они чрезмерно крепкими напитками, наделали бы больше бед. Мортону предложили сдаться, но он засел в доме и отвечал насмешками и бранью; наконец, опасаясь, что дом разрушат, вышел вместе с несколькими из своей банды; но не затем, чтобы сдаться, а чтобы стрелять; однако они так перепились, что едва держали оружие; сам он хотел убить капитана Стэндиша из карабина (как после оказалось, более чем до половины набитого порохом и дробью); но тот подошел к нему, отстранил оружие и взял его. Ни с той, ни с другой стороны пострадавших не было; разве что один из них до того был пьян, что упал носом на острие меча, который перед ним держали, потеряв немного своей буйной крови. Мортона отвезли в Плимут{73}, где держали, пока не случился корабль, шедший от острова Шоле в Англию; на нем и отослали его Совету Новой Англии и написали обо всех его выходках; за общий счет послали также человека, чтобы подробнее сообщить о нем их светлостям и просить предать его суду. Но он, отбыв отсюда, одурачил посланца; и хотя в Англию приехал, ничего ему не сделали; насколько известно, не получил он даже выговора и на следующий год вернулся. Самые буйные из шайки его разбрелись, а более, смирные стерегли дом, дожидаясь от него вестей. Однако не слишком ли много говорю я о человеке столь недостойном. В тот год м-р Элдертон привез в пасторы молодого человека; не знаю, по собственному ли почину или по просьбе некоторых здешних друзей своих; но только конгрегация о том не просила; ибо так обожглись мы на м-ре Лайфорде, что желали хорошо знать, кого приглашают. Этого звали м-р Роджерс; но, приглядевшись, заметили, что он не в своем уме; и на следующий год пришлось потратиться на то, чтобы отправить его обратно; и потерять все израсходованное на его приезд, а этого, согласно счету м-ра Элдертона, было немало, ибо включало провизию, одежду, постель и др. Возвратясь, он впал в полное помешательство, а м-ра Эллертона все осуждали, зачем привез такого человека, когда у нас и без того расходов довольно. В прежние годы м-р Эллертон привозил немного товаров за свои деньги и от себя их продавал; такого прежде не делал никто. Однако на это смотрели сквозь пальцы, памятуя оказываемые им услуги, и потому, что продавал он здешним поселенцам, которые в том нуждались; а он утверждал, будто товары доверили ему м-р Шерли и некоторые другие друзья, полагая, что ему будет от того некая выгода, вреда же не выйдет никому. Но в тот год привез он больше; и все перемешано было с товарами, принадлежавшими поселению, и вместе упаковано, так что не разобрать было, где наш товар, а где его; и стало ясно, что, если бы случилась какая беда на море, он мог бы все отнести за наш счет; ибо разделить никто не смог бы. Кроме того, товары наиболее ходовые, что всего быстрее были бы проданы, оказывались его; и продавать их стал он также другим поселениям, а это уже не понравилось, ибо вредило общему делу. Но мы, когда любим, не склонны подозревать дурное; объяснениям его поверили и решили в том году снова послать его в Англию; помня, как хорошо вел он прежние дела и как жалуют его тамошние друзья; и потому что уже послали за несколькими лейденцами, а он в этом немало мог помочь. Кроме того, надо было расширить патент на Кенебек из-за допущенных в нем ошибок; решили сделать заодно и это; а кто в прошедшем году начинал дело, тот всего лучше мог и завершить его; итак, м-ра Элдертона снабдили указаниями и в тот год снова послали в Англию. Товару для нас велели привезти всего на 50 фунтов; а именно: чулок, обуви и немного полотна (как обязывало нас соглашение, по которому взяли мы на себя торговлю); и немного менового товара, все на ту же сумму; и ни в коем случае ее не превышать и не вводить нас в иные расходы; ведь положение наше ему известно. Указали также, чтобы меновой товар доставлен был пораньше; и чтобы все, посылаемое для поселения, упаковать отдельно, пометить особой меткой и с прочим товаром не смешивать. Ибо он сам просил дать ему любые указания, какие сочтут нужными, и он будет им следовать, дабы впредь не вызывать никакого неудовольствия. Так что все было, казалось бы, предусмотрено.Ноября 18-го, 1628.
ANNO DOM. 1629
Прибыв благополучно в Англию, вручив письма к тамошним друзьям и сообщив им о полученных указаниях, м-р Элдертон был ими радушно принят, и они с охотою согласились войти в долю по части торговли, а также по расходам на переезд лейденцев; из них некоторые прибыли уже из Голландии и готовы были в путь, так что их отправили еще прежде, нежели м-р Эллертон приготовился возвратиться. Их повезли на кораблях, направлявшихся в Салем; туда, а также в Массачусетский залив, много ехало благочестивых людей, чтобы основать там поселения{74} и церковь христову; так вознаградил господь долготерпение лейденцев, а здешним друзьям двойную ниспослал радость, ибо теперь обрели они не только тех, кого уж и не ждали (и казалось, всякую утратили надежду), но вместе с ними еще многих благочестивых друзей и братьев во Христе; большую жатву собрал здесь господь с увеличением числа церквей и истинно верующих; и многие дивились, точно чуду, что из начала столь скромного произошли со временем столь великие дела; и что столько людей божиих нашло здесь пристанище, когда родину их постигло тяжкое бедствие. Все это совершил господь, а нам остается лишь дивиться. Тут приведу я некоторые письма друзей наших, всего лучше выражающие тогдашние их мысли и чувства.Письмо м-ра Шерли к губернатору:
Мая 25-го, 1629. Сэр и т. д. Сейчас едут к вам многие ваши и наши лейденские друзья; хотя мало кто из них, по правде сказать, будет вам в помощь, зато достигнута в большой мере цель, к которой стремились мы и которой столь сильно противились некоторые бывшие наши пайщики. Но тут господь явил волю свою, которую людям не дано нарушать. На корабле «Толбот», недавно отсюда отплывшем, отправили мы также нескольких работников; друзья же наши плывут на «Мэйфлауэре»{75}. По желанию вашему м-р Бичем и я, а также м-р Эндрюс и м-р Хэзерли будут теперь вашими компаньонами и т. д. Доверенность вашу мы получили, а товары продал друг и агент ваш, м-р Эллертон; ибо я в то время отлучился почти на три месяца в Амстердам и другие города Нидерландов. Ознакомился я и с соглашением, какое заключили вы с поселенцами, и могу только сказать, что сделали вы доброе дело для них и для себя, равно как и для друзей ваших в Лейдене. М-р Бичем, м-р Эндрюс, м-р Хэзерли и я столь это одобряем, что готовы к вам присоединиться и, с божией помощью и руководством, оказать вам все содействие, какое сумеем. Если бы не это решение, не знаю, как достигли бы вы цели, которую с самого начала себе поставили, а кое-кто вот уж несколько лет пытался осуществить. Мы знаем, что это лишит нас прибылей, какие могли бы мы иметь с благословения божиего и вашими стараниями; ибо большая часть тех, что приехали к вам в мае, и тех, кого посылаем мы сейчас, хоть люди, надеюсь, честные и добрые, однако едва ли помогут вам получать прибыль; скорее напротив, будут вам и нам на первых порах бременем; и если бы не мудрое и осмотрительное решение ваше, многие из поселенцев проявили бы недовольство. Отлично пишете вы — и не сомневаюсь, что так именно оно и будет, — что ныне, когда все бремя легло на немногих, вы снесете его лучше и с большей охотою, не встречая недовольства и противоречия, но объединитесь в любви и согласии, и бог несомненно благословит честный труд и усердие ваше и пошлет вам преуспеяние. А потому, думается мне, поступили вы весьма правильно, и все этим, конечно, довольны; я разумею людей рассудительных и честных, которые делом совести своей почитают выплату долгов и пекутся не столько о собственной выгоде, сколько о достижении благой цели, ради которой и задумано было все предприятие и т. д. Призывая благословение господне на вас, на всех близких ваших и на честные труды ваши, остаюсь искренний и любящий друг вашРади связности повествования упомянул я сразу обе партии лейденцев; хотя перевезли их за 2 раза, обе отплыли из Англии в том году. Первые, коих было 35 человек, покинули Англию в мае, а сюда прибыли примерно в августе. Вторых отправили в начале марта, а прибыли они в конце мая 1630-го. Два письма м-ра Шерли, из коих извлечения я только что привел (насколько касались они этого предмета), упоминают и тех и других. Расходы на них, как после показали счета м-ра Элдертона, превысили 550 фунтов, не считая доставки их сюда из Салема и с залива, куда сперва привезли их с их имуществом, а именно: переезд из Голландии в Англию, расходы на проживание там и на переезд в Америку, а также на одежду, какою их снабдили. Из счетов я вижу, что на первую партию поселенцев пошло грубошерстной ткани 125 ярдов, полотна 127 локтей, да башмаков 66 пар, да прочей мелочи. Расходы на вторую партию подсчитаны для каждой семьи отдельно, где по 50 фунтов, где по 40 или 30 на семью. Но, кроме всех этих расходов, друзьям и братьям пришлось снабдить их маисом и другой провизией, пока не соберут они собственного урожая, а до этого было далеко. Тех, что прибыли в мае, содержали более 16-ти или 18-ти месяцев, покуда не собран был урожай; соответственно и вторых. А они тем временем могли только соорудить себе жилье и подготовить землю под посев. Все это время расходы на них составили немногим меньше упомянутой мною суммы. Это записываю я подробно по разным причинам. Во-первых, дабы указать на редкий пример братской христианской любви и стараний выполнить данные братьям обещания, хотя бы непосильные; ибо взятые на себя ради этого тяжкие обязательства выполнялись охотно и радостно, и возмещения всех немалых расходов никто не просил и не получил. 2-е. Была тут несомненно и помощь свыше, ибо только это могло подвигнуть сердца людей для такого дела объединиться и во всех испытаниях сохранить верность братьям своим; тем более что большинство никогда тех и не видело и, насколько известно, не имело среди них ни родни, ни друзей или знакомцев; так что был здесь несомненно особый промысел и десница божия. 3-е. Дабы бедные переселенцы, заброшенные в дикий край, сумели в конце концов расплатиться по всем обязательствам, да и по многим другим, какими несправедливо обременили их из-за предательства некоторых людей, и несмотря на многие понесенные ими потери, о которых поведаю, если господь продлит дни мои. А тем временем восхищаюсь я всем, что послал он слугам своим, и смиренно благословляю святое имя его за его великие милости. По приезде лейденцев иные из поселенцев, видя и слыша, какие траты на них потребуются, возроптали, хотя бремя лежало не на их плечах; особенно же против ежегодных 3-х бушелей маиса, какие значились в прежнем соглашении, по которому откуплена была на 6 лет торговля. Дабы и этих удовольствовать, им было обещано, что если сумеют без того обойтись, то и не потребуют; это всех успокоило. И действительно, повинность эту не взыскивали, что видно будет далее. Хлопоты м-ра Элдертона о расширении и утверждении патента как на Плимут, так и на Кенебек, всего лучше видны из другого письма м-ра Шерли; ибо, истратив на это много времени и денег, он в том году все же не завершил дела, с тем и возвратился. Вот что писал об этом м-р Шерли:Джеймс Шерли.Лондон, марта 8-го, 1629.
Достойные и возлюбленные друзья и т. д. Часть писем ваших получил я в июле, часть позднее, с м-ром Пирсом; но покуда решалось главное наше дело, о патенте{76}, я не в силах был взяться за перо. М-р Эллертон так о нем тревожился, что я и за тысячу фунтов не хотел бы быть на его месте. Но господь благословил его усердие (и даже более, чем можно было ожидать в столь неблагоприятное время); ибо он снискал себе милость людей знатных и могущественных. Граф Уорик и сэр Фердинандо Горджес выполнили все, о чем писал ко мне м-р Уинслоу, и даже более, но это он расскажет вам сам. Затем просил он короля утвердить пожалованный ими патент, а также объявить вас корпорацией, с правом издавать и применять законы, столь же полным, как у поселения в Массачусетсе; на это король милостиво соизволил дать согласие и передал дело Лорду Хранителю Печати, чтобы тот поручил стряпчему такой документ составить, если есть на то прецедент. Лорд Хранитель и стряпчий сделали, что могли; но, как сказал Фест Павлу: немалой суммы стоило мне купить свободу твою; ибо многие загадки разгадываются и многие замки отмыкаются серебряным, а лучше золотым ключом. Затем дело должно было поступить к Лорду Хранителю Печати, для временного освобождения вас от пошлин; а тот не согласился, пока не будет это утверждено Советом. Вот м-р Эллертон и ходил ежедневно туда, где заседает он, но все не удавалось ему вручить петицию. А так как м-р Пирс со всеми пассажирами уже ожидал в Бристоле, пришлось оставить дело на стряпчего. Разрешение наверняка будет получено, ибо м-р Эллертин снискал расположение самых главных лиц; только ему непременно надо сюда возвратиться с первым же кораблем, какой от вас пойдет, ибо когда утвердят такое решение, вам ничего уж более не потребуется; оно доставит вам влияние и власть, подобающие сану вашему и делу, на какое призвал вас господь; и заткнет рты низким зложелателям, готовым очернить всякое ваше предприятие. А если освободят вас на 7 лет от ввозной пошлины и на 21 год от вывозной, то покроются вскоре и расходы на патент, а его вы получите несомненно. Но такие дела не вдруг делаются; нам не дано ускорить их, как хотелось бы; поэтому мы (ибо я пишу от имени всех наших здешних компаньонов) настоятельно вас просим прислать сюда м-ра Эллертона, а супругу его просим отпустить его еще на год, дабы завершил важное дело, которое, думается нам, большую сулит пользу и вам, и многим поколениям потомков ваших.Такое это было письмо. Оно помечено 19 марта 1629-го. Из него видно, как шло дело, отчасти видно также, каких расходов оно требовало, и как осталось незавершенным, и по какой причине; а в действительности (как стали позднее подозревать) главной причиною были старания м-ра Эллертона, чтобы еще раз его послали, для собственных его целей, и потому просил он именно так писать. Ибо закончить дело можно было и тогда, если бы не пункт насчет пошлин, а он придуман был м-ром Эллертоном и м-ром Шерли, а вовсе не здешними поселенцами, и не был для них столь уж важен; сошло бы также и без утверждения, раз имелось уже согласие короля; впрочем, и утверждать было можно, если бы м-р Эллертон этого пожелал; но недаром говорит пословица, что алчность достатку в дому не прибавит; случай был упущен, и много денег истрачено впустую, как видно из счетов. Но подробнее об этом сказано будет в свое время. Была и еще причина не на шутку обидеться на м-ра Элдертона (хотя о ней я почти позабыл, потому и опустил); а именно за то, что привез на этот раз с собою, ради выгоды, недостойного Мортона, это орудие всяческого бесчинства, за безобразные поступки высланного отсюда всего год назад. И не только перевез его, но и доставил прямо в наше поселение (словно в насмешку) и поместил у себя в доме, сделав своим писцом, пока не заставили его выдворить. Тогда тот вернулдя в свое логово в Массачусетсе, где вскоре своими бесчинствами подал справедливый повод схватить его и препроводить в Англию, а там оннемало времени провел в Эксетерской тюрьме{77}. Ибо, помимо здешних бесчинств, сильно подозревали его в убийстве некоего человека, который, в первый приезд его в Новую Англию, доверил ему свои деньги. От главного судьи Королевской скамьи пришел ордер на его арест, и на этом основании губернатор Массачусетса отправил его в Англию; а за другие совершенные им здесь проступки дом его разрушили, дабы не служил долее гнездом подобным мерзким тварям. Он, однако, вновь вышел на свободу и сочинил гнусную книгу, порочащую многих, благочестивых и уважаемых здешних людей, полную лжи и клеветы и кощунственной насмешки над ними и над богом. Несколько лет спустя, когда в Англии шла война, он снова сюда явился и был в Бостоне заключен в тюрьму за книгу эту и за иные дела, ибо закоснел во зле. Что касается других данных м-ру Элдертону наказов, а именно: ни в коем случае не расходовать на упомянутые товары более 50 фунтов и привезти только товар, годный для мены, то он их не выполнил и сделал как раз обратное; привез много чего для розничной торговли, продавая по пути все что можно, как свое собственное; остальное, о котором сказал, что оно общее, отдал на склад; а товару для менового торга привез куда меньше, оправдываясь тем, будто много истрачено на лейденцев, на патент и т. д. Что до прочего товару, то здесь такого наторговали и сами, ничуть не хуже, и притом не платили наличными. А превышение полномочий своих свалил он на м-ра Шерли и др.; об этом можно, мол, судить по его письмам; и что очень много истрачено на Эшли; зато уж на следующий год доставит он все меновые товары, за какими пошлют, лишь бы уладить все дела и т. д. Так удалось ему отговориться; а из писем м-ра Шерли и в самом деле можно было заключить нечто подобное, но это потому, что он подчинился м-ру Элдертону и считался с ним более, чем с письмами отсюда. Вот что еще пишет он в том же письме:
Мне понятно все, что пишете вы о необходимости выплатить долги; они действительно велики и должны быть тщательно проверены; однако не сомневаюсь, что, пребывая в любви и согласии, мы скоро с этим справимся; но действовать надлежит решительно, не теряя из виду нашей цели; а если упустим время для торговли, другие перехватят ее и оставят нас с носом. Нам, впрочем, известно, что опытностью и знанием края превосходите вы всех; поэтому, друзья и компаньоны, пусть не страшат вас размеры долга и т. д., не следует лишь поступать, как в поговорке, и искать в кошельке 12 пенсов, когда вложили всего 6. И раз уж вы и мы столько истратили и столько претерпели, переселяя вас и набираясь опыта, надо с божией помощью извлечь из этого пользу. Не рассчитывайте одними лишь ежегодными 50-ю фунтами составить такую сумму, которая погасила бы наши долги. Мы полагаем, что вам должно иметь всегда нужный запас товаров, главное же — пребывать в любви и согласии. Я знаю, что пишу к людям благочестивым и мудрым, научившимся прощать друг другу слабости и радоваться удаче каждого из вас; и если бы можно, я именно на этом всего более настаивал, ибо кое-кто из врагов надеется, что вы между собой перессоритесь и тем погубите славное ваше дело. Из верных источников слышал я, что говорят они: пока не раздирают вас внутренние несогласия, другим нечего и надеяться преуспеть в ваших краях. Мы о вас лучшего мнения и надеемся, что не только будете вы друг ко другу терпимы, но самую мысль о раздорах не допустите в сердца свои. Дай вам бог обмануть надежды недругов и осуществить все чаяния ваши и друзей ваших.Отсюда видно, что они столковались с м-ром Эллертоном и более считались с его желаниями и целями, нежели с советами, исходившими отсюда; оттого и осмеливался он превышать свои полномочия и идти по этому пути все дальше, к большому ущербу для поселения, как будет видно позднее. Здешние были этим весьма озабочены, но не знали, как помочь делу, ибо боялись раскола и раздоров, от которых столь усиленно остерегали их в приведенном письме. Крылась тут и иная причина: м-р Эллертон был женат на дочери преподобного старейшины, м-ра Брюстера (человека всеми здешними любимого и чтимого, который немало труда положил, толкуя им слово божие); и которого они боялись огорчить или обидеть, потому и терпели многое. А м-р Эллертон так был красноречив и столь лестные показывал письма от м-ра Шерли, с похвалами Эллертоновой мудрости, усердию и преданности делу; к тому же не было тогда никого более пригодного для таких поручений; а если кто выражал в нем сомнение, это приписывали зависти или иному дурному чувству. И хотя стремление нажиться увлекло м-ра Эллертона с прямого пути, все же полагаю, и милосердие велит мне надеяться, что и для поселения он готов был стараться; что, будучи высокого мнения о своих способностях и видя прибыли, какие приносил избранный им способ, вознамерился составить себе состояние, а вместе обеспечить м-ру Шерли (а быть может, и остальным) такие барыши, чтобы с лихвою возместили им их деньги и, возможно, даже скорее, чем обычным путем; что они полагали таким образом хоть частию тому содействовать; что никто из них не вносил намеренно в общий счет того, что делали они для своего кармана; и что м-р Шерли и другие в самом деле хотели, чтобы поселенцы снабжались прежде всего и лучше всего. Так думать велит мне милосердие; однако вышло иначе; цели своей они не достигли, поселенцы же весьма из-за того пострадали, как видно будет далее. Тут подоспело еще одно дело, задуманное м-ром Элдертоном и тамошними без ведома их компаньонов; и зашло оно столь далеко, что пришлось на него согласиться и в него вступить, хоть и не по душе это было и за исход можно было опасаться. Для изложения его воспользуюсь еще одной частью из послания м-ра Шерли:
Должен вас уведомить, что мы сочли за благо войти в компанию с неким Эдвардом Эшли (который кое-кому из вас, кажется, известен); но касается это единственно местности, на которую имеет он патент на имя м-ра Бичема; с этой целью мы его всем снабдили и т. д. Если угодно вам и тут быть с нами в доле, мы будем тому рады; ибо услышали, сколь охотно бристольцы (и, кажется, другие состоятельные люди из родни его) вызвались доставлять ему все потребное, в чаянии барышей; и решили лучше сами этим случаем воспользоваться и завести нечто вроде фактории, пока не ухватились за него те, кто не вынес, подобно нам, всех тягот по устройству поселения. А он, со своей стороны, как юноша разумный, предпочел войти в компанию с такими, что уже обосновались и могут его снабжать и поддерживать, чем с чужаками, которые только гонятся за барышом. Что вы с ним компаньоны, никому известно не будет; ими значимся лишь мы четверо: м-р Эндрюс, м-р Бичем, я и м-р Хэзерли, т. е. те, кто пожелал получить патент в возмещение больших убытков, понесенных при основании первого поселения; поэтому и решили мы взять его на наше имя. Итак, если угодно и вам присоединиться, я уже сказал, что мы на то согласны. М-р Эллертон не имел от вас полномочий на это новое соглашение и ничего не хотел делать без согласия и одобрения вашего. Присоединился к нам и м-р Уильям Пирс, и это сочли мы весьма удобным, ибо именно он, даст бог, доставит Эшли и его имущество; так и направит он свой путь. Он везет новый бот и доски на еще один, а также 4–5 дюжих молодцов, в том числе плотника. Если не пожелаете вы к нам присоединиться, страшась расходов и сомневаясь в успехе, просим вас хотя бы оказать ему возможную помощь, будь то людьми, провизией или лодками; и за все, разумеется, расплатимся. И просим вести счета его отдельно, даже если к нам присоединитесь; ибо в деле этом, как видите, компаньонов прибавилось; так что за жалованье всем работникам, за наем лодок и за провизию пусть будет он должником вашим; а за все, что сам для вас сделает, пусть ему должно будет поселение или вы сами; дабы эти счета не спутать с другими. А если вы, любезные друзья и компаньоны, присоединитесь к патенту Эшли и делу его, то мы, вложив туда немало денег и трудов, полагаем справедливым и разумным, чтобы и вы внесли свою долю, если уж не наличными, то обязательством расплатиться с нами, когда доля эта будет подсчитана; ибо рассчитывать следует не только на проценты, но и на риск; надеюсь, что милостью божией и вашим честным усердием все будет скоро выплачено; однако соглашение наше недолговременно; возьмемся же за дело со всем старанием, чтобы время это употребить наилучшим образом; и пусть каждый подставит плечо, тогда и бремя будет легче. Знаю, что вы обдумаете все это как люди честные и совестливые и дадите ответ, который всех удовольствует. Никто из нас не рисковал бы так, если бы не желали мы устройства вашего более, чем собственной выгоды. Что до выкупа задолженности за приобретение паев, тут проку ждать не приходится. Я знаю таких, что и снизить процент не согласятся; так что пусть остается это как есть; а выплачивать следует ежегодно, и надеюсь, что так и будет, как договорились. Да пошлет вам господь и впредь любовь и согласие; а мы остаемся любящими друзьями вашимиВыкуп задолженности за покупку был в числе указаний, данных м-ру Элдертону, и во многих случаях мог быть выгоден, если платить наличными (как иногда бывало); но м-р Шерли не был к нему склонен. А вот предприятие Эшли немало заботило поселенцев; он, правда, имел довольно ума и способностей, чтобы справиться с делом, но некоторые знали его за нечестивца; какое-то время он прожил среди индейцев, ходил там обнаженным и перенял их обычаи (тогда же выучился он их языку); можно было опасаться, что он и теперь пойдет дурным путем (хоть и зарекался) и бог не пошлет ему удачи. Едва высадился он в избранной им местности, называвшейся Пенобскот, примерно в 4-х лье отсюда, как написал (а затем и сам явился), заявляя, что ему нужен вампум, запас маиса на зиму и другое. Это были главные товары поселенцев, и собственной их торговле в Кенебеке весьма повредило бы, если бы стали снабжать его ими, а в компаньоны не взяли; с другой стороны, отказавшись не только войти с ним в дело, но и снабжать его, можно было кровно обидеть упомянутых выше друзей и потерять их дружбу; вместе с м-ром Элдертоном они наверняка ухитрились бы получить все нужное где-либо еще; к тому же, если не войти в это дело, то и м-р Эллертон в нем не участник, а очутится как бы между двух стульев, в ущерб обеим сторонам, но более всего поселенцам. Ибо были основания думать, что он-то и затеял все дело, а Эшли оказался для него подходящим человеком. И вот, чтобы не вышло хуже, решили мы в дело войти и снабдить Эшли, чем могли, а к поведению его не быть чересчур строгими; тем более что дали ему в качестве слуги, а скорее в товарищи, одного достойного юношу из лейденцев. На этого можно было положиться; ему-то и поручили держать Эшли в границах. Друзей в Англии известили, что предложение их принимают и вместе с ними входят в дело Эшли; сообщили, однако, и об опасениях насчет него. Но когда разобрали все товары, доставленные в тот год, оказалось, что товару для торга очень мало и Эшли снабжен куда лучше; пришлось купить у рыболовов вещи, нужные нам самим, а бумажные и шерстяные ткани (не имея их для торга) у самого м-ра Эллертона; из-за этого отдали задешево большую часть бобровых шкур, которые следовало отправить в Англию, в уплату огромного долга; и это весьма всех раздосадовало; правда, м-р Эллертон успокаивал нас, обещая в следующем году доставить все, что закажем. А долги были в тот год поистине велики, но вполне узнали мы об этом лишь 2 года спустя; добавились сюда и крупные суммы, какие м-р Эллертон снова занял в Бристоле из 50-ти процентов, что объяснил он необходимостью, ибо иначе не сумел бы в весеннюю пору отправить товары, столько завистников было у нашей торговли. Некоторым думалось, что все это одни отговорки; так или иначе, тяжкую ношу надо было нести, как несли мы позднее еще более тяжкую. Необходимость занимать из 50-ти процентов и трудность доставки товаров на рыболовецких судах к началу года, то есть ко времени, наиболее для торговли благоприятному, навели на новую мысль. Когда окончился рыболовный сезон, м-ру Эллертону попался на месте лова груз соли, который он купил за 113 фунтов; а вскоре мог бы получить на нем без труда 30 фунтов чистой прибыли. Но тут встретился ему м-р Уинслоу, ехавший в лодке из Кенебека с несколькими другими компаньонами, которые, разговорившись с ним, убедили его соль не продавать; и если согласятся остальные, оставить ее себе и нанять в западных областях корабль, чтобы ловил им рыбу, как водится, на паях; а соль для этого уже будет, и также готов помост, где соль надежно сохранится. А корабль этот, вместо того чтобы везти сюда соль, доставит полный груз товару для торговли, а именно хлеба, гороху, тканей и др., так что поселенцы, не платя фрахт, вовремя его получат, а это большую может дать выгоду. По пути домой мысль эту обсудили, и все ее одобрили, кроме губернатора, у которого душа к ней не лежала, ибо на рыбной ловле они всякий раз теряли; остальные, однако, стояли на своем, полагая, что теперь-то уж хорошо на рыбе заработают; а если не будет от нее прибыли и даже кое-какой убыток, то на доставке товара все равно выгадают; таким настояниям губернатор уступил, и слово было теперь за их английскими друзьями. Об этом в свое время будет сказано. А дело с патентом, как уже говорилось, все еще не было окончено; и м-р Шерли упрашивал снова отпустить к ним м-ра Эллертона, чтобы завершить его, а также привести в порядок счета и т. д.; так что, поразмыслив, решили отпустить его еще раз, хотя и не без опаски; он, правда, весьма красноречиво обещал все для нас сделать, как ему укажут, и прежних ошибок не повторять. Ему дали подробные наставления, а также письма к м-ру Шерли и другим касательно Эшли и собственного нашего снабжения меновым товаром, и сколь он для нас важен, и какой убыток понесли мы из-за его нехватки, ибо от прочих товаров толку было мало; написали и о рыболовном судне, что хорошо бы его нанять и нагрузить меновым товаром для поселения и для Эшли, и какая от этого выгода; впрочем, только если сочтут это нужным; но уж если пошлют, то чтобы непременно с полным грузом менового товару. А что из этого вышло, покажут события последующих лет. Едва не забыл я рассказать еще об одном событии, случившемся в начале этого года. В ту пору прибыл в Массачусетский залив некий м-р Ральф Смит{78} с женой и семейством и находился в Натаско, где уединенно жили несколько человек; а когда зачем-то причалила там наша лодка, он настоятельно просил взять его и сколько возможно пожитков; ибо слыхал, что в Плимуте сумеет на время найти жилье, пока надумает, где поселиться; там, если позволят ему, или где угодно будет богу; а только не в силах он долее жить в дикой местности, в лачуге, где мокнет и он сам, и имущество его. Видя, что человек он степенный, и зная, что был пастором, решили взять его с собой, хоть и не имели на сей счет указаний. Здесь приняли его радушно, отвели жилье, послали за прочим имуществом его и слугами, слушали его проповеди, а затем избрали пастором, и в этой должности пробыл он несколько лет. Уже сказано было, что многие лейденцы прибыли на кораблях, шедших в Салем, где всем распоряжался м-р Эндикотт; на кораблях этих были больные, от которых зараза пришла и на берег, где многие умерли, кто от цинги, кто от заразной лихорадки (хотя наши люди, благодарение богу, этого избежали). М-р Эндикотт написал к нам, прося помощи, ибо слыхал, что есть у нас человек, искусный во врачевании, уже исцеливший немало людей от цинги и других недугов тем, что отворял им кровь или как-либо иначе. В ответ на просьбу здешний губернатор послал этого лекаря, а также письмо, на которое получил ответ; его и привожу здесь, так как он краток и показывает, как началось знакомство, поведшее нас по пути, указанному господом; приведу и еще одно письмо, из которого видно, как совместно основали они церковь{79}. Вот как письмо это начиналось:Джеймс Шерли,Тимоти Xэзерли.Бристоль, марта 19-го, 1629.
Досточтимый сэр! Редко бывает, чтобы слуги одного господина, в одном дому проживающие, оставались друг другу чужими; заверяю вас, если говорить проще, что не желал бы, да и не могу быть вам чужим. Народ божий одною помечен метой, одною печатью запечатлен и одно имеет сердце, руководимое тем же духом истины; а раз это так, то не может быть меж ними раздора, а непременно сладчайшая гармония. Я (как и вы) ту же мольбу возношу ко господу, чтобы нас, как братьев во Христе, объединила любовь истинно небесная; чтобы все сердца и все помыслы наши устремлены были на дело, превышающее силы наши; с благоговением и страхом возводя взор к тому, кто один лишь может укрепить нас и направить. Весьма обязан вам за любовную заботу, какую проявили вы, прислав к нам м-ра Фуллера; я порадовался, узнав от него о суждениях ваших касательно внешних способов поклонения господу. Это, насколько могу я судить, именно то, что являет нам истина и во что сам я веровал и что проповедовал с тех пор, как мне явил себя милостивый господь; и весьма далеко от того, что приписывает вам молва. Этого и должны ждать на земле дети божии, и велика милость его, что укрепляет нас на этом пути. А сейчас не стану вам долее докучать, ибо вскорости, даст бог, с вами увижусь. Смиренно с вами прощаясь, препоручая вас милостивому господу, остаюсь верный и любящий друг вашВторое письмо показывает, как взялись за устройство церковных дел в Салеме, где основали 2-ю церковь в этих краях; после чего по воле божией возникло их еще много, в различных местностях.Дж. Эндикотт.Намкек, мая 11-го, 1629.
Сэр, осмеливаюсь беспокоить вас кратким письмом, дабы уведомить, что посылал нам господь с тех пор, как имели вы от нас вести. Ибо несмотря на противодействие, оказанное нам здесь и в других местах, богу угодно было заложить основание того, что, как надеюсь я, во всем согласно со словом его. Июля 20-го дня господь внушил губернатору нашему объявить торжественный день покаяния, дабы избрать нам пастора и наставника. Первые часы дня этого прошли у нас в молитвах и проповеди, а затем состоялись выборы, которые устроены были следующим образом: намеченные нами особы (в Англии были они пасторами) спрошены были об их призвании; они отвечали, что призвание бывает двоякое; одно, называемое внутренним, когда господь внушает человеку следовать этому призванию и наделяет его необходимыми дарованиями; второе есть призвание внешнее, исходящее от людей, когда верующие соглашаются меж собою вместе следовать во всем путями божиими, и каждый из них (мужчин) получает право избирать служителей церкви и т. д. Мы убедились, что 2 эти особы достойны в том смысле, в каком говорит апостол Тимофею, что епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, учителей и т. д. И полагаю, что могу сказать, как сказал евнух Филиппу: вот вода, что препятствует мне креститься? И дух святый сошел на евнуха. А когда оба эти слуги божии ответом своим все о себе поведали (и оказались достойными), мы увидели, что по таковом испытании можем подать голос за избрание их. М-р Скелтон избран был пастором, а м-р Хиггисон проповедником; а когда согласились они на это, м-р Хиггисон с 3-мя или 4-мя из наиболее почтенных членов общины с молитвою возложили руки на м-ра Скелтона. Затем возложили руки и на м-ра Хиггисона. А теперь, в четверг (он приходится, кажется, на 6-е августа), назначен еще один день покаяния, чтобы нам избрать и возвести в сан старейшин и диаконов. Надеюсь, любезный сэр, что вы, а с вами и остальные божии люди (идущие путями божиими) признаете теперь, что нами заложено истинное основание и что эти 2 благословенных слуг господних взошли к нам дверьми, но отнюдь не чрез окно. Поэтому и осмелился я обеспокоить вас этими строками и просить не забывать нас и т. д. Готовый служить вам всем, что в силах моих, остаюсьЧарлз Готт.Салем, июня 30-го, 1629.
ANNO DOM. 1630
Будучи в изобилии снабжен товарами, Эшли быстро выменял на них множество бобровых шкур и смекнул, что всего выгоднее будет отправить их в Англию; а за товары, полученные от здешнего поселения, расплатиться не подумал; задолжал ему и набрал кое-чего еще. Хоть его и распознали, но дали ему продолжать и только написали обо всем в Англию. Однако там, получив и продав его бобровые шкуры (что пришлось им по вкусу), а также наслушавшись ему похвал от м-ра Элдертона, более стали заботиться о его снабжении, нежели о поселенцах, а тем нашли даже, за что выговаривать. Пришлось также купить для него ботик и нанять капитана и матросов, чтобы перевозить его припасы и зерно (а его было много), ибо соседние с ним индейцы маиса не выращивают; когда он созревает, настает уже ненастье, а море становится опасным; поэтому Эшли, имея только шлюпку, мало что мог сделать. В ту весну поселенцы весьма надеялись на доставку припасов с ожидавшимся рыболовным судном; потратились и на помост для рыбы, а судна все не было, и ничего не слышно было о припасах. Наконец узнали, что некое рыболовное судно доставило столько-то провизии для Эшли, и подивились этому, тем более что не было писем от м-ра Элдертона или м-ра Шерли; пришлось кое-как перебиваться. Услышали затем о прибытии в Массачусетский залив м-ра Пирса и что привез он пассажиров и товары. Послали туда шлюпку, будучи уверены, что имеется нечто и для нас. Но он сказал, что у него ничего нет; что действительно послано было на рыбный лов судно, но оно 11 недель блуждало по морю и из-за непогоды вынуждено было возвратиться в Англию; а так как сезон лова кончался, то более в море не вышло. Однако и оно, как он слыхал, не везло много товару для поселения, да и не их это судно, как понял он из некоторых речей м-ра Эллертона. Зато м-р Эллертон купил другое, которое должно было доставить сюда его самого, а затем ловить морского окуня к востоку от нас, а также привезти товар и т. д. Эти вести немало нас огорчали и удивляли. Такие же сведения, и с некоторыми подробностями, привез м-р Уинслоу, побывав у восточного побережья; похоже было, что м-ра Эллертона еще долго придется ждать. Тогда, воспользовавшись случаем, послали в Англию м-ра Уинслоу, а с ним все шкуры, какие были, чтобы узнать, как идут дела, ибо весьма всем этим были встревожены, как и поступками м-ра Эллертона; послали письма и дали наставления, какие сочли нужными; и если что не так, чтобы отрешил м-ра Эллертона от должности агента и от всех дел; а также проверил отчетность и т. д. Примерно в середине лета прибыл в Массачусетский залив м-р Хэзерли, с тем самым кораблем (называвшимся «Фрэндшип»), что должен был идти на лов. К нему тотчас послали мы, нимало не сомневаясь, что теперь-то уж прибыли товары для поселения и мы наконец узнаем обо всех делах. Однако подтвердились лишь прежние слухи о том, как корабль этот долго носило по морю, так что провизия была попорчена или израсходована, и пришлось отказаться плыть дальше. А он, Хэзерли, посланный прочими компаньонами посмотреть, как идут дела здесь, был в Бристоле вместе с м-ром Эллертоном на борту корабля, который тот купил (называемого «Уайт Эйнджел»), и они готовились уже поднять паруса, когда прибыл к м-ру Элдертону посланец из Барнстэбла с вестью о судне, вернувшемся из-за непогоды. И тот, не зная, что ему делать, и истратившись уже на корабль, готовый к отплытию, распорядился другой корабль отпустить, а товары взять. Короче говоря, м-р Хэзерли о чем-то умалчивал и был озабочен, ибо не знал (в отсутствие м-ра Эллертона), как до приезда его распорядиться привезенными товарами; но слышал, что тот прибыл на втором корабле к восточному побережью, и можно его вскоре ожидать. Поселенцам же сказал, что для них на этом судне много не привезли, всего лишь 2 кипы покрывал из Барнстэбла, да 2 бочки меду, разлитого в деревянные фляги (на поверку же оказалось, что во флягах оставалось от 2-х бочек не более 6-ти галлонов, остальное распили под видом утечки). А между тем для неких джентльменов, поселившихся в Массачусетсе, корабль доставил множество товаров, за которые плачен был фрахт с каждой тонны. С тем и пришлось плимутцам вернуться к себе; со скромным узлом товару, странными вестями и письмом, столь же непонятным, которому они немало подивились. А гласило оно следующее:Джентльмены, компаньоны и любезные друзья и т. д. Буду краток; нынешний год отправили мы рыболовное судно да еще судно для торговли; это последнее мы купили, так что немало поистратились, как видно будет из счетов. А так как кораблю этому (названием «Уайт Эйнджел») надо делать (если можно так сказать) 2 дела, ловить морского окуня и торговать, а м-р Эллертон занят торговлей, так, чтобы рыбная ловля не понесла ущерба по нерадивости матросов, просили мы отправитъся с ним вашего и нашего любезного друга м-ра Хэзерли, зная, что будет он в помощь м-ру Эллертону, на радость вам, а для всех нас заботливым и любящим другом и в деле нашем большой опорою; так что если что случится с одним из них (от чего сохрани бог), то другой поведет дело и отчетность, как подобает. Ибо мы вконец и зу выточились, как вы от них узнаете и т. д. Когда израсходовали мы каждый по 4–5 сотен фунтов, мы еще особо не печалились и положились на вас и на агента вашего (который, скажу без лести, и от вас и от нас безмерную заслужил благодарность за труды свои и т. д.); но сейчас несем мы расходы вдвое, а кто и втрое большие; оттого и пишем и посылаем друга нашего м-ра Хэзерли, которого просим ласково принять, в чем, впрочем, не сомневаемся. Главное, зачем посылаем его, это чтобы проверил счета и состояние всего дела, в чем просим вас дать ему полный отчет, хотя бы пришлось для этого задержаться кораблю и делам. Ибо в большой будем обиде, если, совершив по просьбе нашей столь долгий путь и с божией помощью возвратясь, не сумеет он по вашей вине привезти сведения, какие нас вполне удовлетворили бы. Надеемся, однако, что вы так поведете дело, чтобы ни ему, ни нам не на что было пожаловаться, а мы по-прежнему будем обо всех вас иметь наилучшее мнение и т. д. Обещать не стану, но все старания приложу и в скором времени надеюсь получить патент ваш, к полному вашему удовольствию. Надеюсь, что сказанное не примете в обиду. Ибо пишу не по злобе, а думается, что по справедливости. Любовно приветствуя всех вас во господе, остаюсь готовый к услугам в меру сил моихНеудивительно, что все это нас озадачило и встревожило; во-первых, зачем рыболовному судну везти чужие товары, когда для нас не привез почти ничего; а ведь главной нашей просьбой (как уже говорилось) было получить как можно больше припасов, и особо было указано не отправлять судно иначе как с таким грузом. А что прибыл вдруг за наш счет корабль наперекор нашим указаниям, было и вовсе непонятно; тем более что его постигла такая неудача и припасы пропали. Во-вторых, куплен был еще один корабль и затеяно новое дело, о котором здесь никто и не помышлял, ни единым словом не обмолвился и ничего не писал; и как могло это случиться, мы и вообразить себе не умели. Ловом морского окуня здесь никогда не занимались, а когда о нем узнали, сочли делом пустым и непременно убыточным. И никогда не думали мы поручать м-ру Элдертону торговать. В-третьих, весьма странно было, что друзья наши, сетуя на большие траты, брались вместе с тем за столь крупные дела, расходовались на суда и придумывали что-то новое, не только не спрашивая совета и указаний, но наперекор им. В-четвертых, странно было, что о делах столь важных и дорого стоящих писал он столь кратко и невразумительно. Чтобы разрешить все эти сомнения, приходилось терпеливо дожидаться возвращения м-ра Элдертона и м-ра Хэзер ли. Тем временем м-р Уинслоу был уже на пути в Англию; остальные вынуждены были, плохо ли, хорошо ли, заниматься своим делом в ожидании лучшего. Наконец (сдав товары по назначению) прибыли м-р Хэзерли и м-р Элдертон; видя наше печальное недоумение, м-р Элдертон объяснил, что корабль «Уайт Эйнджел» принадлежит вовсе не нам, прибыл не за наш счет и что если не пожелаем, то и не будем иметь к нему касательства. М-р Хэзерли это подтвердил и сказал, что ему предлагали войти в долю, но он отказался; однако усомнился, как бы в случае убытков (весьма возможных) не включили корабль этот в общий счет, ибо дело это затеял м-р Эллертон и всех в него втянул. О рыболовном судне он велел не тревожиться, ибо все счета при нем, и показал, что первый выход его в море обошелся немногим более 600 фунтов; а теперешнее плавание даст прибыль от фрахта и от продажи нескольких голов скота, которые он привез и уже продал; а заплатят за это частию здесь, частью векселями на Англию; так что на наш счет можно не вносить, если не пожелаем. Да и после первого плавания продал он в Англии много товару, выручку же потратил на второе, так что, включая товар и принадлежности, потребные м-ру Эллертону для лова, это составит большую часть названной суммы; ибо ему понадобится соль, сети, а также шипы, гвозди и пр.; на все вместе около 400 фунтов, а если учесть, что часть убытков приходится на долю поселенцев (это будет немногим более 200 фунтов), то и выйдет, что они в расчете. Этим поселенцы были довольны, ибо не хотели, чтобы за ними что-то числилось; и более охотно выслушали предложение насчет совместной торговли, спросив м-ра Хэзерли, что получат они, если согласятся; он сказал, что ездил в качестве их агента, имея от них доверенность на все, что предпримет он совместно с м-ром Элдертоном; за действия одного м-ра Элдертона они отвечать не обязаны, разве если того пожелают; а вот если он, Хэзерли, сделает что-либо самостоятельно, они от этого не отопрутся. Тут поселенцы продали ему и м-ру Эллертону все, что оставалось товару, тут же его передали и составили об этом документ, который подписали они оба, и м-р Хэзерли, и м-р Эллертон. С согласия м-ра Хэзерли м-р Эллертон, лучше всех знавший местных жителей, тут же обменял на бобровые шкуры все предметы сверх того, что требовалось для лова, как-то: 9 лодочных парусов из крепкого нового холста, а к ним новые канаты и другие нужные вещи. Так что, казалось, хорошо себя обеспечили. Все же мы сурово укоряли м-ра Элдертона за его затеи, ибо не верили в их успех. Кроме менового товару, м-р Эллертон и м-р Хэзерли привезли в поселок (продав все, что могли, другим поселениям) множество других товаров: полотна, наматрасников, чулок, тесьмы, булавок, покрывал и др. И предложили желающим покупать; но м-ру Эллертону мы сказали, что и прежде запрещали ему привозить за наш счет подобные товары; это прямой ущерб нашей торговле и доходам. Тут он и м-р Хэзерли сказали, что если покупать не хотим, они все продадут сами, а чего не сумеют продать за деньги, за то возьмут зерном. Им сказали, пусть продают, если имеют на то указания. Всего товару набралось более чем на 500 фунтов. Затем м-р Эллертон пошел на корабль готовиться к ловле окуня; а м-р Хэзерли (как было ему поручено) ознакомился с делами поселения (о которых дали ему полный отчет), а затем попросил лодку, чтобы посетить фактории в Кенебеке, а также в Пенобскоте, где жил Эшли; ибо так указали ему в Англии. Ему дали для этого лодку и людей, и обо всех делах чистосердечно и подробно поведали, чем вполне его удовольствовали; тут убедился он, что м-р Эллертон вел собственную игру и не только великий причинял ущерб поселению, где ему доверяли и сделали агентом, но и вводил в заблуждение английских компаньонов, оговаривая поселенцев, которым, мол, никогда не выплатить долга (ибо обременены расходами); а вот если последуют его советам и замыслам, то он, вместе с Эшли (когда получше его снабдят), быстро вернет им все вложенные деньги, и с хорошим барышом. М-р Хэзерли поведал и о том, как намеревались поступить с кораблем «Уайт Эйнджел», на котором имелись хорошие пушки и известно было, что он (когда принадлежал городу Бристолю) участвовал в большом морском сражении и немало способствовал победе; вот и договорились (и сделал это м-р Эллертон), чтобы сперва доставил он сюда товары, нагрузился рыбою и шел в Опорто, а там его продадут вместе с грузом и с пушками. Об этом уговорились заранее с одним тамошним фактором, которому должны были передать корабль. Однако намерение это не было осуществлено; частию потому, что (узнав о нем) здешние друзья отговаривали м-ра Элдертона и м-ра Хэзерли, указывая, что в случае огласки большой выйдет вред английским друзьям (людям состоятельным), а что до поселения, то оно решительно станет возражать; частию из-за неудачного плавания обоих кораблей, которые пришли слишком поздно для хорошего лова; да и команда их состояла из пьяниц, с которыми не мог справиться ни м-р Эллертон, ни кто-либо другой; все это со стыдом и сокрушением увидел м-р Хэзерли и все, кто близко к ним приступался. А Эшли (еще до возвращения м-ра Хэзерли) уличен был в продаже индейцам пороха и дроби и арестован уполномоченным, который намеревался также конфисковать бобровых шкур весом более 1000 фунтов; конфискации, однако, не последовало, ибо здешний губернатор предъявил подписанное Эшли обязательство под угрозой штрафа в 500 фунтов не продавать индейцам никакого оружия и не совершать других проступков; оказалось также, что он творил блуд с индейскими женщинами (чего опасались с самого начала, потому и принимали к нему строгие меры); короче говоря, товар удалось выручить, а Эшли под стражей отправили на родину. Дабы рассказать о нем все сразу, скажу, что, пробыв некоторое время в тюрьме Флит, он был, стараниями друзей своих, освобожден и намеревался сюда вернуться; но господь этого не допустил; зная его опыт в торговле бобровыми шкурами, некие купцы предложили ему ехать в Россию, на что он согласился; на обратном пути потерпел он кораблекрушение; тем и кончил. Мистер Хэзерли, во всем разобравшись, вполне был удовлетворен и мог сообщить поселенцам, каковы расчеты между м-ром Элдертоном и поселением. Он понял, что м-р Эллертон провел его{80} и забрал в свои руки все товары, какие м-р Хэзерли должен был совместно с ним доставлять поселению на корабле «Фрэндшип»; присваивал также большую часть фрахта и часть собственных денег м-ра Хэзерли, как видно будет из дальнейшего. Он возвратился в Англию, и с ним послали остальным компаньонам изрядное количество шкур; и он, и шкуры встречены были с радостью. М-р Эллертон занялся собственными делами и уехал на своем корабле «Уайт Эйнджел», не будучи уже агентом поселения; но расчеты с ним не кончались для нас еще многие годы, и притом долго оставались неясными и нарочно были запутаны, к великой досаде и большому ущербу для поселенцев, которым пришлось в конце концов (чтобы отделаться) принять бремя, несправедливо на них возложенное, которое едва не сломило их, как видно станет далее, если бог продлит дни мои, чтобы окончил я свою повесть. С м-ром Хэзерли послали также письма к тамошним компаньонам, объясняя, что м-р Хэзерли и м-р Эллертон освободили нас от счетов за «Фрэндшип» и оба утверждали, что «Уайт Эйнджел» и вовсе до нас не касается; поэтому чтобы не ставили его нам в счет. Написали и агенту нашему, м-ру Уинслоу, чтобы он также (от нашего имени) возражал, если станут это делать, ибо мы с этим не согласимся никогда. И чтобы заявил компаньонам, что от м-ра Элдертона отступились мы напрочь; что он нам более не агент и к делам нашим касательства не имеет. В том году Джон Биллингтон-старший (тот, что прибыл с первыми поселенцами) был арестован и судом присяжных признан виновным в преднамеренном убийстве, как ясно указывали улики. И за преступление свое был казнен. Эта первая среди нас казнь всех повергла в глубокую скорбь. Когда судили его, сделано было все возможное; советовались с м-ром Уинтропом{81} и другими образованными джентльменами, недавно прибывшими в Массачусетс, и все согласны были в том, что его надобно казнить и очистить край от крови. Преступник и близкие его нередко и прежде подвергались наказаниям за различные проступки и были из числа самых нечестивых. Они прибыли из Лондона и навязаны были поселению не знаю уж какими приятелями. На сей раз он подстерег одного юношу, некоего Джона Новичка (с которым был в ссоре), и выстрелил в него из ружья, отчего тот скончался. Имея в руках два письма о делах преподобных друзей наших в Массачусетсе, недавно туда прибывших, считаю нужным привести их здесь (насколько это относится к делу и может пригодиться будущим временам); тем и завершу я повесть об этом годе.Джеймс Шерли.Марта 25-го, 1630.
Сэр, будучи в Салеме в воскресенье 25 июля после вечерней молитвы, м-р Джонсон получил от губернатора м-ра Джона Уинтропа письмо, извещавшее о том, что постигла их в Чарльстоне божия кара — моровое поветрие, которое унесло уже нескольких из них, не различая праведных и нечестивых. По желанию губернатора благочестивейшие из здешних совещались о том, что надлежит сделать, дабы умилостивить господа и т. д. Решено было обратить к нему помыслы наши, а для этого посвятить 6-й день нынешней недели (то есть пятницу) на то, чтобы смириться перед ним и испрашивать указаний его; и чтобы после совместной молитвы какие-либо благочестивые особы, друг другу известные, принародно высказали это свое желание и осуществили его, то есть торжественным соглашением обещали господу следовать путями его. А поскольку жилища наши и все имение находятся в трех различных местах и в каждом имеются достойные люди, то чтобы везде день этот отметить и стать 3-мя отдельными церковными общинами; однако не проявлять опрометчивости при выборах на церковные должности и не принимать в лоно свое никого, кроме немногих и хорошо известных; обещая, что в дальнейшем приняты будут, согласно их символу веры, все, показавшие себя достойными. А плимутскую общину просят они посвятить этот день той же цели и молить господа, да отвратит от них карающую десницу свою и да наставит всех нас на путь праведный. И хотя времени остается мало, просим вас совершить это богоугодное дело, ибо надобность в нем неотлагательна, и будет это во славу божию, а нам и вам в помощь и утешение. С любовью всех вас приветствуем.Ваши братья во Христе и т. д.Салем, июля 26-го, 1630.
Сэр и т. д. Сообщаю печальную весть о том, что многие среди нас занемогли и немало уже скончалось; да будет над ними милость божия. Несколько человек приняли ковенант{82}; первые четверо были: губернатор м-р Джон Уинтроп, м-р Джонсон, м-р Дадли и м-р Уилсон; затем присоединились к ним еще 5; похоже, что ежедневно будут присоединяться и другие; да умножит милосердный господь число их и благочестие во славу его. Один здешний джентльмен, некий м-р Коттингтон (из Бостона) сказал мне, что м-р Коттон{83} наказывал им в Саутгемптоне, чтобы с плимутцами советовались и обид им не чинили. Есть здесь добропорядочные христиане, желающие нас видеть, кто из любви к нам и доброго о нас мнения; а кто затем, чтобы убедиться, так ли мы плохи, как они о нас слыхали. Мы сделались известны благочестием и любовью к господу и святым его; пусть господь содеет нас все более этой славы достойными, а не только по слухам; иначе не будет нам от того блага. С любовью вас приветствуем, как и прочих друзей наших. Да благословит Иисус и нас, и весь народ Израиля. Аминь.Так из скромного начала родилось великое, а свершила все та длань, что из ничего создала все сущее и всему сущему дарует жизнь; и как одной малой свечи довольно, чтобы возжечь их тысячу, так и свет, здесь зажженный, воссиял для многих и, можно даже сказать, на всю страну; да восхвалим за это господа Иегову.Любящий брат ваш и т. д.Чарльстон, августа 2-го, 1630.
ANNO DOM. 1631
Когда волей божией избавились мы от Эшли, а м-ра Элдертона отрешили от должности агента, дела у плимутцев вошли в русло и вести их стало легче, ибо и в Пенобскоте сделались они полными хозяевами. Хотя м-р Уильям Пирс, как уже говорилось, имел там долю, он теперь охотно согласился, чтобы ее выкупили. М-р Уинслоу, будучи послан в Англию, как только смог, прислал оттуда запас провизии; а когда возвратился, несколько задержавшись из-за тамошних дел, привез много пригодных товаров, что позволило успешно торговать. Однако ни его хлопоты, ни посланные отсюда письма не помешали м-ру Шерли и остальным поставить в счет плимутцам и «Фрэндшип», и «Уайт Эйнджел»; и пошли из-за этого нелады, как видно будет далее. Здесь приведу я следующее письмо м-ра Уинслоу об этих делах:Сэр, господь помог мне получить через м-ра Эллертона письма ваши и доставить их из Бристоля в Лондон; однако за исход дела весьма опасаюсь. М-р Эллертон намерен снова готовить корабль для рыбного лова. М-р Шерли, м-р Бичем и м-р Эндрюс отступились от всех особно хозяйствующих и заявили, что, если бы не мы, они в дела вашего края не вложили бы и пенни, а м-р Хэзерли не решился, как поступить. Вы пишете, что он и м-р Эллертон взяли «Уайт Эйнджел» на себя, ибо здешние компаньоны утверждают, что такого распоряжения не давали и отвечать за него не станут. Если они это все же сделают, тогда все хорошо. Чем это окончится, не знаю. Да поможет нам господь, чтобы не посрамили мы его нашими сварами. Слышал я (от одного друга своего), будто меня сурово порицали, зачем сказал вам все, что узнал весною о покупке и отправке корабля;[57] но если бы не сообщил я вам того, что достоверно узнал, то не выполнил бы обязанности вашего агента. А с доверенностью, некогда выданной м-ру Эллертону, произошло то, чего мы опасались; ибо м-р Шерли и остальные теперь ее не отдадут; она-то и позволила агентам нашим доставать столь крупные суммы. Теперь ожидаю я горьких слов, кислых взглядов и нелестных отзывов как за то, что пишу вам это, так и за разглашение прежнего. Я желал бы иметь должность менее неблагодарную; но надеюсь, что чистая совесть поможет мне с нею мириться и т. д.Вот что писал он. Письмо помечено 16 ноября 1631-го. Упомянутая доверенность выдана была м-ру Эллертону за всеми подписями и печатью, когда впервые взяли его в агенты, а в 1629 году, когда действия его стали казаться подозрительны, ее у него потребовали назад. Он сказал, будто она находится среди его бумаг и он ее до отъезда своего сыщет и вернет. Перед самым отъездом потребовали ее снова. Он сказал, что сыскать не сумел, а бумаги необходимо ему взять с собою, и он ее пришлет с восточного берега с баркой; не нашлась она и тогда, и он обещал искать ее по пути в Англию. Неизвестно, была ли она тогда уже ум-ра Шерли; но теперь он ее не отдает и держит при себе. Итак, даже меж друзьями следует подумать, прежде чем доверить что-либо, а доверенное не оставлять надолго нестребованным.
Извлечения из письма об этом предмете м-ра Шерли, в котором истина предстает всего яснее:
Сэр, письмо ваше получил через возлюбленных друзей наших м-ра Эллертона и м-ра Хэзерли, которые, благодарение богу, после долгого и опасного плавания на корабле «Эйнджел» прибыли благополучно в Бристоль. М-р Хэзерли уже побывал у нас; м-ра Эллертона я еще не видел. Благодарим вас и радуемся, что отговорили вы его от поездки в Испанию и того, что он там замышлял; ибо отнюдь этого не одобряли, равно как и рыбного лова, для которого предназначен был «Фрэндшип»; мы хотели, чтобы он продал соль и не брался за столько дел; частию из-за собственных наших неудач в подобных предприятиях, частию из нежелания тратить столько денег. Он, однако, уверил нас, будто именно таким способом можно выплатить нам, ибо поселение еще долго этого не сумеет; и даже, помнится, усомнился, удастся ли вам одною лишь тамошней торговлей оправдывать свои расходы и выплачивать нам долг. Потому и вовлек он нас в предприятие Эшли, которого мы вовсе не знали, и т. д. Что до рыболовного судна, то мы сожалеем, что оказалось оно столь обременительным, и нашу долю расходов готовы нести. Что сделали м-р Хэзерли и м-р Эллертон, то они несомненно возместят[58]; а мы никогда не поручали им такого соглашения, чтобы вас в чем-либо от нас отделить. Полагаю, что нет и у вас причины нас покинуть, ибо мы ни во что вас не вовлекали, кроме того, на что уговорил нас ваш же агент и чего сами вы желали в письмах ваших. Если он превысил данные вами полномочия, надеюсь, что этого вы нам в вину не поставите, а тем более от нас не отделитесь, когда мы столько денег уложили, и т. д. Боюсь, однако, что и с вами, и с нами поступили не по совести; ибо, как вы пишете, половины и даже четверти этих 4000 ф., истраченных вовремя и на нужный товар, было бы довольно, чтобы снабдить вас лучше, нежели было это сделано. И все же, хоть я мог бы еще немало чего написать, не смею думать, что он оказался бесчестным и не имел намерений самых лучших; но и на мудрейших бывает проруха. А ныне, когда господь дает нам надежду свидеться, не сомневайтесь, что все мы постараемся разобраться в счетах по справедливости и как можно скорее. Полагаю, что вы послали м-ра Уинслоу, а мы м-ра Хэзерли, чтобы друг друга ознакомить с положением дел. Отчетом м-ра Хэзерли мы удовлетворены; надеюсь, что и м-р Уинслоу по возвращении к вам вполне вас удовольствует. На ваше письмо я готов ответить подробнее, однако на сей раз буду краток. Что «Уайт Эйнджел» внесен в ваш счет, должно удивлять вас не более, чем удивила нас покупка его; ибо вы дали Эллертону доверенность[59], по которой обязались за все действия его отвечать; мы ему таковой не давали, однако, доверяя ему и вам, оплачивали векселя, какие он на нас выдавал, и т. д. Если писал я, что кораблю этому назначены два дела: ловить рыбу и торговать, то поверьте, что и в мыслях не имел торговли, которая могла бы нанести вам ущерб, и ни с кем для такой цели не объединился бы; и всегда я был против этого и говорил: это разорит и погубит поселенцев.Остальное я опускаю, ибо скучно и не совсем к делу относится. Это письмо помечено 19 ноября 1631-го. В другом письме, от 24-го того же месяца, м-р Шерли говорит следующее:
А что пишете вы столь гневно о Корабле «Уайт Эйнджел», будто мы вам его навязали, наперекор намерениям купившего, то тут вы забываетесь и нас весьма обижаете. Не беремся гадать, что именно было в мыслях у купившего, а вот что говорил он, это мы слышали сами и на том будем стоять и всякому докажем; а говорилось так: если не купить его, то не удастся снабдить Эшли; а если его не снабжать, то вам с нами не расплатиться. А вы и в самом деле этого не могли; указал он и причины, которые оглашать мы не станем, если нас к тому не вынудите неразумным вашим отказом и не раздуете еще более огонь, который и без того разгорается, и т. д.
Из другого письма его, от 2 января 1631-го.
Расходы на прошлогодние плавания «Фрэндшип» и «Уайт Эйнджел» намерены мы считать за поселением, надеясь, что на сей раз принесут они вместо убытку прибыль, и меньше будет путаницы в счетах наших, и меньше меж нами неудовольствия. Что до «Уайт Эйнджел», то хоть и выложили мы деньги, и на свое имя сделали купчую, однако никто из нас не помышлял от вас отделяться; ибо не хотели, чтобы всему свету (или, скажем, Бристолю) сделалось известно о неладах ваших с м-ром Эллертоном, а также между ним и нами; что повредило бы его репутации перед задуманным плаванием. Сейчас мы сдали ему корабль за 30 ф. в месяц по фрахтовому контракту и обязали, под залог в 1000 ф., выполнить все условия и, даст бог, привести его в Лондон. А что доставит он на нем для вас, то особо будет помечено вашей меткой, взяты будут накладные и посланы в письме м-ра Уинслоу, который едет нынче в Бристоль по тому же делу. Так что на сей раз мы и м-р Эллертон действуем как бы посторонние лица. Он привез 3 книги счетов, одну по делам компании, другую по делам с Эшли, а третью по «Уайт Эйнджел» и «Фрэндшип». Книги эти, или списки с них, мы намерены прислать вам, ибо вы лучше нас сумеете найти в них ошибки. Мы можем показать, сколько денег брал он у нас, а вы запишете за ним все бобровые шкуры, какие получил он от вас. У него выходит, что общая сумма составит 7103 ф. 17 шилл. 1 п. Из нее истрачено им или же выдано м-ру Уайнсу и другим лицам около 543 ф.; а вы по книгам своим увидите, получали ли от него именно столько и именно такого товару, какой ставит он вам в счет; вот и все, что могу я сейчас сказать об этих счетах. Он думал в них разобраться за несколько часов, однако, вместе со Стрэтоном и Фоггом, занимался ими более месяца; а остаться, пока не разобрали мы всего, он не мог, иначе не поспел бы к рыбному лову, да так оно, кажется, и вышло, и т. д. Хвала богу, что и вас, и нас надоумил он послать друг к другу; ибо если бы Эллертон еще год следовал своим отчаянным и предосудительным путем, мы не смогли бы его поддерживать; и он, и мы впали бы в нищету, из которой не выбрались бы, и т. д. Если бы больше было порядку и лучше велись ваши дела, вы (с благословения божиего) были бы ныне наиболее процветающим поселением из всех английских поселений, какие нам известны, и т. д.Вот как писал м-р Шерли.
После нескольких замечаний из приведенных писем намерен я изложить суть дела (о котором шел у нас спор), насколько удалось ее доказать; и постараюсь покороче рассказать о скучном и запутанном деле, которое еще много лет оставалось предметом взаимных обвинений, прежде чем с ним покончили. И хотя упоминать о нем по другим поводам придется еще часто, я не буду уже вынужден пускаться в подробности, ибо сделаю это сейчас. Во-первых, очевидно, что участие в деле Эшли, покупка корабля и затеянное с ним предприятие задумано и предложено было м-ром Эллертоном; и что заверениям его, будто поселенцы не сумеют расплатиться и т. д., и надеждам на барыши, коими прельщал он их, лондонские компаньоны (во всяком случае, некоторые из них) доверяли более, чем всему, что делали или говорили поселенцы. 2. Хотя м-р Эллертон, быть может, и не замышлял причинить ущерб поселению, стремление к наживе увело его с прямого пути; ибо стало известно, и у меня имеется о том собственноручное письмо м-ра Шерли, что в первые 2–3 года, когда Эллертон был нашим агентом, он нажил 400 ф., которые вложил в пивоварню м-ра Кольерса в Лондоне, сперва на имя м-ра Шерли, и т. д.; не считая, быть может, других сумм. Вел он с м-ром Шерли и иные дела: скупал бобровые шкуры, что привозили в Бристоль моряки и пассажиры, и выдавал при этом векселя на Лондон, которые м-р Шерли оплачивал; на такой сделке случалось им наживать по 50 ф. на брата, как сделалось известно через м-ра Хэзерли и других, а может, наживались и еще на чем-нибудь; оттого-то м-р Шерли и считался с ним во многом; и все же я верю, что он, как пишет в приведенном письме, не стал бы участвовать ни в какой сделке, если бы она была, по его мнению, в ущерб поселению и могла разорить и погубить поселенцев. 3. Надобно признать, что лондонские компаньоны много сделали для поселения; вложили в него деньги вначале, немало тратились и потом; а м-р Эллертон первый навел их на эти новые предприятия, которые сперва сочли они прибыльными, потому на них и согласились; но затем, когда оказались убыточными и грозили все более их запутать, они рассудили, что пусть лучше ляжет это на поселение, чем на них, ибо они и так уж много расходовались; и воспользовались доверенностью, ранее выданной м-ру Элдертону как агенту поселенцев, чтобы все на них и свалить. 4. С состраданием и жалостью могу повторить (о м-ре Элдертоне) слова апостола Тимофею, I Тим., 6, 9: «Желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу: ибо корень всех зол есть сребролюбие». Ст. 10. Да поможет ему бог увидеть зло, им содеянное, и раскаянием искупить беды, какие навлек он на многих, но всего более — на несчастное наше поселение. Печальный опыт показывает, что совершающие такие поступки не только сами попадают в ловушку и в беду, но увлекают с собою многих (хоть и в иного рода бедствия); так было и в этом случае.
Что касается обоих кораблей, то дело, насколько удалось выяснить, обстояло так. Отправить на рыбную ловлю корабль (названием «Фрэндшип») предложили сперва поселенцы, по причинам, о коих уже говорилось; однако предоставили лондонцам самим решать, станут ли они в том участвовать. Когда те поразмыслили и сочли дело выгодным, некоторые из них предложили взять его целиком в свои руки; раз все деньги вложат они, к чему им участие поселенцев; прибыль пойдет им на покрытие убытков от других дел, и делить ее с поселенцами не нужно; если там более всего хлопочут о своевременной доставке им припасов, довольно будет с них и этого. Корабль наняли, снарядили в путь и нагрузили, сколько вместилось, товару, принадлежавшего пассажирам, которые ехали в Массачусетс; притом на сумму немалую; а припасы для поселенцев постановили послать со вторым кораблем. Позднее м-р Хэзерли не только утверждал это, но и показал под присягою, в присутствии губернатора Массачусетса м-ра Уинтропа и вицегубернатора м-ра Дадли, что корабль «Фрэндшип» не предназначался в общее владение поселенцев, но в личную собственность м-ра Джеймса Шерли, м-ра Бичема, м-ра Эндрюса, м-ра Эллертона и его самого. Эти показания дал он в Бостоне 29 августа 1639-го, а они их подписали; есть и другие в том свидетельства, в разное время полученные. Корабль «Уайт Эйнджел» сперва купил или, во всяком случае, сторговал м-р Эллертон (в Бристоле); но он этого не сумел бы, если бы не согласие м-ра Шерли, который и деньги выдал. А что не назначался он для поселения, тому есть доказательства[60]: во-первых, купчую и фрахтовый контракт выправили они на свое имя, а поселение не упоминалось там вовсе; сделали это м-р Шерли, м-р Бичем, м-р Эндрюс, м-р Денисон и м-р Эллертон; а м-р Хэзерли участвовать отказался. Что корабль куплен был не для поселенцев — это м-р Хэзерли показал под присягою, в присутствии упомянутых лиц, а когда — сказано выше. Насчет корабля «Уайт Эйнджел» то же показал и м-р Эллертон в присутствии губернатора и вице-губернатора 7 сентября 1639 года; и тогда же заявил, что вместе с м-ром Хэзерли, от лица обоих, а также м-ра Шерли, м-ра Эндрюса и м-ра Бичема обязуется снять со всех прочих компаньонов и покупателей расходы в 200 фунтов на «Фрэндшип», которые скинут с суммы долга; об этом в их показаниях (данных письменно) сказано подробнее; есть и другие свидетельства, как, например, м-ра Уинслоу[61] и т. д. Но полагаю, что и этих достаточно, дабы обнаружилась истина, сколько бы ни усиливались скрыть ее. А бремя все еще лежало на поселенцах, вернее, на тех немногих, кто поручился за остальных; им и пришлось все это расхлебывать, ниоткуда не получая подмоги. Что касается счетов м-ра Элдертона, то они были столь многочисленны и запутаны, что разобраться в них, а тем более проверить их и исправить, нельзя было без затраты времени и без посторонней помощи; требовалось к тому же и собственное его присутствие, а он теперь редко здесь и бывал; так что прошло еще 2 или 3 года, пока удалось хоть что-то сделать, а до конца так и не разобрались. Не знаю, как это вышло и в чем тут загадка; ибо он взялся вести все счета и вел их вплоть до этого времени, хотя агентом поселенцев по закупке и продаже товаров был м-р Шерли, который больше его этим занимался; однако именно он вел счет всем издержкам, как при покупке товаров, которых он не видел, ибо находился в это время здесь или в плавании, так и на переезд лейденцев, что также делалось другими в его отсутствие; то же и с расходами на патент и т. д. По всем статьям этим выходило у него, что поселенцы должны ему более 300 фунтов, которые он и требовал. На поверку же вышло, что это он задолжал нам свыше 2000 фунтов (это когда вел он какие-то дела совместно с м-ром Хэзерли), не считая других сумм, которые так и не удалось уточнить, да еще процентов, которые нас разоряли и в которых он не отчитался. Пришлось также признать непомерно большие статьи расходов: так, расходы на патент превышали 500 фунтов, а между тем там ничего не было сделано после начальных затрат, еще до утверждения его; одним махом выдано 30 фунтов, и 50 фунтов истрачено на дорогу. Верно сказал в письме своем м-р Шерли, что если бы лучше велись дела, то из всех тогдашних поселений английских наше было бы богатейшим. Эллертон завел и счет более чем в 200 фунтов на имя своего бедного старого тестя и включил в общий счет, а чтобы сделать тому приятное, уверил, будто набежало это более всего из-за тех товаров, что забирал он в Бристоле из 50-ти процентов, ибо знал, что никогда не поставят их в счет старику; а тот, бедняга, ничего не знал и не подозревал, что имущество его может столь высоко цениться, и полагал, что было это большей частью дарами м-ра Элдертона ему и детям его. На деле оно столько и не стоило; а выросла сумма из-за процентов и высоких цен; и большую часть мы взяли на себя (ибо старик заслуживал и большего), сожалея, что предстает он богачом, когда на деле беден. В том же году м-р Шерли прислал также счет кассы на то, что брал у них м-р Эллертон и расходовал, как указывал он в своей отчетности; счет за проданные бобровые шкуры, какие привозил м-р Уинслоу и другие; но и стоимость больших запасов товару, которые м-р Уинслоу присылал или привозил, все вписано было в этот счет, а также все расходы на «Фрэндшип» и «Уайт Эйнджел» с начала и до конца; словом, все, что только можно было поставить в счет компаньонам. В итоге оказался на поселении долг в 4770 фунтов 19 шиллингов 2 пенса!, не считая 1000 фунтов, еще не выплаченных за откупленные паи; и это несмотря на столько бобровых шкур и на прибыли, поступавшие от Эшли и от поселения, а были они немалые. В счетах м-ра Шерли кое-что было неясно, а иные товары поставлены в счет дважды: так, например, 100 одеял из Барнстэбла, привезенных на «Фрэндшип», ценою в 75 фунтов, за которые м-р Эллертон уже предъявлял счет ранее, были вписаны снова; другие сомнительные расходы вписаны были дважды и трижды; была и сумма в 600 фунтов, которую м-р Эллертон не признал, и что означала она, так и не выяснилось. Поселенцы обо всем этом написали впоследствии м-ру Шерли через м-ра Уинслоу, однако (не знаю уж почему) объяснений так и не последовало. Вот в какие долги вовлек нас за два года м-р Эллертон; а ведь еще в конце 1628 года все долги поселения едва превышали, как уже говорилось, 400 фунтов. А когда в 1629 году м-р Шерли и м-р Хэзерли написали из Бристоля подробное письмо с перечнем всех долгов и истраченных сумм, м-р Эллертон до тех пор их упрашивал, пока они этот перечень не зачеркнули. А зачеркнув эти 2 строки, написали поверх них так, что нельзя было разобрать ни слова; в чем они после признались, да и по письмам их можно было догадываться. Вот так и держали поселенцев в неведении, пока не увязли они в долгах. А когда м-р Шерли настоятельно просил прислать м-ра Элдертона для завершения важного дела с патентом, как видно из приведенного уже письма 1629 года, и просил уговорить жену его, чтобы его отпустила и т. д., все это, как признался он после в письме, находящемся у меня, было придумано не им, но самим м-ром Элдертоном, который ему и диктовал. Патент был всего лишь предлогом, а не главным делом. Так были обмануты поселенцы в простоте своей; так были они, можно сказать, преданы. В довершение всего м-р Эллертон совершенно их теперь покидает; заведя их в трясину, предоставляет им выбираться, как сумеют. Но господь покарал его; наняв корабль м-ра Шерли за 30 фунтов в месяц, он снова вышел в море с командою негодяев и пьяниц, а из алчности столько набрал груза и в трюм, и даже между палубами, что корабль потерял остойчивость, не мог нести паруса, и они потонули бы, если бы не вошли в Милфорд-Хавн, чтобы разместить груз иначе, расположив пушки и все самое тяжелое внизу; из-за этого потеряли они время, сюда прибыли поздно, пропустили сезон, и плавание их было менее прибыльно, чем предыдущее. А приехав сюда, он продает товары любому желающему, к большому ущербу для здешнего поселения; и еще того хуже: чего не может сбыть сам, то поручает другим; и сколачивает для этой торговли компанию из всякого сброда, чтобы заезжали в каждую дыру, а также на реку Кенебек и отбивали покупателей у тамошней фактории, для которой добывал он патент и привилегии, истратив на это столько наших денег, а теперь вовсю старался отнять у нее прибыль и разорить здешних поселенцев. Мало того, составляет компанию и с новыми пособниками (лишившись Эшли в Пенобскоте) строит факторию дальше Пенобскота, чтобы и там перехватить торговлю. Но тут французы, увидя большой ущерб и для себя, напали на них прежде, чем успели они там осесть, прогнали их, двоих убили и отняли товаров на немалую сумму; причем убытки пришлись почти все на м-ра Элдертона, ибо он хоть и взял себе нескольких человек в компаньоны, но оказал им кредит; остальных увезли во Францию; тем предприятие это и окончилось. Другие, кому он доверился, оказались гуляками и пьяницами, которые его обманывали и присваивали большую часть того, что попадало им в руки; так что он, причинив столько бед друзьям своим, мало имел от этого выгоды, и праведная десница божия карала его. Когда он впоследствии приехал в Плимут, церковная община призвала его к ответу за эти и иные дурные дела, и он вину свою признал и обещал исправиться и отойти от зла, как только будет это возможно, и т. д. В том же году м-р Шерли непременно пожелал прислать сюда нового счетовода; об этом писал он и годом ранее, но ему ответили, что расходы здесь и без того велики и незачем их еще увеличивать; а если вести дела старательно и присылать хорошие товары, то счета сумеем вести и сами. Он все же прислал человека, и уж этому-то отказать было нельзя, ибо то был младший брат м-ра Уинслоу, которого компаньоны за свой счет обучили в Лондоне. Он ехал на «Уйат Эйнджел» с м-ром Элдертоном и там же приступил к своим обязанностям. Хотя м-р Шерли так благоволил к м-ру Элдертону, что просил м-ра Уинслоу погрузить провизию, предназначенную поселенцам, именно на этот корабль и платить 4 фунта фрахта с тонны, когда на других судах брали по 3 фунта, и уплатить прежде, чем судно выйдет из гавани, когда другим платили лишь после доставки груза, все же при получении не обошлось без хлопот; кое-что, как оказалось, подменили, например, хлеб и горох, и с этим пришлось смириться; да и получили не полностью. Но не будь там Джозии Уинслоу, было бы и того хуже; накладная была у него, а также приказ все доставить в фактории. В тот год дом в Пенобскоте был ограблен французами; они увезли все сколько-нибудь ценное на сумму 400 или 500 фунтов; в том числе бобровых шкур весом в 300 фунтов; остальное такими товарами, как одежда, покрывала, одеяла, сухари и т. д. И вот как это случилось. Начальник фактории и часть людей ушли на своем боте к западу, за товаром, который был для них привезен. Тем временем в бухту вошло небольшое французское судно (в числе команды был предатель из шотландцев); они наплели, будто только что прибыли, не знают, где оказались, а в судне у них большая течь; так нельзя ли им вытащить его на берег и течь заделать. Все это со множеством французских любезностей и церемоний; а затем, видя перед собою всего лишь 3–4-х простаков-работников и доведавшись через шотландца, что начальник и остальные в отлучке, принялись расхваливать пушки и мушкеты, размещенные на стойках вдоль стен, сняли их, чтобы рассмотреть, и спросили, заряжены ли. Когда оружие оказалось у них в руках, направили на слуг кто мушкет, кто пистолет и велели слушаться и отдать товары; потом одних взяли на борт, других заставили помогать грузить товары. А забрав все, что хотели, отпустили их и уплыли, сказав в насмешку, чтобы передали начальнику, что навестили их джентльмены с Иль-де-Рей. В том году некий сэр Кристофер Гардинер, родственник, как сам он говорил, епископа Винчестерского (жестокого гонителя святых при королеве Марии) и любитель путешествий, посвящен был в Иерусалиме в рыцари и стал рыцарем гроба господня. В наши края прибыл он, будто бы желая удалиться от мира и жить жизнью простой и благочестивой, не гнушаясь и черной работой ради хлеба насущного, и нескольким церковным общинам выразил желание свое в такую общину вступить. С собою привез он пару слуг и пригожую молодую женщину, которую называл родственницей, но подозревали, что была она (по итальянскому обычаю) его любовницей. Живя в Массачусетсе, он убоялся ответить за какие-то свои проступки и бежал к тамошним индейцам; за ним гнались, но не настигли и посулили награду тому, кто его сыщет. Индейцы явились к здешнему губернатору, указали, где он, и спросили, можно ли убить его; он ответил, что ни в коем случае, а вот если сумеют захватить его и доставить сюда, то за труды получат награду. Они сказали, что у него есть ружье и рапира и он их убьет, если к нему подступиться; а что индейцы из Массачусетса говорят, будто убить его можно. Губернатор опять сказал, чтобы не убивали, а подстерегли бы и схватили. Так они и сделали; повстречав их на берегу реки, он сел в каноэ, чтобы от них спастись, а когда они приблизились, прицелился из ружья; но течение увлекло каноэ, ударило о скалу, и он, с ружьем и рапирою, очутился в воде; однако выбрался; еще был у него маленький кинжал, и схватиться с ним они побоялись, а взяли длинные шесты, выбили у него кинжал из рук, и он сдался; его доставили к губернатору. Но руки у него распухли и сильно болели от полученных ударов. О нем позаботились, отвели в дом, где руки ему обмыли и смазали; он вскоре оправился и бранил индейцев, зачем так его избили; они же говорили, что всего лишь легонько поколотили палками. А в доме, когда убирали постель его, нашли маленькую записную книжку, выпавшую у него случайно из кармана или иного тайника, а в ней помечен был день, когда вернулся он в лоно римско-католической церкви и в каком университете получил степень и все свои звания. Ее доставили здешнему губернатору, он сохранил ее, а губернатору Массачусетса дал знать о поимке, и за пленным прислали. Вместе с записками его отправили к массачусетскому губернатору, весьма за это благодарному; а он, вернувшись в Англию, проявил всю злобность свою, да только господь не попустил. Письмо массачусетского губернатора на обороте:
Сэр, богу угодно было вернуть нам сэра Кристофера Гардинера и его домашних. Хоть я не намеревался круто с ним поступить и уважал знатное рождение его, однако сообщил ему, сколь были вы о нем заботливы и что посредничество ваше будет для него весьма кстати. Записки его попали к нам не иначе как божественным промыслом; прошу вас предупредить тех, кому стали они известны, отнюдь их не разглашать, ибо это может помешать надлежащему их использованию. Господь бог наш, неизменно пекущийся о благе бедных церквей своих в наших краях, да наставит нас, как сделать это наилучшим образом. Сожалею, что столь утруждал вас делами этого джентльмена, тем более в нынешнюю страдную пору, но не знал, как этого избежать. Снова должен просить вас указать, кто именно из людей ваших понес из-за него труды и расходы, дабы можно было их вознаградить. С истинно дружественными чувствами и пожеланиями счастья вам, близким вашим и всем достойным друзьям моим, при вас находящимся (которых люблю во господе), поручаю вас милосердию его и остаюсь неизменный друг вашТут позволю я себе поведать, что произошло от коварства этого человека, вовлекшего и других в свои козни. И хотя не сомневаюсь, что подробнее скажут обо всем почтенные друзья мои, кого это более коснулось и кто знает более меня, но упомяну об этом и я, как и о божественном промысле, предотвратившем зло, какое могло произойти. Сведения эти получил я в письме чтимого и любезного друга моего, м-ра Джона Уинтропа, губернатора Массачусетса.Джон Уинтроп.Бостон, мая 5-го, 1631.
Сэр, жалоба сэра Крист. Гардинера, сэра Ферд. Горджеса, капитана Мейсона и др. на вас и на нас рассмотрена была Тайным Советом, а после доложена королю, а результат со всею очевидностью показывает, что господь не оставляет попечением здешний народ свой. Решение вышло примечательное, но оно слишком пространно, чтобы здесь его переписать. Надеюсь при случае передать вам сей документ, занимающий немало листов бумаги. В итоге (против всех ожиданий) последовал приказ всячески нам способствовать, противников же наших заклеймить позором, за что все мы должны быть благодарны, а потому (если господу угодно) намерены (не сомневаюсь, что и вы сочтете нужным к нам присоединиться) назначить день благодарения милосердному богу нашему, который, преподав нам недавно урок смирения, ныне ниспослал радость избавления от столь ужасной опасности; и то, чем враги наши чаяли погубить нас, обернул он к вящему благу нашему, о чем при случае поведаю вам подробнее. А вот копия решения. Уайт-холл, янв. 19-го дня, 1632.
Присутствовали:
Sigillum[62].Лорд Хранитель ПечатиГраф ДорсетВиконт ФоклендЛорд-епископ лондонскийЛорд КоттингтонМ-р ТреворМ-р ЧемберМ-р Секретарь КукГлавный Секретарь Уиндбэнк
Дошедшие до его величества сведения о больших беспорядках и бесчинствах в поселении той части Америки, что именуется Новой Англией, в случае достоверности их и дальнейшего попустительства означали бы величайший позор для королевства и неизбежную гибель поселения. Для предотвращения сего и установления порядка, какой предусмотрен патентами, пожалованными его величеством и покойным королем Яковом, его величество указал лордам и всем членам Высокого Тайного Совета упомянутые сведения рассмотреть. Их светлости сочли прежде всего нужным созвать комиссию, которой и поручили таковую проверку; комиссия же, вызвав главных пайщиков поселения, и выслушав тех, кто противу поселения свидетельствовал, установила, поскольку большая часть обвинений была отвергнута, что остается для проверки вызвать свидетелей из поселения, коих прибытие потребовало бы весьма много времени; их светлости, видя, что порицание, вынесенное купцам-пайщикам и означающее, что правительство поселением недовольно, замедлит отправку ими для поселения людей, припасов и товаров; и не желая возлагать на правителей поселения и главных пайщиков вину за проступки или чудачества (если таковые окажутся) отдельных лиц (подлежащие в дальнейшем расследованию), в настоящее время сочли нужным заявить, что есть все основания ожидать от упомянутого края больших благ для королевства, равно как и прибылей для пайщиков; а потому предлагают указанным пайщикам продолжать с уверенностью свое дело и заверяют их, что если поведут они его так, как это предполагают и указывают выданные им патенты, то его величество не только подтвердит ранее пожалованные патенты и привилегии, но и все, что окажется в дальнейшем надобным для порядка в управлении поселением, процветания его и благополучия подданных своих в указанном крае и т. д.Уильям Трамболл.
ANNO DOM. 1632
Возвращаясь в Англию, м-р Элдертон мало заботился об условиях, какие взялся он соблюдать под залог в 1000 фунтов. Обязавшись доставить корабль в Лондон и платить за наем его 30 фунтов в месяц, он не делал ни того, ни другого; ибо снова привел его в Бристоль, откуда в третий раз отправил в плавание; и хотя корабль плавал уже 10 месяцев по 30 фунтов в месяц, не уплатил за него и пенни. Он, видно, хорошо знал, как вести себя с м-ром Шерли. А м-р Шерли, хоть и внес корабль этот на счет поселенцев, располагал им, как ему вздумается; хотя м-р Уинслоу от их имени требовал его в общий счет не ставить, а если это все же сделают, то не давать его более м-ру Эллертону; он в предыдущем году целиком ему этот корабль предоставил, да еще велел отправлять на нем все припасы, что было для поселенцев, как уже говорилось, невыгодно. А теперь, хотя Эллертон нарушил условия, не платил за наем корабля и, как видно, ничего соблюдать не намеревался, взял, да и продал ему корабль и все счета его (притом так продал, что все равно что подарил); мало того, предоставил ему лазейку для спасения, ибо дал год сроку, чтобы приготовить и представить поселенцам свою отчетность; да еще год, чтобы выплатить, сколько по этой отчетности окажется на нем долгу. Поселенцев упрашивает он в письмах не мешать тому вести дела свои и разобраться в отчетности и т. д.; а сам тем временем собирает и берет себе все суммы, причитавшиеся за фрахт или что иное, как по этому кораблю, так и по «Фрэндшип»; а после продает и корабль, и пушки, и рыбу, и все, что собрал, в Испанию, как и замышлял; а где вырученные за это деньги, о том одному лишь ему ведомо. А у поселенцев руки были связаны, и им оставалось только глядеть, как он все продает в чужие руки (кроме нескольких голов скота, небольшого участка земли и кое-какой утвари, которой владел он в Плимуте), а затем увозит и своих домашних, как уже прежде увез собственную особу. Всего лучше видно это из письма м-ра Шерли.Сэр, пишу кратко, ибо ни в чем не было у нас с вами разладу, кроме как насчет «Уайт Эйнджел», а это печалит нас, да вижу, что и вас также. М-р Эллертон сейчас здесь, мы с ним на сей счет совещались, и я вижу, что он готов вас и всех нас сколько возможно удовольствовать, пусть даже и себе в убыток. «Уайт Эйнджел» согласен он целиком взять на себя, хотя у берегов Ирландии напали на него пираты, снявшие лучшие паруса и другую снасть; и если теперь его продавать, мало что выручишь, разве лишь за пушки. Сейчас он в Бристоле, и снова тратиться на его оснащение мы не станем. Вот и сочли мы за лучшее, для вас и для нас, раз и м-р Эллертон согласен его купить, взять у него вексель на две тысячи фунтов, обязать полностью перед вами отчитаться и взять на себя все расходы на «Уайт Эйнджел», с начала до конца. А отчет чтобы приготовил за 12 месяцев, считая от даты этого письма, а затем выплатил вам в два 6-месячных срока все, что окажется вам согласно этому отчету должен. Убежден, что и после всех потерь найдется у него чем уплатить и всем нам, здешним, и вам. Надобно лишь подождать терпеливо, пока не соберет он все, что ему причитается. Пишу я это не наобум, но на основании бумаг за подписями и печатями (о которых вам, быть может, неизвестно) и т. д. Остаюсь верный друг вашНи слова не сказано тут о нарушении прежних условий и соглашений или о плате за наем корабля; словно бы ничего такого и не было; а если Эллертон давал им какие-то обязательства, так здешние компаньоны их и в глаза не видывали. А что м-р Шерли сообщает (словно бы по секрету) о неких подписанных бумагах, так это все было подстроено; собрал долговые расписки с тех проходимцев, которым поручал он продавать свой товар, и с других и попросил м-ра Мэйхью и еще кое-кого подтвердить за своими подписями, что они видели, сколько у него должников. Мистер Хэзерли в этом году снова приехал, но по своим делам, готовясь остаться жить в поселении. Суммы, которые причитались ему по сделкам, совершенным сообща, он из предприятия изъял, как потом оказалось, и после этого в компаньонах лишь числился; а в дела компании более не вникал; разве что заботила его задолженность за «Фрэндшип», как видно будет далее. Из-за этого, а также из-за неких сумм, что задолжал ему м-р Эллертон, когда вел дела сообща с ним, составил он счет более чем на 2000 фунтов и непременно хотел предъявить его здешним компаньонам потому, мол, что м-р Эллертон был в то время их агентом. Но они сказали, что довольно уж их дурачили, а это вовсе до них не касается; и пусть он лучше погасит свой долг за «Фрэндшип», из-за которого вышел у него разлад с м-ром Эллертоном. Так же поступил и м-р Уильям Пирс, которому м-р Эллертон тоже задолжал по каким-то их частным сделкам; словно мы обязаны были платить долги за всех. Однако это требование мы легко отклонили. А м-р Эллертон не только причинил беды другим, но и сам немало их нажил; ибо м-р Деннисон потребовал с него деньги, которые вносил как 6-ю часть стоимости «Уайт Эйнджел», и получил их, да еще и судебные издержки. Много легло на здешних компаньонов тяжких обязательств и несправедливых долгов; зато послал господь им удачу в торговле, так что каждый год получали они большие прибыли и скоро со всеми расплатились бы, если бы и с ними все поступали честно; об этом еще будет сказано. Земное имущество поселенцев приумножилось, ибо немало людей прибывало в здешние края, особенно же на Массачусетский залив, отчего весьма поднялись цены на маис и на скот, а это многих обогатило, и товаров стало у них множество; кое в чем, однако, благо это обернулось злом, а возросшая сила — слабостью. Ибо когда увеличились стада и на избыток этот явился спрос, нельзя уже было удержать людей вместе и пришлось им переселяться на главные свои участки; иначе не могли они ходить за скотом, а вырастивши быков, нуждались в пахотной земле. И каждый считал теперь, что нельзя ему жить иначе, как владея стадом и большим участком для его содержания; и все старались о приращении имущества своего. Вскоре расселились они вокруг всего залива, а поселок, где доселе жили они в близком соседстве, пустел и вскоре почти вовсе обезлюдел. Одно это было уже немалым злом; но пришлось разделиться и церкви; и тем, кто столь долго прожил вместе, в христианской любви и согласии, предстояло разделиться и расстаться. Сперва оказалось, что те, кто поселился на землях своих по ту сторону залива (в местности, которую назвали Даксборо), не могли уже приводить жен и детей своих на молитвы и церковные собрания; и когда число их возросло, пожелали выйти из общины и основать свою; их отпустили (примерно в описываемую здесь пору), хоть и весьма неохотно. Желая покончить с печальным этим предметом, скажу здесь заодно и о том, что произошло позднее. Чтобы помешать дальнейшему расселению, которое ослабляло здешний поселок, решили раздать лучшие фермы тем, кто обещается проживать в Плимуте и может быть полезен церкви или поселению; то есть прикрепить земли эти к Плимуту; пусть жилье их будет здесь, дальние же участки возделываются работниками; там можно также содержать скот. Особенно хорошие участки выделены были в местности, названной Гринз-Харбор, где при прежнем разделе землю не давали; луга были там отменные, весьма пригодные для выпаса. Однако средство это оказалось, увы, хуже самого недуга; ибо несколько лет спустя те, что там осели, ушли из поселения; иные ушли самовольно, а иные столько докучали остальным, уверяя, до чего это им необходимо, что надо было либо отпустить их, либо жить среди недовольных и ропщущих. За ними и другие, полагая, что живут здесь стесненно, уходили под любым предлогом и считали пример ушедших и собственную, придуманную ими, надобность достаточным тому оправданием. Боюсь, что здесь-то и таится погибель Новой Англии{84}, во всяком случае, церквей ее; и это навлечет на нее гнев господень. В тот год м-р Уильям Пирс доставил сюда товары и пассажиров на корабле «Лайон», принадлежавшем м-ру Шерли и прочим лондонским компаньонам, но отнюдь не здешним. С этим кораблем (вдобавок к бобровым шкурам, посланным ранее) отправили мы бобровых шкур более 800 фунтов и сколько-то выдровых; а также копии счетов м-ра Эллертона, дабы их и там проверили, исправив все, что окажется неверным; ибо там лучше, нежели здесь, известно, какие покупались товары и какие были издержки; многое учитывали мы сами, хотя счета привозил м-р Эллертон, и кое-что было там неясно и нуждалось в проверке. Послали также перечень возражений на эти счета, в тех случаях, когда все можно было доказать; а таких случаев было несомненно и более. Показали, сколько задолжал м-р Эллертон; теперь, когда отдали ему полностью корабль «Уайт Эйнджел», а нам связали руки, нельзя было спросить с него ни в чем отчета, покуда не истечет данная ему отсрочка и другие успеют взыскать с него долги (как некоторые уже и сделали, подавши в суд), а сам он успеет забрать отсюда все здешнее свое имущество; вот и пришлось просить лондонских, чтобы получили с него там немедля, тем более что именно у них в руках все заключенные с ним условия и соглашения и ими же такое принято решение, что здешние ничего сделать не могут, и предъявить им нечего, если бы и попытались. Но богу угодно было, чтобы корабль, который, прежде чем плыть в Англию, должен был зайти в Виргинию, потерпел вблизи нее крушение и пошли ко дну все бобровые шкуры (такая потеря постигла нас впервые); сам м-р Пирс и остальные спаслись; уцелели и письма; добравшись до Виргинии, все благополучно возвратились потом домой. Счета были посланы отсюда снова. Таковы были события этого года.Джеймс Шерли.Декабря 6-го, 1632.
Часть письма м-ра Пирса из Виргинии:
Письмо это помечено 25 декабря 1632-го и дошло до нас 7 апреля, прежде каких-либо вестей из Англии.Любезные друзья и т. д. Известие о бедствии, каким господь посетил меня и всех вас, дойдет до вас (вероятно) прежде письма моего, а потому нет нужды входить в подробности и т. д. Имущество мое (в большей своей части) погибло; а также и ваше, если добавить к этому прежние ваши потери (здесь разумеет он убытки от французов и м-ра Эллертона). Пора нам оглянуться, прежде чем гнев господень не вовсе нас испепелил. Да сподобит нас всех милосердный господь заглянуть в сердца наши, исправиться, и обратиться к господу, и смириться перед могуществом его, и искупить грехи наши, и т. д. Знайте, любезные друзья, что все ваши бобровые шкуры, а также счета поглощены морем; письма ваши уцелели и будут доставлены, если бог приведет нас возвратиться на родину. Что еще сказать? Что утратили мы земное наше имущество? Но это будет благом, если пойдет на пользу душам нашим; у бога Иеговы есть больше, чем когда-либо было у нас на земле. О, если бы неразумные сердца наши отвратились от земного, где всё лишь суета и томление духа; а мы, глупцы, все гонимся за тенями, без следа исчезающими, и т. д. Постоянно поминаю вас в смиренных моих молитвах и молю бога вновь явить всем вам милость свою и ниспослать, через господа нашего Иисуса Христа, блага духовные и земные, во славу и хвалу имени его и для вящего благополучия вашего; и остаюсь Сокрушенный брат ваш во ХристеУильям Пирс.Виргиния, дек. 25-го, 1632.
ANNO DOM. 1633
В этом году губернатором был избран м-р Эд. Уинслоу. С первым же кораблем пришли от м-ра Шерли письма о новых неудачах м-ра Эллертона и потерях м-ра Пирса, содержавшие множество сетований, но мало надежды получить что-либо с м-ра Эллертона, как и на то, что тамошние уменьшат или исправят сумму долга нашего; и стало ясно, что все бремя ложится на наши плечи. Приведу здесь извлечения из писем этих, относящиеся к делу; хоть мне и прискучил неприятный этот предмет, но ради выяснения истины вынужден я говорить о деле, от которого произошло столько бед и столько высказано с обеих сторон суровых осуждений. Не хочу быть пристрастным ни к одной из них, но постараюсь, насколько могу, держаться истины и приводить собственные их слова и строки из писем, предоставляя все нелицеприятному суду тех, кому доведется читать или обсуждать это. Вот письмо его, помеченное 24 июня 1633:Возлюбленные друзья, предыдущее письмо мое[63] послано было с м-ром Уильямом Кольером на корабле «Мэри и Джон» и т. д. В нем извещал я вас о прискорбной и несвоевременной потере, постигшей вас и нас при крушении «Лайона», корабля м-ра Пирса; но благословенно имя господа бога нашего; он дал, он и взял, да свершится воля его, аминь. Сообщал я Вам и о страшном случае, а вернее, о суде божием над Лондонским мостом, истребленным пожаром, при котором и мне немало пришлось утратить; да пошлет мне господь терпение снести это и силу уповать на него, но отнюдь не на бренные и неверные блага земные. Надеюсь, что м-р Эллертон будет на этих днях с вами; но прежде чем смог он выехать, постигло его множество бед; и последняя всех была тяжелее; при выходе из бристольской гавани корабль его выброшен был бурею на берег, и, чтобы вновь снарядить его, понадобилось более 100 ф. Столь плачевно было его положение, что я не мог не уделить ему некоторой помощи (как сделали даже иные посторонние ему лица); к тому же корабль вез ваши товары, и, если бы не помогли ему, плавание это не состоялось бы и неизбежны были бы убытки для обеих сторон. Полагаю, что он всего более сберег бы денег, если бы, купив корабль этот, сразу пустил его ко дну, никуда не отправляя. Надеюсь, что он увидит в том перст божий и больше в такие плавания не пустится. Полагаю, что мы поступили правильно, отделавшись от этого корабля; он постоянно приносил бы убытки, и пусть сейчас мы немного за него получили, зато и терять более не будем. А теперь, как и в прежних моих письмах, прошу вас окончательно с ним счесться на месте; ибо здесь нет у него ничего, кроме множества долгов. К тому же нет здесь никого, кроме меня, кто потратит день или хотя бы час на проверку его счетов; а это требует больше времени и людей, чем могу я обеспечить. Добавить тут нечего; надеюсь, что поступитевы по справедливости, но притом милосердно, памятуя добрые его намерения, хоть во многом пошел он неверным путем; но теперь уж делу не поможешь и т. д. Завтра, и уж никак не позднее чем послезавтра, должны мы уплатить 300 ф.; м-р Бичем из города отлучился, и сделать это придется мне. Сколько горестей и хлопот навлек этот Эллертон на вас и на нас! Забыть этого не могу, и одна лишь мысль эта исторгает вздохи из сердца моего и слезы из глаз. А ныне господь посетил меня еще одной великой потерей, но ее снесу я с большим терпением. Ибо сам, по неразумию, навлек ее на себя и т. д. В другом месте говорит он следующее: доверяясь заманчивым предложениям и посулам м-ра Эллертона, я перешел меру затрат своих; сейчас скорбь не дает мне писать, а слезы мешают видеть; если любите вы тех, кто всегда любил вас и поселение ваше, подумайте о нас. О, что сказать об этом человеке, злоупотребившем доверием вашим и нашей к нему любовью! Однако сетовать сейчас поздно; а вас не могу упрекнуть в небрежении, ибо уверен, что удар этот столь же тяжел для сердец ваших, сколь для наших кошельков и кредита. Если бы господь привел м-ра Пирса благополучно возвратиться, мы отчасти облегчили бы бремя ваших и наших долгов; надеюсь, что господь пошлет нам терпение нести этот крест; и что всемогущий создатель, который печется обо всем сущем, особенно же о тех, кто стремится служить ему и чтить его, наставит и благословит вас, так что будет у вас возможность (а желание, как убежден я, у вас есть) снять тягчайшее бремя, какое принял я на себя ради вас; а это, надеюсь, будет во благо и вам, и многим тысячам людей; ибо если бы не объединились мы с вами, Новая Англия наверняка и поныне оставалась бы страною почти неведомой, а не процветающей, как теперь, и населенной честными англичанами. Да ниспошлет им господь благословение и благоденствие и т. д. Постоянно молюсь за всех вас и остаюсьОтсюда видно, что, продавая корабль со всеми счетами его, м-р Шерли более имел в виду выгоду м-ра Эллертона, нежели нашу; и хорошо, если бы нам хоть сколько-нибудь оттуда прибыло, а похоже было, что ничего. А что мешало этому в Англии, о том было уже сказано. И хотя м-р Шерли, через последние потери, увидел, что и сам несет убытки, а потому больше стал жаловаться на м-ра Эллертона, ничего не делалось, чтобы помочь нам, которых оставили на произвол судьбы; не желая даже проверить и исправить счета, чем удалось бы (вероятно) сократить долг не на одну сотню фунтов. Весьма возможно, что они опасались, как бы сокращение это не уменьшило собственных их получений. Но сейчас я оставлю это и перейду к другим предметам. Мистер Роджер Уильямс{85} (человек благочестивый, ревностный и весьма одаренный, но в суждениях своих крайне переменчивый) прибыл сперва в Массачусетс, но вскоре, чем-то недовольный, перебрался сюда (где встречен был со всем радушием, какое дозволяли скромные наши возможности), и хорошо показал себя, а вскорости принят был в общину; за полезные его наставления я посейчас благословляю бога, а наставлявшему благодарен, даже и за самые суровые укоризны, когда согласовались они с истиной. Но в тот год впал он в странные заблуждения и принялся их проповедовать; отчего произошло у него с общиной несогласие, а затем и недовольство с его стороны, заставившее его внезапно нас покинуть. Немного спустя попросил он отпустить его в салемскую общину; это ему разрешили, хотя и предостерегли тамошних насчет его ошибок и необходимого за ним надзора. Там он, однако, впал в еще большие заблуждения, чем немалую вызвал смуту как в церковной общине, так и в поселении. Мне нет нужды вдаваться в подробности, всем ныне хорошо известные, хотя тогда здешнюю общину сурово за него осуждали, и именно те, кому самим пришлось потом от него пострадать. И все же следует пожалеть его и за него молиться; на том и кончу; и пусть господь укажет ему заблуждения его и направит на путь истинный, даст ему здравые суждения и силы, дабы твердо их держаться; ибо надеюсь, что он принадлежит господу и что пребудет над ним милость его. Общаясь дружественно с голландцами (о чем было уже сказано), услышали мы от них, когда увидели они нашу безводную местность, что есть река, названная ими Фрэш-Ривер, но ныне известная под названием Коннектикут; что берега ее весьма пригодны и для земледелия, и для торговли; и советовали этим воспользоваться. Имея и без того много хлопот, здешние поселенцы совету не вняли. Но вскоре переселились туда индейцы, отступавшие перёд натиском могущественного племени пекотов; они стали просить поселенцев бывать у них, суля много торговых сделок, в особенности если построить там факторию. У поселенцев было теперь вдоволь товаров, и надо было их выгодно продавать, чтобы избавляться от отягощавших их долгов; стали они туда наведываться, чтобы разведать местность и торговать с туземцами. Место оказалось отличным, но еще не было у них с собою большого запаса товаров; правда, и время года было неподходящее, да и индейцы все еще опасались врагов своих. Однако попробовали, и не раз, и довольно выгодно; но всего лучше было бы иметь там дом, куда складывать товар, доставляемый из внутренних областей. Индейцы, видя, что мы строиться не спешим, обратились с той же просьбой в Массачусетс (ибо их целью было вернуться на прежние свои места); жители залива, недавно прибывшие, не были к тому готовы; все же некоторые из главных тамошних поселенцев предложили объединиться со здешними и торговать на реке сообща; предложение охотно было принято, и строиться постановили на паях. Условились о встрече в Массачусетсе, и от здешних явилось туда несколько человек; однако у тех оказалось много сомнений; что и опасно, и возможны убытки; это и было главной помехою, хотя жаловались также на недостаток у них товару. Тогда здешние предложили для начала внести также и за них, с тем чтобы они взяли на себя половину и к следующему году ее припасли. Те признали предложение как нельзя более щедрым, но, поблагодарив, заявили, что раздумали. Тогда здешние спросили, не будут ли на них в обиде, если возьмутся они за дело одни, когда сочтут нужным. Те ответили, что для обиды причин нет; итак, уговор не состоялся; а здешние выбрали время для постройки и были первыми из англичан, кто те места разведал и там построился, хотя позже их оттуда, по сути дела, выгнали, о чем речь пойдет далее. Туг голландцы пожалели о своем совете и, узнав, что здешние готовятся строиться, решили этому помешать; опередив плимутцев, построили они небольшой форт и выставили 2 пушки, чтобы преградить путь. А у плимутцев был уже изготовлен остов домика и имелся большой новый ботик, куда они погрузили его, а также доски для обшивки, гвозди и все, что надобно. Это сделали они, чтобы поскорее иметь укрытие от индейцев, которые весьма были раздражены тем, что плимутцы помогли вернуться тамошнему законному вождю (по имени Натаванут); так что им в этой поездке грозила опасность и от голландцев, и от индейцев. Когда поднялись они по реке, голландцы спросили, каковы их намерения и куда плывут; они ответили, что вверх по реке, чтобы торговать с индейцами (а приказ им был дан пройти и обосноваться выше по течению). Голландцы велели остановиться, не то обстреляют; и встали наготове у пушек. Плимутцы отвечали, что имеют приказ губернатора Плимута идти вверх по реке до такого-то места; и пусть обстреливают; у них приказ, и они все равно пойдут; нападать не станут, а всего лишь пройдут мимо. И прошли; а голландцы хоть и грозились, но стрелять не стали. Дойдя до места, быстро сладили домик, выгрузили припасы, оставили тех, кто назначен был остаться, а ботик отправили домой; после уж обнесли дом палисадом и укрепились получше. Голландцы сообщили о происшедшем к себе в Манатас; и вскоре явился отряд человек в 70, весьма воинственный, со знаменем, намереваясь атаковать; однако, увидя укрепление и поняв, что это будет стоить крови, вступил в переговоры и мирно удалился. Так обосновались там те, кому по праву это надлежало, хотя и были они впоследствии изгнаны своими же друзьями, о чем скажу далее. Голландцам мы никакой обиды не причинили, ибо не заняли и фута купленной ими земли, а обосновались выше по течению и землю ту купили у дружественных нам индейцев, которые следовали за нами и с голландцами дел не имели. Но об этом сказано будет в другом месте. В том году господу угодно было наслать на нас заразную лихорадку, которою многие заболели, а более 20-ти человек умерло, мужчин и женщин, не считая детей; в том числе несколько старых друзей наших, из тех, что прибыли из Голландии, как, например, Томас Блоссом, Ричард Мастерсон и другие, а затем (вылечивши многих больных) Сэмюел Фуллер, костоправ и лекарь поселенцев, всегдашний их помощник и утешитель как в качестве лекаря, так и диакона; человек благочестивый, спешивший делать добро; и нам его с тех пор весьма недоставало; много оплакивали мы его и прочих братьев, и великая настала печаль, заставившая нас смириться духом и обратиться к господу; а с наступлением зимы моровое поветрие по воле божией прекратилось. Та же болезнь унесла множество индейцев из ближних местностей; а перед тем, весною, более всего в мае, вышло из отверстий в земле сонмище мух, равных (величиной своей) осам или шмелям{86}, которые наводнили лес, объели зелень и такое издавали непрерывно гудение, разносившееся по лесу, что впору было оглохнуть. Ни раньше, ни после того англичане ничего о них не слыхивали. Но индейцы сказали, что за ними следом придет моровое поветрие; так оно и случилось в июне, июле и августе, в самую жаркую пору. В том году милостью божией сумели мы отправить на родину много бобровых шкур и к тому же покрыть все местные расходы и долги; что весьма порадовало друзей наших в Англии. Шкур послали 3366 фунтов, и большей частью был то бобровый мех наилучшего сорта, который шел по 20 шиллингов за фунт и более; да выдровых шкур[64] 346 фунтов и также по хорошей цене. Таковы были события этого года.
верный и любящий друг вашДжеймс Шерли.Июня 24-го, 1633.
ANNO DOM. 1634
В том году губернатором избрали м-ра Томаса Принса. Ответы м-ра Шерли на письма наши были в тот год весьма кратки. Не стану их здесь приводить, упомяну лишь самое из них главное. Во-первых, просил он на все им написанное не обижаться, заверяя в неизменных дружеских к нам чувствах. 2-е. По счетам м-ра Эллертона придется нам платить, и немало. Конечно, есть у нас причины роптать, однако ничего уж тут не поделаешь. Эллертон подвел и поселенцев, и лондонцев, и самого Шерли. Но теперь за то, что он покинул их в беде, как бы и его не оставил господь; и можно будет только дивиться, если не пойдет он дальше по дурному пути, и т. д. 3-е. За доходы нынешнего года благословляет он бога и благодарит поселенцев. Таково содержание его писем, не считая предметов более личных. Теперь должен я поведать об одном из печальнейших событий, какие приключились поселению с тех пор, как заложили его; а прежде чем начать, надобно привести здесь ту часть патента, которая дает ему права и привилегии в Кенебеке, а именно: Означенный Совет настоящим патентом{87} дает, жалует, продает, отчуждает, выделяет и подтверждает предоставление упомянутому Уильяму Брэдфорду, наследникам его и правопреемникам всю ту территорию, или часть, Новой Англии в Америке, какая простирается от крайней границы Кобисеконте, прилегающей к реке Кенебек, к западному побережью океана и водопаду Неквамкик в упомянутой Америке; а также полосу шириною в 15 английских миль по обеим берегам упомянутой реки, именуемой обычно рекою Кенебек, и все течение реки Кенебек, находящееся в указанных пределах, к востоку, западу, северу и югу; равно как и все земельные угодья, реки, водоемы, рыбную ловлю и т. д. И в силу полномочий, жалованных нам в патенте его величеством покойным королем, право захватывать, задерживать и брать в плен всех лиц, вместе с судами и товарами их, которые попытаются поселиться или торговать с туземцами в пределах и границах его и их поселений и т. д. Случилось, что некий Хокинг, из поселения в Паскатауэе{88}, отправился в лодке торговать на упомянутой реке и проник на наши земли; да еще понадобилось ему подняться по реке выше нашей фактории (вблизи водопадов, на реке этой находящихся). Начальник фактории попросил его уйти и не нарушать прав, столь дорого доставшихся. Он на это ответил, что наперекор им поплывет дальше, будет там торговать и останется сколько захочет. Ему сказали, что вынуждены будут изгнать его силою. Он ответил, пусть делают, что хотят, поплыл выше и бросил там якорь. Начальник с несколькими людьми сел в лодку и, выбрав время, снова принялся убеждать его уехать. Все было, однако, напрасно, и, кроме брани, ничего от него не добились. Начальник видел, что для торговли наступило наилучшее время; и если допустить, чтобы тот остался и перехватил ее, прахом пойдут все затраты и хоть бросай все дело. Посовещавшись со своими людьми (которые с ним согласились), решил он срезать у пришельца якоря, чтобы его снесло вниз течением; стрелять, однако, не велел, пока не прикажет. Еще раз окликнул он конкурента, и опять напрасно; и тогда послал двоих в каноэ перерезать якорный канат, что один из них и сделал; тут Хокинг берет ружье, лежавшее перед ним наготове и, когда лодка его плывет (как видно) мимо каноэ, убивает одного из двоих выстрелом в голову. Товарищ убитого (очень его любивший) не вытерпел и выстрелил в Хокинга из мушкета, и тот упал мертвым, не издав ни звука. Вот как все это было. Остальные доставили домой лодку и печальные вести. А к поселению тому имели касательство лорд Сэй и лорд Брук{89}, да и другие важные особы; им-то и написали в Англию, стараясь возбудить их гнев; все подробности опустили; выходило, что Хокинг был убит ни за что ни про что; и ни слова о том, что он сперва сам убил человека и тем подал справедливый повод; так что их светлости сильно были разгневаны, пока не сообщили им всей правды. Слухи об этом быстро разнеслись по округе (все представляя в наихудшем виде), так что дошли и до залива, к тамошним нашим соседям. Когда возвратилась и наша лодка, привезя правдивый рассказ о случившемся, многие сильно горевали, да и было о чем. Вскоре представился случай послать лодку в залив; но там утвердилось уже предвзятое мнение и такое царило негодование, что тут же заключили в тюрьму м-ра Олдена, который хоть и был в тот раз в лодке на Кенебеке, но в перестрелке не участвовал, а вез припасы. Лодку нашу отпустили куда было ей надобно, но его какое-то время задерживали. Нашим это не понравилось, и они послали капитана Стэндиша (вручив ему письма), чтобы объяснил, как было дело, дал все возможное удовлетворение и вызволил м-ра Олдена. Приведу одно-два письма, до этого касающиеся:Достойный сэр! Письма ваши, посланные с капитаном Стэндишем, я получил и искренне рад, что вы, слава богу, выздоравливаете. Что касается дела, о коем вы пишете, то считаю нужным в немногих словах ответить вам лично, а ответ на письмо губернатора вашего даст наше собрание, которому его и направили. Полагаю (если не получу иных сведений), что патент ваш дает вам право воспрещать торговлю на Кенебеке любому англичанину и что кровь Хокинга и того, кого убил он, на его же падет голову. Однако о гибели обоих скорблю вместе с вами и прочими. Думаю также, что письма ваши удовольствуют здешнее собрание и более они вмешиваться не станут. На основании того же письма освободил я из заключения м-ра Олдена; но дабы не казалось, что пренебрегаю мнением собрания нашего и многих здешних, обязал все же капитана Стэндиша предстать 3 июня перед очередным нашим собранием, чтобы под присягою подтвердить, что копия патента верна, и сообщить, как было дело и как именно поступал Хокинг; и то, и другое поможет установить невиновность вашу. Если мы, со своей стороны, допустили что-либо для вас обидное, прошу все же не думать о нас дурно и надеюсь, что чем более над этим поразмыслите, тем менее станете нас винить. Будьте справедливы и различайте тех, кто согласен с вами, от тех, кто иного держится мнения; должен, впрочем, сказать, что даже те, кто более всего вас сейчас осуждает, прежде не раз высказывался о поселении вашем наилучшим образом. Сам я основываю мнение свое на отчете, какой дали капитан Стэндиш и м-р Олден. Призывая на вас благословение божие, желаю полного выздоровления и в дальнейшем отличного здоровья. Прошу передать поклон м-ру Принсу и губернатору вашему м-ру Уинслоу, а также м-ру Брюстеру, которого весьма желал бы повидать, если бы был случай. Да хранит вас всех господь. Аминь. Любящий брат ваш во ХристеТ. Дадли.Нью-Таун, мая 22-го, 1634.
Еще одно письмо его о том же предмете:
Сэр, скорблю душевно по поводу известий, какие доставят к вам в Плимут капитан Стэндиш и соседи ваши, а мои возлюбленные друзья; скорблю вместе с вами, ибо расхожусь во мнениях с прочими здешними, людьми столь благочестивыми и мудрыми, что уважение к суждениям их заставляет меня подозревать себя самого в неразумии. Буду, однако же, в нем пребывать, пока не сумеют меня переубедить. Я не намерен был показывать письмо ваше ко мне и делал все, что мог, дабы примирить наилучшим образом противоположные мнения; но когда капитан Стэндиш принародно, в собрании, потребовал на письмо это ответа, пришлось мне его предъявить, и пусть сам он расскажет вам, сколь велик сделался раскол. Я предложил собранию дать ответ на письмо губернатора вашего, м-ра Принса; но собрание решило, что ответа не требуется, ибо письмо это само является ответом на предыдущее наше послание. Прошу вас свидетельствовать перед м-ром Принсом и прочими, кого это касается, дабы не винили меня в небрежении или неучтивости. Последние письма, полученные мною из Англии, заставляют меня опасаться[65], что вскоре предстоят нам испытания, а злосчастные раздоры меж вами и Паскатауэем могут их ускорить, если не спасет нас промысел божий. Сейчас уладить дело весьма трудно; однако время остужает гнев, и близость общей опасности потребует, чтобы мы вновь стали едины. Поэтому прошу вас, сэр, со всею присущей вам мудростью и терпением убеждать в том остальных, дабы раздоры наши не усиливались; но как в ограде дворцовой остаются проходы, так и у нас оставался бы путь к примирению, куда мог бы вступить в свой час бог-миротворец. Если причинили вам обиду, ради чести вашей надобно снести ее с терпеливостью; впрочем, напоминать вам об этом излишне. Господь явил вам великие милости, и да пребудет с вами все более благословение его. Далее писать не стану, но прошу поминать меня в молитвах ваших и остаюсь истинно любящий друг ваш во господе Иисусе,Из этого явствует, сколь велик был разлад и сколь трудно примирение; ибо хотя здешние сокрушались о происшедшем, однако считали, что оскорбили их несправедливо, и полагали, что повод был у них достаточный; и что соседи их (не имея над ними прав юрисдикции) преступили закон, когда заключили одного из наших в тюрьму и привлекли к ответу перед своим собранием. Все же, будучи уверены в христианской любви их и в том, что все делалось ими из благочестивого усердия к вере и стремления покарать грех, особенно же грех кровопролития, о чем стараться надлежит всякому, усиливались мы удовлетворить и смягчить их как только могли; во-первых, правдиво отчитавшись обо всех обстоятельствах дела; во-вторых, согласившись передать его на любой беспристрастный суд и в любое время пред ним предстать; кроме того, просили мы совета и указаний м-ра Уинтропа и прочих тамошних лиц, облеченных властью. Это смягчило разгневанных и привело все к благополучному и мирному окончанию. А м-р Уинтроп и прочие все посоветовали, чтобы собрание наше письменно просило соседние поселения, особенно же Массачусетс и принадлежащий лордам Паскатауэй, назначить встречу в каком-либо подходящем месте для обсуждения и решения этого дела, в каковом решении все имели бы равные и полные права, и т. д. И чтобы права каждого поселения ни в чем не терпели ущерба. А как для отпущения грехов господь велит призывать священника, то желательно, чтобы участвовали и подали голос свой пасторы каждого из поселений. Хотя способ этот иным казался опасным, здешние столь были уверены в правоте своей и в справедливости друзей, что полностью ей доверились и назначили время, о коем за месяц вперед известили все поселения, а именно Массачусетс, Салем и Паскатауэй, а также любое другое, которое могло что-либо показать по этому делу. Местом встречи определен был Бостон. Однако в назначенное время никто не явился, кроме лишь должностных лиц и пасторов Массачусетса и наших собственных. Поскольку никто не явился из Паскатауэя и других мест (хотя их звали и дали для того достаточно времени), м-р Уинтроп и остальные решили, что для приглашения их сделано было все, что можно, и в неявке повинны они сами. Принялись обсуждать по справедливости сущность дела; и когда всё открыто обсудили и собрали все мнения, должностные лица и пасторы, выразив сожаление о случившемся, все же вынуждены были возложить вину на Хокинга; а затем обратились к присутствующим с благочестивым увещеванием и советами на настоящее и будущее, каковые все выслушали любовно и признательно, обещая им следовать. Так окончилось это дело и восстановлены были любовь и согласие; м-р Уинтроп и м-р Дадли от себя весьма красноречиво написали к лорду Сэю и прочим джентльменам, имевшим долю в том поселении; этим письмом, а также нашими собственными, содержавшими объяснения м-ра Уинслоу, все были полностью удовлетворены. Мистера Уинслоу послали в том году в Англию, частию затем, чтобы дать объяснения лорду Сэю и прочим относительно упомянутого дела, а также оправдаться, на случай если кто обвинит нас перед Советом или еще где-либо, хотя дело, как уже говорилось, на том кончилось, не причинив более хлопот; частию для того, чтобы известить компаньонов в Англии, что срок совместной торговли истек и надлежит расчесться и выяснить, сколько еще долгу остается на здешних и как надлежит им поступать далее. Это, однако, выяснилось лишь в следующем году. Послали с ним на сей раз много товару, который был там охотно принят; бобровых шкур весом в 3738 фунтов (большей частью высшего сорта, а они шли по 20 шиллингов за фунт) и 234 штуки выдровых[66], всего на очень большую сумму. В том же году (в начале года) послали барку торговать с голландским поселением; там встретился ей некий капитан Стоун, прежде проживавший на Сент-Кристофере, одном из Вест-Индских островов, а после в Виргинии и теперь прибывший в нашу местность. Он знался с голландским губернатором и получил, должно быть под пьяную руку, дозволение напасть на нашу барку, которая готовилась возвращаться, наторговав товару на 500 фунтов; сделать это не имел он ни малейшего повода, но напоил губернатора до того, что тот едва мог вымолвить слово и на вопросы отвечал только: «Als’t u beleeft»[67]. Капитан взошел на борт (пока часть команды и купец были на берегу), с помощью нескольких людей своих заставил остававшихся на борту сняться с якоря и поднять паруса и повел барку в Виргинию. Но тут голландские моряки, часто бывавшие в Плимуте, где их дружески принимали, сказали себе: неужели потерпим, чтобы друзьям нашим нанесли ущерб и на наших глазах увезли их товары, и все оттого, что губернатор наш пьян? Решив не допустить этого, взяли они пару лодок, догнали капитана, вернули его, а барку с товарами возвратили владельцам. Стоун вскоре затем явился в Массачусетс, куда послали мы просьбу привлечь его к суду за совершенное; но друзья его дело замяли. После того Стоун, в обществе нескольких других джентльменов, побывал и в Плимуте, где его вместе с прочими учтиво приняли; однако в нем кипела жажда мести (хотя и скрытая); некоторые полагали, что прибыл он с намерением убить губернатора и уже схватился за кинжал, но божий промысел и бдительность некоторых окружавших его помешали этому. Затем вернулся он в Виргинию на пинассе вместе с неким капитаном Нортоном и несколькими другими. Не знаю, зачем понадобилось ему подняться по реке Коннектикут; как повел он себя там, опять-таки не знаю, но только индейцы размозжили ему голову, когда лежал он в своей каюте и накинул себе покрывало на лицо (то ли со страху, то ли от отчаяния); таков был конец его. Убиты были и все остальные; но капитан Нортон долго оборонялся один в камбузе, пока случайно не вспыхнул порох, который он держал подле себя наготове, и так его опалил и ослепил, что долее сопротивляться он не мог и также был убит, хотя индейцы отдали должное его отваге. А убив всех, захватили они добычу и часть ее дешево продали тамошним голландцам. Однако вскоре пошли у них с голландцами нелады, и они захватили у них барку, а те убили из мортиры главного их вождя. Теперь поведаю я о событиях диковинных и примечательных. Выше по реке Коннектикут, далеко от тамошней нашей фактории, жило племя, которое враждовало с соседними нам индейцами и весьма их боялось (ибо те были сильны). Примерно тысяча их устроили себе укрепление и обнесли его крепким палисадом. В начале зимы пришли к ним туда 3 или 4 голландца, чтобы с ними торговать и не допустить, чтобы торговали они или дружили с англичанами; и к весне все забрать себе. Однако замысел их не удался, ибо господь посетил тех индейцев моровою язвой, так что из 1000 умерло более 950-ти, и трупы их гнили на земле, ибо хоронить было некому; а голланцы едва не умерли с голоду, выбираясь оттуда по льду и снегу. В феврале наши с большим трудом пробились к своей фактории и милосердно помогли голландцам, обессилевшим от голода и стужи. Отдохнув несколько дней у наших, вернулись они затем к себе; и все голландцы были за то весьма признательны. Тою же весной индейцы, жившие вблизи нашей фактории, заболели оспою и в муках умирали; нет для них недуга более страшного, и боятся они его больше, нежели чумы; ибо сыпь выступает на них весьма обильно и, не имея постельного белья и прочего, терпят они ужасные мучения; ложем служат им жесткие циновки, а оспяные струпья гноятся на них, сливаясь вместе, и приклеивают их к циновке; стоит повернуться, как кожа сдирается, и все они в крови, так что страшно глядеть; они очень слабеют, а тут еще стужа, вот и мрут они, как запаршивевшие овцы. И столь тяжко им было, и столько их умирало, что и ходить за ними было некому; ни огонь развести, ни воды принести, ни схоронить покойников; что могли, они делали; а когда уж вовсе нечем было разжечь костер, пожгли деревянные плошки и тарелки, из которых ели, и даже луки со стрелами. Иные пробирались к воде ползком и не доползши умирали. Тут уж англичане (хоть сперва и опасались заразы) сжалились над их бедою, над жалобными их стенаниями и стали носить им дрова и воду, разжигать костры, приносили пищу живым и хоронили мертвых. Мало кто из них уцелел, хоть и делали мы все, что могли, с опасностью для собственной жизни. Умер и сам главный вождь, и все почти его приближенные и родичи. Но по великой милости божией из англичан никто не заразился и не заболел, хотя помогали им много недель подряд. И за такое милосердие благодарны были все индейцы, о том прослышавшие; а главные из здешних много раздали похвал и наград.Т. Дадли.Июня 4-го, 1634.
ANNO DOM. 1635
М-ра Уинслоу приняли в Англии весьма хорошо, тем более что привез он много товару, который доставлен был благополучно и продан выгодно. Он надеялся, что до возвращения его к нам все счета будут проверены и недоразумения выяснены. Он так и написал нам, что предполагает счета проверить и привезти; что наверняка снимут с нашего счета «Уайт Эйнджел» и все уладится. Но тут пришлось ему отвечать на обвинения, которые поданы были в Совет, хотя более против соседей, живших на заливе, нежели против нас; это сделал он весьма удачно, а заодно и похлопотал как за нас, так и за других, чтобы нашли управу на французов{90} и иных чужеземцев, которые чинят нам обиды; и подал следующую петицию их милостям членам Комиссии по делам колоний.Смиренная петиция Эдв. Уинслоу
от имени поселений Новой Англии:
Позволим себе напомнить вашим светлостям, что податели сего поселились в Новой Англии с милостивого соизволения его величества; а между тем французы и голландцы пытаются поделить земли эти между собой. С востока теснят нас французы, которые захватили один из домов наших и увезли товары, а в другом месте убили двоих наших людей, остальных же взяли в плен вместе с товаром. А на западе, на реке Коннектикут, голландцы вторглись в пределы, означенные на патенте его величества, возвели там укрепление и грозятся изгнать подателей сей петиции, хотя мы на той реке также обосновались с трудом и великой опасностью для жизни нашей и имущества. А потому смиренно просим ваши светлости либо заключить мир с указанными иноземными государствами, либо особым указом даровать нам и другим английским колониям право самим защищаться от иноземцев. А податели сего будут молить и т. д.Петиция большинством их принята была благосклонно, м-р Уинслоу не однажды был выслушан и получил указание явиться к их светлостям за ответом, ибо он, совещаясь с ними, назвал способ, который не стоил бы правительству ни затрат, ни хлопот; для этого достаточно было наделить главных из здешних должностных лиц правом действовать самостоятельно, за свой счет и так, чтобы не вызывать смуты. Это, однако, разрушало замысел сэра Фердинандо Горджеса и капитана Мейсона, а также архиепископа Кентерберийского; ибо сэра Ферд. Горджеса (стараниями архиепископа) должны были послать в наш край главным губернатором, наделив всеми средствами, какие могло ему дать правительство, и он уже к этому приготовлялся. Архиепископ замышлял, с его помощью и через нескольких лиц, коих с ним посылал (и назначал епископами), нарушить покой здешних церквей и не дать им распространяться; такова была его цель. Но случилось (по воле божией), что, хоть он и не дал ходу нашей петиции, именно из-за этого всего более пострадало собственное его и сэра Фердинандо дело, и замыслы их не удались. Когда м-р Уинслоу должен был получить согласие на просьбу свою (и все уже было для этого готово), архиепископ наложил свой запрет, и м-р Уинслоу, все еще надеясь своего добиться, снова явился на заседание Совета; тут архиепископ, сэр Ферд. и капитан Мейсон, как видно, подбили Мортона (о нем и подлостях его я уже говорил) выступить с обвинениями; на них м-р Уинслоу дал ответ, вполне удовлетворивший Совет, который дал суровую отповедь Мортону и упрекнул сэра Ферд. Горджеса и Мейсона, зачем его поддерживали. Архиепископ, однако, поспешил иначе воспользоваться присутствием м-ра Уинслоу и задал ему множество вопросов; как, например, произносит ли он публичные проповеди, в чем обвинял его Мортон, уверяя, что сам был тому свидетелем; на это м-р Уинслоу отвечал, что бывали изредка случаи, когда он (за неимением пастора) помогал наставлять братьев своих в вере, когда лучшего наставника не было. Спросил и о бракосочетаниях, в чем он также признался, ибо в качестве должностного лица иногда их совершал. А их светлостям сказал, что брак есть дело гражданское и в Писании нигде не сказано, чтобы обряд этот совершал непременно священник. Да и необходимость к тому вынуждала, ибо долгое время не было у нас пастора; и нового в том ничего нет, ибо сам он вступил в брак в Голландии и церемонию совершили чиновники в тамошнем Штат-Хаузе. Кончилось, однако, тем (скажу кратко), что архиепископ настоял, чтобы Совет за все это приказал заключить м-ра Уинслоу в тюрьму; и он был заключен во Флит, где пробыл 17 недель, прежде чем довелось ему освободиться. Вот что вышло из его петиции и всего этого дела; однако и замысел врагов потерпел крах, чему способствовали еще и другие обстоятельства; а это было для здешних большой удачей. Но обошлось это им дорого; не только из-за расходов м-ра Уинслоу (а были они немалые), но из-за того, что в отсутствие его страдали дела как там, так и здесь у нас. Хотя все было предпринято столько же, или более, ради других, сколько для нас, и именно другие дали ему это поручение (а здешнее поселение ничего про то не знало, покуда не пришла весть, что он в тюрьме), однако все расходы легли на нас. А вот как обстояли собственные наши дела. Каковы бы ни были прежде намерения м-ра Шерли (и надежды на него м-ра Уинслоу), теперь он напрямик заявил, что не снимет «Уайт Эйнджел» с общего счета и ни в чем отчитываться не станет, пока не будет у него больше в наличности; припасы нам пришли, но большая часть без указания цен и без накладной, как делалось ранее; а м-р Уинслоу ничего тут не мог поделать, ибо находился в тюрьме. Теперь м-р Шерли, м-р Бичем и м-р Эндрюс прислали доверенность, за их подписями и печатями, на то, чтобы взыскать с м-ра Элдертона сколько удастся за «Эйнджел»; но не прислали соглашений или иных доказательств, не прислали и никаких счетов. Приведу здесь кое-что из писем м-ра Шерли, касающихся этих дел:
Письмо ваше от 22 июля 1634 получил я через вашего верного, а моего любезного друга, м-ра Уинслоу, равно как и большую партию бобровых и выдровых шкур. Благодарение богу, и сам он, и груз прибыли благополучно; груз продали мы двумя партиями; шкуры по 14 шилл. за фунт, некоторые по 16; а высший сорт по 20 шилл. за фунт. Счета в этом году я вам не послал; пусть м-р Уинслоу объяснит вам причину этого; но верьте, что никто из вас от этого не понесет ущерба, если бог продлит мои дни. Вы пишете, что истек 6-летний срок, на который поселенцы передали в наши руки торговлю, ради выплаты тяжкого долга, который м-р Эллертон опрометчиво навлек на вас и на нас; но был ведь уговор, чтобы соглашение продлить, пока не оплачены наши затраты и обязательства. Вы полагаете, что это сделано; мы же чувствуем и знаем, что нет, и т. д. Не сомневаюсь, что мы придем к любовному согласию, невзирая на то, что писано было обеими сторонами об «Уайт Эйнджел». Сейчас послали мы вам доверенность, которая уполномочивает вас от нашего имени (чтобы было надежнее, пишем, что для нас) взыскать с м-ра Эллертона все, что удастся из затрат на «Уайт Эйнджел». Он ведь дал обязательство (хоть сейчас я никак его не найду) и часто уверял клятвенно, что ни вы, ни мы не потеряем из-за него и пенса; и я надеюсь, что у него найдется довольно, так что не будет у нас более по этому поводу раздоров. Все же хоть и поступил он с вами дурно, но творя справедливость, не забудьте о милосердии и не все над ним совершайте, что могли бы, и т. д. Избавьте нас от долгов, а там мы с вами обо всем договоримся и т. д. М-ра Уинслоу несправедливо подвергли заключению, однако, по убеждению моему, все это окажется вам на пользу. Сообщить вам подробности предоставляю я ему самому и т. д. Любящий друг вашВ тот год потерпели мы снова большой ущерб от французов. Мосье де Олнэй, прибыв в Пенобскот, хитростью заманил на борт своего судна главных тамошних поселенцев будто бы затем, чтобы помогли ему войти в гавань; а там, имея и остальных в своей власти, именем короля Франции занял тамошний дом; угрозами и уговорами заставил м-ра Уилетта (тамошнего фактора) продать ему весь товар, сам назначил цены и составил перечень (хоть не все туда включил), а платить не стал, сказав, что в свое время это сделает, если сами они придут за деньгами. О доме, укреплениях и др. сказал, что они в счет не идут, ибо кто строит на чужой земле, рискует построенное потерять. Выпроводив всех (со множеством любезностей), позволил им взять шлюпку и кое-какие припасы в дорогу. Возвратясь к нам и обо всем поведав, они весьма нас опечалили; дом этот был уже однажды ограблен французами, когда (как уже говорилось) потеряли мы более 500 фунтов; обидно было терять теперь и дом, и все прочее. Решили посоветоваться с друзьями с залива и, если они это одобрят (а там как раз собралось множество судов), нанять военный корабль и попытаться выбить французов и вернуть себе дом. План был одобрен, с тем чтобы расходы несли мы; вот и наняли мы доброе судно более чем в 300 тонн и с пушками; и уговорились с капитаном (неким Герлингом) о следующем: чтобы он со своими людьми передал нам дом (изгнав оттуда французов), чтобы могли мы спокойно вступить во владение всем, что там окажется; а с французами, если сдадутся, обошелся бы учтиво. По завершении дела получит он 700 фунтов бобровых шкур; а если дело не удастся, то ничего и труды его пропадут даром. С ним послали также собственную нашу барку и 20 человек под командой капитана Стэндиша, чтобы помочь (если понадобится) и навести порядок в доме, если удастся его вернуть; а тогда и вручить капитану корабля шкуры, которые укрыли пока в барке. Барка и привела корабль в гавань. Но капитан Герлинг так был опрометчив и нетерпелив, что советов не слушал; не дал капитану Стэндишу времени, чтобы (как было ему указано) сперва переговорить с французами; не сделал этого и сам; а они, возможно, сдались бы, завидев такую силу. Недостало ему и терпения подвести корабль туда, где он попадал бы в цель; он принялся стрелять как безумец издалека, не причиняя никакого вреда; видя это, наши в великой досаде взошли на борт и сказали ему, что проку не будет, если не займет он лучшую позицию (а подвести корабль можно было на пистолетный выстрел от дома). Наконец увидя собственную глупость, он дал себя убедить, приблизился и произвел несколько удачных выстрелов. Но теперь, когда дело могло пойти на лад, кончился запас пороха; оказалось, что вместо нескольких пушек был у него всего один бочонок пороха и одна пушка; он ничего не мог сделать, и пришлось отступить; задуманное нами не удалось, а французы ободрились; пока он столь неразумно стрелял, они залегли за земляным укреплением, и он старался зря. Он спросил капитана Стэндиша, как ему добыть пороху, ибо у него и До дому не хватило бы; тот сказал, что попытается достать его в ближайшем поселении, и так и сделал; но узнав от разведчика, что Герлинг намерен напасть на барку и захватить шкуры, порох ему послал, а барку со шкурами отвел домой. Герлинг более не пытался атаковать французов (потерпев такую неудачу) и отправился восвояси; тем дело и кончилось. После этой неудачи здешний губернатор и помощники его уведомили друзей с залива, что корабль их подвел, а французы теперь наверняка укрепятся еще лучше и станут англичанам плохими соседями. Те ответили следующим письмом:Джеймс Шерли.Лондон, сент. 7-го дня, 1635.
Милостивые государи, прочтя письма ваши о деле столь важном, здешнее собрание изъявило готовность помочь вам людьми и боеприпасами для задуманного нападения на французов. Но так как нет здесь никого от вас, кто был бы уполномочен о том договориться, то и сделать сейчас ничего не сумеем. Поэтому просим вас возможно скорее прислать верного человека, снабдив его инструкциями, чтобы договориться обо всем на условиях, подходящих для вас и приемлемых для нас. Спешим поручить вас господу и остаемся верные и любящие друзья вашиПолучив приведенное письмо, послали мы двух человек и уполномочили их договориться на следующих условиях: чтобы те оказали помощь, которая вместе с нашим участием была бы достаточной для успеха, а также несли значительную часть расходов; иначе мы (столько уже потеряв) вынуждены отступиться и ждать иного случая, какой пошлет господь. Из этого ничего не получилось, ибо когда дошло до дела, они тратиться не захотели и прислали следующее письмо, предоставив посланцам нашим сообщить подробности.Джон Хейнс, губернаторРич. Беллингем, вице-губернаторДж. УинтропТ. ДадлиДж. ХэмфриУ. КоддингтонУ. ПинчонЭтертон ХофИнкриз НоуэллРич. ДомерСаймон Брэдстрит.Нью-Таун, окт. 9-го, 1635.
Сэр, рассмотрев послание ваше, мы тщательно обсудили задуманный вами поход на французов и дали ответ тем, кого прислали вы к нам договариваться о походе на Пенобскот. Мы выразили готовность помочь, но одновременно сообщили и о нынешнем положении наших дел и о том, насколько помочь сумеем; мы готовы прислать вам достаточно людей и боеприпасов. Что же касается денег, то ничего обещать не можем, и лучше отказать, нежели дать вам надежду на помощь, которую оказать не сможем. Полагаем, что можно было бы объединиться с другими восточными поселениями; но это предоставляем решать вам самим. Посланцы ваши сообщат вам обо всем более подробно. Приветствуем вас и желаем от господа всякого благополучия. Верный и любящий друг вашОбъединиться не удалось; более того, некоторые тамошние купцы вскоре отправились торговать с французами и стали снабжать их припасами, порохом и дробью; так делают они и по сей день, когда видят в том выгоду. Поистине главными пособниками французов сделались сами же англичане; ибо, кроме этих, поселение в Пемакуиде (самое к ним ближайшее) не только доставляет им чего ни пожелают, но иные постоянно сообщают им все, что у англичан происходит; неудивительно, что они процветают и все более теснят англичан, индейцев же снабжают оружием и боеприпасами; что весьма опасно для англичан, которые укреплений не строят и живут земледелием, тогда как те засели в своих фортах и торгуют в полной безопасности. Если не будут вовремя приняты меры, легко догадаться, к чему это может привести; но довольно об этом. В тот год 14 или 15 августа (в субботу) начался такой ураган и ливень, каких не запомнит никто из местных жителей, ни англичане, ни индейцы. Был он подобен тем ураганам и тайфунам, о каких читаем мы в описаниях Вест-Индии. Началось все утром перед рассветом и сразу с великою силой, многих поразившей. Ветер разрушил немало домов, а у других сорвал крыши; несколько кораблей пошло ко дну, много других оказалось в величайшей опасности. Волны вздымались (к югу от нас) более чем на 20 футов, так что многие индейцы спасались на верхушках деревьев; в поселении Манамет ветер сорвал и далеко унес крышу с дома, оставив одни столбы; и еслибы все это длилось дольше и ветер не переменился, местность наша оказалась бы затопленной. Ветер сломал многие сотни тысяч деревьев, наиболее крепкие выворачивая с корнем, высокие сосны ломая посредине, а молодые дубы и высокие ореховые деревья скручивал словно прутики, так что страшно было смотреть. Ураган пришел с юго-востока и пошел на юг и восток, меняя направление; но всего сильнее дул с юго-востока. С наибольшей силой бушевал он не более 5-ти или 6-ти часов и постепенно утих. Следы его, там где свирепствовал он всего более, останутся на 100 лет. А на 2-ю ночь после него было затмение луны. Кое-кто из соседей наших, живших на заливе, наслышан был о реке Коннектикут (о коей уже говорилось) и очень на те места зарился; а ныне, узнав, что индейцы, которых опасались они, истреблены моровым поветрием, сделались настойчивее. Самые большие нелады пошли у нас с поселением Дорчестер{91}; уж очень хотелось им захватить места, которые мы не только откупили у индейцев, но где уже построились; и (если не удалось бы вовсе нас вытеснить) хотели оставить нам лишь клочок земли возле фактории, не более того, что отводилось одной семье; это была наглая попытка не только вторгнуться в чужие владения, но и вытеснить оттуда их владельцев. И столько об этом обменивались письмами, что все их приводить слишком было бы долго. Выпишу лишь несколько строк, писанных оттуда нашим фактором:Р. Беллингем, вице-губернатор,от имени остальных членов комиссии.Бостон, октября 16-го, 1635.
Сэр, и т. д. Почти ежедневно являются сюда люди из Массачусетса, кто по воде, а кто сушею, и никак не решат, где селиться; а иные зарятся на участки наши, что недавно куплены; многим кажется, будто и река пригодна только на нашем месте, и тут задумали они строить большой город, с удобным жильем для множества людей. Что именно затевают они, сказать трудно; ибо мне они не говорят ничего, а что у них на уме, слышу только от работников их. Буду им противиться как сумею. Надеюсь, что удастся их урезонить; скажу, что мы тут были первыми, много приняли трудов и испытали опасностей от голландцев и индейцев; что земли эти купили (и обошлись они дорого), да и с тех пор на них тратимся и не пускаем голландцев продвинуться дальше, не то они давно все заняли бы и вытеснили всех прочих и т. д. Надеюсь, что такие доводы их остановят. Вы желали, чтобы с ними и с посланцами их обходились мы учтиво; так мы и делали и делаем поныне, и стоит это нам немало, ибо первые из пришельцев умерли бы с голоду, если бы мы их не накормили; пришлось целых 9 дней кормить 12 человек; а последних пришельцев я также потчевал всем, что получше; тем и другим дал я каноэ и провожатых. Они упросили меня отправиться с ними к голландцам просить, чтобы те позволили вблизи их поселиться; да только голландцы их прогнали. А последние из пришедших о том уж и не заговаривали и т. д. По настоятельной их просьбе отвел я место для их товаров; и прилагаю письмо от м-ра Пинчона, в котором он за них ходатайствует. Сколько будет еще у меня затрат и хлопот, не знаю; ибо являются они ежедневно; вот и сейчас ожидаю я возвращения тех, кто ушел вниз по течению, обозревать местность. Все, что терпим мы от них, дает нам право (как считают все разумные люди) не уступать владений наших. Почтительно вас приветствуя, остаюсь готовый к услугамИз множества писем, какими обменялись мы с массачусетсами, приведу несколько последних, остальные опущу, разве что придутся они кстати в другом месте. Осмотрев тщательно местность, стали они селиться на нашей земле и вблизи фактории нашей: на это последовали наши возражения. А вот как писали они:Джонатан Брюстер.Матианук, июля 6-го, 1635.
Братья, сейчас послали мы к вам двоих из нас, дабы договориться о некоторых землях на Коннектикуте, на которые заявляете вы права; но именно сюда привел нас господь и самим провидением указано нам здесь поселиться. Не видим нужды отвечать на все пункты пространного письма вашего и т. д. Но хоть и говорите вы, что сюда привел вас господь, мы отвечаем, как отвечали и ранее, что иного держимся мнения, а именно: что вы кинули завистливый взгляд на то, что принадлежит не вам, но соседям вашим; такого указания от провидения вам быть не могло. Не упоминайте же промысел божий всуе.На это они:
Местность эта предстала нам столь пустынною, что можно было с благословения божиего взять ее и пользоваться ею, никого при том не обижая, ибо была она безвидна и пуста, никем еще не заселена; а для того земля и сотворена. Бытие, 1,28. А если кто другой, быть может, намеревался в будущем что-то на ней делать, неясные намерения эти не сочли мы (для себя в особенности) препятствием к действиям немедленным (каковы были наши) и потому начали там труды свои.На это ответили мы так: если была земля безвидна и пуста, то застали ее таковою мы, а не вы; приобрели ее у законных владельцев и с большими затратами основали там предприятие, о коем вам отлично известно. И если сейчас обстоятельства мешают нам осваивать ее, дает ли это вам право ее отнять? Известно, что поселение наше стоит на бесплодном месте, где вынуждены мы были высадиться; и что долго на нем не проживешь; так неужели же вы (потому лишь, что более к тому сейчас готовы) лишите нас того, что добыто трудами и опасностями и куда намеревались мы переселиться, как только будет возможно? Еще писали массачусетсы, что лучше бы им иметь дело с лордами в Англии; говорил же кое-кто из плимутцев (так они слышали), что скорее отдадут права свои тем (если уж приходится их терять), лишь бы не дорчестерской церковной общине, и т. д. И что неудовольствия лордов они менее опасаются. О т в.: Мы на это ответили: мало ли что они слышали (и не все, что слышали, правда); не так обстоит у нас дело, чтобы надо было отдавать права наши хоть лордам, хоть им; но что до неудовольствий, тут действительно лучше иметь дело с лордами, для которых все это меньше значит. Чтобы не наскучить, опущу подробности и скажу лишь, чем дело окончилось. Пустить в ход силу мы не хотели (довольно было этого из-за Кенебека), а жить в постоянной вражде с друзьями и братьями чересчур тяжким было бы бременем. Поэтому ради мира и покоя (хоть и с большим для себя ущербом) решили землю эту отдать, выговорив возможно более выгодные условия; и для этого вступили в переговоры. Первым делом надо было, чтобы (после стольких препирательств) признали наше на нее право, иначе договариваться мы не соглашались. Когда было оно признано, условились о следующем: нам остается дом и 16-я часть того, что куплено нами у индейцев; а им отходит остальная земля, кроме ранее оговоренной доли для поселенцев из Нью-Тауна{92}. Шестнадцатую часть поделили на два участка; один при доме, второй по соседству с ньютаунцами. И чтобы возместили нам то, что заплачено было индейцам, соответственно доставшейся доле. Так закончились споры; но обида позабылась не так скоро. Ньютаунцы вели себя более пристойно и желали получить лишь то, что поселение могло выделить без неудобства для себя; оттого и постарались мы при этом разделе, чтобы не остались они внакладе. В числе прочих дел, порученных м-ру Уинслоу в Англии, церковная община велела ему найти и привезти человека, пригодного в пасторы. Он нашел некоего м-ра Гловера, человека благочестивого и достойного; но когда уже тот приготовился ехать, бог судил ему заболеть лихорадкою, от которой он скончался. Позже, собираясь уже в путь, м-р Уинслоу свел знакомство с м-ром Нортоном, который ехать соглашался, но обещанием себя не связывал, пока не побывает у нас; и если понравится ему больше в другом месте, обязывался вернуть затраченную на него сумму (примерно 70 фунтов), но быть в выборе своем свободным. Он пробыл у нас с год времени и очень всем полюбился; но его пригласили в Ипсвич, где много было людей богатых и просвещенных и где имел он друзей; так что он теперь у них пастором. Половину затраченной суммы он вернул, остальное зачли ему за труды, какие понес он для нас.
ANNO DOM. 1636
Губернатором в тот год избран был м-р Эдв. Уинслоу. В предыдущем году, заключив из последних писем м-ра Уинслоу, что счета так и не будут присланы, решили мы бобровые шкуры придержать и больше не посылать, покуда не пришлют счета либо как-нибудь иначе с нами не договорятся. Хотели подождать хотя бы возвращения м-ра Уинслоу, чтобы от него узнать более точно, как надлежит нам поступать. Когда он приехал, счетов с ним не было, но шкуры убедил он все же отправить, ибо был уверен, что по получении их, а также его писем, счета в следующем году будут присланы; хоть мы и не видели, на чем его уверенность основана, но настояниям его уступили; с кораблем, который как раз случился тут в конце года, послали 1150 фунтов бобровых шкур, да выдровых 200 штук, да прочих мехов — норки 55 штук, черной лисицы 2 и др. А весною прибыл голландец, собиравшийся торговать в Голландском форту, но его туда не пустили. Товаров имел он большой запас и предложил их нам; у него купили немало, ибо вещи всё были хорошие и нужные, как, например, котелки и др.; всего на 500 фунтов, а в уплату дали ему векселя на м-ра Шерли в Англию, куда перед тем отправили упомянутую партию шкур. В том же Году (с другим кораблем) послали еще немало, надеясь, что м-р Шерли все это получит и продаст еще прежде, чем придет срок векселям. На сей раз бобра было 1809 фунтов, да выдровых шкур 10; а вскоре затем (все в то же году) на другом корабле (с капитаном м-ром Лэнгрумом) послали бобровых шкур весом в 719 фунтов и выдровых шкур 199 штук; об этом м-р Шерли писал так:Письма ваши получил, а также 8 бочек бобровых шкур, с Эд. Уилкинсоном, капитаном «Фокона». Слава богу, все доставлено благополучно. Учел я также 3 векселя и т. д. Но сейчас должен известить вас о том, как покарал господь страну нашу, а всего более этот город, наслав на нас чуму. За прошлую неделю скончалось более 1200 человек; боюсь, что будет и хуже; опасаются, как бы бедствие это не продлилось всю зиму. Поэтому множество людей из города выехало; куда больше, нежели в прошлый чумной год; так что торговля замерла, грузовые суда ниоткуда почти не приходят, и денег ни с кого не взыщешь, хоть бы и старых долгов. М-р Холл задолжал нам больше, чем нужно для векселей ваших, но он с женою и семейством выехал за 60 миль от Лондона. Я писал к нему, он приехал, но расплатиться не мог. Убежден, что бобровые шкуры сейчас не продать и по 8 шилл. за фунт; когда господь отвратит карающую десницу свою, надеюсь, что торговля пойдет лучше; а пока их придержу. Прежде чем учесть векселя, сообщил я о них м-ру Бичему и м-ру Эндрюсу; сказал, как трудно ныне с деньгами; сказал и о том, что нельзя вас опорочить, ибо никогда еще векселя ваши протестованы не бывали; да и нам стыд, когда лежат у нас 1800 ф. бобровых шкур и за должниками числится более, чем сколько требуется по векселям вашим. Но все впустую; ни один из них пальцем не шевельнет, чтобы помочь. Я сказал, что свою 3-ю часть внесу, но они говорят, что ничего не смогут и не хотят и т. д. По векселям вашим уплачено будет сполна; но не ждал я, что так подведут они вас и меня и т. д. Вы, должно быть, ждете более пространного ответа на письма ваши; но я за неделю и дня не бываю в городе, а вожу свои книги и прочее в Клэпем; ибо времена сейчас самые тяжкие; таких не знавали здесь веками. Пережил я 3 моровых поветрия, а подобного не видывал. Средства умилостивить господа — и того лишены мы; проповеди во многих местах отменили; по воскресеньям не бывает их ни в Вестминстере, ни во многих ближних городах; да будет над нами милость божия. А в начале года стояла сильная засуха, ни одного дождя не выпало за много недель, так что всё посохло, и сено продавали по 5 ф. за воз; а сейчас без перерыву дождь, погибла яровая пшеница и позднее сено. Но как ни карает нас господь, мы всё не смиряемся; можно ждать суда еще более сурового, если не раскаемся немедленно и не обратимся к нему, да услышит нас, и да будет на то его святая воля. Прошу поминать нас в молитвах ваших и остаюсь любящий друг вашВот и все, что ответил м-р Шерли и чем кончились все надежды м-ра Уинслоу. Решили не посылать более бобровых шкур, как то делали прежде, покуда обо всем не договоримся. Но тут пришли письма от м-ра Эндрюса и м-ра Бичема, полные жалоб; зачем не шлем ничего на покрытие расходов, ибо по счету, посланному в 1631 году, выходит, что каждый из них потратил по тысяче сто фунтов и за все это время не получил ни пенни. А теперь м-р Шерли спрашивает с них еще денег, а когда отказали, обиделся; и зачем было всё посылать м-ру Шерли, а им ничего. Этому плимутцы немало подивились, ибо полагали, что внесли довольно и что каждый из компаньонов получал, сколько ему следовало, из больших ценностей, какие им посылались. Ибо после счета, составленного в 1631 году (где за нами числились все наши долги и даже более), послано было{93}:Джеймс Шерли.Сент. 14-го, 1636.

Судя по письмам, все это благополучно прибыло и было выгодно продано. Лучший сорт бобра шел обычно по 20 шиллингов за фунт, а то и по 24; шкуры похуже по 15 или 16. Не помню, чтобы цена была когда-либо ниже 14 шиллингов. Может быть, в прошлом году была она несколько ниже; но это возмещалось мелкими мехами, в этом перечне не упомянутыми, а также черным бобром, который ценится дороже. Мы полагали, что прежние партии бобра принесли около 10 000 фунтов стерлингов; что выдровые шкуры, вместе с прочими мехами, дополнят, чего недостанет до нужной суммы. Когда составляли упомянутый счет, все долги наши (включая «Уайт Эйнджел» и «Фрэндшип») не превышали 4470 фунтов. Не верилось, чтобы цены припасов, с тех пор нам присланных, и оплаченные векселя наши составили более 2000 фунтов; вот и полагали мы, что долги свои выплатили, и даже с процентами. Могут спросить, как случилось, что мы столь же точно не записывали приходные статьи, как и расходные, и не могли их подсчитать. На это отвечу, что причин было 2; первая, и главная, состояла в том, что новый счетовод, которого навязали нам из Англии, совершенно был непригоден и никогда ни в чем не умел отчитаться; полагаясь на память свою, он терял бумаги и такой допустил беспорядок, что разобраться не мог ни он сам, ни кто-либо другой. От него часто требовали, чтобы привел отчетность в порядок; а он всякий раз просил дать ему время и он все сделает. А затем тяжко захворал и уже совсем не мог этим заняться. В книги свои он, после первых правильных записей, мало что заносил; документы или растерял, или так перепутал, что и сам не мог в них разобраться, когда за них принялись. Это было известно м-ру Шерли; и пострадали не только мы (хоть и не по нашей вине), но и компаньоны в Англии; не одну сотню фунтов из стоимости присылавшегося нами товару потеряли мы из-за неправильной отчетности. Другой причиной было то, что после поездки м-ра Уинслоу в Англию, когда потребовал он счета и возражал против «Уайт Эйнджел», нам не сообщали цен присылаемых товаров и не прилагали к ним накладных; царил полный беспорядок, и о ценах приходилось гадать. Мистеру Эндрюсу и м-ру Бичему мы ответили, что весьма удивлены, как это мы ничего не присылали после последнего счета; присылали, и очень много; и можно только дивиться, как удавалось нам столько присылать, когда и здесь несли мы такие расходы и столько потеряли из-за французов, а также при крушении корабля м-ра Пирса у берегов Виргинии. Посылали для всех них, а не одного м-ра Шерли; и если они с ним не поделили, нашей вины в том нет; пусть спрашивают с м-ра Шерли, который всё получал. Написали мы об этом и м-ру Шерли и сообщили, на что жалуются остальные. В тот год 2 шлюпки, шедшие в Коннектикут с товаром, принадлежавшим поселенцам в Массачусетсе, были ночью выброшены бурею на наш берег; люди погибли, а товары разбросало приливом по всему берегу. Губернатор велел их собрать и сделать им опись, а также вымыть и высушить, что требуется; так спасена была большая часть товаров и возвращена владельцам. Позднее еще одно их судно (шедшее туда же) выброшено было вблизи Маноанскусета, и все, что прибило к берегу, мы им спасли. Такие постигали их неудачи; некоторые считали это карой божией за их вторжение к нам (и учиненные обиды). Я, однако, не берусь судить о путях всевышнего. В 1634 году пекоты (племя сильное и воинственное), которые воевали с соседями и возгордились победами, стали враждовать с большим соседним племенем наригансетов. Эти наригансеты дружески общались с английским поселением в Массачусетсе. Пекоты, которые сознавали себя виновными в гибели капитана Стоуна и знали, что был то англичанин, как и спутники его, и были также во вражде с голландцами, решили, чтобы не иметь сразу стольких врагов, также искать дружбы с англичанами из Массачусетса; а для этого прислали им с посланными дары, что видно из писем тамошнего губернатора.
Любезный и достойный сэр и т. д. Хочу сообщить кое-что о делах наших, а именно, что пекоты прислали к нам, прося дружбы нашей, и предложили много вампума, бобровых шкур и т. д. Первых посланцев отпустили мы без ответа; со следующими несколько дней вели переговоры; по совету пасторов наших и помолясь богу, заключили мы с ними мирный договор на следующих условиях: чтобы выдали нам виновников гибели Стоуна и т. д. И если пожелаем мы основать поселение в Коннектикуте, чтобы уступили нам землю; а мы станем с ними торговать как с друзьями (это и было главной целью нашей, ибо воюем сейчас и с голландцами, и с прочими соседями{94}). На это они охотно согласились; лишь бы взялись мы помирить их с наригансетами; для этого согласны они, чтобы отдали мы наригансетам часть принесенных ими даров (ибо для них вопрос чести, чтобы не дарить ничего самим). Что касается капитана Стоуна, то, по их словам, в живых осталось лишь 2 человека, причастных к его гибели; а убили они его за дело, ибо (как они говорят) он схватил и связал 2-х из них, чтобы силою заставить их показать ему путь вверх по реке[68]; а когда он с 2-мя спутниками высадился, 9 индейцев подстерегли их и ночью убили спящих, чтобы освободить своих; а когда пошли они после к пинассе, та неожиданно взорвалась. Сейчас готовимся и мы отправить к ним пинассу и т. д.В другом своем письме, от 12 января, пишет он следующее:
Пинасса наша возвратилась только что от пекотов; товару оказалось там немного, и сами они народ коварный, так что решили мы более дел с ними не иметь. Много еще другого имею я вам сообщить и т. д. Неизменно вам преданныйПозже, кажется, в том же году, Джон Олдом (о котором много уже говорилось), проживавший теперь в Массачусетсе, отправился торговать на юг на небольшом судне, с малочисленною командой; повздорил с индейцами и (как уже сказано) был ими убит на острове, у индейцев звавшемся Муниссес, а англичанами названном позднее Блок-Айленд{95}. После этого, памятуя также гибель Стоуна и коварство, проявленное пекотами, англичане из Массачусетса решили мстить и требовать возмездия; но сделали это столь необдуманно, не оповестив Коннектикут и прочих соседей, что толку вышло мало. Соседи их пострадали больше, ибо некоторые из убийц Олдома укрылись у пекотов, и, хотя англичане явились туда и повели о них переговоры, те их обманули; англичане вернулись ни с чем, упустив, из-за коварства их, удобный случай. А после пекоты выбрали время, подстерегли и убили нескольких англичан, когда плыли те в лодках; следующей весной нападали уже и на дома, как рассказано будет далее. Об этом пишу я кратко, ибо не сомневаюсь, что подробнее изложат все это те, кому всё точнее известно и кого оно ближе коснулось. В том году м-р Смит отказался от своей пасторской должности как по собственному желанию, сочтя бремя чересчур тяжким, так и послушавшись уговоров; и община стала искать другого пастора, испытав уже в этом немало разочарований. Тут богу угодно было послать нам человека даровитого и благочестивого[69], к тому же смиренного и кроткого, твердого в истине, а в образе жизни и беседе безупречного; испытав его некоторое время, избрали мы его своим наставником и многие годы вкушали плоды трудов его в мире и согласии.Дж. Уинтроп.Бостон, 12-го первого месяца, 1636.
ANNO DOM. 1637
В начале этого года пекоты открыто напали на англичан в Коннектикуте и по нижнему течению реки, немало убили (во время работы в поле) мужчин и женщин, к великому ужасу остальных; и удалились с торжеством и многими угрозами. Напали они и на форт, что стоял в устье реки, хоть был он хорошо укреплен и было кому защищать его; правда, взять не сумели, но на всех нагнали страху дерзкими своими попытками; это заставило во всем поселении нашем быть настороже и готовиться к обороне; и просить друзей своих и союзников на Массачусетском заливе поскорее прислать подмогу, ибо можно было ожидать нападений большими силами. М-р Вэйн, тогдашний их губернатор, написал сюда от имени их общего собрания, чтобы объединились с ними в этой войне; на это были мы готовы, но, пользуясь случаем, написали им о некоторых вещах, требующих выяснения. Всё это будет ясно из ответа тамошнего губернатора, который здесь и привожу:Сэр, богу угодно, чтоб на письма ваши к покойному нашему губернатору пришлось отвечать мне, и я желал бы располагать большим временем для ответа, который и вас, и нас удовлетворил бы. Впрочем, чего недостанет сейчас, можно добавить позже. Предметы, о коих пишете вы от своего имени и от совета, не сочли мы нужным сделать достоянием нашего общего собрания. Обсудив их в Совете, решили мы дать вам следующий ответ. (1) Уведомляя нас о готовности вашей объединиться с нами в войне против пекотов, вы не можете принять окончательного решения без согласия вашего общего собрания; а мы, видя дружеское ваше расположение (в коем никогда не имели причин усомниться), готовы дожидаться, когда решение это созреет. (2) Что почитаете вы войну эту нашей, а до вас мало касающейся, с тем мы отчасти согласны; однако надеемся, что в случае опасности вы на этом стоять не будете, как не будем и мы; полагаем, что пекотов и всех прочих индейцев почитаете вы за общего врага, который если и обрушит сперва ярость свою на какое-либо одно из поселений английских, то в случае победы наверняка всех нас выкорчует с корнем. Поэтому, прося помощи вашей, имели мы в виду не только собственную безопасность, но и вашу. (3) На помощь нашу желаете вы рассчитывать во всех подобных случаях; в готовности нашей вы, конечно, не сомневаетесь; однако сейчас, почитая вас людьми свободными, не можем мы вовлечь вас в войну, если не указывает вам этого собственный ваш разум; точно так же и вы должны считать нас свободными, когда бы ни случилось вам просить помощи нашей. Вы поминаете нам отказ помочь вам против французов; но мы полагаем, что тут иной был случай, а впрочем, целиком не оправдываемся. (4) Вы упрекаете нас в том, что войну начали, не известив вас, и вели ее, не считаясь с советами вашими; тут дело в том, что сперва думали мы идти только на Блок-Ай-ленд, и поскольку казалось это нетрудным, не искали ни советов, ни помощи. А когда решили идти на пекотов, тотчас, или вскорости, послали к вам; вы же ответили, что поздно менять планы, раз не выслушали мы ваших соображений, которые, быть может, перевесили бы. (5) Наши люди, торговавшие в Кенебеке (насколько нам известно), делали это без нашего разрешения; и м-р Э. У.{96} сообщит вам, что решили мы насчет этого на последнем собрании. (6) Укоряете вы нас и в том, зачем торгуем и знаемся с врагами вашими, французами; на это можем сказать, что сведения у вас неверные, ибо, кроме нескольких писем, коими, с нашего ведома, обменялся с ними покойный наш губернатор, не посылали мы никого торговать с ними и к тому не поощряли; лишь один-два корабля, ради лучшей доставки писем наших, позволил он к ним послать[70]. Разные еще укоры выслушали мы, через достойного друга нашего, и дали на них ответ; но они по большей части касаются обид, причиненных отдельными лицами из числа наших. На это можем дать один лишь ответ: если должным образом укажут нам обидчиков, мы готовы вершить суд, смотря по обстоятельствам дела. А пока заверяем вас, что подобное происходит без ведома нашего и немало нас печалит. Теперь пойдет речь о союзе вашем с нами в этой войне, которая и вас не менее касается; т. е. о помощи друзьям и братьям во Христе, находящимся сейчас в наибольшей опасности; хоть и считаете вы, что это сумеем мы и без вас (что, с помощью божией, возможно), хотим привести 3 довода, которые (как нам кажется) могут вас убедить. Во-первых, если окажется это нам не по силам, то, отказав в своевременной помощи, много потеряете и вы сами: 1. Помогать нам, да и себе, придется вам тогда втрое больше, чем сейчас. 2. Горести наши (если испытаны будут по вашей вине) помешают нам оценить запоздалую эту помощь. 3. Люди ваши, ныне исполненные отваги и решимости, утратят их, и труднее будет им выдержать испытания. Во-вторых, крайне необходимо войну закончить к исходу лета, иначе вести о ней отвратят ваших и наших друзей от приезда к нам в будущем году; судите сами, какой это повлечет для нас риск и потери. В-третьих, если с благословения божиего закончим мы войну или получим в ней перевес без вашего участия, это внушит людям нашим такое недовольство вами, что трудно будет поддерживать в них добрые чувства, подобающие соседям и братьям. Дурных последствий этого для обеих сторон все мудрые люди должны опасаться и стараться лучше предотвратить их, чем надеяться устранить после. Сердечно приветствуя вас, советников ваших и других наших добрых друзей, остаюсь верный друг ваш во господеТем временем, и особенно в предыдущую зиму пехоты пытались замириться с наригансетами и склоняли их к тому весьма коварными доводами: что англичане, мол, чужаки, наводнившие страну, чтобы затем вытеснить их, если дать им плодиться и множиться; и если наригансеты объединятся против них, пекотов, с англичанами, то уготовят тем самым собственную гибель; ибо, истребив их, англичане поработят и самих наригансетов; если же внемлют они пекотам, то мощь англичан для них не страшна; ибо не станем сражаться с ними в открытом бою, но будем поджигать дома их, убивать скот, а самих подстерегать на пути куда-либо. А тогда англичанам долго не продержаться; они либо перемрут с голоду, либо придется им покинуть страну; и многое в таком духе; так что наригансеты стали уже колебаться и подумывали заключить с ними союз против англичан. Но когда вспомнили, сколько вытерпели от пекотов и какой представляется случай отомстить им с помощью англичан, сладостное предвкушение мести перевесило всё прочее; решили объединиться с англичанами против пекотов; так и сделали. Здешнее собрание постановило выставить 50 человек за собственный счет; со всей возможной поспешностью вооружили их, назначили командиров и приготовили барку, чтобы везти им припасы и быть в их распоряжении; но когда готовились они выступить (вместе с подкреплением с залива), пришла весть, что враг почти уже разбит{97} и надобности в них нет. Не берусь всё описать в точности, ибо полагаю, что будет это сделано теми, кто лучше знает все обстоятельства; поэтому упомяну лишь о главных событиях. Из Коннектикута{98} (который всего более пострадал и в наибольшей был опасности) вышел отряд, к которому примкнул еще один, с залива, и пошел на соединение с наригансетами. Наригансеты спешили выступить, не давая англичанам отдохнуть, особенно тем, кто подоспел позже. Как видно, хотели они застичь врага врасплох. Из Коннектикута пришла барка, и команда ее советовала отрядам воспользоваться такой решимостью индейцев и самим выказать не меньшую, ибо это ободрит их и может обеспечить успех похода. Они выступили так, чтобы до рассвета индейцы привели их к вражескому укреплению (где находилась большая часть вождей). Бесшумно к нему приблизясь, англичане и индейцы окружили его, чтобы никто не мог ускользнуть; отважно его атаковали, стали стрелять и вскоре туда ворвались; первые из вошедших встретили сильное сопротивление врагов, которые стреляли, а после схватились врукопашную; другие вбегали в дома и поджигали их; огонь быстро охватывал циновки, а так как жилища стояли тесно и дул ветер, то скоро запылало всё вокруг, и больше было погибших в огне, чем убитых; горели и луки, сделавшись бесполезными. Те, кто избежал огня, пали от меча; кого рубили в куски, кого пронзали рапирами; скоро с ними было покончено, и спаслись весьма немногие. Подсчитали, что убито было около 400. Ужасен был вид заживо горевших и потоков крови, которые гасили пламя; ужасен был и смрад; но сладка была победа, и победители вознесли молитвы к богу, который предал им в руки надменных и дерзких врагов и даровал столь скорую победу. Наригансеты все это время стояли вокруг, не подвергая себя опасности и всё предоставляя англичанам; разве что ловили тех, кому удавалось вырваться; торжествуя над побежденными врагами, видя, как мечутся они в огне, они окликали их на их же языке словами, какие употребляли те в заклинаниях и в песнях победы: «О, храбрые пекоты!» А когда все счастливо завершилось, пошли на берег, куда подошли их лодки, доставившие пищу и прочее, и принялись пировать. Тут появились остатки пекотов, которые думали напасть на них, пользуясь преимуществом, какие давал им перешеек; однако, увидя англичан, готовых дать отпор, остались в отдалении, откуда ничего сделать не могли, а сами также были в безопасности. Англичане, отдохнув, собрались на совет и решили закрепить победу и преследовать оставшихся врагов, но большая часть наригансетов их покинула, а те, что были у них за провожатых, шли крайне неохотно то ли из зависти, то ли опасаясь, что победа принесет англичанам больше выгод, чем им хотелось бы, а им не позволит сделать побежденных своими данниками, либо еще как попользоваться. Окончание войны опишу я словами из письма м-ра Уинтропа к здешнему губернатору:Дж. Уинтроп.Бостон, 20-е число 3-го месяца, 1637.
Достойный сэр, любезное письмо ваше я получил и желал бы высказать мои к вам чувства, чему мешает недостаток времени; ибо хочу известить вас о великой милости господа, даровавшего нам победу над врагами его и нашими; дабы могли вы вместе с нами возрадоваться и восславить имя его. Около 80-ти людей наших, пройдя вдоль голландского поселения (частию по воде, но более сушею), встречали кое-где пекотов, которых убивали или брали в плен, а 2-х вождей захватили и обезглавили; не найдя Сассакуса (главного их вождя), даровали жизнь одному из пленных, с тем чтобы он его отыскал. Тот сообщил, где найти его, однако Сассакус, заподозрив в нем изменника, успел бежать с 20-тью могавками, так что захватить его не удалось. Разделившись, обыскали они местность, как вел их промысел божий (ибо индейцы все скрылись, исключая 3-х или 4-х, которые не знали, куда вести, либо не хотели), и обнаружили множество пекотов, а именно 80 воинов и 200 женщин и детей, в небольшом индейском поселке, возле болота, где все они укрылись, прежде чем настигли их наши люди. Наши капитаны еще не подоспели; но были там м-р Ладлоу, капитан Мейсон с десятком людей и капитан Патрик с 20-тью или более; а когда стали они стрелять в индейцев, подоспел на выстрелы и капитан Траск, а с ним 50 человек. Дан был приказ окружить болото размером в квадратную милю; но лейтенант Давенпорт, а с ним человек 12, приказа не услышав, ринулись за индейцами по болоту. Были то непроходимые заросли и топи, где некоторые завязли, и в них полетели стрелы. Лейтенант Давенпорт был опасно ранен в подмышку, а затем в голову; он обеспамятел, и все они могли попасть в руки индейцев. Но сержанты Риггс и Джеффри и еще 2–3 человека вызволили их, а нескольких индейцев убили мечами. После этого индейцы пошли на переговоры; им предложили (через толмача нашего Томаса Стэнтона) выйти и сдаться, и тогда помилованы будут все, кто не обагрил рук кровью англичан. Вышел здешний вождь, 1–2 старца, их жены и дети, да еще несколько женщин с детьми; и переговоры длились 2 часа, до вечера. Снова послали к ним Томаса Стэнтона, чтобы велеть им выходить; они же сказали, что дорого продадут жизнь свою, и такую начали стрельбу, что если бы не позвал он на помощь, то был бы убит. Тогда люди наши мечами прорубили проход в зарослях и загнали индейцев в ловушку, где можно было стрелять в них из-за кустов. Так и стреляли всю ночь, на расстоянии 12 футов один от другого; индейцы, приблизясь, пускали столько стрел, что пробивали нашим шляпы, рукава, чулки и иные части одежды, но господь явил чудо, и никто не был ранен, кроме тех 3-х, безрассудно кинувшихся в болото. Занимался день, но так было темно, что уцелевшие индейцы подкрались к нашим, хотя те стояли друг от друга не более чем в 12-ти или 14-ти футах; их, однако, скоро обнаружили и, погнавшись за ними, нескольких убили. Обыскав наутро болото, нашли 9 убитых, некоторых вытащили из топи, где индейцы их погребли; считается, что не уцелело и 20-ти, ибо еще несколько, те, что убежали, умерли от ран. Часть пленных досталась приречному поселению, остальные нам. Детей мужского пола отправили мы на Бермуды[71] с м-ром Уильямом Пирсом, а женщин и девочек роздали в поселки. Всего убитых и пленных оказалось около 700. Остальные рассеялись; и всюду индейцы напуганы, а дружественные нам племена боятся дать им приют. Два вождя из Лонг-Айленда явились к м-ру Стоутону и просили нашего покровительства, обязуясь платить дань. А 2 вождя из Нипнета приходили ко мне, ища нашей дружбы. Среди пленных наших находится жена Моното с детьми, женщина весьма скромного обличия и поведения. Своим заступничеством спасла она жизнь 2-м английским девушкам и обошлась с ними ласково. Я взял ее под свою опеку. Первыми просьбами ее было, чтобы не надругались над нею и не разлучали с детьми. Раненых увез Джон Галопп, кстати подоспевший в шлюпке с припасами, и доставил их за 8 лье на пинассу, где находились м-р Уилсон и главный наш костоправ. Наши люди все (благодарение богу) здоровы и, хотя целый день шли с оружием и целую ночь сражались, столь бодры, что, по их словам, готовы сражаться снова. Таковы главные полученные мною вести, хотя еще много важного вынужден я опустить. Времени у меня мало (ибо корабли отплывают через 4 дня, а с ними лорд Ли и м-р Вэйн), и на этом кончаю я с искренними пожеланиями и т. д. и остаюсь верный друг вашЧтобы с этим предметом покончить, скажу, что Сассакус (главный вождь пекотов) бежал к могавкам, где его и нескольких других вождей обезглавили то ли в угоду англичанам, а вернее, наригансетам (как слышал я позже, они их для этого наняли), то ли ради собственного удовольствия; тем и окончилась эта война{99}. Уцелевшие пекоты были изгнаны из своих мест; одни подчинились наригансетам и жили под их властью; другие, с вождем своим Ункассом, перешли к мохиггенам, с одобрения англичан из Коннектикута, которые оказывали Ункассу покровительство; он и люди его в этой войне были им верны и большие оказали услуги. А наригансеты досадовали, зачем не всех себе подчинили, и с тех пор всякими хитростями о том стараются; не умея достичь этого из-за англичан и покровительства их, наригансеты составили против англичан общий заговор, о чем сказано будет в другом месте. Мистер Эндрюс и м-р Бичем снова написали из Англии, что м-р Шерли не хочет им ничего платить и отчитаться тоже не хочет; большое выказывали нам недовольство и требовали, чтобы мы прислали сколько-нибудь товару, снова обвиняя нас, зачем все посылали м-ру Шерли, а им ничего. Хотя могли мы сослаться на прежний наш ответ и на том стоять, как и советовали нам иные мудрые люди, мы верили, что и впрямь немало им задолжали (в особенности м-ру Эндрюсу); кое-что у нас имелось, и решили послать им бобровых шкур, всё, что было[72]. А вот что писал м-р Шерли: как они отказались недавно платить по векселям, так и он им платить не станет, могут быть в том уверены. Слово свое он сдержал; ни пенни из него не выжали и отчета не получили, хоть м-р Бичем и подал на него в Канцлерский суд. И все они обвиняли нас; а нашей вины тут не было, и пострадали мы ни за что; Сперва из-за них и м-ра Элдертона, когда столько нам начли, чего мы не тратили; а теперь требовали еще, хотя выплачено было (по нашим расчетам) всё и даже больше; и много предъявляли обвинений. М-ра Шерли мы от должности агента отставили и ничего более не велели покупать и присылать; и настаивали, чтобы привел он все расчеты к какому-нибудь концу.Дж. Уинтроп.28-го дня 5-го месяца, 1637.
ANNO DOM. 1638
Губернатором избрали в тот год м-ра Томаса Принса. Среди прочих бедствии этого года была казнь (после следствия и суда) 3-х человек за грабеж и убийство; звали их Артур Пич, Томас Джексон и Ричард Стиннингс; был и 4-й, Даниэль Кроуз, также виновный, но он скрылся и найти его не сумели. Вожаком был у них Артур Пич. Это был юноша отчаянный; в сражениях с пекогами показал он себя смельчаком и шел всегда впереди. Теперь жить ему было не на что, а работать неохота, и стал он погуливать, спознавшись с такими же, как он; задумал податься к голландцам и сманил тех троих, а были они работниками и подмастерьями. Была и иная причина, отчего хотел он тайком уйти; ибо не только влез в долги, но сделал беременной одну девушку (о чем узнали лишь после его казни), вот и боялся он наказания. Три его соучастника сбежали ночью от хозяев своих и считались пропавшими; они пошли не обычной дорогою, но так, чтобы сбить со следу погоню. По пути от Массачусетского залива к наригансетам все они расположились на отдых, развели костер в стороне от дороги и принялись за табак. Шел мимо них индеец-наригансет, который ходил торговать на залив и имел при себе ткани и бусы. (Он повстречался им и накануне, а теперь возвращался.) Пич его окликнул и предложил табаку; он к ним подсел. Товарищам своим Пич сказал, что надо его убить и обобрать. Они робели; тогда он сказал, да ведь мерзавец этот убил немало наших. Они дали ему действовать одному; он выбрал время и проткнул индейца раз или два рапирою; они взяли у него 30 фунтов вампума и сколько-то ткани и ушли, полагая, что он мертв. Но он после их ухода ползком добрался до дому (правда, через несколько дней умер); оттого все и открылось, и индейцы ловко сумели их поймать. Когда потребовали они каноэ, чтобы перебраться через протоку (думая, что об убийстве еще неизвестно), вождь велел отвезти их на остров Акиднет, где обвинили их в убийстве перед тамошними англичанами. Индейцы послали к м-ру Уильямсу{100} и горько жаловались; друзья и родичи пострадавшего вооружились и готовятся вести за собою прочих; выходило, что правы были пекоты, когда пророчили, что англичане истребят их. М-р Уильямс их успокоил и обещал, что виновные будут наказаны; и посетил раненого, взяв с собою врача, м-ра Джеймса. Раненый рассказал, кто сделал это над ним и как; а врач убедился, что раны смертельны и спасти его нельзя (так показал он после и в суде присяжных), и он действительно вскоре скончался, как показали суду м-р Уильямс, м-р Джеймс и несколько индейцев. Оповестили и губернатора Массачусетса, но он передал дело сюда, ибо все произошло в пределах нашей юрисдикции[73]; и настоятельно просил свершить правосудие, ибо этого будет требовать весь край, а иначе начнется война. Нашлись, однако, грубые и невежественные люди, которые роптали: зачем казнить англичан из-за каких-то индейцев. С острова доставили их сюда, допросили и предъявили улики, и все они в конце концов сознались во всем, в чем обвинял их индеец; сказали, что все так и было; на основании этого судом присяжных были они приговорены к смерти и казнены. При этом присутствовало несколько наригансетов, друзей убитого; все они были удовлетворены, как и весь край. Мы, однако, глубоко опечалились; была то 2-я казнь со времени прибытия нашего; и обе, как уже говорилось, за предумьппленное убийство. Но довольно об этом. В тот год снова пришли письма из Англии, и вновь полные жалоб; от компаньонов на то, что м-р Шерли не дает им ни денег, ни отчета; а от него, что отчитываться должен он нам, но отнюдь не им, и т. д. Мы к тому времени решили, если не возымеют действия последние наши письма, послать им, что можем, в надежде, что, выплатив большую часть, легче договоримся с м-ром Шерли насчет остального. Вот и послали мы м-ру Эндрюсу и м-ру Бичему, с м-ром Джозефом Йонгом, на корабле «Мэри и Энн» 1325 фунтов бобровых шкур на двоих. М-р Бичем прислал расписку в том, что за долю свою выручил 400 фунтов стерлингов, сверх фрахта и всех прочих расходов. М-р Эндрюс, хотя его доля была больше и лучше, столько за нее не выручил по собственной нерасчетливости, а убыток[74], безо всякого на то основания, записал на наш счет. Послали мы им еще, векселями и наличными, что также было ими подтверждено[75]. Это выручили мы от продажи скота, принадлежавшего м-ру Эллертону, а также барки, бывшей в общем владении; эти 43 фунта стерлингов послали наличными. Всего же вышло 1234 фунта стерлингов, не считая того, что потерял м-р Эндрюс на бобровых шкурах, но это ему компенсировали иначе. Однако жалобы их и тут не умолкли, как видно будет далее. В то время господь благословил край наш таким притоком людей, что это немалое принесло обогащение; скот был в цене много лет подряд. Коров продавали по 20 фунтов, а то и по 25 и 28 фунтов. Телушка ценилась в 10 фунтов. Дойная коза в 3 фунта или 4; малые козочки в 30 или 40 шиллингов. Благодаря этому старые поселенцы, имевшие стадо, начали богатеть. Неплохие были цены и на зерно, 6 шиллингов за бушель. Прочей торговлей стали пренебрегать; прежние компаньоны (запретив м-ру Шерли посылать туда товары) прекратили торговлю свою на Кенебеке. Правда, некоторые (взяв себе новых компаньонов) не хотели дать ей заглохнуть и заключили с компанией соглашение, по которому давали ей 6-ю часть прибылей; на первые же прибыли выстроили тюрьму; и торговля продолжалась, к большой выгоде для нашей местности; ибо некоторые предвидели, что высокие цены на зерно и скот долго не продержатся, а тогда очень будет не хватать товаров, доставляемых торговлею. В том году, числа 1 или 2 июня, случилось великое землетрясение; у нас его услышали прежде, чем ощутили. Раздался рокот как бы отдаленного грома; и шел он с севера на юг. Когда грохотприблизился, земля начала сотрясаться, а там полетели с полок тарелки, блюда и прочее; можно было опасаться и за дома. Случилось, что как раз в то время в одном из домов сошлись все главные лица, беседуя с друзьями, собравшимися отсюда переселяться (словно господь выражал неудовольствие свое нашим разбродом). Было это весьма страшно, и, пока мужчины находились в доме, женщины, оказавшиеся наружи, чтобы удержаться на ногах, хватались за столбы и ограду; но долго это не продлилось. Спустя полчаса или менее всё вновь загрохотало и закачалось, однако не столь громко и сильно; и быстро стихло. Так было не только на побережье; ощутили это и индейцы во внутренних областях; а на море, у берегов, раскачивало корабли. Господь всемогущей десницей своей сотрясает сушу и воды; горы содрогаются, когда это угодно ему; и кто может остановить десницу его? Замечено было, что после землетрясения несколько лет подряд не было летом тепла, при каком созревали прежде зерно и плоды; лето стояло холодное и сырое, и слишком рано начинались заморозки, не дававшие маису созреть; но это ли было причиною, о том пусть судят естествоиспытатели.ANNO DOM. 1639 и ANNO DOM. 1640
Эти 2 года объединяю я потому, что мало случилось тогда примечательного, кроме повседневных дел{101}, упоминания не стоящих. Поселение наше не однажды отводило земли под новые поселки, в том числе жителям Ситиэйта, где поселилось и несколько наших; большой участок выделен был там 4-м лондонским компаньонам — м-ру Шерли, м-ру Бичему, м-ру Эндрюсу и м-ру Хэзерли. Сделано это было по просьбе м-ра Хэзерли, который и выбрал его для себя и прочих; ибо остальные 3 его на то уполномочили. Участок этот простирался до самой границы земель наших и соседствовал с владениями массачусетсов, которые вскоре заложили там поселок (названный Хингем). Между 2-мя поселками пошли раздоры из-за границ и лежавших между ними лугов. Жители Хингема захватили себе часть их, обмерили и вбили колья. Соседи колья эти выдернули и выбросили. Перешло это в спор между 2-мя поселениями, и большая пошла переписка; года 2 дело оставалось нерешенным. Собрание массачусетсов послало людей провести границы согласно их патенту, а они (когда взялись за дело) включили в границы эти весь Ситиэйт и еще сколько-то. По нашему же патенту выходило, что нам должен отойти Хингем и немало еще их земли. В конце концов собрания обоих поселений наших назначили от каждой стороны по 2 человека, наделив их всеми правами определить границы; и решение их должно было стать окончательным. Они встретились в Хингеме, но договориться не смогли; ибо представители Массачусетса крепко стояли за один из пунктов их патента; а именно, что граница их должна пролегать на 3 мили южнее реки Карловой, любых ее рукавов и в любой ее части, или на 3 мили от южного края Массачусетского залива. Наши же требовали, чтобы выражено это было иначе, ибо обнаружили малую речку, а вернее, ручей, который начинался далеко от побережья, тек на юг и впадал в реку, называвшуюся Карловой; и если от южной точки его, да еще на 3 мили южнее, провести границу на 20 миль на восток, к морю, то захватит она (как утверждали мы) часть самого Плимута. Следует знать, что хотя наш патент и поселение большую имеют давность, однако право расширить его (распространив на местность, где находился Ситиэйт) дано было позднее, нежели патент массачусетсов, так что преимущество было за ними. Но во-первых, говорили мы, наш план показывает, что нигде границы их не пересекаются с нашими первоначальными. Во-вторых, не могут они доказать, что ручей является частью Карловой реки, ибо не знают, которая тут Карлова; наши люди, прибывшие сюда прежде всех, назвали так реку, на которой был позднее выстроен Чарльстон{102} (если это та, что обозначена так на карте капитана Смита). Тем, кто впервые дал ей название, лучше знать, которая это река. Однако так назвали они лишь ту ее часть, какую прошли, то есть пока можно было плыть по ней в лодке. Но нельзя же было объявлять теперь Карловой рекой или частью ее все ручьи, какие где-то далеко в нее впадают или смешивают с нею воды свои и у туземцев зовутся иными названиями. Тут приводили мы в пример реку Хамбер в Старой Англии, куда впадают и Трент, и Уз, и много более мелких рек, однако за часть ее не считаются; а в Трент и в Уз также впадает много малых речек и ручьев, но частью их они не являются и особые носят названия. Заявили мы также, что в патенте нашем восточная граница не указана, а начинается от моря и идет прямо на запад и т. д. На этой встрече, никакого решения принято не было, но все же кое-что подготовили. В следующем году комиссия, в том же составе, те же получила полномочия и, собравшись в Ситиэйте, постановила следующее.Соглашение о границах между Плимутом и Массачусетсом
Две комиссии, одна от Массачусетса, куда вошли Джон Эндикотт, джентльмен, и Израэль Стаутон, джентльмен; другая от Нового Плимута, в составе Уильяма Брэдфорда, губернатора, и Эдварда Уинслоу, джентльмена, собрались с целью наметить и установить границы между указанными владениями, дабы не только нынешнее, но и будущие поколения могли жить в мире и покое. А поскольку члены указанной комиссии от обеих сторон имеют на то все полномочия, как протоколами обеих сторон записано, мы, упомянутые выше члены комиссии, с общего согласия решили, постановили и настоящим заявляем, что все болотистые низины у Конахасета, лежащие по ту сторону реки, что ближе к Хингему, входят отныне во владения Массачусетса; а все низины по другую сторону реки, ту, что ближе к Ситиэйту, входят во владения Нового Плимута, исключая 60 акров болота в устье реки, с той стороны Ситиэйта, что ближе к морю, которые настоящим объявляем мы принадлежащими Массачусетсу. Далее решили и постановили мы, чтобы граница между двумя упомянутыми владениями шла следующим образом: от устья ручья, впадающего в болота Конахасета (которому даем мы название Порубежного), напрямик до середины большого озера, что лежит справа от верхней тропы, ведущей из Уаймута в Плимут и зовется озером Согласия (каковое название мы за ним сохраняем), а отстоит на 5–6 миль к югу от Уаймута; и оттуда прямо к крайней точке Карловой реки и еще на 3 мили южнее, а далее в глубь края, как указано в патенте, пожалованном Его Величеством Компании поселения Массачусетс. Обеими комиссиями решено также, что если упомянутая граница, идущая от озера Согласия к крайней южной точке течения реки Карловой и еще на 3 мили южнее, пройдет по землям, освоенным правительством Нового Плимута или подлежащим освоению в течение 10-ти лет по заключении настоящего соглашения, то упомянутое правительство Нового Плимута имеет право присвоить себе, к северу от указанной границы, восемь квадратных миль, каковые и будут собственностью всякого поселка, который там основан или имеет быть основав, и принадлежать будут правительству Нового Плимута. Если же указанная граница, идущая от упомянутого ручья, впадающего в болота Конахасета и названного нами Порубежным, до озера, именуемого озером Согласия, пройдет вблизи земель, принадлежащих поселкам Ситиэйт и Хингем и как-либо пересечется с размежеванием, поселками этими ранее произведенным, то настоящим решили мы и постановили размежевание это оставить в силе, как было оно утверждено упомянутыми поселками (исключая упомянутые выше болота). С тем чтобы как в том, так и в другом владении ни один поселок указанных границ не нарушал и только в означенных ему пределах располагался. И это мы, представители обоих владений, утверждаем за подписями нашими и печатями, в девятый день 4-го месяца, в 16-м году правления государя нашего короля Карла, а в лето от рождества Христова 1640-е.Патент взят был на имя Уильяма Брэдфорда (по договоренности) и гласил следующее: ему, наследникам его, компаньонам и правопреемникам. Однако ныне, когда число свободных поселенцев весьма увеличилось и в различных местах появились поселки Плимут, Даксборо, Ситиэйт, Тэнтон, Сэндвич, Ярмут, Барнстэбл, Марчфилд, а вскоре затем Сикунк (позднее, по желанию жителей, названный Реховоф) и Наусет, собрание предложило Уильяму Брэдфорду передать патент этот в общее владение. Что он охотно сделал, составив следующий документ:Уильям Брэдфорд, губернаторДж. ЭндикоттИзраэль Стаутон.Эдв. Уинслоу
Поскольку Уильям Брэдфорд и некоторые другие орудия воли господней, зачинатели великого дела поселений, вместе с теми, кого всемогущая десница божия вскоре к ним присоединила, много положили трудов, добывая земли и права и устраняя все помехи, как явствует из различных документов: расширения патентов, покупки, выплаты долгов и др., то и права на земли доныне принадлежат упомянутому Уильяму Брэдфорду, его наследникам и правопреемникам. А ныне, ради лучшего устроения означенных земель (на которые имеется пожалование или патент), упомянутый Уильям Брэдфорд и прочие зачинатели, в различных документах именуемые Покупателями, или Первопришельцами; и особо в 2-х, от 3 марта 1639 г. и от 1 декабря 1640, которые настоящим подтверждаются и в которых выделены они из прочих свободных поселенцев и жителей упомянутой корпорации. Настоящим заявляем поэтому, что упомянутый Уильям Брэдфорд от своего имени и наследников своих, равно как и прочие упомянутые Покупатели, сохраняют за собой, за наследниками своими и правопреемниками единственно 3 участка, указанные в решении от 1 декабря 1640 г., а именно: первый от границ Ярмута, на 3 мили к востоку от Ноумскачета и от моря до моря, через перешеек. 2-й от места, именуемого Акоукусс, лежащего в глубине залива у западного края мыса Опасности и на 2 мили к западу от указанной реки до реки Акушенте, текущей в западный конец Накаты, а оттуда на 2 мили на восток и на 8 в глубь страны. 3-й от реки Соуансет до реки Патукет (включая перешеек Каусумсет, где более всего обитает индейцев и отведена им земля), и далее на 8 миль вглубь, во всю ширину этого участка. А также другие мелкие участки, какие находятся в личном их, или кого-либо из них, владении или таковыми окажутся в силу каких-либо прежних прав или пожалований. Упомянутый Уильям Брэдфорд, по доброй воле и с согласия и одобрения упомянутых Первопришельцев, или Покупателей, а также с согласия и одобрения остального населения означенной корпорации, передает собранию, состоящему из свободных поселенцев корпорации Новый Плимут, все права, привилегии и свободы{103}, пожалованные в означенном патенте упомянутым Высоким Советом Новой Англии, сохраняя за собою свои и упомянутых Первопришельцев права свободных поселенцев, а также оговоренные выше участки; и объявляет совладельцами своими всех свободных людей означенной корпорации, равно как и всех тех, кто в дальнейшем законно будет в нее принят. Упомянутый Уильям Брэдфорд за себя, наследников своих и правопреемников настоящим обещает и обязуется сделать все от него зависящее для наилучшего утверждения всего здесь перечисленного, какое может указать ему сведущий в законах стряпчий. В доказательство этого упомянутый Уильям Брэдфорд принародно передал означенный патент упомянутому собранию и обязался за себя, наследников своих, душеприказчиков и правопреемников отдать также и все иные имеющиеся у него документы, до этого касающиеся.За 2 эти года не раз писали из Англии, чтобы прислали мы кого-нибудь покончить расчеты с м-ром Шерли, который заявлял теперь, что не сумеет в отчетности своей разобраться без помощи кого-либо отсюда и прежде всего м-ра Уинслоу. Мы об этом подумывали, и большинство здешних компаньонов так именно считало; однако письма были перед тем столь злобными и угрожающими, что у м-ра Уинслоу не было охоты ни самому ехать, ни посылать кого другого; ибо он убежден был, что приехавшего арестуют и такую стребуют сумму, что мы не сможем внести залог, и придется ему сидеть в тюрьме; а уж тогда добьются от нас всего, чего захотят; или же попадем в беду из-за происков архиепископа; такое было тогда время. Все же склонялись мы к тому, чтобы послать, и ехать вызвался капитан Стэндиш; однако к согласию не пришли, а дело было важное и могло оказаться опасным; решили поэтому просить совета у м-ра Уинтропа; тем более что м-р Эндрюс многократно писал ему о неладах наших и прислал доверенность на получение с нас той части долга, какая ему причитается. Мы вручили ему для м-ра Эндрюса 110 фунтов, чтобы передал ему, когда придет тот к соглашению с остальными; однако пока спор не окончен, не признали, что делаем это в уплату долга. М-р Уинтроп был того же мнения, что м-р Уинслоу, и посылать кого-либо отговорил; на том мы и порешили; и ответили, что времена для нас опасные; мы помним, что довелось вынести м-ру Уинслоу, когда из-за безделицы был он заключен во Флит и долго не мог оттуда выйти, к большому своему и нашему ущербу; сейчас времена не лучше, а пожалуй что и похуже. Однако, чтобы всем видна была наша справедливость и честность, предлагаем, пусть рассудят нас джентльмены и купцы с Массачусетского залива, кого сами компаньоны наши выберут и кого хорошо знают (ибо у лондонских больше оказалось там друзей и знакомцев, чем у нас); пусть обе стороны изъяснят им дело и представят какие можно доказательства, письменно или иначе; а мы решению их подчинимся и все выплатим, хотя бы пришлось дотла разориться. Это предложение не понравилось и сочтено было обидным, хоть и непонятно мне, почему (ибо отчитаться не умела ни одна из сторон; здешние из-за счетовода, который был им прислан и, на беду их, оказался непригоден; а м-р Шерли тоже заявлял, что не сумеет); разве что почитали нас за низших, а себе за бесчестье уступить нам выбор места и прочее. Так ничего из этого и не вышло; а после м-р Шерли написал, чтобы м-р Уинслоу встретился с ним во Франции, Нидерландах либо Шотландии, пусть сам укажет где; а он туда приедет. Однако из-за смуты, начавшейся на собственной нашей родине{104}, и по другим причинам не состоялось и это. А мы очень желали довести дело до конца; отчасти затем, чтобы умолкли нарекания и обвинения, какие против нас раздавались, хотя именно себя почитали мы более всех обиженными и больше имели причин жаловаться; отчасти же опасаясь падения цен на скот, составлявший большую часть имущества нашего. Опасения эти были не напрасны; ибо так и случилось еще прежде, чем достигнуто было соглашение; и притом столь внезапно, что корова, которая месяц назад стоила 20 фунтов и везде могла за эту цену пойти, ценилась теперь в 5 фунтов, и не более; а коза, стоившая 3 фунта, или 50 шиллингов, стоила самое большее 8–10 шиллингов. Падения цен все боялись, но полагали, что будет оно постепенным; а не так чтобы сразу, от самых высоких до самых низких; и многим причинило это ущерб, а некоторых вовсе погубило. Была и еще причина: многие состарились (и то уж было удивительно, что столько лет большинство их прожило вместе) и предвидели большие перемены; поэтому не хотели оставлять запутанные дела детям и внукам, которым, быть может, предстояло переселяться, как было это с нами; а может, предстояло это и нам самим. А дело все не двигалось с места; продвинулось оно лишь в следующем году, хотя по причинам, только что указанным, расплачиваться стало нам еще труднее.
ANNO DOM. 1641
Мистер Шерли, устав от раздоров и желая (как и мы) с ними покончить, написал к м-ру Джону Этвуду и м-ру Уильяму Кольеру, двум здешним жителям, с кем близко был знаком, прося их помочь делу и посоветовать здешним компаньонам как-нибудь договориться. Написал он и к нам самим, все о том же, как видно из письма его; приведу ту часть его, какая до этого касается:Сэр, приветствую вас и т. д. Столько писал я о том, как покончить меж нами расчеты, что не знаю, что писать еще, и т. д. Если вы, как видно, и впрямь того желаете, то способов (как мне думается) есть лишь 2: проверить всю отчетность от начала до конца и т. д. Если это для нас трудно и долго, ибо мы были менее точны и аккуратны, чем надлежало; я сам сознаюсь в некоторой небрежности, да и вы, считаю, повинны в том же и т. д. Боюсь, что не удастся вам вполне отчитаться за все поездки ваши сюда и отсюда и т. д.[76]. Остается второй способ, то есть соглашение; и это нам все равно предстоит рано или поздно и т. д. Если заведем мы тяжбу, то спорить станем из-за всякой мелочи; иного от меня не ждите, как не жду я от вас; и более всего выгадают на том стряпчие и т. д. Давайте же возьмемся за дело и покончим с ним так или иначе, дабы не страдало доброе имя мое и дело. Да ведь и вы обременены; и промедление ваше вредит также истинной вере; об исповедующих ее идет дурная слава; будто большая, а теперь и зажиточная община ваша взялась так утеснять меня и т. д. Не опасайтесь предложить справедливое и разумное соглашение; поверьте, что не употреблю я его во зло и вас не обижу; или пусть едет сюда м-р Уинслоу, уполномоченный вами заключить полюбовное соглашение; либо уж надо в такой порядок привести отчетность, чтобы мы ее признали. Сейчас, благодарение богу, не те уж здесь времена; и я надеюсь, что многие из вас возвратятся на родину и обретут ту свободу, какую заповедало слово божие. Никогда еще епископы наши не были столь близки к гибели, как ныне{105}; господь сокрушил их и на их же головы обрушил все их папистские и макиавеллевские заговоры и замыслы и т. д. Видите сами, как надлежит нам разрешить и наши несогласия. Прошу о том серьезно поразмыслить; пусть каждая сторона немного уступит, тогда и сойдемся мы на средине и т. д. Сердечно вас и всех ваших приветствуя, остаюсь любящий друг вашПисьмо это, а также посредничество м-ра Этвуда и м-ра Кольера (как и настойчивые требования остальных компаньонов), но более всего собственное наше желание (ибо много приходилось нам слышать обвинений) побудили нас взяться за дело, чтобы с ним покончить. 2-х упомянутых только что джентльменов попросили мы встретиться еще с несколькими друзьями обеих сторон, а также с м-ром Фрименом, зятем м-ра Бичема; составили реестр всему наличному имуществу, в чем бы ни состояло оно: в строениях, лодках, барке, со всеми их принадлежностями, столько их было, когда велась торговля, в том числе изношенными; учли также весь остававшийся товар, бусы, ножи, топоры, ткани и все прочее, как негодное, так и годное для продажи; подсчитали и все долги, даже те, что не надеялись получить с должников наших; несколько дней все это подсчитывали с помощью всех записей и счетных книг, какие имелись у нас и у счетовода нашего Джозии Уинслоу; и оказалось всего (по тогдашним ценам) примерно на 1400 фунтов. И тут все мы добровольно, но торжественно поклялись друг перед другом и перед всеми упомянутыми выше друзьями нашими, что это все, о чем нам известно и что можем припомнить; то же сделал и Джозия Уинслоу. Но мы, по правде сказать, весьма себя при этой оценке обидели; хотя бы в оценке скота, взятого от м-ра Элдертона; так, например, корова шла тогда за 25 фунтов, и мы так ее и подсчитали; а когда, заключив уже соглашение, стали ее продавать в уплату долга, за нее давали всего 4 фунта 15 шиллингов. Кроме того, свято соблюдая свою клятву, собрали мы все, что принадлежало акционерному товариществу; но далеко не столь тщательно подсчитано было то, что задолжало товарищество нам; так что много еще разных долгов начли нам после; больше, чем было нам тогда известно. Тем временем составлено было соглашение между нами и м-ром Этвудом, который представлял интересы м-ра Шерли. И вот каково оно было.Джеймс Шерли.Клэпем, мая 18-го, 1642.
Соглашение, заключенное октября 15-го дня 1641, и т. д.
Поскольку в течение ряда лет существовало товарищество, составленное Джеймсом Шерли, Джоном Бичемом и Ричардом Эндрюсом, лондонскими купцами, и Уильямом Брэдфордом, Эдвардом Уинслоу, Томасом Принсом, Майлсом Стэндишем, Уильямом Брюстером, Джоном Олденом и Джоном Хаулендом, а также Исааком Эллертоном, для торговли бобровыми шкурами и другими мехами, добываемыми в Новой Англии; поскольку срок указанного товарищества истек, и упомянутые Джеймс Шерли, Джон Бичем и Ричард Эндрюс вложили различные суммы в товары, посылавшиеся ими в Новую Англию, а из Новой Англии от упомянутых Уильяма Брэдфорда, Эд. Уинслоу и прочих имели большие получения; несогласия же вышли у них из-за расходов на 2 корабля, «Уайт Эйнджел» из Бристоля и «Фрэндшип» из Барнстэбла, а также предполагавшееся на нем плавание и т. д.; каковые корабли и плавания на них упомянутые Уильям Брэдфорд, Эд. У. и прочие не считают к товариществу касающимися; и поскольку отчетность указанного товарищества оказалась запутанной и не может быть приведена в порядок (по вине счетовода Джозии Уинслоу); но упомянутый У. Б. и прочие получили от упомянутого Джеймса Шерли все товары для указанной торговли и большую часть их возместили ему, с согласия упомянутых Джона Бичема и Ричарда Эндрюса; то упомянутый Джеймс Шерли уполномочил м-ра Джона Этвуда, при участии Уильяма Кольера из Даксборо, от лица своего полностью расторгнуть указанное товарищество, включая все счета, претензии и требования к упомянутым Джеймсу Шерли, Джону Бичему и Ричарду Эндрюсу со стороны упомянутого У. Б. и прочих во всем, относящемся до указанной торговли бобровыми шкурами, а также затрат на 2 упомянутых корабля и плавания на них, состоявшиеся или несостоявшиеся, от начала времен до настоящего времени; равно как и выплаты 1800 ф. за выкупленные паи, о чем договаривался Исаак Эллертон от лица упомянутых У. Б., Эд. У. и прочих; равно как и акционерного капитала, земельных участков и всех предприятий в Новой Англии, указанных в соглашении от 6 ноября 1627 года; а также всех сумм, в деньгах или товарах, полученных Уильямом Брэдфордом, Т. Принсом и Майлсом Стэндишем от упомянутых Джеймса Шерли, Джона Бичема, Ричарда Эндрюса и Исаака Эллертона в возмещение затрат на корабль «Уайт Эйнджел». Упомянутый Джон Этвуд, с помощью упомянутого Уильяма Кольера, после неоднократных совещаний обо всех указанных несогласиях и счетах с упомянутыми У. Б., Эд. У. и прочими, а упомянутые У. Б., Эд. У. и прочие, вместе с упомянутым счетоводом, после долгих и тщательных розысков всех остатков общего капитала товарищества, всех сумм, как полученных, так и имеющих быть полученными, всех и всяческих товаров, и всех сумм, числящихся за должниками, как теми, кто уплатит, так и теми, на кого рассчитывать нельзя, установили, что составляет это около 1400 ф.; и ради полного удовлетворения упомянутых Джеймса Шерли, Джона Бичема и Ричарда Эндрюса упомянутый У. Б. и прочие упомянутые компаньоны, вместе со счетоводом Джозией Уинслоу добровольно поклялись в том, что сверх означенной суммы в 1400 ф. ничего не знают и вспомнить не могут. Ввиду всего вышеизложенного и дабы совершенно и полностью окончить дело, избежать судебной тяжбы и восстановить любовь и согласие, упомянутый Джон Этвуд, вместе с упомянутым Уильямом Кольером, от лица упомянутого Джеймса Шерли договорился с упомянутыми У. Б. и прочими о следующем: упомянутый Джон Этвуд получит от упомянутых Джеймса Шерли, Джона Бичема и Ричарда Эндрюса расписки за их подписями и печатями, для вручения их, открыто и без утайки, упомянутому Уильяму Брэдфорду и др. не позднее последнего дня августа, следующего за датой сего; каковые расписки полностью освободят упомянутого Уильяма Брэдфорда и др., их наследников и душеприказчиков от каких-либо счетов, исков и претензий, касающихся общего капитала товарищества по торговле бобровыми шкурами, выплаты 1800 ф. за выкупленные паи и от всех счетов, исков и претензий, справедливых или несправедливых, касающихся упомянутых 2-х кораблей, «Уайт Эйнджел» и «Фрэндшип», а также всего, что выручено упомянутым Уильямом Брэдфордом от продажи товаров и имущества Исаака Эллертона в возмещение затрат на упомянутый корабль «Уайт Эйнджел», согласно доверенности, выданной с этой целью ему, Томасу Принсу и Майлсу Стэндишу упомянутыми Джеймсом Шерли, Джоном Бичемом и Ричардом Эндрюсом. Упомянутые стороны настоящим договорились также о том, что упомянутые У. Б., Э. У. и др. под залог в 2400 ф. обязуются выплатить 1200 ф. в качестве полного удовлетворения всех претензий к ним; выплату же произведут следующим образом: 400 ф. в течение 2-х месяцев после получения упомянутых расписок; из каковой суммы сто десять фунтов вручены уже на хранение Джону Уинтропу-старшему{106}, эсквайру, из Бостона, упомянутым м-ром Ричардом Эндрюсом, а 80 фунтов бобровых шкур переданы на хранение упомянутому Джону Этвуду, также в счет означенных 400 ф.; остальные же 800 ф. выплачиваются, по 200 ф. в год, доверенным лицам, какие назначены будут из числа жителей Плимута или Массачусетса, теми товарами и по тем ценам, какие окажутся в крае ко времени уплаты; а залог в 2400 ф. передается на хранение упомянутому Джону Этвуду. Упомянутые стороны договорились также, что если упомянутый Джон Этвуд до последнего дня августа, следующего за датой сего, не получит от упомянутых Джеймса Шерли, Джона Бичема и Ричарда Эндрюса означенных расписок, то упомянутый Джон Этвуд в тот же день возвратит, или поручит возвратить, упомянутым У. Б., Э. У. и др. означенный залог в 2400 ф., а также означенные 80 фунтов бобровых шкур или стоимость их, без каких-либо отговорок или проволочек; и дабы обеспечить выполнение всех и каждого из условий настоящего соглашения со стороны упомянутого Джеймса Шерли, внесет он залог в 2400 ф. упомянутым Уильяму Брэдфорду, Эдварду Уинслоу, Томасу Принсу, Майлсу Стэндишу, Уильяму Брюстеру, Джону Олдену и Джону Хауленду. Означенные стороны договорились также настоящее соглашение отдать на сохранение м-ру Джону Рейнору, проповеднику в Плимуте. В свидетельство чего все упомянутые участники соглашения поставили каждый подпись свою в день и год, указанный выше.На следующий год покончили наконец с этим долгим и скучным делом, хоть окончилось оно не для всех, как видно станет далее; но покуда о нем довольно. В надлежащем месте позабыл я упомянуть, что здешняя община пригласила м-ра Чарльза Чэнси[77], человека благочестивого и весьма ученого, и послала за ним, намереваясь, по должном испытании, избрать его в здешние пасторы ради лучшего отправления служб совместно с проповедником м-ром Джоном Рейнором. Вышли, однако, некоторые разногласия касательно крещения, которое признавал он единственно через погружение всего тела в воду, окропление же почитал незаконным. Община такое погружение признавала, однако в столь холодном крае было оно менее удобным. Но никак нельзя было согласиться с тем, будто окропление (которое и поныне чаще всего совершается во всех церквах христианских) незаконно и не богом установлено, но людьми придумано, как это утверждал он; однако община готова была уступить ему во всем, что возможно; и разрешила ему совершать обряд этот согласно убеждению его; пусть совершает его так для каждого, кто пожелает, при условии, чтобы и м-ру Рейнору позволил он, для желающих того, крестить посредством окропления или обливания водою; дабы не было разногласий в общине. Он, однако, на это не соглашался. Тогда церковная община пригласила нескольких пасторов для публичного обсуждения, как, например, м-ра Ральфа Партриджа из Даксборо, не раз совершившего обряд этот именно так, и весьма пристойно; а также некоторых других пасторов из владений плимутских. Он и этим не остался доволен; тут община наша обратилась за помощью и советом к другим общинам, а для этого с его согласия разослала доводы его, своеручно им написанные. Были они посланы бостонской общине в Массачусетском заливе для сообщения другим тамошним общинам. Послали их общинам в Коннектикуте и Нью-Хейвене{107} и еще некоторым; и получили от них и ученых пасторов их весьма, как казалось нам, убедительные ответы, которые все его доводы опровергали. Сам он, однако, не уступал. Ответы слишком были пространны, чтобы их здесь приводить. Решено было, что община сделала все возможное, и м-р Чэнси, пробыв здесь без малого 3 года, удалился в Ситиэйт, где доныне исполняет должность пастора. Примерно в то же время, когда скот и другие товары сильно упали в цене, а люди большие терпели убытки, многие (как уже говорилось) перебрались от нас в Даскборо, Марчфилд и иные места, в том числе и столь именитые люди, как м-р Уинслоу, капитан Стэндиш, м-р Олден и многие другие; не было дня, чтобы кто-нибудь не уходил или не задумывался об этом; местность наша весьма опустела; а так как была она бесплодной и бедной, то и стали подумывать о переселении; о чем подробнее сказано будет далее.Джон Этвуд, Уильям Брэдфорд,Эдвард Уинслоу и прочие.В присутствии Эдмонда ФрименаУильяма ТомасаУильяма ПэдиНатаниэла Саутера.
ANNO DOM. 1642
Диву даешься, отчего выросло и распространилось здесь то зло, которое столь усиливались мы побороть, столь тщательно избегали и столь сурово карали, когда обнаруживали; поистине как нигде более; так что иной раз осуждаемы были некоторыми умеренными людьми за излишнюю суровость. Ничто, однако, не смогло предотвратить тяжких прегрешений (чему и этот год слишком много дал печальных примеров), особенно же пьянства и распутства, причем не только среди не состоящих в браке, за что понесли суровое наказание многие мужчины и женщины, но и среди людей семейных. Хуже того; не раз случался здесь и содомский грех, скотоложство (мерзости, что и назвать страшно). Повторяю, что дивиться надо и содрогаться при виде испорченности природы человеческой, которую столь трудно подавлять и обуздывать; да и невозможно иначе как всемогущим духом божиим. Но может быть и то причиною, что Дьявол особенно злобствует против здешней церкви христовой, и за то именно, что усиливается она хранить в среде своей святость и чистоту и сурово карает грехи духовенства и мирян; вот и силится он запятнать их в глазах света, который в суждениях своих зачастую слишком бывает поспешен. Предпочитаю думать так и не верить, подобно некоторым, что Сатане более дано власти в здешних языческих краях, особенно же над служителями божиими. 2. Другой причиною могло быть то, что бывает с потоком, когда преграждают ему путь плотиною; прорвавшись, течет он более яростно и шумно, чем если дать ему струиться спокойно в собственном его русле. Так и грех, обуздываемый здесь более строгими законами и не имея обычной, потребной ему свободы, ищет выхода, а найдя, бурно в него устремляется. 3. Возможна и третья причина; зла у нас (как твердо убежден я) не больше, а даже много меньше на душу населения, чем где-либо еще; но здесь более выходит оно наружу из-за строгого надзора и наказаний; ибо церковные общины надзирают за членами своими, а магистрат за всеми жителями более тщательно, чем в других странах. К тому же здешние жители малочисленны сравнительно с другими странами, населенными столь густо, что там, словно в лесной чаще, может укрыться и никогда не быть обнаружено множество злых дел; тогда как здесь они на свету, в чистом поле, а вернее, на холме, и открыты всем взорам. Продолжу, однако, мое повествование; от губернатора поселения на заливе пришло письмо, касающееся только что упомянутых предметов, которое полезно будет отчасти здесь привести.Сэр, спешу воспользоваться случаем и сообщить вам решение общего собрания нашего по двум особо важным делам, дабы уведомили вы о нем прочих должностных лиц, а также старейшин, посовещались и помогли нам советом. Первое относится до гнусного разврата, коего подробности, а также вопросы наши прилагаю на особой записке. Второе касается жителей острова Акиднет{108}, из коих главные удалены были от нас за проступки против церкви, поселения или же того и другого разом; а люди к ним близкие и даже лучшие из них держат их сторону против нас. И не только во мнениях разошлись они с нами, но и самыми делами своими противятся истинной церкви христовой, а многие и всякой гражданской власти. Это доказали некоторые, у них работающие, которые недавно к нам явились и открыто бросили вызов властям, пасторам, церкви и церковному ковенанту и т. д., назвав их антихристианскими; а втайне сеяли семена фамилизма и анабаптизма{109}, заражая одних, а других подвергая опасности; так что не желаем мы вступать с ними ни в какие сношения или союз, а вас просим посоветовать, как нам избегать их и предохранить верующих наших от заразы. Еще об одном хочу упомянуть, а именно о торговле бобровыми шкурами; если не составим мы компании, которая ведала бы ею во всех английских владениях и договорилась, как вести ее, торговля эта, по моему мнению, придет в упадок и индейцы станут нас обсчитывать. Поэтому решили мы сейчас навести в ней порядок, надеясь (как всегда) на поддержку вашу, чтобы так вести ее и впредь. Не утруждая вас долее и любовно приветствуя, остаюсь и т. д. Любящий друг вашПриложенная записка следует на обороте{110}.Рич. Беллингем.Бостон, 28 (1.), 1642.
Достойный и любезный сэр, Письмо ваше (с приложенными к нему вопросами) обсудил я с помощниками и просил ответить на них почтенных старейшин наших; некоторые своеручные их ответы прилагаем; от других таковые еще не получены. Причиною промедлений были большие разделяющие нас расстояния, из-за чего не могли они собираться вместе на совет. Что касается нас (а познания наши вам известны), то мы скорее сами просим вас и других, кого более умудрил господь, просветить нас, нежели решаемся судить о случаях столь затруднительных и важных. Все же осмеливаемся мы и просим, если нужно, нас поправить, высказать следующее наше суждение. Как нам кажется, даже в случае убийства преднамеренного, когда наносимый удар имел целью поразить жертву насмерть (а это, пред лицом господа, уже есть преднамеренное убийство), однако человек остался жив, судьям не следует лишать преступника жизни[78]. Хотя, как и в других тяжких и гнусных грехах, попытки совершить их могут пред лицом господа равняться самому свершению, однако мы сомневаемся, следует ли судье назначать кару смерти; думается нам, что по указанным причинам делать этого не следует… Признаем, однако, что гнусные обстоятельства преступления и неоднократность его вынуждают нас оставаться в некотором сомнении и желать дальнейших указаний от вас или кого пошлет господь. Что касается 2-го дела, то есть жителей острова, то мы общения с ними не имеем и иметь не желаем, помимо того, что потребоваться может необходимостью или человеколюбием. А что до торговли, то мы всегда, насколько могли, вели ее как должно и сокрушались при виде совершаемых другими бесчинств, но боимся, что поправить того нельзя. Тем не менее в этом, как и во всем прочем, касающемся общего блага, готовы мы с вами советоваться и сотрудничать. Приветствуя вас и других достойных друзей наших, а ваших помощников, прощаюсь с вами и остаюсь любящий друг вашМогут, однако, спросить, как случилось, что столько негодяев и нечестивцев так скоро оказалось в этом крае и вмешалось в среду нашу{111}. Ибо начало положено было людьми благочестивыми, которые и прибыли сюда ради веры своей. Признаю, что можно этому дивиться, по крайней мере в будущие времена, когда неизвестны уже будут причины; тем более что прибывающих сюда ожидали многие труды и лишения. Попытаюсь дать на это ответ. Во-первых, надлежит вспомнить, что сказано в Писании: где господь сеет добрые семена, там завистник старается сеять плевелы. 2. Люди ехали в местность дикую, где много предстояло трудов, чтобы построиться, возделать землю и т. д.; и кто нуждался для этого в рабочих руках и не находил тех, кого надо бы, рад был взять кого случится; вот и привезли сюда много заведомо строптивых работников, мужчин и женщин; а они, когда истек срок службы их, сами обзавелись семьями и плодились. 3. Еще одной, и притом главной, причиною было то, что некоторые, видя сколько благочестивых людей желает попасть в наши края, стали этим промышлять; перевозили людей и имущество их, нанимая для этого корабли; а чтобы больше получить прибыли, не глядели, кого везут, лишь бы было заплачено. И наводнили край наш многие недостойные, и всюду сумели они проникнуть. 4. Когда господь ниспосылает народу своему не одни лишь духовные, но и земные блага (хоть шлет при этом также и испытания), многие спешат примкнуть к народу божиему, подобно тому, как многие следовали за Христом ради хлебов. От Иоанна, 6, 26. И множество разноплеменных людей вышло с народом божьим из древнего Египта. Исход, 12, 38. Случалось, что люди отправляли сюда своих близких в надежде на исправление; другие — чтобы избавиться от обузы или не терпеть позора, какой беспутные навлекали на семью свою. Так или иначе, за 20 лет едва ли не большинство пошло здесь дурным путем. Подошли к концу долгие и докучные расчеты между здешними компаньонами и теми, что в Англии; об этом и расскажу я словами из собственных их писем там, где они того касаются.У. Б.Плим., 17-го 3-го месяца, 1642.
От м-ра Шерли к м-ру Этвуду:
Испытанный и любезный друг мой м-р Этвуд, письмо ваше от октября 18-го получил, из коего вижу, сколько трудов положили вы на хлопотное дело наше с плимутскими компаньонами и друзьями; для таких стараний недостанет слов благодарности и т. д. Соглашением, какое заключили вы с м-ром Брэдфордом, м-ром Уинслоу и прочими тамошними компаньонами, которые, как я убежден, честно и справедливо отчитались в оставшемся капитале, я вполне удовлетворен, равно как и м-р Эндрюс; а также, полагаю, будет и м-р Бичем, если достанется ему большая часть, хоть ему меньше всех положено, и т. д. Чтобы все окончить миром, в любви и согласии, как и начинали, и каждому простить вины его, соглашение следует принять; итак, соглашение нами принято; м-р Эндрюс послал м-ру Уинтропу свою расписку, а также указания, какие счел нужным; а я прошу вас принять мою; оба мы скрепили их печатью в присутствии м-ра Велда, м-ра Петерса и некоторых других; посылаю вам еще экземпляр, для тамошних компаньонов, чтобы поставили печать; и не отдавайте им мою, покуда не подпишут и не пришлют свою, также с печатью; так оно будет по справедливости и т. д. Готовый служить чем могуДжеймс Шерли.Июня 14-го, 1642.
От него же к здешним компаньонам:
Возлюбленные друзья м-р Брэдфорд, м-р Уинслоу, м-р Принс, капитан Стэндиш, м-р Брюстер, м-р Олден и м-р Хауленд, дозвольте писать ко всем вам совокупно о завершении докучного и хлопотного дела, которое, можно сказать, для всех и прискорбно, и убыточно, и т. д. Сейчас богу угодно было послать нам способ покончить все счеты и все беспокойство и завершить дело мирно и любовно, как и начинали его. О чем договорились вы с м-ром Этвудом, на то и я согласен; потому и послал любезному другу моему м-ру Этвуду расписку, полностью всех вас освобождающую; а если в ней чего недостает, напишите, и все будет сделано, с тем чтобы вы, вместе или порознь, подписали подобную же. Образец ее я составил и послал м-ру Этвуду вместе с распискою, предназначенной для вас, которую скрепил я печатью. То же сделал и м-р Эндрюс и послал свою расписку м-ру Уинтропу, а также указания, какие счел нужными; а долг свой, который исчисляет он в 544 ф., передал, как я слышал, джентльменам с залива. М-р Велд, м-р Петерс и м-р Хиббенс поистине немало потрудились, чтобы получить согласие м-ра Эндрюса, м-ра Бичема и мое, для чего много понадобилось времени и совещаний. Но они, как люди благочестивые и честные, ставили себе цель, которую достичь хотели непременно (и не для себя, но ради общего блага). Хорошо бы и вам такую бумагу выслать. М-р Эндрюс хотел, чтобы вы получили 3-ю часть от 1200 ф., а залив 2 трети; но на это нужно, чтобы договорились мы трое, а это теперь дело трудное. М-р Велд, м-р Петерс, м-р Хиббенс и я решили, что они внесут вам залог и так договорятся с м-ром Бичемом, чтобы он дал общую расписку, освобождающую вас от всех возможных его претензий; это будет нетрудно, ибо я уверен, что м-р Велд со временем убедит его отдать им все, ему причитающееся, и это отчасти уже достигнуто; ибо, хотя требования его велики, м-р Эндрюс тут постарался, и у него получается даже меньше, чем готов он будет отдать на столь хорошее дело; так что не опасайтесь, все будет у вас благополучно. А мы уговорились, что джентльменам с залива уплатите вы 900 ф.; они понесут все расходы, какие могут потребоваться, чтобы покончить расчеты ваши с нами тремя. По получении от вас расписки я пришлю вам ваш залог по выплате за покупку. Прислал бы и сейчас, но хотел бы иметь также расписку от м-ра Бичема, ибо в этих расчетах вы с ним связаны. А известно, что когда человек связан общим делом с 12-тью, то один, давая расписку, дает ее как бы и за всех прочих; а моя расписка освобождает их всех; но не сомневайтесь, что залог этот вы получите, а также комиссионные и все, что положено. Вам известно, что двух лет из срока, отведенного на выплату за покупку, я не признал, ибо заявлял и прежде, что платить стану лишь 7 лет. А ныне освободитесь вы полностью и т. д. Любящий друг ваш, готовый к услугам в меру сил своихА вот копия его расписки:Джеймс Шерли.Июня 14-го, 1642.
Поскольку имелись несогласия и взаимные претензии между Уильямом Брэдфордом, Эдвардом Уинслоу, Томасом Принсом, Майлсом Стэндишем, Уильямом Брюстером, Джоном Олденом и Джоном Хаулендом, в настоящее время проживающими в Новом Плимуте, Новая Англия, с одной стороны, и Джеймсом Шерли, лондонским купцом, с другой стороны, касательно товарищества для торговли бобровыми шкурами и другим товаром, фрахта кораблей «Уайт Эйнджел», «Фрэндшип» и других, а также имущества Исаака Эллертона, конфискованного на основании доверенности, выданной упомянутым Джеймсом Шерли, Джоном Бичемом и Ричардом Эндрюсом, и всех прочих дел, относящихся до указанной торговли как здесь, в Старой Англии, так и в Новой Англии или где-либо еще, ныне все разногласия эти благодаря посредничеству друзей улажены к общему удовольствию, путем соглашения. И дабудет всем известно, что я, Джеймс Шерли, во исполнение означенного соглашения настоящей распискою отказываюсь и отступаюсь за себя, наследников моих и душеприказчиков и за каждого из нас по отношению к упомянутым Уильяму Брэдфорду, Эдварду Уинслоу, Томасу Принсу, МайлЬу Стэндишу, Уильяму Брюстеру, Джону Олдену и Джону Хауленду, к каждому из них в отдельности, к наследникам их и душеприказчикам от всяких исков, долгов, счетов, комиссионных, залоговых сумм, договоров, судебных решений, исполнительных листов, претензий, отводов и иных требований к упомянутым Уильяму Брэдфорду, Эдварду Уинслоу, Томасу Принсу, Майлсу Стэндишу, Уильяму Брюстеру, Джону Олдену и Джону Хауленду или любому из них в отдельности, какие имел, имею или могу иметь в будущем по какому бы то ни было делу или надобности от начала времен до дня подписания настоящего документа. Что и подписываю и скрепляю печатью своей второго июня 1642 года, в восемнадцатый год правления государя нашего короля Карла, и т. д.Джеймс Шерли.
Дано и подписано в присутствииТо же подписал и м-р Эндрюс; ему по соглашению досталось 500 ф.; расписку вручил он представителям залива, которые доставили ее нам и стребовали деньги. Расписку мы взяли и расплатились, как договорено было, а именно одну треть от 500 ф. немедленно, а остальное в течение 4-х лет, равными частями; на это дали мы долговые обязательства. И хотя требовалось еще 44 фунта, мы полагали, что м-р Эндрюс их скостит, и в обязательство не включили. А м-р Бичем не хотел уступить ничего из своих и требовал со здешних компаньонов 400 фунтов; а расписку послал одному своему приятелю, с тем чтобы отдал ее только по получении с нас этих денег. Однако расписка его была неполной; там опущены были имена некоторых компаньонов и еще кое-что; к тому же ему дали понять, что причитается ему много меньше. Так что с ним не удавалось разделаться еще 4 года; о чем скажу в свое время. Так как и меж ними самими не было на сей счет согласия, то помещаю здесь часть письма м-ра Эндрюса, где говорится, что со здешними компаньонами обошлись несправедливо. Письмо это написано было к м-ру Эдмонду Фримену, зятю м-ра Бичема.Томаса BeлдаХью ПетерсаУильяма ХиббенсаАртура Тэффи, писцаТом. Стэргса, слуги.
М-р Фримен, приветствую вас и т. д. Нашим компаньонам сообщил я уже мнение мое о требованиях м-ра Бичема и м-ра Шерли, которые поступают по правилу: ухвати что удастся; один не хочет никакого показать счета, а другой предъявляет счет весьма несправедливый; и оба, особенно м-р Бичем, отговаривали меня посылать компаньонам мой счет. Это имею я основания объяснять так: хоть я не нанес и не думал наносить компаньонам никакого ущерба, но если не представлю счета, то и меня сочтут почти столь же в этом повинным; а их менее осудят за то, что счетов не представили; оба они присчитали себе больше процентов, чем платили, а один из них, судя по счету его, даже такие, каких и вовсе не платил, и т. д. Компаньоны наши показали, что всем нам осталось получить 1200 ф., а в моем счете указано, что я процентов не спрашиваю и готов их скостить, а это составляет более 200 ф. А м-р Шерли и м-р Бичем, которые вдвоем нанесли делу ущербу многажды по 100 ф. как в части капитала, так и процентов, да и мне причинили не меньше убытку, чем любому из компаньонов, не хотят предъявить правильных и честных отчетов и не берут то, что предлагается им по соглашению, а ведь это даже больше, чем им по справедливости причитается; а именно, м-ру Бичему 150 ф., согласно счета м-ра Эллертона и показаний м-ра Шерли, данных в Канцлерском суде под присягою; а м-ру Шерли ничего, хоть он и требует 100 ф., и т. д. А я считаю, что раз компаньоны наши под присягою показали оставшуюся у них сумму, то справедливо было бы оставить им из нее 650 ф., после того как удовлетворят меня, а м-р Шерли и м-р Бичем будут в претензиях своих более справедливы и т. д. Я намерен, если со мною честно рассчитаются, выплатят часть моих 544 ф., а за остальное поручатся, пожертвовать беднякам участок мой в Ситиэйте, а также отказаться от доли в дорогом патенте, на который немало истрачено наших денег, и от доли в якобы дешевой покупке паев, которая обошлась мне не менее чем в 350 ф.[79]. Подозреваю, что другие поставили в счет эти свои затраты, но я так не сделал и считаю, что и другие не должны бы, пока не увижу отчетности одного из них и не услышу объяснений от другого; а потому имею причину подозревать, что нечестны оба их счета; и они, как видно, о том сговорились. Считаю поэтому, что компаньонам нашим следует требовать от обоих правильных счетов, прежде чем отдать им деньги. Ибо купцы умеют вести отчетность; и если они честны, то не отказываются ее предъявить, так как ведут записи, помогающие им отчитаться в каждой сумме, и когда они этого не забывают, не забывает и запись. Не хочу ущерба для м-ра Бичема и м-ра Шерли, но не могу и молчать, если наносят они ущерб компаньонам нашим, а также и мне; а на это похоже, ибо они отказываются предъявить отчет или предъявляют несправедливо увеличенный, а во многом и подозрительный; а ведь оба они купцы опытные и не могут делать этого по неумению; тем более дурно они поступают. Поручая вас, близких ваших и весь народ божий милостивому его покровительству, остаюсь любящий друг вашПисьмо это, как видим, написано было спустя год после соглашения; из него ясно, как судил он о нем; поэтому предоставляю судить о нем также и любому нелицеприятному человеку. А чтобы с этим покончить, добавлю только то, что писал примерно тогда же сам м-р Шерли. Письмо его привожу я на обороте.Ричард Эндрюс.Апреля 7-го, 1643.
Возлюбленные друзья, м-р Брэдфорд, м-р Уинслоу, капитан Стэндиш и прочие компаньоны; пишу ко всем вам совместно, надеясь удовлетворительно завершить этим общее дело, докучное и дорого всем стоившее и, уж конечно, мне и т. д. От м-ра Уинслоу получил я письмо от 28 сент.; и на все, что касается общего дела, отвечу сейчас, не зная, будет ли случай писать особо, и т. д. Я ждал писем от вас всех, как сообщали мне, но, как видно, не было случая. Дело в общем решено, хотя кое-что изменилось; я разумею прежний уговор мой с м-ром Велдом и м-ром Петерсом, которые хотели от меня расписку, чтобы затем договориться с м-ром Эндрюсом, и дали мне залог на ПО ф. Расписку я послал, ибо без того, по словам их, невозможно было окончить дело (и были для этого основания). Договорившись со мной, надеялись они добиться и от м-ра Эндрюса его части и добились полностью (что меня удивило бы, если б я кое-чего не заметил); надеялись получить и от м-ра Бичема его долю, и я полагал, что он ее отдал бы. Если бы он понимал и себя самого, и этот счет, то отдал бы; а теперь требует много[80]. Как видно, он не хочет отступиться, полагая, что сумма слишком велика и он сможет взыскать ее с вас. Сперва соглашался он дать им 40 ф., но сейчас они говорят, что не дает, а вернее, думаю я, они сами не хотят брать; ибо если возьмут и тогда получат долю м-ра Эндрюса, значит, должны будут выплатить мне через 3 месяца залог в 110 ф. А для вас много лучше было бы, чтобы им не договариваться с м-ром Бичемом; да и для меня тоже, если будете вы столь же милосердны ко мне, как я был и буду к вам; а именно, уплатите м-ру Эндрюсу или, по его указанию, людям с залива 544 ф.; это все, что он требует; а если проверить, может оказаться и меньше. Это человек честный, и я уверен, что умышленно ни в чем не слукавит; но забыть кое-что может, как и любой другой; а что он забудет, о том напомнит м-р Уинслоу (правда, иной раз за мир и согласие стоит и заплатить). Джентльмены с залива могут скостить 100 ф., и для обеих сторон выйдет оно справедливее, чем если требовать все сполна, и т. д. Если пришлете мне 150 ф., то вместе с полной долею м-ра Эндрюса наберется около 700 ф. М-р Бичем требует 400 ф.; а ведь известно, что, если требуешь деньги, должен показать, за что именно; а я знаю, что доказательств нет у него и на сто фунтов, если речь идет об основном капитале; и пока он не предъявит их, вы имеете право придержать эти 500 ф. и т. д. Заверяю вас, что пишу так отнюдь не по злобе на м-ра Бичема, но потому лишь, что это правда. Отчасти можно увидеть это из счета м-ра Эндрюса, и думаю, никто из вас не сомневается, что мне об этом счете известно более, чем ему самому. Хотел бы я столь же правильно составить мой собственный; но, помня прежние на меня нарекания, воздержусь, покуда меня не спрашивают; а вы пользуйтесь спокойно этими 500 ф., пока он не начал; пусть пробует хоть здесь, хоть у вас, все едино; я ему вредить не стану; но если не получит он более ни пенни, то все же потеряет меньше, чем м-р Эндрюс или я. Этак будет по справедливости; даст он расписку или нет, не важно; пускай предъявит такие доказательства затрат своих, какие вам не оспорить, тогда и заплатите, как положено по первому соглашению, и т. д. Истинно любящий друг вашДжеймс Шерли.Лондон, апреля 27-го, 1643.
ANNO DOM. 1643
Этот год начну я с того, что всем нам глубокую причинило скорбь. 18 апреля скончался почтенный наш старейшина, а мой возлюбленный друг м-р Уильям Брюстер; человек много сделавший и страдавший ради господа Иисуса и Святого писания, более 30-ти лет разделявший участь несчастной гонимой церкви нашей в Англии, в Голландии и в здешнем диком крае и верно послуживший на посту своем господу и всем нам. Несмотря на многие перенесенные страдания, господь продлил дни его. Когда скончался, было ему около восьмидесяти лет (если не более). И тем еще благословил его господь, что скончался он мирно, в постели своей, окруженный друзьями, которые оплакивали его и пока могли облегчали ему последние минуты; а он, в свою очередь, утешал их, пока мог. Болел он недолго и до последнего дня почти не лежал в постели. До последних нескольких часов владел он ц речью; а часов в 9–10 вечера скончался без мучений. В течение нескольких часов дышал он с трудом, но за несколько минут до кончины вздохнул глубоко, подобно человеку, отходящему ко сну, нимало не задыхаясь, и так перешел в лучший мир. Спрошу теперь, должно ли сожалеть о перенесенных им в жизни страданиях? Но к чему спрашиваю я это? Не только не должно, но были они к вящей его славе. «Доказательство того, что будет праведный суд божий (говорит апостол, 2-е Поел, к Фессалийцам, 1, 5, 6, 7), чтобы вам удостоиться царствия божия, для которого вы и страдаете. Ибо праведно перед богом — оскорбляющим вас воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, отрадою вместе с ними, явление господа Иисуса с неба, с ангелами силы его». I Посл. Петра, 4, 14. «Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо дух славы, дух божий почивает на вас». Пусть не имел он в земной жизни богатства и услад, а на погребении своем пышного памятника. Память праведника пребудет благословенна, а имя нечестивых омерзеет (вместе с мраморными памятниками их). Притчи, 10, 7. Я хотел бы рассказать немного о жизни его, если только немногое не будет хуже полного умолчания. Умолчать все же не могу, надеясь лишь, что больше сказано будет другими. Проведя некоторое время в Кембридже, овладел он языком латинским, ознакомился несколько и с греческим и воспринял первые семена добродетели и благодати божией; а затем служил при дворе, при благочестивом м-ре Дэвисоне в бытность его министром иностранных дел; а тот, видя верность его и разум, доверял ему более, чем всему окружению своему, и употреблял для поручений особо важных и секретных. Считая его скорее за сына, чем за слугу, видя мудрость и благочестие его, он (наедине) общался с ним более как близкий друг, нежели господин. Имел его при себе и тогда, когда послан был королевою в Нидерланды, во времена графа Лейстера, как по иным важным делам государства, так и затем, чтобы вступить во владение городами-заложниками; в знак чего были ему вручены, для передачи ее величеству, ключи города Флешинга, а он отдал их на хранение этому слуге своему, и тот держал их под подушкою, на которой первую ночь спал. Перед возвращением Генеральные Штаты пожаловали Дэвисону золотую цепь, которую он также доверил тому же слуге и велел носить, пока не прибудут они ко двору. Брюстер оставался при нем и тогда, когда отстранили его от должности после казни королевы шотландской, и оказывал ему в несчастии много услуг. Затем удалился он в сельскую местность, где окружен был уважением друзей и местных жителей, особенно же истинно верующих. Много сделал он там для распространения истинной веры, не только собственным примером своим и поощрением к тому других, но и разыскивая для тех мест хороших проповедников и побуждая других помогать этому; не щадил он и собственных трудов, которые порою превышали его силы. Так трудился он много лет, сколько умел, следуя свету, какой видел, пока господь не явил ему всю истину. Тирания епископов против благочестивых проповедников и верующих, которых принуждали умолкнуть и преследовали, побудила его и многих других пристальнее на все взглянуть и убедиться в беззаконии дел их и во многих извращениях христианского учения; с коими принялись они бороться, как рассказано в начале моего труда. Когда благочестивые стали объединяться, он был главною их опорой. Обычно собирались у него по воскресеньям (а было это в епископском замке), и там он всех с любовию принимал, много при том расходуясь. Он был главным из тех, кто схвачен был в Бостоне, и более всех пострадал; и в числе тех семерых, кого долее всех держали в тюрьме, а после предали суду. Переселясь в Голландию, перенес он там немало лишений, истратив большую часть состояния своего, ибо имел на иждивении много детей; а ввиду воспитания своего и прежнего образа жизни менее других пригоден был для многих ремесел, особенно требующих силы. Но нужду переносил он с видом бодрым и ясным. Во второй половине 12-летнего пребывания его в Голландии дела его поправились, и он жил в довольстве; ибо начал (благодаря знанию латыни) обучать английскому языку студентов, желавших этот язык изучить; был у него метод, позволявший изучить его легко и быстро, ибо он составил для этого правила, на манер латинских; много джентльменов из датчан и немцев, имевших на то время среди других своих занятий, обращались к нему, в том числе и сыновья вельмож. Занялся он также (с помощью некоторых друзей) книгопечатанием, так что работы имел достаточно; а поскольку многие книги не дозволены были к печати в Англии, то заказов имели бы они больше, чем могли выполнить. Однако при переезде сюда все это пришлось оставить и начать новую жизнь, в которой он готов был нести все тяготы вместе с другими; по месяцам не видел ни хлеба, ни маиса, питаясь одною рыбой, а часто и того не имея; и много лет не пил ничего, кроме воды, разве лишь в последние 5–6 лет жизни своей. И все же (милостью божией) был здоров до глубокой старости. Работал он и в поле, покуда хватало на то сил; а когда не было у общины другого пастора, каждое воскресенье проповедовал дважды, и весьма искусно, на утешение слушателям и к большой их пользе; и многих обратил этим к богу. На этом поприще достигал он за год большего, нежели многие, получая в год сотни, успевают за всю жизнь свою. Дарованиями превосходил он многих; был мудр и осмотрителен; в беседе отличала его степенность, но вместе веселость и приятная общительность; был скромен, смиренен и миролюбив; склонен недооценивать себя и способности свои, а чужие порою переоценивать; образ жизни его, как и речь, безупречно были чисты, что снискало ему любовь как близких, так и посторонних людей; а между тем он не обинуясь указывал им на грехи и пороки их, наедине и принародно, но так, что на него редко кто обижался. Был сострадателен к тем, кто оказывался в беде, особенно же к людям высокого звания, впавшим в нищету за веру свою или по злобным проискам врагов; эти, говорил он, всех более достойны сожаления. И никого так не осуждал он, как тех, кто, выйдя из ничтожества, возгордились, хотя нечем им гордиться, кроме пышных одежд и богатства. Проповедуя, умел он тронуть сердца и говорил весьма понятно и ясно, что особенно полезно было слушателям. Имел он и редкостный дар молитвы, как уединенной, так и совместной; умел обнажить перед богом сердце и совесть, смиренно каясь в грехах и испрашивая у Христа отпущения их. Он полагал, что пасторам надлежит молиться чаще, но не подолгу; ибо долгая молитва может наскучить (исключая случаи особо торжественные, как, например, день покаяния и тому подобное). Это объяснял он тем, что люди, особенно же слабые духом, вряд ли способны столь долго пребывать склоненными перед богом, как подобает во время молитвы, чтобы не устать и не отвлечься. В делах церковных, то есть всего ближе до него касавшихся, заботился он о стройном порядке, о соблюдении чистоты как в догме, так и в молитве; и об устранении всех несогласий и заблуждений, какие могли среди нас возникнуть; в этом бог посылал ему успех во вое дни его, и он увидел плоды трудов своих. На этом должен я кончить, хотя коснулся лишь самого главного. И здесь хочу кстати не просто упомянуть божественный промысел, но подивиться, как он при всех бедствиях и лишениях, какие испытали эти люди, при множестве врагов и многих препятствиях, какие преодолели они, столь многим из них позволил достичь глубокой старости! Так было не только с почтенным этим человеком (ибо одна ласточка весны еще не делает), но и со многими другими; некоторые скончались примерно в то же время, но многие были живы, достигнув 60-ти, 65-ти, 70-ти и более; а иные, подобно ему, 80-ти. Этому нет иного объяснения, кроме чуда; ибо известно из опыта, что перемена климата, голод или нездоровая пища, употребление одной лишь воды, горести и тревоги — все это враги здоровья и причина многих недугов; что они отнимают телесные силы и сокращают жизнь. А всего этого досталось им вдоволь, и страдали они немало. Из Англии перебрались они в Голландию, где климат и пища были хуже, чем на родине; оттуда (после долгого как бы заключения во время переезда через океан) в Новую Англию; а каково пришлось им там, было уже сказано; и каковы были страдания, бедствия и лишения, можно себе представить; и могут они сказать вместе с апостолом, II-е Кор., 11, 26, 27, что много раз «были в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратиями, в труде и изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе». Что же поддерживало их? Попечение божие хранило их. Книга Иова, 10, 12: «Жизнь и милость даровал ты мне, и попечение твое хранило дух мой». Тот, кто хранил апостола, хранил и их. Были они «гонимы, но не оставлены; низлагаемы, но не погибли», II Кор., 4, 9. «Мы неизвестны, но нас узнают; нас почитают умершими, но вот, мы живы; нас наказывают, но мы не умираем», II Кор., 6, 9. Господь словно хотел явить всем людям, какова была милость его и попечение о народе его, чтобы все в подобных случаях учились в испытаниях своих уповать на него и благословлять имя его и тогда, когда видят милость его к другим. Не хлебом единым жив человек, Второзак., 8, 3. Не только изысканная пища, не только отдых, покой, довольство и наслаждение благами земными сохраняют здоровье и продлевают жизнь. Господь являет миру подобные примеры, чтобы показать, как может он иначе продлить ее; а если мир закроет глаза и смотреть не станет, то покажет он это народу своему. Даниилу вкуснее была похлебка, чем иным царские яства. Иаков, хоть много пришлось ему скитаться, терпеть и голод, и страх, и многие бедствия, однако дожил до старости и мирно опочил в господе, как то было и будет с бесчисленными слугами божиими (милостью его), наперекор злобным врагам их; «не в свой день они скончаются, и ветви их не будут зеленеть», Кн. Иова, 15, 32. А «кровожадные и коварные не доживут и до половины дней своих», Псал., 55, 23. Хитрыми происками своими наригансеты{112} (после войны с пекотами) вовлекли повсюду индейцев в общий заговор против англичан, о чем стало частию известно уже в предыдущем году; а теперь и вовсе сделалось очевидным из высказываний, по разным случаям, самих индейцев и по некоторым сообщениям из разных мест, подтверждавшимся одно через другое; эти и некоторые другие обстоятельства заставили англичан достаточно в том убедиться и озаботиться о своей безопасности. Для этого заключили они более тесный союз, или конфедерацию, на следующих условиях:Договор о конфедерации поселений Массачусетс, Новый Плимут,
Коннектикут и Нью-Хейвен,
а также примыкающих к ним
Поскольку все мы прибыли в здешний край ради одной и той же цели, а именно проповедовать царствие господа нашего Иисуса Христа и свободно веровать в согласии с Писанием; но более рассеялись по морским и речным берегам, чем предполагали вначале, а потому не можем, как того хотели бы, иметь единое для всех управление; поскольку окружены различными чужеязычными племенами, что грозит опасностями нам и потомкам нашим; поскольку туземцы не однажды совершали уже нападения на поселения англичан и в последнее время против нас объединились, а мы, вследствие некоторых событий в Англии (о коих стало им известно), не можем искать там совета и получить помощь, на какую в иное время могли бы рассчитывать; то и сочли мы долгом своим без промедления объединиться ради взаимной помощи и поддержки во всех возможных случаях. По рождению нашему и верованиям, как и по всему прочему, составляем мы единое целое, что явствует из следующих пунктов: 1. Упомянутые выше стороны и юрисдикции, все и каждое в отдельности, настоящим договорились называться отныне Объединенными Колониями Новой Англии. 2. Упомянутые Объединенные Колонии, все и каждая в отдельности, за себя и за потомков своих настоящим заключают прочный и постоянный дружественный союз для нападения и защиты, взаимного совета и помощи во всех справедливых случаях как ради распространения Святого Писания, так и для взаимной безопасности и благополучия. 3. Все поселения, как ныне основанные, так и могущие быть основаны в будущем в пределах Массачусетса, подчиняются тамошнему правлению и, составляя единое целое, для всех случаев имеют свою юрисдикцию. Плимут, Коннектикут и Нью-Хейвен будут каждый иметь, в пределах своих, собственную юрисдикцию, как и поселения в этих пределах уже основанные или могущие быть основаны в будущем; с тем чтобы не включать в настоящую конфедерацию, в качестве отдельного ее члена, никакого иного поселения или юрисдикции из ныне существующих и не примыкающих ни к одному из членов конфедерации; и чтобы ни один из членов конфедерации не объединялся с другим ее членом в одну юрисдикцию без согласия на то остальных, каковое согласие толковать надлежит так, как указано в пункте шестом. 4. Члены конфедерации договорились, чтобы во всякой справедливой войне, как при нападении, так и при обороне, какого бы члена конфедерации она ни коснулась, расходы людьми, боеприпасами и всем прочим распределялись на всех членов конфедерации сообразно их возможностям; для чего особая комиссия в каждой из юрисдикций должна время от времени давать точный отчет о числе жителей мужеского пола от 16-ти лет до 60-ти в каждом входящем в нее поселении, каково бы ни было их звание; а тогда, смотря по числу их, правильно и точно указанному, распределяются и все расходы на войну, и каждому поселению и юрисдикции предоставляется самому, согласно обычаям своим, решать, кому сделать льготу; однако всей конфедерации такие льготы не касаются. А смотря по тому, сколько выставила каждая из юрисдикций и поселений, распределяются и трофеи войны (если бог пошлет успех), будь то земли, товары или люди. 5. Если юрисдикция или любое поселение, в нее входящее или с ней союзное, подвергнется вражескому нападению, то по извещению, поступившему от любых 3-х должностных лиц этой юрисдикции, остальные члены конфедерации незамедлительно шлют подмогу нуждающемуся в ней члену, но в разной пропорции; так, например, от Массачусетса сто человек, вооруженных и снабженных всем необходимым в пути; от остальных по сорок пять человек, также вооруженных, или меньшее число, если меньше их требуется, но в том же соотношении. Если же члену конфедерации, оказавшемуся в опасности, достаточно получить от ближайшего соседа своего помощи, не превышающей оговоренного здесь числа людей, он может ею и ограничиться; причем расходы понесет, как указано в настоящем пункте, а снабдить людей на обратный путь порохом и пулями, а также припасами (если потребуется) должна та юрисдикция, которая о помощи попросила. Однако ни одна юрисдикция не должна превышать указанного числа людей, пока особая комиссия всей конфедерации не установит, что помощь потребна в больших размерах. И число это остается в силе, пока комиссия, собравшись, не установит иного. Однако, при посылке помощи как до, так и после такого изменения, комиссия, собравшись, должна рассмотреть причину войны или вторжения; и если окажется виновной подвергшаяся вторжению сторона, то данная юрисдикция или поселение обязаны дать должное удовлетворение вторгшимся, а также понести все расходы, ничего не требуя от прочих членов конфедерации. Далее, если для какой-либо из юрисдикций возникла опасность, но есть еще время совещаться, 3 должностных лица данной юрисдикции имеют право созвать в месте, ими самими избранном, совещание насчет возникшей опасности, с тем чтобы, собравшись, могли они перебраться и в иное место; а если какой-либо из четырех членов конфедерации имеет всего 3-х должностных лиц, то просьба любых 2-х из них ту же имеет силу, что и просьба 3-х, упомянутая в обоих пунктах, пока не прибудет у них должностных лиц. 6. Чтобы ведать общими делами конфедерации, от каждого из 4-х членов ее избираются по 2 человека, а именно 2 от Массачусетса, 2 от Плимута, 2 от Коннектикута и 2 от Нью-Хейвена наших единоверцев, уполномоченных своими общими собраниями выслушивать, обсуждать и решать все касающееся войны или мира, союзов, помощи, расходов, числа людей, посылаемых на войну, дележа трофеев и всего, что завоеванием приобретается; принятия новых членов в конфедерацию или поселений в ведение какого-либо из членов ее и всего, что является следствием создания такой конфедерации и касается дружеских отношений, нападения и защиты; но отнюдь не вмешиваться во внутренние дела юрисдикций, которые, согласно пункту 3, целиком остаются в собственном их ведении. В случае если 8 членов комиссии не могут прийти к согласию, решение принимается любыми 6-ю из них. Если же и 6 не имеют общего мнения, дело, вместе с результатами обсуждения его, передается 4-м общим собраниям, а именно Массачусетса, Плимута, Коннектикута и Нью-Хейвена, и как решат указанные собрания, так и поступать должны все члены конфедерации. Упомянутые 8 членов комиссии должны собираться раз в год, не считая особых случаев (указанных в пункте пятом), для обсуждения и решения всех дел конфедерации, и всегда в первый четверг сентября. А следующее их собрание по заключении настоящего договора, которое считаться будет вторым, имеет быть в Бостоне, то есть в Массачусетсе, 3-е в Хартфорде, 4-е в Нью-Хейвене, 5-е в Плимуте и далее по очереди, если не будет найдено иное место, удобное для всех юрисдикций. 7. На каждом собрании упомянутых 8-ми членов комиссии, как очередном, так и чрезвычайном, любые 6 из них могут избирать председателя, коего обязанностью будет поддержание на собрании должного порядка; однако он не наделяется правом как-либо мешать обсуждению или влиять на решение иначе, чем оговорено это в предыдущем пункте. 8. На собраниях комиссии, как очередных, так и чрезвычайных, члены ее должны выносить, в интересах всех поселений, общие постановления, как-то: о соблюдении мира и согласия между собою; об устранении, насколько возможно, всех поводов к раздорам и войне с другими; о скором и лучшем вершении правосудия в каждой юрисдикции, равно для всех членов конфедерации; о том, чтобы не принимать выходцев из одного поселения в другое без надлежащего удостоверения; об отношении всех юрисдикций к индейцам, чтобы не сделались они наглыми, но и не терпели обид без должного возмещения, иначе можно навлечь на конфедерацию войну. Решено также, чтобы работник, сбежавший от хозяина своего в другую юрисдикцию, по заявлению должностного лица той юрисдикции, откуда сбежал он, или по иным свидетельствам, возвращен был либо хозяину, либо иному лицу, представившему доказательства побега. И если узник или беглый преступник сбежит из тюрьмы или от задержавших его, то по заявлению 2-х должностных лиц той юрисдикции, откуда сбежал он или где совершил преступление, должностные лица юрисдикции, где он в данное время пребывает, выдают, сообразно вине его, ордер на арест и выдачу его тем, кто устроил за ним погоню. А если для надежного препровождения такого преступника требуется помощь, то ее оказывают, с тем чтобы расходы понес тот, кто ее потребовал. 9. И поскольку даже самые справедливые войны могут иметь опасные последствия, особенно для меньших поселений Объединенных Колоний, решено, чтобы ни Массачусетс, ни Плимут, ни Коннектикут, ни Нью-Хейвен, ни какое-либо из входящих в них поселений отныне не начинало войны и не вовлекало в нее настоящую конфедерацию или какую-либо часть ее (исключая случаи, когда требуется это необходимостью; но и их надо по возможности разрешать мирно) без согласия вышеупомянутых 8-ми членов комиссии или хотя бы 6-ти из них, как оговорено в пункте шестом. И чтобы ни с одного из членов конфедерации не взыскивали расходов, в случае оборонительной войны, пока упомянутая комиссия, собравшись, не признает войну справедливой и не установит размеров взыскиваемой суммы, каковая должна быть разложена на членов конфедерации пропорционально, как указано в пункте четвертом. 10. В случаях чрезвычайных, когда заседание созывается тремя должностными лицами любой юрисдикции или 2-мя, как указано в пункте 5-м, и кто-либо из членов комиссии не явится, то и 4-м членам комиссии дается право вести войну, не терпящую отлагательства, и послать за должным числом людей от каждой юрисдикции, как если бы налицо были все 6; однако судить, справедлива ли война, а также требовать возмещения расходов или вводить какие-либо поборы на войну могут лишь 6, и не менее. 11. Если какой-либо из членов конфедерации нарушит любой из настоящих пунктов или причинит какой-либо вред другой юрисдикции, такое нарушение и вред подлежат рассмотрению членами комиссии от другой юрисдикции; дабы мир и единство в конфедерации соблюдались без нарушений. 12. Все пункты настоящего соглашения о постоянной конфедерации, после прочтения и тщательного обсуждения их как общим собранием Массачусетса, так и членами комиссий от Плимута, Коннектикута и Нью-Хейвена, были полностью утверждены 3-мя из упомянутых членов конфедерации, а именно Массачусетсом, Коннектикутом и Нью-Хейвеном, но члены комиссии от Плимута, не будучи на то уполномочены, попросили об отсрочке, дабы могли посоветоваться с их общим собранием; а потому означенное собрание Массачусетса и члены комиссии от двух других членов конфедерации постановили, что в случае согласия Плимута договор в настоящем своем виде сохраняет силу без всяких изменений. Если же Плимут не присоединится, то договор, со всеми пунктами его, утверждается остальными тремя членами конфедерации, с тем чтобы в сентябре, на втором заседании комиссии в Бостоне, вновь рассмотрен был пункт 6, касающийся числа членов комиссии, необходимого для решения дел конфедерации, и решен к удовлетворению собрания Массачусетса и членов комиссии от 2-х других членов конфедерат ции; остальные же пункты остаются без изменений. В подтверждение чего общее собрание Массачусетса, в лице секретаря своего, и члены комиссии от Коннектикута и Нью-Хейвена подписали пункты настоящего соглашения 19-го числа третьего месяца, обычно называемого маем, Anno Dom. 1643. Поскольку на заседании комиссии, состоявшемся в Бостоне 7 сентября, оказалось, что общее собрание Нового Плимута и входящих в него поселков прочли, обсудили и одобрили настоящие пункты соглашения о конфедерации и решением их общего собрания от августа 29-го 1643-го поручили подписать и утвердить его м-ру Эдварду Уинслоу и м-ру Уильяму Кольеру, то мы, члены комиссии от Массачусетса, Коннектикута и Нью-Хейвена также под ними подписываемся от лица правительств наших.Таковы были пункты соглашения о союзе и конфедерации, когда впервые она образовалась; и на первом же заседании в Бостоне, в день и год, указанный выше, пришлось, в числе других, обсудить и следующий важный вопрос: наригансеты, покорив пекотов, возмечтали о власти над всеми индейцами этого края; между тем англичане, в особенности жители Коннектикута, дружественно общались с Ункассом, вождем соседей их, индейцев мохиггенов (подобно тому, что было у Массачусетса с наригансетами), который был им верен во время войны с пекотами, и обязались помогать ему в справедливой борьбе его за свободу, а также позволить уцелевшим пехотам, покорившимся ему, жить под его покровительством. Это весьма усилило мощь вождя и значение его, чего наригансеты стерпеть не могли. Главный вождь их, Миантиномо (человек честолюбивый) пытался коварством (как принято у индейцев) покончить с Ункассом с помощью наемных убийц. Сперва попытались отравить его; когда это не удалось — убить его ночью у него дома ударом по голове или застрелить из засады и тому подобное. Когда не удалось и это, Миантиномо открыто пошел войной (хоть и было это нарушением договора его с англичанами, а также собственных меж ними соглашений). Он внезапно (не объявляя войны) напал на Ункасса с отрядом в 900 или 1000 человек. У того нашлось в то время не более половины этого числа; однако бог даровал Ункассу победу; он убил много воинов врага и ранил еще больше; но главное — взял Миантиномо в плен. А поскольку был тот важным лицом, а наригансеты были могущественным племенем и стали бы мстить, то он ничего не стал предпринимать, пока не посоветуется с англичанами; поэтому (с помощью жителей Коннектикута) держал его в плену до заседания комиссии. Комиссия обсудила обстоятельства дела, которые были ясны, и отношения между Ункассом и Миантиномо; а обсудив все это, увидели, что, покуда жив Миантиномо, жизни Ункасса все будет грозить либо тайное предательство, либо нападение в открытую. Поэтому решили они, что имеет он право столь коварного и кровожадного врага предать смерти; но только в собственных своих владениях, а не в поселениях англичан. И посоветовали также, чтобы при казни его проявлена была умеренность и человеколюбие, в отличие от обычаев индейцев, применявших жестокие пытки. И поскольку Ункасс выказал себя доселе другом англичанам, а в этом деле просил их совета, то в случае если наригансеты или другие за казнь эту несправедливо на него нападут, англичане обещали ему всю возможную помощь и защиту. Таков был конец этого дела. Более подробно обстоятельства его изложены в протоколах заседания комиссии. Ункасс совету последовал и казнил врага, как и советовали ему, со всем уважением к чести его и высокому званию. А что последовало за этим со стороны наригансетов, видно будет далее.Джон Уинтроп, губернатор МассачусетсаТ. ДадлиДж. ФенвикТеоф. ИтонЭдв. ХопкинсТомас Грегсон.
ANNO DOM. 1644
Губернатором был в тот год избран м-р Эдвард Уинслоу. Когда многие оставили местность нашу (как уже говорилось) по причине неплодородия ее и нашли себе место более подходящее, и еще многие то и дело просили их отпустить, церковная община не на шутку стала задумываться, не лучше ли будет перебраться куда-либо всем вместе, нежели так обезлюдеть и неприметно истаять. Много было насчет этого совещаний, и мнения высказывались различные. Некоторые стояли за/ то, чтобы все же оставаться на прежнем месте, говоря, что и тут прожить можно, если довольствоваться немногим, и что люди уходят не столько из нужды или крайности, сколько из желания обогатиться. Иные же решили переселяться, говорили, что здесь оставаться не могут и, если не переселится церковь, все равно уйдут; многие, видя такой разброд, стали склоняться к переселению, если удастся найти подходящее место, где с большим удобством разместились бы все, да и новые жители могли присоединиться, ради увеличения их мощи и преуспевания; и еще некоторые делались оговорки. Итак, на условиях этих большинство согласилось переселиться в местность, называвшуюся Наусет, с которой наскоро ознакомились и получили согласие Покупателей (владельцев ее), о чем постаралось и собрание; но тут же обнаружили они свою оплошность, ибо лучшие и наиболее удобные места были уже отданы другим и оставалось слишком мало; место это находилось милях в 50-ти от нас, на отшибе, вдали от населенных местностей и столь было в пределах своих ограничено, что не могло вместить всех жителей поселения нашего, а тем более принимать новых; так что там (во всяком случае, в скором времени) пришлось бы хуже, чем здесь. Это, а также некоторые другие обстоятельства и неудобства вынудили решение изменить; однако те, кто еще прежде решился на переселение, воспользовались заключенными условиями, остальные же не могли тому помешать, ибо начало было уже положено. Так была бедная церковь здешняя покинута, словно престарелая мать, оставленная детьми своими (не лишившись привязанности их), но лишившись их присутствия и помощи. Первые члены ее были в большинстве похищены уже смертью; а вступившие позже были словно дети, отданные в чужие семьи, а она уподобилась вдовице, на одного лишь бога уповающей. Обогатившая многих, стала она сама бедною.Как были в тот год рассмотрены
и улажены комиссией некоторые дела
Богу угодно было, чтобы две юрисдикции в западной части края, а именно Коннектикут и Нью-Хейвен, подверглись в то время дерзким нападениям индейцев; сперва англичанин, сбежавший от хозяина своего из Массачусетса, был убит в лесу, на границе Коннектикута; когда был он, 6 недель спустя, найден одним индейцем, тамошний вождь обещал выдать англичанам связанного убийцу; его привели, как было условлено, но, не доходя Ункауэя, развязали, чтобы мог бежать; 10 англичан, посланных м-ром Ладлоу, по желанию самих индейцев, чтобы взять у них убийцу, видя, что он убежал, захватили 8 находившихся там индейцев, в числе коих были один или два вождя, и держали 2 дня, пока 4 вождя не обязались в течение месяца выдать беглеца. А всего неделю спустя после этого уговора некий индеец средь бела дня преднамеренно и злодейски напал на англичанку в доме ее в Стамфорде, нанес ей 3 раны и, полагая, что убил, ограбил дом. Все это вынудило англичан позаботиться о своей безопасности; а все здешние индейцы сделались им враждебны, отказывались с ними общаться, несмотря на договоры о мире, покидали свои вигвамы, маисовые поля оставляли непрополотыми, появлялись вблизи английских поселений с видом угрожающим, стреляли из ружей так, что слышно было в поселках; а некоторые индейцы являлись сообщить, что готовится нападение. Поэтому большинство англичан опасалось ездить в этих краях сушею, а в некоторых поселениях учредили, днем и ночью, дозоры; не могли общаться с соседями, но и не надеялись, что сумеют обороняться собственными силами. Обратились за помощью в Хартфорд и Нью-Хейвен, те сочли нужным послать ее менее укрепленным поселкам в собственных своих владениях, которым грозила опасность, а Нью-Хейвен послал ее также соседнему с ним Ункауэю, хотя входит тот во владения Коннектикута. Обо всем этом уведомили комиссию на заливе и получили разрешение и одобрение тамошнего общего собрания с указанием: с войною не спешить, но и не терпеть слишком долго подобную наглость. Так взялись мы за большой труд, но надо надеяться, что, с благословения божиего, плоды его пойдут на пользу всем колониям; и действительно, убийцы ныне выданы правосудию, общественное спокойствие восстановлено, а в будущем обеспечено будет еще лучше. Так предотвращено было бедствие и отведена угроза войны. Но тут наригансеты затеяли новую смуту; ранее вели они (как уже говорилось) неправую войну против Ункасса, а предыдущей зимой настойчиво просили губернатора Массачусетса, чтобы позволил ее продолжать и отомстить за вождя их, который был Ункассом взят в плен и (как было уже сказано) казнен; и утверждали, будто тот взял с них за него выкуп, а все-таки казнил. Губернатор даров от них не принял и сказал, что виновны именно они, ибо нарушили заключенный мир; и что он, как и все англичане, не может допустить, чтобы снова воевали они; и если нападут они на Ункасса, то поможет ему против них; а вот если удастся им доказать, что он и вправду получил за пленного выкуп, а затем казнил его, то будет созвана комиссия, которая и выслушает и заставит Ункасса тот выкуп возвратить. Несмотря на это, наригансеты собрали весною большое войско, напали на Ункасса, убили немало людей его, еще больше ранили и сами понесли при этом потери. Ункасс обратился за помощью к англичанам; те сообщили ему, в чем обвиняют его наригансеты, но он все отрицал; ему сказали, что дело должно быть разобрано, и если выйдет, что он невиновен, а наригансеты не отступятся, тогда окажут они ему помощь. Послали объявить и Ункассу, и наригансетам, чтобы прислали вождей своих на заседание комиссии в Хартфорд и там выслушают беспристрастно все жалобы их, и если обиды будут доказаны, постараются их возместить; и было обещано, что в пути никто их не тронет; а более подробно все это изложено было в указаниях, которыми снабдили посланцев. Наригансеты прислали одного из вождей и еще нескольких человек, со всеми полномочиями. Ункасс явился сам с несколькими приближенными. И вот что выяснилось и что объявили наригансетам члены комиссии: 1. Никаких доказательств того, что договаривались о выкупе, не найдено. 2. Никакого вампума, который мог служить выкупом за жизнь Миантиномо, не обнаружено. 3. Если бы обвинение против Ункасса было хоть сколько-нибудь доказано, комиссия потребовала бы от него удовлетворения. 4. Если сумеют они доказать его в дальнейшем, англичане примут нужные меры. 5. Члены комиссии требуют, чтобы ни сами наригансеты, ни ниантики не нападали на Ункасса или людей его, пока не докажут, что выкуп был дан и не возмещен им; если только он не нападет на них первым. 6. Если же нападут они на Ункасса, то англичане обязываются помочь ему. После этого вождь наригансетов, посовещавшись с остальными депутатами, от лица наригансетов и ниантиков обещал не враждовать с Ункассом вплоть до следующего сева маиса; а после того предупреждать за 30 дней о начале войны губернатора Массачусетса или Коннектикута. Это комиссия одобрила и, заставив их обязательство подписать, потребовала, чтобы и Ункасс, если дорожит покровительством англичан, соблюдал те же условия мира с наригансетами и союзниками их. Решение это подписано было членами комиссии от всех юрисдикций 19-го сентября 1644-го:Упомянутые выше депутаты наригансетов обещали также, что если, в нарушение договора этого, кто-либо из пекотов-ниантиков нападет на Ункасса или людей его, они выдадут их англичанам, чтобы понесли заслуженное наказание; и что не станут, на время перемирия, как-либо побуждать могавков выступить против Ункасса. Вот имена их, под которыми поставили они свои знаки:Эдв. Хопкинс, председательСаймон БрэдстритУильям ГоторнЭдв. УинслоуДжон ФенвикТеоф. ИтонТомас Грегсон.
Уитоуиш Чинноу Пампиамет Паммуниш.
ANNO DOM. 1645
В тот год комиссия собралась в Бостоне прежде обычного срока; частью из-за неладов между французами и правительством Массачусетса, которое оказало помощь м-сье Латуру против м-сье Д’Олнэя{113}, а частью из-за индейцев, нарушивших мирное соглашение, заключенное в предыдущем году. Заседание комиссии состоялось в Бостоне 28 июля. После нескольких вылазок, украдкой совершенных обеими сторонами, наригансеты собрали большую силу, напали на Ункасса, убили у него многих воинов и еще больше ранили, ибо превосходили их числом и имели ружья, коими и нанесли наибольший урон. Сделав это без ведома и согласия англичан (в нарушение прежнего договора), они решили действовать и далее наперекор всему, что англичане скажут или сделают. Ободренные своей победою и обещанием помощи от могавков (племени сильного, воинственного и дерзкого), они мысленно пожирали уже Ункасса и его воинов; так бы оно и случилось, если бы англичане своевременно не пришли ему на выручку. Коннектикут послал ему 40 человек, которые и должны были составить его гарнизон, пока комиссия не решит, что делать далее. Комиссия, собравшись, послала 3-х человек, а именно сержанта Джона Дэвиса, Бенедикта Арнольда и Фрэнсиса Смита, с подробными указаниями, и к наригансетам, и к Ункассу, потребовать, чтобы или явились сами, или прислали людей, должным образом уполномоченных; а в случае отказа или проволочек объявить, что англичане (согласно прежним договорам) станут защищать Ункасса от врагов его и уже послали для этого людей; а наригансетов спросить, намерены ли они соблюдать мир или пойдут также и на англичан, и они тогда подготовятся. Но посланцы привезли от наригансетов ответ не только оскорбительный, но и угрожающий (о чем подробнее скажу дальше). Доставили они также письмо от м-ра Роджера Уильямса, где уверял он, что война готова разразиться и охватит весь край. Что вожди наригансетов договорились о нейтралитете с англичанами из Провиденса и с острова Акиднет. Комиссия, видя, сколь велика опасность и сколь неизбежна война с наригансетами, решила, что о деле столь важном и до всех касающемся необходимо договориться со всеми колониями, и обратилась за советом к тем должностным лицам и старейшинам Массачусетса, какие были налицо, а также к главным тамошним военачальникам; все они, собравшись, договорились о следующем: Во-первых, что обязались мы оказывать помощь и защиту Ункассу. 2-е. Что помощь эта не может ограничиваться обороной его укрепления или жилища, но (по принятому обычно смыслу таких соглашений и с учетом всех обстоятельств) включает защиту его свободы и владений. 3-е. Что помощь должна быть незамедлительной, иначе может он погибнуть и помощь запоздает. 4-е. Что война эта справедливая и надлежит широко оповестить о причинах ее. 5-е. Что на 5-й день следующей недели надлежит назначить день покаяния. 6-е. Что решением комиссии общая численность войск от всех колоний будет 300 человек. Из коих от Массачусетса 190, от Плимута 40, от Коннектикута 40 и от Нью-Хейвена 30. А по причине того, что Ункасс в крайней находится опасности, то 40 человек из этого числа послать к нему из Массачусетса немедленно; тем более что 40 человек от Коннектикута посылали ему всего на месяц, и срок этот истек, так что они возвратились; а наригансеты, прознав о том, внезапно на него напали, еще большие причинили потери и готовы это повторить; но когда прислали 40 новых, они повернули вспять, ничего не предпринимая. Заявление, посланное нами, я приводить не стану, ибо оно весьма пространно, а ныне уже напечатано; туда я и отсылаю всех желающих, и из него видны все подробности. Опишу лишь дерзкий прием, оказанный 3-м посланцам комиссии. Встретили их презрением и заявили, что мира не будет, покуда не получат они голову Ункасса; и далее ответили, что кто бы войну ни начал, а они вести ее решили; и пусть англичане уводят гарнизон, охраняющий Ункасса, не то пошлют против них могавков; и еще грозились перебить у англичан скот и уложить его кучами высотою с дома их; и не давать ни одному англичанину выйти за порог помочиться, но тут же убивать. А когда посланцы, намереваясь идти к Ункассу, попросили провожатого, чтобы провести через владения их, им отказали, а под конец (в насмешку) предложили старуху из племени пекотов. Посланцы увидели, что они в опасности, ибо пока толмач спрашивал, какой будет ответ, позади его встали 3 человека с топорами, по кровожадному их обычаю; но один из товарищей предупредил его, и они ушли; и много еще оскорблений было нанесено, так что индейцы, которых вели они с собою, в страхе убежали, предоставив им возвращаться домой как сумеют. Итак, пока комиссия, в заботах об общем спокойствии, силилась примирить индейцев, эти детища битв изрыгали угрозы и оскорбления и хотели идти на самих англичан. И вот, чтобы не прогневать бога нарушением взятых на себя справедливых обязательств, а дикарям не дать глумиться над колониями и грозить им, приходилось применить силу, раз ничто иное не могло образумить наригансетов и союзников их. Согласно принятому решению поспешили с приготовлениями и велели Плимуту немедля послать своих 40 человек в Сикунк, который всех ближе был к врагу, чтобы не напали на него, пока остальные готовятся; и там ожидать подкреплений из Массачусетса. А отрядам из Коннектикута и Нью-Хейвена велели объединиться и скорее выступать вместе с союзниками из числа тамошних индейцев. Так и сделали; а наши воины прибыли на место назначения, в Сикунк, дней на 8–10 раньше, чем готовы были остальные; все они были отлично вооружены, а командовал ими капитан Стэндиш. Отряды других колоний также имели отличных начальников, таких, как капитан Мейсон из Коннектикута, и др.; а всеми отрядами командовал майор Гиббонс, получивший для этого все полномочия. Когда отряды выступили (как того требовало тогдашнее положение), общее собрание Массачусетса (собравшееся сразу после выступления их сорока человек) усомнилось, законно ли это, поскольку сделано без его решения. На это ответили, что хотя право выставить отряды для ведения войны (когда о войне и о числе воинов решено комиссией) принадлежит властям всех юрисдикций, однако в этом случае действия комиссии так же законны, как если бы предприняты были общим собранием. Во-первых, дело было безотлагательное и не могло ждать, пока созовут общее собрание. 2-е. Договор о конфедерации дает членам комиссии право совещаться обо всех делах, касающихся до войны, и решать их и т. д. А слово «решать» включает и все действия, к тому относящиеся. 3-е. Члены комиссии уполномочены судить о необходимости похода. 4-е. Общее собрание само сделало членов комиссии единственными своими советниками по этим делам. 5-е. Советники эти были бы ненадобны, не имей они полномочий действовать, как действовали они в данном случае; иначе нарушались бы права комиссии и главная цель конфедерации, и все это ради соблюдения церемонии. 6-е. Одной лишь комиссии принадлежит право, в случае войны, установить число воинов, место, время и др.; лишь она одна знает решения свои, а потому никто не может в этом указывать комиссии, кроме нее самой. Когда все было готово и часть отряда выступила, а остальные приготовились это сделать, члены комиссии сочли нужным, до начала военных действий, вернуть дары, которые были посланы вождями наригансетов губернатору Массачусетса, но им не приняты, а оставлены, дабы быть принятыми или отвергнутыми, смотря по тому, как будут те поступать и соблюдут ли договоры. Поскольку были они нарушены и объявлена война, дары были возвращены через 2-х посланцев и толмача. Чтобы уведомить при этом, что отряд, посланный Ункассу (и другой, посланный позже), строгий имеет приказ только защищать его и себя, но во владения наригансетов не вторгаться; и если возместят они все содеянное в прошлом и поручатся надежно за будущее, то англичане все еще желают мира и, как и прежде, не станут проливать кровь наригансетов. И если Пессакусс, Иннемо и другие вожди прибудут (не откладывая) вместе с посланцами в Бостон, члены комиссии обещают, что на пути туда и обратно будут они свободны и ни в чем от англичан не потерпят обиды. Но пока не прибыли упомянутые вожди, новых распоряжений не будет, отданные приказы не отменят и военные приготовления не остановят. И если хотят они войны, то англичане к тому готовы и начнут действовать. Несколько дней спустя Пессакусс, Миксано и Уитоуиш, 3 главных вождя наригансетов, а также Авасеквен, представитель ниантиков, с большой свитою явились в Бостон. Опуская все подробности переговоров их с членами комиссии, приведу следующее решение:1. Комиссия от Объединенных Колоний и упомянутые выше вожди наригансетов и представитель ниантиков договорились, чтобы упомянутые вожди наригансетов и ниантиков уплатили в Бостоне комиссии от Массачусетса 12 000 футов доброго белого вампума или третью часть черного вампума в 4 срока; а именно 3000 футов через 20 дней, 3000 футов через 4 месяца, 3000 футов не позднее следующего посева и еще 3000 футов не позднее чем через 2 года, считая от даты настоящего соглашения; каковые 2000 футов комиссия принимает в возмещение прежних убытков. 2. Упомянутые вожди и представитель (от имени наригансетов и ниантиков) настоящим обещают и обязуются, по требованию и при должных доказательствах, возвратить вождю мохиггенов Ункассу всех пленных, мужчин, женщин, и детей, и все каноэ, захваченные ими или людьми их, или же, вместо них, столько же собственных каноэ, ничем не хуже тех, а также полностью возместят весь маис, отнятый или уничтоженный ими или людьми их со времени последнего сева и принадлежавший Ункассу или людям его; а английская комиссия настоящим обещает, что так же поступит и Ункасс. 3. Поскольку у наригансетов и ниантиков имеются с Ункассом и людьми его несогласия и взаимные обвинения (которые ныне, в отсутствии Ункасса, решены быть не могут), настоящим условились, чтобы вожди наригансетов и ниантиков прибыли, или прислали представителей своих, на следующее заседание комиссии от колоний, имеющее быть либо в Нью-Хейвене в сентябре 1646-го, либо ранее (причем о более раннем сроке заседания их заранее уведомят); и чтобы приготовлены были должные доказательства понесенных обид, а о возмещении их судить будет комиссия; причем комиссия (не сомневаясь, что и Ункасс явится или пришлет представителей своих с подобными доказательствами) обещает обе стороны выслушать с равным беспристрастием, смотря по представленным доказательствам. 4. Упомянутые вожди и представители наригансетов и ниантиков настоящим обещают и обязуются соблюдать прочный и постоянный мир как со всеми английскими Объединенными Колониями и преемниками их, так и с вождем мохиггенов Ункассом и людьми его; с Оссамекуином, Пумхэмом, Соканоком, Кутшамакином, Шоананом, Пассаконауэем и всеми прочими индейскими вождями и людьми их, состоящими в дружбе с англичанами или в подчинении у них; и обязуются отныне не нарушать в крае мир, не совершать нападений, враждебных действий, вторжений и не чинить иного зла ни одной из Колоний или преемникам их; равно как и упомянутым выше индейцам; ни людям, ни строениям, ни скоту, ни имуществу, ни прямо, ни косвенно; и не вступать ни с кем в союз против них; и если станет им известно о заговоре или враждебных действиях, замышляемых индейцами или еще кем-либо против англичан, или индейцев, состоящих в подчинении у них или в дружбе с ними, немедленно чтобы уведомили о том английскую комиссию или кого-либо из членов ее. Если какие-либо нелады возникнут в дальнейшем между ними и Ункассом или любыми из перечисленных выше индейцев, то они, согласно прежним договорам (каковые настоящим подтверждаются), прежде всего уведомят о том англичан и спросят у них совета; но не начнут войны или вторжения, не получив на то позволения от комиссии Объединенных Колоний. 5. Упомянутые вожди и представители наригансетов и ниантиков настоящим обязуются впредь выдавать всех беглых или пленных индейцев, когда-либо бежавших от англичан, а ныне живущих или находящихся среди них, или же дать за них должное удовлетворение комиссии от Массачусетса; а также (без дальнейших промедлений) ежегодно за месяц до жатвы платить в Бостоне английским колониям дань за всех живущих среди них пекотов, согласно договору и соглашению, заключенному в 1638 году в Хартфорде, а именно: 6 футов белого вампума за каждого мужчину, 3 фута за каждого юношу и в ладонь длиною за ребенка мужского пола. А если Уикуошкук откажется платить дань за живущих у него пекотов, то вожди наригансетов обязуются помочь против него англичанам. И еще условились они, что отдадут английским колониям все владения пекотов, ибо таково право победителей. 6. Упомянутые вожди наригансетов и представитель ниантиков настоящим обещают и обязуются, не позднее чем через 14 дней, привести и выдать колониям, в лице членов комиссии от Массачусетса, четверых детей своих, а именно: старшего сына Пессакусса, сына брата его Тассаку анавита, сына Авашоу и сына ниантика Ивангсоса, которых англичане задержат у себя (как заложников), пока не выплачены в указанные сроки упомянутые выше 12 000 футов вампума; не разобраны несогласия между ними и Ункассом, а настоящий договор не подписан в Бостоне Дженемо и Уайптоком. Далее обещают они и обязуются, в случае если кто из упомянутых детей сбежит, либо увезен будет у англичан прежде исполнения означенных условий, вернуть и выдать детей этих комиссии от Массачусетса; а если не будут они найдены, выдать столько же детей, по выбору членов комиссии от Объединенных Колоний или их доверенных лиц, не позднее чем через 20 дней после требования; а пока упомянутые 4 ребенка не доставлены в качестве заложников, вожди наригансетов и представитель по собственной воле оставляют комиссии от Массачусетса, в виде залога и обеспечения, 4-х индейцев, а именно Уитоуиша, Паммуниша, Джавашо и Гоуамино, которые и сами добровольно предлагают себя в заложники, пока не доставлены упомянутые дети. 7. Члены комиссии от Объединенных Колоний настоящим обещают и соглашаются 4-х индейцев, ныне остающихся заложниками, равно как и 4-х детей, которые будут в качестве заложников доставлены, содержать за счет Объединенных Колоний; потребовать от Ункасса и людей его, а также от всех других перечисленных выше индейских вождей воздержаться в будущем от любых враждебных действий против наригансетов и ниантиков. И если наригансеты, ниантики и союзники их сдержат все обещания свои, упомянутые дети, оставленные заложниками, будут им через 2 года возвращены; и с наригансетами и ниантиками и преемниками их будет соблюдаться прочный мир. 8. Упомянутые стороны договорились также, что если какие-нибудь враждебные действия будут совершены во время заключения настоящего договора или прежде чем статьи его станут известны (для отмены военных приготовлений), то действия эти и последствия их не будут обеими сторонами почитаться за нарушение настоящего договора или заключенного с помощью его мира. 9. Вожди наригансетов и представитель ниантиков настоящим договорились с комиссией от Объединенных Колоний не отдавать, не дарить, не продавать и никаким иным способом не отчуждать какую-либо часть владений своих или участок на земле своей, будь то англичанам или кому другому, без дозволения комиссии. 10. И еще обещают они, что если будет обнаружен среди них пекот или иной, в мирное время убивший кого-либо из англичан, таковой или таковые выданы будут для справедливой кары.В знак чего упомянутые стороны подписали оба экземпляра настоящего договора под указанной датой.
Джон Уинтроп, председательГерберт ПэламТ. ПринсДжон БраунДж. ФенвикЭдв. ХопкинсТеоф. ИтонСтивен Гудир

Договор этот между комиссией от Объединенных Колоний и вождями и представителем наригансетов и ниантиков заключен был в присутствии Бенедикта Арнольда, присяжного толмача, сержанта Колликейта и индейца, слуги его; а также Джозии и Кутшамакина, двух индейцев, знакомых с английским языком, которые при этом помогали; они объяснили договор и каждый пункт его присутствовавшим вождям и представителю племени ниантиков. Так предотвратили на сей раз войну.
ANNO DOM. 1646
Примерно в середине мая этого года вошли в здешнюю гавань 3 корабля в боевом порядке и оказались кораблями военными. Капитана звали Кромвель, и он не раз побеждал в Вест-Индии испанцев. Послал его граф Уорик. На кораблях у него было около 80-ти бравых (но весьма буйных) моряков, которые, сойдя на берег, так упились, что словно бы обезумели; и хотя некоторых из них наказали и заперли, удерживать их удавалось с трудом; правда, под конец они несколько утихли. Здесь пробыли они месяц или недель 6, а после отправились в Массачусетс; за это время оставили они у здешних жителей немало денег, а еще больше (как я опасаюсь) греха, несмотря на бдительный над ними надзор, чтобы этого не допустить. Произошло в то время одно печальное событие. Один удалец из числа моряков повздорил с другими. Капитан велел ему ссору прекратить; но он не слушал, осыпал капитана грубой бранью и наполовину выхватил из ножен шпагу, собираясь на него напасть; тот обхватил его, шпагу вырвал и дал затрещину; а он все хотел драться. Капитан, схватив шпагу в ножнах, ударил его рукояткою; но удар пришелся по голове, острым концом рукоятки пробило ему череп, и он спустя несколько дней скончался. Военный суд, однако, оправдал капитана. Моряк этот столь был драчлив, что капитан много раз вынужден был сажать его на цепь, чтобы оберечь товарищей его; это подтвердил экипаж, и на том дело кончилось. Капитан Томас Кромвель из Массачусетского залива еще раз отправился в Вест-Индию, с многочисленным экипажем и припасами; пробыл там 3 года, много взял добычи, вернулся богачом в Массачусетс, но в то же лето там умер после падения с лошади, во время которого упал на рукоять шпаги своей и так себя повредил, что вскоре скончался; этому способствовали и недуги, вызвавшие у него лихорадку. Иные усмотрели в том божию десницу; моряк, о котором шла речь выше, умер от удара, нанесенного ему рукоятью шпаги; это же причинило смерть ему самому. В тот год м-р Эдвард Уинслоу поехал в Англию, и вот почему: некоторые недовольные жители Массачусетса, чтобы смутить покой и добиться нововведений в управлении, возвели на нас много напраслины{114}, и намеревались в Англии жаловаться на нас парламенту. Жаловался и Сэмюел Гортон со своими ближними; чтобы защищать нас, выбрали мы м-ра Уинслоу, снабдив его для этого полномочиями и указаниями; наши надежды он оправдал и очистил нас от всякой вины или бесчестья, к стыду противников наших. Но вследствие больших перемен в государстве он там задержался долее, чем ожидали; а затем занял там другие должности и отсутствует вот уже 4 года; что большой причинило ущерб здешнему правительству, которого он не спросился, когда должности эти занял.ANNO 1647. и ANNO 1648{115}.
БЕНДЖАМИН ФРАНКЛИН
АВТОБИОГРАФИЯ Перевод М. Лорие
Дорогой мой сын! Мне всегда нравилось узнавать любые, пусть самые незначительные истории о моих предках. Ты, возможно, помнишь, что, когда мы с тобой были в Англии, я собирал сведения среди еще оставшихся там родственников и даже предпринял для этой цели особую поездку. Предположив, что тебе будет столь же интересно узнать обстоятельства моей жизни, из коих многие тебе еще неизвестны, и предвкушая неделю ничем не нарушаемого досуга в нынешнем моем сельском уединении, сажусь записывать их для тебя. Есть у меня к тому и другие побуждения. Выбившись из бедности и безвестности, в которой я родился и рос, и достигнув в сем мире благосостояния и некоторой известности, притом что до сих пор жизнь моя протекала счастливо, я полагаю, что потомкам моим небезынтересно будет узнать, какими средствами я, милостью божией, этого достиг и, буде иные из этих средств покажутся им пригодными и для них, они пожелают последовать моему примеру. Размышляя о своей так счастливо сложившейся жизни, я порой думаю, что, если б было мне предложено прожить эту жизнь заново, я бы не отказался, попросив лишь о льготе, которой пользуются писатели при подготовке второго издания, — исправить ошибки первого. Так и я мог бы не только исправить ошибки, но и заменить некоторые тягостные случаи и события другими, более благоприятными. Но даже если б было мне в том отказано, я все равно принял бы предложение. Поскольку, однако, трудно ожидать, что мне предложат еще раз прожить мою жизнь, самое лучшее будет эту жизнь вспомнить, а чтобы воспоминания оказались как можно более долговечными — записать их. Кроме того, работа эта поможет мне удовлетворить свойственную старым людям склонность поговорить о себе, о своей деятельности в прошлом, и притом так, чтобы не надоесть другим, тем, кто из уважения к старости сочли бы своим долгом меня выслушивать; ведь записки каждый волен читать или не читать. И, наконец (в этом можно признаться, потому что, вздумай я это отрицать, мне никто не поверит), описав свою жизнь, я, возможно, в большой мере утолю собственное тщеславие. В самом деле, всякий раз, как я слышал или видел вступительные слова: «Могу сказать, не тщеславясь…» и т. д., за этим неизменно следовало что-нибудь тщеславное. Большинство из нас осуждают тщеславие в других, что не мешает им самим грешить этим свойством, я же, встречаясь с ним, отношусь к нему терпимо, будучи убежден, что оно часто идет на пользу и обладателю его, и тем, с кем он имеет дело; а посему ничего нелепого не было бы в том, если бы человек благодарил бога за свое тщеславие, как и за другие земные блага. А раз уж речь зашла о благодарности богу, я хочу с величайшим смирением заявить, что упомянутым выше счастьем моей прошлой жизни я обязан его милостивому промыслу, указавшему мне, к каким средствам прибегать, и обеспечившему им успех. Веруя в это, я надеюсь, хоть и не осмеливаюсь полагать, что та же милость будет мне оказана и далее и либо счастье мое будет продлено, либо мне будут ниспосланы силы, дабы перенести самые тяжкие горести, какие могут постигнуть меня, как постигли других; ибо будущее ведомо только ему, в чьей власти благословить даже наши невзгоды. Из заметок, которые некогда передал мне один мой дядя, как и я, прилежный собиратель семейных анекдотов, я почерпнул кое-какие подробности касательно до наших предков. Так, я узнал, что они прожили в одной и той же деревне, Эктоне в Нортгемптоншире, на собственном участке земли примерно в тридцать акров, не менее трехсот лет, а сколько сверх того — он не знал, быть может, с тех времен, когда слово «франклин», бывшее ранее обозначением одной из групп земельных собственников, сделалось фамилией и фамилиями стали обзаводиться многие люди во всех концах королевства. Столь малого участка земли не хватило бы на пропитание, если бы не ремесло кузнеца, которое сохранялось в семье до времен моего деда: старшего сына всегда обучали этому ремеслу и так поступили со старшими своими сыновьями мой дядя и мой отец. Изучая в Эктоне церковные книги, я нашел там записи о их рождениях, браках и похоронах лишь начиная с 1555 года, ибо до этого церковные книги в Эктоне не велись. Из сохранившихся записей я узнал, что сам я был младшим сыном младшего сына на протяжении пяти поколений. Мой дед Томас, родившийся в 1598 году, прожил в Эктоне, пока был в силах заниматься своим ремеслом, а тогда переехал в Бэнбери, в Оксфордшире, к своему сыну Джону, красильщику, у которого мой отец был в подмастерьях. Там мой дед и умер и похоронен. Мы видели его надгробный камень в 1758 году. Его старший сын Томас всю жизнь прожил в старом доме в Эктоне и завещал его вместе с землей своей единственной дочери, а та, вместе с мужем своим, неким Фишером из Боллингборо, продала его мистеру Истеду, ныне тамошнему помещику. У деда моего было, кроме умерших в младенчестве, четыре сына: Томас, Джон, Бенджамин и Иосия. Как я сейчас нахожусь далеко от моих бумаг, то расскажу тебе о них по памяти, а ты, если в мое отсутствие бумаги эти не затеряются, сможешь найти в них еще много подробностей. Томас был обучен отцом ремеслу кузнеца, но, будучи малым способным и (так же как и его братья) поощряемый Палмером, в то время самым видным жителем их прихода, сделался в нашем графстве видной фигурой и возглавил много общественных начинаний как в главном городе графства, так и в своей деревне, о чем нам в Эктоне рассказали множество историй, и был отмечен лордом Галифаксом и пользовался его покровительством. Умер он в 1702 году, 6 января, день в день за четыре года до моего рождения. Помню, как поразило тебя рассказанное о его жизни и его нраве помнившими его старожилами, до того похоже это было на то, что ты знал обо мне. «Умри он в тот день на четыре года позже, — сказал ты тогда, — впору было бы предположить переселение души». Джона вырастили красильщиком, кажется — шерсти. Бенджамина вырастили красильщиком шелка, и ученичество он прошел в Лондоне. Он был очень способный человек. Я хорошо его помню, ибо, когда я был маленьким, он приехал к моему отцу в Бостон и несколько лет жил у нас в доме. Он и мой отец были нежно привязаны друг к другу. Его внук Сэмюел Франклин ныне живет в Бостоне. После него осталось два рукописных тома ин-кварто с его стихами, то были стихи на случай, произведения, обращенные к друзьям и родственникам, коих образцы, присланные мне, привожу ниже{116}. Он изобрел собственную систему скорописи, коей обучил и меня, но я, никогда ею не пользуясь, успел ее забыть. Он был весьма благочестив, прилежно слушал лучших проповедников и записывал их проповеди по своей системе и так собрал их несколько томов. Он также много занимался политикой, слишком, пожалуй, много для его положения. Не так давно в Лондоне мне попало в руки составленное им собрание важнейших политических памфлетов, опубликованных с 1641 по 1717 год. Как явствует из нумерации, многих томов недостает, сохранилось восемь томов ин-фолио и 24 тома ин-кварто и ин-октаво. Их купил один букинист, он знает меня, так как я иногда заглядываю в его лавку, и принес их мне. Надо полагать, что дядя мой оставил их здесь, когда уезжал в Америку, а было это лет пятьдесят тому назад. На полях есть много заметок его рукой. Наша безвестная семья рано примкнула к реформации и оставалась протестантской даже в царствование королевы Марии, когда ревностным противникам папизма порой грозила серьезная опасность{117}. В доме у нас была Библия на английском языке, и, чтобы уберечь ее от посторонних глаз, ее в открытом виде прикрепили снизу тесьмой к сиденью табуретки. Когда мой прапрадед читал Библию вслух своему семейству, он ставил табуретку вверх ножками к себе на колени и переворачивал страницы, вытягивая их из-под тесемок. Кто-нибудь из детей стоял в дверях, чтобы вовремя предупредить остальных о появлении пристава церковного суда. Тогда табуретку снова ставили на пол, и Библия оказывалась спрятана. Этот рассказ я слышал от моего дяди Бенджамина. Семья наша оставалась в лоне англиканской церкви до конца царствования Карла II{118} или около того, а когда священники, подвергшиеся опале как диссиденты, съехались в Нортгемптоншир на тайное собрание, Бенджамин и Иосия стали их приверженцами на всю жизнь, остальные же члены семьи сохранили верность епископальной церкви. Отец мой Иосия женился молодым и около 1682 года увез свою жену и троих детей в Новую Англию. Поскольку сборища священников были запрещены законом и их нередко разгоняли, несколько уважаемых друзей моего отца решили перебраться в те края и уговорили его ехать с ними, рассчитывая, что в новой стране они смогут исповедовать свою религию без помехи. От той же жены у него было еще четверо детей, родившихся уже на новом месте, а еще десять — от второй, всего семнадцать; я еще помню, как за стол их садилось тринадцать человек, все они выросли, поженились и вышли замуж; я был младшим сыном, моложе меня были только две сестры, и родился я в Бостоне, в Новой Англии. Моей матерью, второй женой отца, была Абия Фолджер, дочь Питера Фолджера, одного из первых поселенцев Новой Англии, которого Коттон Мэзер{119} в своей книге о новоанглийской церкви под заглавием «Magnalia Christi Americana»[81] уважительно назвал, если память мне не изменяет, «богобоязненным и ученым англичанином». Я слышал, что он написал несколько стихотворений, но лишь одно из них было напечатано, я его читал много лет тому назад. Написано оно было в 1675 году простым, грубоватым слогом того времени и обращено к людям, управлявшим тогда тамошней общиной. Он отстаивал свободу совести, вступался за права баптистов, квакеров и других сектантов, подвергавшихся гонениям, и в этих гонениях усматривал причину и индейских войн, и других напастей, обрушившихся на колонистов, видя в них божию кару за столь страшное злодейство и призывая к отмене безжалостных законов. На мой взгляд, написано все это прямодушно и с большой долей мужества. Заключительные шесть строк я помню, а начало последней строфы забыл, но смысл ее был тот, что осуждение его подсказано добрыми чувствами, а потому он желает, чтобы имя его как автора стало известно.Туайфорд, в доме епископа Сент-Асафского, 1771
Здесь покоятся
Иосия Франклин и супруга его Абия.
Они прожили в любви и согласии 55 лет,
Не имея ни земли, ни прибыльных занятий.
С благословения божьего,
Неустанным трудом и старанием
Они содержали в достатке большую семью
И вырастили достойно 13 детей и 7 внуков.
Пусть этот пример, прохожий,
Подвигнет тебя к усердию на твоем поприще
И к вере в провидение.
Он был муж благочестивый и благоразумный,
Она жена скромная и добродетельная.
Сей камень
Из уважения к их памяти Воздвиг их младший сын.
И. Ф. род. 1655, сконч. 1744, 89 лет.
А. Ф. род. 1667, сконч. 1752, 85 лет.
Однако я отвлекся и понимаю, что это признак старости. Раньше в моих писаниях было больше порядка. Впрочем, для тесной компании не будешь одеваться так, как для публичного бала. Возможно, это всего лишь случайная оплошность. Итак, возвращаюсь к рассказу. В отцовской мастерской я проработал два года, то есть до двенадцати лет; и когда мой брат Джон, обученный тому же ремеслу, отделился от отца, женился и открыл свою мастерскую на Род-Айленде, мне, видимо, суждено было занять его место и стать свечным мастером. Но так как мое отвращение к этому ремеслу оставалось прежним, отец мой убоялся, что, если он не подыщет мне дела по душе, я сбегу из дому и уйду в море, как поступил его сын Иосия, к великому его огорчению. И вот он стал водить меня к столярам, каменщикам, токарям, медникам и проч, и, наблюдая мои впечатления, пытался заинтересовать меня каким-нибудь сухопутным занятием. С тех самых пор я полюбил смотреть, как работают искусные мастера, и это пошло мне на пользу, я так много всего узнал, что стал выполнять кое-какие мелкие работы дома, если не находилось нужного работника, и сам мог мастерить машины для своих опытов, пока мысль о задуманном опыте еще не остыла. Наконец отец остановился на ремесле ножовщика, и так как сын моего дяди Бенджамина Сэмюел, обученный этому ремеслу в Лондоне, обосновался в то время в Бостоне, меня поместили к нему на некоторое время на пробу. Но отцу не понравилось, что он рассчитывал получать плату за мое обучение, и меня забрали домой. Я с детства пристрастился к чтению и все деньги, какие попадали мне в руки, тратил на книги. С удовольствием прочитав «Путь паломника»{121}, я первым делом купил еще сочинения Беньяна в нескольких маленьких томиках. Позже я их продал, чтобы купить у бродячего торговца «Исторические сборники» Р. Бэртона, дешевые книжки числом сорок или пятьдесят. Небольшая библиотека моего отца состояла главным образом из трудов по богословской полемике, большую часть их я прочел и с тех пор не раз пожалел, что в пору, когда жажда знаний была во мне так сильна, мне не попались более подходящие книги, ведь тогда уже было решено, что священником я не стану. С интересом прочел многое из «Жизнеописаний» Плутарха и считаю, что это время было потрачено не зря. Была у отца еще книжка Дефо под названием «Опыт о проектах» и книга д-ра Мэзера «О добре»{122}, они породили во мне образ мыслей, повлиявший на главнейшие события моей жизни. Видя мое увлечение книгами, отец решил наконец сделать из меня типографщика, хотя один его сын (Джеймс) уже занимался этим ремеслом. В 1717 году Джеймс вернулся из Англии с печатным станком и набором литер и открыл типографию в Бостоне. Она понравилась мне куда больше, чем отцовская мастерская, но я все еще мечтал о море. Чтобы положить этому конец, мой отец поспешил отдать меня в обучение брату. Какое-то время я этому противился, но наконец дал себя уговорить и подписал договор, когда мне еще не исполнилось тринадцати лет. Я обязывался до двадцати одного года работать учеником и только на последний год мне было оговорено жалованье подмастерья. В новом занятии я быстро преуспел и стал брату полезным помощником. Теперь я получил доступ к более интересным книгам. Я познакомился с учениками книгопродавцев, и они давали мне почитать книги с условием, что я буду возвращать их быстро и в чистом виде. Мне случалось просиживать за чтением добрую половину ночи, если книга попадала ко мне вечером, а утром ее надобно было вернуть, чтобы хозяин не успел ее хватиться. Через некоторое время на меня обратил внимание один образованный купец мистер Мэтью Адамс, владевший изрядным собранием книг. Он бывал у нас в типографии и любезно предложил мне приходить к нему на дом и брать для прочтения любую книгу. Я теперь увлекся поэзией и сам стал понемножку сочинять стихи. Брат решил, что это сулит ему выгоду, поощрял мои попытки и сам заказывал мне баллады на разные случаи. Одна называлась «Трагедия у маяка» и повествовала о гибели в море капитана Уортилейка и двух его дочерей; другая была в форме матросской песни о том, как был захвачен пират Тич (он же Черная Борода). Стихи были никудышные, в духе тогдашней литературной дешевки, но брат печатал их, а потом посылал меня торговать ими на улицах. Первая баллада разошлась очень быстро, ибо событие, в ней описанное, произошло совсем недавно и наделало много шума. Это польстило моему тщеславию, но отец отваживал меня от стихотворства, высмеивая мои творения и убеждая меня, что стихоплетов обычно ждет нищенская доля. Так я избежал судьбы поэта, по всей вероятности, очень плохого; зато писание прозы весьма пригодилось мне и помогло продвинуться в жизни, поэтому я расскажу тебе, как я в моемположении сумел приобрести свое теперешнее, пусть и несовершенное, умение: писать. Был у нас в городе еще один юный книгочий, некто Джон Коллинз, с которым я близко сошелся. Мы с ним часто спорили, получая от сего большое удовольствие и всячески стараясь загнать друг друга в угол; а это, кстати говоря, становится дурной привычкой, так как люди, повинуясь ей и постоянно всем переча, чрезвычайно неприятны в обществе и не только нарушают и портят общую беседу, но и вызывают к себе неприязнь и даже враждебность там, где могли бы приобрести друзей. Я заразился этой привычкой, читая отцовы книги, полные богословской полемики. С тех пор я замечал, что люди здравомыслящие редко ею страдают, если не считать законников, студентов университета и всех, кто родом из Эдинбурга. Однажды у нас с Коллинзом завязался спор о том, подобает ли давать образование женщинам и способны ли они к ученью. Коллинз считал, что учить их ни к чему и что они от природы неспособны к наукам. Я доказывал противное — просто, может быть, из желания поспорить. Он был более красноречив, располагал более богатым запасом слов и порой, как мне казалось, побеждал меня не столько силой своих доводов, сколько умением облечь их в слова. Мы расстались, так ни до чего и не договорившись, и я, зная, что в ближайшее время мы не увидимся, сел и изложил свои доводы в письменном виде, а потом переписал их набело и послал ему. Он ответил, я не остался в долгу. Когда с той и с другой стороны было написано по три-четыре письма, мои бумаги случайно попали на глаза отцу, и он их прочел. Не вмешиваясь в существо нашего спора, он воспользовался случаем поговорить о том, как я пишу, и отметил, что хотя по части правописания и знаков препинания я превосхожу моего противника (этим я был обязан типографии), но сильно уступаю ему в изяществе слога, в ясности и логике, и тут же убедил меня на нескольких примерах. Я согласился с его замечаниями и стал уделять больше внимания своему слогу, твердо решив добиться в этом успеха. В это примерно время мне попался в лавке старый экземпляр «Зрителя»{123}. Том третий. Раньше я этот журнал в глаза не видел. Я купил его, стал читать и перечитывать и пришел в полный восторг. Слог показался мне отменным, и я попробовал подражать ему. С этой целью я брал несколько статей и, кратко записав, какая мысль изложена в каждом предложении, откладывал затем статьи в сторону на несколько недель, а уж потом, не глядя в книгу, старался восстановить очерк, развивая одну мысль за другой так, как она мне запомнилась, и самыми, как мне казалось, подходящими для того словами. Потом я сличал моего «Зрителя» с подлинным, находил у себя ошибки и исправлял их. Но оказалось, что слов мне не хватает и нет умения быстро вспоминать их и пускать в дело, а умение это, думалось мне, у меня уже было бы, если бы я не бросил писать стихи; ведь для стихов постоянно требуются слова с одинаковым значением, но другой длины, чтобы соответствовали размеру, или же другого звучания — ради рифмы, и это заставляло бы меня беспрестанно добиваться разнообразия, а добившись его, удержать в памяти и распоряжаться им по своей воле. Тогда я стал перелагать некоторые из очерков в стихи, а спустя время, уже забыв первоначальный текст, снова переписывал прозой. Бывало и так, что я смешивал в одну кучу все мои краткие заметки, а через несколько недель пытался расположить их в наилучшем порядке, чтобы потом уже построить предложения и закончить статью. Так я учился логической последовательности мыслей. Затем я сравнивал мою работу с подлинником, находил и исправлял ошибки; а иногда не без радости замечал, что в каких-то второстепенных местах мне посчастливилось превзойти подлинник в логике или в слоге, и тогда я начинал надеяться, что когда-нибудь научусь сносно писать по-английски, что было моей заветной мечтой. Время для этих упражнений, как и для чтения книг, я выкраивал вечером после работы или рано утром до работы и по воскресеньям, когда я оставался в типографии один, по возможности избегая семейного посещения церкви, которого требовал отец, когда я еще жил дома, и которое я и сам доселе почитал своим долгом, хотя и уверял себя, что не имею на него времени. Мне было лет шестнадцать, когда я прочел книгу некоего Трайона{124}, рекомендовавшего есть только растительную пищу. Я решил последовать его совету. Брат мой, человек холостой, не вел своего хозяйства, а столовался вместе с учениками в другой семье. Мой отказ есть рыбу вызвал кое-какие неудобства, и меня частенько ругали за мои причуды. Я вычитал у Трайона, как готовить некоторые блюда, например картошку, рис, быстрый пудинг, после чего предложил брату, что, если он будет каждую неделю давать мне половину тех денег, которые платит за мои харчи, я буду столоваться своими силами. Он немедля согласился, и скоро оказалось, что мне хватает и половины того, что он мне дает. Так у меня прибавилось денег на покупку книг. Но было тут и еще одно преимущество. Когда брат и остальные уходили из типографии обедать или ужинать, я оставался там один и, разделавшись со своей легкой трапезой — часто она состояла всего лишь из пряника и ломтя хлеба, горсти изюма или пирожка от кондитера и стакана воды, — все остальное время до их возвращения мог уделять занятиям, в которых преуспевал лучше, чем когда-либо, ибо известно, что умеренность в еде и питье обеспечивает ясную голову и быстроту понимания. В это-то время, поскольку мне не раз уже довелось стыдиться моего невежества по части счета, которому я в школе так и не выучился, я взял учебник арифметики Кокера и одолел его с величайшей легкостью. Прочел я также руководства Селлера и Шерми по навигации и усвоил те немногие сведения по геометрии, кои в них содержались; однако дальше в этой науке не продвинулся. И тогда же я прочел «Опыт о человеческом разуме»{125} Локка и «Искусство мыслить»{126} господ из Пор-Рояля. Стараясь усовершенствовать мой слог, я купил английскую грамматику (кажется, Гринвуда), где были приведены образцы риторики и логики, причем второй из них кончался отрывками из спора по методе Сократа{127}, и я не замедлил раздобыть Ксенофонтовы «Воспоминания о Сократе», включающие несколько примеров этой методы. Она меня пленила, я отказался от привычки слишком резких возражений и безапелляционных доводов, сменив ее на смиренную роль вопрошателя и сомневающегося. А поскольку я в то время, начитавшись Шефтсбери и Коллинза{128}, и в самом деле сомневался касательно многих пунктов нашей религиозной доктрины, то метода эта оказалась для меня самой безопасной, а моих противников нередко сбивала с толку. Поэтому я широко ею пользовался и наловчился даже людей, превосходивших меня ученостью, вынуждать к уступкам, которых последствия они не могли предвидеть, повергать их в затруднения, из которых они не могли выбраться, и таким образом одерживать победы, каких не заслуживали ни я сам, ни положения, мною отстаиваемые. Прибегал я к этой методе несколько лет, но постепенно оставил ее, сохранив только привычку выражаться скромно и без самоуверенности, никогда не употреблять применительно к какому-нибудь спорному вопросу слова «разумеется», «безусловно» и им подобные, предпочитая выражения «я полагаю», «мне кажется», или «я думаю, что это так, и вот почему», или «так это мне представляется», или «если не ошибаюсь, это именно так». Привычка эта, думается, мне очень пригодилась, когда понадобилось внедрять некоторые мои мнения и склонять людей к принятию мер, за которые я ратовал. А поскольку главная цель всякого разговора заключается в том, чтобы сообщать или получать сведения, доставлять собеседникам удовольствие или убеждать их, — я считаю, что разумным людям не подобает подрывать свою способность приносить пользу не в меру решительной манерой, ведь обычно это вызывает отвращение и отпор, а значит — идет во вред целям, для коих нам дана речь, а именно сообщать или получать сведения и доставлять удовольствие. Ибо если вы хотите сообщить какие-нибудь сведения, слишком резкая и догматическая манера может вызвать противодействие и ослабить внимание собеседника. Если же вы сами хотите обогатиться какими-нибудь сведениями, но даете понять, что ваше-то мнение на этот счет твердо, то люди разумные и скромные, неохочие до лишних споров, оставят вас пребывать в ваших заблуждениях. И не надейтесь, что вы доставите своим слушателям удовольствие или убедите тех, кого хотели бы иметь единомышленниками. Поп прозорливо заметил:Дневник, в коем записано все,
что произошло во время моего плавания из Лондона
в Филадельфию на корабле «Беркшир», капитан Генри Кларк
Пятница июля 22-го, 1726. Вчера в середине дня мы вышли из Лондона и около 11 часов вечера стали на якорь в Грейвзенде. Ночевал я на берегу и утром прогулялся до Мельничного холма, откуда открывался приятный вид миль на двадцать в окружности, и на два-три плеса реки, по которой вверх и вниз сновали корабли и лодки, и на форт Тилбери на том берегу, господствующий над рекой и подходом к Лондону. Этот Грейвзенд — прековарное место: главный источник существования здешних обывателей состоит, как видно, в том, чтобы обсчитывать приезжих. Если покупаешь у них что-нибудь и платишь половину того, что они запросят, и то переплачиваешь вдвое. Благодарение богу, завтра мы отсюда отбываем. Суббота июля 23-го. Нынче утром снялись с якоря и почти без ветра пошли вниз с отливом. После полудня свежий ветер подогнал нас к Маргету, где мы и бросили якорь на ночь. Большинство пассажиров страдает от морской болезни. Видел несколько бурых дельфинов и проч. Воскресенье июля 24-го. Нынче утром снялись с якоря, в Диле ссадили лоцмана на берег и пошли дальше. Сейчас, когда я пишу эти строки, сидя на шканцах, передо мной открывается несравненная картина. Ясный, безоблачный день, нас подгоняет легкий ветерок, и я насчитал еще пятнадцать кораблей, следующих тем же курсом, что и мы. Слева виднеется берег Франции, справа город Дувр и его замок, зеленые холмы и меловые утесы Англии, с которой мы скоро распростимся. Прощай, Альбион! Понедельник июля 25-го. Все утро безветрие. После полудня поднялся восточный ветер и с силой дул всю ночь. Видели в отдалении остров Уайт. Вторник июля 26-го. Весь день встречный ветер. Вечером опять видели остров Уайт. Среда июля 27-го. Нынче утром, чтобы укрыться от сильного западного ветра, повернули к берегу. В полдень взяли на борт лоцмана с рыболовной шхуны, и он привел наш корабль в Спитхед, а это уже почти Портсмут. Капитан, мистер Дэнхем и я сошли на берег, и, пока мы гам находились, я сделал кое-какие наблюдения. Портсмутская гавань очень хороша. Вход в нее так узок, что от одного форта до другого можно добросить камень; а между тем глубина там около десяти сажен и поместиться там может до пятисот, если не до тысячи кораблей. Город сильно укреплен: окружен широким рвом и высокой стеной с двумя воротами, к которым ведут подъемные мосты; не говоря уже о фортах, батареях тяжелых пушек и прочих застенных укреплениях, коих названия мне неизвестны, и видел я их так недолго, что описать не сумею. В военное время в городе размещается десять тысяч человек гарнизона, теперь же в нем расквартирована всего сотня инвалидов. Хотя в настоящее время много английских кораблей находится в плавании[83], я все же насчитал их в гавани больше тридцати второго, третьего и четвертого класса. Они стояли без оснастки, но так, что оснастить их при необходимости было бы легко: ибо мачты и снасти хранились на складах поблизости, перемеченные и перенумерованные. В Королевских доках и верфях занято великое множество матросов, которые и в мирное время непрерывно строят и ремонтируют военные корабли для королевской службы. Госпорт расположен напротив Портсмута, по величине этот город не уступает ему, а может быть и превосходит его, но если не считать форта при входе в гавань и небольшого укрепления в начале главной улицы, защищен только земляною стеной и сухим рвом футов десяти в глубину и в ширину. В Портсмуте в мирное время почти нет торговли, там заняты главным образом постройкой военного флота. Корабли обычно бросают якорь в Спитхеде, это прекрасный рейд. Портсмутские жители рассказывают удивительные истории про жестокость некоего Гибсона, который во времена королевы Анны{154} был там губернатором, и вам покажут отвратительный каземат у городских ворот, который они называют «Яма Джонни Гибсона», куда он сажал солдат за ничтожные провинности и держал так долго, что они только что не умирали с голоду. Хорошо известно, что без строгой дисциплины управлять разнузданной солдатней невозможно. Я готов признать, что, если командир чувствует себя неспособным завоевать любовь своих подчиненных, он должен тем или иным способом внушить им страх, ибо то или другое (или то и другое) совершенно необходимо; однако Александр и Цезарь, сии прославленные полководцы, добивались более верной службы и совершали более выдающиеся подвиги благодаря любви своих солдат, нежели то было бы возможно, если бы эти солдаты, вместо того чтобы любить их и уважать, ненавидели их и боялись. Четверг июля 28-го. Нынче утром мы вернулись на борт, проведши всю ночь на берегу. Мы снялись с якоря, а часов в одиннадцать снова бросили якорь, теперь уже в Каузе, на острове Уайт. Шестеро пассажиров сошли на берег и развлекались почти до полуночи, после чего наняли лодку и вернулись на борт, рассчитывая отплыть рано утром. Пятница июля 29-го. Но так как ветер по-прежнему был противный, мы нынче утром опять высадились на берег и пешком отправились в Ньюпорт, столицу острова милях в четырех от Кауза{155}. Оттуда мы прошли еще с милю до Карисбрука осмотреть замок, в котором был заточен король Карл Первый, а в Кауз вернулись лишь во второй половине дня и взошли на борт ждать отплытия. Кауз — совсем небольшой городок у самого моря, прямо супротив Портсмута, только на острове. Его делит на две части небольшая речка, что протекает в четверти мили от Ньюпорта, так что различают Ист-Кауз и Вест-Кауз. Там имеется овальный форт, на котором установлено восемь или десять пушек для защиты рейда. Имеется также почта, таможня и часовня и отличная гавань, где корабли отстаиваются и при восточном и при западном ветре. Много часов я нынче с приятностью провел за шахматами{156}; я очень люблю эту игру, но она требует спокойной обстановки и свежей головы; кто хочет играть хорошо, тот не должен думать о выигрыше, ибо это отвлекает от самой игры и рискуешь наделать много неверных ходов. Осмелюсь изложить здесь безошибочное правило: если двое одинаково хороших игроков играют на большие деньги, тот из них, кто больше любит деньги, проиграет: его подведет тревога за исход игры. Мужество в этой игре почти так же необходимо для успеха, как в настоящем бою. Если игрок вообразит, что его противник намного его искуснее, он так сосредоточится па защите, что непременно упустит выгодные возможности. На Ньюпорт хорошо смотреть с окружающих его холмов, потому что самый город лежит в ложбине. Дома красиво перемежаются деревьями. Посередине города высокая старинная колокольня, очень его украшающая. Названия церкви я не узнал, но рядом с нею есть превосходные торговые ряды, вымощенные квадратными плитами, с аркадой в одиннадцать пролетов. Есть там несколько красивых улиц, много изрядно построенных домов и лавок, полных товаров. Однако больше всего Ньюпорт, кажется, славится устрицами, которые посылают отсюда в Лондон и другие места, где они высоко ценятся как лучшие во всей Англии. Торговцы устрицами свозят их сюда из разных мест и складывают в реке на откорм (здешняя вода, говорят, особенно для этого пригодна), а по прошествии нужного срока опять выбирают из воды и готовят на продажу. Когда мы дошли до Карисбрука, который, как я уже сказал, представляет собою небольшую деревню в миле от Ньюпорта, то прежде всего увидели древнюю церковь, бывшую храмом еще во времена римлян, первую церковь, построенную на этом острове. Это отменной красоты сооружение в староготическом стиле с очень высокой башней и выглядит очень благородно даже в развалинах. Возле церкви несколько древних памятников, но камень, из которого они сделаны, такой непрочный и мягкий, что ни одной надписи прочесть невозможно. Из того же камня сделаны почти все надгробия, какие я видел на острове. От церкви, перейдя речку Карис, по которой названа деревня, и взяв в проводники маленького мальчика, мы поднялись по очень крутым и узким дорогам к воротам замка. Через ров (ныне почти доверху заваленный обломками осыпающихся стен и землей, намытой с горы дождями) мы перешли по двум кирпичным аркам, очевидно сменившим бывший здесь когда-то подъемный мост. Старуха, которая живет в замке, увидев во дворе посторонних, предложила показать нам внутренние покои. Она рассказала, что в этомзамке долгие годы жили губернаторы острова; и комнаты и зала, очень большие и красивые, с высокими сводчатыми потолками, всегда содержались в парадном виде, потому что каждый новый губернатор покупал обстановку своего предшественника; но последний губернатор Кадоган, сменивший генерала Уэбба, не пожелал ее купить, и тогда Уэбб вывез с собой все вплоть до занавесей и оставил только голые стены. В некоторых помещениях полы из алебастра, но секрет его изготовления, по словам старухи, теперь утерян. Замок стоит на очень крутой и высокой горе, его окружают остатки глубокого рва, стены толстые, сложены, как видно, на совесть; в свое время это безусловно была неприступная твердыня, во всяком случае, до того, как были изобретены большие пушки. В старых стенах образовалось несколько проломов, и никто их не ремонтирует (подозреваю, что их нарочно оставляют без внимания), и развалины почти сплошь заросли плющом. Замок делится на нижний и верхний, верхний весь заключен в нижнем, имеет круглую форму и стоит на утесе, на который поднимаешься по каменным ступеням числом около ста; этот верхний замок служил убежищем на случай, если нижним овладеют враги, и сохранился лучше всего, весь, если не считать вышеупомянутых ступеней, а они так обветшали, что мне, поднявшись, страшновато было спускаться обратно, до того они узки и никаких перил. С зубчатых стен этого верхнего замка, который называется «цитадель», открывается вид почти на весь остров: с одной стороны море, в отдалении дорога на Кауз, а Ньюпорт словно прямо внизу, под ногами. Посреди цитадели есть колодец, такой глубокий, что его называли бездонным; но теперь он частично засыпан камнями и мусором и кое-как накрыт досками; однако когда мы бросили в него камень, прошло четверть минуты, пока мы услышали, как он стукнулся о стенку далеко внизу. Тот колодец, которым пользуются теперь, находится в нижнем замке, глубина его тридцать сажен. Воду из него поднимают с помощью большого колеса и бадьи вместимостью в бочку. Если наклониться над ним и произнести слово, оно прозвучит как крик, а звуки дудки, на которой мы поиграли совсем тихо, отдались в нем громким эхом. На стенах стоят всего семь пушек, и те неисправные, и старик, что служит пушкарем и сторожем замка и торгует элем в домике у ворот, имеет в своем распоряжении всего шесть мушкетов, они висят на стене в его домике, у одного недостает замка. Он рассказал нам, что замок, построенный 1203 года тому назад, был заложен неким Витгертом, саксом, который завоевал этот остров, и много веков был известен как Витгертсбург. От той части замка, где проживал во время своего заточения король Карл, остались одни развалины. В окружности остров имеет около шестидесяти миль, гам сеют хлеб, производят другие предметы питания и разводят овец с шерстью, не уступающей котсволдской породе. А здешним ополченцам, которые считаются не хуже солдат и чья дисциплина самая высокая в Англии, когда-то, во времена короля Вильгельма{157}, было вверено поддержание порядка на всем острове. По смерти тамошнего правителя стало известно, что губернатор был великий злодей и великий пройдоха: не было такого преступления, на какое он не пошел бы, чтобы достичь своей цели, однако он столь искусно их скрывал, что при его жизни чуть ли не все считали его святым. Меня удивило, что невежественный старик, сторож замка, помнящий его правление, так правильно расценил его. А впрочем, думаю, будь человек даже хитер как дьявол и даже если он жил и умер злодеем, но скрывал это так искусно, что его и после смерти считали честным человеком, все же кто-нибудь так или иначе, а прознает о нем всю правду. Правда и честность излучают особенный свет, которого не подделаешь; они подобны огню и пламени, которых не изобразить с помощью красок. При королеве Елизавете замок был подновлен и приукрашен, к тому же по всей наружной стороне стены добавлен бруствер, что явствует из сохранившихся кое-где надписей: «1588. Е. R.»[84]. Суббота июля 30-го. Нынче утром, часов в восемь, снялись с якоря и шли против ветра до Ярмута, еще одного городка на острове, а там опять бросили якорь, потому что ветер не утихал и по-прежнему дул с запада. Ярмут еще меньше, чем Кауз, но построен лучше, почему и кажется издали красивее, и улицы там чистые и прибранные. В церкви есть один памятник, которым обыватели очень гордятся, мы пошли его посмотреть. Он воздвигнут в память сэра Роберта Холмса, одного из губернаторов острова. Это статуя самого сэра Роберта в воинских доспехах, побольше чем в натуральную величину, он стоит на собственной могиле с палицей в руке, между двух столбов из порфира. Вся мраморная часть надгробия очень хороша. Рассказывают, будто французский король предназначал этот мрамор для своего дворца в Версале, но по пути корабль разбило бурей и мрамор был выброшен на этот остров; и сэр Роберт сам, еще при жизни, нашел для него новое употребление, и памятник был сооружен еще задолго до его кончины, хоть и не поставлен на теперешнем своем месте. Надпись, восхваляющая его, была будто бы тоже написана им самим. Можно подумать, что либо он вообще не имел никаких недостатков, либо держался неважного мнения о людях и не надеялся, что они сумеют поставить ему памятник, достойный воздать должное его добрым делам и поведать о них потомству. Осмотрев церковь, город и форт, на котором установлено семь больших пушек, трое из нас решили пройти дальше в глубь острова и милях в двух от Ярмута свернули вверх вдоль реки, к церкви Пресной воды, что поближе к городу, но на противоположном берегу реки. Пока мы там находились, стало темнеть, и мои спутники заторопились обратно, опасаясь, как бы те, кого мы оставили за вином в харчевне, где мы обедали, не возвратились на корабль без нас. Нам сказали, что лучше всего нам спуститься прямо к устью реки, там, мол, есть перевоз, и нас доставят в город. Но когда мы подошли к дому перевозчика, этот бездельник уже завалился спать и отказался ради нас вставать с постели, так что мы пошли на берег с намерением взять его лодку и переправиться без его помощи. Добраться до лодки оказалось нелегко, она была причалена к шесту, вбитому в дно, и с приливом оказалась далеко от берега. Я снял с себя все, кроме рубахи, и двинулся к ней по воде, но соскользнул с каменной тропки и провалился по пояс в тину. Наконец я добрался до шеста, но, к великому моему огорчению, обнаружил, что цепь от лодки закинута за скобу и заперта на замок. Я попробовал вытащить скобу закрепкой от уключины, не вышло; попробовал вытащить шест — напрасный труд. И, провозившись целый час в мокроте и грязи, был вынужден вернуться без лодки. Денег у нас с собой не было, и мы уже готовились провести ночь в каком-нибудь стоге сена, хотя ветер не ослабевал и был очень холодный. Тут один из нас вспомнил, что в кармане у него лежит подкова, подобранная где-то по дороге, и предложил мне попробовать выдрать скобу с ее помощью. Я попробовал, на этот раз с успехом, и подвел лодку к земле. Все мы с радостью в нее забрались и, едва я оделся, отчалили. Но худшее было еще впереди: прилив скрыл из виду берега реки, и, хотя светила луна, мы не уследили, как идет течение, а гребли без оглядки все прямо, и примерно на по л дороге сели на мель. А уперевшись в дно веслами, чтобы столкнуть лодку с мели, сломали весло и завязли еще крепче, не имея под днищем и четырех дюймов воды. Теперь мы уж совсем сбились с толку, ума не могли приложить, как быть дальше, не могли даже разобрать, прилив сейчас или отлив. В конце концов разглядели, что отлив, и, сколько ни пробовали веслом, большей глубины не нащупали. Нелегко было бы пролежать в открытой лодке всю ночь на пронизывающем ветру; но хуже того было представить себе, как нелепо мы будем выглядеть утром, когда хозяин лодки увидит нас в таком положении, да и у всего города мы окажемся на виду. Промучившись с лодкой более получаса, мы отказались от дальнейшей борьбы и сидели, вытянув перед собой руки, потеряв всякую надежду на спасение: ведь даже с отливом нам пришлось бы остаться в лодке, не добираться же до берега по шею в тине! Наконец мы все-таки придумали, как помочь делу: двое из нас разделись, вылезли из лодки, и, так как лодка от этого стала легче, мы толкали ее, стоя на коленях, ярдов пятьдесят до более глубокого места, после чего, орудуя одним веслом, благополучно причалили у подножия форта, оделись, привязали лодку и радостные поспешили в харчевню «Голова Королевы», где оставили своих спутников и где они все еще ждали нас, несмотря на поздний час. Шлюпка наша ушла на корабль, и ночевать нам пришлось на берегу. Так окончилась наша прогулка. Воскресенье июля 31-го. Нынче утром ветер упал, и наш лоцман решил воспользоваться приливом и немного продвинуться дальше. С корабля прислали шлюпку, чтобы поскорее забрать нас на борт. Не успели мы вернуться и поднять шлюпку, как опять сильно задуло с запада, так что нам, вместо того чтобы продвигаться вперед, пришлось снова возвратиться в Кауз, где рейд спокойнее, и там мы снова бросили якорь, так что пудингом, заготовленным в Ярмуте, мы обедали уже в Каузе. Понедельник августа 1-го. Нынче утром все суда в гавани расцветились флагами в честь праздника, что являло собой весьма красивое зрелище. Ветер по-прежнему с силой дул с запада, и мы всей гурьбой решили сойти на берег, куда наши завзятые гуляки уже отбыли. Мы забрали с собой кое-каких товаров на продажу и пошли в Ньюпорт, а там сбыли их по цене намного ниже той, которую платили за них в Лондоне; после чего, побывав в Ньюпорте, воротились в Кауз и решили заночевать на берегу. Вторник августа 2-го. Весь день провели на берегу, развлекаясь по силе возможности, и поскольку ветер не переменился, остались там ночевать. Среда августа 3-го. Нынче утром нас срочно призвали на судно и, едва дав время пообедать, опять повезли в Ярмут, хотя ветер все дул с запада; но на полпути встретили каботажное судно, которое везло предназначенный для нас груз, снова повернули в Кауз и часа в четыре дня в третий раз бросили там якорь. Четверг августа 4-го. Пробыли на борту до пяти часов, потом переправились на берег и там ночевали. Пятница августа 5-го. Утром были разбужены и поспешили на борт, так как ветер повернул на северо-западный. Около полудня в третий раз вышли из Кауза и, миновав Ярмут, вышли в Ла-Манш в том месте, где вход в него охраняет замок Херст, построенный на узкой отмели, протянувшейся от берега Англии в миле от острова Уайт. Перед вечером ветер стал поворачивать к западу, и мы уже боялись, что придется снова возвращаться в порт: но вскоре он стих, после чего полчаса дул слабо и сменился полным безветрием. Суббота августа 6-го. С утра несколько часов шли при попутном ветре, потом до вечера продолжался штиль. После полудня я спрыгнул за борт и поплавал вокруг корабля, чтобы вымыться. Видел несколько дельфинов. Часов в восемь стали на якорь, имея под килем сорок сажен, и носом к приливу, где-то близ Портленда, а около одиннадцати снова пошли, при легком ветре. Воскресенье августа 7-го. Весь день легкий ветер. Говорили с кораблем «Рубин», он шел в Лондон из Невиса, что возле Плимута. Позже говорили с капитаном Холмансом, его корабль идет в Бостон, из Темзы вышел одновременно с нами и все то время, что мы провели у Кауза, болтался в Ла-Манше. Понедельник августа 8-го. Весь день ясно и безветрие. После полудня видели мыс Лизард. Вторник августа 9-го. Нынче утром простились с землей. В первой половине дня безветрие, позже ветер, сперва легкий, потом усилился. Видели касатку. Среда августа 10-го. Ветер с.-з., курс ю.-з., около 8 узлов. Наблюдения показали: широта 48°50′. Ничего примечательного не произошло. Четверг августа 11-го. Ничего примечательного. Весь день сильный ветер. Пятница августа 12-го, суббота 13-го, воскресенье 14-го. То шквалистый ветер, то затишье. Понедельник 15-го, вторник 16-го, среда 17-го. Встречного ветра не было; то затишье, то дует попутный. Четверг августа 18-го. Несколько часов за кораблем следовали четыре дельфина; мы пробовали достать их острогой, но не удалось. Пятница августа 19-го. Нынче шли при хорошем попутном ветре. Утром завидели парус слева по борту, милях в двух от нас. В полдень они подняли английский флаг, мы ответили нашим кормовым, а позже с ними говорили. Корабль нью-йоркский, капитан Уолтер Киппен, следовал из Ла-Рошели во Франции в Бостон с грузом соли. Наш капитан и мистер Д. перешли к ним на борт и пробыли там до вечера, благо погода была тихая. Вчера поступили жалобы, что один из пассажиров мистер Дж. с мошеннической целью играл краплеными картами; немедленно был созван суд, и его судили по всем правилам. Один голландец, который не говорит по-английски, показал (через переводчика), что пока мы сходили на берег в Каузе, подсудимый переметил все фигуры в колоде. Я уже замечал, что мы обычно воображаем, будто человек, не умеющий говорить по-нашему, обязательно должен быть непонятлив, и сами, обращаясь к иностранцу, чуть не кричим, точно он глухой или только что оглох, а заодно и онемел. Вот так же было и с мистером Дж., он вообразил, что голландец не понял, чем он был занят, потому что не понимал по-английски, и смело маклевал с картами прямо у него на глазах. Показания голландца были ясные и бесспорные; подсудимый не мог отрицать фактов, но сказал в свое оправдание, что карты были не те, которыми он обычно играл, а из неполной колоды, которую он потом отдал юнге. Прокурор заметил, что вряд ли он бы стал так трудиться, не имея злого умысла, только ради того, чтобы отдать колоду юнге, который в картах вообще ничего не смыслит. Тут другой свидетель, будучи вызван, показал, что однажды видел, как подсудимый, когда думал, что никто его не видит, залез на грот и делал на картах пометки, к одним прижимал грязный большой палец, к другим кончик пальца и т. д. А поскольку на судне имелось всего две колоды и подсудимый только что признал, что одну он переметил, суду все стало ясно. Присяжные признали его виновным, и ему был вынесен приговор: поднять его на грот-марс, то есть на место его преступления, и привязать там, на виду у всей команды, на три часа, а также оштрафовать на две бутылки коньяка. Когда же подсудимый отказался подвергнуться наказанию, один из матросов поднялся на марс и спустил нам конец, которым мы, несмотря на его сопротивление, обвязали его вокруг пояса и силой вздернули. Четверть часа мы дали ему повисеть в воздухе, ругаясь на чем свет стоит, а когда он весь посинел и завопил «Убивают!», потому что конец был затянут слишком туго, мы смилостивились и опустили его на палубу, однако постановили бойкотировать его, пока он не уплатит штраф, то есть заявили, что до тех пор не будем с ним играть, есть, пить и разговаривать. Суббота августа 20-го. Весь вчерашний вечер и нынче с утра шли с зарифленными парусами, чтобы не расставаться с тем кораблем. Около полудня капитан Киппен и один из пассажиров перешли к нам, обедали с нами и пробыли у нас до вечера. А проводив их, мы отдали рифы и ушли вперед. Воскресенье августа 21-го. Нынче утром, подгоняемые свежим восточным ветром, потеряли нью-йоркца из виду. Перед вечером к нам на палубу опустилась несчастная птичка, она устала чуть не до смерти и дала взять себя в руки. По нашим расчетам, мы находились милях в 200 от земли, так что бедной страннице было самое время передохнуть. Ее, как видно, отнесло от берега ветром во время тумана, и обратной дороги домой она не могла найти. Приняли мы ее радушно, предлагаем ей и еду и питье, но она не пьет и не ест и, боюсь, проживет недолго. Одна такая же бедняга попала к нам несколько дней тому назад, ту, я подозреваю, сгубила судовая кошка. Понедельник августа 22-го. Нынче утром видел летающих рыб, совсем маленьких. Ветер весь день попутный. Вторник августа 23-го, среда 24-го. Ветер попутный, ничего примечательного. Четверг августа 25-го. Наш отлученный пассажир счел за благо подчиниться решению суда и заявил, что готов заплатить штраф, поэтому нынче утром мы снова приняли его в наше содружество. Человек — существо общественное, и, на мой взгляд, быть отлученным от общества — самое страшное для него наказание. Я читал много прекрасных рассуждений о прелестях одиночества, знаю, как иной умник похваляется, что, оставшись один, вовсе не чувствует себя одиноким. Я согласен, что для деятельного ума одиночество может послужить желанной передышкой; но будь эти мыслящие люди обречены на одиночество постоянное, они, думается мне, очень быстро почувствовали бы, что жизнь их невыносима. Я слышал об одном человеке, который провел семь лет в одиночной камере в Бастилии, в Париже. Это был человек неглупый, мыслящий, но кому нужны были его мысли, когда он ни с кем не общался? Ведь ему нечем было даже записать их. Нет бремени более тяжкого, нежели время, которое не знаешь как употребить. В конце концов он прибегнул к такому средству: каждый день разбрасывал на полу своей тесной камеры клочки бумаги, а потом подбирал их и наклеивал рядами и разными фигурами на подлокотники и спинку стула; и по выходе из тюрьмы говорил друзьям, что, если бы не это занятие, он, наверно, лишился бы рассудка. Какой-то философ, если не ошибаюсь, Платон, говаривал, что лучше быть последним невеждой, нежели знать все на свете, но не иметь возможности поделиться своими знаниями. Всем вышесказанным в какой-то мере объясняется мой нынешний образ жизни на корабле. Компания у нас весьма разношерстная, с приятностью вести общую беседу невозможно; если случается, что двое из нас могут на полчаса заинтересовать друг друга разговором, то отнюдь не всегда оба одновременно бывают к этому склонны. Утром я встаю и часа два читаю, после чего чтение мне надоедает. Недостаток движения вызывает недостаток аппетита, так что еда и питье приносят мало радости. Чтобы почувствовать усталость, я играю в шашки, затем перехожу на карты. Мы готовы развлекаться любой игрой, даже самой ребяческой. Встречный ветер почему-то всех нас выводит из равновесия: мы становимся угрюмы, молчаливы, мрачны, раздражаемся друг на друга по любому поводу. Женщины считают, что, если мужчина злонравен, это непременно скажется, когда он выпьет лишнего. Я же, зная много примеров обратного, научу их более верному способу распознавать истинную сущность их покорных слуг. Пусть каждая из этих милых дам хоть раз совершит в их обществе долгое плавание, и, если в них есть хоть капля злонравия, но они сумеют его скрыть до конца путешествия, я обещаю никогда больше не вступать с ними в спор. Ветер по-прежнему попутный. Пятница августа 26-го. До вечера было ясно и ветер попутный, с вечера до утра дул шквалистый, с дождем и молниями. Суббота августа 27-го. Утром развиднелось, ветер западный. Видели за кормой двух дельфинов; одного мы поймали на крючок, другого ударили острогой, но оба ушли, и больше мы их не видели. Воскресенье августа 28-го. Ветер западный, пресильный. Убрали грот и фок. Понедельник августа 29-го. Ветер пресильный, западный. Два дельфина за кормой. Били их, но оба ушли. Вторник августа 30-го. Ветер все еще встречный. Нынче вечером при почти полной луне, когда она взошла после восьми часов, на западе, с наветренной стороны, появилась радуга. Это я в первый раз видел ночную радугу, вызванную луной. Среда августа 31-го. Ветер все еще западный. Ничего примечательного. Четверг сентября 1-го. Погода скверная, ветер встречный. Пятница сентября 2-го. Нынче утром ветер переменился, немного развиднелось. Поймали пару дельфинов и съели на обед. Вкус довольно приятный. В воде эти рыбины дивно красивы, туловище у них ярко-зеленое и отливает серебром; хвост сверкает желтым золотом; но все это пропадает вскоре после того, как их вытащат из родной стихии, они становятся сплошь светло-серыми. Я заметил, что когда от живого, только что пойманного дельфина отрезают куски для наживки и дельфин издыхает, эти куски не теряют ни блеска, ни красок, а сохраняют их в целости. Все отмечают обычную ошибку живописцев: они всегда изображают эту рыбу уродливо скрюченной, тогда как на самом деле другой такой красивой и изящной рыбы не найти. Не понимаю, откуда у них явилась эта фантазия, ведь во всей природе нет создания, подобного их дельфинам, разве что они вначале безуспешно пытались запечатлеть дельфина в то мгновение, когда он прыгает, а позже переделали его в это скрюченное чудище с головой и глазами, как у быка, с мордой, как у свиньи, и с хвостом, как распустившийся тюльпан. Но у матросов есть для этого другое объяснение, хоть и мало вероятное, а именно, что поскольку эта красавица рыба водится только в море, да притом далеко на юге, художники-де нарочно обезображивают ее, чтобы беременные женщины не выпрашивали того, что добыть для них невозможно. Суббота сентября 3-го, воскресенье 4-го, понедельник 5-го. Ветер по-прежнему западный; ничего примечательного. Вторник сентября 6-го. Нынче днем ветер, все с той же стороны, усилился до шторма и вздымал волны такой высоты, каких я еще не видел. Среда сентября 7-го. Ветер немного утих, но зыбь еще очень сильная. Весь день от нас не отставал дельфин. Мы несколько раз делились в него, но не могли попасть. Четверг сентября 8-го. Не произошло ничего примечательного. Ветер встречный. Пятница сентября 9-го. Нынче днем поймали четырех крупных дельфинов, трех на крючок, а в четвертого попали острогой. Наживкой служила свеча, в которую с обоих концов воткнули перья, чтобы уподобить ее летучей рыбе, любимой добыче дельфинов. Они, как видно, были очень голодные, хватали крючок, едва он успевал коснуться воды. Когда стали их потрошить, у одного нашли в брюхе маленького дельфина, еще не переваренного. То ли они и вправду оголодали, то ли вообще дикие, раз пожирают свое же потомство. Суббота сентября 10-го. На обед ели нынче дельфинов, которых вчера поймали. Трех вполне хватило на весь корабль, то есть на 21 человека. Воскресенье сентября 11-го. Весь день шторм с ливнями. На палубе находиться неприятно, и хотя мы весь день провели вместе в каюте, от этого бесконечного ветра все так отупели, что, кажется, и двух слов друг другу не сказали. Понедельник сентября 12-го; вторник 13-го. Ничего примечательного. Ветер встречный. Среда сентября 14-го. Нынче днем, часа в два, при ясной погоде и почти полном безветрии, когда мы на палубе играли в шашки, внезапно потемнело солнце, закрытое, как мы видели, лишь маленьким легким облачком; когда же оно ушло, нам стало ясно, что славное наше светило подверглось сильнейшему затмению. Не менее десяти частей его из двенадцати было скрыто от наших глаз, и мы уже опасались, как бы оно не затмилось все без остатка. Четверг сентября 15-го. Целую неделю мы тешили себя надеждой, что новолуние (а оно наступило вчера) порадует нас попутным ветром; но, к великому нашему разочарованию и досаде, ветер как дул с запада, так и дует и точно так же, как две недели назад, нет никаких признаков того, чтобы он намерен был перемениться. Пятница сентября 16-го. Весь день безветрие. Утром видели тропическую птицу, она несколько раз облетела наш корабль. Птица белая, с короткими крыльями; в хвосте как будто всего одно перо, и летает она не очень быстро. По нашим расчетам, мы прошли примерно половину пути, широта 38 градусов с минутами. Этих птиц, говорят, никогда не видели севернее сороковой широты. Суббота сентября 17-го. До полудня продолжалось безветрие; позже повеяло с востока, и мы полны надежд, что теперь восточный ветер установится надолго. Воскресенье сентября 18-го. Весь день погода простояла как нельзя лучше и, что самое главное, с попутным ветром. Все надели чистые рубашки, смотрят весело и друг к другу расположены ласково. Дай-то бог, чтобы ветер не переменился! Ведь мы так долго шли в лавировку, что от команды «руль под ветер!» нас уже бросает в дрожь, как осужденного преступника от приговора судьи. Понедельник сентября 19-го. Погода что-то хмурится, наш попутный ветер стал утихать. Каждый день видим тропических птиц, иногда по пять-шесть зараз; величиной они с голубя. Вторник сентября 20-го. Ветер опять переменился на западный, к великой нашей досаде. Хлеб получаем в ограниченном количестве, по два с половиной сухаря в день. Среда сентября 21-го. Нынче утром нашего баталера разложили на связке канатов и наказали плетьми за то, что перетратил муки на пудинги, и за другие провинности. Весь день полное безветрие и очень жарко. Я был твердо намерен нынче искупаться в море и так и сделал бы, если бы не появление акулы, смертельного врага всех пловцов. Длины в ней было футов пять, она плавала вокруг корабля на некотором отдалении, медленно и величаво, а с нею десяток рыб, которых называют рыба-лоцман, разных размеров: самая длинная поменьше небольшой макрели, самая короткая не больше моего мизинца. Два этих крошечных лоцмана держатся перед самой ее мордой, и она как будто следует их указаниям; остальные же плывут рядом с ней справа и слева. Акулу всегда сопровождает такая свита, они добывают ей пищу, находят и указывают ей добычу, а она в благодарность защищает их от прожорливых и голодных дельфинов. Акулу считают очень жадной рыбой, но эта и не глядит на приманку, которую ей бросают: как видно, сытно пообедала и еще не проголодалась. Четверг сентября 22-го. Весь день сильный западный ветер. Акула от нас отстала. Пятница сентября 23-го. Нынче утром завидели парус милях в двух за кормой, подняли кормовой флаг, убавили паруса и шли так до полудня, пока то судно нас не догнало. Это оказался «Сноу» курсом из Дублина в Нью-Йорк, на борту свыше пятидесяти кабальных слуг обоего пола! Они высыпали на палубу и, судя по всему, были очень рады нас увидеть. И правда, удивительно это бодрит, когда встретишь в море корабль и на нем живых людей, таких же, как мы, и в таких же обстоятельствах, да еще после того, как мы долго были, если можно так сказать, отлучены от остального человечества. При виде стольких человеческих лиц сердце мое так и запрыгало от радости, и я с трудом удержался от смеха, порождаемого душевным довольством. Ведь уже долгое время нас носило по безбрежному морю и мы не видели ни земли, ни корабля, ни каких-либо смертных созданий (кроме рыб и морских птиц), словно весь мир залило вторым потопом и в живых остались только мы, как некогда Ной и его спутники в ковчеге. Оба капитана обещали друг другу следовать дальше совместно; но я полагаю, что это только так говорится, ведь когда корабли не одинаковы по своим качествам, редко бывает, чтобы один стал ждать другого, особенно если капитаны между собой не знакомы. После полудня ветер, так долго дувший нам в лоб, к великому нашему удовольствию переменился на восточный (и, видимо, надолго). Спутники мои приободрились, перестали жаловаться, чего не было с самого отплытия, а объясняю я это тем, что они увидели, в каких жалких условиях находятся пассажиры на том судне, и могли сравнить их с нашими. Мы чувствуем себя как в раю, стоит только представить себе, каково им приходится там в тесноте, бок о бок с таким грязным, вонючим сбродом, да еще в этих жарких широтах. Суббота сентября 24-го. Вчера вечером налетел шторм, и в полной темноте мы потеряли нашего сотоварища. Нынче рано утром впереди показался парус, мы думали, что это он, но тут показался еще один парус, и мы поняли, что ни тот, ни другой не «Сноу»: один из них пересекал наш путь, а второй несся прямо на нас, имея перед нами преимущество ветра. Когда этот последний приблизился, мы были немного озадачены, не зная, как это понять: судя по его курсу, он вообще не направлялся ни в какой порт назначения, но словно задумал незамедлительно врезаться нам в борт. На всех лицах вокруг я читал тревогу, но скоро все успокоились: неизвестное судно стало удаляться. Когда мы подняли кормовой флаг, оно в ответ подняло французский и тут же снова спустило, и вскоре мы потеряли его из виду. Второе судно прошло мимо нас меньше чем через полчаса и на наш сигнал ответило английским флагом; оно шло восточнее нас, но ветер был такой сильный, что поговорить ни с тем, ни с другим не удалось. Часов в десять мы завидели нашего сотоварища, тот ушел от нас далеко вперед. Оказалось, что ночью, когда мы из-за шторма легли в дрейф, спустив грот, он не замедлял хода. Теперь он любезно убавил паруса, и нынче днем мы его догнали, так что сейчас мы опять бежим борт к борту, как старые друзья, при отменном попутном ветре. Воскресенье сентября 25-го. Вчера к вечеру мы уже порядочно обогнали сотоварища. Около полуночи, потеряв его из виду, мы ради него убавили паруса, но нынче утром он оказался далеко впереди, потому что в темноте, оказывается, успел нас обогнать. Мы прибавили парусов, около полудня поравнялись с ним и теперь, дабы такое не повторилось впредь, условились, что, если опять доведется обогнать их ночью, когдаПишущие о поэтическом искусстве учат нас, что, если мы хотим написать нечто такое, что достойно быть прочитанным, нам всегда, прежде нежели начать, следует четко изложить план и замысел нашего сочинения: в противном случае нам не миновать путаницы. То же, мне кажется, можно сказать о жизни. Я никогда не составлял четкого плана моей жизни, почему она и представляется мне как беспорядочная череда разнообразных происшествий. Ныне, вступая в новую пору жизни, я намерен принять кое-какие решения и наметить кое-какой план действий{158}, дабы впредь жить во всех смыслах как подобает разумному существу. 1. Мне необходимо соблюдать крайнюю бережливость — некоторое время, пока я не расплачусь со своими долгами. 2. Стремиться неизменно говорить правду, ни в кого не вселяя надежд, кои едва ли смогу оправдать, но быть искренним в каждом моем слове и поступке, что составляет самое привлекательное свойство разумного создания. 3. Прилежно заниматься любым делом, за какое возьмусь, не отвлекаясь от него легкомысленной погоней за быстрым обогащением, ибо вернейший путь к преуспеянию лежит через трудолюбие и терпение. 4. Я обязуюсь ни о ком не отзываться дурно, даже с целью установить истину, но искать оправданий для проступков, в которых обвиняют людей, и пользоваться всяким случаем, чтобы говорить о человеке все то доброе, что я о нем знаю.
В Филадельфию мы прибыли 11 октября, и я нашел там немало перемен. Кит уже не был губернатором, его сменил майор Гордон. Однажды я встретил его, теперь уже рядового горожанина, на улице. При виде меня он словно бы немного смутился, но прошел дальше, не сказав мне ни слова. Точно так же я смутился бы при виде мисс Рид, если бы друзья, которые после моего письма с полным основанием махнули на меня рукой, не уговорили ее выйти замуж за другого, некоего Роджера, гончара, что и произошло в мое отсутствие. Однако с ним она не нашла счастья и скоро ушла от него, отказавшись с ним жить и носить его имя, так как оказалось, что у него уже есть другая жена. Он был никудышный человек, хотя отличный работник, это последнее и соблазнило ее друзей. Он наделал долгов, в 1727 или 1728 году сбежал в Вест-Индию и там умер. У Кеймера был новый дом, лучше прежнего, лавка, полная товаров, вдосталь новых литер, несколько работников, но среди них ни одного стоящего, и как будто в избытке заказов. Мистер Дэнхем снял помещение на Водяной улице, где мы и открыли торговлю. Я усердно изучал торговое дело и бухгалтерию и вскорости сделался заправским продавцом. Мы жили и столовались вместе, он искренне ко мне привязался и по-отечески меня наставлял. Я уважал и любил его, и так могло бы продолжаться, если бы в начале февраля 1727 года, когда мне только что исполнился 21 год, мы оба не захворали. Моя болезнь, плеврит, чуть не свела меня в могилу. Я очень мучился, мысленно уже распростился с жизнью и был даже разочарован, когда стал поправляться, и с сожалением подумывал, что мне не миновать начинать всю эту канитель сызнова. Чем болел мистер Дэнхем, не помню, но болел он долго и так и не выздоровел. В словесном завещании он отказал мне небольшое наследство в знак доброго ко мне расположения, и я снова остался один на белом свете, ибо лавка отошла его душеприказчикам и этой моей работе пришел конец. Мой зять Холмс, находившийся в то время в Филадельфии, советовал мне вернуться к прежнему ремеслу; и Кеймер, посулив мне большое жалованье, соблазнил меня предложением возглавить его типографию, чтобы он сам мог уделить все внимание лавке. В Лондоне я наслышался дурных отзывов о нем от его жены и ее знакомых, и мне не хотелось опять с ним связываться. Я попробовал пристроиться в каком-нибудь торговом деле, но ничего подходящего не подвернулось, и я все же договорился с Кеймером. В типографии у него в то время работали: Хью Мередит, пенсильванец родом из Уэльса, тридцати лет от роду, обученный деревенским работам, парень честный, разумный, наблюдательный, любитель чтения, но приверженный к вину; Стивен Поттс, тоже из деревни, очень смекалистый, острослов и шутник, но с ленцой. Этим двоим он платил очень маленькое жалованье раз в неделю, с тем чтобы каждые три месяца повышать его на один шиллинг, если они того заслужат своим прилежанием; этим обещанием высокой платы он их и приманил. Мередита он определил в печатники, а Поттса в переплетчики и сам взялся их обучать, хотя ничего не смыслил ни в печатном, ни в переплетном деле. Был там еще Джон — отчаянный ирландец, ничему не обученный, чьи услуги Кеймер закупил на четыре года у капитана какого-то корабля, его он тоже прочил в печатники. Еще был Джон Уэбб, оксфордский студент, тоже закупленный на четыре года и предназначенный в наборщики, о нем смотри ниже. И еще — Дэвид Гарри, мальчишка из деревни, которого он взял в ученики. Я скоро смекнул, что побудило его предложить мне такое высокое жалованье, какого он раньше никому не платил: он хотел, чтобы я за него обучил этих дешевых неотесанных работников, а как только я с этим справлюсь, он всех их возьмет чин чином в подмастерья и тогда сможет обойтись без меня. Однако я не стал с ним ссориться, навел порядок в типографии, где до меня царила полная неразбериха, и постепенно научил его работников интересоваться делом и работать лучше. Очень странно было обнаружить в положении кабального слуги оксфордского студента. Ему было всего восемнадцать лет, и он рассказал мне свою историю: что родился он в Глостере, учился там в начальной школе и потому-де выделился среди других учеников, что лучше всех играл свою роль, когда они ставили пьесы, состоял членом местного клуба Умников и сочинил несколько вещиц в стихах и в прозе, которые были напечатаны в глостерских газетах. Из школы его послали в Оксфорд, там он проучился около года, но был недоволен, потому что больше всего на свете мечтал попасть в Лондон и стать актером. И вот однажды, получив полагавшееся ему на квартал содержание в пятнадцать гиней, он, вместо того чтобы расплатиться с долгами, вышел из города, спрятал свою мантию в кустах терновника и пешком отправился в Лондон, но, не имея там ни единого друга, попал в дурную компанию, живо спустил свои гинеи, не сумел познакомиться с актерами, обнищал, заложил свое платье и ходил по улицам голодный, не зная, куда податься, когда ему сунули в руку бумажку вербовщика, в которой предлагалось немедленное содержание и содействие тем, кто согласится поехать на работу в Америку. Он тут же пошел по указанному адресу, подписал контракт, был погружен на корабль и привезен сюда, не написав о себе ни строчки тем, кто его знал на родине. Был он веселый, неунывающий, добродушный паренек, добрый товарищ, но до крайности ленивый, беспечный и опрометчивый. Ирландец Джон вскорости сбежал; с остальными же я жил в дружбе, ибо все они меня уважали, тем более когда поняли, что Кеймер ничему не может их научить, от меня же они каждый день узнавали что-нибудь новое. По субботам мы не работали, это правило Кеймер всегда соблюдал, так что у меня оставалось два дня в неделю на чтение. У меня появились новые знакомые среди образованных людей нашего города. Кеймер держался со мной весьма учтиво и как будто бы уважительно, и ничто меня не тревожило, кроме моего долга Вернону, который я никак не мог ему отдать, потому что не сумел накопить для этого денег. Впрочем, он пока не давал о себе знать. В нашей типографии часто не хватало того или иного шрифта, а типографских литейщиков в Америке не было. Я видел, как отливали литеры у Джеймса в Лондоне, но внимательно к этому делу не приглядывался; однако теперь я соорудил форму, имеющиеся у нас литеры использовал в качестве пуансонов, отлил матрицы из свинца и так в большой мере возместил эту недостачу. Время от времени я что-нибудь гравировал; я изготовлял типографскую краску; я распоряжался на складе; короче говоря, был, что называется, ко всякой бочке затычка. Но при всем моем усердии я замечал, что, по мере того как приобретали опыт другие работники, моим услугам день ото дня придавалось все меньше значения; и Кеймер, отдавая мне жалованье за второй квартал, сказал, что столько платить ему затруднительно и надо бы мне получать поменьше. Постепенно учтивость его шла на убыль, он все больше держался хозяином, часто придирался ко мне и, казалось, был готов к открытой ссоре. Я со своей стороны продолжал проявлять терпение, частично объясняя его нервозность денежными неурядицами. В конце концов мы повздорили из-за пустяка. Однажды, услышав громкий шум перед зданием суда, я высунулся из окна посмотреть, что там случилось. Кеймер, стоявший на улице, поднял голову, увидел меня и крикнул мне, очень громко и сердито, чтобы я занимался своим делом, а вдобавок осыпал упреками, которые особенно возмутили меня тем, что их слышало столько народу, ведь все соседи, как и я, глазевшие из своих окон, стали свидетелями того, как со мной обращаются. Он тут же, не переставая ругаться, поднялся в типографию, мы оба наговорили лишнего, и он предупредил, что через три месяца меня уволит, да еще пожалел, что придется ждать так долго, зря, мол, он согласился на такое условие в нашем договоре. Я сказал, что сожаления его излишни, так как я расстанусь с ним сию же минуту, и, взяв шляпу, вышел из комнаты, а увидев внизу Мередита, просил его собрать кое-какие мои вещи и принести их мне на квартиру. Мередит пришел ко мне вечером, и мы обсудили мое дело. Он проникся ко мне великим уважением, и ему очень не хотелось, чтобы я ушел из типографии, пока он еще там работает. Он отговорил меня от возвращения в Бостон, о чем я уже подумывал; напомнил мне, что Кеймер кругом в долгах, что его кредиторы уже волнуются, что лавку он ведет безобразно, часто продает за валичные без всякой прибыли или дает в долг без расписок. Что, следственно, он неминуемо прогорит, и тогда освободится место, которое я мог бы занять. Я возражал, ссылаясь на отсутствие денег. Тогда он рассказал мне, что его отец очень высокого обо мне мнения и, судя по некоторым их разговорам, он уверен, что отец даст нам денег на собственное обзаведение, если я соглашусь взять его в компаньоны. «Срок моей работы у Кеймера истекает весной, — сказал он. — К тому времени мы можем получить из Лондона станок и шрифты. Я понимаю, что как работник в подметки тебе не гожусь, но пусть твоим вкладом в дело будет твое уменье, а моим — оборудование, а доходы будем делить пополам». Такое предложение пришлось мне по душе, и я согласился. Отец его в это время находился в городе и тоже одобрил его план, тем более что видел, какое влияние я имею на его сына, ведь я уговорил его подолгу воздерживаться от пьянства, и отец надеялся, что, когда мы будем так тесно связаны, я окончательно отучу его от этой злосчастной привычки. Я дал отцу список всего необходимого, он передал его одному купцу, и тот заказал все что нужно; мы решили хранить все в тайне, пока товар не прибудет, а я тем временем попробую устроиться на работу во вторую типографию, к Брэдфорду. Но там места не оказалось, и несколько дней я болтался без дела, а потом получил любезнейшее письмо от Кеймера: у него появилась надежда на интересный заказ — печатание бумажных денег в Нью-Джерси, выполнение которого требовало гравировальных работ и литер, которые только я мог ему обеспечить, и он побоялся, как бы Брэдфорд не нанял меня и не перехватил у него этот заказ. Он писал, что негоже старым друзьям расставаться из-за нескольких слов, сказанных сгоряча, и звал вернуться. Мередит уговаривал меня согласиться, рассчитывая, что под моим началом и при ежедневном общении со мной еще многому успеет научиться. И я вернулся, после чего мы зажили более мирно, чем жили все последнее время. Заказ из Нью-Джерси действительно поступил, я изготовил медную гравировальную доску, первую в нашей стране, и выгравировал несколько украшений и рисунков для банкнот. Мы вместе отправились в Берлингтон, где я все выполнил наилучшим образом, а он получил за эту работу большие деньги, что позволило ему еще надолго отсрочить окончательное разорение. В Берлингтоне я познакомился с многими видными обывателями той провинции. Из нескольких таких людей Законодательная ассамблея образовала комитет, поручив ему надзирать за нашей работой и следить, чтобы не было напечатано больше банкнот, чем было постановлено законом. Поэтому они по очереди находились при нас, и тот, чья очередь наступала, обычно приводил с собой одного или двух приятелей, чтобы не было скучно. Беседовать со мной они любили больше, чем с Кеймером, потому, наверное, что ум мой был больше развит чтением. Они приглашали меня в гости, знакомили с друзьями, выказывали мне всяческую любезность, а он, хоть и был моим хозяином, оставался в загоне. Он и правда был человек со странностями, не умел держаться с людьми, грубо нападал на общепринятые мнения, был мало сказать что неряшлив, а попросту неопрятен, в некоторых религиозных вопросах доходил до фанатизма и притом был порядочный прохвост. Пробыли мы там около трех месяцев, и к концу этого срока среди моих новых знакомцев оказались судья Аллен, секретарь провинции Сэмюел Бастилл, Исаак Пирсон, Джозеф Купер и несколько Смитов, членов Ассамблеи, а также Исаак Декау, старший землемер. Этот последний, очень умный и прозорливый старик, рассказал мне, что начал свой жизненный путь в юности с того, что возил в тачке глину для кирпичников; писать научился, когда уже был совершеннолетним, таскал цепь для землемеров, а те научили его делать съемки, и он собственным усердием сколотил себе хорошее состояние. «Помяни мое слово, — сказал он мне, — ты так работаешь, что скоро вытеснишь этого человека из вашего дела, а сам разбогатеешь на том же деле в Филадельфии». В то время он ничего не знал о моем намерении открыть собственную типографию в Филадельфии или где бы то ни было. Эти друзья впоследствии оказали мне немало услуг, а для некоторых из них и я кое-что сделал. И до конца своих дней они сохранили уважительное ко мне отношение. До того как перейти к моим первым самостоятельным шагам на деловом поприще, я, пожалуй, опишу тебе мой образ мыслей касательно моих принципов и нравственных правил, чтобы ты понял, как этот образ мыслей повлиял на дальнейшие события моей жизни. Родители сызмальства учили меня молиться богу и благочестиво воспитывали в диссидентском духе. Но лет в пятнадцать, подвергнув сомнению один за другим несколько догматов, по мере того как вычитывал в книгах опровержения того или другого из них, я усомнился и в самом божественном откровении. Мне попалось несколько трудов, направленных против деизма, в которых, как мне объяснили, содержался пересказ проповедей из собрания Бойля{159}. Однако на меня они произвели впечатление, обратное тому, на какое были рассчитаны, ибо доводы деистов, которые там приводились для того, чтобы быть опровергнутыми, показались мне намного убедительнее, нежели эти опровержения; короче говоря, я скоро стал деистом. Своими доводами я убедил и других, в особенности Коллинза и Ральфа; но поскольку позднее оба они без малейшего зазрения совести причинили мне много зла и я к тому же вспомнил, как поступил со мною Кит (тоже мне вольнодумец!) и как я сам поступил с Верноном и мисс Рид (а это меня по временам сильно мучило), я стал подумывать, что доктрина моя, может быть, и правильная, но пользы от нее мало. Мой лондонский памфлет, для которого я взял эпиграфом строки Драйдена:
Все предыдущее написано с намерением{164}, изложенным в начале, и поэтому содержит некоторые семейные истории, для посторонних не интересные. То, что следует дальше, писалось много лет спустя по совету, содержащемуся в нижеприведенных письмах, и соответственно предназначается для публики. Перерыв был обусловлен делами нашей Революции.
Письмо от мистера Абеля Джеймса{165},
с приложением записей о моей жизни (получено в Париже)
Мой дорогой и высокочтимый друг! Я часто испытывал желание написать тебе, но меня всякий раз удерживало опасение, как бы мое письмо не попало в руки англичан и какой-нибудь печатник или охотник до чужих дел не вздумал опубликовать часть его содержимого, что причинило бы нашему другу большие неприятности, а на меня навлекло бы его неодобрение. Некоторое время тому назад мне в руки, к моей великой радости, попало двадцать три листа, исписанных твоим почерком, рассказ о твоих предках и твоей жизни, обращенный к твоему сыну и доведенный до 1730 года, а при нем примечания, тоже твоим почерком, копию коих при сем прилагаю в надежде, что буде ты его продолжил, первую и дальнейшую части можно будет соединить; если же ты еще не написал продолжения, то теперь ты с этим не замедлишь. Жизнь скоротечна, как говорил нам проповедник; и что скажут люди, если добрый, гуманный и доброжелательный Бен Франклин не оставит своим друзьям и всем людям столь приятного и назидательного сочинения; сочинения, каковое было бы интересно и полезно не только нескольким друзьям, но миллионам людей. Влияние, которое сочинения такого рода оказывают на молодые умы, очень велико, и нигде я не усматривал этого так ясно, как в записках нашего друга. Почти незаметно они приводят молодых людей к решению хотя бы попытаться стать такими же добродетельными и заслужить такую же известность, как их автор. И если твои записи, когда они будут опубликованы (а я убежден, что это случится), заставят молодых равняться на трудолюбие и умеренность, проявленные тобою в ранней молодости, каким благодеянием окажется этот твой труд! Никто из известных мне живых людей, ни один, ни в совокупности с другими, не способен вызвать у американской молодежи столь горячего стремления к трудолюбию, увлечению делом, бережливости и умеренности. Я не хочу сказать, что у этого труда нет и других достоинств, я далек от этой мысли; но первое столь важно, что с ним ничто не сравнится.Когда это письмо и приложенные к нему записи были показаны одному другу, я получил от него следующее послание:
Письмо от мистера Бенджамина Воуэна{166}
Париж, января 31-го, 1783. Милостивый государь мой! Когда я прочел записи о важнейших событиях Вашей жизни, переправленные Вам Вашим приятелем-квакером, я пообещал прислать Вам письмо, в коем изложу причину, почему я поддерживаю его просьбу закончить их и опубликовать. В последнее время различные дела мешали мне взяться за это письмо, и теперь я уже не уверен, стоит ли его писать; однако же, поскольку у меня выдалось свободное время, я все же его напишу, хотя бы ради собственного интереса и пользы; но поскольку выражения, которые я намерен употребить, могли бы обидеть человека Вашего воспитания, я скажу Вам только, как я обратился бы к любому другому человеку, столь же добродетельному и известному, как Вы, но не столь свободному от самомнения. Я сказал бы ему: Сэр, я жажду увидеть историю Вашей жизни опубликованной по следующим причинам: Ваша история так примечательна, что если Вы сами ее не напечатаете, это несомненно сделает кто-нибудь другой и тем, возможно, причинит столько же вреда, сколько Вы принесли бы пользы, если бы занялись этим сами. Далее. Это будет отчет о внутреннем положении в Вашей стране, который подвигнет переселиться туда многих людей достойных и мужественных. И, зная, как ищут они таких сведений и какой вес имеет Ваше имя, думаю, что Ваша биография послужит наилучшей рекламой. Все, что с Вами случилось, тесно связано с нравами и обстоятельствами новой, нарождающейся нации; и с этой точки зрения, думается мне, даже писания Цезаря и Тацита едва ли могут быть так интересны для того, кто хочет правильно судить о человеческой природе и обществе. Но это, досточтимый сэр, лишь второстепенные соображения по сравнению с тем, как пример Вашей жизни призван способствовать становлению великих людей в будущем; и в сочетании с Вашим «Искусством добродетели» (которое Вы намерены обнародовать){167} послужит совершенствованию каждого, а значит — преумножит всяческое счастье, как личное, так и общественное. В первую очередь оба эти произведения дадут непревзойденный свод правил для самовоспитания. Школы и прочие способы воспитания сплошь и рядом следуют ложным принципам и являют собой громоздкую систему, указующую ложный путь; Ваша же система незатейлива, и цель Вашего пути правильна; а поскольку ни родители, ни дети не имеют иных правильных мерил для подготовки к разумной жизни и оценки таковой, Ваше открытие, что многие могут постигнуть все это своим умом, окажется поистине бесценным! Влияние, воспринятое человеком слишком поздно, есть влияние не только запоздалое, но и слабое. Лишь в молодости мы закладываем основу наших привычек и вкусов, лишь в молодости вырабатываем свое отношение к профессии, роду занятий и браку. А значит, лишь в молодости обозначается дальнейший путь, даже путь следующего поколения, лишь в молодости определяется и личный и общественный облик человека. И поскольку срок жизни длится лишь от молодости до старости, жизнь должна начинаться хорошо с самой молодости, предпочтительно еще до того, как мы утвердились в главных своих взглядах. Ваша же биография — это не только урок самовоспитания, но урок воспитания мудрого человека; и даже мудрейший почерпнет много мыслей и житейских советов, подробно ознакомившись с образом жизни другого мудреца. Так зачем же лишать такой помощи людей более слабых, когда мы видим, что с начала времен человечество бредет ощупью, в потемках, можно сказать — без всякого руководства? Покажите всему свету, сэр, сколько можно сделать и для отцов, и для сыновей; призовите всех мудрых идти по Вашим стопам, а других — набираться мудрости. Сейчас, когда мы видим, как жестоки бывают государственные мужи и военачальники, как нелепо бывает поведение высокопоставленных людей в отношении к своим знакомым, поучительно будет убедиться, что множатся и случаи мирного, уступчивого поведения и что совместно быть великим человеком и добрым семьянином, исполнять завидную должность и не терять добродушия. Немалую пользу принесут те мелкие случаи, о которых Вам тоже придется рассказать, ибо нам превыше всего необходимы правила осмотрительного поведения в повседневных делах, и любопытно будет узнать, как Вы поступали в том или ином случае. Это будет своего рода ключ к жизни, объяснение многого из того, что должно объяснить каждому, дабы он стал умнее, научившись предусмотрительности. За неимением собственного опыта самое лучшее — это узнать о жизни другого человека, рассказанной нам достаточно интересно, а Ваше перо обеспечивает высокое качество рассказа; наши дела предстанут перед нами и простыми и значительными, Вы же, я в том не сомневаюсь, проявили в жизни столько же самобытности, как в любых рассуждениях о политике или философии, а есть ли что, требующее больше экспериментов и системы, нежели человеческая жизнь (столь важная и столь богатая ошибками)? Одни люди добродетельны вслепую, другие увлекаются фантастическими вымыслами, еще другие умны и востры на нехорошие дела. Вы же, сэр, я в том уверен, не напишете ничего такого, что не было бы одновременно мудрым, практичным и похвальным. Ваш рассказ о себе (ибо я полагаю, что аналогия с доктором Франклином касается не только характера, но и жизненных обстоятельств), покажет, что Вы не стыдитесь никакого происхождения, а это тем более важно потому, что из Ваших писаний явствует, сколь мало счастье, личные качества и величие зависят от какого бы то ни было происхождения. А поскольку ни одна цель не мыслится без средств, мы убедимся, сэр, что даже Вы составили план, позволивший Вам возвыситься; и в то же время увидим, что хотя результат был весьма лестным, достигнут он был такими простыми средствами, какие могла подсказать только мудрость, а именно, что Вы полагались на природу, добродетель, размышления и привычку. И еще нам станет ясно, что каждому надлежит дождаться нужного времени, прежде чем появиться на арене жизни. Наши чувства тесно связаны с той или иной минутой, поэтому мы склонны забывать, что за первой минутой последуют другие, а значит, человеку надлежит строить свое поведение применительно к требованиям всей жизни. Ваши определения, как видно, были Вами применены к жизни в целом, и мимолетные ее минуты были оживлены довольством и радостями, а не испорчены пустой досадой или сожалениями. Такое поведение легко дается тем, кто равняется на других, подлинно великих людей и чьим главным достоинством так часто является умение терпеть и ждать. Ваш корреспондент-квакер (здесь я снова выскажу предположение, что мой адресат похож на д-ра Франклина) восхваляет Вашу воздержанность, прилежание и умеренность; но мне странно, что он обошел молчанием Вашу скромность и бескорыстие, ведь без них Вы не могли бы так долго дожидаться преуспеяния и притом не тяготиться ожиданием, а это убедительно доказывает всю ничтожность славы и необходимость управлять своим рассудком. Если бы этот корреспондент знал Вашу историю так же хорошо, как я, он бы сказал: Ваши прежние писания и стихи привлекут внимание к Вашей «Биографии» и «Искусству добродетели»; а Ваша «Биография» и «Искусство добродетели», в свою очередь, привлекут внимание к ним. В этом преимущество разносторонней натуры: одна ее интересная черта ярче освещает другую, а сие тем более полезно, что есть много людей, напрасно ищущих средств, как усовершенствовать свой ум и характер, даже если у них есть для этого и время, и желание. Но напоследок, сэр, хочу высказать мысль, что Ваша жизнь полезна и просто как биографическое известие. Этот вид литературы сейчас выходит из моды, а между тем он очень полезен и нужен. Ваш же труд может оказаться особенно уместным, ибо его можно будет сравнить с биографиями различных общественных бандитов и мошенников, либо аскетов-самоистязателей, либо литературных вертопрахов. Если он вызовет подражания, а людей заставит вести такую жизнь, о какой не стыдно написать, он будет стоить всех Плутарховых «Жизнеописаний» вместе взятых. Однако, устав воображать героя, все черты коего свойственны лишь одному человеку на свете, и притом воздерживаться от похвал, я хочу, дорогой доктор Франклин, закончить мое письмо обращением к Вам лично. Итак, дорогой сэр, я от души надеюсь, что Вы откроете миру Ваш подлинный облик, ибо в противном случае он, в силу общественных разногласий и клеветы, может оказаться искаженным. Принимая во внимание Ваш почтенный возраст, Вашу сдержанность и овобый склад мышления, трудно предположить, что кто-нибудь, кроме Вас самого, достаточно осведомлен о событиях Вашей жизни и о Ваших помыслах. Вдобавок ко всему грандиозный переворот, нами переживаемый, несомненно привлечет внимание к человеку, коему мы им обязаны, и, когда пойдет речь о его нравственных принципах, необходимо будет показать, что таковые действительно его подсказали; и поскольку изучаться будет в первую очередь Ваша личность, очень важно (даже в смысле ее влияния в Вашей обширной и растущей стране, не говоря уже об Англии и всей Европе), чтобы она предстала перед потомством всеми почитаемой и несокрушимой. Я всегда держался того мнения, что ради счастья человечества надлежит доказывать, что даже в наше время человек не есть порочное и отвратительное животное; а еще более — что мудрое влияние способно его исправить. И по этой же причине я жажду утвердить мнение, что среди людей существуют личности выдающиеся, ибо стоит только возобладать взгляду, будто все люди без исключения — великие грешники, как хорошие люди, изверившись в своих усилиях, махнут рукой и, чего доброго, сами ринутся в житейскую драку, а не то станут заботиться лишь о собственных удобствах. Так вот, дорогой сэр, возьмитесь за этот труд елико возможно скорее; покажите себя в нем таким добрым, как Вы есть, таким умеренным, как Вы есть, а главное — докажите, что Вы с детства любили справедливость, свободу и согласие, что и позволило Вам естественно и последовательно поступать так, как Вы поступали в течение последних семнадцати лет Вашей жизни. Пусть англичане не только уважают Вас, но и любят. Когда они научатся высоко ценить Ваших соотечественников, они станут высоко ценить и Ваше отечество; а когда Ваши соотечественники убедятся, что англичане их ценят, они научатся ценить Англию. Посмотрите на дело еще шире: не ограничивайтесь теми, кто говорит на английском языке, но, утвердив столько истин касательно природы и политики, подумайте об исправлении всего рода человеческого. Поскольку я не читал даже начала истории Вашей жизни, а только знаю человека, эту жизнь прожившего, я пишу в некотором роде наугад. Однако я уверен, что биография и упомянутый мною трактат (об «Искусстве добродетели») не обманут моих ожиданий, тем более если Вы согласитесь сообразовать эти труды с высказанными мною взглядами. Даже если Вам не удастся оправдать все надежды Вашего неунывающего почитателя, Вы, во всяком случае, создадите сочинение интересное для человеческого ума; а тот, кто порождает у других чувство невинной радости, приумножает светлую сторону нашей жизни, чересчур омраченной тревогами и отягченной страданием. Итак, пребывая в надежде, что Вы исполните желание, изъявленное в настоящем письме, остаюсь, дорогой сэр, и прочая и прочаяБендж. Воуэн.
Продолжение рассказа о моей жизни,
начато в Пасси близ Парижа, 1784
Прошло уже некоторое время с тех пор, как я получил вышеприведенные письма, но я был так занят, что не мог и подумать о том, чтобы выполнить содержащуюся в них просьбу. К тому же я мог бы сделать это гораздо лучше, если бы находился дома, среди моих бумаг, они подстегнули бы мою память и помогли бы уточнить даты; но поскольку срок моего возвращения еще не решен, а у меня сейчас выдался кое-какой досуг, я попытаюсь вспомнить и записать, что могу. Буде я доживу до возвращения домой, там я, возможно, кое-что исправлю и добавлю. Не имея здесь ни одной копии написанного ранее, я не помню, рассказал ли я, какие предпринял шаги для учреждения Филадельфийской публичной библиотеки, которая, начавшись с малого, ныне приобрела такое значение; однако помню, что довел свой рассказ примерно до того времени (1730). Поэтому я и теперь начну с рассказа о ней, а если окажется, что он уже написан, его можно будет изъять. В то время, когда я прочно поселился в Пенсильвании, ни в одной из колоний к югу от Бостона не было приличной книжной лавки. В Нью-Йорке и в Филадельфии печатники, по сути дела, торговали писчебумажными товарами, продавали только бумагу и проч., альманахи, баллады да кое-какие немудреные учебники. Любители чтения были вынуждены выписывать книги из Англии; у каждого из членов Хунты было небольшое количество собственных книг. Сперва мы собирались в харчевне, потом сняли комнату для собраний нашего клуба. Я предложил всем членам принести свои книги в эту комнату, где они не только были бы под рукой, если потребуется срочно навести справку, но и послужили бы на общую пользу, чтобы каждый мог взять любую из них и прочесть у себя дома. Мы так и сделали и некоторое время этим довольствовались. Убедившись, сколь полезным оказалось это маленькое собрание книг, я предложил расширить число участников, объявив подписку на публичную библиотеку. Я набросал план и устав и попросил искусного нотариуса мистера Чарльза Брокдена придать этим документам законную форму, согласно которой каждый подписчик обязывался внести определенную сумму на покупку книг, а затем вносить столько-то в год на пополнение библиотеки. Так мало читателей было в то время в Филадельфии, и большинство из них были так бедны, что мне при всем старании удалось найти всего пятьдесят человек, главным образом из молодых купцов, готовых заплатить по сорок шиллингов вступительного взноса и далее вносить по десять шиллингов в год. С этим маленьким капиталом мы и начали дело. Книги были выписаны и получены; библиотека была открыта один день в неделю, и в этот день подписчики брали книги на дом под обязательство заплатить двойную их стоимость, если они не будут возвращены в срок. Нашему примеру скоро последовали в других городах и в других провинциях. Библиотеки пополнялись благодаря пожертвованиям, чтение вошло в моду, и наши люди, за неимением общественных увеселений, которые могли бы отвлечь их от чтения, все больше тянулись к книгам, так что через несколько лет чужеземцы уже отмечали, что люди у нас более образованные и знающие, чем лица того же звания в других странах. Когда мы готовились подписать вышеупомянутый договор, связывавший нас или наших наследников на пятьдесят лет, нотариус мистер Брокден сказал нам: «Вы люди молодые, но трудно предположить, что кто-нибудь из вас доживет до истечения срока, указанного в этом документе». А между тем многие из нас живы до сих пор, однако самый документ через несколько лет потерял законную силу, так как его заменил новый устав, узаконивший нашу компанию на неограниченный срок. Возражения и колебания, с которыми я столкнулся, когда вербовал подписчиков, вскоре дали мне почувствовать, как невыгодно называть себя застрельщиком любого полезного начинания, ведь его сразу заподозрят в том, что он ставит себя хоть немножко да выше людей его окружающих, когда ему требуется их помощь в осуществлении этого начинания. Поэтому я по мере возможности молчал о себе, а толковал, что план, дескать, составила группа друзей, меня же они только просили представить его на рассмотрение тех, кого они почитают любителями чтения. Таким манером дело у меня пошло лучше, я стал прибегать к этой методе во всех подобных случаях и часто добивался успеха, почему и рекомендую ее от всей души. Небольшая жертва, которую вы приносите своему тщеславию, со временем сторицей окупится. Если на какое-то время останется неясным, кому принадлежит заслуга, кто-то, более тщеславный, чем вы, попытается приписать ее себе, а тогда даже завистники невольно воздадут вам должное и разоблачат самозванца. Библиотека дала мне возможность беспрерывно совершенствоваться чтением, на которое я неукоснительно отводил час или два в день, и таким образом до некоторой степени возместил ученые занятия, о которых некогда мечтал для меня отец. Чтение было единственным развлечением, какое я себе разрешал. Я не тратил времени на кабаки, азартные игры и прочие шалости, мое усердие в деле оставалось столь же неустанным, сколь было необходимо. На мне еще лежал долг за типографию, у меня подрастали дети, которых требовалось обучать, и я вынужден был соперничать с двумя печатниками, обосновавшимися в городе раньше меня. Однако с каждым днем трудности мои уменьшались. Я не изменял моим воздержанным привычкам, я с детства запомнил наставления отца, любившего повторять притчу Соломонову: «Если человек проворен в деле своем, он будет стоять перед царями, он не будет стоять перед простыми», — и почитал трудолюбие лучшим средством для достижения богатства и известности, что и придавало мне сил, хотя я и не думал, что мне предстоит когда-либо буквально стоять перед коронованными особами. Однако с тех пор именно это и произошло: я стоял перед пятью разными монархами и даже удостоился чести обедать за столом одного из них, короля датского. В Англии ходит поговорка: «Кто преуспеть желает, тому пусть жена помогает». Мне повезло: моя жена была столь же привержена трудолюбию и воздержности, сколь и я сам. Она с охотой помогала мне в моем деле, складывала и сшивала брошюры, сидела в лавке, скупала старое тряпье для бумажной фабрики и т. д. и т. д. Мы не держали бездельников — слуг, еда у нас была самая простая, мебель самая дешевая. Так, например, на утренний завтрак я долгое время довольствовался хлебом с молоком (чая не покупали) и ел оловянной ложкой из грошовой глиняной миски. Но заметьте, как вопреки правилам роскошь проникает в семейный уклад и пускает ростки: однажды, будучи позван завтракать, я увидел на столе перед собой фарфоровую миску и серебряную ложку! Их без моего ведома купила моя жена, заплатив огромные деньги, двадцать три шиллинга, и единственное, что она могла сказать в свое оправдание, — ей, мол, показалось, что ее муж заслуживает фарфоровой миски с серебряной ложкой не меньше, чем любой из его соседей. Так у нас в доме впервые появился фарфор и столовое серебро, а с годами, когда наше богатство приумножилось, того и другого у нас уже было на несколько сотен фунтов. Воспитан я был в пресвитерианской вере, и хотя некоторые догматы этого исповедания, такие, как судьбы божьи, предопределение, вечное проклятие, казались мне непонятными, а другие сомнительными, и хотя я давно перестал посещать молитвенные собрания своей секты, поскольку воскресенье отводил ученым занятиям, однако каких-то религиозных правил всегда придерживался. Так, я никогда не сомневался в существовании божественного начала, сотворившего мир и правящего им; а также в том, что наиболее угодная богу служба — это делать людям добро; и в том, что душа бессмертна, а всякое преступление влечет за собой наказание, добродетель же будет вознаграждена либо в сей жизни, либо за гробом. Эти положения я почитал основой любой религии, поскольку усматривал их во всех исповеданиях, принятых в нашей стране; все их я уважал, хотя и в разной мере, смотря по тому, много или мало к ним примешивалось других догматов, которые, не будучи направлены к насаждению, повышению и укреплению нравственности, служили главным образом тому, чтобы разъединять людей и сеять между ними вражду. Уважая все вероисповедания и будучи убежден, что любое из них способно оказать благое воздействие, я избегал всяких споров, могущих поколебать моего противника в его вере; и поскольку население нашей провинции росло и для прихожан любого толка требовалось все больше молитвенных зданий, возводившихся обычно на доброхотные даяния, я никогда не отказывался внести и свою лепту на такие дела. Хотя и редко бывая в церкви, я все же полагал, что богослужения и похвальны, и полезны, если проводить их как надобно, и неукоснительно платил ежегодный взнос на содержание единственной у нас в Филадельфии пресвитерианской церкви. Священник этой церкви порой навещал меня на правах друга, уговаривал приходить на богослужения, и бывало, что я поддавался его уговорам, один раз даже ходил в церковь пять воскресений подряд. Будь он хорошим проповедником, я, возможно, и продолжал бы в том же духе, как ни мало воскресного досуга мне оставляли мои занятия; но речи его сводились либо к полемике, либо к разъяснению узких доктрин нашей секты и были сухи, неинтересны и ненравоучительны, потому что он не призывал к соблюдению каких-либо нравственных правил и, казалось, старался сделать нас не достойными гражданами, а всего лишь пресвитерианами. Однажды он выбрал темой для своей проповеди следующий стих из четвертой главы Послания к Филиппийцам: «Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте». И я вообразил, что в проповеди на эту тему будет содержаться какой-нибудь призыв к нравственности. Но он ограничился перечислением пяти пунктов, которые якобы имел в виду апостол, а именно: 1. Соблюдать день субботний. 2. Прилежно читать Святое писание. 3. Посещать богослужения. 4. Причащаться святых тайн. 5. Оказывать уважение служителям церкви. Все это, возможно, и хорошо, но так как это не то хорошее, чего я ждал от проповеди на такую тему, я отчаялся услышать что-либо ценное и в любой другой его проповеди, возмутился и больше не ходил его слушать. За несколько лет до того (то есть в 1728 году) я сочинил для себя краткую литургию или молитву, озаглавленную «Догматы веры и поведение верующего». Ею я и стал снова пользоваться, а посещать богослужения перестал. Такой образ действий, возможно, достоин осуждения, но оправдываться я не намерен, ибо сейчас моя цель — излагать факты и не подыскивать для них оправдания. Примерно в это же время у меня зародился смелый, даже дерзостный план: достичь морального совершенства. Я хотел жить, не совершая грехов и проступков; решил побороть все то, на что меня толкала либо врожденная склонность, либо привычка, либо чужие примеры. Зная, или воображая, что знаю, что хорошо, а что дурно, я не видел причин, почему бы мне всегда не следовать первому и не избегать второго. Но вскоре я убедился, что задача эта труднее, нежели я предполагал. Пока я всеми силами остерегался одного греха, меня настигал другой; привычка вступала в свои права, чуть ослабевало внимание; склонность порой оказывалась сильнее разума. Наконец я пришел к заключению, что одного умозрительного убеждения, будто в наших интересах быть безупречно добродетельным недостаточно для того, чтобы оградить себя от повторных падений, и прежде чем успокоиться на мысли, что отныне поведение твое будет неизменно правильным, необходимо избавиться от скверных привычек, приобрести благие привычки и утвердиться в них. И для этого я выработал некую методу. Среди различных перечней нравственных добродетелей, какие мне доводилось читать, были и более и менее длинные, в зависимости от того, больше или меньше понятий писавшие объединяли под одной рубрикой. Например, воздержность одни сводили только к еде и питью, другие же полагали, что воздерживаться следует и от всех других удовольствий, аппетитов, склонностей и страстей как телесных, так и духовных, вплоть до скупости и честолюбия. Я решил, ясности ради, предпочесть больше рубрик и под каждой меньше понятий, а не мало рубрик, объединяющих больше понятий; и в тринадцать рубрик включил все, что в то время казалось мне необходимым и желательным, присовокупив в каждом случае краткое наставление, из которого явствовало, как я ту или иную добродетель понимал.1. Воздержность. Не ешь до отупения, не пей до опьянения. 2. Молчаливость. Говори лишь то, что может послужить на пользу другим или тебе самому. 3. Любовь к порядку. Пусть для каждой твоей вещи будет свое место; пусть для каждого твоего дела будет свое время. 4. Решительность. Решай делать то, что должно; а то, что решил, выполняй неуклонно. 5. Бережливость. Позволяй себе только те расходы, что принесут пользу другим или тебе самому; ничего не растрачивай попусту. 6. Трудолюбие. Не теряй времени; всегда будь занят чем-нибудь полезным; отменяй все необязательные дела. 7. Искренность. Не прибегай к пагубному обману: пусть мысли твои будут невинны и справедливы; а если говоришь, то пусть такими же будут и слова. 8. Справедливость. Никогда не обижай людей, причиняя им зло или не делая добра, как велит долг. 9. Умеренность. Избегай крайностей; не держи обиды за причиненное тебе зло, даже если думаешь, что оно того заслуживает. 10. Чистоплотность. Не допускай ни малейшей грязи ни на себе, ни в одежде, ни в доме. 11. Спокойствие. Не волнуйся из-за пустяков, из-за происшествий мелких либо неизбежных. 12. Целомудрие. Похоти предавайся редко, единственно для здоровья или для продления рода; не допускай, чтобы она привела к отупению, или к слабости, либо лишила душевного покоя или бросила тень на доброе имя твое или чье-либо еще. 13. Кротость. Следуй примеру Иисуса и Сократа.
Так как намерением моим было сделать все эти добродетели привычными, я решил не рассеивать моего внимания, пытаясь овладеть всеми сразу, но сосредоточивать его одновременно лишь на одной; овладев же ею, переходить к следующей и так далее вплоть до тринадцатой; а так как овладение одной могло облегчить овладение некоторыми другими, я расположил их в том порядке, в каком они приведены выше. На первом месте — Воздержность, ибо она способствует сохранению ясной головы, столь необходимой в условиях, когда мне следовало все время быть начеку и бдительно уберегать себя от привлекательности старых привычек и непрестанных соблазнов. Утвердившись в этой добродетели, думал я, легче будет привыкать к Молчаливости; и так как желанием моим было одновременно с совершенствованием в добродетелях приобретать знания, и притом что приобретать знания в беседе помогает не столько язык, сколько уши, а значит, нужно отделаться от свойственной мне привычки трепать языком, шутить и каламбурить, за что меня любили только в малопочтенной компании, я поставил Молчаливость на второе место. Я надеялся, что эта и следующая за нею добродетель, Любовь к порядку, дадут мне больше времени для осуществления моих планов и для занятий. Решительность, став привычной, поможет мне в попытках приобрести все остальные добродетели; Бережливость и Трудолюбие, избавив меня от еще лежавших на мне долгов и дав мне благосостояние и независимость, облегчат мне проявления Искренности и Справедливости и т. д. и т. д. А затем, понимая, что мне, следуя совету Пифагора, высказанному им в «Золотых стихах»{168}, понадобится ежедневно себя проверять, я выработал для такой проверки следующую методу. Я смастерил книжечку, в которой отвел по странице для каждой добродетели. Каждую страницу я разлиновал красными чернилами на семь столбцов, обозначив их начальными буквами дней недели. А поперек этих столбцов провел тринадцать красных линий, расположив в начале каждой из них первую букву одной из добродетелей, с тем чтобы в нужной клетке отмечать черной точкой все случаи, когда при проверке окажется, что в такой-то день я погрешил против такой-то добродетели.

Я решил в течение недели уделять исключительное внимание какой-нибудь одной добродетели. Так, в первую неделю я особенно старался не погрешить против Воздержности, об остальных же добродетелях заботиться лишь попутно и только отмечая каждый вечер проступки минувшего дня. Мне казалось, что если в первую неделю удастся сохранить без пометок первую строку, обозначенную В., то в следующую неделю я могу распространить свое внимание и на вторую и уже в ближайшую неделю обе первые строки останутся без пометок. Продвигаясь таким образом дальше, я закончу полный курс за тринадцать недель, а за год проделаю четыре курса. И подобно тому как человек, задумавший прополоть свой огород, не пытается повыдергать все сорняки сразу, что было бы ему не по силам, а работает на одной грядке и лишь закончив ее, переходит к следующей, так и я надеялся радоваться и вдохновляться при виде того, как я преуспеваю в добродетелях, как чистых строк становится все больше, и наконец, проделав несколько курсов, я после тринадцатинедельной проверки с восторгом убеждаюсь, что вижу перед собой целую чистую страницу. Эпиграфом к моей книжечке я взял следующие строки из Аддисонова «Катона»{169}:


Я принялся выполнять свой план самопроверки и занимался этим довольно долго, с редкими перерывами. Меня удивило, что грехов у меня куда больше, чем я думал; но я с удовлетворением отмечал, что их становится меньше. Чтобы избавить себя от труда заводить новую книжечку взамен старой, которая вся продырявилась, когда я стирал и соскабливал с бумаги отметки о старых проступках, освобождая место для новых отметок, я перенес мои таблицы и наставления на пластинки слоновой кости, разлинованные прочными красными чернилами, а пометки делал черным карандашом, и они по мере надобности легко стирались мокрой губкой. Впоследствии я стал проделывать всего один курс в год, затем и в несколько лет, а в конце концов и вовсе их забросил, будучи занят путешествиями, работой за морем и тысячью всяких дел; но книжечку мою всегда носил с собой. Больше всего забот доставлял мне пункт касательно порядка; я увидел, что наставления мои, возможно, и выполнимы для человека, чьи обязанности позволяют ему свободно распоряжаться своим временем, например — для странствующего печатника; но для хозяина, вынужденного общаться с многими людьми, причем они нередко сами выбирают время для деловых свиданий, такая задача просто непосильна. Очень трудно было также привыкнуть держать в порядке, в определенных местах, бумаги и другие вещи. С детства я не был к этому приучен, и так как память у меня была отменная, не ощущал особенных неудобств от своей безалаберности. Короче говоря, соображения порядка так отвлекали мое внимание, и неудачи так меня огорчали, а успехи были так ничтожны, и я так часто срывался снова, что уже готов был отказаться от дальнейших попыток и удовольствоваться и пом отношении неполным успехом, как тот человек, который, купив у моего соседа-кузнеца топор, пожелал, чтобы вся его лопасть блестела так же, как лезвие. Кузнец согласился отточить топор до полного блеска, если купивший сам будет крутить ворот; тот стал крутить, а кузнец крепко прижимал лопасть к точильному камню, так что крутить было очень утомительно. Покупатель время от времени подходил к нему посмотреть, как идет дело, и уже согласен был взять топор какой есть. «Нет, — сказал кузнец, — крути, крути, он у нас весь заблестит, а пока он еще пегий». — «Верно, — сказал тот, — но мне пегий топор, пожалуй, больше нравится»{172}. И я полагаю, что такое мнение разделяют многие, кто, не придумав, в отличие от меня, системы, убеждались, как трудно отделываться от старых привычек и приобретать новые, отказывались от дальнейших усилий и приходили к выводу, что «пегий топор лучше». Ведь нечто, выдававшее себя за разум, порой нашептывало и мне, что моя крайняя требовательность к себе есть, возможно, своего рода моральное чистоплюйство и, когда бы о нем узнали, меня подняли бы на смех; что безупречный характер имеет свои неудобства, а именно может вызвать зависть и даже ненависть; и что человеку благожелательному следует иметь кое-какие недостатки, дабы не отпугивать друзей. Да, в отношении Порядка я оказался неисправим; и теперь, когда я стар и память моя ослабела, я очень явственно это ощущаю. В общем же, хотя я так и не достиг совершенства, которого столь честолюбиво домогался, все же благодаря моим усилиям я стал и лучше и счастливее, нежели был бы, если бы не приложил этих усилий; подобно тем, кто, задавшись целью писать безукоризненно и для этого копируя гравированные тексты, хоть и не достигают в этих копиях желанного совершенства, однако почерк их улучшается и, оставаясь разборчивым, даже производит приятное впечатление. Я думаю, моим потомкам полезно будет узнать, что с помощью этой маленькой уловки их предок, с благословения божиего, обрел безоблачное счастье всей своей жизни вплоть до семидесятидевятилетнего возраста, когда пишутся эти строки. Какие невзгоды уготованы ему на оставшееся время — это в руке провидения; но если они его настигнут, размышления о минувшем счастье помогут ему сносить их с большим смирением. Воздержности он обязан тем, что так долго не знал болезней и до сих пор не жалуется на здоровье; Трудолюбию и Бережливости — тем, что рано вышел из бедности и приобрел достаток, а с ним и знания, позволившие ему стать полезным гражданином и удостоиться внимания в ученых кругах; Искренности и Справедливости — тем, что заслужил доверие своей родины и почетные миссии, какие она на него возложила, а влиянию всех добродетелей вместе взятых, хотя ни в одной из них он не достиг совершенства, — тем, что ровный нрав и бодрость в беседе заставляют даже младших его знакомцев до сих пор еще искать его общества. Это и позволяет мне надеяться, что хотя бы некоторые из моих потомков последуют моему примеру и получат от этого выгоду. Многие заметят, что хотя в моем плане я не вовсе умолчал о религии, в нем ни разу не упомянуты догмы какого-нибудь одного вероисповедания. Я этого умышленно избегал, ибо, будучи убежден в полезности и ценности моей методы, полагал, что она может пригодиться людям любого исповедания, и, намереваясь когда-нибудь ее обнародовать, не хотел, чтобы она вызвала возражения от кого бы то ни было. Я собирался написать о каждой из добродетелей небольшое введение, в котором показал бы, какие преимущества она дает усвоившему ее и как пагубен противоположный ей порок; и это сочинение я озаглавил бы «Искусство добродетели»[90], потому что оно указывало бы пути приобретения добродетелей, тем отличаясь от пустых призывов к праведности, которые ничему не учат, но подобны человеку в апостольском послании, который призывал нагих и голодных насыщаться и греться, не указывая им, где и как добывать одежду и пропитание (Послание Иакова, 22, 15–16). Но случилось так, что мое намерение написать и обнародовать это введение не было осуществлено. Правда, время от времени я записывал впрок кое-какие мнения, доводы и т. п. и некоторые из этих записей у меня сохранились; но главную работу я все откладывал — сперва слишком занятый устройством моих личных дел, а позже — делами общественными; а работа эта должна была стать частью обширного и подробного труда, который потребовал бы всех моих сил без остатка; поскольку же приступить к нему мне мешали одно за другим разные непредвиденные занятия, он и до сего дня не закончен. В этом труде я хотел разъяснить и провести в жизнь следующие положения: порочное поведение пагубно не потому, что запрещено, оно запрещено, потому что пагубно, если принимать в расчет человеческую природу; поэтому быть добродетельным — в интересах каждого, кто хочет быть счастливым уже в этой жизни; а исходя из сего обстоятельства (поскольку на свете есть достаточно богатых купцов, знатных и коронованных особ, нуждающихся в честных подчиненных для управления их делами, а такие попадаются редко), — я попытался бы убедить молодых, что первейшие качества, могущие принести бедняку достаток, суть неподкупность и честность. Сначала мой список добродетелей содержал их только двенадцать; но после того как один мой друг, квакер, любезно сообщил мне, что меня считают гордецом, что гордыня моя часто проявляется в разговоре, что в спорах я не только стремлюсь оказаться правым, но веду себя заносчиво и дерзко, в чем он убедил меня, приведя несколько примеров, я решил по возможности излечиться и от этого порока или недостатка и добавил к списку Кротость, истолковав это слово в широком смысле. Не могу сказать, чтобы я добился успеха по существу этой добродетели, скорее мне удалось приобрести видимость ее. Я взял за правило сдерживать себя, возражая против чужих мнений и утверждая свои. Я даже запретил себе, в согласии с давнишним правилом нашей Хунты, употреблять какие-либо слова или обороты, выражающие категорическое мнение, такие, как «несомненно, безусловно» и т. п., а вместо этого стал говорить: то-то и то-то «мне сдается», или «представляется мне в настоящее время». Услышав заявление, показавшееся мне ошибочным, я отказывал себе в удовольствии резко перебить собеседника и тут же указать на какую-нибудь нелепость в его доводах; а свой ответ начинал с замечания, что в иных случаях или обстоятельствах он был бы прав, но в данном случае мне кажется или сдается, что он погрешил против истины. Вскоре я убедился в преимуществах этой новой для меня манеры: разговоры с моим участием стали проходить приятнее. Скромный тон, каким я выражал свои мнения, обеспечивал им более снисходительный прием и вызывал меньше противодействия; я уже не так сильно огорчался, когда оказывался неправ, и мне легче становилосьубедить моих противников отказаться от их ошибок и поддержать меня, когда мне случалось быть правым. Со временем такое поведение, ради которого я вначале насиловал мою врожденную склонность, стало даваться мне легко, превратилось в привычку, и за последние пятьдесят лет никто, полагаю, не слышал, чтобы у меня вырвалось какое-нибудь категорическое суждение. И этой привычке (наряду с установившейся за мною славой честного человека) я, вероятно, обязан тем, что мои сограждане так уважительно ко мне прислушивались, когда я предлагал учредить какое-нибудь новое предприятие или внести изменения в уже существующее, и что я приобрел влияние в общественных советах, когда вошел в их состав; ибо оратором я был неважным, красноречием не отличался, был нерешителен в выборе слов, допускал ошибки в языке, а между тем обычно одерживал верх над своими противниками. Правду сказать, из всех страстей наших ни одну, пожалуй, так не трудно обуздать, как гордыню. Сколько ты ее ни скрывай, сколько ни борись с ней, ни пытайся ее задушить, растоптать, изничтожить, а она все живет, и нет-нет да и дает о себе знать. В настоящем повествовании вы, возможно, найдете тому много примеров, ведь, даже убедив себя, что я ее преодолел, я, вероятно, гордился бы своим смирением. (До сих пор написано в Пасси в 1784 году).
Отныне, с августа 1788 года, я буду писать дома, но без той помощи, какой ожидал от моих бумаг, многие из них пропали во время войны. Кое-что, впрочем, нашлось, например, следующее.Раз уж я упомянул о задуманном мною обширном и подробном труде, следует, видимо, рассказать об этом труде и о той цели, для которой он предназначался. Первые мысли о нем записаны на случайно сохранившихся листках, и я привожу их ниже: Наблюдения, сделанные после чтения книг по истории в библиотеке мая 1-го 1731 года. «Что важнейшие события в мире, войны, революции и проч., подготавливаются и совершаются политическими партиями. Что взгляды этих партий соответствуют их интересам или тому, что они считают таковыми. Что различные взгляды этих различных партий приводят к великой путанице. Что, если партия выполняет какой-то общий план, каждый ее член имеет в виду свой личный интерес. Что стоит партии добиться общей победы, как каждый ее член начинает радеть о своем личном интересе; а это сеет рознь, разбивает партию на группы и приводит к еще большей путанице. Что в общественных делах лишь немногие действуют, имея в виду благо родины, что бы они ни утверждали на словах; и хотя их действия действительно идут на пользу родине, однако люди полагают, что их собственные интересы и интересы их родины — одно, и действуют не из благожелательных побуждений. Что еще меньше есть людей, которые, участвуя в общих делах, имеют в виду благо всего человечества. Мне представляется, что сейчас самое время основать Единую Партию Радеющих о Добродетели, для чего собрать добродетельных и праведных людей всех стран в организацию, подчиненную мудрым и добрым правилам, которые мудрые и добрые люди будут соблюдать более единодушно, нежели обычные люди ныне соблюдают обычные законы. Я полагаю, что всякий, кто возьмется за эту задачу, сделает угодное господу и достигнет успеха. Б. Ф.».
Обдумывая этот план, с тем чтобы заняться им позднее, когда мои обстоятельства оставят мне для этого необходимый досуг, я время от времени набрасывал на листках бумаги кое-какие мысли на этот счет. Почти все листки пропали; но один я нашел: это суть будущей веры, содержащей, по моей мысли, главные положения всех известных религий и свободной от всего, что могло бы отвратить исповедующих любую религию. Выражена она в таких словах: «Что есть единый бог, сотворивший всё. Что он правит миром с помощью своего промысла. Что служение ему включает поклонение, молитву и благодарение. Но что самое угодное богу служение — это делать добро людям. Что душа бессмертна. И что бог безусловно наградит добродетель и накажет порок либо в сей жизни, либо за гробом». Мне в то время представлялось, что для начала в нашу веру следует обращать только людей молодых и неженатых; что каждый кандидат должен заявить о своем согласии с этим символом веры, но и успеть поупражняться по тринадцатинедельной системе в проявлении и проверке добродетелей по вышеприведенному образцу; что существование такого общества следует держать в секрете, пока оно не наберет силу, дабы в его ряды не устремились неподходящие люди; но каждый из членов должен приглядеть среди своих знакомых образованных и доброжелательных людей и постепенно, с надлежащей осмотрительностью, приобщать их к нашему замыслу; что члены должны обязаться словом и делом оказывать друг другу поддержку ради их успехов на жизненном пути и что назвать себя мы должны Обществом Свободных, ибо, упражняясь в добродетелях, мы стали свободны от власти порока, а упражняясь в трудолюбии и бережливости — свободны от долгов, обрекающих человека на рабскую зависимость от его кредиторов. Вот, пожалуй, и все, что я могу сейчас вспомнить касательно этого замысла, если не считать, что я сообщил о нем двум молодым людям, которые приняли его с большим воодушевлением; но стесненные обстоятельства, в которых я тогда находился, необходимость уделять все внимание моему делу и несчетные занятия, личные и общественные, привели к тому, что дальше этого я в то время не пошел, все откладывал и откладывал, а потом у меня уже не было сил и энергии для такой деятельности. Но я и теперь полагаю, что план мой был осуществим и мы бы принесли большую пользу, воспитав множество достойных граждан; и обширность этого предприятия не смущала меня, ибо я всегда считал, что один человек, даже средних способностей, в силах произвести большие перемены и совершить большие дела, если, прежде чем браться за них, составит правильный план и, отказавшись от всяких развлечений и посторонних занятий, целиком посвятит себя усовершенствованию и выполнению этого плана. В 1732 году я, под псевдонимом Ричард Саундерс, начал выпускать мой календарь и выпускал его около 25 лет обычно под названием «Альманах простака Ричарда»{173}. Я пытался сделать его и занимательным и полезным, и спрос на него оказался так велик, что он ежегодно расходился в 10 000 экземпляров и приносил мне изрядный доход. Заметив, сколько разных людей его читают, — во всей провинции не было, кажется, уголка, где бы о нем не слышали, — я решил, что это подходящее орудие для просвещения простых людей, которые других книг почти не покупали; поэтому все промежутки между знаменательными календарными датами я стал заполнять назидательными пословицами, главным образом рисующими трудолюбие и бережливость как средства для приобретения богатства, а тем самым и добродетели, ибо человеку неимущему труднее всегда поступать честно, недаром одна из тех пословиц говорит: «Пустой мешок стоять не будет». Эти пословицы, содержащие мудрость многих веков и народов, я собрал в единое наставление и предпослал альманаху 1757 года в виде обращения мудрого старика к людям, пришедшим на аукцион. Будучи собраны воедино, советы эти производили более сильное впечатление. Сочинение мое было встречено с единодушным одобрением и приведено во всех газетах Америки. В Англии его перепечатали на отдельных листах для расклейки в комнатах, во Франции сделали два перевода, и много экземпляров было куплено духовенством и землевладельцами для бесплатной раздачи прихожанам и арендаторам. Поскольку в нем содержался призыв воздерживаться от лишних трат на заморские предметы роскоши, в Пенсильвании сложилось мнение, что оно способствовало росту благосостояния, наблюдавшемуся там несколько лет после его опубликования. Мою газету я тоже рассматривал как средство просвещения и поэтому часто перепечатывал в ней очерки из «Зрителя» и других нравоучительных журналов; а иногда помещал в ней и собственные статейки, первоначально предназначенные для прочтения в нашей Хунте. Среди них есть сократический диалог, имеющий целью доказать, что человек порочный, каковы бы ни были его таланты и способности, не может почитаться разумным, и рассуждение на тему о самоотречении, из коего явствует, что добродетель не прочна, пока упражнение в ней не стало привычкой и она не освободилась от власти противоположных склонностей. То и другое можно прочитать в газетах от начала 1735 года. Составляя мою газету, я неуклонно отметал всякую клевету и злоязычие, ставшие в последние годы таким позором для нашей страны. Всякий раз как меня просили поместить такой материал и авторы, как водится, ссылались на свободу печати и уверяли, что газета подобна дилижансу, в котором волен ездить любой, лишь бы заплатил за место, я отвечал, что, если автор пожелает, я могу отпечатать его труд отдельно, в любом количестве экземпляров, и пусть сам ими распоряжается, я же не берусь распространять его пасквили; и что, связав себя с подписчиками обязательством поставлять им чтение либо полезное, либо занимательное, не могу их обижать, заполняя газету чьими-то дрязгами, не имеющими к ним никакого касательства. Надо сказать, что многие наши печатники не стесняются в угоду злопыхателям печатать лживые измышления о самых достойных людях и тем раздувать вражду и даже доводить дело до дуэлей; более того, они позволяют себе непристойно отзываться о порядках в соседних штатах и даже о поведении наших верных союзников в других странах, что чревато самыми плачевными последствиями. Я упоминаю об этом в виде предостережения нашим молодым печатникам, чтобы они не оскверняли своих станков и не унижали своей профессии этой постыдной практикой, но твердо отказывались ей следовать, лишний раз убедившись на моем примере, что в конечном счете такой образ действий не повредит их интересам. В 1733 году я послал одного из моих подмастерьев в Чарльстон, что в Южной Каролине, где требовался печатник. Я снабдил его станком и шрифтами по договору о товариществе, согласно которому мне причиталась одна треть доходов от типографии, я же брал на себя одну треть расходов. Это был человек образованный и честный, но ничего не смысливший в бухгалтерии; и хотя он время от времени присылал мне деньги, я до самой его смерти не мог добиться от него ни отчетов, ни точных сведений о нашем товариществе. Когда же он умер, типография перешла в ведение его вдовы, а она, будучи рождена и воспитана в Голландии, где, как мне стало известно, бухгалтерия входит в курс женского образования, не только прислала мне по возможности полный отчет о совершенных сделках, но и далее продолжала в них отчитываться регулярно за каждый квартал и вела дело столь успешно, что не только дала приличное образование всем своим детям, но по истечении срока нашего договора смогла выкупить у меня типографию и поставить во главе ее своего сына. Я упоминаю об этом главным образом с тем, чтобы рекомендовать этот предмет для обучения наших девушек, ибо в случае, если они овдовеют, он может пригодиться им больше, нежели музыка и танцы, оградит их от происков коварных обманщиков, посягающих на их деньги, и позволит и дальше успешно возглавлять прибыльное коммерческое дело, пока не подрастет сын, которому можно будет его передать; и все это надолго послужит интересам и обогащению семьи. Году примерно в 1734 к нам прибыл из Ирландии молодой пресвитерианский священник, некто Хемфилл, который произносил звучным голосом и, по-видимому экспромтом, великолепные проповеди, собиравшие множество людей разных исповеданий, дружно им восхищавшихся. Среди прочих и я постоянно ходил его слушать, проповеди его мне нравились, потому что он не был догматиком, а делал упор на упражнения в добродетелях, или, выражаясь по-церковному, на добрых делах. Однако те из наших прихожан, что считали себя правоверными пресвитерианами, не одобряли его учения, так же как и большинство старых священников, те подали на него жалобу в синод как на еретика, чтобы добиться его отстранения от должности. Я горячо принял его сторону и приложил все усилия, чтобы сколотить группу в его защиту, и некоторое время мы боролись за него с надеждой на успех. По этому поводу много чего было написано «за» и «против», а когда выяснилось, что говорит он превосходно, но пишет весьма посредственно, я предложил ему мое перо и написал от его имени два или три памфлета и еще статью для газеты в апреле 1735 года. Эти памфлеты, как то обычно бывает с полемическими писаниями, в свое время читались нарасхват, но вскоре утратили свою злободневность, и едва ли до наших дней сохранился хотя бы один экземпляр. Во время этого спора случилось одно обстоятельство, чрезвычайно ему повредившее. Кто-то из его противников слышал его проповедь, вызвавшую большое восхищение, и припомнил, что где-то читал ее раньше, если не всю, то частями. Поискав, он нашел большие выдержки из нее в одном из британских «Обозрений» — то была проповедь доктора Фостера. Это открытие возмутило многих из нашей группы, они отказали ему в поддержке и тем приблизили наше поражение в синоде. Я, однако, не отступился от него, считая, что лучше пусть он читает нам хорошие проповеди, сочиненные другими, чем плохие собственного сочинения, хотя последнее было более принято. Впоследствии он признался мне, что ни одной своей проповеди не сочинил сам, просто у него замечательная память, что позволяет ему запомнить и повторить любую проповедь после одного-единственного прочтения. После нашего поражения он от нас уехал искать счастья в других палестинах, а я навсегда перестал ходить в церковь, хотя и продолжал еще много лет давать деньги на содержание священников. В 1732 году я стал изучать языки. Французским я скоро овладел настолько, что мог с легкостью читать книги. Затем перешел к итальянскому. Один мой знакомый, тоже изучавший этот язык, частенько соблазнял меня сыграть с ним в шахматы. Убедившись, что это отнимает у меня слишком много времени, отведенного для занятий, я сказал, что больше играть не буду, разве что на одном условии: после каждой партии выигравший получает право задать урок либо на запоминание грамматических правил, либо на перевод и проч., и этот урок проигравший дает честное слово выполнить до нашей следующей встречи. Играли мы с ним примерно одинаково и таким образом вколачивали иностранный язык друг другу в голову. Позже я приналег на испанский и научился читать книги также и на этом языке. Я уже упоминал, что латынь изучал когда-то в школе всего один год, после чего совсем ее забросил. Но, освоившись с французским, итальянским и испанским, я, просматривая однажды латинскую Библию, обнаружил, что понимаю гораздо больше, чем ожидал, и это подтолкнуло меня снова заняться латынью, на сей раз с успехом, так как знание этих языков послужило мне хорошей подготовкой. Это навело меня на мысль, что в обучении иностранным языкам мы проявляем известную непоследовательность. Нам внушают, что начинать следует с латыни, потому-де, что, зная ее, легче будет овладеть современными языками, которые от нее произошли, а между тем мы ведь не начинаем с древнегреческого, чтобы легче овладеть латынью. Правда, если взобраться по лестнице до самого верха, не касаясь ногами ступенек, спускаться по ним будет легче; но правда и то, что если начать с нижней ступеньки, легче будет добраться до верху. Поэтому я и предлагаю тем, кто занят образованием нашей молодежи, подумать, не лучше ли начинать с французского, затем переходить к итальянскому и т. д., поскольку, начав с латыни, многие бросят ее, проучившись несколько лет и не достигнув особенных успехов, так что все выученное останется без пользы и время окажется потраченным впустую; если же, потратив столько же времени на занятия, они так и не доберутся до латыни, то хотя бы успеют овладеть двумя-тремя языками, поныне находящимися в употреблении, а это может им очень пригодиться в жизни. Я десять лет не был в Бостоне, и вот теперь, когда достиг благосостояния и мог себе это позволить, я побывал там и навестил родных. На обратном пути я заглянул в Ньюпорт к брату, который обосновался там со своей типографией. Давние наши раздоры были забыты, мы встретились очень сердечно и дружески. Его здоровье уже сильно пошатнулось, и он, предвидя, что долго не протянет, просил меня после его смерти взять к себе его сына, в то время десятилетнего мальчика, и вырастить из него печатника. Я выполнил его просьбу, но прежде чем обучить мальчика ремеслу, на несколько лет отдал его в школу. Пока он подрастал, дело вела его мать, а потом я подарил ему набор новых шрифтов, потому что отцовские поизносились. Таким образом я сторицей заплатил брату за то, что некогда лишил его своих услуг, сбежав от него раньше времени. В 1736 году умер, заразившись оспой, один из моих сыновей, крепкий четырехлетний мальчуган. Я горько и долго раскаивался и до сих пор раскаиваюсь в том, что не сделал ему прививки. Упоминаю об этом для сведения тех родителей, которые уклоняются от прививки оспы детям под тем предлогом, что не простили бы себе, если бы ребенок умер от прививки. Мой пример показывает, что напрасных сожалений не избежать и в том и в другом случае, а раз так, нужно выбирать более безопасный путь. Наш клуб Хунта оказался столь полезным и все мы столь высоко его ценили, что иные пожелали ввести в его состав своих друзей, но это значило бы превысить число членов, которое мы сочли наилучшим, то есть двенадцать. С самого начала мы взяли за правило держать свой клуб в тайне и в общем это правило соблюдали; целью нашей при этом было избежать просьб о приеме в члены со стороны неподходящих людей, иным из которых, возможно, было бы нелегко отказать. Я тоже был против увеличения числа членов, но вместо этого составил в письменном виде план, чтобы каждый из членов попытался основать клуб, ответвленный от нашего, с такими же правилами касательно обсуждения разных вопросов и т. п. и не сообщая членам этого нового клуба о его связи с Хунтой. Это сулило следующие преимущества: воспитание участием в этих кружках еще многих и многих молодых граждан; возможность лучше узнавать настроения жителей города касательно любых событий (члены Хунты могли бы подсказывать, какие вопросы мы считаем желательным ставить на обсуждение) и докладывать Хунте о том, как прошли эти обсуждения в том или ином клубе; содействие нашим интересам в деловой жизни и усиление нашего влияния в общественных делах, а также возможность делать добро, распространяя взгляды Хунты во всех этих новых клубах. План мой был одобрен, и все члены взялись основать по клубу, но не всем это удалось. Было учреждено всего пять или шесть новых кружков, получивших такие названия, как «Лоза», «Союз», «Отряд» и др. Каждый из них оказался полезен для своих членов, а нам доставил множество развлечений, обогатил нас множеством сведений и в большой мере содействовал нашему намерению влиять на общественное мнение в определенных случаях, примеры чего будут приведены по ходу моего повествования. Моим первым успехом на служебном поприще было избрание меня в 1736 году на должность секретаря Законодательной ассамблеи. В том году избрание прошло без малейшего противодействия, но в следующем, когда меня снова выдвинули (секретаря, как и членов Ассамблеи, переизбирали ежегодно), один из новых членов разразился длинной речью против меня, в пользу какого-то другого кандидата. И все-таки выбран оказался я, что было мне тем более приятно, так как эта должность, не говоря уже о жалованье, обеспечивала мне больше внимания со стороны членов Ассамблеи и мне поручали печатать отчеты о заседаниях, законы, бумажные деньги и проч., а работа эта обычно бывала очень выгодной. Поэтому мне пришлось весьма не по душе противодействие этого нового члена, господина богатого и образованного, к тому же наделенного талантами, благодаря которым он мог со временем забрать большую силу в Ассамблее, что и произошло. Но я не намерен был перед ним лебезить, домогаясь его благосклонности, а пошел по другому пути. Прослышав, что в библиотеке его имеется одна очень редкая и любопытная книга, я написал ему письмо, в котором выражал желание прочесть эту книгу и просил дать ее мне на несколько дней. Он тотчас прислал ее мне, а я через неделю ее возвратил, с новым письмом, на сей раз благодарственным. Когда мы после этого встретились в Ассамблее, он заговорил со мной (чего раньше не бывало), причем весьма учтиво; и еще раз выразил готовность выручать меня по мере сил, так что мы стали друзьями и дружба наша продолжалась до самой его смерти. Это еще одно подтверждение старой истины, которую я уже давно усвоил, а именно: «Тот, кто один раз оказал тебе услугу, скорее окажет тебе и другую, нежели тот, кому ты сам услужил». И это показывает, насколько выгоднее оставить враждебный выпад против тебя без внимания, нежели обидеться, затаить зло и платить той же монетой. В 1737 году полковник Спотсвуд{174}, бывший губернатор Виргинии, а затем начальник почтового ведомства, будучи недоволен работой своего подчиненного в Филадельфии, чьи отчеты поступали нерегулярно и страдали неточностью, отстранил его от должности и предложил ее мне. Я охотно согласился и не пожалел об этом, ибо хотя жалованье было невелико, мне стало легче вести переписку, что пошло на пользу моей газете, увеличило число подписчиков и помещаемых на ее страницах объявлений, и газета стала приносить мне изрядный доход. Одновременно с этим газета моего соперника стала чахнуть, и я был удовлетворен, хотя сам и не отплатил ему за то, что он, когда был почтмейстером, не разрешил, чтобы мою почту возил конный рассыльный. Он от этого сильно пострадал, запустив свою отчетность, и я упоминаю об этом в назидание молодым людям, выполняющим порученные им дела: писать отчеты и пересылать деньги должно с неукоснительной аккуратностью и точностью. Такое поведение — лучшая рекомендация для получения новых должностей и продвижения по службе. Я стал подумывать об участии в общественных делах, но начал с малого. Прежде всего я счел нужным внести порядок в службу охраны города. Осуществляли ее по очереди констебли городских кварталов; каждый констебль назначал себе в помощь на данную ночь некоторое число домовладельцев. Те из них, которые желали раз и навсегда избавиться от этой службы, платили ему 6 шиллингов в год, и считалось, что на эти деньги он нанимает им замену; на самом же деле столько денег для этого не требовалось, так что пост констебля был весьма прибыльным. За выпивку констебль часто набирал в охрану таких проходимцев, что почтенные домовладельцы не хотели и близко к ним подходить. К тому же эти бродяги, вместо того чтобы ходить дозором, часто проводили всю ночь за бутылкой. Я сочинил и представил на обсуждение Хунты документ, в котором отмечал эти неполадки, но особенный упор делал на том, что констебль взимает со всех одинаковый налог в 6 шиллингов, так что неимущая вдова-домовладелица, у которой и добра-то, требующего охраны, найдется всего на какие-нибудь пятьдесят фунтов, платит столько же, сколько самый богатый купец, у которого склады ломятся от товаров, стоящих тысячи фунтов. В общем, я предложил для более действенной охраны нанимать на постоянную работу надежных людей; а для более справедливого способа добывать на это деньги взимать с каждого домовладельца налог сообразно его собственности. Хунта мой план одобрила, его сообщили другим клубам так, будто он от них и исходил; и хотя новый порядок не сразу привился, все же наш план подготовил почву для перемен, а через несколько лет, когда члены наших клубов стали влиятельнее, был проведен в жизнь законодательным путем. Примерно в это время я написал сочинение (сперва для прочтения в Хунте, но позже опубликованное) о различных случайностях и небрежности, приводящих к пожарам, предостерегая против них и предлагая меры для борьбы с ними и для их предотвращения. Статью эту много хвалили, и на основе ее был составлен и скоро осуществлен план создать команды для быстрейшего тушения пожаров и взаимной помощи в спасении оказавшегося в опасности имущества. Вскоре подобрались и члены команды, числом тридцать. По нашему договору каждый обязывался постоянно держать в порядке и наготове определенное количество кожаных ведер, а также крепких мешков и корзин (для упаковки и переноски товаров), с которыми являться на каждый пожар; и еще мы договорились встречаться раз в месяц и вместе проводить вечер, обмениваясь мнениями на ту же тему о пожарах и о том, как принести наибольшую пользу в борьбе с ними. Полезность этого начинания очень скоро стала очевидной, и нашлось столько желающих присоединиться к нам, что мы сочли такое количество неудобным для одной команды, и посоветовали им основать вторую, что и было сделано; так оно и пошло — новые команды создавались одна за другой и вскоре их сделалось столько, что в состав их вошли чуть не все горожане, владевшие собственностью; и сейчас, когда пишутся эти строки, — хотя с тех пор, как я основал ту первую команду «Пожарную команду Союз», прошло уже более пятидесяти лет, — она все еще существует и процветает, хотя из первоначальных ее членов в живых остались только я и еще один, на год меня старше. Небольшие штрафы, которые члены платили, если не присутствовали на ежемесячных встречах, пошли на покупку пожарных машин, лестниц, багров и прочего инвентаря для каждой команды, и вряд ли есть в мире город, лучше подготовленный к тушению пожаров сразу же по их возникновении. В самом деле, со времени наших нововведений юрод наш ни разу не терял одновременно больше одного или двух домов, а часто огонь удавалось сбить, не дав ему уничтожить даже того первого дома, откуда он мог перекинуться дальше. В 1739 году к нам прибыл из Ирландии его преподобие мистер Уайтфилд{175}, уже прославившийся как странствующий проповедник. Сначала ему разрешили читать проповеди в некоторых наших церквах, но вскоре священники, невзлюбившие его, отказали ему в этом праве, и он был вынужден проповедовать под открытым небом. Слушать его стекались огромные толпы людей всевозможного толка, и я, бывая в их числе, спрашивал себя, как объяснить восторг и уважение, которое он вызывал у слушателей, притом что ругал их последними словами, утверждая, что они от рождения полузвери, полу дьяволы. Поразительно было наблюдать, как переменились правы наших прихожан. Раньше многие из них относились к религии равнодушно или с небрежением, теперь же, казалось, все поголовно уверовали в бога, и вечером, проходя по улице, было слышно, как чуть ли не в каждом доме поют псалмы. И вот, когда обнаружилось, что собираться под открытым небом мешает погода, и было предложено построить молитвенный дом и назначены сборщики пожертвований, очень быстро были собраны деньги на покупку земли и строительство здания длиною в сто футов и шириною в семьдесят, то есть размером примерно с Вестминстерское аббатство, и работа велась с таким воодушевлением, что была закончена намного раньше, чем предполагалось. Дом вместе с землей был передан совету попечителей с правом предоставлять его любому проповеднику любой веры, какой пожелал бы что-нибудь поведать жителям Филадельфии, так как целью строителей было угодить не одной какой-нибудь общине, но всему населению; так что даже если бы константинопольский муфтий прислал к нам миссионера проповедовать ислам, помещение было бы к его услугам. Покинув нас, мистер Уайтфилд обошел со своими проповедями все колонии вплоть до Джорджии. Эта провинция тогда еще только заселялась, но не крепкими, закаленными людьми, привычными к тяжелой работе, — единственными кто был бы для этого пригоден, — а семьями разорившихся лавочников и других несостоятельных должников, среди коих было много бездельников, отсидевших срок в тюрьмах и совсем не приспособленных к тому, чтобы, попав в лесную глушь, валить деревья и терпеть невзгоды и лишения в необжитой стране. Эти мерли как мухи, оставляя сиротами много беспомощных детей. При виде этих несчастных малюток у добросердечного мистера Уайтфилда возник замысел основать приют, где бы их кормили и воспитывали. Вернувшись на север, он стал проповедовать это благотворительное начинание и всюду собирал большие деньги, ибо его красноречие чудесным образом покоряло сердца и развязывало кошельки, что я испытал на себе. Я не то чтобы осуждал его план, но поскольку в Джорджии в то время не было ни строительных материалов, ни рабочих и предполагалось выписать их из Филадельфии, что обошлось бы недешево, я считал, что разумнее построить дом в Филадельфии и привезти детей туда; но он уперся и не послушал моего совета, а я отказался участвовать в пожертвованиях. Вскоре после этого мне случилось побывать на одной из его проповедей, в конце которой он явно собирался предложить сбор средств, и решил, что от меня он ничего не получит. В кармане у меня было несколько медяков, три или четыре серебряных доллара и пять золотых пистолей. Слушая его, я дрогнул и решил отдать ему медяки. От новой вспышки его красноречия я устыдился и решил расстаться с серебром; а закончил он так блестяще, что я высыпал в миску сборщика все содержимое моего кармана, включая и золото. Эту проповедь слушал также один из членов нашего клуба, как и я — противник строительства в Джорджии. Подозревая, что предстоит сбор денег, он, прежде чем выйти из дому, предусмотрительно опорожнил карманы. А к концу проповеди ему так захотелось что-нибудь пожертвовать, что он обратился к стоявшему с ним рядом соседу с просьбой ссудить ему хоть немного денег. Человек, к которому он обратился, был, на беду, чуть ли не единственным, у кого хватило твердости устоять против чар проповедника, и он ответил так: «В другое время, друг Хопкинсон, я бы охотно дал тебе таймы; но только не сейчас, ибо сдается мне, что ты рехнулся». Враги мистера Уайтфилда не стеснялись высказывать мнение, что собранные деньги он попросту присваивает; по я, хорошо его зная (я печатал его проповеди, дневники и проч.), ни на минуту не усумнился в его честности и до сих пор убежден, что это был честнейший человек. Мне думается, это мое свидетельство тем более веско, иго религиозных вопросов мы не касались. Он, правда, молился порой о моем обращении, но ни разу не имел оснований предположить, что молитвы его были услышаны. Нас связывала чисто мирская дружба, искренняя с обеих сторон и длившаяся до самой его смерти. Нижеследующий пример поможет уяснить наши отношения. В один из своих наездов из Англии в Бостон он написал мне, что скоро будет в Филадельфии, но не знает, где там можно остановиться, потому что мистер Бенезет, его старый друг, у которого он раньше останавливался, переехал, по его сведениям, в Джермантаун. Я ответил: «Какой у меня дом, вы знаете. Если вас не смущает более чем скромная обстановка, милости прошу». Он в ответном письме написал, что, если мое любезное приглашение подсказано желанием угодить богу, я буду за это вознагражден. А я ответил: «Не заблуждайтесь, не богу я хотел угодить, а вам». Один из наших общих знакомых в шутку заметил, что я, хоть и знал, что у святых, когда им оказывали какую-нибудь милость, было в обычае перекладывать бремя благодарности с собственных плеч на небеса, все же умудрился сохранить его на земле. В последний раз я видел мистера Уайтфилда в Лондоне, он советовался со мной касательно своего сиротского приюта, который задумал превратить в колледж. Голос у него был громкий и звучный, и он так отменно выговаривал слова, что и звук, и смысл их можно было уловить издалека, тем более что паства его, как ни бывала она многочисленна, слушала его в нерушимом молчании. Однажды вечером он говорил, стоя на ступенях здания суда, что на Рыночной улице, там, где ее под прямым углом пересекает Вторая. Обе улицы были запружены народом. Я стоял в задних рядах на Рыночной, и мне захотелось проверить, как далеко его слышно, с каковой целью я начал отступать по улице к реке. Голос его был отчетливо слышен, пока я не дошел почти до набережной, где его заглушил какой-то посторонний шум. Тогда я мысленно описал полукруг, приняв за его радиус пройденный мною путь и весь заполненный слушателями, на каждого из которых я положил по два квадратных фута, и таким образом вычислил, что его слышали одновременно более 30 000 человек. Это заставило меня поверить газетам, утверждавшим, что однажды он под открытым небом читал проповедь двадцатипятитысячной толпе, а также старым авторам, рассказавшим о полководцах, которые обращались с речами к целым армиям, в чем я раньше, случалось, сомневался. Привыкнув его слушать, я научился без труда отличать только что сочиненные проповеди от тех, которые он уже произносил раньше, во время своих странствований. Во втором случае его исполнение так выигрывало от частых повторений, каждый акцент, каждая эмфаза, каждая модуляция голоса бывала так отработана, так у места, что даже проповедью на неинтересную для вас тему нельзя было не наслаждаться. Такое наслаждение сродни тому, что нам доставляет превосходная музыка. Вот в чем преимущество странствующего проповедника перед теми, что постоянно живут в одном месте, ведь эти последние не могут улучшить свои проповеди столь многими репетициями. То, что он писал и печатал, порой оказывалось очень на руку его врагам. Неосторожное выражение, даже ошибочное утверждение, вкравшееся в устную проповедь, можно бывает позже объяснить или исправить, сославшись на другие места в той же проповеди, а то и вовсе заявить, что ты такого не говорил; но litera scripta manet[91]. Критики громили его писания беспощадно, и как будто не без оснований, вследствие чего число его приверженцев падало, так что, на мой взгляд, если бы он ничего не писал, то оставил бы больше последователей и слава его могла бы расти даже после его смерти; ведь в писаниях его не было ничего постыдного или достойного осуждения, и прозелиты были бы вольны наделять его всеми совершенствами, какие они в своем восхищении ему приписывали. Дело мое между тем все расширялось, достаток возрастал день ото дня, газета приносила немалый доход, на какое-то время она стала чуть ли не единственной в нашей и соседних провинциях. К тому же я убедился в справедливости мнения, будто, нажив первую сотню грунтов, нажить вторую уже легче, ибо деньги, можно сказать, размножаются сами собой. Товарищество в Каролине увенчалось успехом, и это побудило меня продолжать. Я продвинул в хозяева еще нескольких моих рабочих, хорошо себя показавших, оборудовав для них типографии в разных колониях на тех же условиях, что и первую, в Каролине. Большинство их преуспели: по истечении шестилетнего срока нашего договора они смогли выкупить у меня шрифты и дальше работать уже на себя, что послужило процветанию нескольких семей. Товарищества часто заканчиваются ссорами, я же счастлив сказать, что мои все были дружественными до самого конца, и причина, думается, в том, что в наших договорах я очень подробно описал обязанности и права каждой из сторон, так что спорить и ссориться было не из-за чего. Такую предосторожность я рекомендую всем, кто задумает вступить в товарищество: ведь как бы ни уважали друг друга люди, когда подписывали договор, как бы ни доверяли друг другу, впоследствии всегда могут возникнуть мелкие обиды и недовольства, а с ними — мысли о неравномерных тяготах, налагаемых договором, и тогда — конец дружбе, вражда, а там и тяжбы и прочие неприятные последствия. Признаться, у меня было достаточно причин быть вполне довольным моим положением в Пенсильвании. Было, однако, два обстоятельства, меня огорчавших, именно что не была обеспечена ни оборона провинции, ни полное образование молодежи, не было ни милиции, ни колледжа. Поэтому я в 1743 году составил план учреждения академии и, считая, что его преподобие мистер Питерс, в то время не имевший должности, лучше других мог бы возглавить это учреждение, сообщил этот план ему; но он, рассчитывая получить более выгодную должность на службе у наших владетелей{176} (что и произошло), отказался участвовать в моем начинании, а я, не зная никого другого, кому можно б было доверить такое дело, до поры до времени отложил этот план в сторону. В следующем году я оказался счастливее: я предложил и сам основал Философское общество. Написанный мною с этой целью памфлет{177} войдет в собрание моих сочинений, когда оно будет подготовлено. Что касается до обороны, при том, что Испания уже несколько лет находилась в состоянии войны с Англией{178} и позднее к ней присоединилась Франция, что грозило нам серьезной опасностью, а попытка нашего губернатора Томаса{179} убедить нашу квакерскую Ассамблею издать закон о милиции и принять еще ряд мер для обеспечения безопасности провинции, потерпела неудачу{180}, я решил попробовать, чего можно достигнуть добровольным сплочением народа. Для этого я первым делом написал и опубликовал памфлет под заглавием «Простая истина», в котором яркими красками изобразил, сколь беззащитно наше положение и сколь необходимо для нашей защиты единство и дисциплина, и обещал через несколько дней обнародовать воззвание, под которым смогут подписаться все желающие. Памфлет возымел неожиданное, удивительное действие. Меня просили как можно скорее обнародовать мое воззвание, и я, согласовав черновик его с некоторыми друзьями, назначил собрание граждан в огромном здании, упомянутом выше. Народу собралось множество. Я заранее подготовил несколько печатных экземпляров воззвания и расположил в разных концах залы перья и чернила. После небольшого вступительного слова я прочел воззвание, разъяснил его, а затем роздал экземпляры, и их стали дружно подписывать, не высказав ни одного возражения. Когда участники разошлись и листы собрали, на них оказалось более 1200 подписей; когда же подобные экземпляры были разосланы по всей колонии, число подписей превысило 10 000. Все эти люди поспешили обзавестись оружием, образовали роты и полки, выбрали себе офицеров и стали каждую неделю собираться, обучаясь ружейным приемам и другим премудростям военного дела. Женщины, сами собрав на то средства, изготовили шелковые знамена и роздали их ротам, разукрасив девизами по моим указаниям. Командиры рот, составивших Филадельфийский полк, на своем собрании выбрали меня полковником, но я счел себя непригодным и, отказавшись от этой чести, предложил выбрать мистера Лоренса, прекрасного человека, который и был избран. Затем я предложил провести лотерею, чтобы на собранные средства построить на реке, пониже города, батарею и поставить на ней пушки. Средства собрали без промедления, и батарею скоро возвели, марлоны соорудили из бревен и засыпали землей. В Бостоне мы купили несколько старых пушек, но их оказалось мало, и мы написали в Англию, прося выслать нам еще орудий, а кроме того, обратились за помощью к нашим владетелям, правда, без особенной надежды на успех. Тем временем руководители ополчения отрядили полковника Лоренса, Уильяма Аллена, Авраама Тейлора и меня в Нью-Йорк с поручением добыть сколько-нибудь пушек у губернатора Клинтона{181}. Для начала он нам наотрез отказал, но за обедом, на который был приглашен его совет и где, по тогдашнему обычаю, рекой лилась мадера, он мало-помалу смягчился и обещал дать нам в пользование шесть пушек. После еще нескольких стаканов он дошел до десяти пушек, а кончил тем, что великодушно уступил восемнадцать. Пушки были отменные, восемнадцатифунтовые, с лафетами, мы без промедления переправили их к себе и установили на нашей батарее, где их еженощно стерегли ополченцы до самого конца войны, и я среди прочих в свой черед нес там службу как простой солдат. Эта моя деятельность заслужила благосклонное внимание ко мне губернатора и его совета, они прониклись ко мне доверенностью и советовались со мною о любом шаге, направленном на пользу ополчению. Призвав на помощь религию, я предложил им объявить пост для очищения нравов и ниспослания благословения свыше на наши начинания. Они ухватились за эту мысль, но, поскольку ни о каких постах в Пенсильвании дотоле и не думали, секретарь, не имея прецедента, не знал, как составить воззвание. Тут пригодилось мое детство, проведенное в Новой Англии, где посты объявляют ежегодно; я составил воззвание в обычном стиле, его перевели на немецкий, напечатали на обоих языках и распространили по всей провинции. Это дало возможность священникам всех исповеданий убеждать своих прихожан примкнуть к ополчению, и, вероятно, к нему примкнули бы все, кроме квакеров, если бы в скором времени не был заключен мир. Некоторые мои друзья полагали, что мое участие в таких делах может оскорбить квакеров и это повредит мне в Ассамблее, где они составляли значительное большинство. Один молодой человек, тоже имевший друзей в Ассамблее и жаждавший сменить меня в должности секретаря, сообщил мне однажды, что решено на ближайших выборах меня сместить, и посоветовал мне, якобы из добрых ко мне чувств, самому подать в отставку, потому что это, мол, почетнее, нежели быть уволену. В ответ я сказал ему, что слышал или читал об одном общественном деятеле, который положил за правило никогда не просить о должности и никогда не отказываться, ежели ему таковую предложат. Я сказал, что одобряю такое правило и буду ему следовать, с небольшим добавлением: я никогда не буду ни просить о должности, ни отказываться от предложений, ни уходить по собственному почину. Если мою секретарскую должность хотят передать другому, пусть увольняют меня. Сам же я не намерен терять мое право когда-нибудь расквитаться с моими противниками. Больше об этом речь не заходила, и на следующих выборах я снова был выбран единогласно. Возможно, что, будучи недовольны моим сближением с членами Совета, поддерживавшего губернатора во всех спорах касательно военных приготовлений, уже давно раздражавших Ассамблею, они были бы рады, если бы я по своей воле с ними расстался: но им не улыбалось уволить меня за то, что я так радел об ополчении, а другого предлога найти они не могли. Более того, у меня были основания полагать, что против обороны провинции они ничего не имеют, лишь бы их самих не просили в ней участвовать. И еще я выяснил, что среди них гораздо больше, чем я думал, таких, кто, осуждая наступательные войны, одобряет войну оборонительную. На этот счет было издано много памфлетов «за» и «против», авторами некоторых из них, писавших в пользуобороны, были добрые квакеры, и они-то, думается, убедили едва ли не всю свою молодежь. Один случай из жизни нашей пожарной команды позволил мне яснее представить себе их образ мыслей. Когда возник план построить батарею, было предложено употребить наш капитал, составлявший в то время 60 фунтов, на выпуск лотерейных билетов. По нашим правилам, мы не могли распоряжаться деньгами раньше собрания, следующего за тем, на котором поступило то или иное предложение. Команда состояла из тридцати человек, двадцать два из них были квакеры и только восемь — других исповеданий. Мы, все восемь, явились на собрание точно в назначенное время, но, хотя мы и надеялись, что часть квакеров к нам присоединится, на большинство мы отнюдь не рассчитывали. Из квакеров явился только один наш противник, мистер Джеймс Моррис. Он выразил глубокое сожаление но поводу предложенной меры, ибо, сказал он, все «Друзья»{182} против нее и она может вызвать такие разногласия, что команда вообще распадется. Мы возразили, что не видим к тому оснований: нас меньшинство, и если «Друзья» окажутся в большинстве, нам останется только подчиниться, как то принято во всех подобных обществах. Когда очередь дошла до данного пункта, было предложено голосовать. Мистер Моррис согласился, что это не противоречит правилам, но поскольку ему доподлинно известно, что многие члены собирались явиться и голосовать против, он просит нас еще немного подождать их прихода. Мы стали было возражать, но тут вошел слуга и доложил, что в прихожей два господина желают со мной поговорить. Я спустился вниз, там меня ждали два наших члена-квакера. Они сказали, что в таверне за углом их собралось восемь человек; что все они решили прийти и, если потребуется, голосовать за нас, но надеются, что до этого не дойдет, и просили не обращаться к ним за поддержкой, если только мы можем без нее обойтись, ибо если они проголосуют за такую меру, это грозит им ссорой со старшими членами секты. Уверившись таким образом, что большинство нам обеспечено, я воротился в залу и, поколебавшись для виду, согласился подождать еще час. Мистер Моррис расценил это как большую любезность. Ни один из его единомышленников так и не явился, что весьма его удивило, и по прошествии часа мы приняли резолюцию восемью голосами против одного; а поскольку из двадцати двух квакеров восемь были готовы голосовать за нас, а тринадцать своим отсутствием доказали, что не склонны бороться, я впоследствии подсчитал, что соотношение квакеров, действительно не одобряющих обороны, составляет всего один к двадцати одному. Ведь все они были добропорядочными членами квакерской общины, пользовались там доброй славой и были заранее предуведомлены о том, какой вопрос будет решаться на собрании. Не кто иной как всеми уважаемый и ученый мистер Логан{183}, всю жизнь бывший квакером, написал обращение к ним, заявляя о своем одобрении оборонительной войны и подкрепляя это заявление вескими доводами. Он передал мне из рук в руки 60 фунтов стерлингов для выпуска лотерейных билетов в пользу батареи с указанием употребить для той же цели и все выигрыши, какие нам достанутся. А кстати рассказал мне нижеследующий анекдот про своего прежнего учителя Уильяма Пенна. Логан приехал из Англии молодым человеком вместе с Пенном, в качестве его секретаря. Время было военное, за их кораблем погналось какое-то вооруженное судно, предположительно — вражеское. Капитан приготовился защищаться, но Уильяму Пенну и сопровождавшим его квакерам сказал, что на их помощь не рассчитывает, пусть уходят в каюту, что они и сделали все, кроме Логана, тот не пожелал уйти с палубы и был поставлен к орудию. Предполагаемый враг оказался союзником, сражения не последовало; но когда Логан спустился в каюту с этим известием, Уильям Пенн строго его отчитал за то, что он остался на палубе и готов был участвовать в защите корабля, а это было бы противно правилам «Друзей», тем более что капитан этого не требовал. Сей нагоняй, да еще на людях, уязвил самолюбие молодого секретаря, и он отвечал: «Я твой слуга, почему же ты не приказал мне спуститься в каюту? Когда ты думал, что мы в опасности, ты ведь не возражал, чтобы я остался и помог сразиться с тем кораблем». Годами общаясь с Ассамблеей, в которой большинство неизменно составляли квакеры, я имел много случаев убедиться, в какое затруднительное положение их ставил собственный принцип осуждения войны всякий раз, как к ним, по велению короны, обращались за помощью на военные нужды. С одной стороны, им не хотелось оскорбить высшую власть прямым отказом, а с другой — своих друзей, всю квакерскую общину — согласием, противным их принципу; это порождало всевозможные ухищрения с целью избежать согласия и изыскать способы скрыть такое согласие, когда избежать его оказывалось невозможно. Вошло в обычай отпускать деньги «в распоряжение короля» и не пытаться узнавать, как эти деньги используются. Но если требование исходило не прямо от короны, такая уловка уже не годилась, надобно было изыскивать другую. Так, когда не хватило пороху (кажется, для гарнизона Луисберга) и власти Новой Англии обратились за субсидией к Пенсильвании, наши законодатели, под сильным нажимом со стороны губернатора Томаса, не могли проголосовать за покупку пороха, поскольку порох неотделим от войны, но постановили предоставить Новой Англии помощь в сумме 3000 фунтов, с тем чтобы вручить ее губернатору для закупки хлеба, муки, пшеницы или другого зерна. Некоторые члены Совета, дабы окончательно запутать Ассамблею, посоветовали губернатору не принимать ссуду, потому-де, что это не то, о чем он просил, но он ответил: «Нет, деньги я возьму, я их отлично понял, другое зерно — это порох». И он закупил порох, и никто ни слова не сказал против. Этот-то случай я и вспомнил, когда мы боялись, что наша пожарная команда не утвердит проект насчет лотереи, и я сказал одному из наших членов, мистеру Сингу: «Если наша затея провалится, давайте предложим купить на эти деньги пожарную машину; против этого квакеры не станут возражать, а тогда, если вы назовете меня, а я вас, мы образуем комиссию и купим большую пушку, ведь это тоже машина для борьбы с огнем». — «Вижу, — сказал он, — служба в Ассамблее пошла вам на пользу; эта ваша двусмысленность еще почище их „пшеницы или другого зерна“». Затруднения, которые квакеры испытывали оттого, что постановили и печатно объявили в качестве одного из своих принципов, что любая война есть нарушение закона, а раз обнародовав этот принцип, уже не могли от него отказаться, даже когда их взгляды претерпевали изменения, — напоминают мне более, на мой взгляд, осмотрительный образ действий другой нашей секты — «Дункеров»{184}. С одним из ее основателей, Майклом Уэлфэром, я познакомился вскоре после того, как эта секта возникла. Он жаловался мне, что приверженцы других сект безжалостно на них клевещут, обвиняют в чудовищных правилах и поступках, о каких они и не помышляли. Я сказал ему, что так всегда бывало с новыми учениями, и, чтобы остановить поток этой клеветы, им, вероятно, следовало бы обнародовать свои догматы и свой устав. Он ответил, что такое предложение было высказано, но они отказались от этой мысли, и вот почему. «Когда мы только что объединились в общество, — сказал он, — богу было угодно просветить наши умы, и мы поняли, что некоторые доктрины, которые мы прежде почитали истинами, суть заблуждения; другие же, которые мы почитали заблуждениями, суть подлинно истины. Время от времени Ему угодно открывать нам новое, отчего наши принципы постепенно улучшаются, а заблуждения исчезают. И мы не уверены, что этот путь уже пройден и что мы достигли полного духовного знания и опасаемся, что, если обнародуем наш символ веры, то окажемся им связаны и не захотим двигаться дальше по пути к совершенству, а тем более сие относится к нашим последователям, которые могут решить, что достигнутое нами, их предшественниками, священно на все времена». Такая скромность, проявленная сектой, пожалуй, единственный случай в истории человечества, ведь из других сект каждая считает, что только ей известна истина, а те, кто с ней не согласен, неправы. Так человеку, пустившемуся в путь в туманное утро, кажется, что люди, идущие впереди, и позади него, и по сторонам от дороги, окутаны туманом и только рядом с ним ясно видно, хотя на самом деле туман обволакивает его так же, как и всех остальных. Чтобы избежать этой путаницы, квакеры в последние годы стали отказываться от службы в Ассамблее, полагая, что лучше поступиться властью, нежели принципом. Мне уже раньше следовало бы рассказать в своем месте, что когда я в 1742 году изобрел открытую печь для обогрева комнат, а заодно и для экономии топлива, поскольку свежий воздух, поступая в печь, сразу нагревался, я подарил образец ее мистеру Роберту Грейсу, одному из давнишних моих приятелей, а у него была своя литейная, и он стал отливать листы для таких печей, что принесло ему хороший доход, потому что спрос на них все возрастал. Я написал и издал статью под заглавием «Отчет о новоизобретенных пенсильванских каминах, в коем подробно объяснено их устройство и как они действуют; показаны их преимущества перед всеми другими способами обогревания комнат и даны ответы на все возражения против использования их». Это сочинение возымело хорошее действие. Губернатору Томасу так понравилось описание устройства печи, что он предложил выдать мне патент на исключительное право торговать ими в течение стольких-то лет; но я не пошел на это из принципа, которому нередко следовал в подобных случаях, а именно, что раз мы широко пользуемся чужими изобретениями, мы должны радоваться всякой возможности услужить другим, когда сами что-нибудь изобретаем, и делать это следует бесплатно и от души. А между тем один лондонский железных дел мастер переписал изрядную часть моей статьи и выпустил под своим именем, причем внес в устройство печи лишь кое-какие мелкие изменения, от которых она стала действовать не лучше, а хуже; он выправил на нее патент у себя в Англии и, как я слышал, недурно на этом нажился. Это не единственный пример того, как другие получали патент на мои изобретения, не всегда, впрочем, столь же удачно, и я никогда их не оспаривал, поскольку сам не хотел наживаться на патентах и ненавидел раздоры и тяжбы. Установка моих печей как в нашей, так и в соседних колониях позволила жителям сильно сэкономить на топливе. Когда мир был заключен и заботы об ополчении отпали, я опять обратился мыслями к учреждению академии. Первым делом я привлек к этому замыслу нескольких энергичных друзей, главным образом из членов Хунты; затем написал и издал статью, озаглавленную «Предложения касательно обучения молодежи в Пенсильвании». Я разослал ее виднейшим нашим гражданам бесплатно и, как только они, по моим расчетам, успели се прочесть и обдумать, объявил подписку на учреждение и содержание академии; взносы я предлагал делать ежегодно в течение пяти лет. Растянув таким образом срок уплаты, я надеялся увеличить число подписчиков, что мне, очевидно, и удалось, потому что собрали мы, сколько помнится, не менее 5000 фунтов. В предисловии к моей статье я заявил, что предложение исходит не от меня, а от нескольких человек, «пекущихся об общем благе», по возможности умолчав о собственной роли, как то было у меня в обычае, когда я предпринимал что-нибудь полезное для общества. Чтобы немедленно приступить к осуществлению нашего плана, подписчики выбрали из своей среды 24 попечителя и поручили мне и мистеру Фрэнсису, в то время главному судье, разработать устав управления академией, а когда устав был разработан и подписан, мы сняли помещение, пригласили учителей, и школа открылась, сколько помнится, в том же году, 1749-м. Число учащихся быстро росло, так что помещение вскоре оказалось мало и мы уже подыскивали удобно расположенный участок для постройки нового, но тут само провидение словно преподнесло нам в подарок огромное здание, уже построенное, которое можно было отлично приспособить для наших потребностей путем незначительных перестроек. Это было то самое, уже упоминавшееся выше здание, которое возвели последователи мистера Уайтфилда, а о том, как мы его приобрели, я сейчас расскажу. Надобно отметить, что, поскольку деньги на строительство вносили члены разных сект, мы, предлагая имена попечителей, которым передать под начало и землю, и здание, старались о том, чтобы не допустить перевеса ни одной из сект, ибо со временем такой перевес мог быть использован в интересах данной секты, что противоречило бы первоначальному замыслу. Поэтому мы включили в список по одному члену от каждой секты: одного от англиканской церкви, одного пресвитерианина, одного баптиста, одного от «моравских братьев» и т. д., с тем чтобы, если в случае смерти место окажется свободным, предоставить его новому члену, избранному подписчиками. Моравский брат чем-то не полюбился своим коллегам, и когда он умер, было решено в дальнейшем обойтись без его секты. Но тогда возникло новое затруднение: как сделать, чтобы при следующих выборах в совете попечителей не оказалось двух членов какой-нибудь другой секты. Было предложено несколько кандидатов, но ни один из них не прошел именно по этой причине. Наконец кто-то назвал меня, потому, мол, что я не принадлежу ни к какой секте, а просто честный человек; с этим мнением согласились, и я был избран. Воодушевление, вызванное постройкой дома, уже давно улеглось, и попечителям не удалось привлечь новых средств для уплаты налога за землю и расплаты по некоторым долгам, связанным со строительством, что очень их обескураживало. Оказавшись членом обоих попечительских советов, одного для постройки, а другого для академии, я воспользовался такой возможностью посовещаться и с теми, и с другими и в конце концов убедил их заключить соглашение, в силу которого первые попечители обязались уступить свои права на здание вторым, а те обязались заплатить долг, навечно сохранить в здании большую залу, которую предоставлять по мере надобности проповедникам, как повелось с самого начала, и содержать бесплатную школу для детей неимущих родителей. Были составлены соответствующие документы, и попечители академии, уплатив долги, были введены во владение всем имуществом. Просторная высокая зала была разделена на два этажа, новые комнаты и наверху, и внизу распределены между школами, мы прикупили еще немного земли, и скоро все было готово и учащихся перевели на новые квартиры. Все заботы по найму рабочих, покупке материалов и надзору за ходом работ легли на меня. Я все проделал с охотой, тем более что в ту пору это не служило помехой в моем личном деле: за год до того я взял и товарищи весьма способного, трудолюбивого и честного человека, мистера Дэвида Холла, которого успел хороню узнать, так как он проработал у меня четыре года. Он снял с меня все заботы по типографии и аккуратно выплачивал мне мою долю прибыли. Товарищество наше продолжалось восемнадцать лет с успехом и для него, и для меня. Немного позже совет попечителей академии был узаконен грамотой от губернатора; капитал его приумножился благодаря взносам из Англии и земельным участкам, пожертвованным нашими владетелями, а затем и щедрыми ассигнованиями Ассамблеи, и так зародился нынешний Филадельфийский университет. Я состою членом его совета попечителей с самого начала, вот уже почти сорок лет, и с великой радостью наблюдаю, как многие и многие его питомцы усовершенствовали свои дарования, отличились на общественных должностях и стали украшением своей родины. Когда я, как описано выше, освободился от забот по типографии, я льстил себя надеждой, что, нажив приличное, хоть и невыдающееся состояние, могу посвятить себя на остаток жизни занятиям наукой и развлечениям. У доктора Спенса, приехавшего сюда из Англии читать лекции, я купил все его инструменты и приборы и, не теряя времени, приступил к опытам с электричеством. Но публика, полагая, что я теперь человек свободный, предъявила ко мне собственные требования. Я оказался нужен одновременно во всех разделах городского управления, везде для меня нашлось дело. Губернатор включил меня в комиссию по мирным переговорам, отцы города избрали в муниципальный совет, а вскоре затем в олдермены, граждане выбрали своим представителем в Законодательной ассамблее. Это последнее избрание было мне тем более приятно, что мне надоело сидеть там и слушать прения, в которых я как секретарь не имел права участвовать и которые частенько бывали так скучны, что я от нечего делать рисовал магические круги и квадраты; теперь же, будучи избран в члены, мог наконец надеяться принести настоящую пользу. Впрочем, я не хочу сказать, что все эти назначения не льстили моему тщеславию — очень даже льстили, и немудрено: если вспомнить, с чего я начинал, всякий поймет, как много они для меня значили, а главное, они доказывали, сколь высоко меня ценит общественное мнение, притом что сам я ни о каких повышениях никогда не просил. Пригляделся я и к работе мирового судьи, посидел на заседаниях, послушал разбирательства, но, убедившись, что для добросовестного исполнения этой должности моих знаний обычного права недостаточно, бросил это занятие, оправдываясь тем, что связан более высокой обязанностью посещать заседания Ассамблеи. А избирали меня туда ежегодно в течение десяти лет, причем сам я ни разу не обратился ни к кому из выборщиков с просьбой отдать мне голос и ни прямо, ни косвенно никому не дал понять, что желал бы быть избранным. Когда я стал членом Ассамблеи, секретарем туда был назначен мой сын. В следующем году, когда предстояло заключить в Карлайле договор с индейцами{185}, губернатор обратился к Ассамблее с просьбой выделить для этой цели нескольких членов, которые вошли бы в комиссию наряду с членами Совета. Ассамблея предложила спикера (мистера Норриса) и меня, мы были утверждены и отправились в Карлайл, где и встретились с индейцами. Поскольку индейцы склонны к пьянству и в пьяном виде становятся неукротимы и буйны, мы строго запретили продавать им спиртное; а когда они стали жаловаться, объяснили им, что если они останутся трезвыми до конца переговоров, то потом получат рому сколько душе угодно. Они обещали и сдержали обещание, благо не могли раздобыть спиртного, и переговоры прошли весьма чинно и закончились к обоюдному удовлетворению. Тогда они потребовали рома и получили его. Произошло это во второй половине дня; их было около сотни — мужчин, женщин и детей, и жили они во временных хижинах, построенных квадратом у самого въезда в город. Вечером, услышав страшный шум, члены комиссии пошли посмотреть, что там творится. Все они перепились, и мужчины и женщины, и затеяли ссоры и драки. Их темные полуголые фигуры, освещенные тусклым пламенем костра, гоняющиеся друг за другом с головнями под душераздирающие вопли, являли собою зрелище, как нельзя более соответствующее нашим представлениям об обстановке в аду; утихомирить их не было возможности, и мы возвратились к себе на постоялый двор. В полночь целая орава их ломилась к нам в дверь, но мы оставили их без внимания. Наутро, сообразив, что тревожить нас было невежливо, они прислали к нам трех делегатов с извинениями. Тот из них, что говорил первым, признал, что они вели себя дурно, но свалил вину на ром, а потом попытался оправдать ром такими доводами: «Великий дух, сотворивший все вещи, каждой вещи дал какое-нибудь назначение, и какое назначение он ей дал, так ею и следует пользоваться. Когда он сотворил ром, то повелел: да будет он для индейцев, чтобы напивались, значит, так оно и должно быть». И в самом деле, если в планы провидения входило изничтожить этих дикарей, дабы освободить место для землепашцев, вполне вероятно, что оно избрало своим орудием ром. С помощью рома уже истреблены все племена, ранее населявшие побережье. В 1751 году доктор Томас Бонд{186}, один из самых близких моих друзей, задумал учредить в Филадельфии больницу (весьма полезный проект, ошибочно приписанный мне) для приема и лечения больных бедняков как из жителей нашей провинции, так и посторонних. Он стал с усердием собирать на это средства, но так как затея его была для Америки внове и не сразу была понята, дело у него подвигалось туго. Тогда он явился ко мне и для начала, чтобы сделать мне приятное, сказал, что по его наблюдениям нет такого плана, предназначенного для общей пользы, в котором я бы не был замешан. «Ведь вот как бывает, — сказал он затем, — придешь к кому-нибудь с подписным листом, а он спрашивает: вы с Франклином об этом деле советовались? Как он на это смотрит? А когда я отвечаю, что не советовался (думая, что это, пожалуй, не по вашей части), они не подписываются, говорят, что еще подумают». Я расспросил его о его затее подробно и, получив все необходимые разъяснения, не только подписался сам, но охотно взялся добыть ему и еще жертвователей. Прежде чем говорить о деньгах, я попытался подготовить общественное мнение и послал письма на эту тему в газеты, как всегда делал в таких случаях, он же до этого не додумался. Эта мера помогла, но не надолго, и я понял, что денег не хватит, если не заручиться помощью Ассамблеи, и подал мысль войти с ходатайством к нашим законодателям, что и было сделано. Иногородним членам проект сперва не пришелся по вкусу, они возражали, что больница, мол, нужна только городу, так пусть одни горожане на нее и тратятся, да и в поддержке горожан не были уверены. Когда я утверждал обратное, говоря, что отклик опрошенных не оставляет сомнений в том, что мы можем собрать 2000 фунтов одних доброхотных даяний, они отказывались мне верить, твердили, что это просто немыслимо. На этом я построил мой план и попросил разрешения внести в Ассамблею проект об узаконении жертвователей согласно их ходатайству и дать нам дотацию на такую-то сумму; разрешение было дано главным образом потому, что Ассамблея могла ведь отклонить проект, если таковой ей не понравится, я же составил его так, что самый важный пункт стал как бы условным, а именно: «И вышеозначенные власти постановляют, что, когда означенные жертвователи выберут управляющих и казначея и соберут из своих пожертвований основной капитал, исчисленный в… фунтов, годовой процент с которого пойдет на бесплатное содержание больных бедняков в вышеозначенной больнице (включая питание, уход, лечение и лекарства), и получат за это одобрение спикера Ассамблеи, тогда будет сочтено законным, чтобы сей последний подписал приказ казначею провинции о выплате 2000 фунтов в два срока, в течение года, казначею означенной больницы для закладки и возведения оной». В таком виде законопроект прошел. За него голосовали и те члены, которые ранее были против, а теперь увидели, что могут прослыть благотворителями, ничего не тратя; а мы, продолжая сбор пожертвований, ссылались на условное обещание издать закон как на дополнительный довод, поскольку каждый взнос теперь удваивался; таким образом, я своим пунктом угодил и нашим, и вашим. В результате подписка скоро превысила нужную сумму, а мы истребовали и получили дотацию, позволившую нам осуществить задуманное. Было построено удобное, красивое здание; больница на практике доказала свою полезность и процветает по сей день; и я не припомню какого-нибудь другого из моих политических маневров, который доставил бы мне в то время такое же удовольствие и при мысли о котором я легче прощал бы себя за то, что пошел на хитрость. Примерно в это же время другой деятель, его преподобие Гилберт Теннент, обратился ко мне с просьбой помочь ему в сборе средств на постройку нового молитвенного дома. Предназначал он его для паствы, которую набрал из пресвитериан, бывших последователей мистера Уайтфилда. Не желая навлечь на себя недовольство моих сограждан слишком частыми просьбами о пожертвованиях, я наотрез отказался. Тогда он попросил меня дать ему список известных мне лиц, в чьей щедрости и внимании к общественным нуждам я имел случай убедиться. Я подумал, что негоже мне, которому они так любезно шли навстречу, снова им докучать, направляя к ним новых просителей, и отказался дать такой список. Тогда он попросил дать ему хотя бы совет. «Это я сделаю охотно, — сказал я. — Советую вам в первую очередь обратиться к тем, в чьей поддержке вы уверены; потом к тем, в которых вы сомневаетесь, дадут ли они что-нибудь или нет, и показывайте им список тех, кто уже что-то дал; и, наконец, не пренебрегайте и теми, от которых никак не ждете поддержки, ибо в отношении некоторых из них вы могли ошибиться». Он рассмеялся, поблагодарил и сказал, что последует моему совету. Так оно и вышло, потому что он обошел всех и собрал гораздо больше денег, чем ожидал, на которые и построил тот вместительный и красивый молитвенный дом, что высится на Арочной улице. Наш город, хоть и был прекрасно распланирован — с прямыми, длинными улицами, пересекающимися под прямым углом, — не постыдился допустить, чтобы эти улицы долго оставались немощеными, и в дождливую погоду они под колесами тяжелых фургонов превращались в болото, так что их было трудно перейти, а в сухую погоду покрывались густым слоем зловонной пыли. Я жил одно время поблизости от Джерсейского рынка, как он тогда назывался, и с грустью наблюдал, как жители, покупая съестные припасы, тонули в грязи. Наконец посередине этого рынка расчистили проход и вымостили его кирпичом, так что, попав на рынок, люди уже могли шагать посуху, но пока добирались до него, часто успевали промочить ноги чуть не до колен. Я говорил и писал об этом и наконец добился того, что улицу замостили камнем от рынка до пешеходных кирпичных дорожек, проложенных по обе ее стороны вдоль домов. Это дало возможность попадать на рынок с сухими ногами, но поскольку дальше улица не была вымощена, каждая повозка, въезжая из грязи на эту полосу, стряхивала на нее всю облепившую ее грязь и она сама скрывалась под грязной жижей, которую никто не убирал, потому что в городе еще не было метельщиков. Порасспросив кого следует, я нашел работящего бедняка, который брался держать дорожки в чистоте, подметая их два раза в неделю, и убирать грязь перед всеми дверями, с тем чтобы каждый дом платил ему шесть пенсов в месяц. Я написал и напечатал статейку, перечислив, какие преимущества для всего околотка могут проистечь от столь малого расхода: легче станет соблюдать чистоту в домах, когда туда не будут притаскивать на ногах столько глины, у лавочников станет больше покупателей, потому что до них будет легче добираться, а в ветреную погоду пыль не будет лететь на их товары, и проч, и проч. По экземпляру этой статейки я послал в каждый дом, а дня через три обошел их, чтобы узнать, кто согласен письменно подтвердить свою готовность платить эти шестипенсовики. Подписались все, и некоторое время платили аккуратно. Все горожане нарадоваться не могли, что дорожки вокруг рынка такие чистые, ведь это было удобно всем, это породило всеобщее желание видеть замощенными все улицы в городе и подготовило жителей к мысли, что для этой цели будет введен особый налог. Через некоторое время я написал проект закона о замощении города и представил его в Ассамблею. Было это в 1757 году, перед самым моим отъездом в Лондон, и закон был издан уже в мое отсутствие, да и то с поправкой в части, касающейся налога, которая показалась мне неудачной, но зато и с добавлением о том, что улицы следует не только вымостить, но и осветить, что я от всей души одобрил. Мысль о необходимости осветить весь город первым подал мистер Джон Клифтон, ныне покойный, когда поставил фонарь пред дверью своего дома. Честь этого полезнейшего нововведения тоже приписывали мне, но она безусловно принадлежит ему. Я только последовал его примеру, а притязать могу лишь на то, что предложил фонари нового фасона вместо тех круглых, которые нам сперва присылали из Лондона. Те оказались неудобными по следующим причинам: в них не поступал снизу воздух, и поэтому дым не мог свободно уходить вверх, но кружил внутри шара, оседал на его внутренней поверхности и застилал тот свет, который фонари призваны давать; их нужно было протирать начисто каждый день, а случайного удара по стеклу было достаточно, чтобы разбить весь шар и вывести фонарь из строя. И вот я предложил составлять каждую лампу из четырех плоских стекол, сверху пристраивать длинную трубку для вытягивания дыма, а снизу оставлять щели для поступления воздуха; таким образом фонарь оставался чистым до самого утра, а не темнел уже через несколько часов, как лондонские; и от случайного удара лопалось обычно только одно из стекол, которое нетрудно было заменить. Я не раз задавался вопросом, как это лондонцы, глядя на круглые лампы в Воксхолле, снабженные снизу отверстиями, через которые их прочищали, не догадались оставлять такие же отверстия в своих уличных фонарях. Дело, очевидно, в том, что их щели преследовали иную цель, а именно чтобы пламя быстрее достигало фитиля, когда поджигали пропущенный сквозь них льняной шнурок, а о другом их преимуществе — обеспечивать доступ воздуха — никто, видимо, и не подумал. Поэтому-то на лондонских улицах почти совсем темно уже через несколько часов после того, как фонари были зажжены. Упомянув об этих усовершенствованиях, я невольно вспомнил еще об одном, которое в бытность мою в Лондоне предложил доктору Фодергиллу{187}, одному из достойнейших людей, каких я знал, и великому радетелю об общественном благе. Я уже заметил, что в сухую погоду лондонские улицы не подметались и мелкий мусор никогда не убирали, он оставался на месте до тех пор, пока дождь не превращал его в грязь, такую глубокую, что перейти через дорогу можно было только по узким тропкам, проделанным метлами бедняков, а через несколько дней эту грязь с великим трудом сгребали в кучи и сваливали в открытые повозки, которые затем, подскакивая на каждой рытвине, разбрасывали ее по всей улице, нередко вызывая большое недовольство пешеходов. Что сухие улицы не подметались, объясняли тем, что пыль полетит в окна домов и лавок. По чистой случайности я узнал, сколько мусора можно вымести за короткое время. Однажды утром я увидел перед своей дверью на Крэвен-стрит бедную женщину, подметавшую мое крыльцо березовым веником; была она бледная и слабая на вид, как после тяжелой болезни. Я спросил, кто поручил ей подметать в этом месте, а она ответила: «Никто. Просто я женщина бедная, хворая, вот и подметаю у господских дверей, авось, думаю, что-нибудь да подадут». Я велел ей подмести всю улицу и обещал заплатить шиллинг. Было это в 9 часов. В 12 она явилась за своим шиллингом. По тому, как медлительны были ее движения вначале, я даже усомнился, что она могла справиться с работой так быстро, и послал слугу проверить, но он доложил, что вся улица подметена чистехонько, а мусор свален в сточную канаву, проложенную посередине. Следующий же дождь смыл его прочь, так что и дорожки, и самая канава оказались совершенно чистыми. Тогда я прикинул, что, если эта слабая женщина могла подмести такую улицу за три часа, здоровый, дюжий мужчина мог бы это сделать вдвое быстрее. Попутно замечу, насколько удобнее иметь на узкой улице одну канаву посередине, а не две по бокам, возле пешеходных дорожек: ведь там, где весь дождь стекает с боков улицы к середине, он образует поток достаточно сильный для того, чтобы смыть всю грязь, какую встречает на своем пути; когда же он разделен на две струи, силы его не всегда на это хватает, и грязь только разжижается, колеса повозок и копыта лошадей выкидывают ее на боковые дорожки, которые становятся зловонными и скользкими, а брызги нередко летят и в прохожих. Мое предложение, с которым я познакомил доктора Фодергилла, выглядело так:
«Для более действенной очистки и содержания в чистоте улиц Лондона и Вестминстера предлагается вменить в обязанность полицейским следить, чтобы в улицах и переулках вверенных им околотков в сухую погоду сметалась пыль, а в другое время сгребался мусор, и снабдить их для этого метлами и другими орудиями, которые хранить при караульных для раздачи тем беднякам, каких они будут нанимать для этой работы. Чтобы в сухие летние месяцы мусор сметать в кучи на определенных расстояниях до того, как обычно открываются лавки и окна домов, и в это же время мусорщикам увозить его в закрытых повозках. Чтобы мусор и грязь не оставлять в кучах на улицах, где колеса и лошади снова их раскидают, но снабжать мусорщиков тележками, поставленными не высоко на колесах, а низко на полозьях и с решетчатым дном, прикрытым соломой, так чтобы мусор сквозь нее не проходил, а вода стекала, от чего тележка становится намного легче, поскольку наибольшую часть ее веса составляет вода. Эти тележки расставлять на удобном расстоянии друг от друга, а мусор подвозить к ним на тачках; тележки же оставлять на местах, пока вода не стечет, а тогда увозить мусор на лошадях».Я с тех пор не раз сомневался в том, выполнима ли последняя часть моего предложения, потому что некоторые улицы так узки, что если поставить в них сушильные санки, они загородят чуть не весь проезд; что же касается первой его части, требующей, чтобы мусор сметать и увозить до открытия лавок, то я до сих пор считаю это легко выполнимым в летнее время, когда дни длинные. Однажды, прохаживаясь по Стрэнду и по Флит-стрит в семь часов утра, я отметил, что ни одна лавка еще не открылась, хотя солнце уже часа три как взошло. Видно, лондонцам нравится жить при свечах, а спать при свете солнца, хотя они в непоследовательности своей и не прочь посокрушаться о налоге на свечи и дороговизне свечного сала. Иные могут подумать, что о таких пустяках не стоило вспоминать и рассказывать, но пусть подумают и о том, что если пыль, занесенная ветром в глаз одному-единственному человеку или в одну-единственную лавку, не столь уж важное событие, однако, повторенное многократно в густонаселенном городе, оно вырастает до размеров значительных, — и тогда они, может быть, не осудят слишком строго тех, кто уделяет внимание предметам, столь, казалось бы, низменного свойства. Человеческое благополучие определяется не столько крупными удачами, кои редко выпадают нам на долю, сколько мелкими обстоятельствами, происходящими изо дня в день. Так, если вы научите небогатого юношу бриться и держать свою бритву в порядке, вы этим, может быть, больше сделаете для счастья всей его жизни, нежели подарив ему тысячу гиней. Деньги он, возможно, скоро промотает и останется только сожаление, что он так безрассудно их растратил; зато в первом случае он избавлен от досадной необходимости ждать цирюльника, от его грязных пальцев, тошнотворного дыхания и тупой бритвы; он бреется тогда, когда это ему удобно, и с приятным сознанием, что бритва его в полной исправности. Такими мыслями я и руководился, когда писал эти несколько последних страниц в надежде, что когда-нибудь изложенные на них соображения пригодятся городу, который я люблю, и где счастливо прожил много лет, а возможно, и некоторым нашим городам в Америке. Прослужив некоторое время под началом у главного почтмейстера Америки в качестве инспектора по нескольким почтовым отделениям с наблюдением за их отчетностью, я, по смерти моего начальника в 1754 году, был, совместно с мистером Уильямом Хантером{188}, назначен его преемником согласно приказу начальника почтового ведомства в Англии. До этого времени американская почтовая служба никогда ничего не платила английской. На двоих нам положили 600 фунтов в год, если мы сумеем выкроить эту сумму из почтовых доходов. Для этого требовался целый ряд преобразований, часть из коих вначале неизбежно влекла за собой немалые дополнительные расходы, так что за первые четыре года служба задолжала нам свыше 900 фунтов. Однако вскоре расходы стали окупаться; и еще до того как меня сместили по прихоти министров, о чем я расскажу ниже, мы уже собирали в три раза больше пошлин в пользу короля, чем почтовая служба Ирландии. А после того, как меня отстранили от должности, они не получили от Америки ни фартинга. По делам, связанным с почтой, мне пришлось в том году побывать в Новой Англии, где Кеймбриджский колледж по собственному почину присвоил мне звание магистра искусств{189}. Йельский колледж в Коннектикуте еще раньше оказал мне такую же честь. Так, никогда не учившись в колледже, я удостоился университетских почестей. Присвоены мне эти звания были в награду за усовершенствования и открытия в электрической отрасли естествознания. В 1754 году, когда опять возникла угроза войны с Францией{190}, Торговая палата распорядилась созвать в Олбани съезд представителей от всех колоний, дабы обсудить с вождями Шести племен меры по обороне их и нашей родины. Получив этот приказ, губернатор Гамильтон ознакомил с ним Ассамблею и просил обеспечить на этот случай подарки для индейцев; а также предложил выбрать спикера (мистера Норриса) и меня представителями от Пенсильвании наряду с мистером Томасом Пенном и мистером Питерсом. Ассамблея поддержала эти кандидатуры и выделила средства для подарков, хоть и не любила, чтобы деньги утекали из провинции, и в середине июня мы встретились в Олбани с делегатами от других колоний. По пути туда я набросал план объединения всех колоний{191} под единым управлением, насколько это будет необходимо для обороны и других совместных действий. Проездом в Нью-Йорке я показал мой проект мистеру Джеймсу Александеру и мистеру Кеннеди{192}, двум господам, весьма осведомленным в политических вопросах, и, вдохновленный их одобрением, решился представить его съезду. Тут выяснилось, что некоторые другие делегаты тоже подготовили такого рода проекты. Для начала был обсужден вопрос, следует ли вообще объединиться, этот вопрос был единогласно решен в положительном смысле. Затем был назначен комитет, в который вошло по одному представителю от каждой колонии и которому было предложено рассмотреть все проекты и представить соответствующий доклад. Предпочтение было отдано моему проекту, который и был доложен съезду. Согласно этому проекту общее управление осуществлял генеральный президент, назначенный и поддержанный короной, и верховный совет, избранный представителями каждой провинции на заседании своей Законодательной Ассамблеи. На съезде прения по этому вопросу проходили ежедневно наряду с обсуждением индейских дел. Возникло немало возражений и трудностей, но все они в конце концов были преодолены, проект был единогласно утвержден, и списки его решено направить Торговой палате и Ассамблеям всех провинций. Странная судьба постигла его: Ассамблеи его не приняли, считая чрезмерной прерогативу, предоставленную короне, а в Англии его сочли чересчур демократичным. Поэтому Торговая палата опротестовала его и не представила на утверждение его величеству, и был составлен другой проект, якобы лучше отвечающий тому же назначению, а именно, чтобы губернаторы провинций каждый с несколькими членами своего совета, договорились между собой и издали приказ: набирать войска, строить форты и проч., а средства на эти расходы они получат из английской казны, с тем чтобы со временем возместить их путем налогообложения Америки, предписанного парламентским актом. Мой проект и мои доводы в пользу его можно найти в числе моих политических статей, ныне опубликованных. Оказавшись следующей зимой в Бостоне, я много беседовал об обоих проектах с губернатором Шерли{193}. Частично эти беседы тоже запечатлены в тех же статьях. Судя по тому, сколь разнообразны и противоречивы возражения против моего проекта, я подозреваю, что он все же был ближе к совершенству; и до сих пор держусь того мнения, что, будь он принят, от этого проистекло бы много пользы по обе стороны океана. Колонии, объединенные по моему плану, были бы достаточно сильны, чтобы себя защитить; не понадобилось бы посылать войска из Англии; безусловно, не пришлось бы измышлять предлогов для обложения Америки налогом и не произошло бы кровопролитных столкновений, им вызванных. Но такие ошибки не новость. История изобилует подобными промахами государств и монархов.
Объявление
Ланкастер, апреля 26-го, 1755. Ввиду того, что в войсках его величества, имеющих сосредоточиться у Уиле-Крика, требуются 150 повозок и к каждой по четыре лошади, а также 1500 верховых или вьючных лошадей, и что его превосходительство генерал Брэддок изволил уполномочить меня обеспечить таковые, настоящим объявляю, что с этой целью я пробуду в Ланкастере от сего дня до вечера будущей среды, а в Йорке от утра будущего четверга до вечера будущей пятницы, где готов договариваться о найме подвод и упряжек или отдельных лошадей на следующих условиях, именно: 1. Что за каждую повозку с четырьмя хорошими лошадьми и подводчиком будет платиться 15 шиллингов в день, а за каждую лошадь с вьючным либо иным седлом и сбруей 2 шиллинга в день, а за каждую лошадь без седла 18 пенсов в день. 2. Оплата начинается с того дня, когда лошади и прочее будут доставлены в распоряжение войск у Уилс-Крика, то есть не позднее 20 мая с. г., и дополнительно будет в разумных размерах оплачено время, потребное на дорогу до Уилс-Крика и обратно домой. 3. Каждая повозка и упряжка и каждая верховая или вьючная лошадь будет оценена беспристрастными людьми по выбору моему и владельца и в случае потери любой повозки, упряжки или других лошадей стоимость их будет возмещена согласно такой оценке. 4. Владелец каждой повозки, упряжки или лошади может, если пожелает, сразу получить от меня в виде задатка плату за семь дней, а остальное получит от генерала Брэддока или из казначейства при возвращении имущества или частями, как ему будет угодно. 5. Подводчиков и людей, занятых при лошадях, ни в коем случае не будут принуждать к выполнению солдатской службы, ни к какой бы то ни было работе, кроме заботы о подводах и лошадях. 6. Весь овес, кукуруза или иной фураж, доставленный вьюком или подводами в лагерь сверх того, что необходимо для прокорма лошадей, забирается для армии и оплачивается в разумных размерах. П р и м е ч а н и е. Мой сын Уильям Франклин уполномочен заключать подобные же соглашения с любым лицом в графстве Камберленд.Б. Франклин.
Жителям графств Ланкастер, Йорк и Камберленд
Друзья и сограждане! Случайно оказавшись несколько дней тому назад в лагере Фредерик, я застал там генерала и его офицеров в великом гневе по причине отсутствия лошадей и повозок, которые они рассчитывали получить от провинции, лучше других способной их предоставить; через разногласия между нашим губернатором и Ассамблеей деньги для этой цели не были отпущены и никаких мер не принято. Предполагалось немедленно послать в эти графства военный отряд, чтобы захватить сколько потребуется лучших лошадей и повозок, а также силой набрать в армию столько людей, сколько потребуется для их обслуживания. Я опасался, что присутствие английских солдат в этих графствах по такому случаю, а тем более принимая во внимание их предубежденность против нас, будет сопряжено с многими и нешуточными неудобствами для жителей, и поэтому с готовностью взял на себя труд сначала попробовать, чего можно достигнуть справедливыми и законными средствами. Жители этих глубинных графств в последнее время жаловались на недостаток денег; теперь вам представляется случай получить и разделить между собой весьма значительную сумму, ибо, если обслуживание этого похода продлится 120 дней, что весьма вероятно, плата за наем повозок и лошадей составит 30 000 фунтов, кои будут выданы вам серебром и золотом из королевской казны. Служба будет необременительной и легкой, ибо войска едва ли будут проходить более двенадцати миль в день, а повозки и вьючные лошади, как везущие вещи, совершенно необходимые для довольства войск, должны двигаться вместе с армией, но не быстрее, и, в интересах армии, всегда находиться в безопасных местах, будь то на марше или в лагере. Если вы, в чем я не сомневаюсь, подлинно верные и преданные подданные его величества, сейчас вы можете выполнить в высшей степени насущную задачу без лишних для себя трудностей; если трое или четверо из вас по отдельности не могут оторвать от работы на своих плантациях фургон, четырех лошадей и подводчика, они могут сделать это сообща: один даст фургон, другой одну или двух лошадей, третий подводчика, а деньги поделите между собой. Но если вы не окажете этой услуги королю и отечеству по доброй воле, когда вам предлагается такая хорошая плата и выгодные условия, ваши верноподданнические чувства безусловно будут поставлены под сомнение. Дело короля должно быть сделано. Столько храбрых воинов, совершивших столь дальний путь, чтобы защищать вас, не должны бездействовать оттого, что вы станете отлынивать от помощи, которой от вас естественно ждут; добыть повозки и лошадей необходимо; вероятно, будут приняты насильственные меры, и придется вам тогда искать вознаграждения где угодно, причем едва ли вы возбудите в ком сочувствие и жалость. Лично я в этом деле не заинтересован. Ведь если не считать удовлетворения, которое я испытаю от попытки принести пользу, мне за труды достанется только лишняя работа. Если станет ясно, что этот мой способ добыть лошадей и повозки не возымел успеха, я обязался в двухнедельный срок поставить об этом в известность генерала, и я полагаю, что сэр Джон Сент-Клер, гусар, с отрядом солдат не замедлит вступить с этой целью в пределы провинции, а узнать об этом мне будет тяжело, ибо я, как и раньше, ваш искренний друг и доброжелатель.Я получил от генерала около 800 фунтов для раздачи в виде задатков владельцам фургонов и прочего, но этой суммы не хватило, и я добавил к ней еще двести фунтов с лишком, и через две недели все 150 повозок и 250 лошадей выступили в лагерь. В объявлении было сказано, что в случае потери повозки или лошади стоимость ее будет возмещена согласно предварительной оценке. Однако владельцы, оправдываясь тем, что не знают генералы Крэддока и насколько можно полагаться на его обещание, непременно потребовали от меня письменного обязательства, каковое я им и выдал. Пока я находился в лагере и однажды вечером ужинал с офицерами полковника Данбара, сей последний сообщил мне, что сильно озабочен положением своих унтер-офицеров, которые, по его словам, будучи в большинстве людьми небогатыми, не могли в этой стране, где все так дорого, запастись провиантом на весь предстоящий им долгий переход по диким местам, где и купить-то ничего невозможно. Я посочувствовал ему и решил попытаться как-нибудь облегчить их положение. Но ему я ничего не сказал о моем намерении, а на следующее утро написал письмо в комитет Ассамблеи, у которого были в распоряжении кое-какие общественные деньги, прося подумать о судьбе этих офицеров и предлагая послать им в подарок чего-нибудь съестного. Мой сын, имевший некоторый опыт лагерной жизни, составил мне список, который я и вложил в письмо. Комитет одобрил и так рьяно взялся за дело, что припасы, по указаниям моего сына, прибыли в лагерь одновременно с повозками. Всего было двадцать тюков, и в каждом содержалось: 6 ф. очищенного сахара 6 ф. хорошего тростникового сахара 1 ф. хорошего зеленого чая 1 ф. черного чая 1 ф. хорошего молотого кофе 6 ф. шоколада 1–2 центнера лучших белых сухарей 1–2 ф. перца 1 кварта лучшего винного уксуса 1 круг глостерского сыра 1 бочонок, содержащий 20 ф. хорошего масла 2 дюжины бутылок старой мадеры 2 галлона ямайского рома 2 копченых окорока 1 бут. сухой горчицы 1–2 дюжины вяленых языков 6 ф. риса 6 ф. изюма. Эти двадцать тюков, тщательно упакованные, были погружены на 20 лошадей, и каждый, вместе с лошадью, предназначался в подарок одному офицеру. Приняты они были с великой признательностью, мне прислали благодарственные письма командиры обоих полков. Генерал тоже остался очень доволен тем, как я добыл для него повозки, без слова возражения оплатил поданный мною счет на произведенные расходы и снова и снова благодарил меня и просил помогать и впредь, посылая провиант вслед его войскам. Я взялся и за это и не переставал помогать ему, пока мы не узнали о его поражении, тратя собственные деньги, свыше 1000 фунтов, на которые и послал ему счет. К счастью для меня, он получил этот счет за несколько дней до сражения и сразу же прислал мне приказ на казначейство на круглую сумму в 1000 фунтов, а остальное отложил до следующего счета. Я считаю, что с этой уплатой мне исключительно повезло, ибо остальных денег я так и не получил, но об этом ниже. Думаю, что генерал Брэддок был храбрым человеком и в какой-нибудь европейской войне показал бы себя искусным военачальником. Но он был слишком уверен в себе, переоценивал доблесть регулярных частей и недооценивал американцев и индейцев. Джордж Гроган, наш проводник-индеец, сопровождал его в этом походе с сотней своих соплеменников, которые могли бы быть чрезвычайно полезны армии в качестве проводников, лазутчиков и т. п., если бы он обращался с ними по-доброму. Но он их обижал, пренебрегал ими, и постепенно все они его покинули. Однажды в разговоре он изложил мне план своей операции. «Захватив форт Дюкен, — сказал он, — я проследую к Ниагаре, а захватив ее — к Фронтейаку, если продержится погода; а в этом я уверен, ведь Дюкен едва ли отнимет у меня больше трех или четырех дней, а после этого я не вижу ничего, что помешало бы мне следовать к Ниагаре». Я уже раньше думал о том, как растянется его колонна на марше по очень узкой дороге, которую предстояло для нее прорубить через лес и кустарник, и помнил, что читал о поражении 1500 французов{199}, вторгшихся на земли ирокезов; поэтому у меня зародились кое-какие сомнения в успехе его экспедиции. Но я не осмелился их высказать, а только ответил: «Разумеется, сэр, если вы подойдете к Дюкену с этими прекрасными войсками, снабженными артиллерией, этот пункт, еще не полностью укрепленный и притом с не особенно сильным, по нашим сведениям, гарнизоном, вероятно, будет сопротивляться недолго. Единственная опасность, какая, думается мне, может задержать ваше продвижение, — это засады индейцев, они постоянно их устраивают и стали весьма искусны в этом деле; а войска ваши будут растянуты в тонкую нитку длиною около четырех миль и не защищены от нападений с флангов, так что нитка эта может оказаться разрезана на несколько кусков, и они не успеют подтянуться на подмогу друг другу». Мое невежество показалось ему забавным, и он возразил с улыбкой: «Возможно, вашей американской милиции эти дикари и впрямь кажутся грозным врагом, но смешно думать, будто они представляют опасность для регулярной дисциплинированной королевской армии». Понимая, что мне не пристало спорить с военным о вопросах, касающихся до его ремесла, я умолк. Однако неприятель, вопреки моим опасениям, не воспользовался тем, что английская колонна так растянулась, но дал ей беспрепятственно продвинуться, пока она не оказалась в 9 милях от цели, а тут, когда она сгрудилась теснее (авангард, только что переправившись через речку, остановился, поджидая остальных), в более редком лесу, чем па предыдущей части пути, ударил по авангарду сильным огнем из-за кустов и деревьев, и генерал только сейчас понял, как близко от него неприятель. Авангард был смят, генерал спешно послал войска ему на выручку, и солдаты устремились вперед в полном беспорядке, через повозки, обоз и скот, а тут их обстреляли с фланга. Офицеров, более заметных, потому что они были верхами, снимали первыми, они падали один за другим, и солдаты, сбиваясь в кучи, не слыша приказов, подставляли себя под огонь, пока две трети их не было перебито, а потом остальные в панике обратились в бегство. Подводчики схватили каждый по лошади из своей упряжки и удрали, их примеру не замедлили последовать и другие, так что все повозки, артиллерия и багаж достались неприятелю. Генерал был ранен, его с трудом увезли; его секретарь, находившийся рядом с ним, был убит, из 86 офицеров 63 были убиты или ранены, из 1000 солдат убито 814. Эти 1100 были лучшими во всей армии, другие были оставлены под начальством полковника Данбара, который должен был двигаться следом с главными запасами багажа и провианта. Беглецов не преследовали, они ворвались в лагерь Данбара, и тот, как и все его люди, мгновенно поддался панике и, хотя у него было больше 1000 солдат, а неприятельский отряд, разбивший Брэддока, насчитывал не более 400 индейцев и французов, даже не попытался хотя бы частично смыть позор, а повелел уничтожить все припасы, провиант и прочее, дабы оставить себе больше лошадей и меньше лишнего груза для бегства к поселениям. Там губернаторы Виргинии, Мэриленда и Пенсильвании встретили его требованиями расположить своих солдат на границах для защиты мирных жителей, но он продолжал поспешно отступать все дальше, полагая, что будет в безопасности, лишь когда достигнет Филадельфии, где его защитят горожане. Вся эта операция впервые заставила нас, американцев, усомниться в том, обосновано ли было наше восхищение английской регулярной армией. Еще раньше, на первом переходе от места высадки и до конца поселений, они грабили жителей, много бедных семейств обобрали до нитки, а тех, кто пробовал спорить, оскорбляли и брали под стражу. Этого было достаточно, чтобы мы перестали радоваться таким защитникам, если вообще в них нуждались. Как непохоже это было на поведение наших французских друзей в 1781 году, когда во время перехода по густонаселенным областям нашей страны из Род-Айленда в Виргинию, около 700 миль, они ни разу не дали нам оснований пожаловаться на пропажу свиньи, курицы или хотя бы яблока. Капитан Орм, один из адъютантов генерала Брэддока, будучи тяжело ранен и увезен с поля боя вместе с ним, и пробывший с ним рядом до самой его смерти, наступившей через несколько дней, рассказал мне, что весь первый день генерал не проронил ни слова и только вечером произнес: «Кто бы мог подумать». А на следующий день опять молчал. Последние его слова были: «В другой раз будем знать, как с ними справиться», — и через несколько минут он испустил дух. Сумка убитого секретаря, в которой были все приказы, инструкции и переписка генерала, попала в руки французов, и те отобрали, перевели на французский язык и обнародовали многое из этих бумаг, чтобы доказать враждебные демарши английского двора, предпринятые еще до объявления войны. Среди них я видел и письма генерала к министрам, содержавшие лестные отзывы о важных услугах, оказанных мною армии. И Дэвид Юм{200}, ставший через несколько лет после того секретарем лорда Хартфорда, бывшего тогда английским посланником по Франции, а впоследствии генерала Конвея, в бытность последнего министром, рассказывал мне, что сам видел в министерстве письма от Брэддока, рекомендующего меня с лучшей стороны. Но поскольку экспедиция его окончилась плачевно, мои заслуги, видимо, не сочли достойными внимания, ибо эти рекомендации мне ни разу не пригодились. Что касается до наград от самого Брэддока, то я просил только об одной: чтобы он повелел своим офицерам не вербовать больше в армию наших кабальных слуг и распустить тех, что уже завербованы. Это он с готовностью выполнил, и многие из них были, по моему представлению, возвращены хозяевам. Данбар, когда командование перешло к нему, оказался не столь великодушен. Когда он во время своего отступления или, вернее, бегства, достиг Филадельфии, я обратился к нему с просьбой отпустить из армии завербованных им слуг трех неимущих фермеров из графства Ланкастер, напомнив ему о приказе скончавшегося генерала. Он обещал, что если хозяева явятся к нему в Трентон, где он будет через несколько дней на пути в Нью-Йорк, он отдаст им их слуг. И фермеры отправились в Трентон, не пожалев на то ни времени, ни расходов, а там он отказался выполнить свое обещание, чем причинил им великие убытки и огорчения. Как только весть о пропаже повозок и лошадей распространилась, владельцы осадили меня, требуя возмещения, которое я обязался им выплатить согласно оценке. Эти требования доставили мне много хлопот. Я объяснял, что деньги находятся у казначея, но сперва надобно получить приказ о выплате у генерала Шерли{201}; заверял, что уже обратился к генералу с письмом, но поскольку он далеко, ответа придется подождать и пусть наберутся терпения; но всего этого им было мало, и некоторые успели подать на меня в суд. В конце концов генерал Шерли вызволил меня из этого ужасного положения, назначив комиссию, коей поручено было рассмотреть жалобы и распорядиться о платежах. Если бы платить пришлось мне, я был бы разорен. Еще до того, как мы узнали о поражении, ко мне явились оба доктора Бонда с подписным листом, они собирали деньги на грандиозный фейерверк в честь взятия нами форта Дюкен. Я нахмурился и сказал, что подготовиться к празднествам мы еще успеем, когда узнаем, что имеем причины для ликования. Их как будто удивило, что я не сразу откликнулся на их предложение. «Черт возьми! — сказал один из них. — Не думаете же вы, что форт не будет захвачен?» — «Я не знаю, что он не будет захвачен, — возразил я, — но знаю, что войны полны превратностей». Я обосновал им мои сомнения, подписка была прекращена, и зачинатели ее таким образом избавлены от позора, который пал бы на их головы, если бы фейерверк успели подготовить. Позже, по какому-то другому случаю, доктор Бонд сказал, что предчувствия доктора Франклина ему не нравятся. Губернатор Моррис, который до разгрома Брэддока одолевал Ассамблею посланиями, чтобы она издала закон о сборе средств на оборону провинции, притом без обложения налогом поместий, принадлежавших владетелям, и отвергал все проекты, не включавшие такой оговорки, теперь возобновил свои атаки с большей надеждой на успех, поскольку и опасность, и нужда возросли. Депутаты, однако, держались стойко, полагая, что дело их справедливое и что они лишатся одного из своих важнейших прав, если допустят, чтобы губернатор вносил поправки в их финансовое законодательство. В одном из последних документов такого рода, где речь шла об ассигновании 50 000 фунтов, он предложил поправить всего одно слово. В документе было сказано, что «налогом облагается все имущество, недвижимое и личное, не исключая собственности владетелей». Он же предложил вместо не исключая написать исключая лишь — поправка небольшая, но весьма существенная. Однако когда весть о катастрофе достигла Англии, наши тамошние друзья, которых мы своевременно ознакомили со всеми ответами Ассамблеи на послания губернатора, стали открыто возмущаться скупостью и несправедливостью владетелей, давших своему губернатору такие инструкции, а иные даже заявили, что, чиня препятствия в обороне провинции, они тем самым лишают себя права владеть там землей. Это их припугнуло, и они дали своему поверенному распоряжение впредь добавлять 5000 фунтов из их денег к любой сумме, ассигнованной Ассамблеей для целей обороны. Ассамблея, будучи об этом извещена, постановила принимать эту сумму взамен их доли в общем налоге, и был составлен новый проект закона, на сей раз с оговоркой, который и был утвержден. Согласно этому закону я был включен в комиссию по распоряжению деньгами в сумме 60 000 фунтов. Я сам участвовал в уточнении текста закона и одновременно составил проект другого закона — об учреждении и обучении добровольной милиции, который и провел через Ассамблею без особенных затруднений, потому что позаботился оговорить в нем, что квакеров к службе в милиции принуждать не будут. Чтобы подготовить почву для набора милиции, я написал диалог{202}, в котором содержались все возражения против в нее, какие я только мог предусмотреть, и ответы на них. Он был напечатан и, как мне кажется, возымел действие. Пока в городе и вокруг него формировались и проходили учения отряды милиции, губернатор уговорил меня возглавить оборону нашей северо-западной границы, кишевшей французами и индейцами, и обеспечить безопасность жителей путем набора войск и постройки линии фортов. Я взялся выполнить эту военную задачу, хотя и не считал себя вполне для того пригодным. Он выдал мне приказ со всеми полномочиями и еще пачку приказов офицерам без указания имени, для вручения тем, кого я сочту подходящими. Набрать людей оказалось нетрудно, скоро у меня под началом уже было 560 человек. Мой сын, который участвовал в предыдущей войне в качестве офицера армии, воевавшей с Канадой, был моим адъютантом и очень мне помог. Индейцы сожгли Гнаденхут, деревню, населенную «моравскими братьями»{203}, и перебили тамошних жителей; но место это было сочтено подходящим для одного из фортов. Чтобы проследовать туда, я стянул свои части в Бетлехем, главное поселение этой секты. К моему удивлению, он оказался хорошо подготовлен к обороне; уничтожение Гнаденхута заставило жителей насторожиться и принять меры: главные здания были обнесены частоколом; в Нью-Йорке было закуплено много оружия и припасов, а между окнами своих высоких каменных домов они даже расположили кучи булыжника, дабы их женщины могли сбрасывать эти камни на головы индейцев, если те попытаются проникнуть в дом. Сами же «братья» несли караул и сменяли друг друга неукоснительно, как заправский гарнизон. В разговоре с их епископом Шпангенбергом я не скрыл своего удивления: я ведь знал, что они добились парламентского акта, освобождающего их от несения военной службы в колониях, и что совесть не позволяет им носить оружие. Он отвечал, что это не входит в число их основных правил, но в то время, когда они хлопотали о парламентском акте, считалось, что многие из них этого правила придерживаются. Теперь же выяснилось, что сторонников этого правила совсем немного. Либо они заблуждались относительно собственных взглядов, либо относительно парламента, но здравый смысл вкупе с опасностью нередко одерживает верх над преходящими мнениями. К постройке фортов мы приступили в начале января. Один отряд я отправил к Минисинку с приказанием возвести там форт для защиты горной части провинции, другой — с такой же задачей — в ее низменную часть, а сам с остальными силами решил идти к Гнаденхуту, где форт, как мне представлялось, был нужнее всего. «Братья» дали мне пять телег для наших принадлежностей, припасов, багажа и проч. Перед самым нашим выступлением из Бетлехема ко мне явились одиннадцать фермеров, согнанных со своих земель индейцами, и просили снабдить их огнестрельным оружием, дабы они могли вернуться к себе и отбить свой скот. Я дал каждому по ружью с запасом патронов. Не прошли мы и нескольких миль, как начался дождь и лил весь день. По дороге не было никаких жилищ, где мы могли бы укрыться, и лишь поздно вечером мы добрались до фермы какого-то немца и, промокшие до нитки, улеглись вповалку в его сарае. Хорошо, что на нас не напали на этом переходе; оружие у нас было самое нехитрое и ружейные замки намокли. Индейцы наловчились сохранять их сухими, а мы этого не умели. В тот день индейцы встретили одиннадцать несчастных фермеров, упомянутых выше, и десятерых из них убили. Тот, что спасся, рассказал нам, что ружья его и его спутников не стреляли, потому что заряды намокли от дождя. На следующий день развиднелось, мы двинулись дальше и достигли разоренного Гнаденхута. Поблизости была лесопилка, возле нее брошено несколько штабелей досок, из которых мы тут же соорудили бараки; в такое ненастье это было самое для нас необходимое, потому что палаток у нас не было. Первым делом мы занялись тем, что поглубже захоронили мертвые тела, которые местные жители лишь кое-как забросали землей. На следующее утро мы спланировали и разметили наш форт, окружность его составила 455 футов, а значит, требовалось построить такой же длины частокол из деревьев, каждое диаметром в фут, вбитых впритык одно и другому. Тотчас пошли в ход топоры, каковых у нас было семьдесят, а так как валить деревья наши люди умели, работа спорилась. Видя, как быстро падают деревья, я из любопытства заметил по часам, когда они вдвоем начали рубить сосну. Через шесть минут она уже не жала на земле, и диаметр ее оказался 14 дюймов. Из каждой сосны получалось три кола длиною в восемнадцать футов, с одного конца заостренных. Пока одни наши люди заготавливали колья, другие копали по всей окружности ров глубиной три фута, в который колья предстояло вбить; а доставили мы их из леса на своих слегах так: кузов сняли, переднюю и заднюю ось с колесами отделили друг от друга, вынув шкворень, соединявший обе части дроги, так что из каждой телеги вышло две каталки, в которые впрягли по паре лошадей. Когда частокол был поставлен, наши плотники изнутри обвели его дощатым помостом высотой в шесть футов, на котором могли бы стоять люди, чтобы стрелять из щелей. У нас была одна поворотная пушка, мы установили ее на одном из углов и тут же выстрелили, чтобы индейцы, если таковые есть поблизости, знали, чего от нас можно ждать; и таким образом наш форт, если позволительно столь торжественно именовать такую жалкую загородку, был построен за одну неделю, притом что примерно через день из-за дождя вообще невозможно было работать. Тут я имел возможность убедиться, что довольнее всего люди бывают, когда они заняты делом. Вот и эти, когда работали, были добродушными, неунывающими и вечера проводили весело, с сознанием, что не зря прожили день; а когда работать не удавалось, сразу начинали ворчать и жаловаться, и свинина-то им нехороша, и хлеб невкусный, и все кругом плохо. Это напомнило мне одного шкипера, который взял за правило не давать своим матросам ни минуты передышки. Когда помощник сказал ему однажды, что они сделали все, что требовалось, и больше занять их нечем, шкипер ответил: «Вот как? Ну что ж, пусть отчистят якорь». Такого рода форт, сколь он ни слаб, достаточная защита против индейцев, потому что у них нет артиллерии. Чувствуя себя в безопасности и имея куда укрыться в случае надобности, мы отважились, разделясь на группы, обследовать окружающую местность. Индейцев мы не встретили, но видели на окрестных холмах места, откуда они наблюдали за нашей работой. Устраивались они в таких местах столь искусно, что об этом стоит упомянуть. Стояла зима, им нужен был огонь, но обыкновенный костер был бы виден издали и выдал бы их присутствие. Поэтому они рыли ямы фута в три диаметром и чуть больше в глубину; мы видели, где они своими томагавками обрубали уголь со стволов сожженных деревьев, брошенных в лесу. Из этого угля они устраивали небольшие костры на дне ямы, и мы видели среди травы и бурьяна отпечатки их тел, как они располагались вокруг ямы, свесив ноги к огню, ибо они особенно заботятся о том, чтобы держать в тепле ноги. Такие костры не могли их выдать ни светом, ни пламенем, ни искрами, ни даже дымом. Было их, судя по всему, немного, и они, надо полагать, поняли, что мы для них слишком мощный враг и нападать на нас не стоит. Наш капеллан, благочестивый священник-пресвитерианин мистер Бичи, как-то пожаловался мне, что люди ленятся слушать его молитвы и проповеди. Когда их вербовали, им, помимо жалованья и прокорма, обещали четверть пинты рома в день и они аккуратно получали эту порцию — половину утром и половину вечером. Я успел отметить, как аккуратно они за ней являются, и теперь ответил мистеру Бичи: «Возможно, вы сочтете должность виночерпия несовместимой с вашим саном, но, если бы вы стали раздавать ром сейчас же после молитвы, они бы ходили за вами по пятам». Мысль эта ему понравилась, он ею воспользовался и с помощью нескольких людей, отмерявших порции, стал выполнять все в лучшем виде; и никогда еще люди не собирались на молитву так дружно и так вовремя. Я подумал тогда, что такая метода, пожалуй, предпочтительнее, нежели наказания, предписанные некоторыми военными законами для тех, кто не присутствует на богослужениях. Едва я покончил с этим делом и надолго обеспечил мой форт провиантом, как получил письмо от губернатора, сообщавшего мне, что он созвал Ассамблею и просит меня присутствовать на заседаниях, если положение на границе больше не требует моего пребывания там. Поскольку мои друзья, члены Ассамблеи, тоже слали мне письмо за письмом с тою же просьбой, а три мои форта были построены и жители готовы остаться на своих землях под их защитой, я решил возвратиться, тем более что один офицер из Новой Англии полковник Клэпем, понаторелый в войнах с индейцами, находился в то время в расположении моего отряда и согласился принять от меня командование. Я написал о том приказ, велел построить гарнизон и прочитать приказ перед строем, и сам отрекомендовал солдатам Клэпема как офицера, более меня искушенного в военном деле, а следственно, более пригодного для того, чтобы ими командовать, и после краткой прощальной речи отбыл в Филадельфию. До Бетлехема меня торжественно проводили, и там я пробыл несколько дней, отдыхая от утомительных трудов последних месяцев. В первую ночь я никак не мог уснуть в удобной постели, столь непохожей на жесткий пол нашего барака в Гнадене, где вся постель состояла из пары одеял. В Бетлехеме я разузнал много нового об образе жизни «моравских братьев»; некоторые из них меня провожали, и все были со мною очень любезны. Я узнал, что свои заработки они отдают в казну всей общины, едят за общим столом и спят в общих спальнях по многу человек вместе. В спальнях я приметил щели в стенах, прорезанные под самым потолком и с толком расположенные для проветривания комнат. Я побывал в их церкви, где слышал хорошую музыку — орган в сопровождении скрипок, гобоев, флейт, кларнетов и проч. Их проповеди, как выяснилось, обычно бывают обращены не к смешанной пастве, то есть к мужчинам, женщинам и детям, что для нас привычно, но собирают по отдельности когда женатых мужчин, а когда их жен, или молодых мужчин, или молодых женщин, или детей. Мне довелось послушать проповедь, обращенную к детям. Детей привели и рассадили рядами на лавках, за мальчиками присматривал молодой человек, их учитель, за девочками молодая женщина. Проповедь была рассчитана на их понимание и выдержана в приятном, совсем не высокопарном тоне, их словно ласково уговаривали поступать хорошо, а не дурно. Вели они себя очень благонравно, но показались мне бледными и болезненными, и я подумал, что они, наверно, мало бывают на воздухе и мало двигаются. Я поинтересовался моравскими браками, верно ли говорят, что их заключают по жребию. Мне объяснили, что к жребию прибегают лишь в исключительных случаях; обычно же, когда молодой человек надумает жениться, он ставит об этом в известность своих старейшин, а те советуются со старейшими из женщин, которым подчинены молодые девушки. Эти старейшины обоего пола хорошо изучили вкусы и нрав своих учеников и учениц, и могут судить о том, кому с кем сочетаться браком. Обычно к их мнению прислушиваются, но если, к примеру, оказывается, что какому-то молодому человеку в равной степени подходят две или три разные девушки, вот тогда бросают жребий. Я возразил, что, если заключать брак не по взаимному выбору сторон, он может оказаться очень несчастливым, и услышал в ответ: «То же случается и когда молодым людям предоставляют выбирать самим». И этого я, по чистой совести, не мог отрицать. По возвращению в Филадельфию я убедился, что вербовка в милицию идет полным ходом. Жители, кроме квакеров, чуть не поголовно в нее записались, разбились на отряды и выбрали себе капитанов, поручиков и прапорщиков в согласии с новым законом. Доктор Б. побывал у меня и подробно рассказал, сколько усилий он употребил, чтобы склонить общественное мнение в пользу этого закона, приписывая успех именно своим усилиям. Я-то, грешным делом, приписывал его моему «Диалогу»; однако, допуская, что он, может быть, и прав, не стал разубеждать его и думаю, что в таких случаях это наилучшее решение. Офицеры единодушно выбрали меня командиром полка, и на сей раз я не стал отказываться. Уж не помню, сколько у нас было рот, но на смотр мы вывели около 1200 бравых молодцов и артиллерию в составе шести полевых орудий, из которых они научились производить двенадцать выстрелов в минуту. После того как я в первый раз делал смотр моему полку, офицеры проводили меня до дому и дали в мою честь залп, от которого в моей электрической машине лопнули склянки. Впрочем, мое возвышение оказалось столь же хрупким, ибо вскоре после того все наши назначения свелись к нулю, так как в Англии закон о милиции был признан недействительным. В недолгую пору моего полковничества, когда я однажды собрался съездить в Виргинию, офицерам моего полка взбрело в голову, что им следует проводить меня до Ловер-Ферри. Когда я уже садился на лошадь, они явились к моему дому, числом тридцать или сорок, верхами и в мундирах. Я не был предуведомлен об этой затее, не то отменил бы ее, ибо всякие парадные церемонии мне всегда претили и вид их очень меня огорчил, но помешать им сопровождать меня я уже не мог. В довершение всего едва мы тронулись с места, как они обнажили сабли и так всю дорогу и ехали с саблями наголо. К го-то сообщил об этом владетелю{204}, и тот до глубины души оскорбился. Ни его губернаторам, ни ему самому, когда он находился в нашей провинции, таких почестей не оказывали; он заявил, что они приличествуют только особам королевской крови. Возможно, так оно и было, я то не знал, какие правила этикета предусмотрены на подобные случаи. Однако эта глупейшая история усугубила вражду, колерую он уже питал ко мне за мои речи в Ассамблее касательно освобождения его земель от обложения налогом, против чего я всегда восставал очень горячо, позволяя себе резко отзываться о его скупости и несправедливости. Он пожаловался на меня министрам, заявив, что я главная помеха королевской службе и благодаря своему влиянию в Ассамблее препятствую прохождению законов о сборе средств, а в подтверждение своих слов привел эту затею моих офицеров, расценив ее как доказательство моего намерения насильно отнять у него управление провинцией. Обратился он также к начальнику почтового ведомства сэру Эверарду Фокнеру, по добился лишь того, что сэр Эверард мягко меня пожурил. Несмотря на постоянные трения между губернатором и Ассамблеей, в которых я, как член Ассамблеи, столь ретиво участвовал, мои отношения с ним оставались учтивыми и личных ссор между нами не бывало. С тех пор мне не раз приходило в голову, почему он совсем или почти не держал на меня зла за ответы на его послания, которые, как он знал, составлялись мною; то была профессиональная привычка, иными словами, он, получив юридическое образование, видел в нас обоих всего лишь адвокатов, представляющих стороны в тяжбе, он — владетелей, а я — Ассамблею. Так или иначе, ему случалось по-дружески меня навещать, чтобы дать мне совет по какому-нибудь сложному пункту, а иногда — впрочем, нечасто — чтобыспросить моего совета. Мы действовали заодно, когда снабжали армию Брэддока провиантом, а когда пришла страшная весть о его поражении, губернатор поспешно вызвал меня, чтобы посоветоваться, какими мерами предотвратить уход жителей из глубинных графств. Уж не помню, какой совет я ему подал, но, кажется, он сводился к тому, чтобы написать Данбару и попытаться уговорить его поставить войска на границе до того времени, когда он, получив подкрепление из колоний, сможет проследовать дальше со своей экспедицией. А когда я вернулся с границы, он хотел, чтобы я сам провел такую экспедицию с войсками провинции для захвата форта Дюкен, потому что у Данбара были другие планы, меня же предлагал произвести в генералы. Я был не столь высокого мнения о моих военных талантах, как он мне внушал, и думаю, что он сам преувеличивал свою веру в них; но он, возможно, полагал, что моя популярность поможет набрать нужные войска, а мой вес в Ассамблее — отпустить денег на их оплату, притом так, чтобы не облагать налогом обширных владений. Поняв, что его предложения меня не прельщают, он отступился, а вскоре ушел с губернаторского поста, и его сменил капитан Денни. До того как рассказать о моем участии в общественной жизни при новом губернаторе, следует, пожалуй, вкратце описать начало и рост моей известности как ученого. В 1746 году, будучи в Бостоне, я познакомился там с неким доктором Спенсом, который недавно прибыл из Шотландии и показал мне кое-какие опыты с электричеством. Поставлены они были очень несовершенно, ибо он не был мастером в этом деле, но поскольку сей предмет был для меня внове, они меня удивили и очень мне понравились. Вскоре после моего возвращения в Филадельфию наше библиотечное содружество получило в подарок от мистера П. Коллинсона{205}, члена Лондонского Королевского общества, стеклянную трубку с указаниями о том, как использовать ее в таких опытах. Я ухватился за эту возможность повторить то, что было мне показано в Бостоне, и путем неустанных упражнений научился ставить такие опыты, о каких нам писали из Англии, а также добавил от себя новых. Я сказал о «неустанных упражнениях», потому что мой дом был всегда полон людей, приходивших посмотреть эти новые чудеса. Чтобы частично переложить сие бремя на моих друзей, я распорядился выдуть на нашем стекольном заводе еще несколько таких трубок, так что проделывать опыты стали уже несколько человек. Самым ловким из них был мистер Киннерсли, мой сосед, человек образованный, но временно не у дел. Я посоветовал ему показывать опыты за деньги и написал для него две лекции, в которых опыты были перечислены в таком порядке и снабжены такими объяснениями, что каждый предыдущий облегчал понимание следующего. Он обзавелся красивой машиной, в которой все мелкие части, какие я мастерил сам, были изготовлены искусными слесарями. Лекции его охотно посещались и пользовались успехом, и через некоторое время он предпринял поездку по колониям, где читал их но всех столичных городах и тем заработал кое-какие деньги. На Вест-Индских островах ставить опыты оказалось трудно из-за влажности воздуха. Так как все мы были обязаны мистеру Коллинсону за его подарок, я счел своим долгом известить его о наших успехах и послал ему несколько писем, в которых описывал наши опыты. Письма эти были прочитаны в Королевском обществе, но сперва там решили, что они недостаточно интересны для того, чтобы напечатать их в «Трудах» общества. Одну из лекций, написанных мною для мистера Киннерсли, о тождестве молнии и электричества, я послал доктору Митчеллу, старому знакомому и тоже члену Королевского общества, а он мне отписал, что лекция была прочитана на заседании, но знатоки ее высмеяли. Однако когда мои письма показали доктору Фодергиллу, он заявил, что такой ценный материал нельзя класть под сукно, и рекомендовал их напечатать. Тогда мистер Коллинсон отдал их Кейву для помещения в его «Джентльменс мэгезин», но Кейв предпочел выпустить их отдельной брошюрой, а доктор Фодергилл написал к ним предисловие. Кейв, как видно, правильно рассчитал свою выгоду: вместе с добавлениями, присланными позже, получился целый томик ин-кварто, который выдержал пять изданий, к тому же и автору он ничего не должен был платить. Однако серьезное внимание на эти статьи в Англии обратили не сразу. Когда экземпляр их попался на глаза графу де Бюффону, ученому, заслуженно пользовавшемуся большой известностью во Франции, да и везде в Европе, он уговорил господина Далибара перевести их на французский, и они были изданы в Париже. Публикация эта жестоко оскорбила аббата Нолле, преподавателя натурфилософии при королевской фамилии, способного экспериментатора, автора теории электричества, которая была тогда в моде. Сперва он отказывался верить, что такой труд создан в Америке, и утверждал, что его сочинили его недруги в Париже, дабы опорочить его теорию. Позднее, когда его заверили, что в Филадельфии в самом деле существует некий Франклин, в чем он сомневался, он написал и издал том «Писем», в большинстве адресованных мне, в которых отстаивал свою теорию и отрицал правильность моих опытов и положений, на них основанных. Я было собирался ответить аббату и даже начал писать ответ, но затем подумал так: в моих статьях содержится описание опытов, которые каждый волен повторить и проверить, а не проверив, их нельзя и защищать; есть в них наблюдения, высказанные предположительно, а не как непреложные истины, а следственно, я не обязан их отстаивать; подумал и о том, что спор между двумя людьми, пишущими на разных языках, может сильно затянуться из-за ошибок в переводе и вытекающих из сего недоразумений — в одном из своих писем, например, аббат почти целиком исходил из неверного перевода, — и решил: авось мои статьи постоят сами за себя, а я лучше употреблю то время, какое остается у меня от общественных дел, на новые опыты, нежели на споры об уже проделанных. Поэтому я так и не ответил господину Нолле и не пожалел об этом, ибо один мой друг, господин Лерой, член Королевской Академии наук, взял это на себя и опровергнул аббата. Моя книга была переведена на итальянский, немецкий и латинский языки, и все европейские естествоиспытатели постепенно склонились к моей теории, предпочтя ее теории Нолле, так что последний еще при жизни остался в единственном числе, если не считать господина Б., парижанина, ближайшего его ученика. Особенно моя книга прославилась благодаря успеху одного из описанных в ней опытов, проделанных в Марли господами Далибаром и де Лором, а именно уловления молнии из тучи. Этот их опыт привлек внимание повсеместно. Господин де Лор, имевший собственную машину для научных опытов и читавший лекции по этой отрасли науки, взялся повторить то, что он назвал «Филадельфийскими экспериментами». И после того, как они были повторены перед королем и его придворными, смотреть их сбежались все парижские зеваки. Я не буду отягощать мое повествование подробным рассказом об этой важной победе, а также о том, какое огромное удовольствие доставил мне успех подобного же опыта, который я вскоре проделал в Филадельфии с воздушным змеем, ибо описание того и другого можно найти в книгах по истории электричества. Доктор Райт, английский естествоиспытатель, будучи в Париже, написал своему знакомому, члену Королевского общества, о том, каким уважением мои опыты пользуются у заграничных ученых и как их удивляет, что в Англии моим работам уделено так мало внимания. После этого общество вернулось к рассмотрению писем, ранее прочитанных на заседаниях, и знаменитый доктор Уотсон составил их конспект, включив в него и все то, что я послал в Англию позднее, и сопроводив похвальными словами по моему адресу. Конспект этот был напечатан в их «Трудах», а после того, как несколько членов общества в Лондоне, и в первую очередь весьма искусный доктор Кантон, проверили опыт с уловлением молнии из тучи при помощи заостренного металлического прута и оповестили о своем успехе, общество с лихвой искупило то пренебрежение, какое вначале мне выказало. Без каких-либо просьб с моей стороны я был избран членом, да еще освобожден от уплаты вступительного взноса, составлявшего 25 гиней, и с тех самых пор бесплатно присылало мне свои «Труды». Кроме того, они присудили мне золотую медаль имени сэра Годфри Копли за 1753 год, и президент лорд Мэнсфилд произнес по этому случаю прекрасную речь, всячески превознося мои заслуги{206}. Означенную медаль Королевского общества привез в Америку наш новый губернатор капитан Денни и вручил мне на приеме, устроенном в его честь нашим городом. Он весьма учтиво выразил свое почтение ко мне, упомянув, что уже давно обо мне наслышан. После обеда, когда собравшиеся, как было заведено, занялись напитками, он увел меня в другую комнату и сообщил, что его друзья в Англии советовали ему со мной подружиться, поскольку я, мол, как никто, способен дать полезный совет и всячески облегчить его труд по управлению провинцией, что он поэтому превыше всего уповает на взаимное понимание между нами и со своей стороны обещает помогать мне по силе возможности; распространился он и о том, как сердечно расположен к нашей провинции владетель и как хорошо будет для всех, и в частности для меня, если противодействие, которое так давно встречают его начинания, будет прекращено и между ним и нашим народом восстановится мир и единодушие; а этому, по его мнению, никто не может содействовать лучше меня, и я вправе рассчитывать на соответствующее признание и вознаграждение и проч, и проч. Гости, заметив, что мы долго не возвращаемся к столу, прислали нам графин мадеры, которой губернатор отдал должное, после чего его просьбы и посулы еще умножились. Мои ответы сводились к следующему: что деньгами я, благодарение богу, обеспечен, так что в милостях землевладельца не нуждаюсь, а как член Ассамблеи и не имел бы права их принимать; что личной вражды я к владетелю не питаю и что, если меры, им предложенные, покажутся мне направленными на благо народа, буду поддерживать и проводить их в жизнь всеми доступными мне средствами; а в прошлом мое противодействие было вызвано тем, что предложенные в свое время меры явно предусматривали пользу для владетеля в ущерб интересам народа; что я весьма обязан ему (губернатору) за выказанное мне уважение и сделаю все, что в моих силах, чтобы облегчить ему исполнение его должности, однако надеюсь, что он не привез с собой тех же злосчастных инструкций, что так затрудняли работу его предшественника. На это он в тот раз ничего не ответил, но как только ему пришлось иметь дело с Ассамблеей, прежние разногласия снова всплыли, споры возобновились, и я, как и прежде, оказался среди самых горячих их участников, поскольку составлял сначала просьбу о том, чтобы инструкции были нам сообщены, а потом и замечания по ним; все это можно прочесть{207} в отчетах тех лет и в «Историческом очерке», который я позднее опубликовал. Но личной неприязни между нами не возникло, мы часто встречались. Он был хорошо образован, повидал свет, и беседовать с ним было интересно и приятно. От него я, между прочим, впервые узнал, что мой давнишний приятель Джеймс Ральф жив до сих пор, что в Англии он считается одним из лучших писателей на политические темы, перо его было использовано в споре между королем и принцем Фридрихом, и ему пожалован пенсион в сумме 300 фунтов в год; что как поэт он ценится невысоко, после того как Поп высмеял его в «Дунсиаде», но проза его получила широкое признание. Когда Ассамблея наконец убедилась, что владетели не перестанут связывать губернаторам руки инструкциями, несовместимыми не только с народным благом, но и со службой короне, она решила обратиться к королю с петицией касательно их и возложила на меня поручение — отправиться в Англию, где подать эту петицию и отстаивать ее. Незадолго перед тем Ассамблея представила губернатору проект об ассигновании 60 000 фунтов на нужды короны (из них 10 000 фунтов должны были поступить в распоряжение лорда Лаундона{208}, командовавшего тогда английскими войсками), и губернатор, сообразуясь с полученными инструкциями, наотрез отказался его утвердить. Я уговорился о месте на пакетботе, стоявшем в Нью-Йорке, с его шкипером Моррисом, и припасы мои уже были погружены, когда в Филадельфию прибыл лорд Лаундон нарочно для того, как он сказал мне, чтобы попытаться уладить отношения между губернатором и Ассамблеей, поскольку их раздоры наносили вред королевской службе. Он вызвал к себе губернатора и меня, дабы выслушать обе стороны. Мы встретились и обсудили пот вопрос. От имени Ассамблеи я привел все доводы, которые можно найти в газетах того времени вместе с отчетами о заседаниях; а губернатор ссылался на инструкции, на то, что обязан им следовать, и на те кары, которые грозят ему в случае неповиновения, а впрочем, был, видимо, готов пойти на риск, если лорд Лаундон кто рекомендует. Но его светлость не сделал этого шага, хотя была минута, когда мне казалось, что я склонил его к этому; в конце кондов он все же предпочел оказать нажим на Ассамблею и упрашивал меня о содействии, заявив, что у него нет лишних войск для защиты наших границ и что, если мы откажемся защищать их своими силами, они окажутся открыты для нападения неприятеля. Я ознакомил Ассамблею с содержанием этой беседы, предложил им проект резолюции, в котором утверждал наши права, заявляя, что мы от них не откажемся, но в данном случае нас к этому вынудили насильно, против чего мы протестуем, и Ассамблея в конце концов согласилась одобрить другой проект, учитывающий инструкции владетелей. Этот проект губернатор, конечно, утвердил, и я смог наконец отправиться в путь. Тем временем пакетбот ушел, а с ним уплыли и мои припасы, отчего я потерпел немалый урон; а единственным вознаграждением его светлости мне была благодарность за оказанную услугу, в то время как вся честь примирения губернатора с Ассамблеей досталась на его долю. Он отбыл в Нью-Йорк раньше меня и, поскольку расписание пакетботов было в его ведении, а в Нью-Йорке их стояло еще два, из коих один, по его словам, должен был отчалить в ближайшее время, я просил его сказать, когда именно, дабы не опоздать. Он отвечал: «Я приказал, чтобы он отвалил в субботу, но вам могу сообщить entre nous[92] что, если вы приедете в понедельник утром, вы еще его застанете, а больше не откладывайте». Из-за случайной задержки у одного из паромов я попал в Нью-Йорк лишь в понедельник в полдень и очень боялся, что пакетбот ушел, так как ветер дул попутный; но страхи мои улеглись, когда я узнал, что он еще в гавани и не отчалит до завтра. Можно подумать, что теперь-то я вот-вот отплыву в Европу. Я и сам так думал, но в то время еще плохо знал характер милорда, одной из отличительных черт коего была нерешительность. Вот несколько тому примеров. В Нью-Йорк я прибыл в начале апреля, а отчалили мы лишь в конце июня. Все это время в нью-йоркской гавани стояло еще два пакетбота в ожидании генеральской почты, которую он что ни день обещал сдать завтра. Пришел еще один пакетбот и тоже был задержан, а еще до нашего отплытия ожидался приход четвертого. Наш должен был отойти первым, так как простоял там дольше всех. На все четыре были записаны пассажиры, некоторые из них места себе не находили от нетерпения, а купцы волновались за свои письма и приказы о страховании осенних товаров (время было военное), но их тревога не помогла: почта его светлости не была готова, а между тем подчиненные, бывая у него, неизменно заставали его за письменным столом, с пером в руке, и уходили, воображая, что он пишет целыми сутками. Я и сам отправился как-то утром засвидетельствовать ему свое почтение и среди ожидающих приема увидел некоего Инниса, филадельфийца, прибывшего с пакетом от губернатора Денни. Он передал мне несколько писем от знакомых из Филадельфии, и я спросил, когда он туда возвращается и где остановился, думая попросить его захватить мои ответные письма. Он сказал, что за ответом генерала губернатору ему велено явиться завтра в девять, после чего он сразу отбудет домой. Я вручил ему мои письма в тот же день. Недели через две я встретил его в той же комнате. «Скоро же вы воротились», — сказал я. «Воротился? Да я еще не уезжал». — «Как так?» — «Вот уже две недели я являюсь сюда каждое утро по распоряжению его светлости, а его письмо все еще не готово». — «Возможно ли это, притом, что он столько пишет? Я то и дело застаю его за столом». — «Да, — сказал Иннис, — но он как святой Георгий на вывесках: всегда на коне, и ни с места». Это было весьма меткое замечание: в Англии мне дали понять, что одной из причин, заставившей мистера Питта сместить этого генерала и послать вместо него в Америку Амхерста и Вулфа{209}, послужило то, что министр никогда не получал от него депеш и не знал, чем он занят. Со дня на день ожидая отплытия, и притом что все три пакетбота спустились в Санди-Хук, где стояли остальные корабли, пассажиры сочли за благо поселиться на борту, чтобы их не бросили на берегу, если последует неожиданный приказ сняться с якоря. Там мы, если не ошибаюсь, провели недель шесть, поедая и по возможности пополняя наши припасы. Наконец флотилия отчалила с генералом и войском и направилась к Луисбергу, чтобы осадить и взять эту крепость; а всем пакетботам было велено следовать за генеральским кораблем, чтобы принимать его депеши по мере их готовности. Лишь через пять дней нам разрешили идти своим курсом, и тогда наш корабль отделился от флотилии и взял курс на Англию. Два других пакетбота он так и не отпустил, протаскал их с собой в Галифакс, где простоял какое-то время, измотав солдат в показных атаках на фальшивые форты, потом раздумал осаждать Луисберг и вернулся в Нью-Йорк со всем войском, с двумя пакетботами и всеми их пассажирами! В его отсутствие французы и дикари захватили Форт-Джордж на границе, и после его капитуляции дикари перебили большую часть гарнизона. Позже в Лондоне я беседовал с капитаном Боннелом, водившим один из тех пакетботов. Он рассказал мне, что после того, как его задержали на месяц, доложил милорду, что корабль его до такой степени зарос грязью, что уже не может развить нужную скорость, и просил разрешения килевать его и очистить днище. Его спросили, сколько времени на это потребуется. Он сказал — три дня. Генерал возразил: «Если справитесь за один день — разрешаю. А иначе — нет, вы снимаетесь с якоря послезавтра». Так он и не получил разрешения, хотя после этого отплытие откладывалось со дня на день еще целых три месяца. Видел я в Лондоне и одного из пассажиров Боннела, тот был в такой ярости на милорда, который обманом столько времени продержал его в Нью-Йорке, а потом протаскал в Галифакс и обратно, что клялся подать на него в суд и взыскать убытки. Выполнил он эту угрозу или нет, не знаю, но, судя по всему, ущерб он потерпел немалый. Я часто дивился, как такому человеку могли доверить столь ответственное дело — командовать многочисленным войском, но теперь, когда я лучше узнал большой свет и как там добиваются высоких постов и почему таковыми жалуют, это меня уже не так удивляет. Если бы генерал Шерли, к которому командование перешло после смерти Брэддока, не ушел с этого поста, он, думается мне, провел бы куда более успешную кампанию, чем Лаундон в 1757 году, опозоривший нашу страну своим неимоверным легкомыслием и расточительностью; ибо хотя Шерли не получил военного образования, это был человек здравомыслящий, он умел прислушаться к доброму совету, умел составить разумный план и провести его в жизнь быстро и толково. А Лаундон, вместо того чтобы употребить свою огромную армию для защиты колоний, оставил их без всякой защиты, а сам зря терял время в Галифаксе, вследствие чего мы потеряли Форт-Джордж; кроме того, он запутал все наши коммерческие операции и затормозил торговлю, надолго наложив запрет на вывоз продуктов питания, якобы для того, чтобы они не достались неприятелю, а на самом деле чтобы сбить их цену в угоду подрядчикам, в чьих прибылях, как говорили, участвовал и сам (возможно, впрочем, то были пустые подозрения). Когда же запрет был наконец снят, он не удосужился известить об этом Чарльстон, и каролинские корабли, простояв там еще три лишних месяца, оказались так источены червями, что на обратном пути многие из них пошли ко дну. Шерли, мне кажется, был искренне рад, когда его освободили от столь обременительной обязанности, какой командование армией должно явиться для человека, незнакомого с военным делом. Я присутствовал на приеме, который город Нью-Йорк устроил в честь лорда Лаундона по случаю его назначения. Шерли, хотя уже смещенный, тоже там присутствовал. Собралось великое множество народу — офицеров, горожан и проч., часть стульев пришлось занять по соседству, и один из них, очень низкий, достался мистеру Шерли. Я заметил это, потому что сидел с ним рядом, и сказал ему в шутку: «Слишком низко они вас посадили, сэр». — «Ничего, мистер Франклин, — ответил он, — по мне, чем ниже сидишь, тем покойнее». Пока я, как рассказано выше, ждал у моря погоды и Нью-Йорке, я получил все счета на провиант и прочее, что достал в свое время для Брэддока; часть их я не мог получить раньше от разных лиц, которых взял себе в помощники. Теперь я предъявил их лорду Лаундону и просил оплатить их. Он передал их для проверки соответствующему офицеру, и тот, сверив каждый счет с распиской, доложил, что все сходится и остаток следует уплатить, о чем его светлость обещал дать распоряжение казначею, однако раз за разом откладывал, и, хотя я неоднократно являлся к нему в назначенное им время, я так и не получил этого распоряжения. А перед самым моим отъездом он мне сказал, что по зрелом размышлении решил не путать свои счета со счетами своих предшественников. «Когда вы будете в Англии, — добавил он, — вы только предъявите их в казначейство, там их оплатят немедленно». Я попытался объяснить, впрочем, безуспешно, почему мне хотелось бы получить деньги сейчас же, ссылаясь на большие и непредвиденные расходы, каких потребовала долгая задержка в Нью-Йорке, и заметил, что не следовало бы еще больше затруднять меня и оттягивать возвращение денег, данных мною взаймы, тем более что никакого вознаграждения за мои услуги я не просил. «Э, сэр, — сказал он, — не пытайтесь убедить меня, что вы ничего на этом не выиграли; мы в этих делах разбираемся и знаем, что всякий, кто причастен к снабжению армии, находит способ нагреть на этом руки». Я заверял его, что ко мне это не относится, что я не присвоил ни фартинга, но он явно мне не поверил, а я впоследствии узнал, что на таких поставках и впрямь наживают огромные состояния. Что касается до причитавшейся мне суммы, я не получил ее и по сей день, о чем еще будет рассказано. Перед тем как нам пуститься в путь, наш капитан не упускал случая похвалиться быстроходностью своего пакетбота; но, к великому его огорчению, когда мы вышли в море, этот пакетбот оказался самым медлительным из 96 судов, составлявших флотилию; капитан терялся в догадках, а когда мы сблизились с другим кораблем, почти столь же медлительным, однако же догнавшим нас, приказал всем собраться на корме как можно ближе к кормовому флагштоку. Всего нас, вместе с пассажирами, было на борту человек сорок. Когда мы там сгрудились, наш корабль пошел ходче и скоро оставил своего соседа далеко позади, что и подтвердило догадку капитана, что судно перегружено в носовой части. Все бочонки с водой были размещены на носу, а после того как он приказал их сдвинуть ближе к корме, оно оправдало его надежды как самое быстроходное во всей флотилии. Капитан сказал, что раньше оно делало тринадцать узлов, другими словами, тринадцать миль в час. Среди наших пассажиров был некий капитан Кеннеди из военного флота, тот стал уверять, что этого не может быть, что ни один корабль еще не развивал такой скорости и, видимо, была допущена ошибка при разметке лаглиня или при бросании лага. Капитаны побились об заклад, отложив решение до того времени, когда ветер будет достаточно сильный. Кеннеди придирчиво проверил лаглинь и, убедившись, что он размечен правильно, решил сам бросить лаг. И вот спустя несколько дней, когда ветер дул попутный и свежий, и капитан пакетбота Ладвидж сказал, что, по его мнению, мы делаем тринадцать узлов, Кеннеди бросил лаг и признал себя побежденным. Я рассказал этот случай для того, чтобы поделиться нижеследующим наблюдением. Один из недостатков в искусстве судостроения иногда усматривают в том, что с новым кораблем, пока его не испробуешь, никогда не известно, каков он будет на ходу; бывает, что новый корабль, построенный точно по образцу другого, хорошо себя показавшего, оказывается на редкость тихоходным. Я думаю, что отчасти это объясняется несходными мнениями разных моряков касательно того, как следует грузить и оснащать корабль и как им управлять. У каждого есть своя система, и одно и то же судно, нагруженное по разумению и под руководством одного капитана, будет двигаться лучше или хуже, чем под руководством другого. Кроме того, почти никогда не бывает так, чтобы один и тот же человек набирал команду, готовил судно к плаванию и управлял им в пути. Один строит корпус корабля, другой его оснащает, третий грузит и ведет. Ни один из них не может быть осведомлен о соображениях и опыте всех остальных, а следственно, не может и сделать из них правильных выводов. Даже в пути, где все проще, потому что корабль нужно только вести вперед, я часто замечал, как два офицера, командуя смежными вахтами при одинаковом ветре, придерживаются различной тактики. Один приказывает идти круче к ветру, другой более полого, словно общих правил для этого и не существует. А мне сдается, что можно разработать ряд опытов, чтобы определить, во-первых, форму корпуса, наилучшую для быстрого хода; во-вторых, наилучшую высоту и расположение мачт; затем форму и число парусов в зависимости от ветра; и наконец — порядок размещения груза. Я не сомневаюсь, что в ближайшем будущем какой-нибудь ученый искусник возьмется за эту работу, и от души желаю ему удачи. Несколько раз за нами гнались какие-то суда, но мы уходили от погони и через тридцать дней смогли промерить глубину лотом. Результаты нас обнадежили, и капитан решил, что мы так близко от Фалмута, куда держим путь, что, если ночью не замедлим хода, к утру уже войдем в эту гавань и к тому же не попадемся на глаза неприятельским каперам, постоянно рыщущим у входа в Ла-Манш. И вот были подняты все паруса, и мы, подгоняемые свежим попутным ветром, помчались стрелой. Капитан, сделав промер, рассчитал курс так, чтобы, как он думал, пройти достаточно далеко от островов Силли, но в проливе Святого Георгия иногда возникает сильное течение, которое обманывает моряков и привело к гибели эскадры сэра Клаудсли Шовела{210}. Это-то течение, вероятно, и повинно в том, что случилось с нами. На носу у нас стоял часовой, которому то и дело кричали: «Смотреть вперед!», на что он неизменно отзывался: «Есть смотреть вперед»; но возможно, что глаза у него при этом были закрыты и он дремал, — говорят, они порой отзываются в полусне, — но только он не увидел свет прямо по носу, скрытый от рулевого и от всей команды лиселями; когда же судно внезапным рывком отклонилось от курса, свет был обнаружен и вызвал страшный переполох, потому что мы были от него очень близко и он показался мне величиной с колесо. Дело было в полночь, наш капитан спал, но капитан Кеннеди, выскочив на палубу и оценив опасность, приказал поворот через фордевинд при поднятых парусах. Маневр этот опасен для мачт, но нас отогнало в сторону и мы избежали крушения, а несло нас прямо на скалы, на которых был построен маяк. Это счастливое избавление заставило меня лишний раз задуматься о полезности маяков, и я принял решение всячески поощрять строительство новых маяков в Америке, буде мне суждено еще возвратиться туда. Утром промер и проч, показали, что мы совсем близко от цели, но из-за густого тумана земля не была видна. Часов в девять туман стал уплывать вверх, словно поднимаясь от земли, как занавес в театре, и взору открылся Фалмут, суда в гавани и поля, его окружающие. Отрадное это было зрелище для тех, кто так долго не видел ничего, кроме пустынного океана, и тем более мы ему радовались, что были теперь свободны от тревог, вызванных войной. Я вместе с сыном тут же отправился в Лондон, и по пути мы ненадолго останавливались лишь для того, чтобы осмотреть Стонхендж{211} на Солсберийской равнине и поместье лорда Пемброка в Уилтоне, где хранится его интереснейшее собрание древностей. В Лондон мы прибыли 27 июля 1757 года.Б. Франклин.
Устроившись в квартире, приготовленной для меня мистером Чарльзом, я тотчас же посетил доктора Фодергилла, которому обо мне рассказали и к которому мне советовали обратиться, чтобы узнать его мнение о том, как мне действовать. Он был против того, чтобы сразу подать петицию правительству, считая, что сперва следует повидать владетелей, и возможно, при посредничестве каких-нибудь частных лиц, уговорить их уладить дело мирно. Тогда я навестил моего старого друга и корреспондента Питера Коллинсона, и тот мне сказал, что Джон Хэнбери, богатый виргинский купец, просил известить его о моем приезде, чтобы поехать со мной к лорду Грэнвиллу, в то время председателю Королевского совета, выразившему желание повидаться со мной как можно скорее. Мы уговорились ехать к нему на следующее утро. Мистер Хэнбери заехал за мной и повез меня в своей карете к этому вельможе, и тот принял меня крайне учтиво. Расспросив меня о положении дел в Америке, он затем сказал так: «У вас, американцев, превратное понятие о вашей конституции; вам кажется, что инструкции, которые король дает своим губернаторам, не суть законы и что вы вольны считаться или не считаться с ними. Но эти инструкции несравнимы с теми, которые получает посланник, едущий за границу улаживать какой-нибудь пустяковый вопрос этикета. Они составляются судьями, искушенными в знании законов, затем рассматриваются и обсуждаются в Совете, где в них порой вносятся поправки, а затем их подписывает король. Таким образом они, поскольку дело касается вас, становятся законом страны, ибо король есть законодатель колоний». Я сказал его светлости, что такое понятие для меня новость. Из наших грамот я всегда заключал, что наши законы должны издаваться нашими Ассамблеями, и хотя затем они передаются королю на его королевское утверждение, однако король, раз утвердив их, не может их изменить или объявить недействительными. И так же, как Ассамблея не может издать постоянного закона без его согласия, так же и он не может издать для нас закона без согласия нашей Ассамблеи. Он заверил меня, что я глубоко заблуждаюсь. Я-то этого не считал, и поскольку речи милорда заронили во мне тревогу касательно того, как к нам отнесется королевский двор, записал весь наш разговор, как только возвратился к себе на квартиру. Я помнил, что лет за двадцать до того министры представили в парламент законопроект, согласно коему инструкции короля должны были считаться в колонии законом, но Палата общин не утвердила этот пункт, за что мы горячо любили ее депутатов как своих друзей и друзей свободы до тех пор, пока они в 1765 году не показали своим поведением, что в свое время отказали королю в этой его прерогативе лишь с тем, чтобы сохранить ее для себя. Несколько дней спустя доктор Фодергилл поговорил с владетелями, и они согласились встретиться со мной у мистера Т. Пенна на Спринг-Гардене. Сначала разговор состоял из обычных изъявлений готовности договориться на разумных основаниях, хотя каждая из сторон, видимо, понимала слово «разумный» по-своему. Затем мы перешли к рассмотрению спорных вопросов, которые я перечислил. Владетели по мере сил оправдывали свое поведение, а я — поведение Ассамблеи. Тут выяснилось, что наши мнения расходятся, да так далеко, что на соглашение словно бы нечего и надеяться. И все же они просили меня изложить наши притязания в письменном виде, обещая тогда их обдумать. Я это выполнил быстро, но они передали мою бумагу своему поверенному Фердинанду Джону Парису, который вел их дело в знаменитой тяжбе с лордом Балтимором, владетелем соседнего Мэриленда, длившейся семьдесят лет, и писал для них все их послания в спорах с Ассамблеей. Это был человек надменный и вспыльчивый, а так как я в ответах Ассамблеи отзывался о его писаниях довольно строго, как о хромающих по части логики и высокомерных по тону, он проникся ко мне лютой ненавистью, прорывавшейся наружу при каждой нашей встрече. Поэтому я отклонил предложение владетелей обсудить с ним наши притязания один на один и заявил, что буду разговаривать только с ними самими. Тогда они, по его совету, передали мою бумагу министру юстиции и его заместителю, дабы узнать их мнение, и у них она пролежала без восьми дней год, причем я за это время не раз напоминал владетелям, что жду ответа, а от них слышал одно: они еще не ознакомились с мнением министра и его заместителя. Каково оказалось это мнение, когда они его в конце концов узнали, мне неизвестно, ибо мне они его не сообщили, а послали длинное письмо Ассамблее, составленное и подписанное Парисом, который, ссылаясь на мою жалобу, сетовал, что написана она не по правилам и это являемся грубостью с моей стороны, и мимоходом оправдывал поведение владетелей; однако добавил, что они не прочь договориться, если Ассамблея направит в Англию для переговоров какого-нибудь человека, безусловно заслуживающего доверия, из чего следовало, что я таковым не являюсь. Несоблюдение правил, расцененное как грубость, состояло, вероятно, в том, что в обращении к ним я не употребил их полного звания «Истинный и неограниченный владетель провинции Пенсильвания», а я его опустил, сочтя необязательным в документе, единственным назначением которого было подтвердить на бумаге то, что я уже выразил устно. Но поскольку за истекшее время Ассамблея успела уговорить губернатора Денни утвердить закон, по которому земли владетелей облагались налогом наравне со всеми другими, что и было главным яблоком раздора, она просто оставила письмо Париса без ответа. А когда этот закон достиг Англии, владетели по совету Париса решили противиться утверждению его королем. Они обратились в Королевский совет с петицией, и было назначено слушание, в котором два адвоката, нанятые ими, должны были опровергать этот закон, а два, нанятые мною, — отстаивать его. Они утверждали, что цель закона — обременить налогом земли владетелей, с тем чтобы пощадить земли фермеров, и что если оставить его в силе, то владетели, ненавидимые фермерами и оказавшись в их власти, при распределении налогов неизбежно будут разорены. Мы возражали, что закон не преследует такой цели и не приведет к таким последствиям, что члены Ассамблеи, занимающиеся налогами, люди честные и умеренные, к тому же связанные присягой поступать по справедливости, и что выгода, на какую кто-нибудь из них мог бы рассчитывать, уменьшив собственный налог ценой увеличения налога владетелей, слишком ничтожна, чтобы ради нее идти на клятвопреступление. Вот вкратце и все, что я помню из доводов обеих сторон, да еще то, что мы, не жалея сил, упирали па плачевные последствия, какие будет иметь отказ короля подписать тот закон, поскольку деньги, 100 000 фунтов, уже напечатаны как предназначенные для нужд короля; что они, будучи истрачены на его службе и теперь попав в руки жителей провинции, окажутся обесцененными, что для многих это будет равносильно разорению и отобьёт охоту утверждать дальнейшие ассигнования, а владетели в своем эгоизме как нарочно накликают это всеобщее бедствие из страха, как бы их не обложили слишком высоким налогом. Тут лорд Мэнсфилд, один из юристов, встал с места и сделал мне знак последовать за ним в канцелярию, пока адвокаты продолжали пререкаться, а там он спросил меня, правда ли я считаю, что закон, если он будет утвержден, не нанесет ущерба владетелям. Я ответил: «Разумеется», — «В таком случае, — продолжал он, — вы, вероятно, не против того, чтобы проверять, как это будет выполняться». Я ответил, что отнюдь не против. Тогда он пригласил Париса, и после краткой беседы его предложение было принято обеими сторонами; секретарь Совета составил бумагу, которую я и подписал совместно с мистером Чарльзом, тоже агентом нашей провинции по текущим делам, и лорд Мэнсфилд возвратился в залу Совета, где закон и был наконец утвержден. Были, однако, рекомендованы кое-какие поправки, и мы договорились, что они войдут в текст последующего закона, но Ассамблея сочла их излишними: ведь за один год налоги уже были собраны по закону еще до того, как решение Совета достигло Филадельфии. Была назначена комиссия для проверки распределения налогов и в эту комиссию включено несколько человек, заведомо сочувствующих владетелям. После тщательной проверки члены комиссии единодушно подписали доклад, удостоверяющий, что налоги были распределены вполне справедливо. Мое участие в этом деле{212} Ассамблея расценила как важную услугу Пенсильвании, так как оно укрепило веру в бумажные деньги, распространившиеся к тому времени по всей провинции. Когда я возвратился, мне официально была выражена благодарность. Но на губернатора Денни владетели затаили лютую злобу за то, что он утвердил закон, и отстранили его от должности, пригрозив подать на него в суд за невыполнение инструкций, коим он обязался следовать. Он пренебрег их угрозами, поскольку действовал по настоянию командующего войсками и в интересах службы его величества и поскольку имел сильную руку при дворе, и угрозы эти так и не были приведены в исполнение.
ПАМФЛЕТЫ Перевод А. Старцева
ОБ ЭКСПОРТЕ УГОЛОВНЫХ ПРЕСТУПНИКОВ В КОЛОНИИ
ПИСЬМО ИЗДАТЕЛЮ «ПЕНСИЛЬВАНСКОЙ ГАЗЕТЫ»
В одном из последних номеров Вашей газеты я прочитал сообщение, из которого видно, что правительство в Лондоне не намерено допустить, чтобы наши Законодательные ассамблеи приняли бы закон, препятствующий ввозу в нашу страну преступников из Великобритании. Возражение их следующее: «Подобные законы противоречат общему благу, так как мешают развитию и надлежащему заселению колоний». Столь нежная родительская забота со стороны метрополии, иначе говоря, нашей матери, о благоденствии ее отпрысков побуждает к наивысшему проявлению ответных сыновних чувств. Это понятно каждому. Правда, согласен признать, что в нашем нынешнем положении мы не сумеем уплатить благодарностью, равной оказываемой нам милости. Мы, однако, должны стремиться к тому и показать свою добрую волю. В некоторых из незаселенных частей нашей страны водятся в изобилии ядовитые пресмыкающиеся, известные у нас как гремучие змеи. Это преступники, осужденные еще на заре творения. Когда они попадаются нам на пути, мы их предаем смертной казни по древнему закону, гласящему: сокрушите главу его. Поскольку закон этот все же закон кровавый и может показаться в наши дни чрезмерно суровым и поскольку эти гремучие змеи, хотя и ведут себя очень плохо у нас, но могут, кто знает, измениться и к лучшему, если им переменят обстановку и климат, — я почтительнейше вношу предложение заменить им смертную казнь высылкой. В начале весны, когда они после спячки выползают из нор, они еще слабы, неповоротливы и их легко изловить. Если назначить небольшое вознаграждение, по стольку-то пенсов за штуку, то ежегодно можно, будет вылавливать по нескольку тысяч гремучих змей и отправлять их за море, в Англию. Там я предлагаю разместить их разумным образом: одну часть выпустить в Лондоне, в Сент-Джеймс-парке, Спринг-Гардене и других местах народных гуляний; другую отправить в сады и парки представителей знати и поместных дворян, в особенности же в парки премьер-министра, министра торговли и членов парламента, так как у них мы в долгу более, чем у других. Нет такого, порожденного умом человеческим, совершенного плана, который был бы полностью свободен от недостатков. Но когда достоинства плана намного превосходят его недостатки, план считают разумным и пригодным для выполнения. Недостатки ведь находили даже в гуманном и мудром решении британских парламентариев, чтобы содержимое английских уголовных тюрем изливалось в колонии. Были голоса, утверждавшие, что, если пустить к нам этих воров и мерзавцев, они развратят молодежь в тех местах, где их выпустят, и совершат множество добавочных преступлений. Но не забудем, что частные интересы не должны препятствовать общему благу. Разве родная мать не знает сама, что для детей ее лучше? Допустим, случилось действительно некоторое число нападений, краж со взломом и грабежей на большой дороге. Чей-нибудь сын пошел по дурному пути и кончил на виселице. Чья-нибудь дочь изнасилована и заражена, притом сифилисом. В каком-нибудь доме хозяин лежит с перерезанным горлом, у жены его — нож в груди, а череп младенца разнесен топором. Ну и что? Каков следует вывод? Разве можно считать это серьезным препятствием на пути «развития и надлежащего заселения колоний»? Как автор предлагаемого мной плана, я предвижу возможные возражения: гремучие змеи злобны по природе своей, и изменение их характера к лучшему путем перемены условий и климата — это пока всего лишь предположение, не подтвержденное явными фактами. Ну и что же? Пример, как известно, предпочтительнее, чем наставление. Разве не сможет прямодушное и неотесанное английское дворянство, общаясь с этими пресмыкающимися, научиться юлить, извиваться, проползать на нужное место (а если понадобится, то и смертельно ужали гь стоящего на пути)? Сколь полезны будут эти новые качества для каждого, кто захочет блистать при дворе! А если, действительно, время от времени и погибнет от яда змеи младенец или даже болонка, то это не должно стать препятствием на пути столь полезных общественных усовершенствований. Я хотел бы еще добавить, что вывоз уголовных преступников к нам, в колонии, будучи, как уже сказано, милостью, оказываемой нам метрополией, может в то же время рассматриваться также и как статья экспорта. Всякая торговля предполагает обмен равными ценностями. Л если это действительно так, то гремучие змеи представят собой самое подходящее возмещение за змей в человеческом образе, привозимых из Англии. Однако и здесь, как во всех других отраслях нашей коммерции, выгода останется на стороне англичан. При прочих равных условиях они будут избавлены от многих неудобств и опасностей, ибо гремучие змеигремят, перед тем как ужалить вас, а преступники нападают внезапно.С совершенным почтением
1751Американус
ЭДИКТ ПРУССКОГО КОРОЛЯ
Нас всегда удивляло, с какой безответной покорностью переносит английский народ поборы прусских властей во всем, что касается английской торговли. До недавнего времени мы ничего не знали об обязательствах, древних и более новых, тяготеющих над английским народом, и нам в голову не приходило, что они подчиняются голосу долга и обычному праву. Ставший ныне известным следующий ниже эдикт — в случае, если он подлинный, — многое нам разъясняет.Данциг, 5 сентября, 1773 г.
«Мы, Фридрих, божьей милостью прусский король и прочая и прочая и прочая, вам о том объявляем: Мир и спокойствие, ныне царящие в наших владениях, дают нам возможность уделить больше внимания улучшению нашей торговли, упорядочению наших финансов и облегчению налогов и податей, следуемых от наших коренных, проживающих в Пруссии подданных. Побуждаемый этими и другими соображениями и обсудив все указанные вопросы в нашем высоком совете с августейшими нашими братьями и другими сановными лицами и основываясь на полном знании всех обстоятельств, мы, облеченные королевскими правами и прерогативами, объявляем нижеследующий эдикт: Как всему миру ведомо, первые постоянные поселенцы на острове, именуемом ныне Великобританией, были подданными наших августейших отцов и прибыли на указанный остров под предводительством Хенгиста, Хорсы{213}, Геллы, Оффы, Сердикуса, Иды и прочих, из наших старых владений. Равно известно и то, что основанные ими колонии процветали с тех пор под покровительством нашего королевского дома и не выходили из нашего подданства, но в то же время приносили нам очень малую пользу. И хотя мы в недавней войне защищали эти колонии от посягательств французской короны и помогли обрести им в этой войне территориальные выгоды, мы не получили от них следуемого нам возмещения. Потому полагаем разумным и справедливым увеличить ныне доход, получаемый от Великобританского острова, и объявить всем потомкам наших старинных подданных, что поскольку они проживают на той же, населенной их предками и принадлежащей нам территории, они унаследовали и их обязательства пополнять нашу казну. Потому мы предписываем и ныне сообщаем, что со дня обнародования следующего эдикта все изделия, продукты, товары, а равно зерно и иные произрастания земли, вывозимые из указанного Великобританского острова, равно как и товары, откуда-либо в Великобританию ввозимые, подлежат обложению пошлиной и оплате таможенным сбором в четыре с половиной процента от их изначальной стоимости, каковые деньги должны быть уплачены чиновникам нашего таможенного надзора в пользу нас и наших преемников. А для большей успешности сбора указанной пошлины повелеваем, чтобы все корабли, плывущие из Великобритании в другие страны, а равно и те, что следуют из иных стран в Великобританию, заходили бы неукоснительно в наш порт Кенигсберг для таможенного досмотра и оплаты провозимых товаров. Также, учитывая, что указанные колонисты в Великобритании время от времени находили на своем острове залежи железной руды, и что некоторые из старинных обитателей наших прусских владений их обучили искусству превращать эти руды в металл, и что они продолжали совершенствовать это искусство в дальнейшем; и поскольку обитатели этого острова, возомнив, что имеют права разрабатывать недра земли, на которой живут, и извлекать из того прибыль, стали не только строить плавильные печи для превращения руды в металл, но также производить кусковое и листовое железо и варить в печах сталь, умножая свое производство и этим угрожая тем же видам промышленности у нас в метрополии, — мы ныне торжественно повелеваем: Чтобы со дня обнародования эдикта работы на всех заводах в указанной Великобритании для резания и проката железа, поковка во всех тамошних кузнях и выплавка стали в печах были бы приостановлены и ни единый бы новый завод не строился. Лорду-наместнику каждого графства в означенной Великобритании вменяется нами в обязанность неусыпно следить, дабы ни единый из подобных заводов более не воздвигался, а если бы такое случилось, был бы немедля разрушен под личные лорда-наместника страх и ответственность. При том мы считаем возможным милостиво разрешить обитателям указанного Великобританского острова ввозить их руду сюда в Пруссию для выделки здесь, на месте, железных изделий, каковые впоследствии они могут ввозить и к себе с уплатой надлежащего вознаграждения прусским железных дел мастерам, а также расходов по доставке, страховке и перевозке товаров. Мы не считаем возможным распространить эту льготу на шерсть. Имея в виду поощрять не только изготовление тканей из шерсти у нас в метрополии, но также и заготовку самой шерстяной пряжи, и в то же время препятствовать производству того и другого на означенном острове, мы полностью воспрещаем вывоз шерсти оттуда куда бы то ни было, включая вывоз и в Пруссию. А для того, чтобы обитатели острова не могли извлечь какой-либо прибыли из продуктов производимой там шерсти, мы полностью воспрещаем и перевозку ее — включая нить шерстяную, сукно домотканое, ткань для половиков, камвольное и саржевое прядение и все прочие шерстяные и полушерстяные изделия — даже в пределах самого Великобританского острова, из одного графства в другое, как сухим, так и водным путем, включая малые и малейшие реки, под угрозой конфискации всех названных выше товаров, а равно и лошадей, фургонов и лодок, ставших средствами их перевозки. При том мы милостиво разрешаем нашим подданным на означенном острове, буде они того пожелают, использовать свою шерсть для удобрения земли. Поскольку секреты изготовления шляп стали достоянием наших собственных мастеров и шляпочное искусство в Пруссии достигло немалых успехов, полагаем, что дальнейшее изготовление шляп в наших отдаленных колониях должно быть приостановлено. Поскольку же обитатели Великобританского острова, в изобилии располагая шерстью, мехом бобра и иного пушного зверя, возомнили, что имеют какое-то право на выделку шляп в ущерб нашей шляпной промышленности, мы со всей надлежащей строгостью указываем и повелеваем: Отныне ни единая шляпа или фетры для выделки шляп, крашеные или некрашеные, выделанные или и ишь заготовленные, не должны быть погружены кем бы то ни было на означенном острове на суда и в повозки, в фургоны или на лошадей в форме вьюка для доставки из одного графства в другое под страхом конфискации всех указанных здесь изделий и штрафа в пятьсот фунтов стерлингов. Также мы запрещаем всем шляпочникам в означенных графствах иметь в услужении более двух подмастерьев под страхом уплаты штрафа ежемесячно в пять фунтов стерлингов. Целью чего является создание таких условий, при которых дальнейшее производство и продажа шляпных изделий утратили бы всякую выгоду. Но вместе с тем, не желая, чтобы названные островитяне пострадали от нехватки шляпных изделий, мы милостиво разрешаем им отправлять мех бобров в метрополию и затем вывозить готовые шляпы из Пруссии в Англию с оплатой пошлины, перевозки, страховки и комиссионных расходов — как это указано выше в правилах о железной руде. И, наконец, в подтверждение нашего милостивого внимания к нашим британским колониям, мы предписываем и повелеваем, чтобы все воры, грабители, взломщики и карманники, равно как и фальшивомонетчики, убийцы и мужеложцы и мерзавцы всякого рода, коих наши суды присудили к повешению, но мы рассудили оставить в живых, были бы вывезены из прусских тюрем в вышеназванную Великобританию для лучшего заселения страны. Выражаем надежду, что возлюбленные наши английские колонисты признают перечисленные нами указы справедливыми и разумными, поскольку они представляют собою точную копию некоторых статей из изданных ими самими законов (как-то статутов 10 и 11 Вильгельма III, статья 10; статута 5 Георга II, статьи 22–23 и 29; статута 4 Георга I, статья 11) и иных справедливых решений их государей или парламентов в силу резолюций обеих палат, предназначенных ими для лучшего управления их собственными колониями в Ирландии и в Америке. И мы объявляем, что каждый из обитателей названного Великобританского острова, который осмелится препятствовать выполнению данного нами эдикта в целом или в отдельных его частях, будет приравнен нами к государственному преступнику и, соответственно, в сем уличенный, будет закован в цепи и отправлен из Великобритании в Пруссию, где предстанет перед судом и будет казнен в соответствии с прусским законом. Такова наша Воля.
Дан в Потсдаме сего двадцать пятого августа одна тысяча семьсот семьдесят третьего года, в тридцать третьем году нашего царствования. Подписано королем в высоком совете.
Некоторые полагают, что публикуемый нами эдикт лишь королевская шутка, другие считают, что он издан всерьез и поведет к ссоре Пруссии с Великобританией. Но и те и другие уверены: сказанное в заключительной части эдикта, будто перечисленные в нем повеления точная копия с решений парламента в Англии, адресованных их собственным английским колониям, принесет немалый ущерб. Ибо трудно поверить, что народ, известный своей любовью к свободе, мудростью мысли, либеральным направлением ума, справедливый и разумный в своих отношениях с соседями, станет, стремясь к мелочной и недолговременной выгоде, проявлять в отношениях с родными детьми произвол и тиранство.Рехтмессиг, секретарь».
1773
ПРОДАЖА ГЕССЕНЦЕВ
От графа де Шаумберга барону Гогендорфу, командующему гессенскими войсками в Америке
Господин барон! Возвратившись из поездки в Неаполь, я нашел в Риме Ваше письмо от 27 декабря истекшего года. С величайшим удовольствием я прочитал там о доблести, которую паши войска показали в сражении при Трентоне{214}, и Вам трудно вообразить мою радость, когда я узнал, что из всех 1950 гессенцев, участвовавших в этом сражении, лишь 345 уцелели. Таким образом, 1605 пали в бою. Вы поступили предусмотрительно, послав точный список убитых нашему посланнику в Лондоне. Принятая Вами предосторожность оказалась тем более не лишней, что в докладе, представленном английским командованием, значится только 1455 погибших в бою. Это значит, что они уплатили бы мне всего 483 450 флоринов вместо 643 500, каковые мне следуют по соглашению. Вам ясно, какую брешь произвела бы такая ошибка в моем бюджете. Уверен, что Вы предпримете все необходимые меры и докажете, что список лорда Норта{215} ошибочен, а наш совершенно точен. Лондонский двор заявляет, что 100 человек, получивших ранения, не должны считаться убитыми и не подлежат никакой оплате. Я полагаю, что вы не забыли инструкции, врученные Вам перед Вашим отбытием из Касселя. Вы не должны добиваться излечения несчастных, жизнь которых можно спасти разве только, отняв у них руку или же ногу. Это значило бы оказать им весьма дурную услугу. Я уверен, что каждый из них предпочтет умереть, нежели жить, не будучи более в силах служить своему государю. Я не хочу тем сказать, что Вы должны убивать их, — нужно быть человечным, дорогой мой барон; но Вам следует в должной форме внушить военным хирургам, что солдат без ноги для них будет живым укором и что, если человек неспособен более сражаться, то самое разумное — это дать ему умереть. Я собираюсь прислать Вам вскоре новых солдат. Не следует их экономить. Помните — слава превыше всего. Слава — вот истинное богатство солдата. Ничто так не может унизить его, как корысть. Он должен думать о славе и о воинской доблести. А славы можно добиться только в смертельном бою. Победа, достигнутая без ощутимых потерь, — это победа бесславная. Побежденные, в свою очередь, добиваются славы, когда погибают с оружием в руках. Вы, разумеется, помните, что из 300 спартиатов в Фермопильском ущелье ни один не вернулся живым{216}. Как счастлив я был бы, если бы мог сказать то же о моих храбрых гессенцах! Правда, их царь Леонид погиб вместе с ними, но нравы меняются, и было бы странно, если бы царствующий монарх отправился ныне в Америку сражаться за дело, которое его ничуть не касается. Кроме того, не останься я здесь, кто получал бы по тридцать гиней за каждого убитого гессенца? И кто позаботился бы, откуда взять рекрутов на место людей, которых Вы потеряли? Для этого я возвращаюсь не медля в Гессен. Правда, взрослых мужчин там осталось довольно мало, но я постараюсь послать Вам подростков. Будем помнить, чем меньше на рынке товара, тем выше цена. Хлебопашеством у нас теперь занимаются женщины и малые дети и, как говорят, справляются с делом неплохо. Вы поступили разумно, отправив обратно в Европу этого доктора Крумеруса, который так наловчился излечивать дизентерию. Если у человека понос, с ним нечего нянчиться. Это уже не солдат: в сражении он убежит. А один трус доставит Вам столько хлопот, что и десять храбрецов не помогут. Чем пятнать славу нашего знамени, пусть лучше околевают в казармах. К тому же, как Вам известно, за умершего от болезни мне платят как за убитого, а за убежавшего с поля брани я получаю шиш. Мое итальянское путешествие обошлось мне недешево, и было бы крайне желательно, чтобы смертность повысилась. Обещайте продвижение по службе каждому, кто не щадит себя в битве. Внушайте, что слава рождается только в огне сражений. Передайте майору Маундорфу, чтобы он не ждал от меня благодарности, что в трентонской бойне сберег эти 345 человек. За всю компанию он не может похвастаться даже десятком людей, которые пали бы благодаря его личной распорядительности. Прошу Вас запомнить накрепко, что войну эту надо затягивать, избегая решающего сражения. Я решил пригласить на этот сезон итальянскую Оперу и не намерен менять своих планов. Итак, до свидания, дорогой мой барон Гогендорф. Да не оставит Вас господь своей милостью!Рим, 18 февраля, 1777.
1777
О ПЕРЕРАБОТКЕ ТЕКСТА БИБЛИИ
ИЗДАТЕЛЮ *** ГАЗЕТЫ
Сэр, каноническому тексту английской Библии исполнилось сто семьдесят лет. Английская речь за протекшие годы во многом переменилась, перевод устарел и стал не столь привлекательным. В этом, может быть, кроется одна из причин, почему внимание к этой превосходной книге несколько ослабело. Я пришел к мысли, что следовало бы переработать английский текст Библии так, чтобы, полностью сохранив содержание, сделать более современными манеру повествования и стиль. Я не льщу себя мыслью, что подобный труд мне по силам. Это дело ученых мужей. Я же только осмеливаюсь представить читателю несколько стихов из первой главы Книги Иова, которые могли бы послужить образцом того нового текста, который я предлагаю.

1770-е гг.
ЗАМЕТКИ О СЕВЕРОАМЕРИКАНСКИХ ДИКАРЯХ
Мы называем их дикарями потому, что их обычаи отличны от наших, а наши мы почитаем вершиной цивилизованности. Они, в свою очередь, почитают вершиной цивилизованности — свои. Я думаю, что, если мы беспристрастно рассмотрим обычаи разных народов, мы не найдем настолько диких народов, чтобы у них нельзя было усмотреть благовоспитанности; равным образом мы не найдем и ушедших вперед народов, у которых не сохранились бы грубые нравы. Индеец в молодые годы — охотник и воин. В зрелые годы — он муж совета. Индейцы управляются советом старейшин. У них нет армии, тюрем и нет особых чиновников, которые вынуждали бы к повиновению властям и налагали взыскания. Поэтому каждый стремится стать хорошим оратором: от его красноречия будет зависеть в дальнейшем его влияние. Женщины-индианки обрабатывают землю, стряпают пищу, нянчат и воспитывают детей, а также хранят в своей памяти важнейшие события из жизни их племени, чтобы передать их в дальнейшем новому поколению. Эти занятия, как мужчин, так и женщин, считаются естественными и достойными уважения. У них мало искусственно вызванных к жизни потребностей, а потому много досуга, который они используют для усовершенствования в совместной беседе. Наша жизнь, перегруженная разного рода обязанностями, кажется им рабской и низменной. Познания, которыми мы гордимся, они считают бесцельными и пустыми. Это разногласие проявилось при заключении в 1744 году в Пенсильвании Ланкастерского договора между Виргинией и Шестью племенами. Когда главные вопросы были уже решены, представители Виргинии объявили индейцам, что в Вильямсберге у них есть колледж, где выделены стипендии для индейцев и, что если Шесть племен{217} пожелают направить туда своих молодых людей, то виргинское правительство обещает о них позаботиться и научить их наукам белого человека. Согласно индейскому представлению о хороших манерах на публично сделанное предложение нельзя отвечать в тот же день. Это значило бы показать неуважительное отношение к нему. Серьезный ответ требует времени для рассмотрения. Потому они отложили ответное выступление до новой встречи. Индейский оратор начал с того, что выразил глубокую благодарность виргинским властям за любезное предложение. «Мы ведь знаем, — сказал он, — что вы высоко цените те науки, которым обучают вас в ваших колледжах. Мы знаем, что содержание наших юношей вовлечет вас в большие расходы. Мы поэтому не сомневаемся, что, внося свое предложение, вы хотели нам только добра, и мы благодарим вас сердечно. Но вы мудры и знаете, что разные народы по-разному смотрят на жизнь, и вы не должны принять за обиду, если наш взгляд на воспитание юношей не совпадает с вашим. У нас есть уже некоторый опыт. Несколько наших юношей недавно получили воспитание в колледжах в северных ваших провинциях. Они обучались там всем вашим наукам. Когда они возвратились домой, оказалось, что они плохо бегают, не знают, как жить в лесу, не могут с терпением сносить холод и голод, не умеют построить хижину, догнать на охоте оленя, убить врага, дурно говорят на своем родном языке, не могут быть ни охотниками, ни воинами, ни мужами совета; словом, ни к чему не пригодны. Мы вынуждены отклонить ваше любезное предложение, но это не уменьшает нашей признательности. Мы предлагаем господам из Виргинии прислать к нам своих сыновей. Мы позаботимся об их воспитании, научим всему, что мы знаем, и сделаем из них настоящих мужчин». Индейцы часто созывают совет, проводят свои собрания в строгом порядке и очень достойно. Старики сидят в первых рядах, воины — за ними, женщины и дети — в последнем ряду. На женщин ложится обязанность запоминать, что говорят на совете (у индейцев нет письменности), чтобы затем передать своим детям. Их память служит протоколом совета. Когда мы однажды сравнили текст заключенных сто лет назад соглашений в сохранившихся у нас записях и в их изустном предании, то убедились в совершенстве их памяти. Оратор, желающий говорить, поднимается с места. Слушатели соблюдают полную тишину. Когда он заканчивает речь и садится на место, все сохраняют молчание еще пять или шесть минут. Это время дается оратору, чтобы он вспомнил, не упустил ли чего в своей речи. Если он пожелает добавить что-либо к сказанному, то встает и говорит снова. Прервать говорящего даже в обычной беседе считается невоспитанностью. Как это отлично от нравов английской Палаты общин, где и дня не проходит, чтобы спикер до хрипоты не призывал бы к порядку расходившихся членов Палаты. Как это отлично от манеры беседовать, принятой во многих весьма цивилизованных салонах в Европе, где вам приходится выпалить в спешке что вы хотите сказать или смириться заранее с тем, что вас на половине прервут недослушав. Учтивость, принятая у этих дикарей в разговоре, доводится ими до крайности. Так, они не позволят себе выразить недоверие, что бы им ни рассказал собеседник, тем более оспорить рассказ. Так поступая, они избавляют себя от излишних споров, но притом вы не знаете, что они в действительности думают о том, что вы им рассказали. Миссионеры, пытавшиеся обратить индейцев в христианство, вспоминают об этом как об очень большом затруднении. Когда они толкуют индейцам Евангелие, те слушают молча, с обычными признаками согласия и одобрения. Вы можете вообразить, что их убедили. Ничуть не бывало — это только учтивость. Однажды священник-швед собрал вождей сусквеганских племен и стал проповедовать им. Он рассказал о важнейших событиях, на которых зиждется наша религия: о падении первых людей, съевших яблоко, о пришествии на землю Христа для искупления людского греха, о свершенных им чудесах, его страданиях и прочем. Когда миссионер кончил проповедь, один из индейцев поднялся, чтобы выразить ему благодарность. «Все, что ты рассказал, очень правильно, — сказал индейский оратор. — Яблоки есть не следует, из них нужно делать сидр. Мы тебе очень признательны. Ты проделал далекий путь, чтобы поведать нам то, что узнал от своей старой матушки. В ответ я тебе расскажу, что я услышал от своей. Это было давно, когда наши отцы питались только мясом животных. Если охота была неудачной, они голодали. Однажды два охотника убили оленя и развели костер, чтобы ужинать. Когда они собрались приступить к еде, то увидели прекрасную юную женщину, которая сошла с облаков и села на вершину горы. Эту вершину ты можешь увидеть вон там, посреди Синих гор. «Это дух, — сказали охотники, — он почуял запах оленины, и ему захотелось отведать ее». И они угостили юную женщину языком своего оленя. Она поела, осталась довольна и так им сказала: «Ваша доброта не останется без награждения. Когда луна зайдет тринадцатый раз, возвращайтесь на это место. Вы найдете здесь нечто, что даст величайшую пользу всем вам, вашим детям и всему вашему роду». Они поступили как сказано и, к своему изумлению, нашли растущие злаки, которых не видели прежде. С той давней поры мы их ежегодно возделываем и получаем великую выгоду. Там, где юная женщина касалась правой рукой земли, вырос маис, там, где левой, — фасоль, а там, где сидела, — табак». Добрый миссионер был раздосадован этими небылицами и так им сказал: «Я вам поведал святые истины, а то, что вы мне рассказываете, — неправда и вздор». Задетый индеец ответил: «Брат мой, боюсь, что твои земляки не позаботились дать тебе порядочное воспитание. Они даже не научили тебя пристойно вести себя в обществе. Нас же учили этому, и, как видишь, мы верим всему, что ты нам рассказал. Отчего ты не хочешь поверить нашим рассказам?» Когда индейцы заходят к нам в города, толпа тотчас же их окружает и глазеет на них; не дает им покоя, когда они предпочли бы остаться одни. Индейцы считают, что это грубость, неумение вести себя в обществе. «Мы не менее любопытны, чем вы, — говорят нам индейцы, — и когда вы приходите в наши поселки, то и нам интересно на вас поглядеть. Но мы тогда прячемся и глядим на вас скрытно, из-за кустов. Никто не позволит себе навязывать вам свое общество». У них есть твердые правила, как гостю надо вести себя, заходя в чужую деревню. Считается неучтивым, если путник зайдет в поселок без приглашения. Вблизи от деревни путники останавливаются и дают знать о себе громким криком. Им навстречу обычно выходят два старика и ведут их в деревню. В каждой деревне есть пустующее строение, называемое «дом чужестранца». Их ведут в этот дом, старики же идут из хижины в хижину и сообщают, что прибыли путники, которые утомлены и хотят, вероятно, поесть. Каждый дает что может из продовольствия, чтобы накормить путешественников, и звериные шкуры, чтобы им было на чем отдохнуть. Когда путешественники утолят свой голод и жажду, приносят табак и трубки — и лишь тогда начинают беседу. Задаются вопросы: кто такие пришельцы, куда направляются, что нового могут поведать? Беседа кончается тем, что хозяева предлагают гостям свою помощь, дают им проводников и все, что им надобно для продолжения пути. Никакой платы за это индейцы никогда не берут. Гостеприимство считается у них основной племенной добродетелью, оно принято и в отношениях отдельных людей. Конрад Уэйзер, наш переводчик, рассказал мне такой случай. Он долго прожил среди индейцев Шести племен и хорошо знает язык могавков. Когда он однажды шел через индейскую территорию с письмом от нашего губернатора в Онондагу, то зашел отдохнуть к своему старому приятелю Каннасатего. Тот обнял его дружески, разостлал для него звериные шкуры, накормил бобами с олениной и угостил ромом и водой. Когда они кончили пить и есть и гость закурил трубку, Каннасатего начал беседу. Он спросил гостя, как он жил все те годы, что они не видались, куда он теперь направляется, не случилось ли чего на пути. Когда разговор был исчерпан, индеец сказал: «Конрад, ты много жил среди белых людей и знаешь все их обычаи. Мне случается бывать в Олбани, и я там наблюдал, как каждый седьмой день они запирают лавки и собираются все в большом доме. Скажи мне, что все это значит и что они делают?» — «Они идут в большой дом, чтобы учиться хорошему», — отвечал ему Конрад. «Я знаю, что они так говорят, — ответил индеец, — они и мне так сказали. Но я сомневаюсь, что это правда, и сейчас объясню, почему. Недавно я ходил в Олбани, чтобы продать там меха и купить для себя одеяла, ножи, порох, ром и другие нужные вещи. Я обычно хожу к Хэнсу Хэнсону, ты это шасшь, но на сей раз мне захотелось попытать счастья у другого торговца. Для начала я все же зашел к Хэнсу Хэнсону и спросил его, сколько он даст за бобра. Он скачал, что даст мне не больше чем по четыре шиллинга фунт. Он добавил, что не может сейчас вести деловых разговоров, потому что сегодня тот день, когда все собираются вместе, чтобы учиться хорошему, и он тоже идет на собрание. Я подумал: „Раз сегодня деловых разговоров не будет, не пойти ли мне на собрание?“ И я пошел вместе с ним. Там, когда мы пришли, поднялся человек в черном и стал всем говорить что-то очень сердито. Я не понял, о чем он вел речь, но заметил, что он часто смотрел на меня и на Хэнсона, и подумал, что он рассердился, что я к ним пришел. Тогда, выйдя на улицу, я присел там, высек огня, раскурил свою трубку и стал ждать, пока собрание окончится. Мне, признаться, почудилось, что в своей речи оратор что-то сказал про бобра, и тогда я подумал: уж не за этим ли все они пришли на собрание? Потому, когда они вышли, я спросил моего торговца: „Ну, Хэнс, если вы сговорились, может быть, ты решишь дать мне больше чем по четыре шиллинга фунт?“ — „Нет, — сказал он, — я не дам и того, а только три с половиной“. Тогда я спросил у других, но все как один заладили: „Три с половиной да три с половиной“. Тут я понял, что догадка моя была правильной. Они говорят, что сошлись, чтобы учиться хорошему, на самом же деле они держат совет, как надуть половчее индейца и дешевле купить бобра. Подумай сам, Конрад, и ты со мной согласишься. Если они в самом деле приходят учиться хорошему, пора бы им было давно хоть чему-нибудь научиться. Но этого нет. Ты знаком с нашими правилами. Если белый человек, путешествуя, зайдет отдохнуть к индейцу, каждый примет его к себе в дом, как я принял тебя. Если он промок под дождем, мы обсушим его, если голоден, то дадим поесть и попить. Он отоспится на мягких звериных шкурах, и мы ничего с него за то не возьмем. Но если я приду в Олбани к белому человеку и скажу, что я голоден, он меня спросит: „А деньги есть?“ — и когда я отвечу, что нет, он мне скажет: „Вон отсюда, индейский пес!“ Получается так, что они и не начинали учиться хорошему. А ведь это начальные правила. Чтобы знать их, нет надобности ходить на собрания. У нас мать внушает их детям, пока те еще маленькие. Кто же может поверить, что они все идут в большой дом, чтобы учиться хорошему? Нет! Они ходят туда, чтобы вместе решить, как надуть половчее индейца и дешевле купить бобра!»1777
О ТОРГОВЛЕ РАБАМИ
ИЗДАТЕЛЮ «ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГАЗЕТЫ»
Сэр, вчера вечером я прочитал в Вашей прекрасной газете речь мистера Джексона с трибуны Конгресса, направленную против попыток вмешаться в вопрос о рабовладении и изменить положение невольников к лучшему. Эта речь привела мне на память другую, которую произнес около ста лет назад Сиди Магомет Ибрагим в алжирском Диване и которую можно найти в «Записках» Мартина о его консульской службе в Алжире в 1687 году. Сиди Магомет Ибрагим выступил против петиции, поданной сектой «Эрика» — что значит «Чистые», — в которой они просили объявить вне закона морской разбой и обращение людей в невольничество как занятия безнравственные. Мистер Джексон не цитирует речь алжирца. Возможно, что он даже с ней незнаком. Поэтому, если некоторые из доводов этой речи повторяются в его талантливом выступлении, это только показывает, что логические способности человека с поразительным сходством действуют в любой точке земного шара, если совпадают побудительные мотивы и обстоятельства. Я привожу речь алжирца в своем переводе: «Велик Аллах, нет бога, кроме бога и Магомет — пророк его! Взяли ли в толк эти «Эрика» все последствия того, о чем просят? Если мы перестанем захватывать корабли христиан, откуда нам взять те товары, которые они производят и которые нам так нужны? Если мы запретим обращать взятых пленников в рабство, кто согласится работать на наших полях в этом жарком, томительном климате? И кто управится с черной работой в наших городах и домах? Не нам же самим выполнять труд христианских невольников? И разве я, мусульманин, не вправе претендовать на преимущества по сравнению с христианской собакой? У нас, в Алжире, и в прилегающих местностях сейчас несколько более пятидесяти тысяч рабов. Если этот необходимый нам уровень не поддерживать новыми поступлениями, он будет неуклонно снижаться, пока не сойдет на нет. Если мы перестанем грабить неверных и обращать в невольничество матросов и пассажиров на их кораблях, наши земли падут в цене, потому что останутся необработанными. Стоимость недвижимого имущества в городах упадет наполовину. Доходы правительства от распределения добычи будут подорваны. И все это ради чего? Ради нелепой причуды нелепых фанатиков, которые не только препятствуют нам увеличить число рабов, но решили лишить нас и тех, что мы имеем. Но кто же вознаградит владельцев рабов за потерю? Государство? Но выдержит ли такие расходы казна? Может быть, сами «Эрика»? Но откуда они возьмут эти деньги? Если они так справедливы по отношению к рабам, почему они хотят быть несправедливыми к владельцам рабов? Хорошо, предположим, мы отпустили наших рабов на свободу — что станется с ними? Лишь очень немногие захотят вернуться на родину. Они знают прекрасно, что там жизнь гораздо труднее. У них не будет возможности там приобщиться к святой мусульманской вере. Они не смогут усвоить там наших обычаев. Там не будет мужчин, которые, унижая себя, будут вступать в брачные отношения с рабынями. Так что же нам с ними делать? Содержать их в качестве нищих у нас в городах или предоставить им наше имущество на разграбление? Потому что, однажды привыкнув к рабскому состоянию, они не станут зарабатывать себе на пропитание трудом, разве только, если их вынудят силой. И что вообще достойно сочувствия в их нынешнем положении? Разве они не невольники там, у себя на родине? Разве Испания, Португалия, Франция и Итальянские государства не управляются деспотами, которые держат всех своих подданных в рабстве? Даже в Англии матросы фактически тоже рабы. Всякий раз, когда в них по шикает нужда, их хватают и сажают насильно на военные корабли; а там они не только работают, но и сражаются, и все за ничтожное жалованье, достаточное разве лишь для поддержания жизни; на них расходуют не Польше, чем мы на наших рабов. Можно ли утверждать, что положение рабов ухудшается, когда они попадают к нам в руки? Разумеется, пег! Они лишь заменяют одно рабство другим — и я бы сказал, не худшим. Потому что они попадают в страну, где солнце ислама горит неугасимым огнем, сверкает во всем своем блеске, и им открывается случай приобщиться к истинной вере и спасти свою бессмертную душу. Те же из них, кто остался на родине, лишатся блаженства. Отравлять их обратно домой — значит низринуть из царства света во мрак! Еще раз я спрашиваю, что же нам предлагают делать с рабами? Я слышал, что кто-то намерен отправить их в еще не заселенные области, где много плодородной земли и где они якобы будут процветать как свободные люди. Но я заявляю: они не будут работать без принуждения. Я утверждаю, что они слишком невежественны, чтобы создать свое государство. Дикие арабские племена вскорости их истребят или вновь обратят в невольничество. Пока они служат нам, мы печемся о них, снабжаем их всем, что им надобно, и обращаемся с ними гуманно. Мне прекрасно известно, что там, на их старой родине, они хуже одеты, хуже накормлены и живут в худших жилищах. Таким образом, их положение уже заметно улучшилось и не нуждается в каких-либо еще улучшениях. Они живут в безопасности. Никто не берет их насильно в солдаты и не заставляет перерезать христианские глотки друг другу, как это принято в войнах у них на родине. Если некоторые из богомольных ханжей и тупиц, досаждающих нам ныне петициями, и отпустили в приступе неразумного рвения своих рабов на свободу, то не великодушие и не гуманность побудили их к этому. Они погрязли в пороках и, наверно, надеются, что мнимая добродетельность их поступка спасет их от вечной гибели. И я заявляю, что они впадают в великое заблуждение, утверждая, что рабство возбраняется в Алькоране Не служат ли эти две заповеди — не считая многих иных — достаточно доказательством их слепоты и невежества: «Господа, будьте милостивы со своими рабами. Рабы, служите с веселием и верностью своим господам!» И может ли в святой книге осуждаться грабеж имущества, взятого у неверных, если бог даровал эту землю нам, мусульманам, чтобы мы ей владели и наслаждались? Так покончим же с гнусным намерением освободить наших христианских невольников! Отпустив их, мы обесценим наши дома и лишим добрых граждан их собственности, мы создадим тем всеобщее недовольство, вызовем бунт, подвергнем опасности наш государственный строй, ввергнем страну в хаос! Уповаю, что мудрый совет, к которому я обращаюсь, предпочтет довольство и счастье целой нации правоверных вздорной прихоти кучки людей, именующих себя «Эрика», и отвергнет их домогательства». После этой речи Диван, как сообщает нам Мартин, принял такое решение: «Поскольку все утверждения о безнравственности морского разбоя и обращения христиан в невольничество в лучшем случае проблематичны, выгоды же для государства, проистекающие из указанных действий, не возбуждают сомнения, петицию отклонить». И отклонили. Я остаюсь, сэр, с совершенным почтением, Ваш покорный слуга и постоянный читатель.Март, 23-го, 1790.
Гисторикус1790
СЕНТ ДЖОН де КРЕВЕКЕР ПИСЬМА АМЕРИКАНСКОГО ФЕРМЕРА Перевод А. Долинина
ПИСЬМО I
ВВЕДЕНИЕ
Мог ли кто подумать, что, если я принимал Вас с радушием и гостеприимством, Вы сочтете меня способным писать правильным и ясным слогом? Благодарность Ваша ввела Вас в заблуждение. Сведения, почерпнутые мною из бесед с Вами, с лихвой возместили мне заботы о Вашем благоустройстве в течение тех пяти недель, что Вы провели в моем доме. Я предоставил Вам всего лишь то, чего требуют обыкновенные законы гостеприимства, однако мог ли какой-либо иной гость столь многому меня научить? Вы сопровождали меня по карте из одного европейского государства в другое, рассказывали мне много удивительных вещей о нашем достославном отечестве, о коем я был весьма мало осведомлен, об его внутреннем судоходстве, сельском хозяйстве, искусствах, ремеслах и торговле; Вы провели меня через обширный лабиринт, и я извлек великую пользу из сего путешествия, и если все сие противопоставить, то будет ясно видно, что долг благодарности всецело лежит на мне. Прием, оказанный Вам в моем доме, проистекал от доброты моего сердца и чувствительности моей жены, удовлетворить же теперешнее Ваше желание придется весьма ограниченному уму: сия задача требует хорошей памяти и разнообразных талантов, коими я не обладаю. Правда, я могу с известной достоверностью описать способы нашего земледелия, наши нравы и своеобразные обычаи, ибо я всегда внимательно их изучал, но далее мои познания не простираются. Достанет ли, однако, сих местных неукрашенных сведений, чтоб оправдать все Ваши ожидания и удовлетворить Ваше любопытство? Я удивлен, что, странствуя по Америке, Вы не нашли людей просвещеннее и образованнее меня; Ваш выбор возбуждает во мне более изумления, нежели тщеславия, ибо тщеславлюсь я единственно своим искусством в земледелии. Отец мой оставил мне в наследство несколько заплесневелых книг, которые его отец привез с собой из Англии; но чем может помочь мне библиотека, состоящая большею частью из шотландских богословских сочинений, «Путешествий» сэра Фрэнсиса Дрейка{218}, «Истории королевы Елизаветы»{219} и еще нескольких разрозненных томов? Наш священник меня навещает, хотя живет он более чем в двадцати милях отсюда. Я показал ему Ваше письмо, попросил совета и помощи; он ответил, что не имеет свободного времени, ибо подобно всем нам должен возделывать свою ферму, да еще и сочинять воскресные проповеди. Жена моя (а я никогда не предпринимаю ничего, не посоветовавшись с нею) смеется и говорит, что Вы, наверно, пошутили. «Да что ты, Джеймс! — восклицает она, — неужто ты посмеешь слать письма в Европу важному господину, который много лет живет во дворце премудрости, название коему Кембридж; ведь там, говорят, ученость вдыхают вместе с воздухом. Неужто тебе не стыдно писать к человеку, который сроду ни одного дня не поработал, даже ни одного дерева не срубил, который бог знает сколько лет потратил, изучая звезды, геометрию, камни, мух и читая толстые фолианты? Который, как он сам нам сказывал, даже и в Риме побывал! Ты только подумай — житель Лондона едет в Рим! И куда только эти англичане не ездят! Он же своими глазами видел подземный город Помпей и вулкан Езувий, где огнь и серу делают! Неужто ты осмелишься слать письма человеку, который побывал в Риме, в Альпах, в Петербурге и видел столько замечательных вещей во всех странах, который приплыл к нам через океан и проехал с востока на юг, от Нью-Гемпшира до самого Чарльстона, посетил все наши большие города, свел знакомство почти со всеми нашими знаменитыми юристами и другими умниками, беседовал со множеством королевских чиновников, губернаторов и советников и все-таки выбрал в свои корреспонденты тебя? Не иначе, как он хочет над тобою посмеяться! Конечно, хочет, не может это быть серьезно. Джеймс, ты должен перечитать его письмо строчку за строчкой и хорошенько подумать, нет ли там какой насмешки, нет ли в его словах еще какого-нибудь значения; да и, пожалуй, муженек, лучше б ты показал его письмо мне; хоть я, как ты верно скажешь, всего лишь женщина, я довольно развираюсь в словах, потому что, когда мы были еще маленькими, отец определил нас к лучшему учителю и округе». Потом она сама очень внимательно прочитала письмо, священник наш при сем присутствовал; мы слушали и взвешивали каждый слог и все вместе заключили, что Вы были в здравом уме и твердой памяти, как любит говорить моя жена, и просьба Ваша показалась нам искреннею и чистосердечной. Но когда мы опять же вспомнили разницу между Вашим и моим положением в жизни, всех нас вновь охватило изумление! Священник взял у моей жены письмо и прочитал его про себя; он обратил наше внимание на две последние фразы, и мы по мере сил своих постарались взвесить их смысл. Заключение, к коему мы все пришли, в конце концов заставило меня решиться к Вам писать. Вы говорите, будто желаете узнать от меня лишь то, что находится в пределах моего опыта и познаний; сие мне очень хорошо понятно, трудность состоит лишь в том, как собрать, постигнуть и ясно изложить то, что я знаю. Далее Вы утверждаете, будто писать письма значит просто говорить на бумаге, что, признаться, показалось мне совершенно новою мыслью. «Ну что ж, сосед Джеймс, — заметил священник, — коль скоро вы умеете хорошо говорить, я уверен, что вы должны так же порядочно писать, вот и вообразите, будто мистер Ф. Б. все еще находится здесь, и просто напишите все, что вы хотели бы ему сказать. Представьте себе, что вопросы, которые он задаст вам в своих будущих письмах, он произносит viva voce[93], как мы выражались в колледже, после чего постарайтесь обдумать и выразить свои ответы тем же языком, как если б он был здесь. Больше он ничего от вас не требует, и я уверен, что сия задача не трудна. Он ваш друг, а кто может постыдиться писать к другу? Хотя он человек ученый и светский, я уверен, что он с удовольствием прочитает ваши письма; пусть они не изящны, но зато от них будет исходить аромат лесов и дикой природы. Зная ваш склад ума, я уверен, что из писем ваших он сможет почерпнуть многое ему прежде неведомое. А некоторые люди так любят новизну, что готовы закрыть глаза на многие ошибки слога ради приобретения новых сведений. Все мы склонны восхищаться чужеземными диковинами, хотя они порою уступают тому, что имеется у нас дома, и сие, по моему мнению, и есть причина, отчего такое множество людей постоянно посещает Италию, излюбленное место паломничества нынешних путешественников». Джеймс. Неужто там можно увидеть столько хорошего и полезного, что все желают попасть в сию страну, и никуда больше? Священник. Я этого как следует не знаю. Наверное, люди хотят увидеть, что осталось от некогда процветавших народов, которые ныне совершенно вымерли. Там они развлекаются видом развалин храмов и иных строений, имеющих так мало сходства с нынешними, что они должны служить источникомпознаний, кои кажутся мне пустячными и бесполезными. Я всегда дивился, отчего знающие ботаники или ученые сюда не ездят, ведь они извлекали бы больше пользы, наблюдая повсюду скромные зародыши новых общин, новые города и поселки во многих сельских округах. Я уверен, что много полезнее следить их быстрый рост, нежели взирать на руины древних башен, бесполезные акведуки и грозящие обвалом крепости. Джеймс. Слова ваши, святой отец, кажутся мне весьма справедливыми; прошу вас, продолжайте, я всегда рад слушать ваши речи. Священник. Не кажется ли вам, сосед Джеймс, что доброму и просвещенному европейцу было бы полезно задуматься над тем, почему в наших провинциях столько счастливых людей? Как нам удается ежедневно расширять наши поселения и превращать огромный лес в цветущие поля? Отчего все тринадцать провинций наших являют столь удивительное зрелище привольной жизни и политического благоденствия? В Италии все достойные обозрения предметы, все мысли путешественника должны касаться древних поколений и весьма далеких времен, окутанных туманом веков. Здесь, напротив, все ново, мирно и благодетельно. Война никогда не опустошала наши поля[94], вера наша не угнетает земледельцев, нам чужды феодальные учреждения, поработившие столь многих. Здесь Природа открывает свои объятия постоянно прибывающим пришельцам и снабжает их пропитанием. Едва ли меня можно обвини и, в пристрастии к Америке, если я скажу, что сии приятные картины более занимательны и дают больше пищи для философических рассуждений, нежели замшелые руины Рима. Здесь все одушевит здравомыслящего путешественника самыми человеколюбивыми идеями; и вместо того чтобы предаваться мучительным и бесполезным воспоминаниям о революциях, разрушениях и моровых язвах, он, напротив, благоразумно обратит свой взор вперед, в предвидении грядущих улучшений и усовершенствований, к грядущему распространению тех поколений, коим назначено заполнить и украсить наш бесконечный континент. Там, среди полуразрушенных амфитеатров и гнилых лихорадок Кампаньи, он, стараясь постичь происхождение и назначение окружающих его строений и причины столь обширных разрушений, должен проникнуться самыми печальными мыслями. Здесь он может наблюдать самое начало и общие контуры человеческого общества, коих ныне не сыскать нигде, кроме как в сей части света. Мне говорили, что остальные земли либо чрезмерно переполнены, либо наполовину опустошены. Религиозные заблуждения, тирания и нелепые законы повсюду гнетут и терзают людей. Здесь мы до некоторой степени вновь обрели древнее достоинство рода человеческого; законы наши просты и справедливы; мы — народ земледельцев, земледелие наше ничем не ограничено, и потому все вокруг цветет и преуспевает. Я со своей стороны склонен скорее восхищаться просторным амбаром одного из наших состоятельных фермеров, который собственноручно срубил первое дерево на своей плантации и основал свое селение, нежели изучать размеры храма Цереры. Я склонен скорее описывать успехи сего рачительного хозяина на всех ступенях его трудов, нежели вникать в то, как теперешние итальянские монастыри могут снискать себе пропитание, не утруждая себя ничем, кроме песнопений и молитв. Хотя темы для размышлений здесь и ограничены, время английского путешественника не пропадет совсем даром. Новое и неожиданное зрелище наших обширных селений, наши прекрасные реки, открытое повсюду поле деятельности, мир и покой, коими наслаждается столь большое число людей, живущих вместе, чрезвычайно заинтересуют наблюдателей, ибо с какими бы трудностями ни встретились они в своих исследованиях, гостеприимство, царящее во всех частях нашего континента, всячески облегчит их экспедиции. Коль скоро все богатство дает нам лишь верхний слой земли, которую мы возделываем, мы пока еще не знаем, что скрывается под ним. Потребуются усилия последующих веков, энергия грядущих поколений, прежде чем жители здешних мест обретут досуг и способности, дабы углубиться в недра сего континента и отыскать сокровища, которые там, без сомнения, таятся. Сосед Джеймс, нам необходима помощь людей, обладающих досугом и познаниями; нам нужно, чтобы выдающиеся химики научили нас выплавлять железо и изготовлять краски, которые пойдут в дело. Здесь никто на это не способен. Если мы делаем какие-либо полезные открытия, то лишь по счастливой случайности или вследствие неутомимого трудолюбия, которое составляет главную характеристическую черту сих колоний. Джеймс. О, если б я мог выражать свои мысли так, как вы, друг мой, я бы, не медля ни минуты, приступил к переписке, которая лишь сделала бы мне честь. Священник. Вы вполне способны хорошо писать и будете очень быстро совершенствоваться. Верьте моему предсказанию — ведь ваши письма будут, по крайней мере, обладать тем преимуществом, что они приходят с края дикой пустыни, которая начинается в трех сотнях миль от океана, да еще в трех тысячах миль от Британии, и уверяю вас, что сие никак не умалит их достоинств. Вы прочите одному из своих сыновей духовный сан, и, кто знает, быть может, мистер Ф. Б. когда-нибудь составит юноше протекцию у епископа. Американским фермерам полезно иметь друзей даже и в Англии. Просьба мистера Ф. Б. чрезвычайно проста — то, что мы говорим друг другу, называется беседой, а письмо всего лишь беседа, записанная черным по белому. Джеймс. Вы совершенно меня убедили — если он даже и посмеется над моей неловкостью, готовность моя выполнить его просьбу несомненно придется ему по душе. Я же со своей стороны исполнен добрыми намерениями, ну а касательно формы изложения — будь что будет. Я намереваюсь писать много, так пусть уж он сам возьмет на себя труд отсеивать хорошее от дурного, полезное от бесполезного, путь выберет, что хочет, и отбросит ненужное. Пусть мистер Ф. Б. сейчас в Лондоне, но я, как и прежде, когда он жил под моею крышей в Америке, постараюсь дать ему лучшее из того, что имею, и притом с добрыми намерениями и наилучшим способом, на какой я только способен. «Нет, иначе, Джеймс, совсем иначе, — сказала моя жена, — мне не нравится твое сравнение; ведь здесь все необходимое доставляли ему наш домик и погреб, наш сад и огород; из-за этого, кстати, бедному мистеру Ф. Б. пришлось половину времени довольствоваться одними фруктовыми пирогами, молоком и персиками. Все это дал нам господь, а мы со служанкой доделали остальное; мы не создали эти припасы, мы только постарались как можно вкуснее и чище их приготовить. Первым делом, Джеймс, и тебе должно проверить, что припасено у тебя в голове, а уж потом думать о стряпне». «Нет, жена, на сей раз ты не права; будь я преисполнен тщеславия, твой упрек был бы уместен, но ты же знаешь, что его во мне нет. Откуда мне знать, на что я способен, пока я не попробовал? Если бы ты, проживая в отцовском доме, не учила и не перенимала разные отрасли домоводства, коими славились твои родители, ты не годилась бы в жены американскому фермеру и никогда не стала бы моей женою. Я женился на тебе не ради того, что у тебя было, а ради того, что ты умела; разве ты не заметила, что еще сказал мистер Ф. Б.? Он говорит, что искусство писать подобно всякому другому искусству, что оно приобретается привычкой и усердием». «Сие весьма справедливо, — сказал наш священник, — тот, кто каждый день недели напишет по письму, в субботу убедится, что шестое письмо выходит из-под его пера намного легче первого. Когда я принял духовный сан и начал проповедовать слово божие, я заметил, что голова моя пуста, что я смущен и подобен иссохшей земле, которая не родит ничего, даже и сорняков. Благословение свыше и усердные занятия обогатили меня мыслями, фразами и словами, я почувствовал, что широко осведомлен и могу теперь подробно толковать любой текст, какой только придет мне на ум. Так же будет и с вами, сосед Джеймс, и потому начинайте без промедленья, а письма мистера Ф. Б. послужат вам на пользу: он, без сомнения, будет о многом вам сообщать, ведь переписка состоит во взаимных письмах. Отбросьте вашу робость, а я на досуге постараюсь помочь вам, чем могу». «Ну что ж, — сказал я, — в таком случае я решился последовать вашему совету; я не отправлю и не получу ни одного письма, не прочитав их вам и жене; женщины любопытны, им хочется знать секреты мужей; я не впервые обращаюсь к вашему общему суду. Когда б вы ни пришли к нам на обед, мои письма будут поданы вам как последнее блюдо». «И надеюсь, что не самое несъедобное, — отвечал сей добрый человек. — Природа наделила вас порядочною долею здравомыслия, а сие, позвольте мне сказать вам, один из лучших ее даров. Сверх того, она наделила вас проницательностью, благодаря которой вы замечаете интересные предметы, а также пылким воображением и быстрым умом; вы часто извлекаете полезные мысли из тех предметов, в коих я оных не усмотрел; у вас доброе и отзывчивое сердце; вы любите описания, и поверьте, что перо ваше совсем не дурно для фермера; видно, что вы управляетесь с ним без труда, разум ваш являет собою то, что мы в Йельском колледже называли tabula rasa[95], на которой легко отпечатываются естественные и сильные впечатления. Ах, сосед! Получи вы хотя бы половину образования мистера Ф. Б., из вас, право же, вышел бы достойный корреспондент. Но, быть может, в вашей простой американской одежде вы будете корреспондентом более занимательным, чем во всех мантиях Кембриджа вместе взятых. Вы предстанете перед мистером Ф. Б. как одно из наших беспорядочно и буйно разросшихся диких американских растений, которые европейский ученый, быть может, сочтет неуместными и бесполезными. Если земля наша пока еще не прославилась великолепием своих плодов, сия пышность, однако же, являет собою убедительное доказательство плодородия, которое требуется лишь улучшать и исправлять посредством постепенно приобретаемых знаний. Сокращать легче, нежели расширять; я не хочу вам льстить, сосед Джеймс, лесть чужда моему характеру, и от того вы можете верить словам своего священника. Живи я в Европе, мне бы наскучило изо дня в день смотреть на шпалерник, живые изгороди и обстриженные деревья-пигмеи. Так пусть же мистер Ф. Б. увидит на бумаге американские дикие вишни в той форме, какую со всей своей неукротимой силой придает им здесь Природа, во всем великолепии их густых развесистых ветвей; пусть он увидит, что мы обладаем мощными зародышами растительности. В конце концов, почему фермеру нельзя использовать свои мыслительные способности подобно всем прочим людям; ведь если человек трудится, то разве он не должен думать, а если его мысли полезны, то почему в часы досуга ему нельзя их записать? Я сочинил немало хороших проповедей за плугом. Во время пахоты глаза не заняты ничем определенным и ум открыт для множества полезных идей. Подобными минутами раздумья мы можем наслаждаться не в шумной мастерской кузнеца или плотника, а в тишине полей, когда мы молча вспахиваем землю и задумчиво шагаем вдоль ароматных борозд на наших ровных низинных угодьях, где нам не мешают ни пни, ни каменья; здесь целебные испарения земли оживляют наш дух и пробуждают ум; по сравнению с сим приятным занятием все остальное, что мы делаем на фермах, — тяжкий труд; изо всех сельских работ я всего более люблю пахать, ибо за плугом удобно предаваться размышлениям; ничто меня не отвлекает, мною движет тот же инстинкт, что и моими лошадьми, я делаю свое дело, они — свое, но иных различий между нами нет. Одна лошадь ведет борозду, вторая ее обходит; на краю поля они по моему знаку поворачивают направо или налево, тогда как я, ни о чем не думая, держу и направляю плуг, в который они впряжены. И потому, сосед, начните сию переписку, не прерывайте ее; по мере вашего приближения к трудностям последние будут исчезать; вы постепенно начнете удивляться самому себе, и, оглядываясь назад, скажете то, что часто говаривал себе и я: «хорошо, что я не оробел, ведь иначе я бы никогда ничего не добился». Разве вы станете в поте лица возделывать далекие каменистые склоны, оставляя в небрежении тучную низину у самых дверей вашего дома? Разве вы научились бы изготовлять и чинить плуги, если б однажды не взялись за сие ремесло? Когда-нибудь ваши дети с гордостью скажут, что их отец был не только одним из самых трудолюбивых фермеров в стране, но и одним из лучших наших писателей. Раз начав, ведите дело так, как вы ведете борозды на пашне, — ведь за плугом вы думаете не о том, сколько вам еще осталось сделать, а сколько уже сделано. И посему, сосед Джеймс, примите мой совет, и все у вас пойдет хорошо, я в том совершенно уверен». «Вы и впрямь держитесь такого мнения, сэр? Ваши советы, коим я давно следую, я ценю весьма высоко, и я в самом деле думаю, что должен отписать к мистеру Ф. Б. с первым же пакетботом». «Если ты так упорствуешь в своей дерзости, — сказала моя жена, — то ради бога, будем держать это в величайшем секрете, ведь если кто узнает, что ты пишешь к важному и богатому человеку в Лондоне, не будет конца разговорам, одни поклянутся, что ты задумал сделаться писателем, другие станут уверять, что предвидят изменения в благополучии твоей семьи; одни будут болтать одно, другие — другое, а кому охота, чтобы о нем злословили? Хорошенько взвесь все это дело, прежде чем начать, Джеймс, и прими во внимание, что ты рискуешь немалою долей своего времени и, смею сказать, своего доброго имени. Если б ты писал так же хорошо, как друг Эдмунд, чьи речи я часто вижу в наших газетах{220}, было бы то же самое — тебя бы все равно обвинили в праздности и суетности, не приличествующих твоему положению. Полковник повадится к нам выведывать, о чем ты так много пишешь. Кое-кто вообразит, что ты метишь либо в Законодательную ассамблею, либо в мировые судьи, чего боже упаси, и потому доносишь все королевским чиновникам. Вместо того чтобы уважать нас и жить с нами в мире, как сейчас, соседи пустятся во всякие хитроумные догадки. Нет уж, будем жить так, как жили — не лучше и не хуже других. Ты знаешь, что я имею в виду, хоть мне и жалко было бы лишить тебя такого невинного развлечения. И потому, как я уже сказала, пусть твои письма останутся глубокой тайной, словно какое-нибудь страшное преступление; священник, уж конечно, нас не выдаст, ну а что до меня, то пусть я женщина, я знаю, как должно поступать жене. Не хочу я, Джеймс, чтобы ты прослыл тем, что свет называет писателем; нет, ни за какие коврижки, как говорится в пословице. Отец твой был порядочный и честный человек, прямой и пунктуальный во всем; он не болтал лишнего и имел одну заботу — свою ферму и свой труд. Никак не возьму в толк, откуда у тебя взялась такая охота писать? Разве смог бы твой родитель оставить тебе такую славную ферму, да без единой закладной, если б ему вздумалось попусту тратить время и строчить письма во все концы? Я ничего худого сказать не хочу — пусть важные заморские особы пишут к нашим жителям, делать-то им больше нечего. Странный народ эти англичане — работать не работают, живут на то, что у них называется банкнотами, и думают, другим тоже так можно. Но ведь ихними банкнотами нашу прекрасную землю не расчистишь и не вспашешь. Я уверена, что, когда мистер Ф. Б. был здесь, он видел, как ты трудишься в поте лица; он часто говорил мне, что американцы работают с бóльшим рвением, чем англичане; ведь в Англии, говорил он, нет деревьев, которые надо рубить, нет нужды ставить изгороди, нет негров, которых надо покупать и одевать. Кстати, когда ты пошлешь ему деревья, которые он заказал? Но если у них нет деревьев, которые надо рубить, у них, говорят, в избытке водится золото, потому что они раскапывают и загребают его везде и всюду. Дедушка мне часто рассказывал, как они там зарабатывают себе на жизнь писаниной. Попишут-попишут, да и шлют одни товары к нам, другие в Вест-Индию, третьи — в Ост-Индию. Но, Джеймс, ведь ты знаешь, что нам такими письмами с кузнецом, со священником, ткачом, портным и с английским лавочником не расплатиться. Конечно, поступай по-своему, коли ты все равно привык рано вставать; я знаю, тебе нужен отдых, вот и используй его но своему нраву. Только пусть все останется в величайшей тайне; разве тебе понравится, если на сельских сходах тебя будут называть писателем? Если кто-нибудь проведает про твой план, путешественники станут указывать на наш дом и говорить: «Тут живет писака-фермер». Пускай уж лучше говорят, как всегда: «Тут живут добрые зажиточные люди, у которых всегда найдется миска овсянки для каждого, кто переступит порог их дома. Поглядите, какие у них откормленные и хорошо одетые негры». Итак, сэр, я честно и откровенно изложил Вам все подробности беседы, которая заставила меня решиться принять Ваше предложение. Я почел за необходимость начать с нее и посвятить Вас в изначальные секреты, дабы Вы не упрекали меня в самонадеянности. Вы ясно увидите, что заставило меня начать, чего я боялся и на чем основывается моя робость. Теперь мне остается лишь выполнить свою задачу. Не забывайте, что Вам должно задавать мне темы, и на другие я писать не буду, дабы Вы не обвинили меня в неблагоразумном выборе оных. Каким неправильным ни показался бы Вам впоследствии мой слог, сколь праздными наблюдения, не сомневайтесь, что их продиктовал мой разум, и я надеюсь, что по сей причине они будут Вам угодны. Не забывайте, что Вы сами положили основание нашей переписке; Вы отлично знаете, что я не философ, не политик, не богослов и не натуралист, а простой фермер. Поэтому я льщу себя надеждой, что Вы примете мои письма такими, какими я их задумал, не по ученым правилам, кои мне совершенно незнакомы, но под Непосредственными впечатлениями, каковые каждая тема может вызвать. Это единственный путь, коим я могу следовать, путь, который указала мне сама Природа; это был договор, в который я вступил с Вами и коим Вы, мне кажется, были вполне довольны. Если б Вам был нужен слог ученого, мысли патриота, рассуждения политика, любопытные наблюдения натуралиста, нарядные одежды человека со вкусом. Вы, конечно, обратились бы к одному из тех литераторов, коими изобилуют наши города. Но коль скоро Вы, напротив и по неизвестной мне причине, пожелали вести переписку с земледельцем и простым гражданином, Вам остается получать мои письма — будь то к добру или к худу.ПИСЬМО II
О ПОЛОЖЕНИИ, ЧУВСТВАХ И РАДОСТЯХ АМЕРИКАНСКОГО ФЕРМЕРА
Будучи первым просвещенным европейцем, с коим мне посчастливилось свести знакомство, Вы не удивитесь, что я, следуя Вашему искреннему пожеланию и своему слову, стремлюсь сохранить Вашу дружбу и продолжить нашу переписку. Из Ваших рассказов я узнал, что ваше земледелие, нравы и обычаи существенно отличаются от наших; все зависит от местоположения; будь у нас возможность пользоваться преимуществами английского фермера, мы, конечно, были бы много счастливее, но сие желание, подобно многим другим, содержит в себе противуречие; ведь если б английские фермеры обладали некоторыми из наших привилегий, они были бы первыми среди представителей своего сословия в целом свете. Добро и зло, как видно, можно найти во всяком обществе, и тщетно искать такое место, где элементы эти не были бы между собою перемешаны. По сей причине я вполне доволен и благодарю бога за то, что он назначил мне жребий американского фермера, а не русского мужика или венгерского крестьянина. Сердечно признателен Вам за понятие — как оно ни прискорбно — об их судьбе и обстоятельствах, которое Вы мне дали; наблюдения Ваши укрепили меня в справедливости моих собственных суждений, и я теперь счастливее, нежели почитал себя прежде. Достойно удивления, что чужие бедствия могут стать неким благом для нас, хоть я и не с клонен радоваться, узнав, что есть на свете люди, до такой степени обездоленные; ведь они, без сомнения, столь же незлобивы, старательны и трудолюбивы, как и мы. Воистину тяжка участь быть обреченными на рабство худшее, чем рабство наших негров. Между тем в молодости я носился с мыслию о продаже своей фермы. Я думал, что она сулит мне лишь скучную череду однообразных трудов и удовольствий. Первые почитал я докучными и тяжкими, последние — редкими и пресными. Подумав, однако, чем буду я без моей фермы, я понял, что мир чрезвычайно велик, а людей везде очень много, и испугался, что мне не найдется в нем места. Моя ферма, мой дом, мой амбар явились моему воображению предметами, из коих я вывел совершенно новые идеи, много убедительнее прежних. Зачем, сказал я, не почитать мне себя счастливым там, где прежде был счастлив мой отец? Он, правда, не оставил мне в наследство хороших книг и не научил ничему, кроме искусства читать и писать, но зато оставил мне хорошую ферму, свой опыт и не оставил ни долгов, ни затруднений, кои мне надлежало бы преодолеть. Я женился, что совершенно примирило меня с моим положением; жена моя тотчас сделала мой дом веселым и уютным, и он уж больше не казался мне таким сумрачным и одиноким, как прежде; отправляясь в поле, я стал работать бодрее и проворнее; я чувствовал, что тружусь не только для одного себя, и это придавало мне сил. Жена моя нередко приходила в поле с вязанием в руках, садилась под тенистым деревом и хвалила меня за то, какие у меня ровные борозды и послушные лошади; ее слова переполняли мне сердце гордостью, все становилось легким и приятным, и я сожалел, что не женился раньше. Я был счастлив в моем новом положении, да и есть ли на свете звание, дающее человеку больше благ, нежели звание американского фермера, который обладает свободой действий, свободой мысли и живет под властию правительства, столь мало от него требующего? Я обязан своей стране сущею безделицей — ничтожной данью моему королю вкупе с верностию и надлежащим уважением; я не знаю иного господина, кроме Господа нашего, к коему питаю искреннейшую благодарность. Отец оставил мне в наследство 371 акр земли, из коей 47 занимают хорошие травяные луга, отменный плодовый сад, хороший дом и добротный амбар. Долг велит мне почитать за счастье, что он все это построил и за все расплатился; что рядом с этим все мои усилия? Что все мои труды в сравнении с трудами моего отца, коему пришлось делать все самому, начиная с той минуты, когда он срубил первое дерево, и кончая той, когда подвел дом под крышу? Каждый год я заготавливаю от 1500 до 2000 фунтов свинины, 1200 фунтов говядины, осенью забиваю полдюжины упитанных баранов, жена моя держит в изобилии домашнюю птицу, так чего ж еще остается мне желать? Мои негры достаточно верны и здоровы; благодаря неизменному трудолюбию и честности отец мой оставил по себе доброе имя, и, чтобы стать таким же счастливым и добрым человеком, мне должно лишь идти по его стопам. Я достаточно знаю закон, чтобы достойно вести свои скромные дела, и не страшусь власти оного. Таково в общих чертах мое положение, но, чувствуя гораздо более, нежели умею выразить, я не знаю, как мне продолжать. Когда родился мой первый сын, весь ход моих мыслей вдруг переменился; никакие чары не действовали на меня с такою быстротой и силой; я перестал мысленно метаться по всему свету; с той поры мои прогулки не выходят за границы моей фермы, и все мои главные радости отныне сосредоточены в ее тесных пределах, но в то же время у меня на ферме нет такого дела, в коем я не нашел бы полезной пищи для ума. Мне кажется, что именно по сей причине Вы, пребывая здесь, в свойственном Вам изысканном стиле имели обыкновение называть меня фермером чувств; однако сколь грубы должны быть чувства того, кто ежедневно орудует топором или плугом, против утонченных чувств европейца, чей ум усовершенствован образованием, примером, книгами и всеми благоприобретенными преимуществами! Повинуясь Вашей настоятельной просьбе, я, однако же, постараюсь описать мои чувства как можно лучше. Когда я смотрю, как жена моя, сидя у очага, штопает, прядет, вяжет или кормит нашего младенца, я не нахожу слов для описания разнообразных чувств любви, благодарности и гордости, кои переполняют мое сердце и порою невольно находят выход в слезах. Я ощущаю сладостную необходимость исполнить свою роль, роль мужа и отца, с вниманием и благонравием, которые моги и бы сделать меня достойным моей счастливой судьбы. Правда, эти приятные образы рассеиваются вместе с дымом моей трубки, но, хоть они и исчезают из моей головы, впечатление, ими сделанное, навсегда остается в сердце. Когда я играю с ребенком, мое пылкое воображение забегает вперед, живописуя будущий его характер и наружность. Я охотно раскрыл бы книгу судеб с целью узнать, на какой странице записан его жребий. Найдется ли на свете отец, который в такие минуты сумеет выразить хотя бы половину чувств, переполняющих родительским восторгом его сердце? Увы! Я не сумею. Стоит моим близким занемочь, как меня охватывает страх за их благополучие, и я дорогой ценою плачу за радости, которые испытывал, когда они находились в добром здравии. Дом свой я всегда покидаю с неохотой, а возвращаюсь всякий раз со сладостным чувством, которое часто подавляю, как бесполезное и глупое. В ту минуту, когда я снова ступаю на принадлежащую мне землю, радостная мысль о собственности, о неотъемлемых нравах, о независимости возвышает мой дух. Бесценная земля, говорю я себе, в силу какого закона составила ты богатство вольного землепашца? Чем были бы мы, американские фермеры, не владей мы безраздельно тобою? Она нас кормит и одевает, она в избытке снабжает нас отменною едою и питьем, и даже мед наших пчел родится в сем благословенном краю. Можно ли удивляться, что мы так высоко ценим владение ею; можно ли удивляться, что столько европейцев, никогда не имевших возможности назвать своим хотя бы крошечный клочок земли, пересекают Атлантический океан в поисках подобного счастья? Эту некогда дикую землю отец мой превратил в цветущую ферму, а она, со своей стороны, установила все наши права; на ней зиждется наше общественное положение, наша свобода, наша сила как граждан, наша слава как жителей здешних мест. Подобные виденья, признаться, всегда меня радуют, и я стараюсь распространить их, насколько позволяет мое воображение, ибо они составляют то, что можно назвать истинной и единственною философией американского фермера. Покорнейше прошу Вас не смеяться, наблюдая, как простодушный поселянин прокладывает себе путь среди разнообразных немудреных событий и явлений своей жизни; вспомните, что Вы сами того требовали, и посему я искренне, хотя и робко пытаюсь следовать за нитью моих чувств, но не могу сказать Вам все. Вспахивая свою низину, я часто сажаю сына на стульчик, привинченный к грядилю плуга; движение плуга забавляет мальчугана, и он в восторге что-то лепечет. Когда я наклоняюсь над рукоятками плуга, разнообразные мысли теснятся у меня в мозгу. Сейчас, говорю я себе, я делаю для него то, что мой отец делал для меня; сохрани его господь, чтобы, когда я состарюсь и одряхлею, он мог выполнять ту же работу с тою же целью! Когда мальчик со мною, я освобождаю жену от части ее забот; запах свежевспаханной земли бодрит ребенка и, как видно, идет ему на пользу, ибо с тех пор, как я взял это себе в привычку, он выглядит много здоровее, да и можно ли придать более приятности и достоинства сему простому делу? Отец, который подобным образом пашет землю со своим ребенком, чтобы прокормить свою семью, уступает лишь китайскому императору, который пашет, показывая пример своим подданным{221}. Вечером, возвращаясь домой по моим низинным угодьям, я с изумлением смотрю на мириады насекомых, пляшущих в лучах закатного солнца. Прежде я едва ли знал об их существовании; они так малы, что их трудно разглядеть; они стараются использовать эти короткие вечерние часы, боясь нашего полуденного зноя. Всякий раз, когда к столу подают яйцо, я думаю о тех поразительных изменениях, которые произошли бы в нем, если бы не мое чревоугодие; оно могло бы стать смирной полезною курицей, которая следит за своими цыплятами с неусыпною заботой, способной посрамить многих женщин. Или, быть может, петухом, с великолепным оперением, нежно любящим свою подругу, смелым, дерзким, одаренным поразительным инстинктом, мыслями, памятью и всеми отличительными свойствами человеческого разума. Всякий раз я дивлюсь тому, что мои деревья осенью роняют листья и плоды, а весною вновь покрываются почками; мудрость животных, которые так долго живут на моей ферме, поражает меня; некоторые из них, кажется, даже превосходят людей своею памятью и умом. Я могу привести Вам удивительные тому примеры. Что же это за инстинкт, который мы так уничижаем и о котором нам внушают столь превратное понятие? Изо всех жителей моей фермы более всех привлекают к себе интерес и уважение пчелы; я с удивлением вижу, что всякое живое существо имеет своего врага, один вид преследует другой и живет за его счет: к сожалению, наши пчелоеды истребляют трудолюбивых насекомых, но, с другой стороны, эти птицы охраняют поля от опустошительных набегов ворон, коих они с поразительным проворством преследуют прямо на лету. Таким образом, не зная, что предпочесть, я долго подавлял желание убивать пчелоедов, пока прошлого года не решил, что они слишком быстро размножаются и слишком долго испытывают мое терпение. Когда пчелы начали роиться, все пчелоеды прилетели и уселись па соседних деревьях, откуда бросались на пчел, нагруженных добычею с полей. Это заставило меня решиться истребить как можно больше этих хищников, но едва я приготовился стрелять, как стая пчел величиною с мой кулак вылетела из улья, набросилась на одного пчелоеда и, наверное, его ужалила, ибо тот громко вскрикнул и полетел прочь, но не беспорядочно меняя направление, как прежде, а по прямой линии. За птицею, держась на изрядном расстоянии, последовала все та же отважная фаланга, которая, к сожалению, чересчур уверовав в победу, нарушила воинский строй и разлетелась в разные стороны. Вследствие столь неразумного маневра пчелы лишились своих совокупных сил, которые вначале заставили пчелоеда обратиться в бегство. Заметив этот беспорядок, он тотчас вернулся и проглотил ровно столько пчел, сколько ему было угодно; более того, ему даже достало наглости сесть на ту самую ветку, с которой пчелы прежде его согнали. Я его застрелил, тотчас раскрыл ему клюв и извлек оттуда 171 пчелу; положил их на одеяло, расстеленное на солнце, и, к моему великому удивлению, 54 пчелы ожили, вылизали себя дочиста и радостно воротились в улей, где, наверное, рассказали своим товаркам о приключении и спасении, каких, я полагаю, никогда еще не выпадало на долю американских пчел! Немалое удовольствие доставляют мне перепелки, населяющие мою ферму; их разнообразные песенки и удивительная кротость с лихвой вознаграждают меня за неизменное гостеприимство, которое я всегда оказываю им зимой. Вместо того чтобы вероломно воспользоваться их бедственным положением, когда вся природа являет собою бесплодную снежную пустыню, когда жестокая нужда гонит их к дверям моего амбара, я позволяю им беспрепятственно склевывать жалкие остатки зерна, которое без них все равно бы пропало, и вид этих красивых птиц, укрощенных голодом и смело копошащихся вокруг моих коров и овец, вносит приятное разнообразие в унылые зимние картины. В углы изгородей, откуда ветер сдувает снег, я часто кладу зерно и мякину — для корма и для того, чтобы их нежные лапки не примерзли к земле, как я не раз наблюдал. Я не знаю другого примера, в коем поразительное варварство людей проявлялось бы с такою силой, как в ловле и убийстве этих безвредных птиц в это суровое время года. Мистер N., один из самых известных и выдающихся фермеров, какие когда-либо составляли гордость провинции Коннектикут, в одну из жестоких зим своею своевременной и гуманной помощью спас эту птичью породу от полного уничтожения. Перепелки погибли по всей округе; следующей весною нигде, кроме фермы этого джентльмена, не слышно было их очаровательного пересвиста, и лишь его гуманности мы обязаны тем, что сия музыка не умолкла навсегда. Когда лютые морозы приводят в уныние всех домашних животных, ни один фермер не заботится о них с большим удовольствием, чем я; сие одна из тех обязанностей, которые приносят мне величайшее удовлетворение. Забавно наблюдать их разнообразные характеры, поступки и различные проявления инстинкта, над коим теперь безраздельно властвует голод. Я слежу за их разнообразными склонностями, за различным проявлением их страстей, точно таких же, как у человека; закон для нас совершенно то же, что я у себя на скотном дворе, — узда, способ удержать сильных и жадных от угнетения слабых и робких, ибо, сознавая свое превосходство, они всегда стремятся потеснить соседей; и, не удовлетворенные своей порцией, жадно заглатывают пищу. Если им не помешать, они непременно захватят то, что предназначено другим. Иных я браню, а тех, кто не внемлет увещаниям, могу и прибить. Если бы людей кормили таким же образом без помощи слов, они, наверно, обращались бы друг с другом не лучше и отнюдь не более философски, чем мои животные. Тот же дух царит и на конюшне, но здесь мне приходится иметь дело с более благородными животными, здесь мой знакомый голос тотчас производит действие и быстро восстанавливает мир и покой. И так, благодаря умственному превосходству я правлю своими животными, подобно мудрецам, обязанным править дураками и невеждами. Множество других мыслей теснится в эти минуты у меня в мозгу, но к тому времени, как я возвращаюсь домой, все они рассеиваются. Если холодною ночью я мчусь куда-нибудь в санях со скоростью 12 миль в час, окружающее возбуждает у меня множество размышлений. Что представляет собою явление, которое мы называем морозом? — спрашиваю я себя. Наш священник сравнивает его с иглами, чьи острия впиваются нам в поры. Куда девался летний зной, в какой части света норд-вест хранит эти огромные запасы селитры? Утром, увидев, что по реке, которая накануне была еще жидкой, сегодня можно ходить, я, право же, изумляюсь! Куда девались миллионы насекомых, что летом порхали в полях и лугах? Они были так малы и нежны, период их существования был так короток, что невольно удивляешься, каким образом они за столь короткое время смогли научиться так искусно укрывать себя и свое потомство, чтоб обмануть суровую зиму и сохранить этот бесценный зародыш жизни, эту крошечную частичку небесного тепла, без коего погибнет весь их род! Откуда эта неодолимая склонность ко сну, столь распространенная среди всех тех, кого жестоко преследует мороз! Каким бы мрачным ни представлялось нам это время года, оно, подобно всем остальным, не лишено чудес; оно ставит перед человеком множество загадок, коих тот никогда не сможет разгадать. Разве это не чудо маленькие птички, которые прилетают лишь после первого снега, в отличие от всех прочих живут в снегу и чувствуют себя там как нельзя лучше. Однако более всего приятных и неисчерпаемых тем доставляют мне пчелы; когда бы я на них ни посмотрел, я нахожу нечто новое в их форме правления, в их трудолюбии, ссорах и страстях, и оттого, утомившись трудами, я обыкновенно отдыхаю под белыми акациями, что растут возле улья. По движениям пчел я могу предсказать погоду и определить день их роения, но самая трудная задача — узнать, хотят они лететь в лес или нет. Если они раньше жили в дупле, то никакая приманка, будь то соль, вода, фенхель, листья гикори или даже самый лучший ящик — ничто не заставит их остаться; свое грубое, неуютное жилище они предпочтут самому красивому улью из полированного красного дерева. Когда мои пчелы роятся, я редко препятствую их нраву: они работают только на свободе, ибо, если я буду держать их взаперти, они впадут в ничтожество и перестанут трудиться. Когда они отправляются в свои экскурсии, мы расстаемся ненадолго; я почти наверное знаю, что снова увижу их будущей осенью. Их бегство доставляет мне новое развлечение; я умею обмануть даже их изощренный инстинкт; равным образом я не боюсь их лишиться, если даже они обосновались в восемнадцати милях от моего дома на самых высоких деревьях в самых непроходимых лесах. Вы просите, чтоб я подробно описал Вам ловлю пчел, хотя однажды Вы ходили со мною на такую вылазку, и это приводит мне на память многие полезные и занятные рассуждения, коими Вы столь счастливо скрашивали часы томительной скуки. Закончив сев, я ради удовольствия провожу неделю в лесу, однако не за тем, чтобы охотиться на косуль и медведей, как мои соседи, а затем, чтобы ловить безобидных пчел. Не могу похвалиться, что сия охота столь благородна или столь прославлена среди мужей, но я нахожу ее менее утомительной и такой же выгодной, а последнее соображение только и способно на меня подействовать. Собаку я беру себе просто в спутники, ибо в охоте на пчел пользы от нее нет; беру я также и ружье, ибо, как Вы знаете, без него не следует ходить по лесу; одеяло, немного провизии, воска, киновари, меда и маленький карманный компас. С этим снаряжением я углубляюсь в леса, расположенные на порядочном расстоянии от каких-либо селений. Я старательно выискиваю заросли высоких деревьев; найдя их, я укладываю в каком-нибудь удобном месте несколько плоских камней и развожу на одном из них маленький костер, потом я бросаю в огонь кусок воска, аккуратно наливаю на другой камень рядом с костром несколько отдельных капель меда, насыпаю вокруг них киноварь, тихонько прячусь и жду, не появятся ли пчелы. Если они где-то поблизости, запах горящего воска непременно приманит их сюда; вскоре они найдут и мед, потому что любят поживиться чужим добром, а приближаясь к нему, неизбежно запачкаются мелкими частичками киновари, которые надолго прилипнут к их туловищам. Потом я по компасу определю, в какую сторону они направились, ибо, возвращаясь домой с добычей, они всегда летят по прямой. С помощью часов я узнаю, через сколько времени вернутся обратно пчелы, отмеченные киноварью. Определив таким образом направление, а в какой-то мере и расстояние, которое легко вычислить, я иду вслед за ними и почти всякий раз нахожу дерево, где располагаются пчелиные республики. Я делаю на этом дереве зарубку, и гак, запасшись терпением, отыскиваю иногда по одиннадцати роев за лето, и просто уму непостижимо, сколько меда можно иногда добыть из этих деревьев. Количество его всецело зависит от размера дупла, ибо пчелы никогда не отдыхают и не роятся до тех пор, покуда не наполнят свое дупло до краев; ведь, подобно людям, они бросают материнский улей лишь за недостатком места. Затем я отправляюсь в одно из близлежащих селений, где заручаюсь помощью лесорубов, собираю весь мед и с добычей возвращаюсь домой. Первых пчел я нашел в лесу по чистой случайности, ибо в то время я еще не умел выслеживать их этим способом. Ствол того первого дерева был совершенно цел, и потому они поселились в дупле толстого сука, который я осторожно спилил, с большим трудом отнес домой и повесил в точно таком же положении, в каком он рос. Дело было в апреле, в тот год у меня образовалось пять роев, и с тех пор мои пчелы процветают. На сие занятие каждую осень уходит приблизительно неделя, и это — время моего уединенного отдыха и развлечения. Семя к этому времени уже брошено в землю, дома не остается никаких важных дел, добавочное количество меда позволяет мне выказать более щедрости моим домашним пчелам, а жене моей приготовить необходимое количество медового вина. Оно показалось Вам лучше, чем у других, потому что жена наливает в каждую бочку по два галлона бренди, чтобы ускорить брожение меда и отбить приторно сладкий вкус, который очень долго в нем сохраняется. Тот, кто нашел в лесу — все равно на чьей земле — так называемое пчелиное дерево, должен поставить на нем зарубку; осенью, когда он хочет срубить дерево, ему надлежит оповестить владельца земли, который имеет право на половину добычи; если он этого не сделает, то его будут судить за нарушение границ частных владений; так же у нас поступают и с теми, кто срубает пчелиное дерево с чужою зарубкой. Два раза в год мы доставляем себе удовольствие ловить голубей, число коих иногда так поразительно, что их стаи застят солнечный свет. Где они выводят своих птенцов? Ведь такое множество птиц требует несметного количества пищи. Я думаю, что они размножаются в долинах Огайо и в окрестностях озера Мичиган, изобилующих диким овсом, хотя мне еще ни разу не доводилось найти в зобу у птицы овсяное зерно. Прошлого года я нашел у одной непереваренный рис. Между тем до ближайших рисовых полей от моего дома должно быть не менее 560 миль; значит, голуби либо не переваривают пищу в полете, либо летают со скоростью ветра. Мы ловим их сетью, расстеленной по земле; к ней их подманивают так называемые прирученные дикие голуби, которых ослепляют и привязывают к длинной веревке. Они перепархивают с места на место и своим воркованием всегда приманивают прочих. Наибольшее число голубей, которых я таким способом поймал, составило четырнадцать дюжин, хотя другие часто ловили много больше. На базаре голуби так дешевы, что за пенни вам дадут их столько, сколько вы способны унести, но из чрезвычайной их дешевизны не следует заключать, что голубятина — самая обыденная пища, напротив, я почитаю ее превосходной. Каждый фермер круглый год держит в клетке у дверей своего дома прирученного дикого голубя, чтобы он был наготове, когда наступит время ловли. Описать наслаждение, которое я испытываю весной от щебета птиц, свыше моих скромных сил, а постоянная смена их разнообразных рулад всегда для меня внове. Я обыкновенно встаю в тот неопределенный промежуток времени, который, собственно говоря, не являет собою ни дня, ни ночи; это минута всеобщего птичьего хора. Кто может равнодушно внимать сладкозвучным любовным песням наших малиновок, порхающих с дерева на дерево? Или пронзительным крикам американских дроздов? Изысканные мелодии жаворонка, доносящиеся с поднебесья, всякий раз заставляют меня замедлить шаг, чтобы послушать эту изумительную музыку. Разноцветные капли росы, свисающие отовсюду, должны давать богатейшую пищу даже неискушенному воображению. Поразительное искусство, с коим все птицы вьют свои гнезда, не имея, как мы полагаем, необходимых на то орудий, их чистота и удобство всегда заставляют меня стыдиться неряшества наших домов; их любовь к своей подруге, их неусыпная забота и внимание, особенные песни, обращенные к ней, когда она занята утомительным высиживанием яиц, напоминали бы мне о собственном долге, будь я в состоянии когда-либо о нем забыть. Их привязанность к беспомощным птенцам — живой пример, и, короче говоря, все то, что мы пренебрежительно называем размножением живых тварей, достойно восхищения во всех своих подробностях, и суетный человек, хотя и одаренный разумом, наблюдая совершенство природного инстинкта, мог бы поучиться тому, как умерять свои безумства и исправлять ошибки,которые сей дар часто заставляет его совершать. Сему предмету я часто посвящал глубокие раздумья; я часто мысленно краснею и безмерно удивляюсь, сравнивая безупречное поведение животных, в своей справедливости, достоинстве и мудрости близкое к совершенству, с грубыми, несовершенными порядками людей, и не только правителей и королей, но и хозяев, супругов, отцов и граждан. Сие, однако, святая святых, куда невежественному фермеру входить не пристало. И если человеку где-либо дозволено наслаждаться благословенными дарами, способными облегчить многочисленные бедствия, коим он подвержен, то, конечно, лишь в сельской местности, когда он всесторонне обдумывает восхитительные сцены, коими он там повсюду окружен. Это единственное время года, когда я с жадностью ловлю каждое мгновенье и оттого не теряю ни единого, которое способно приумножить сие простое и безобидное счастие. С раннего утра брожу я по своим полям; нет такого дела, которое не сопровождалось бы приятнейшими наблюдениями; если б я распространялся о них с тем же усердием, с каким я их произвожу, я рисковал бы Вам наскучить; Вы обвинили бы меня в жеманстве, и, быть может, я с удовольствием изобразил бы многое такое, из чего Вы, быть может, вовсе не извлекли бы приятных чувств. Но, поверьте, все, что я пишу, есть истинная правда. Некоторое время тому, когда я, сидя на веранде, задумчиво курил трубку, я, к изумлению своему, стал свидетелем себялюбия, выказанного крошечной пичужкой, которую я до сих пор уважал за ее безобидный нрав. У меня на веранде почти вплотную друг к другу помещаются три птичьих гнезда: на углу, ближайшем к дому, прикреплено гнездо ласточки, на другом углу — чибиса, а королек завладел ящичком, который я нарочно для него смастерил и повесил посередине. Не удивляйтесь тому, что эти птицы ручные; все мои домашние давно научились уважать их так же, как и я. Королек уже прежде выказывал признаки недовольства ящиком, который я ему отвел, но я не мог понять, по какой причине. Наконец он, несмотря на свой малый размер, решился выгнать ласточку из ее обиталища, и, к моему удивлению, это ему удалось. Дерзость часто берет верх над скромностью, и не успел королек изгнать свою соседку, как тотчас с поразительным проворством перетащил в свой ящик все, что было в ее гнезде. Не скрывая своего торжества, он с необычайной скоростью хлопал крыльями, и во всех его движениях был заметен безграничный восторг. Откуда эта птичка заимствовала дух несправедливости? Ведь она не одарена тем, что мы называем разумом! И вот доказательство, что разум и инстинкт очень близко соседствуют друг с другом, ибо мы видим, как совершенство одного мешается с ошибками другого! Миролюбивая ласточка, подобно незлобивому квакеру{222}, робко сидела невдалеке, не оказывая ни малейшего сопротивления, но как только разбойник унес свою добычу, обиженная птица с неослабным рвением принялась за дело, и несколько дней спустя все разрушения были восстановлены. Желая, однако, воспрепятствовать повторению грабежа, я перенес ящик королька в другую часть дома. Если вы помните, посреди нашей новой залы расположилась занятная республика трудолюбивых шершней; их гнездо свисает с потолка на той самой ветке, на которой они так ловко смастерили его в лесу. Когда я унес его оттуда, шершни ничуть не рассердились, оттого что у меня для них достаточно пищи, а в одном из оконных стекол я проделал дырку, отвечающую всем их надобностям. Благодаря хорошему обращению шершни стали совершенно безобидными; они питаются мухами, которые все лето изрядно нам досаждают; и настигают их везде и всюду, даже на веках моих детей. Просто удивительно, как быстро они обмазывают мух чем-то наподобие клея, чтобы те не могли улететь, и, обработав их таким способом, уносят себе в гнездо на корм своим детенышам. Шаровидные гнезда шершней весьма искусно разделены на множество ярусов с ячейками и ходами сообщения. Материал для постройки гнезд они добывают из мохнатого утесника, оплетающего нашу дубовую изгородь; из этого волокна, перемешанного с клеем, получается род картона, который весьма прочен и не боится капризов погоды. Благодаря шершням мухи меня почти не беспокоят. Все мои домашние так привыкли к их громкому жужжанью, что никто не обращает на них внимания, и, хотя шершни свирепы и мстительны, доброта и гостеприимство сделали их полезными и безобидными. Водятся у нас и всевозможные осы; большая их часть строит себе гнезда из глины на деревянной кровле, как можно ближе к коньку крыши. На первый взгляд эти сооружения кажутся просто грубыми бесформенными комьями грязи, но, разломав их, Вы увидите, что внутри они состоят из большого числа продолговатых ячеек, куда осы откладывают свои яйца, а осенью прячутся сами. Замуровавшись таким образом, они спокойно переживают зимнюю стужу, а с наступлением весны проделывают отверстия в ячейках и открывают себе выход к солнцу. Желтых ос, которые строят гнезда под землею у нас на лугах, следует опасаться больше: если нечаянно задеть косою их гнездо, они тотчас вылетают оттуда с яростью и быстротой, на какие не способен даже человек. Они смело бросаются на косаря, и единственное его спасение — лечь на землю и накрыть голову сеном, потому что жалят осы только в голову, и закончить работу па этом месте невозможно до тех пор, пока не утихомиришь их всех огнем и серой. Но хотя я вынужден был прибегнуть к этой ужасной каре в целях самозащиты, я часто думаю, как жаль ради малой толики сена опустошать такой хитроумный подземный город, снабженный всеми удобствами и построенный столь удивительным способом. Я никогда не закончил бы сие письмо, если бы взялся рассказывать о многочисленных предметах, которые невольно привлекают мое воображение в разгаре моих трудов и доставляют мне приятный отдых. Они могут показаться ничтожными человеку, который путешествовал по Европе и Америке и знаком с книгами и различными науками, однако, не имея времени заниматься более обширными наблюдениями, я довольствуюсь этими немудреными пустяками. К счастью, они не требуют изучения, они понятны, они скрашивают те короткие мгновенья, которые я им посвящаю, и оживляют мои тяжелые труды. Дома счастие мое проистекает из совершенно иных источников; постепенное развитие умственных способностей моих детей, изучение их пробуждающихся характеров занимают все внимание отца. Я должен придумывать маленькие наказания за их маленькие проступки, маленькие поощрения за их добрые дела и многое другое, необходимое по разным оказиям. Однако сии темы не достойны Вашего внимания, и их не следует выносить за стены моего дома, ибо они составляют домашние секреты, свойственные лишь маленькому святилищу, в коем обитает мое семейство. Иногда я с удовольствием изобретаю и мастерю утварь, облегчающую труд моей жены. В этом деле я изрядно преуспел, и все сие, милостивый государь, составляет узкий круг, в коем я постоянно вращаюсь, так чего еще остается мне желать? Я благословляю бога за все дары, которые он мне ниспослал, я не завидую ничьему благополучию и не ищу иного счастья, кроме возможности прожить подольше, дабы преподать ту же философию моим детям, дать каждому из них по ферме, научить их ее возделывать, чтобы они, подобно их отцу, стали добрыми, зажиточными и независимыми американскими фермерами — самое почетное звание, какое только может носить человек моего сословия, до тех пор, пока наше правительство будет милостиво споспешествовать нашему земледелию. Adieu[96].ПИСЬМО III
ЧТО ТАКОЕ АМЕРИКАНЕЦ?
Ах, как желал бы я проникнуть в мысли и чувства просвещенного англичанина, которые волнуют сердце его и оживляют ум, когда он впервые ступает на Американский континент. Он должен испытывать величайшую радость от того, что ему посчастливилось на своем веку застать сию прекрасную землю уже открытою и заселенною; он должен непременно ощутить прилив национальной гордости, глядя на ряд поселений, украшающих пространные берега оного, и воскликнуть в душе: «Сие чудо сотворили мои соотчичи, когда, сотрясаемые междоусобицей, они в волнении и тревоге бежали сюда, чтобы спастись от бед и лишений. Они привезли с собою дух нашего народа, коему особливо обязаны своею свободою и своим состоянием». Здесь он наблюдает, как природное усердие англичан находит себе новые приложения; здесь видит в зародыше все искусства, науки и изобретения, которые процветают в Европе. Его взору предстают прекрасные города, изрядные селения, тучные нивы: огромная страна с порядочными домами, хорошими дорогами, садами, лугами и мостами выросла там, где еще сто лет назад все было дикость, лес и чаща! Какую чреду приятных мыслей должно пробуждать сие великолепное зрелище, которое не может не радовать всякого достойного гражданина! Трудно только найти верный способ обозрения столь обширной картины. Европеец приехал на новый континент: ему предлагается лицезреть новейшее общество, подобного коему он никогда доселе не видывал. Оно не состоит из господ, которые владеют всем, и людского стада, которое не владеет ничем, как в Европе. Здесь нет аристократических фамилий, нет ни придворных, ни королей, ни епископов, ист владычества церкви, нет той невидимой власти, которая наделяет меньшинство властию весьма видимой, нет крупных фабрикантов, на которых гнут спину тысячи работников, нет излишеств суетной роскоши. В Европе богатые возвышаются над бедными; у нас они приближены друг к другу. От Новой Шотландии и до Западной Флориды, за исключением нескольких городов, мы все — землепашцы. Народ земледелателей, мы разбросаны по великому пространству и сообщаемся меж собою посредством отменных дорог и судоходных рек; связанные ласковыми путами снисходительного правительства, мы уважаем закон, но не страшимся его силы, ибо он справедлив. Всеми нами движет дух усердия, ничем не скованный и никем не стесненный, ибо каждый работает на себя. Когда мы странствуем по сельским ландшафтам, нам не приходится видеть мрачный замок иль надменный дворец, рядом с которым приютилась глинобитная лачуга иль жалкая хижина, где люди и скотина согревают друг друга своим скудным теплом, влача дни в чаду, нищете и убожестве. Все наши селения имеют вид приятного единообразия, свидетельствующего о приличном достатке. Даже самый последний бревенчатый домик наш являет собою жилище сухое и удобное. Люди в городах не знают звания выше, чем звание купца или юриста; у сельских жителей страны звание и вовсе одно — фермер. Англичанину придется долгое время привыкать к нашему лексикону, из коего исключены все титулы знатных и сановных особ. По воскресеньям в церкви он увидит лишь собрание добропорядочных фермеров с женами; одетые в домотканое полотно, они съезжаются сюда либо верхом, на хороших лошадях, либо в своих собственных скромных повозках. Среди них не будет ни единого сквайра, за исключением полуграмотного мирового судьи. Священник здесь так же прост, как и его паства; фермер не похищает плоды чужого усердия. У нас нет вельмож, ради которых нужно трудиться, голодать и проливать кровь; наше общество есть самое совершенное на свете. Человек здесь свободен так, как ему должно; равенство, столь эфемерное во многих других местах, пустило здесь прочные корни. Пройдет не один век, прежде чем народы обживут удаленные от моря берега наших великих озер и заполнят до сих пор неизведанные пределы Северной Америки. Кто может сказать, как далеко она простирается? Кто может сказать, сколько миллионов людей она способна принять и прокормить? Ведь нога европейца не ступала еще и на половину обширнейшего континента сего! Затем наш путешественник пожелает узнать, откуда происходят обитатели страны? Они — смесь из англичан, шотландцев, ирландцев, французов, голландцев, немцев и шведов. От соединения сих кровей и пошел народ, который ныне называют американцами. Особняком стоят лишь восточные провинции, населенные исключительно чистокровными англичанами. Многие, как я слышал, хотят, чтобы они больше смешивались с остальными; я же держусь иного мнения, и, по мне, пусть все останется по-старому. На изрядной и пестрой картине нашего сообщества они занимают место весьма заметное, и без их участия тринадцать провинций наших навряд ли имели бы сегодня столь приятный вид. Нынче, я знаю, вошло в обычай бранить англичан, но я уважаю их за то, что они совершили, за ревность и мудрость, с коими они заселили свои земли, за приличие нравов, за любовь к словесности, которую они с малолетства питают, за их старинный университет, первейший в сем полушарии{223}, за трудолюбие, в коем я, будучи простым фермером, почитаю главное мерило всех вещей. Никогда еще не было народа, который в таких обстоятельствах и на такой дурной земле добился бы большего за столь непродолжительный срок. Неужели Вы полагаете, что монархические начала, преобладающие в правительстве других стран, очистили их от всякой скверны? История утверждает обратное. В сем великом американском приюте разными путями и в силу разных причин сошлись бедняки всей Европы. Так почто им вопрошать друг друга, в какой стране их отечество. Увы, добрые две трети из них не имели прежде никакого отечества. Разве может страдалец, который неприкаянно бродит из края в край, который проливает пот и голодает, которого постоянно терзают тяжкие болезни и мучительная нужда, — разве может он назвать Англию или любое другое королевство своею отчизною? Разве отчизна ему страна, в коей для него не найдется куска хлеба, страна, чьи нивы не дадут ему ни зернышка, страна, где он видит лишь мрачную гримасу богача, жестокость закона да тюрьмы и плети, — ему, никогда не владевшему ни единым клочком земли на сей обширной планете? Нет! И вот, побуждаемые разными причинами, страдальцы стекаются сюда. Здесь все споспешествует их возрождению: новые законы, новый образ жизни, новый способ общежития; здесь они становятся людьми. В Европе они влачили свои дни словно непригодный злак, томящийся по плодоносному гумусу и освежительной влаге; их иссушала нужда, их подсекала коса лишений, глада и войны, но у нас, пересаженные в добрую почву, они, как и всякое растение, пустили корни и расцвели! В прошлом их имена не значились ни в каких цивильных листах, кроме реестров неимущих; здесь же они получают звание полноправного гражданина. Но какая таинственная сила свершает сию удивительную перемену? Сила законов и сила трудолюбия. Когда бедняки приезжают сюда, законы, снисходительные законы, берут их под свою опеку, запечатлевая на своих приемных детях знак родительской приязни; сначала они получают изрядное вознаграждение за свои труды, потом, накопив достаточно средств, покупают себе землю; обладание землей дает им звание свободного человека, а к сему званию присовокупляются все блага, каких только можно пожелать. Таково великое действие наших законов, свершающееся ежедневно. Но откуда же происходят сии законы? От нашего правительства. Откуда происходит правительство? Оно есть плод природного гения и настойчивых притязаний народа, признанных и подтвержденных монархом нашим. Вот великая цепь, которая связывает всех нас, вот картина, которую можно лицезреть в каждой американской провинции за исключением Новой Шотландии, где установлена прямая королевская власть. Из-за того ли, что тут не нашлось людей, обладавших достаточной силой духа, иль потому, что к их требованиям не прислушались, но сия провинция заселена весьма скудно; убоявшись власти короны, соединенной с мушкетами, люди более не желают искать в ней прибежища. Некогда, правда, отдельные части Новой Шотландии процветали и там жили добросердечные и незлобивые поселяне. Однако по вине нескольких их предводителей все жители были высланы из провинции{224}. Это явилось крупнейшей политической ошибкой королевских властей в Америке — подумать только, они изгнали людей с тех самых земель, на коих ничто так не потребно, как люди! Каковую привязанность может питать бедняк, эмигрировавший из Европы, к стране, где он ровным счетом не имел ничего. Знание языка да любовь немногих близких, таких же страдальцев, как и он сам, — вот и все нити, связывавшие его с родиною; отечеством ему теперь становится страна, от которой он получает землю, пропитание и защиту, вследствие чего все эмигранты избирают своим девизом слова: «Ubi panis ibi patria»[97]. Кто же тогда есть американец, сей новый человек? Это или европеец, или потомок европейцев, и посему ни в одной другой стране мира Вы не обнаружите столь странного смешения кровей. Я мог бы указать Вам главу семейства, у которого дед был англичанином, жена голландка, старший сын женат на француженке, а четверо других — на женщинах четырех различных национальностей. Если некто, отбросив свои старые привычки и нравы, взамен приобретает новые под воздействием нового образа жизни, им усвоенного, нового правительства, которому он подчиняется, и нового положения, которое он занимает, сей человек и есть американец. Он сделался американцем, когда наша великая Alma Mater[98] приняла его в свое обширное лоно. В Америке из представителей разных наций выплавляется новый народ, чьи труды и потомки когда-нибудь произведут в мире величайшие перемены. Американцы суть паломники, несущие с собою на запад те богатые сокровища искусств, наук, рвения и трудолюбия, которые издревле копились на востоке; им суждено замкнуть сей великий круг. Прежде они были рассеяны по всей Европе; здесь они стали частию единой системы народоустроения, одной из приятнейших систем, которые когда-либо существовали в прошлом или под влиянием разнообразных климатов обособятся в будущем. Следовательно, американец должен любить наш край гораздо сильнее, нежели страну, откуда родом он сам или его предки. Здесь он бодро идет стезею трудолюбия, ибо награды за усердие следуют за ним по пятам; здесь труд его основан на природном побуждении — на заботе о личной выгоде, а можно ли желать обольщения более могучего? Жена и дети, которые дотоле тщетно вымаливали у него корку хлеба, теперь, сытые и резвые, охотно помогают мужу и отцу расчищать поле, которое принесет им изобильный урожай, способный всех их прокормить и одеть; и никто — ни самовластный принц, ни богатый аббат, ни свирепый помещик — не предъявит права на свою долю. Здесь и церковь не потребует многого — лишь добровольно платить вспомоществование священнику да славить бога; кто ж ей откажет в такой малости? Американец есть новый человек, руководствующийся новыми принципами; посему у него должны возникать новые мысли и новые мнения. Покончив с вынужденною праздностью, рабскою зависимостью, нищетой и тщетными усилиями, он прилепляется к трудам, совершенно несхожим по натуре своей с его прежними потугами и вознаграждающим его изрядным состоянием. Вот что такое американец. Британская Америка состоит из многих провинций, образующих большой альянс; они разбросаны вдоль побережья на территории в тысячу пятьсот миль длиною и около двухсот шириною. Сие общество (по крайней мере в том виде, какой оно приобрело в срединных провинциях) я и намереваюсь Вам описать. Хотя в нем нет такого разнообразия оттенков и ступеней, как в Европе, оно все-таки имеет некоторые особливые краски. Например, естественно предположить, что те, кто живут у самого моря, должны быть весьма различны с теми, кто живут в лесах; люди же, населяющие промежуток меж оными, образуют отдельный и своеобычный класс. Люди подобны растениям: вкус и аромат плода зависят от особенностей почвы и среды, в которой он произрастает. Нас всех создает не что иное, как воздух, которым мы дышим, климат, в котором мы обитаем, правительство, которому мы подвластны, религия, которую мы исповедуем, и род наших занятий. Здесь Вы редко услышите о каких-либо злодействах, ибо зло еще не успело пустить корни в нашем обществе. Как желал бы я сообщить Вам все мои мысли; если мне недостает просвещенности, дабы изложить их в полной мере, я, однако ж, надеюсь, что смогу сделать несколько слабых набросков и отнюдь не претендую на большее. Поселяне, живущие близ моря, чаще питаются рыбой, нежели мясом, и часто предают жизнь свою сей грозной стихии. Оттого они делаются смелее и предприимчивее прочих; оттого забывают сугубые занятия земледелателей. На своих путях они встречают разных людей и говорят с ними; их сношения с миром распространяются. Море пробуждает в них страсть к торговле и желание перевозить товары с места на место; пользуясь всяческими средствами, они ищут и находят себе дело по душе. Те же, кто обитают в срединных провинциях, самых досель многолюдных, должны отличаться другими свойствами; простой труд землепашца очищает их, а снисходительность правительства, кроткие увещевания церкви и звание свободного и независимого хозяина оживляют в их сердцах чувства, редкие для людей подобного состояния в Европе. Впрочем, я оговорился, ибо Европа не знает подобного состояния. Поселяне наши с малых лет укореняются в познаниях и научаются вести дела, из-за чего вырастают мужами весьма практическими и благоразумными. Как люди вольные, они склонны к некоторому сутяжничеству; их гордость и упрямство часто служат причиною судебных тяжб; другую причину мы, возможно, найдем в самой природе наших законов и установлений. Легко вообразить, что, как граждане, они с любопытством читают газеты, вступают во все политические дебаты, свободно бранят и судят своих губернаторов и прочих правителей. Как фермеры, они не жалеют трудов, чтобы получить со своей нивы богатейший урожай, ибо он принадлежит только им самим. Как жители севера, они любят поднять заздравную чашу. Как христиане, они свободно исповедуют свою веру; общая терпимость позволяет каждому иметь собственное мнение касательно до духовных предметов; законы надсматривают лишь за нашими деяниями, а совесть наша принадлежит одному богу. Трудолюбие, благополучие, себялюбие, неуживчивый нрав, интерес к политике, гордость свободного земледельца, веротерпимость — вот характеристические особенности жителей срединных провинций. Если мы продвинемся еще далее в глубь континента, то обнаружим там более новые поселения: здесь жители выказывают ровно те же самые сильные черты, но в более грубом обличии. Влияние религии еще пуще ослабевает, а нравы портятся. Наконец, мы подходим к границе великих лесов, к самым дальним из заселенных областей; сюда уже не простирается длань правительства, которое отчасти предоставляет здешних жителей их собственному попечению. Да и как ему проникнуть в каждый уголок, куда стекаются люди, гонимые несчастиями, необходимостью начать жизнь сначала, желанием приобрести большие земельные участки, празднолюбием, расточительством и давними долгами; сей сброд производит впечатление не весьма приятное. В отдаленных областях царят противоречия, обособленность, вражда, пьянство и празднолюбие, а из них должны проистекать раздоры, бездеятельность и подлость. Средства борьбы с оными пороками, обыкновенно применяемые в давно устроенном общежитии, здесь совершенно непригодны. Судей у них мало, да и они, как правило, едва ли порядочнее остальных; повсюду идет великая война — война человека противу человека, исход коей иногда решает кулачный бой, а иногда судейский приговор, и война человека противу дикаря, хозяина сих древнейших лесов, у которого пришельцы хотят отобрать его владения. Люди там — те же хищные звери, только какой-то высшей породы; они питаются мясом диких животных, когда фортуна дарует им добычу, или зерном, если охота неудачна. Тот, кто хотел бы увидеть Америку в истинном свете и составить верное представление об ее скромных начинаниях и варварских зачатках, непременно должен посетить нашу протяженную пограничную полосу, где живут новейшие поселенцы и где он сможет наблюдать, как начинаются работы по устроению жилищ и расчистке земель во всех их разнообразных проявлениях; где человек полностью предоставлен действию своего природного нрава и понуканию изменчивого трудолюбия, которое часто оставляет его, ибо не подкреплено влиянием твердых нравственных правил. Вдали от силы примера и смирительной узды стыдливости многие люди в оных местах являют собою позор нашего общества. Их можно назвать передовым отрядом отчаянных смельчаков, посланным на верную гибель. Лет через десять-двенадцать по их стопам на приступ двинется более почтенная армия ветеранов. За сей промежуток времени одних пообтешет преуспеяние, а других погонят прочь порок иль закон, и они, вновь соединившись с себе подобными негодяями, двинутся еще дальше на запад, освобождая место для людей более трудолюбивых, которые доведут до конца начатые ими улучшения, сделают грубую хижину удобным жилищем и, пролив слезы радости по случаю завершения первоначальных тяжелых трудов, спустя несколько лет превратят сей варварский край в землю плодоносную и отменно устроенную. Вот как совершается у нас исправление; вот как прокладывают европейцы путь в глубь материка. Во всех обществах есть свои отверженцы; здесь же изгои служат нам предтечами, или пионерами. Мой отец был из их числа, но он усвоил честные правила и посему смог, среди очень немногих, крепко прижиться на одном месте; благодаря порядочному поведению и умеренности он оставил мне сие знатное наследство, хотя из каждых четырнадцати его сотоварищей лишь одному выпадал столь счастливый жребий. Сорок лет назад радостный край, где мы сейчас живем, не был освоен; ныне он полностью расчищен и повсюду в нем распространилось всеобщее приличие нравов; такова судьба и прочих наших лучших земель. Кроме характеристических черт, общих для всех провинций, каждая из них имеет и свои местные свойства в зависимости от правительства, климата, способа хозяйствования, привычек и особливых обстоятельств. Европейцы незаметно подчиняются великой силе оных и через несколько поколений становятся не только американцами, но и, по названию своей провинции, пенсильванцами иль виргинцами. Любой путешественник, пересекающий континент, с легкостию заметит сии изрядные различия, которые со временем сделаются еще более очевидными. Жители Канады, Массачусетса, срединных провинций и провинций южных будут столь же несходны меж собою, сколь несходен климат на их землях, а общим у них останется лишь язык и религия. Поскольку я попытался показать Вам, как европейцы превращаются в американцев, мне кажется уместным предложить здесь подобное же описание того, как обоснуются и истощаются у нас различные христианские секты и как повсюду начинает преобладать, веротерпимость. Когда члены одной секты в достаточном числе поселяются по соседству друг с другом, они немедленно воздвигают храм, где поклоняются Божеству в согласии со своими идеями, и никто не чинит им никаких препятствий. Если в Европе возникает какая-нибудь новая секта, случается, что многие ее приверженцы переезжают в Америку и поселяются у нас. Охваченные пылкой ревностию, они могут свободно искать себе прозелитов, строить молельные дома и следовать велениям своей совести, ибо ни правительство, ни иные власти сему не мешают. Когда они мирные подданные, когда они трудолюбивы, что их соседям за дело до того, как и коим манером им заблагорассудилось возносить свои молитвы Всевышнему? Однако ж если сектанты живут порознь и смешиваются с иноверцами, то их пылкая ревность за недостатком топлива начинает остывать и вскорости совсем угасает. Тогда американцы делаются соприкосновенны религии точно так же, как своей новой стране: они все сродняются меж собою. Здесь для них перестали существовать прозвища англичанин, француз или европеец и, подобно этому, перестают существовать строго обособленные виды христианского вероисповедания, распространенные в Европе. Со временем сия перемена станет еще более разительною. Хотя мысль моя может показаться Вам весьма странной, в ней заключается истина. Впоследствии я, вероятно, сумею объясниться яснее, но пока что позволю привести в свое оправдание лишь следующий пример. Представьте себе, что мы с Вами отправились в путешествие и видим: вот в том доме, справа от нас, живет некий католик, который молится богу так, как его учили, и верит в пресуществление{225}; он трудится на своей ниве и выращивает пшеницу; у него много детей, крепких и бодрых; его вера, его молитвы никого не обижают. В одной миле от него по той же дороге мы повстречаем его ближайшего соседа; им может оказаться честный и добрый труженик-лютеранин, который поклоняется тому же богу, богу всех, согласно правилам, в коих его воспитали, и не верит в пресуществление; и его убеждения никого не возмущают; и он работает на своем поле, возделывает свою ниву, осушает болота и т. д. Какое дело всем прочим до его лютеранских принципов? Он никого не преследует, и его никто не преследует; он ездит с визитами к соседям, и соседи ездят к нему с визитами. Рядом с ним живет сектант из самых неистовых сектантов на свете; его сердце пылает жаром пламенной ревности, но вдали от единоверцев он лишен поддержки сообщества, где он мог бы устраивать заговоры и мешать религиозную гордыню с мирским упрямством. Как и все прочие, он собирает обильные урожаи; дом его отменно выкрашен; сад его — один из прекраснейших в округе. Каковы бы ни были его религиозные чувства, они ничем не угрожают благополучию сего края и всей провинции. Он есть добропорядочный фермер, он есть добропорядочный, здравомыслящий, миролюбивый гражданин — даже сам Уильям Пенн{226} не пожелал бы большего. Мы видим наружную сторону его характера; что же он таит в своей душе, никому доподлинно неведомо и никого не касается. По соседству с ним живет голландец-пуританин, который, сам того не зная, следует установлениям Дортского собора{227}. Он не признает никаких священнослужителей, кроме наемного проповедника. Если тот хорошо знает свое дело, он будет ему платить установленное договором жалованье, а ежели нет, то погонит в толчки и станет годами обходиться без проповедей, а на свою церковь повесит замок. Однако ж несмотря на сию неучтивость, его дом и ферма — самые опрятные во всей округе, и, судя по его повозке и откормленным лошадям, он печется о делах мира сего куда больше, нежели о делах мира загробного. Он человек здравомыслящий и трудолюбивый, а значит, у него есть все, дабы преуспеть в земной жизни; что же принадлежит до жизни вечной, то в сем он должен уповать на всемогущего Создателя. Каждый из этих фермеров наставляет своих чад по собственному разумению, но без той строгости, с которой в Европе обучают детей низкого сословия. Посему их дети вырастают менее набожными, чем родители, и отличаются большим равнодушием к вопросам религиозным. Им незнакома глупая тщета или, вернее, безумие тех, кто алчет обращать других в свою веру, ибо попечение о земле требует от них всего времени и внимания. Через несколько лет сие пестрое общество в отношении религии будет являть собою странную смесь, в коей Вы не обнаружите ни чистого католицизма, ни чистого кальвинизма. Веротерпимость, весьма заметная даже в первом поколении, еще более укрепится: дочь католика, например, сможет выйти замуж за сына сектанта-пуританина, и они поселятся в своем доме отдельно от родителей. Какое же религиозное воспитание получат дети в подобной семье? Очень и очень несовершенное. Если по соседству с ними и найдется какой-нибудь молитвенный дом, то скорее всего им окажется молельня квакеров; желая похвалиться своими изящными нарядами, они, быть может, станут туда ездить, и некоторые из них вступят в сие братство; другие же сохранят полнейшее равнодушие касательно до своего вероисповедания. Дети подобных ревностных христиан не смогут даже сказать, каковы их религиозные правила, а уж внуки — и подавно. Обыкновенно люди в наших краях посещают тот молитвенный дом, который находится ближе остальных, и сим ограничивается их приверженность той или иной церкви. Одни лишь квакеры всегда не отходят от своего исповедания, ибо они и в отдалении друг от друга сохраняют связи с братством и редко изменяют его правилам, по крайней мере, в нашей стране. Таким образом, в Америке смешиваются не только все нации, но и все церкви и секты; повсюду, от края и до края континента, незримо разносятся семена религиозного безразличия, которое в настоящее время являет собою одну из ярчайших особенностей американцев. Пока еще никому не ведомо, сколь широко оно способно распространиться в будущем; возможно, от него произойдет вакуум, который заполнится каким-то новым учением. Преследования, религиозная спесь и страсть к противуречиям — вот питательные соки того, что принято называть верою. Мы здесь избавлены от оных побуждений — в Пиропе они лишь подавлены; на открытом воздухе религиозный пыл успевает испариться, за время пути через огромные пространства наши он сгорает дотла — там он подобен крупице пороха, навсегда въевшейся в кожу. Однако ж вернемся к нашим лесным жителям — скваттерам. Я должен признаться Вам, что уже в самой близости к лесам есть нечто весьма необыкновенное. На людей она действует точно так же, как на лесных зверей и на лесные растения: они совершенно несходны со своими родичами, обитающими на равнинах. Я откровенно выражу Вам мысли свои, но не надейтесь услышать от меня объяснение причин. Жизнь в лесах или близ оных накладывает отпечаток на образ действий человека, подчиняя его окружающей дикости. Олени часто совершают набеги на нивы скваттеров, волки загрызают овец, медведи убивают свиней, лисы крадут птицу. Сия враждебность среды заставляет их браться за оружие: они подкарауливают хищников и убивают кого могут; защищая свое имущество, скваттер вскоре превращается в ярого охотника, и вот уже вся жизнь его переменилась — ведь коли взялся за ружье, прости-прощай плуг! Проходит немного времени, и он, прельщенный охотничьими удачами, откладывает попечение о своей ниве. Полагаясь на природную тучность земли, он делает все кое-как и часто забывает огородить свои поля, чем обрекает на гибель и без того необильные посевы; его никогда нет дома, чтобы надзирать за ними; понесенные же убытки принуждают его еще чаще уходить на охоту в лес. Сему необыкновенному образу жизни сопутствуют и необыкновенные нравы, которые нелегко описать. Привитые к прежним обычаям, словно молодая ветвь к старому стволу, они расцветают странными цветами необузданного распутства, производящими неизгладимое впечатление. По сравнению с сим сбродом европейцев даже обычаи индейских дикарей кажутся вполне приличными. Их жены и дети живут в вечной праздности и лени; Вы можете вообразить, какое воспитание получают последние, когда они лишены каких-либо добродетельных целей. Их неразвитые умы не видят подле себя ничего, кроме родительского примера; вслед за своими отцами они вырастают беспородными ублюдками, полуцивилизованными дикарями, если только природа не пометит их какими-либо характерными знаками. Скваттеров быстро покидает то златое, то сладостное чувство, которое в начале воодушевляло их, — чувство гордости и счастия от того, что они владеют правом собственности на землю. Присовокупим к этому также и великое одиночество, в коем они обитают, ибо Вы не можете себе представить, с какою силою влияют на нравы местных жителей огромные расстояния, их разделяющие! Если окинуть беглым взглядом одно из таких приграничных поселений, каких людей мы увидим? Мы увидим европейцев, которым недостает знаний и умений, чтобы преуспеть в жизни, и которые внезапно приобрели нестесненную свободу, избавившись от угнетения и страха перед властями и законами. Сия внезапная перемена должна произвести сильное действие на большинство из них, и особливо на лиц подобного состояния. Что бы Вы ни думали, но употребление в пищу мяса диких животных пагубно сказывается на нравственности, хотя я утверждаю это лишь на основе собственных наблюдений и не имею иных доказательств. Из-за отсутствия молитвенных домов, где поселенцы изредка встречались бы друг с другом, они лишены какого бы то ни было общества, а ведь если бы им представилась возможность посещать воскресную службу, сия общественная обязанность не только принесла бы пользу в отношении религии, но и побудила бы их как-то состязаться меж собою в опрятности. Мудрено ли в таком случае, что люди, поставленные в такие обстоятельства и обремененные тяжелым трудом, начинают понемногу развращаться? Скорее удивительно, почему сие развращение распространилось еще не слишком далеко. Единственное исключение из общих правил, которые я выше запечатлел, представляют «моравские братья»{228} и квакеры. Первые никогда не отделяются от своих сотоварищей и эмигрируют к нам целыми общинами, сохраняя все свои церемонии, обряды и обычаи, а также все свое достоинство. У последних же всегда имеется довольно средств, чтобы заплатить за уже расчищенные земли, и посему им не приходится, к большой их выгоде, обосновываться на голом месте, где царит первоначальное варварство. Итак, наши дурные люди суть наполовину землепашцы и наполовину охотники; самые же скверные из них развратились до такой степени, что стана заниматься одной только охотою. Как бывшие пахари, а ныне лесные жители, как европейцы и новообращенные дикари, они сочетают в себе пороки, присущие обоим состояниям, и усваивают угрюмость и жестокость индейца без милосердия или даже трудолюбия, коими он славен в своем дому. Пусть нравы землепашцев и не весьма изящны, но они, по крайней мере, просты и незлобивы; возделывая свою ниву, мы утоляем все наши потребности; время наше мы делим меж трудами и сном; у нас нет и свободной минуты, чтобы сотворить какое-нибудь зло. У охотников же время разделено меж травлею зверя, праздным отдыхом и непотребным пьянством. Жизнь они ведут распутную и бездельную, и если не всякого она может совлечь со стези добродетели, то многих, когда от них отвернется фортуна, ввергает в нужду, а нужда поощряет в людях жадность и несправедливость — свойства слишком естественные для всех, кто переступил роковую черту. Зная, какое действие производит на человека житие в лесах, нужно ли нам напрасно тешить себя надеждою обратить индейцев в христианскую веру. Не лучше ли начать с обращения наших скваттеров, хотя я не осмеливаюсь повторить здесь самое слово «вера», ибо его сладостные звуки сгинут в сей лесной чаще. В подобных обстоятельствах людям необходимы храмы, необходимы священники, без которых они не умеют понять или запомнить тихие наставления веры, ибо тот, кто оставляет свой дом ради удовольствий бродячей жизни, будь он краснокожим или белым, уже выходит из круга ее учеников. Итак, я попытался несколькими слабыми и неверными штрихами обрисовать Вам состояние нашего общества, распространившегося от океана до диких лесов! Но Вы были бы неправы, если б предположили, что каждый, кто отправляется в лесную глушь, руководствуется одинаковыми правилами и впадает в одинаковое распутство. Некоторые семьи и здесь сохраняют приличия, нравственную чистоту и уважение к религии; хотя число оных невелико, их примеру иной раз нельзя не последовать. Даже среди самих скваттеров степень повреждения нравов бывает различною в зависимости от того, к какой национальности и провинции они принадлежат. Я мог бы подтвердить мою мысль некоторыми доказательствами, но боюсь, что меня обвинят в пристрастности. Когда в отдаленных областях среди лесов вдруг случаются какие-то плодородные прогалины иль тучные низины, жители, их населяющие, охоте предпочитают землепашество, от коего они уже не отстанут; однако ж нетрудно заметить, что и на сих плодородных участках людям весьма свойственны грубый нрав и себялюбие. Вследствие своего беспорядочного положения, производящего удивительное действие на нравы, скваттеры в обеих Каролинах, в Виргинии и многих других провинциях давно превратились в преступный сброд; теперь среди них даже опасно путешествовать. На столь обширных землях правительство бессильно; пусть уж лучше оно закрывает глаза на распущенность нравов, нежели использует средства, несовместные с его обыкновенной терпимостью. Время сотрет сии мерзкие пятна: по мере продвижения к границе все новых и новых партий поселенцев, нравы исправятся, а люди сделаются более воспитанными и послушными. Что бы ни говорили о четырех провинциях Новой Англии, подобное повреждение нравов никогда не грязнило их анналы — скваттеры там остаются в рамках приличий и подчиняются властям благодаря разумным законам и действию религии. Какой же, наверное, неприятный образ европейца представляют дикарям наши скваттеры! Именно они, худшие из худших, ведут торговлю с индейцами, хотя сие занятие следовало бы поручить людям самым честным и добродетельным. Они предаются пьянству вместе с дикарями и часто вводят их в обман. Избавленная от надзора властей, корысть сих торговцев не знает пределов; превосходя индейцев хитростию, они вовсю плутуют в сношениях с ними и подчас не останавливаются даже перед убийством. Вот почему границы наши столь часто мрачат страшные мятежи и внезапные набеги, когда за преступления немногих злодеев приходится платить жизнию сотен невинных жертв. Вследствие подобных действий, например, в 1774 году индейцы начали войну с виргинцами{229}. Итак, у нас первыми прокладывают пути, первыми валят лес, как правило, самые дурные и жестокие; затем, по проторенной ими стезе, приходят по псе добродетельные — приходят вольные американские землепашцы, люди, почтеннее которых в нашей стране не сыскать: их почитают за трудолюбие, за счастливую самостоятельность, за немалую свободу, коей они обладают, за семейственный порядок, за то, что они расширяют владения и торговлю своего отечества. Европа едва ли знает иные состояния, кроме состояний помещика и арендатора; одна лишь наша прекрасная страна населена вольными землепашцами; они сами владеют землею, которую возделывают; сами составляют правительство, которому подчиняются, и через посредство своих представителей сами создают себе законы. Выскажу заветную мысль, которую Вы научили меня лелеять: как личное, так и государственное значение и достоинство наше не только не убывает, но и напротив того, возрастает вследствие наших различий с Европой. Если б предки наши остались в Старом Свете, они бы только еще более переполнили его и, возможно, продлили бы судороги, в коих он издавна уже сотрясается. Всякий трудолюбивый европеец, переселяющийся к нам, подобен ростку, взошедшему уподножия огромного дерева, где ему достается лишь малая толика живительных соков: скорей же спасайте его от родительских корней, выдергивайте из земли, пересаживайте в другое место, и он тоже сделается деревом, приносящим плоды. Вот почему поселенцы имеют право надеяться, что с ними будут обходиться как с самыми полезными подданными; ведь какая-нибудь сотня семейств, которые сейчас едва сводят концы с концами где-то в Шотландии, у нас смогут через шесть лет поставлять 10 тысяч бушелей зерна в год, ибо одно трудолюбивое семейство на хорошей земле ежегодно производит на продажу не менее ста бушелей. Итак, в Америке праздный находит занятие, бесполезный — приносит пользу, бедный — делается богатым. Правда, богатством я называю не золото и серебро, коих металлов мы имеем немного, а богатство более драгоценное — земли, расчищенные под пашню, скот, хорошие дома, хорошее платье и прибыток детей, которые насладятся оным. Мудрено ли, что страна наша имеет столь многие прелести и искушает европейца остаться в ней навсегда. В Европе путешественник становится чужестранцем, как только покидает он пределы своего королевства; у нас же дело обстоит иначе. Истинно говоря, мы вообще не знаем чужестранцев, ибо страна сия принадлежит всем и каждому; разнообразие наших земель, обстоятельств, климата, властей и продуктов настолько велико, что любой может выбрать из них приятное его сердцу. Едва только европеец, каково бы ни было его состояние, прибывает в Америку, как перед его взором немедленно открывается прекрасная картина. Он слышит родную речь, он узнает многие из обычаев своего отечества, он постоянно слышит имена и названия городов, которые ему хорошо знакомы; повсюду он видит счастие и процветание, повсюду встречает радушие, добросердечие и изобилие; ему не приходится сострадать беднякам или ужасаться известиям о наказаниях и казнях; он удивляется изяществу наших городов, сих чудес труда и свободы. Наши селения и нивы, наши удобные дороги, наши славные таверны и многочисленные удобства не перестают восхищать его, и он не может не полюбить страну, где все так любви достойно. Живя в Англии, он был всего лишь англичанином; здесь он попирает добрую четверть всей земной тверди, куда стекаются железные изделия и корабельные снасти из северных стран, провизия из Ирландии, зерно из Египта, индиго и рис из Китая. В отличие от Европы, где любой клочок земли кишит людскими толпами, наше общество не будет ему стеснительно; он не почувствует ни тех постоянных столкновений между партиями, ни тех препятствий, затрудняющих всякое начинание, ни того соперничества, которые там удручают столь многих. В Америке каждому найдется место. Ты одарен какими-то талантами или способностями? Ты употребляешь их, чтобы заработать себе на жизнь, и преуспеваешь. Ты купец? Стезя торговли здесь безгранична. Ты занимаешь высокое положение? Тебе отыщут применение и воздадут по заслугам. Ты любишь сельское житие? Смотри, вот приятнейшие фермы, выбирай любую и становись американским фермером. Ты честный и трудолюбивый делатель? Тебе не придется стаптывать башмаки в поисках работы, тебя отменно накормят за хозяйским столом и заплатят в четыре или в пять раз лучше, нежели в Европе. Ты хочешь приобрести невозделанную землю? Тебя ждут тысячи акров оной, и покупка обойдется недорого. Здесь ты сможешь удовлетворить любые свои желания и потребности, если только они умеренны. Я отнюдь не хочу сказать, что все, приехав в Америку, скоро делаются богачами. Конечно же нет, но каждый способен трудом своим обеспечить себе легкую и пристойную жизнь. Вместо глада его ждет насыщение, вместо праздности — работа, а для тех, кто приезжает сюда, одно сие уже есть немалое богатство: ведь богачи остаются в Европе, эмигрируют же бедняки и люди среднего достатка. Когда б Вы захотели самостоятельно совершить ознакомительную поездку по Америке с севера на юг, пред Вами весьма радушно отворятся двери каждого дома и Вы везде найдете приятное общество, не знающее кичливости, и застолье, не знающее тщеславия, а также все приличные забавы и развлечения, какие только может предоставить наша страна, причем они не введут Вас в большие расходы. Мудрено ли, что европеец, прожив здесь несколько лет, желает остаться навсегда: но мнению людей среднего достатка и работников, Европа со всем ее блеском не годится и в подметки нашему континенту. Вначале, когда европеец приезжает в Америку, его намерения и взгляды кажутся узкими, но вскоре они неожиданно раздвигаются: прежде две сотни миль были для него изрядным расстоянием, а теперь он почитает их сущим пустяком; уже с первыми глотками нашего воздуха он начинает строить планы и замышлять предприятия, о которых у себя на родине не смел бы и мечтать, ибо в Старом Свете переизбыток общества сдерживает развитие многих полезных идей и часто губит самые похвальные начинания, которые здесь благополучно достигают полной зрелости. Так европеец превращается в американца. Вы можете спросить, каким образом свершается сие превращение в толпе обездоленных людей низкого звания, которые каждый год стекаются сюда со всех концов Европы? Я отвечу Вам: едва они успевают сойти на берег, как немедленно испытывают на себе благотворное действие нашей снеди, запасы коей имеются у нас в изобилии: им оказывают гостеприимство, их потчуют лучшими нашими яствами; у них справляются, что они умеют и чем бы хотели заниматься; повсюду они находят соотечественников, из какой бы страны Европы ни прибыли. Дозвольте мне кратко описать Вам примерную судьбу такого эмигранта. Он нанимается на работу и трудится в меру сил своих не на какого-нибудь надменного господина, а на равного себе фермера; его усаживают за обильный стол рядом с хозяином, а если даже и кормят отдельно, то не менее сытно; он получает изрядное жалованье; его постель ничем не сходна с тем ложем скорби, на котором он привык проводить свои ночи; когда он отличится пристойным поведением и верной службою, его обласкают и станут обходиться с ним как с членом семьи. Мало-помалу он начинает чувствовать себя воскресшим из мертвых; доселе он не жил, но лишь прозябал; ныне он ощущает в себе человека, ибо с ним обращаются как с оным; в прежнем отечестве он был столь ничтожен, что законы обходили его стороною — в отечестве новом они укрывают его своею мантией. Судите сами, как сильно должны перемениться расположение духа и мысли такого человека. Он выбрасывает из памяти свое былое состояние рабской зависимости, и сердце его невольно ликует, переполненное живою радостию, а сии первые ликования одушевляют его теми новыми помыслами, которые и делают американца американцем. Может ли он любить страну, где сама жизнь была ему тяжким бременем? А любовь к новой приемной матери должна глубоко проникнуть в его сердце, если только он добр и великодушен. Глядя округ себя, он видит множество состоятельных людей, которые лишь несколько лет тому были такими же бедняками, как и он сам. Сия картина укрепляет его, и он начинает — увы, впервые за всю свою жизнь — строить какие-то скромные планы на будущее. Если ему достанет ума, он потратит два или три года на то, чтобы приобрести умение пользоваться инструментами, возделывать землю, валить лес и т. д. Это заложит основу его доброго имени, заслужив которое он сделает полезнейшее свое приобретение. У него появляются друзья; его поощряют и направляют, ему поспешествуют советами; наконец, собравшись с духом, он покупает землю. За нее он отдает все свои средства — как привезенные из Европы, так и заработанные в Америке, надеясь, что бог урожаев поможет ему выплатить недостающее. Его доброе имя служит обеспечением кредита. Он делается обладателем бумаги, которая предоставляет ему и его потомству безусловное право собственности на двести акров земли, расположенной у такой-то речки. В жизни сего человека воистину наступает новая эра! Он, в прошлом, скажем, немецкий мужик, отныне стал вольным землепашцем — отныне он американец, пенсильванец и британский подданный. Его принимают в гражданство, имя его заносят в цивильный лист провинции. Бывший бродяга, он обретает оседлость; к его фамилии теперь присовокупляется название графства или округа, в коем он поселился; впервые за всю свою жизнь он начинает кое-что значить — он, кого прежде почитали полным ничтожеством. Я лишь повторяю Вам то, что мне довелось слышать от многих эмигрантов; мудрено ли, по сердца их, ликуя, одушевляются множеством чувств, которые нелегко описать. Из грязи выбиться в люди, из слуг — в господа; из раба какого-нибудь сиятельного деспота сделаться свободным человеком, наделенным землею, к коей присовокуплены все блаженства гражданского состояния! Чудеснейшая перемена! Перемена, вследствие которой он и становится американцем. Сия великая метаморфоза имеет двойственное действие: она стирает его европейские предрассудки и заставляет забыть тот механизм зависимости и рабской покорности, к которому его приучила нищета, но иногда он забывает больше, чем следует, и от одной крайности бросается в другую. Человек же рассудительный начинает строить планы будущего процветания, предполагая дать своим детям лучшее образование, нежели он сам смог получить; он обдумывает будущий образ действий, чувствуя такое страстное желание трудиться, какого доселе никогда не испытывал. Движимый пробудившейся гордостью, он берется за любое дело, дозволенное законами, ибо он почитает законы и с благодарностию в сердце устремляет взоры свои на восток, к тому острову, где находится правительство, которое даровало ему новое счастие и приняло его под свои крыла и защиту. Тот, кто лелеет подобные мысли, — хороший человек и верный подданный. Внемлите, о вы, бедняки Европы, вы, гнущие спину и проливающие пот ради сильных мира сего, вы, принужденные делить урожай со своей нивы меж церковью, хозяевами и правительством, вы, ценимые ниже, чем любимая гончая или никчемная болонка, вы, дышащие воздухом природы лишь потому, что его нельзя отобрать! Только в Америке вы сможете изведать те чувства, которые я описал; только здесь законы о приеме во гражданство приглашают каждого вкусить от великих трудов и блаженств наших, приглашают возделывать землю без арендной платы и налогов. Правда, многие эмигранты, закоренелые в развращенности своей, привозят с собою все свои грехи и, пренебрегая теми благами, которые им предлагаются, продолжают идти путем порока, пока не настигнет их кара наших законов. Нет, преуспеть у нас удается отнюдь не всякому, но лишь добронравному, честному и трудолюбивому; зато как же счастлив тот, кого сия перемена властно сподвигла к деятельности, к процветанию, к попечению об устройстве детей его, рожденных во дни бедности; когда б не благотворное действие эмиграции, им в наследство достались бы одни родительские лохмотья. Иных же прельстительная картина свободной жизни только вводит в заблуждение: преисполнившись гордости, они хотят не трудиться, а бить баклуши, ибо их удовлетворяет уже самое сознание того, что они сделались землевладельцами; окруженные богатством, они попусту тратят время в безделье, мотовстве и тщетных предприятиях. Обыкновенно честные немцы ведут себя разумнее других европейцев. Они нанимаются в подмастерья к своим состоятельным соотечественникам и обучаются у них всему, что им надобно. Если кто-то имеет занятие, приносящее изрядную прибыль, немец обязательно войдет во все его подробности и возгорится желанием получать те же выгоды. Сия страстная мечта уже никогда не оставляет его, и посредством умеренности, строгой бережливости и упорнейшего рвения он, как правило, добивается своей цели. Сразу же по приезде в Америку выходцы из Германии взирают округ себя с немалым удивлением — должно быть, разница столь велика, что им кажется, будто они грезят; но затем они видят, как повсюду преуспевают их соотечественники; они проезжают через графства, где не слышат ни единого английского слова; они узнают родину в именах и языке местных жителей. Сии поселенцы явились полезнейшим приобретением для Пенсильвании: им она обязана большой долей своего процветания, а их долготерпению и способностям к механике — своими мастерскими, лучшими во всей Америке, превосходнейшими лошадями и многими другими преимуществами. До самой смерти они хранят воспоминания о былой своей нищете и рабской приниженности. Хотя шотландцы и ирландцы у себя на родине, вероятно, жили не богаче немцев, они имели больше гражданских привилегий, и посему новое состояние производит на них действие не столь могучее и не столь длительное. Я не знаю, чем это объяснить, но из одной дюжины эмигрантских семейств упомянутых мною наций обыкновенно добиваются преуспевания семь шотландских, девять немецких и четыре ирландских. Шотландцы тоже отличаются бережливостью и трудолюбием; однако ж их жены не умеют работать так же усердно, как немки, которые ни в чем не отстают от муж ей и часто разделяют с ними жесточайшие тяготы поповых работ, в коих они немало смыслят. Посему шотландцам приходится в одиночку бороться с уроном, чинимым природою, — единственным их противником. У ирландцев же дела идут хуже, ибо они склонны к пьянству и ссорам; они неуживчивы и скоро пристращаются к охоте, а это есть погибель всему. Кроме того, они менее прочих сведущи в искусстве земледелия, причина чему, вероятно, заключается в том, что у себя на родине их трудолюбие не находит простора и поприща. Мне много рассказывали, как разделены земли в Ирландском королевстве; древнее завоевание нанесло ему великий вред{230}, ибо расстроило весь порядок земельной собственности. Земля там принадлежит очень немногим и сдается в наем ad infinitum[99], причем арендаторы часто платят пять гиней за акр. Жилища ирландских бедняков самые убогие в Европе; изобилие картофеля, который легко выращивать, побуждает их к праздности; жалованье их слишком невелико, а виски у них стоит слишком дешево. Любые мимолетные наблюдения подобного рода немедленно требуют множества оговорок, ибо повсюду можно обнаружить множество исключений из общего правила. Сами ирландцы, приезжающие из различных частей королевства, весьма различны меж собою. Сие удивительное свойство не поддается объяснению: казалось бы, на столь малом острове каждый ирландец должен быть похож на другого, однако ж дело обстоит иначе — они несходны своими склонностями и любовию к труду. Напротив, все без исключения шотландцы трудолюбивы и бережливы; чтобы показать себя, им потребно лишь поле деятельности, и, найдя его, они обыкновенно добиваются успеха. Единственная беда их состоит в том, что они не имеют особливой американской сноровки, которая прибывает лишь мало-помалу: ведь если человек вырос в безлесном краю, ему нелегко понять, как срубить дерево, распилить на части и изготовить из него столбы и доски. Поскольку мне доставляет удовольствие видеть процветающие семейства и говорить об оных, я намереваюсь закончить сие письмо рассказом о судьбе некоего шотландца с Гебридских островов, прибывшего к нам в 1774 году, — рассказом, который словно в миниатюре покажет Вам, на какие свершения способны шотландцы, если ничто не препятствует проявлению их трудолюбия. Когда б я ни услышал об основании какого-либо нового поселения, раз или два в год я еду туда с визитом, чтобы следить различные действия поселенцев, постепенные улучшения, особливый уклад каждой семьи, от которого в немалой мере зависит их благополучие, различные степени трудолюбия, выдумки и ухищрения; ведь все они бедны, а значит, жизнь требует от них благоразумия и расчетливости. Ввечеру я люблю слушать их рассказы, ибо они будят во мне новые мысли; в безмолвии я внимаю их повестям о былых несчастиях и тем словам благодарности, которые многие из них обращают к богу и нашему правительству. Иным же бывает небесполезно выслушать и мою кроткую проповедь. Да и кто бы не пожелал добра своим новым согражданам, претерпевшим такие испытания, когда б заметил в них склонность к праздности и небрежению? Кто бы удержался от доброго совета? Какая, должно быть, это счастливая перемена — покинуть бесплодные и унылые холмы Шотландии, где все так наго и хладно, и обрести покой на плодородной земле наших срединных провинций! Сие перемещение не может не доставить живейшего удовольствия. Следующий разговор произошел в одном отдаленном поселении, которое я недавно посетил: — Как поживаете, друг мой? Я проехал добрых пятьдесят миль, чтобы повидаться с вами. Как продвигается вырубка леса? — Прекрасно, сэр, прекрасно. Мы уже научились смело орудовать топорами и справимся в срок. Каждый божий день мы едим до отвала; округ пасутся коровы, и дом полон молока; свиньи сами кормятся в лесу и тучнеют. Приятнейшая страна, доложу я вам, да благословит господь нашего короля и Уильяма Пенна. Дела наши пойдут на лад, только бы здоровье не подкачало. — Ваш дом так опрятен и светел с виду. Где ж вы раздобыли для него дранку? — У нас есть один сосед из Новой Англии. Он научил, как щепать на дранку каштановое дерево. Каждому овощу свое время, скоро мы и за сарай примемся. Видите, вон те деревья хорошо сгодятся на постройку. — А кто будет сарай строить? Вы ведь, наверное, еще не овладели сим искусством? — Один наш земляк — он живет в Америке уже десять лет — предложил свои услуги. Он согласен повременить с расчетом до второго урожая. — Сколько вы отдали за свою землю? — Тридцать пять шиллингов за акр, с кредитом на семь лет. — Сколько ж у вас всего акров? — Сто пятьдесят. — Для начала довольно. Но не трудно ли сию землю расчищать? — Вы правы, сэр, весьма трудно; однако ж нам пришлось бы еще труднее, будь она уже расчищена: ведь тогда у нас бы не было строевого леса. А я люблю лес, без него и земля не земля. — Не попадались ли вам здесь пчелы? — Нет, до сих пор не попадались. Впрочем, я не знаю, как с ними обходиться. — Берусь вас научить. — Вы очень любезны. — Прощайте, добрый человек, да поможет вам бог. Когда будете в N., справьтесь, где живет Дж. С. Он примет вас с ласкою, коли вы порадуете его приятными вестями о вашей семье и ферме. Таким манером я часто бываю у новых поселенцев, с любопытством осматриваю их дома и вникаю во всяческие изобретения и приспособления; по моему наущению они рассказывают мне все свои новости и посвящают в свои чувства. Я верю, что Вы охотно разделили бы со мною сии удовольствия, ибо хорошо помню Ваш филантропический склад ума. Разве не лучше под скромной кровлею созерцать начатки будущего благосостояния и населения, нежели взирать на груды и груды судебных бумаг в конторе какого-нибудь юриста? Разве не лучше следить, как мало-помалу наполняется людьми целый мир, как топь ревущая делается приятным лугом, а заросший лесом пригорок — чудесным полем; разве не лучше слышать веселый посвист иль песенку поселянина там, где прежде раздавался лишь вопль дикаря, зловещее уханье совы да шипение змей! Созерцание оных занимательных картин, которые столь же чувствительны, сколь и необычны, дает сладостное отдохновение европейцу, уставшему от роскоши, богатств и наслаждений. Англия, ныне славная множеством соборов и замков, некогда тоже была страною лесов и болот; ее жители, ныне славные своими искусствами и торговлею, некогда тоже ходили с разукрашенными лицами, как наши индейцы. В свой черед расцветет и наша страна; и о ней станут говорить теми же словами, какие я только что употребил. Наши потомки будут глядеть назад с алчным любопытством и с радостию, стремясь по возможности точно восстановить историю того или иного поселения. Скажите на милость, почему шотландцы обыкновенно более набожны, более преданны, более честны и трудолюбивы, нежели ирландцы? Я отнюдь не намереваюсь порочить какие бы то ни было нации, упаси боже! — сие никому не пристало, а уж американцу тем паче. Но поскольку я знаю, что различные свойства людей зависят не от них самих, а от правительства иль прочих местных обстоятельств, сия великая разность меж двумя народами должна иметь какие-то глубинные причины. Судя по тому, что мне приходилось слышать от нескольких шотландцев, север Британии, а также Оркнейские и Гебридские острова во многих отношениях непригодны для человеческого обитания, а хороши только как зеленые пастбища для овец. Кто же тогда бросит камень в жителей оных, если они переселяются к нам? Нашему великому континенту суждено приютить весь беднейший слой Европы, причем эмиграция будет тем многочисленнее, чем больше люди будут узнавать об Америке и чем сильнее станут их мучать войны, налоги, угнетение и нищета. Гебридские острова пригодны только для содержания злоумышленников, и куда как разумнее ссылать их туда, нежели в Виргинию или Мэриленд{231}. Странную любезность оказывает наша родина двум прекраснейшим американским провинциям! На сей счет англичане имеют мнения самые превратные: намереваясь наказать преступника, они порою дают ему счастие; многие из тех, кого сослали в Америку в наказание за преступления, смогли у нас разбогатеть и навек вырваться из острых когтей нужды, которая и заставила их нарушить закон; они сделались трудолюбивыми, примерными и полезными гражданами. Английскому правительству следует приобрести самые северные и самые бесплодные из Гебридских островов и отправить сюда к нам честных и простодушных жителей оных, наградив их за добродетель и старинную бедность хорошими землями, а взамен устроить там колонию для своих заблудших сыновей. Суровый климат, жестокие зимы, бесплодная почва и бурное море довольно послужат к их сокрушению и наказанию. Да и возможно ль сыскать более приспособленное место, чтобы воздать злодею за ущерб, им причиненный? Некоторые из оных островов суть не что иное как преисподняя Великобритании, куда нужно поместить нее грешные души страны. Совершив сие простое предприятие, мы получим двойную выгоду: добрые люди благодаря эмиграции сделаются счастливее, а люди злые окажутся там, где им должно. Через несколько лет ссылка в сии холодные края станет вселять ужас, перед которым померкнет боязнь высылки в Америку. Наша страна отнюдь не острог; когда б я был бедным, отчаявшимся, голодным англичанином и не мучай меня угрызения совести, я бы возблагодарил судьбу за такое изгнание. Для нас не имеет большого значения, как и коим способом попал сюда несчастный: главное, чтобы он был благоразумен, честен и трудолюбив от бога, а остальное все приложится. Коль скоро он начнет трудиться, у него появится отменная возможность заработать себе на жизнь и даже накопить средства на покупку земли, что должно быть первейшим желанием каждого человека, не обиженного здоровьем и силами. Я знавал одного француза, который прибыл в Америку буквально в чем мать родила. Кажется, он служил матросом на каком-то английском военном корабле и, недовольный своим положением, решился на побег; раздевшись донага, он прыгнул за борт и доплыл до берега. Впоследствии он поселился в Маранеке, что в графстве Честер Нью-Йоркской провинции, обзавелся семьей и оставил каждому из своих сыновей по хорошей ферме. Знавал я и другого человека, который двенадцатилетним мальчишкой был пленен индейцами на канадской границе; в Олбани мальчика выкупил один великодушный джентльмен, определивший его в подмастерья к портному. Он прожил до девяноста лет, оставив после себя изрядное состояние и многочисленное семейство. Все его потомки отменно устроены; со многими из них я хорошо знаком. Так какой же трудолюбивый европеец будет предаваться отчаянию? Пусть все эмигранты, прибывшие в Америку из разных стран Европы и принятые во гражданство, благоговейно внимают речам нашей великой родительницы, которая говорит им: «Добро пожаловать на мои берега, о многострадальный европеец! Благослови тот час, когда ты узрел мои колосящиеся нивы, мои чудные судоходные реки, мои зеленые горы! Работай, и я одарю тебя хлебом, будь честен, благоразумен, усерден, и ты получишь от меня дары еще более драгоценные — достаток и независимость. Я дам тебе поля — они прокормят и оденут тебя; я дам тебе очаг — сидя у него, ты поведаешь своим чадам о том, как тебе удалось преуспеть; я дам тебе покойную постель — на нее ты преклонишь голову свою в час отдохновения. А в придачу я наделю тебя всеми привилегиями и благами свободного человека. Терпеливо наставляй своих детей, учи их благодарить бога и уважать правительство — то милосердное правительство, которое собрало здесь всех вас и дало вам счастие, — и я удовлетворю самое святое, самое искреннее и сокровенное желание, какое только может иметь добрый человек: я обеспечу твое потомство, чем утешу тебя на смертном одре. Так иди же, трудись, возделывай свою ниву! Если ты справедлив, великодушен и усерден, тебя ждет преуспевание!»Повесть об Эндрю,
шотландце с Гебридских островов
Пусть историки живописуют подробности наших хартий, деяния наших губернаторов, поочередно занимавших место у кормила власти, нашу политическую борьбу и основание наших городов; пусть анналисты кропотливо собирают анекдоты об учреждении колоний наших — орлам и пристало парить высоко. Я же птица не столь могучая и с радостию довольствуюсь малым — мое дело порхать с куста на куст и кормиться жалкими букашками. Я так привык извлекать все пропитание и все удовольствия из земли, по которой веду свой плуг, что не умею от нее оторваться. Посему я преподношу Вам короткую повесть о простом шотландце, хотя читатель не найдет в ней ни замечательных происшествий, которые смогли бы его развлечь, ни трагических сцен, от которых содрогнулось бы его сердце, ни чувствительных рассказов, над которыми он пролил бы слезы сострадания. В сей повести я хочу лишь запечатлеть шаг за шагом весь путь бедняка, пришедшего от нищеты к достатку, от угнетения к свободе, от безвестности и бесчестия к положению весьма достойному, и обязанного этим не каким-то капризам фортуны, а переезду в Америку и собственному благоразумию и честности, которые мало-помалу произвели свое благотворное действие. Конечно, избранный мною предмет не слишком широк, но я люблю бродить в знакомых пределах, где наверняка заметишь улыбку обретенного счастия и ликование мужеской гордости, возбужденной живыми надеждами и растущей независимостью, и где раздается веселая песнь, вдохновленная радостию в сердце. Из моих поездок по округе и всегда возвращаюсь в отменном расположении духа, ибо почти в каждом доме я вижу благополучие, а почти на каждом поле — начинания, сулящие выгоду. Однако ж Вы можете спросить, почему я не берусь описывать какие-нибудь более старинные и богатые поселения наши, в коих даже европейцу есть чем усладить свой взор? Конечно, наши американские поля, то здесь, то там украшенные изрядными домами, цветущими садами и живописными рощицами, весьма приятны на вид и являют собою гордость фермера и источник всех благ наших. Но глядя на них, мы наблюдаем естественное и обыкновенное; нам отнюдь не составит труда вообразить, как хорошо возделанные и обгороженные поля приносят хозяевам приличный доход. Отец умирает, оставляя сыну хороший дом и богатую ферму; сын обновляет убранство в дому и усердно трудится на поле; потом он женится на дочери одного из своих друзей и соседей; это участь самая обыкновенная, и хотя она не лишена некоторого благолепия и приятности, но все же далеко не столь занимательна и поучительна, как судьба, о которой я намереваюсь рассказать. Я хочу выйти на берег, чтобы дружески приветствовать моего несчастного европейца, сходящего с корабля; хочу наблюдать за его растерянностью в первые минуты; хочу идти за ним по пятам, пока он не преодолеет начальные трудности и не поселится на каком-то участке земли, удовлетворив тем самым свое страстное желание, которое и побудило его оставить отечество, оставить родных и отправиться в путь через бурный океан. Там я стал бы следить его мысли и чувства, первые ростки его доселе подавленного трудолюбия. Мне всегда весело видеть, как человек в первый раз срубает дерево иль строит дом, как проводит свою первую борозду иль собирает свой первый урожай, как впервые в жизни восклицает: «Сие зерно есть моя собственность; я взрастил его на американской земле — оно прокормит и насытит меня, а избыток я обращу в золото и серебро». Я всегда с радостию взираю на счастливые первые плоды благоразумия, трудолюбия и честности, да и кто бы не возликовал, глядя на то, как люди поселяются в чужой стране, как борются с ужасающими трудностями и, преодолев все препятствия, обретают здесь свое счастие. Тот, кто приезжает на сей великий континент, подобен моряку, уходящему в плавание: ему также потребен компас, потребна направляющая стрелка дружеского участия — иначе он собьется с пути и будет долго и напрасно блуждать, несмотря даже на попутный ветер. Однако ж именно так скитались по морям бедствий наши предки, не оставившие после себя никаких памятников, кроме наших ферм. Размышляя о судьбе новых поселенцев, я невольно вспоминаю все то, что совершил мой дед, и сии мысли переполняют сердце мое чувством горячей благодарности к нему и к нашему правительству, которое пригласило его, как и многих других, в Америку, где всячески споспешествовало прибывшим. Я не могу не вспомнить здесь и твое святое имя, о Пенн, лучший из законодателей наших, — ты, кто мудростию законов твоих даровал жителям своей провинции вес естественные достоинства и права, о которых только может мечтать гражданин цивилизованного государства, и сим замечательным устройством показал, каким бы мог стать человек, последуй он твоему примеру! В 1770 году я купил в графстве… кое-какой участок земли, намереваясь впоследствии передать его одному из моих сыновей, и был принужден отправиться туда, чтобы самолично надзирать за межеванием и расстановкою столбов — хотя почва на участке весьма плодоносна, он находится в совершенно диком и необжитом краю. Приехав на место, я с радостию заметил, что распродажа земель идет очень бойко; надеюсь, что к тому времени, когда парень женится, это будет уже приличная, вполне обжитая область. Согласно с нашими обычаями, которые воистину следуют природе, мы почитаем своим долгом при жизни обеспечить наших старших детей, дабы оставить собственную ферму самым младшим и, значит, самым беспомощным. Некоторые, правда, склонны думать, что земля, выделенная в приданое дочери, есть убыток для семьи, но я почитаю их себялюбцами и придерживаюсь иного мнения: ведь девица не может трудиться, как мужчина, и рано выходит замуж. Одну из моих ферм я передал во временное пользование достойному доверия эмигранту, не требуя с него никакой платы и на том лишь условии, что он станет осушать на ней один акр заболоченной земли в год и по первому требованию освободит ее, когда моя дочь выйдет замуж. Тем самым я обеспечиваю дочери солидную партию в лице честного, добропорядочного фермера, а лучшего мужа для нее я не могу желать. Бродя тогда по лесам, я как-то повстречал нескольких индейцев. Я обменялся с ними рукопожатиями и заметил, что они несут с охоты молодого оленя; индейцы же, в свою очередь, заметили мою флягу с бренди и пригласили меня составить им компанию. Мы разожгли большой костер и отменно поужинали; после трапезы я ублажил их огненной водою, и все прилегли отдохнуть на мягкое ложе из листьев. Когда стемнело, лес вдруг огласился оглушительным уханием; от удивления я вздрогнул, и мои индейцы громко расхохотались. Один из них, более искусный, нежели остальные, так ловко подражал совиному крику, что преогромнейшая сова взгромоздилась на высокое дерево прямо над нашим костром. Вскоре мы подстрелили ее; она имела размах крыльев в пять фрутов и семь дюймов. Через капитана А… я отослал Вам в подарок ее когти, прикрепив к каждому по чашечке от маленького подсвечника — пусть они украшают стол в Вашем кабинете и напоминают Вам обо мне. Вопреки моим ожиданиям мне пришлось отправиться в Филадельфию, дабы внести плату за землю и выправить надлежащие бумаги. Хотя я должен был проделать путь в добрых две сотни миль, само путешествие меня нисколько не пугало, ибо в тех краях живет несколько моих добрых друзей, у коих я намеревался останавливаться на ночлег. На третью ночь я заехал к мистеру Б., достойнейшему гражданину изо всех моих знакомых. Вам приходилось его видеть, когда он гостил в моем дому. Кстати, он справлялся о Вашем здоровье и просил меня уверить Вас в самом дружеском расположении. Дома людей столь добропорядочных обыкновенно отличаются опрятностью, но такой опрятности, как в оном прекрасном семействе, мне еще никогда не приходилось встречать. Едва я прилег на свою постель, как мне показалось, что я нахожусь в беседке, увитой благоухающими цветами — так свежи, так ароматны были простыни! Утром я нашел своего хозяина в саду, где он уничтожал гусениц. — Мой государь Б., — обратился я к нему. — Сдается мне, что ты забыл все правила приличия, принятые в нашем обществе. Где же твоя счастливая простота, коей ты некогда был славен? — Мне тяжело слышать твои попреки, друг Джеймс. Скажи скорее, в чем я провинился пред тобою? — Твоя добрая супруга ввечеру сделала ошибку, — отвечал я, — и вместо обычной постели уложила меня на ложе из роз, а я не привык к подобным излишествам. — И более тебе не в чем меня упрекнуть, друг Джеймс? Надеюсь, ты не сочтешь сие за роскошь. Ведь ты не можешь не знать, что ты вдыхал всего лишь ароматы нашего сада, и, как говорит наш приятель Поп{232}, «наслаждаться — значит повиноваться». — Твои оправдания весьма учены, мой государь Б., и я принимаю их, ибо в своей основе они близки к истине. — Поверь мне, Джеймс, жена моя постелила тебе ровно такое же белье, каковым у нас круглый год застелены все постели, ибо она взяла себе за правило сначала обрызгивать его розовой водою, а потом уже гладить. В сей прихоти я не нахожу ничего предосудительного. Но ты так легко не отделаешься — я сейчас пошлю за нею, и договаривайтесь промеж собою; мне же пора снова браться за работу, пока солнце еще не высоко. Том! Сходи-ка и пригласи сюда госпожу Филадельфию! — Как, — удивился я, — твою жену зовут Филадельфией? Вот не знал. — Тогда я расскажу тебе историю, как она получила сие имя. Бабка моей жены была первой девочкой, родившейся в поселении, основанном Уильямом Пенном вместе с другими нашими собратьями, и ее окрестили в честь города, который он тогда решил заложить. С тех пор одну из дочерей в их роду непременно называют Филадельфией. Вскоре в сад вышла сама Филадельфия; мы обменялись с ней любезностями, и я полностью отказался от своих претензий. После завтрака я распрощался с хозяевами и через четыре дня прибыл в город. Неделю спустя я получил известие о прибытии корабля с шотландскими эмигрантами, и мы с мистером С. отправились на пристань, дабы встретить их. Сие зрелище возбудило во мне множество мыслей. «Вы видите пред собою людей, — сказал я моему спутнику, — которых нужда и другие несчастья загнали на чужбину, где их не знает ни одна живая душа. Посторонние всем, они не ждут от нас утешения, помощи или любезности. Напротив, их обуревает тревога; их сердца истерзаны дурными предчувствиями, страхами и надеждами. Последнее из упомянутых мною чувств, чувство сильнейшее, и привело их сюда. Если они люди добродетельные, я молю небеса, чтобы их упования исполнились. Когда б можно было собрать их вновь лет через пять или шесть, они являли бы собою зрелище куда более приятное и мы с трудом узнали бы в них наших сегодняшних знакомцев. Благодаря своей честности, силе рук своих и милосердию правительства они изрядно улучшат свое состояние; они будут прилично одеты и насыщены; достаток придаст им мужества и уверенности; они станут полезными гражданами. Возможно, кое-кто из их потомков сыграет выдающуюся роль в грядущих свершениях Америки». По причине большой продолжительности пути и скудного питания во время оного почти все они выглядели бледными и изможденными. Детей среди них было числом не менее, нежели взрослых; каждая семья сама платила за свой проезд. Капитан корабля сообщил нам, что это спокойные, миролюбивые и безобидные крестьяне, никогда прежде не жившие в городах. Доставленный им груз имел изрядную ценность, ибо за несколькими исключениями состоял из мужчин в самом расцвете лет. Некоторые жители города, побуждаемые внезапно вспыхнувшей приязнью или природным человеколюбием, взяли многих эмигрантов к себе на постой; городские власти, выказав мудрость и великодушие, для них столь обыкновенные, приказали разместить остальных в казармах и выдать им вдоволь провианта. Моему спутнику тоже приглянулся один из прибывших, и он пригласил его вместе с женою и четырнадцатилетним сыном к себе в дом. Большая часть новых эмигрантов еще год тому подписала контракты с будущими хозяевами через агента; другие же полагались только на случай, и гость мистера С. оказался из числа последних. Получив приглашение, бедняга радостно заулыбался и рассыпался в благодарностях, к коим он заставил присоединиться жену и сына, изъяснявшихся на незнакомом мне языке. По дороге он с неослабным вниманием глазел вокруг: дома, прохожие, негры, экипажи — все было ему в диковину; мы нарочно шли медленно, дабы он смог всласть налюбоваться сим приятнейшим разнообразием. «Боже мой! — воскликнул он. — Неужто это Филадельфия, тот самый благословенный город, богатый хлебом и провизией, о котором мы так много наслышаны! Мне говорили, что она была заложена в год, когда родился мой отец: да она прекраснее Гринока или Глазго, хотя они старше ее в десять раз». — «Совершенно верно, — отвечал ему мистер С. — Но, кроме того, как вы сами через месяц-другой убедитесь, Филадельфия есть столица славной провинции, гражданином коей вам предстоит сделаться. Гринок не может похвалиться ни таким климатом, ни такими землями». Мы неторопливо шагали по улице, как вдруг нам навстречу попалось несколько больших фургонов, запряженных шестеркою лошадей, — на них только что приехали в город какие-то фермеры. Пораженный их необъятными размерами, Эндрю замер на месте и очень робко осведомился, для чего предназначены сии великие передвижные дома и где водятся столь громадные кони? «Разве в ваших краях нет подобных лошадей?» — удивился я. «Да что вы, конечно, нет, — ответил он. — На нашем острове такие гиганты сожрали бы все до последней травинки!» Наконец мы достигли дома мистера С., и в порыве добросердечного радушия он угостил всех троих отменным обедом, во время которого сидр лился рекою. — Благослови, господи, сию страну и ее добрых жителей, — воскликнул Эндрю. — Давненько мне не приходилось так хорошо поесть. От всего сердца благодарю вас. — Друг мой, из какой части Шотландии вы приехали? — осведомился у него мистер С. — Одни с материка, другие — с острова Барра, — отвечал он. — Сам-то я из островитян. Отыскав его остров на карте, я без труда догадался, что климат в оных широтах не отличается большим радушием, и спросил его: — Какая земля у вас на острове? — Довольна дрянная, — был его ответ. — У нас нет ни деревьев, как здесь, ни пшеницы или яблонь, ни коров. — В таком случае вашим беднякам, должно быть, туго приходится, — сказал я. — На нашем острове нет бедняков. Мы все равны, кроме нашего помещика, а он не может помогать всем и каждому. — Скажите же нам его имя. — Его зовут мистер Нил, и подобных ему не сыскать нигде на островах. Рассказывают, будто его предки жили на Барра еще тридцать колен тому. Судите сами, джентльмены, сколь древен сей род наших помещиков. Однако ж у нас холодно, земля неплодоносна, а народа переизбыток. Вот мы и решили попытать счастья за океаном. — И каким способом вы собираетесь разбогатеть? — Сам не знаю, сударь. Ведь я всего-навсего неграмотный мужик, да к тому же чужеземец. Я должен положится на советы добрых христиан; думаю, они меня не обманут. Я привез с собою рекомендательное письмо от нашего священника — могу ли я надеяться, что оно окажется мне полезным? — О да, конечно, но в будущем все ваши успехи будут зависеть только от вашего собственного поведения. Коль скоро вы человек благоразумный, честный и трудолюбивый, как вас рекомендуют в письме, вам нечего бояться — вы сумеете добиться своего. Кстати, Эндрю, имеются ли у вас какие-нибудь средства? — Да, сударь, одиннадцать с половиною гиней. — Вот как! Для шотландца с Барра сумма немалая. Откуда ж у вас такие деньги? — Семь лет тому умер мой дядя, горячо меня любивший, и оставил мне в наследство тридцать семь фунтов. Еще две гинеи принесла мне жена в приданое, когда наш помещик ее за меня выдал. Из этих денег я не потратил ни пенса. Потом я выручил кое-что за свое имущество и немного заработал в Глазго. — Приятно слышать, что вы человек бережливый и расчетливый. Оставайтесь таким и впредь. Вам следует наняться в работники к каким-нибудь хорошим людям. Что вы умеете делать? — Немного умею молотить, могу обращаться с лопатой. — А пахать? — Могу, сэр, но только маленьким ручным плугом — я захватил его с собою. — Здесь он вам не пригодится. Но ничего, у вас есть способности: захотите, всему обучитесь. Знаете, как мы поступим с вами? Я отошлю вас ко мне на ферму: пробудете там две-три недели, пока не наловчитесь работать топором. Ведь топор есть главнейшее орудие, потребное американцам и особливо новым поселенцам. Умеет ли ваша жена прясть? — Да, сэр, умеет. — Тогда сделаем вот что. Коль скоро вы овладеете искусством лесоруба, вас возьмет к себе на службу мой любезнейший друг, мистер П. Р. На первые полгода он положит вам четыре доллара в месяц, а потом, если вы останетесь у него, — и все пять, как у нас заведено. Жену вашу я определю в пряхи к другим людям, где она будет получать полдоллара в неделю, а сына — в возчики, и он станет зарабатывать один доллар в месяц. Сверх того, вы всегда будете вкусно есть и мягко спать. Согласны ли вы на такие условия? Эндрю едва мог поверить своим ушам; он смотрел на меня глазами, полными честных слез благодарности, а ее изъявления, казалось, дрожали у него на губах. Сия немая сцена была красноречивее всяческих слов; слезы, проливаемые детиною ростом в добрых шесть футов, до глубины души растрогали меня и отнюдь не заставили хуже о нем думать. Наконец он ответил, что не достоин предложенных мною милостей и что сначала он должен сам заработать себе на пропитание. — Полно, полно, — возразил я, — Вы получите все, что я вам обещал, если не потеряете голову и станете трудиться прилежно и ревностно. А учиться у меня на ферме вам долго не придется. — Да вознаградит вас бог за доброту вашу! — воскликнул Эндрю. — Покуда я жив, я не устану благодарить вас и навсегда пребуду вашим должником. Через несколько дней я отправил всех троих с фургонами, возвращавшимися в… так что Эндрю получил возможность изнутри осмотреть те самые повозки, которые столь сильно поразили его воображение в первую нашу встречу, и убедиться в полезности оных. Меня весьма развлекли его рассказы как о Гебридах вообще, так и об острове Барра, на котором он родился, и о нравах и обычаях местных жителей. Скажите на милость, почему там не растут деревья — для того ли, что земля неплодоносна, иль оттого, что их никто не сажает? А возьмите старинный род мистера Нила — разве могут сравниться с его древностию какие-нибудь из нынешних королевских фамилий? Допустим, что одно поколение сменяет другое через каждые сорок лет; тогда выходит, что одно и то же семейство существует на свете вот уже двенадцать веков — удивительнейшая родословная! Судя по рассказам Эндрю, его соотечественники живут сообразно с правилами природы; которая едва обеспечивает им лишь очень скудное пропитание; их характер не изнежен никакими излишествами, ибо на своей бесплодной земле, они не ведают оных. Благодаря постоянным трудам на свежем воздухе и умеренности все они, когда им есть чем поддержать силы, должны отличаться крепким здоровьем, а ежели так, то они получают достойное вознаграждение за свою бедность. Если б они могли допивать себе лишь самое необходимое, ничто не заставило бы их покинуть родину, ибо они не испытывают притеснений ни со стороны помещика, ни со стороны правительства. Я был бы рад, когда б сии люди основали свое поселение где-нибудь в нашей провинции — ведь их нравы и верования не менее простосердечны, чем их обхождение. Перенесенные на плодоносные земли, они составят общество, достойное всяческого внимания; хотя, возможно, в новом окружении все скоро переменится, ибо наши мнения, наши пороки и добродетели суть лишь плоды местных условий: кто есть человек, как не механизм, приводимый в действие силою обстоятельств? Эндрю прибыл на мою ферму неделей ранее меня самого и, как я узнал впоследствии, моя жена, согласно моим распоряжениям, первым делом вручила ему топор. Некоторое время он управлялся с ним очень неловко, но они с женою были так послушны, так прилежны и щедры на благодарность, что я не сомневался в их будущих успехах. Сдержав свое обещание, я определил всех троих к разным людям, коим они ко взаимному удовольствию пришлись по душе. Эндрю усердно трудился, безбедно жил и тучнел; каждое воскресенье он приезжал к нам в гости на доброй лошади, которую ему одолжил мистер П. Р. Бедняга, каких мучений ему стоило научиться правильно сидеть в седле и держать поводья! Я думаю, что у нас он впервые взгромоздился на подобного зверя, хотя никаких вопросов на сей счет я ему не задавал, опасаясь уязвить его гордость. Проработав на мистера П. Р. двенадцать месяцев и получив восемьдесят четыре доллара, которые причитались за труды ему вместе с женою и сыном, он как-то в будни заехал ко мне и сказал, что, будучи человеком уже немолодым, желает приобрести собственную землю, дабы иметь дом и прибежище на старости лет своих; что хочет жить вместе со своей семьей, дабы в назначенный срок передать землю сыну, который станет содержать его; ко мне же он обращается за советом и помощью. Я нашел сие желание весьма естественным и достойным похвалы, а потому обещал ему подумать о его будущем, попросив лишь еще на месяц задержаться у мистера П. Р. — тому нужно было изготовить три тысячи реек. Эндрю сразу же согласился. Даже если б он и купил землю, спешить ему было некуда: снег только-только начинал сходить и, значит, время для вырубки леса пока не приспело: ведь сжигать сучья удобнее, когда обнажилась старая листва, которая служит хорошею растопкою. Несколько дней спустя случилось так, что все семейство мистера П. Р. отправилось на молитвенное собрание, оставив Эндрю сторожить дом. Сидя у дверей, он сосредоточенно читал свою Библию, как вдруг на веранду взошли девять индейцев, только что перед тем спустившихся с гор, и начали раскладывать на полу тюки с мехом. Можно ли вообразить тот ужас, который сия удивительная картина вселила в душу Эндрю. Введенный в заблуждение необыкновенным обликом индейцев, честный шотландец принял их за шайку разбойников, собравшихся ограбить дом его хозяина. Посему он, как верный страж, поспешил закрыть двери изнутри, но, не найдя на них запоров, которыми в наших краях обыкновенно пренебрегают, был принужден вставить в щеколду свой нож и бежать наверх за палашом, привезенным из Шотландии. Индейцы же, добрые друзья мистера П. Р., догадались о его подозрениях и страхах; они силою отворили дверь и ворвались в дом, где молниеносно добыли себе вдосталь хлеба и мяса и расселись у очага. Тут в комнату вошел Эндрю с палашом в руке: индейцы угрюмо уставились на него, внимательно следя за каждым его движением. По недолгому размышлению Эндрю сообразил, что его оружие бессильно противу девяти томагавков, но это не утишило его гнев; наоборот, увидев, с какою невозмутимой дерзостью пришлецы пожирают хозяйскую провизию, он еще более рассвирепел. Не в силах сдержаться, Эндрю осыпал их крепкой шотландской бранью, требуя, чтобы они немедленно ретировались, а индейцы (как они мне впоследствии рассказывали) отвечали ему своими, не менее крепкими выражениями. Более невразумительную перепалку трудно себе представить, ибо противники не понимали друг друга, а индейцев к тому же нисколько не занимало, что хочет сообщить им честный шотландец. Наконец верность долгу взяла в нем верх над осторожностию, и он отважился схватить одного из пришлецов, дабы выставить его за дверь, но не тут-то было: индеец жестами показал ему, что сию минуту сдерет с него скальп, а его товарищи разразились воинственным кличем. Их страшные вопли до такой степени напугали бедного Эндрю, что он, забыв про свою отвагу, про свой палаш и про свои намерения, пулею выскочил во двор и исчез, оставив дом на милость победителей. Один индеец потом говорил мне, что никогда в жизни так весело не смеялся. Эндрю же, отбежав на некоторое расстояние, скоро опомнился от страха, возбужденного адскими завываниями, и не придумал ничего лучшего, чем направиться в молельный дом, до которого нужно было идти добрых две мили. Обуреваемый своими благими намерениями, с еще заметными следами ужаса на лице, он вызвал мистера П. Р. с богослужения и в великом волнении сообщил ему, что его усадьба захвачена девятью разноцветными чудищами — одни синие, другие красные, третьи черные, и что в руках они держат какие-то топорики, которые курят заместо трубки, и что ходят они без штанов, словно шотландские горцы, и что они вот-вот сожрут все припасы в доме, и что одному богу известно, какие еще дела они сотворят. — Успокойтесь, мой честный Эндрю, — сказал ему мистер П. Р. — Этим людям я могу доверить собственный дом, как самому себе. Что ж до припасов, то пусть едят в свое удовольствие, милости прошу. Они не знают церемоний и всегда угощаются таким манером в доме друга. Я сам следую тому же правилу в их вигвамах, когда заезжаю к ним в поселок. Пойдемте-ка лучше внутрь и дослушаем проповедь до конца, а потом все вместе вернемся домой в фургоне. По возвращении мистер П. Р., который хорошо знает индейский язык, объяснился с гостями; они снова расхохотались и, пожав руку честному Эндрю, уговорили его отведать табака из их трубок, так что мирный договор был заключен и скреплен по всем индейским правилам — при помощи трубки мира. Вскоре после сего приключения настало время мне сдержать свое слово и помочь Эндрю устроить его дела; с этой целью я отправился в графство… к мистеру А. В., который, как мне стало известно, незадолго перед тем приобрел участок земли близ селения… Я дал ему точный отчет об успехах Эндрю в наших сельских науках, расписал его честность, бережливость и великодушие, и настоятельно попросил продать ему сто акров земли. «На это я не могу согласиться, — ответил мистер А. В., — но я имею сделать ему предложение еще более приятное. Как и вы, я люблю споспешествовать процветанию честных эмигрантов из Европы. Из ваших слов я понял, что у него только один сын. Я готов отдать им в аренду на любой угодный вам срок сто акров моей земли, что будет для него много выгоднее, нежели приобретать их в свою собственность. В таком случае он сможет потратить свои сбережения на покупку плуга, упряжки и какой-нибудь скотины; его не обременят всяческие долги и закладные, а собранный урожай будет принадлежать ему безраздельно. Для приобретения собственной земли одного сына мало: вот будь у него двое или трое крепких парней, тогда дело другое». Я совершенно согласился с его мнением и пообещал заехать к нему вместе с Эндрю через несколько дней. — Что ж, мой честный Эндрю, — обратился к нему мистер А. В., — ради вашего доброго имени я отдаю вам сто акров отменной пахотной земли, которые лежат у новой дороги; двадцать акров из них занимают прекрасные болота; на участке есть ручей; мост через него уже построен. Условия мои таковы: продать землю я вам не могу, но отдам в аренду ровно столько, сколько просил у меня ваш друг мистер Джеймс. Первые семь лет я не стану взыскивать с вас никакой платы — что сами посеете и пожнете, что посадите и уберете, то будет принадлежать вам, и никому более. Ни король, ни правительство, ни церковь вашу будущую собственность и пальцем не тронут. По истечении сего срока вы должны платить мне двенадцать с половиною долларов в год, и ничего более я с вас не потребую. За первые три года аренды вы обязаны по договору посадить пятьдесят яблонь и расчистить под пашню семь акров земли на болоте; это послужит вашей же выгоде, ибо если вы сделаете работу сверх договоренного, я заплачу вам за нее по расценкам, у нас в стране принятым. Срок аренды я положу в тридцать лет. Так как, Эндрю, нравится вам мое предложение? — О сэр, очень нравится, но я боюсь, что кто-нибудь возьмет, да и отберет у меня землю — или король, или его министры, или губернатор, или кто из ваших знатных господ. А может, сын ваш вскорости мне скажет: «Так и так, Эндрю, это земля моего отца, уходи-ка с нее подобру-поздорову!» — Да нет же, вам нечего бояться. Наш король и его министры слишком справедливы, чтобы отбирать у бедного поселенца плоды его трудов. У нас нет знатных господ, для которых законы не писаны. Но дабы рассеять все ваши опасения, я дам вам арендный договор, а с ним вам уже никто не страшен. Если моя земля когда-нибудь обманет ваши ожидания, мы составим из соседей коллегию присяжных, они оценят все произведенные вами улучшения, и я заплачу вам в согласии с их вердиктом. Свое право на аренду вы можете продать, а после вашей смерти земля, как если бы вы были ее владельцем, отойдет тому, кого назначит последняя воля ваша. Эндрю молчал, но на его лице ясно отражались смешанные чувства радости, удавления и растерянности. — Вы меня поняли? — спросил его мистер А. В. — Нет, сэр, не совсем. Я никак не возьму в толк, что такое аренда, улучшение, коллегия присяжных, последняя воля и прочее.. — Что ж, ваша прямота похвальна, и мы постараемся немедленно вам все объяснить. Нужно признаться, что сии трудные для понимания слова он слышал сейчас впервые в жизни; ведь, судя по его рассказам, жителям острова Барра совершенно чужды идеи, которые они обозначают. Посему немудрено, что он был смущен: разве человек, который едва ли не с самого рождения был неволен в своих действиях, может вообразить, что его волю исполнят и после его смерти? Разве тот, кто никогда не имел ничего своего, способен представить, что и покоясь в могиле он продолжит владеть своими новыми землями? Со своей стороны я отнюдь не думаю, что удивление Эндрю свидетельствовало о каком-то необыкновенном его невежестве: просто он находился в положении актера, которого вводят в новую сцену, и должно пройти некоторое время, прежде чем он свыкнется с уготованной ему ролью. Вскоре нам удалось просветить его и ввести в те таинства, которые нам, природным американцам, слишком хорошо известны. Итак, пройдя посвящение в таинство, наш честный Эндрю обрел все причитающиеся ему общественные преимущества: он сделался свободным землепользователем, гражданином Пенсильвании, обладающим правом голоса и постоянным местом жительства. Его мечты, которые он издавна лелеял на своем острове, его планы, которые он строил на далекое будущее, готовы были вот-вот сбыться, и потому мы можем легко простить ему несколько вырвавшихся из глубины его души восклицаний, которые здесь нет нужды повторять. Сию краткую повесть рассказывать нетрудно, и нам не потребуется много слов, чтобы описать внезапную перемену в положении Эндрю, но сам он долго не мог с нею свыкнуться, и прошло более недели, прежде чем он окончательно поверил, что может стать владельцем земли, не заплатив за нее ни цента. Вскоре он начал готовиться к переезду; я одолжил ему бочонок свинины и 200 фунтов муки, а также заставил купить все необходимое. Наконец он отправился на место и снял комнату у одного фермера неподалеку от своего участка. Прежде всего ему нужно было расчистить несколько акров земли на болоте, дабы запастись на следующую зиму сеном для коров и двух его лошадей. В первый же день он взялся за работу и трудился не покладая рук; благодаря своей честности он приобрел много друзей, а его трудолюбие снискало ему уважение в глазах соседей. Один из них предложил Эндрю два акра расчищенной земли, на которых он в тот же год смог посадить кукурузу, тыкву, кабачки и немного картофеля. Удивительно, с какою быстротою человек всему научается, когда работает на самого себя! Уже через два месяца я с радостью увидел, что он уверенно держит плуг, который тащит пара лошадей, и ведет довольно прямые борозды. Итак, землекоп с острова Барра стал американским землепашцем. «Молодцом, Эндрю, молодцом, — сказал я ему. — Вижу, что сам господь ускоряет и направляет труды ваши; вижу, что своим плугом вы уже расчертили на поле чертеж будущего процветания. Теперь остается только бережно и рачительно собрать урожай, и вы сделаетесь мастером нашего дела». Поскольку тем летом он был избавлен от хлопот с жатвою и сенокосом, я сказал ему, что пора строить дом на его участке и что с этой целью я сам созову всех соседей как на праздник, и за один день мы поставим стены просторного жилища и расчистим какое-нибудь место повыше. В назначенный срок старый приятель Эндрю, мистер А. В., явился к нему со всеми своими работниками и с полными корзинами провизии; я сделал то же самое. Всего на участке собралось человек сорок; мы разбились на группы и с песнями и веселыми шутками принялись за работу: одни валили деревья, другие обрубали ветки и кусты и стаскивали их в кучи, третьи на своих упряжках подвозили большие бревна к площадке, выбранной Эндрю для постройки. Мы все пообедали в лесу, а после обеда возвели стены из бревен, пользуясь подпорками и другими обыкновенными приспособлениями. Таким образом, к вечеру был готов грубый сруб, а два акра земли полностью очищены от леса и кустарника. В то время как производились сии различные работы, Эндрю слонялся без дела, будучи совершенно не в состоянии приложить к чему-нибудь руку. Для него это был самый святой праздник в жизни, и он совершил бы страшное кощунство, осквернив его физическим трудом. Бедняга, он отмечал священный день своею радостию, изъявлениями благодарности и честными возлияниями — он переходил от одного к другому с бутылкой в руке, уговаривая всех выпить с ним и то и дело прикладываясь к горлышку, дабы показать благой пример. С утра до вечера он занимался только тем, что расточал улыбки, смеялся и односложно отвечал на вопросы. Его жена и сын тоже находились здесь, но поскольку они не знали языка, то, должно быть, получали удовольствие лишь от картин, которые рисовало их воображение. Никакой могущественный лорд или богатый купец при виде роскошного дворца, для него построенного, никогда не чувствовал и половины той радости и неподдельного счастия, которые переполнили и умилили сердце нашего честного шотландца, хотя его новый дом, воздвигнутый среди лесов, являл собою не что иное, как квадратный остов из двадцати четырех толстенных бревен, вставленных на углах одно в другое. Когда работы были закончены, лес огласился нашим троекратным «ура» и искренними пожеланиями будущего процветания, обращенными к Эндрю. В ответ он не смог вымолвить ни слова и только со слезами благодарности на глазах пожал каждому руку. Итак, свершилось важнейшее событие, к коему вел путь Эндрю с самых первых его шагов по американской земле; настал незабвенный день, когда солнце осветило поля, на которых он посеет пшеницу и другие злаки. Перед дверью его дома расстилались расчищенные им земли; повсюду округ были разбросаны семена, которые обещали со временем принести ему хлеб, молоко и мясо. Вскоре он нанял плотника, и тот покрыл крышу и настелил полы; еще через неделю мастера славно оштукатурили стены и сложили очаг. Переехав в новый дом, Эндрю купил пару коров — они паслись в лесу, где хватало корма и для них, и для свиней. В первый год Эндрю с сыном посеяли три бушеля пшеницы, а пожали 91 бушель с половиною — по моему наказу он завел точный учет собранного урожая. Его первый урожай кукурузы был бы не хуже, когда б не белки, оказавшиеся грозными врагами, которых не напугал и знаменитый палаш. Через четыре года я составил полную опись зерна в закромах у нашего шотландца, и посылаю ее Вам. Вскоре после сего за фермой Эндрю, которая прежде была последней на дороге перед дикой чащей, появились новые поселенцы, так что с годами его окружило многочисленное общество. Он помогал другим столь же великодушно, сколь другие когда-то помогли ему самому, и мне не раз доводилось сиживать у него за столом вместе с несколькими его соседями. На второй год его назначили попечителем дорог и дважды вызывали присяжным заседателем по каким-то мелким тяжбам; свой гражданский долг он выполнил с честью. Никакой биограф великого принца или полководца, живописуя победу своего героя, проведшего успешную кампанию, не может и вполовину испытать ту сердечную радость, с которой я подвожу моего Эндрю к его нынешнему положению человека, обладающего независимостью и достатком — двумя благословенными дарами, кои далеко не всегда дают военные триумфы и почести. Он не обременен ни долгами, ни повинностями, ни рентами, ни прочими податями, тогда как за победу в сражении и лавры триумфатора приходится платить самой дорогой ценою, приводящей всякого трезво мыслящего гражданина в трепет и ужас. К сему письму я прилагаю подлинный финансовый отчет, из коего Вы легко составите представление о том, какое счастливое действие постоянно производят в нашей стране умеренность и трудолюбие, когда к ним присовокупляется хорошая земля и свобода. Собственность, приобретенная трудами Эндрю и его сына за четыре года, составляет в пенсильванских долларах:
ПИСЬМО IV
ОПИСАНИЕ ОСТРОВА НАНТАКЕТ, С НРАВАМИ, ОБЫЧАЯМИ,
ПОВЕДЕНИЕМ И ЗАНЯТИЯМИ ЕГО ЖИТЕЛЕЙ
Мы сделаем величайший комплимент наилучшим королям, мудрейшим министрам и самым патриотичным властителям, если скажем, что исправление политических злоупотреблений и счастие народа суть первейшие предметы их внимания. Увы! Сколь неприятно должно быть трудиться над сими преобразованиями, сколь страшно даже о них подумать, ибо мы не слышим ни о каком улучшении; напротив, многочисленные эмигранты из Пиропы, ежегодно прибывающие сюда, сообщают нам, что жестокость налогов, несправедливость законов, тирания богачей и тягостная алчность церкви так же невыносимы, как и прежде. Неужели сим бедствиям не будет конца? Разве великие правители земли не боятся постепенно потерять самых полезных своих подданных? Наша страна, коей само провидение назначило стать убежищем для всего мира, будет процветать вследствие угнетения других народов; они будут каждый день все больше узнавать о счастии, коим мы наслаждаемся, и искать способов перебраться сюда вопреки всем препятствиям и законам. С какою же целью столько полезных книг и божественных заветов перешло нам по наследству от прошлых веков? Неужели все они напрасны, все бесполезны? Неужели человеку суждено вечно быть игрушкою немногих, а его многочисленным ранам никогда не зажить? Сколь счастливы мы здесь, ибо избежали невзгод, преследовавших отцов наших; как благодарны должны быть за то, что они взрастили нас в стране, где трезвость и трудолюбие всегда с лихвой вознаграждаются! Вы, без сомнения, прочитали множество историй нашего континента, но в них оставлены без внимания тысячи фактов и тысячи объяснений. Авторы, конечно, дадут Вам сведения по географии Америки, познакомят Вас с историей различных поселений, с основанием наших городов, с духом разных хартий и т. д., но они не раскроют в достаточной степени гений народа, различные его обычаи, способы земледелия, многочисленные источники, посредством коих трудолюбивые люди могут добиться удобной и приятной жизни. Даже те немногие из сих писателей, которые здесь жили, не посетили всех частей страны и не изучили со всем тщанием природу и принципы нашего сообщества. Глубоко вникнуть в обстоятельства и характер жителей от Новой Шотландии до Флориды — задача, достойная истинно спекулятивного ума; и история едва ли может дать предмет, более приятный для созерцания. Сознавая свою неспособность провести Вас по столь обширному лабиринту, я прошу Вас вместе со мной внимательно всмотреться в какой-либо незаметный уголок; но куда же нам направиться в поисках оного? Великое множество поселений, отличающихся каждое своими особенностями, попадаются везде и всюду, и в любом из них, по-видимому, осуществляются самые радужные надежды, какие только может лелеять добрый человек, пекущийся о счастии рода человеческого. Здесь, на самом изобильном побережье в мире, живут ловлей рыбы; там, на берегах больших рек, рубят лес на мачты и жилища; одни распиливают бесчисленные бревна на превосходные доски; другие обрабатывают землю, откармливают скот и расчищают обширные поля. Я, однако, имею в виду место, где не занимаются ни одним из сих промыслов, но которое, надеюсь, вознаградит нас за труды, которые мы возьмем на себя, дабы его изучить, и хотя его почва бесплодна, размеры незначительны, положение неблагоприятно, хотя оно лишено материалов, необходимых для постройки домов, кажется, будто оно заселено лишь с целью доказать, на что способен человек под властию хорошего правительства! Здесь Вы увидите усилия и успехи трудолюбия, примеры прирожденной мудрости, лишенной помощи науки, богатые плоды разумной настойчивости. Всякий раз, когда я обозреваю составные части сего исполинского целого и вижу, что труды его жителей щедро вознаграждаются природой, что они, преодолев первые трудности, живут в довольстве и покое, передавая потомству то изобилие, которое им самим досталось по праву, я чувствую, как меня охватывает освежающая бодрость. Однако если своим благоденствием они обязаны лишь благоприятному климату и плодородной почве, я, разумеется, разделяю их радость, но не задерживаюсь с ними надолго, ибо не усматриваю в их жизни ничего замечательного и удивительного. Напротив, встречая обильно унавоженные пустоши, траву, произрастающую там, где прежде не росло ничего; зерно, собранное с полей, поросших до того одной лишь куманикой; жилища, возведенные в местах, где не найти никаких строительных материалов; богатство, приобретенное самым необыкновенным способом, — я останавливаюсь и предаюсь своему излюбленному умозрению. Первых я покидаю безо всякого сожаления — пусть наслаждаются ароматом своих полей и плодородных равнин, но охотно стремлюсь туда, где было преодолено столько трудностей, где исключительные усилия произвели исключительные следствия и где все природные препятствия устранены неутомимым трудолюбием. Я не буду пересказывать Вам анналы острова Нантакет; у его жителей нет анналов, ибо они не могут похвастать воинской доблестью. Я хочу всего лишь проследить их путь, начиная с прибытия на остров до сего часа; хочу разузнать, каким образом они, имея вначале нить самые скромные, незначительные средства, добились нынешней свободы и богатства, и дать Вам некоторое понятие об их обычаях, нравах, религии, общественном устройстве и образе жизни. Эта счастливая колония, в отличие от многих других, основана не насилием и кровопролитием, не огнем и мечом завоевателей; она возникла вследствие необходимости, с одной стороны, и доброй воли — с другой; и с самого начала являла собою зрелище ничем не нарушаемой гармонии. Политические и религиозные разногласия, распри с туземцами или какие-либо иные раздоры ни в малейшей степени не смущали и не тревожили сие обособленное сообщество. Однако первые его основатели ничего не знали ни о Ликурге{233}, ни о Солоне{234}, ибо сия колония не была делом рук выдающихся мужей или могущественных законодателей, преобразующих природу соединенными усилиями всех искусств и наук. Это необыкновенное поселение возникло благодаря прирожденному трудолюбию и настойчивости, свойственным всем людям, когда их защищает правительство, требующее совсем немного за сию защиту, когда они подчиняются разумным законам, основанным на полной свободе. Терпимость и гуманность такого правительства непременно вселяет в человека уверенность, которая служит источником самых смелых начинаний и постоянных успехов. Поверите ли Вы, что песчаная пустошь площадью около 23 тысяч акров, лишенная камня, леса, лугов и пахотных земель, может похвастать красивым городом с более чем пятью сотнями домов, жители коего имеют свыше 200 кораблей с командою в 2000 моряков; держат более 15 тысяч овец, 500 коров, 200 лошадей, и среди них имеется несколько граждан, обладающих состоянием в 20 тысяч фунтов стерлингов! Однако все сии факты неопровержимы. Можно ли вообразить, что нашлись смельчаки, которые решились покинуть обширный плодородный континент с богатейшей растительностью, хорошей почвой, цветущими лугами, тучными пастбищами, всеми сортами леса и всем прочим, что нужно для удобной и счастливой жизни, и отправиться на маленькую песчаную отмель, коей природа отказала в своих дарах; которые поселились там, где не найдешь даже деревца, чтобы оно своими почками возвещало наступление весны и предупреждало листопадом, что близится зима? Если бы сей остров был расположен невдалеке от берегов какой-либо древней монархии, на нем обитала бы лишь горсточка жалких рыбаков, которые, сгибаясь под бременем нищеты, едва могли бы купить или построить утлые рыбацкие суденышки и всегда жили бы под страхом высоких налогов или каторжной службы на военных кораблях. Вместо смелых предприятий, коими славятся жители нашего острова, они боязливо ограничивались бы самыми пустячными попытками; боясь выходить далеко в море, они никогда не преодолели бы своих первых затруднений. На нашем острове, напротив, живет пять тысяч отважных людей, которые смело добывают богатство из окружающей стихии и которых бесплодие почвы заставляет искать средства к существованию вдали от родного берега. Из этих фактов не следует делать вывод, будто им были дарованы исключительные привилегии и королевские хартии или что на заре своей жизни их селение пользовалось какими-либо особенными льготами. Нет, свобода, мастерство, честность и настойчивость помогли им добиться всего и постепенно подняться до положения, которое они занимают ныне. Я льщу себя надеждою, что сей первоначальный очерк оправдает мое пристрастие к острову. Быть может, Вы не знаете, что по соседству с полуостровом Кейп-Код вообще существует таковой. То, что произошло там, происходило и будет происходить повсюду. Щедро вознаградите людей за их трудолюбие, позвольте им пожинать плоды трудов своих под мирною сенью виноградных лоз и смоковниц; не стесняйте порывы их природного духа, дабы он резвился на воле, словно прекрасный ручей, не скованный запрудами, и тогда сии люди удобрят даже песок, по коему они ступают, а ручей превратится в судоходную реку, несущую изобилие и радость всем тем краям, по которым она свободно течет. Пусть жители нашего острова и не прославились как земледельцы, ведущие борозды по благоуханным долинам, но зато они бороздят бурный океан и с геркулесовым трудом собирают жатву на его необъятных просторах; они преследуют и ловят ту огромную рыбу, которая своею быстротою и силою кажется недосягаемой для человека. На нашем острове нет ничего, достойного внимания, кроме его обитателей; здесь Вы не встретите ни древних памятников, ни просторных залов, ни величественных храмов, ни изысканных жилищ; здесь нет ни крепости, ни укреплений, нет даже батареи, чьи выстрелы гремели бы по случаю каких-либо торжеств. Что до сельских построек островитян, то они принадлежат к числу самых простых и полезных. Остров Нантакет лежит{235} на широте 41°10′, в шестидесяти милях южнее Кейп-Кода, в двадцати семи милях севернее Хайанниса или Барнстэбла, города в ближайшей к нему части великого полуострова, в двадцати одной миле на юго-восток от мыса Подж на острове Винъярд, в пятидесяти милях от Вудс-Хола на острове Элизабет, в восьмидесяти южнее Бостона, в ста двадцати от Род-Айленда и восьмистах милях севернее Бермудских островов. Шерборн — единственный город на острове; в нем насчитывается около 530 домов, деревянные каркасы которых были доставлены с материка; внутри они отделаны рейками и оштукатурены, а снаружи обиты досками и красиво выкрашены; под каждым вырыт погреб, обложенный камнем, тоже привезенным с материка; все дома имеют единообразный вид и устройство: они просты и совершенно лишены наружных и внутренних украшений. Я заметил всего один кирпичный дом; он принадлежит мистеру X., но, как и все прочие, ничем не украшен. Город стоит на высоком песчаном берегу в западной части гавани, которая прекрасно защищена от всех ветров. Имеется два молитвенных дома; один принадлежит Обществу друзей, второй — пресвитерианам, а посреди города близ рыночной площади стоит простое здание, где находится суд города. Разрастаясь, город все дальше продвигается в глубь острова; он окружен небольшими полями и огородами, которые ежегодно удобряют коровьим навозом и городскими нечистотами. На улицах и в других местах имеется довольно много грушевых и вишневых деревьев. Яблони здесь растут плохо, и оттого их сажают мало. Гор на острове нет, но местность очень неровная, а пригорки и возвышенности, которыми он изобилует, образовали во многих долинах разнообразные болота, густо поросшие характерными для такой почвы травами и кустарником. Некоторые болота богаты торфом, который служит беднякам вместо дров. На острове четырнадцать озер: все они очень полезны; одни расположены поперек острова, почти от одного берега до другого, что помогает разделить его на участки выпаса скота; другие изобилуют особливыми видами рыбы и морской птицы. Улицы не замощены, но это не вызывает неудобств, так как на них никогда не собирается много сельских повозок, а те, что принадлежат горожанам, используются по большей части лишь в дни прибытия или выхода в море их судов. Когда я впервые высадился на острове, меня чрезвычайно поразил какой-то неприятный запах во многих частях города; он исходит от китового жира, и избавиться от него невозможно; свойственная жителям опрятность не способна ни истребить его, ни помешать его распространению. Возле верфи размещается множество больших складов, где хранится главный предмет торговли островитян, а также все необходимое для починки и оснастки столь большого числа китобойных судов. Имеется три причала, каждый длиною в триста футов и весьма удобный: глубина воды у них достигает десяти футов. Сии причалы, наподобие бостонских, построены из бревен, привезенных с материка, наполнены камнями и покрыты песком. Между причалами и городом остается достаточно места для выгрузки товаров и проезда многочисленных повозок — свою повозку имеет почти каждый гражданин. Верфи, построенные тем же способом, что и причалы, расположены к северу и югу от оных; по ним путешественник, впервые высаживающийся на остров, может немедленно составить впечатление о богатстве его жителей. В гавани достаточно места для стоянки трехсот судов. Наблюдая шум и суету, царящие здесь в течение нескольких суток по прибытии кораблей, груженных богатою добычей, Вы можете подумать, что Шерборн есть столица весьма зажиточной и обширной провинции. На той оконечности суши, которая образует западную часть гавани, стоит очень красивый маяк; противуположный мыс, называемый Куату, защищает гавань от наиболее опасных ветров. Близ города очень мало садов и обработанных нив, ибо нет ничего бесплоднее сей части острова; однако жители, с неутомимым упорством вывозя туда навоз и выгоняя на пастьбу коров, удобрили много участков, где и выращивают маис, картофель, тыкву, репу и т. д. На самом высоком месте сих песчаных холмов четыре мельницы мелют зерно, которое выращивается на вывоз; а рядом виднеется канатный двор, где производят добрую половину снастей. Меж берегами гавани, принайми и городом находится великолепный луг, огороженный и унавоженный с такими затратами и с таким старанием, словно жители задались целью показать, сколь необходима и драгоценна трава на острове Нантакет. По направлению к мысу Шема местность ровнее и почва лучше; там расположены довольно большие участки земли, обнесенные прочными изгородями и обильно унавоженные; их ежегодно засевают зерном. Ферм на острове очень мало, ибо там слишком мало земель, которые можно обрабатывать без навоза и иных удобрений, а доставка их с материка обходится очень дорого. В 1671 году двадцать семь человек получили право по владение сим островом от провинции Нью-Йорк, которая в то время почитала своею собственностью все острова от Ньюуэй-Синк до полуострова Кейп-Код. Эти люди сочли остров настолько бесплодным и непригодным для обработки, что единодушно согласились его не делить, ибо никто не смог бы в одиночку возделать юг участок земли, который выпадет на его долю. Тогда они обратили свой взор к морю, и, убедившись, что им придется стать рыбаками, отправились на поиски подходящего места для гавани, а, отыскав таковое, решили выстроить близ него город и поселиться там всем вместе. По сей причине они размежевали столько земли, сколько потребно одной семье, чтобы построить себе дом и обработать прилегающий к нему участок. Они сочни, что для сей двойной цели достаточно сорока акров, ибо зачем домогаться большего количества земли, нежели то, какое можно обработать или даже просто огородить, когда во всех их новых владениях нет ни единого деревца. Это была вся земельная собственность, которую они отвели себе в единоличное владение; остальной же скудною землею они решили пользоваться сообща и, увидев, что она пригодна для выпаса овец, согласились в том, что каждый — буде он того пожелает — имеет право держать отару в 560 голов. По условиям сего договора общее стадо не должно было превышать 15 120 овец; иными словами, не подлежащая разделу часть острова мысленно делилась на столько-то частей или долей, размер коих, однако, никак не оговаривался, ибо никто не знал, сколько всего на острове земли, и даже самый искусный землемер не смог бы оценить качество и размеры столь маленьких участков. Далее они согласились в том, что ежели сеяная трава станет расти лучше дикой, то четырех овец следует приравнять к одной корове, а двух коров к одной лошади; таков был способ, к коему сип мудрые люди прибегли, чтобы сообща пользоваться своими новыми владениями; такова была основа их первого уложения, которое поистине и в полном смысле сего слова можно назвать пасторалиею. С тех пор от сего общинного пастбища было отрезано несколько сот земельных участков, которые ныне возделываются; а остаток при дележе наследства или заключении браков раздробили на столь мелкие доли, что теперь девушка, выходя замуж, обыкновенно получает в приданое лишь пастбище для четырех овец или одной коровы. Однако ж подобная привилегия основана не только на идеальном, но и реальном праве, ибо подразумевает владение какою-то частью пастбища, которая пока еще не определена, но может быть точно установлена в будущем, и потому, как Вы легко вообразите, обладать законным правом на свою часть пастбища куда более почтенно и выгодно, нежели иметь право пускать свою корову на общественный выгон. Между тем, поскольку рабочая сила постепенно дешевеет, а морские экспедиции могут окончиться неудачей, каждый человек, обладающий достаточным числом вышеописанных прав на пастбища для овец, может в один прекрасный день ими воспользоваться и получить надел земли, который совет владельцев сочтет соответствующим их стоимости, и по сей причине местные жители весьма неохотно продают свои мелкие участки и ценят их выше, чем Вы могли бы себе представить. Они являют собою будущий фригольд; они внушают собственнику тайную, хотя и далекую надежду, что удача в следующем китобойном сезоне позволит ему выбрать какой-нибудь заветный клочок земли и построить себе дом, куда он смог бы удалиться, с тем чтобы мирно и покойно провести там остаток своих дней. На острове всегда существует совет владельцев; его назначение — решать земельные споры; в книги графства, которое представляет город, записаны права на владение землей, а также все сделки, связанные с их передачей или продажей. Натуралист не найдет на острове почти ничего достойного внимания; по-видимому, он представляет собою неровную вершину подводной песчаной горы, кое-где поросшую щавелем, травою, можжевельником и карликовым дубом; болота более ценны содержащимся в их глубине торфом, нежели скудными пастбищами на их поверхности; склоны, спускающиеся к морю, изобилуют морской травой — кормом не слишком сытным, если ее скосить и высушить, но весьма полезным, когда она на корню. На восточной стороне острова много травянистых солончаков; если их обнести крепкими изгородями, они дают значительное количество питательного корма. Среди множества озер и прудов, коими изобилует остров, имеются такие, которые образовались вследствие морских приливов, например, Вивидиа, Длинное, Узкое и многие другие; одни из них соленые, другие пресные. Первые отвечают двум важным целям: прежде всего они облегчают огораживание земли; при особенно сильных приливах в них попадает много рыбы, которая там питается и растет. В определенное время года жители собираются и разгребают песок, нанесенный волнами. Таким простым способом воду из прудов спускают в море, а когда рыба устремляется в свою родную стихию, ее без всяких хлопот вылавливают сетями. Более всего распространены окунь, пеламида, морской окунь, макрель, сельдь, камбала, угорь и т. д. Ловля рыбы — одно из главных развлечений на острове. В западной его оконечности расположена гавань Мардикет, образованная мысом Смит на юго-западе, мысом Угрей на севере и островом Такернат на северо-западе, но она менее безопасна и не имеет таких хороших причалов, как гавань, возле которой стоит город. В сию гавань втекают три ручейка, в которых водятся самые горькие угри, каких мне когда-либо доводилось пробовать. Между местностью Палпус на востоке, долиной Бэрри и прудом Майакомет на юге, а также прудом на западе, близ мыса Шема, имеется большой участок ровной земли, наименее песчаной и самой плодородной на острове. Она разделена на семь полей, каждое из коих засевается той частью общины, которой принадлежит право на него. Они называются общинными плантациями и являют собою простое, но полезное устройство — ведь если бы каждый владелец земли на них огораживал свой участок, потребовалось бы огромное количество столбов и перекладин, которые, чего не следует забывать, нужно купить и привезти с материка. А так участки объединяются, и изгородь ставится только вокруг всего поля за общий счет. Поскольку владельцы участков вольны распоряжаться ими по собственному усмотрению, они образуют лишь некую видимость общины, но и это сберегает им много денег и сил, а также, вероятно, побуждает их состязаться друг с другом в том, кто тщательнее и ревнивее утучню свою землю. Каждые семь лет сии плантации обрабатываются, унавоживаются и распахиваются, после чего их используют как превосходнейшее пастбище, куда городской пастух ежедневно выгоняет стадо коров числом пятьсот, и вечером приводит их обратно в город, Каждая корова легко находит свой дом, где ее щедро награждают за молоко отрубями, зерном или какой-либо мучною смесью, коими славятся здешние хозяйки. Сие пастбище носит название Тетукема. Не следует думать, что каждый житель острова либо владеет землей, либо занят сельскими работами, нет, большая их часть уходит в море, где усердно занимается рыболовством; другие же просто приезжие, которые хотят трудиться в качестве ремесленников, механиков и т. п., и даже из числа местных жителей лишь немногие владеют определенными участками земли: занятые морским промыслом, они удовлетворяются несколькими пастбищами для овец, благодаря коим могут держать одну или две коровы. У многих имеется лишь одна корова, ибо вследствие многодетности им приходится делить первоначальные владения на столь мелкие доли, что иногда очень трудно определить, кому что причитается, а те, кто особенно преуспел в море, скупают большую часть сих исконных прав на владение пастбищами. Лучшая земля на острове находится возле Палпуса, который известен только своим трактиром. Куэйс — небольшой, но ценный участок, давно приобретенный мистером Коффинном, который построил здесь лучший дом на всем острове. Благодаря длительным усилиям, близости к морю и т. д. сей плодородный участок был хорошо унавожен и ныне являет собою Нантакетский сад. На западной стороне к нему примыкает небольшой ручей, на котором построена сукновальная машина; на восточной имеется участок, известный под названием Сквом, также орошаемый маленькой речкой, на которой стоит вторая сукновальная машина. Здесь, на хорошей суглинистой почве, растет великолепный клевер, который косят два раза в год. Упомянутые мною машины производят все местное сукно; нетрудно себе представить, что, имея такое большое стадо овец, островитяне не нуждаются в шерсти; часть ее они вывозят, а часть оставляют на пряжу своим трудолюбивым женам, которые изготовляют из нее добротную одежду. Обширная юго-восточная часть острова, сама собою огороженная, называется Сайасконсет. Это неровная болотистая местность, куда жителивыгоняют своих мясных коров, то есть тех, которых хотят откормить, чтобы заготовить мясо на зиму. У сей чисти побережья, возле Почик-Рип, ловится самая ценная рыба — морской окунь, треска, корюшка, окунь, сельдь, щука и т. д. На берегу, а также на Санкате-Хед и Саффакэчи-Бич выстроено несколько хижин, где во время рыболовного сезона живут рыбаки. На полуострове Куату растет много кустов виргинского можжевельника и морской травы; почва здесь легкая и песчаная и служит убежищем для кроликов. Во время зимних метелей здесь укрываются овцы. На северной оконечности Нантакета имеется длинная коса, выдающаяся далеко в море; она называется Сэнди-Пойнт; на ней не растет ничего, кроме травы; здесь часто ловят дельфинов и акул очень хитроумным способом. Весною сюда обыкновенно выгоняют лошадей, чтобы они попаслись на свежей травке, ибо она очень быстро высыхает. Между косой и самим островом имеется ценный солончаковый луг, называемый Кроскэти, с прудом того же названия, который славится черными утками. Отсюда мы вернемся на Сквом, который изобилует клевером и тимофеевкой; его владельцы не занимаются никаким морским промыслом и потому всячески стараются сделать его плодородным и приносящим прибыль. Остальная часть острова открыта всем и служит общинным пастбищем для овец. К западу от Нантакета лежит остров Такернат, куда весною выгоняют пастись молодняк; там имеется несколько карликовых дубов и два пресных пруда, изобилующих чирками, казарками и множеством другой морской птицы, привлеченной на остров близостью песчаных отмелей, где во время отлива они кормятся тысячами. Здесь нет ни лисиц, ни волков, и потому островитяне, живущие за городом, могут спокойно держать сколько угодно птицы, в том числе крупных великолепных индеек. Летом местный климат весьма приятен; солнце не печет так сильно, как на континенте, ибо жару смягчают морские бризы, постоянно освежающие воздух. Зимой, однако, жители дорогой ценой расплачиваются за сии преимущества; здесь очень холодно; северо-западный ветер, тиран острова, покинув наши леса и горы и не встречая па своем коротком пути никаких препятствий, с удвоенною силой налетает на него, делая все вокруг унылым и неуютным. С другой стороны, добротные дома, гостеприимные очаги и доброжелательство жителей с лихвой вознаграждают их за суровость зимы, а снег здесь так глубок, как на материке. Необходимая и неизбежная бездеятельность сего времени года, объединившись с зимнею спячкой природы, заставляет людей умерить свои труды; зимой более половины жителей часто уходит на рыбную ловлю в более теплые моря. Как мы уже замечали выше, сей остров кажется вершиной какой-то огромной песчаной горы, предоставившей людям несколько акров для жилья; другие подводные горы лежат к югу от первой, на разных расстояниях и на разных глубинах. Сия опасная область хорошо известна под Названием Нантакетские отмели; подобно несокрушимым бастионам, они надежно защищают остров от мощного океана и отражают все атаки бурных волн, которые, не будь сих многочисленных препятствий, давно уже размыли бы его основание и разорвали его на куски. Сии песчаные наносы давали пропитание первым жителям Нантакета; именно здесь, на мелководье, они почерпнули своими сетями источник их нынешнего богатства; именно здесь они прошли хорошую школу, где научились уходить вслед за рыбой все дальше и дальше от земли. Берега острова изобилуют чрезвычайно питательными моллюсками как с мягким, так и с твердым панцирем и большими ракообразными. Ими усыпаны все пески и отмели; они размножаются так быстро, что никогда не переводятся, и вместе с разнообразною рыбою составляют главную пищу местных жителей. Всем этим питались и аборигены, которых встретили здесь первые поселенцы и потомки которых до сих пор живут в хороших домах по берегам озера Майакомет на южной стороне острова. Это трудолюбивые люди, столь же искусные к мореходству, как и их белые соседи. Задолго до появления последних они постоянно воевали друг с другом; европейцы же принесли им мир: ведь именно в поисках мира они покинули континент. В то время остров подлежал юрисдикции провинции Нью-Йорк, подобно островам Винъярд, Элизабет и др., но позже был признан частью провинции Массачусетс. Перемена юрисдикции дала жителям мир, в коем они так нуждались и в коем во времена религиозного безумия столь долго отказывали им их братья: таким образом, религиозное исступление и преследования как и Европе, так и в Америке стали побудительною причиной самых смелых предприятий и средством быстрого заселения сего обширного морского побережья. Остров, включенный с той поры в состав соседней провинции, стал одним из ее графств, известным под названием Нантакет, подобно острову Винъярд, ставшему графством Дакс. Здесь существует такое же муниципальное управление, как и в остальных графствах и, следовательно, имеются все необходимые чиновники: шериф, мировой судья, начальники управ, сборщики налогов, попечитель по призрению бедных и т. д. Налоги на острове соразмерны налогам на материке и взимаются тем же порядком: размер постоянной подати определяется согласно законам провинции, а размер подати переменной зависит от оценки имущества, производимой сборщиками налогов — чиновниками, которые каждый год избираются жителями и при вступлении в должность приносят клятву или присягают на Библии. Две трети местных судей принадлежат к Обществу друзей{236}. Прежде чем входить в дальнейшие подробности здешнего управления, промышленности, образа жизни и т. д., я почитаю своим долгом дать Вам краткий очерк политического состояния туземцев, в коем они находились за несколько лет до прибытия на остров белых. Они быстро приближаются к полному вымиранию, и сие, быть может, последний комплимент, который им когда-либо сделает путешественник. Здесь их не истребляли обманом, насилием или несправедливостью, как то было во многих других провинциях; напротив, пришельцы обращались с ними как с братьями, ибо особливый дух этой секты вдохновил ее членов тою же умеренностью, какою они отличались в Пенсильвании. До появления европейцев аборигены жили рыбной ловлей у своих берегов, и первым поселенцам пришлось вначале черпать себе пропитание из того же источника. Неизвестно, было ли первоначальное право графа Стерлинга или герцога Йоркского{237} основано на честной покупке земли; но любая несправедливость, учиненная в сем отношении, не может быть поставлена в вину «Друзьям», лишь купившим право на свою землю у тех, кто, без всякого сомнения, получил ее от индейцев; и если число последних ныне столь заметно уменьшилось, сие обстоятельство не следует приписывать ни тирании, ни насилию, а лишь тем причинам, которые беспрерывно производят одинаковые следствия по всему континенту, везде и всюду, где бок о бок живут люди обеих рас. Сей незначительный островок, подобно побережью большого полуострова, некогда был густо населен индейцами; изобилие моллюсков, устриц и рыбы, которыми они питались и которых с легкостью ловили, невероятно увеличило их численность. История не дает нам сведений о том, к какому именно племени аборигенов принадлежали жители Нантакета; весьма возможно, однако, что они еще в древние времена переселились сюда с противоположного берега, быть может, из Хайанниса, который расположен всего в 27 милях от острова. Поскольку они всегда говорили на языке нейтиков{238}, логично предположить, что они состоят в родстве с оным племенем или что нейтики, подобно гуронам{239} в северо-западной части Американского континента, когда-то были самым могущественным народом в сих краях. Мистер Элиот{240}, выдающийся священник Новой Англии и один из первых основателей этой великой провинции, в 1666 г. перевел на язык нейтиков Библию, которая вскоре была напечатана в Кеймбридже близ Бостона; он перевел также Катехизис и много других полезных книг, до сих пор весьма популярных на острове, где по ним ежедневно обучают грамоте индейцев. В детстве европейцы овладевают сим языком с такою же легкостью, как и своим собственным, и потом бегло и свободно изъясняются на обоих. Никто, в том числе и сами индейцы, не может положительно утверждать, являют ли они собою потомков древних обитателей острова или остатки множества различных племен, некогда населявших области Мэшни и Нобскусет на полуострове, ныне известном под названием Кейп-Код. Последнего мнения, очевидно, придерживаются наиболее просвещенные жители острова. Склонность человека к ссорам и кровопролитию так сильна, он так привержен к раздорам и партиям, что даже древние обитатели сего клочка земли были разделены на две общины, столь же ожесточенно воевавшие друг с другом, как и более сильные племена на континенте. И как Вы думаете, в чем состояла причина сей междоусобицы? Все побережье их острова одинаково изобиловало рыбой и моллюсками, и здесь не могло быть ни зависти, ни причин для гнева; дичи на острове не водилось, и потому естественно предположить, что он должен был являть собою страну мира и согласия. Однако посмотрите на странную судьбу рода человеческого, во многих отношениях всегда уступающего инстинкту животных, у которых особи одного и того же вида всегда друзья; хотя они и выросли в разных краях, они объясняются на одном языке, не проливают кровь и не питаются мясом друг друга. Та часть сего примитивного народа, которая жила на восточном побережье острова, с незапамятных времен старалась истрепать жителей его западной стороны; сии последние, понуждаемые тем же злым духом, не отставали от них и своем мщении, и таким образом между ними вечно шла война, не имевшая иных причин, кроме случайного жребия, определившего каждому место рождения и жительства. С течением времени население обеих сторон настолько поредело, что те немногие, кому удалось уцелеть, опасаясь, что их племя совершенно вымрет, придумали средство, как предотвратить свою окончательную гибель. За несколько лет до появления европейцев они согласились провести с севера на юг линию, которая разделила бы остров на две части; жители запада обязались не убивать жителей востока, если те не станут переходить границу, а последние взяли на себя обратное обязательство. Столь простым способом они наконец достигли мира, и, пожалуй, только сие достижение дает им право называться людьми. Счастливое перемирие положило конец кровавым убийствам; с тех пор погибло лишь несколько безрассудных наглецов, и индейцы стали быстро плодиться и размножаться. Однако ж их подстерегала другая беда: от прибывших на остров европейцев они подхватили оспу, и сия болезнь, которую они не умели правильно лечить, унесла много жизней, а за сим пристрастились к рому. Оспа и ром — вот две главные причины столь значительного уменьшения их численности, не только здесь, но и по всему континенту. В некоторых местах вымерли целые племена. Несколько лет назад индейцы с трех каноэ, возвращавшихся в Детройт с Ниагарского водопада, заразились оспой от европейцев, с которыми они вели торговлю. Оспа застигла их у восточной оконечности озера Эри, где все они умерли; каноэ вместе с товарами были позже найдены какими-то путешественниками, которые ехали тем же путем; собаки погибших были еще живы. Кроме оспы и спиртных напитков — двух величайших проклятий, доставшихся индейцам от белых, — меж ими и нами существует некая физическая несовместимость, одинаково сильная на всех концах континента. Стоит им смешаться с европейцами или просто оказаться по соседству с ними, как они то и дело становятся жертвами всевозможных неудач и несчастий: они заболевают какими-то лихорадками, коих прежде совершенно не знали, и погружаются в странную праздность и лень. Сие неизменно случалось повсюду, где происходило подобное сближение — в Нейтике, Мэшпи, Саконасете, что близ Фалмута, Нобскусете, а также на Винъярде. Даже сами могавки{241}, некогда столь многочисленные и знаменитые своею доблестью воины, ныне насчитывают менее 200 человек, и поселения европейцев распространились на территории, которые оставили за собою их предки. За три года до прибытия европейцев на Кейп-Код страшный недуг унес множество жителей прибрежных селений, что значительно облегчило нашим предкам высадку и вторжение на полуостров. В 1763 году более половины нантакетских индейцев погибло от какой-то странной лихорадки, которой не заразился никто из лечивших их европейцев; сия раса, по-видимому, обречена на вымирание под натиском превосходящего гения европейцев. Изо всех древних обычаев в памяти индейцев сохранилось то, что при обмене одних предметов на другие стоимость сорока высушенных на солнце раковин, нанизанных на бечевку, приблизительно соответствует стоимости одной медной монеты. Они не знают употребления и стоимости вампума{242}, так хорошо известного индейцам на континенте. Сохранившиеся несколько семейств кротки и безобидны; от их былой свирепости не осталось и следа; их рано обратили в христианство миссионеры Новой Англии, Винъярда и других частей провинции Массачусетс, и они и по сей день строго соблюдают законы и правила этой религии, которым их обучают с детства. Оседлый образ жизни способствовал их приобщению к более высокой степени цивилизации, нежели та, какую они могли бы усвоить, оставаясь охотниками. Они превосходные моряки и очень любят море. От квакеров они переняли искусство ловить китов и треску, вследствие чего в команде вельбота всегда имеется пятеро индейцев. Многие перебрались на остров Нантакет с Винъярда, и от того здесь их больше, чем в других местах. Просто поразительно, какие перемены произошли с ними менее чем за двести лет! Что сталось с многочисленными племенами, некогда населявшими далеко протянувшееся побережье великого залива Массачусетс? Даже с племенами из Намкека (Салем){243}, Согуса (Линн), Шомута (Бостон), Патакета, Наусета (Милтон), Матапана (Дорчестер), Уинисимета (Челси), Пойассета, Поканокета (Новый Плимут), Саконасета (Фалмут), Титикута (Чисм), Нобскусета (Ярмут), Хайанниса (Барнстэбл) и со многими другими, населявшими побережье протяженностью свыше 300 миль, не говоря о тех могущественных народах, которые некогда жили между реками Гудзон, Коннектикут, Паскатакуак и Кенебек: о мехикаудрогах, мохиггенах, пекотах, наригансетах, ниантиках, миссачусетсах, вампаноагах, нипнетах, тарратинах и т. д.{244} — их уж нет, и вся память о них утрачена; бесследно сгинули те тьмы и тьмы, которые прежде населяли нашу страну и заполняли оба берега великого полуострова Кейп-Код; в живых не осталось даже ни единого потомка знаменитого Маскономео (вождь Кейл-Энн), ни одною отпрыска Массасойта, отца Метакомета (Филиппа) и Вансутты (Александра){245}, того, кто первым отдал Плимутской компании часть земель. Все они либо полегли в войнах, которые вели против них европейцы, либо, презренные и забытые, постепенно вымирали, собравшись в своих древних селениях; ныне от всех этих племен сохранился один лишь необыкновенный памятник, да и тем они обязаны трудолюбию и религиозному пылу европейцев — я имею в виду Библию, переведенную на язык нейгиков. Многие из них, отступив под натиском превосходящих сил белых, ушли в свои древние поселки, приютившие рассеянные остатки некогда многочисленных племен, и, отдавая европейцам земли, оставили за собой и своими потомками лишь кое-какие прилегающие к оным поселкам участки. Там, забыв свои древние обычаи, они жили в мире, но спустя несколько лет их территории были окружены возделанными угодьями европейцев, вследствие чего они обленились, стали бездеятельными, упрямыми и утратили способность перенимать наши ремесла; на протяжении жизни нескольких поколений индейцы либо совершенно вымерли, либо перебрались на Винъярд и в Нантакет, чтобы объединиться с теми общинами своих соплеменников, которые согласились их принять. Такая судьба постигла многие древние племена, некогда воинственные и независимые; индейцев, коих мы ныне видим на материке или на островах, можно со всей справедливостью почитать единственными остатками оных. Я желал бы, если мне будет позволено, сделать комплимент (быть может, совершенно бесполезный) хотя бы тем, кто жил на великом полуострове Намсет (ныне Кейп-Код) и чьи имена и положение в древности мне хорошо знакомы. Сей полуостров был разделен на две большие области: та, что находилась со стороны залива, была известна под названием Нобскусет, по имени одного из своих городов; столица ее называлась Наусет (ныне Истгэм), и оттого тамошних индейцев называли индейцами наусет, хотя жили они в селениях Памет, Носсет, Пэши, Потомакет, Соктувокет и Нобскусет (Ярмут). Область на берегу Атлантического океана называлась Мэшпи, и в ней жили племена хайаннис, костовет, вакуа, скутин, саконасет, мэшпи и намсет. Многие из сих индейских поселков позже превратились в цветущие европейские селения, известные ныне под другими именами; европейцы не могли сделать лучший выбор, ибо туземцы превосходно знали землю и к тому же обильно удобрили ее рыбной чешуею; хотя почти весь полуостров, за исключением нескольких плодоносных клочков земли, есть не что иное как огромная песчаная коса, поросшая сосной. Он разделен на семь приходов: Барнстэбл, Ярмут, Харвич, Чэтем, Истгэм, Памет и Намсет, или Провинстаун, на самой оконечности Кейп-Кода. Все они весьма густо заселены, хотя я никак не возьму в толк, чем, кроме моллюсков, устриц и рыбы, питаются тамошние жители; ведь почва их сосняков — самая неблагодарная в мире. Священник Провинстауна получает от правительства Массачусетса жалованье 50 фунтов в год; бедность же местных жителей столь велика, что глава каждой семьи, не имея возможности платить ему деньгами, должен давать ему двести рыб, коими сей простой священник утучняет церковную ниву, которую сам же и возделывает; без столь необыкновенного удобрения на их скудных землях ничего не растет, а 14 бушелей маиса почитается там хорошим урожаем. Пора, однако же, закончить сие отступление, каковое, надеюсь, Вы мне простите. Остров Нантакет есть великая колыбель матросов, лоцманов и рыбаков, промышляющих у берегов и на отмелях; он — часть провинции Массачусетс, и потому на нем ежегодно происходят сессии суда по гражданским делам, приговоры коего подлежат обжалованию в верховный суд Бостона. Я уже выше заметил, что две трети должностных лиц на острове — члены Общества друзей; следовательно, квакеры не только владеют его территорией, но и управляют его жителями; однако ж, хотя судебный механизм принуждения работает исправно, его очень редко приходится пускать в ход. Здесь мало кого подвергают штрафу или иному наказанию; местная тюрьма не внушает страха; никто еще не был лишен жизни по приговору суда с самого основания сего города, а тому уже более ста лет. Суровые трибуналы, публичные казни, унизительные наказания совершенно неизвестны. Я не видел ни губернаторов, ни парадных процессий, ни надутых чиновников, ни особ, разодетых с бесполезным великолепием; здесь нет искусственных гражданских и церковных церемониалов; на площадях не стоят виселицы, на которых болтаются преступники; солдатам не приказывают штыками принуждать сограждан к раболепному повиновению. Но как удается сохранить мир и покой в обществе, состоящем из пяти тысяч человек? Как удается защитить слабых от сильных? Я Вам скажу. Праздность и нищета, причины столь многих преступлений, здесь неизвестны; все стремятся честно извлечь из своего труда законную прибыль; оттого и на суше, и на море каждый час времени заполнен. Тем, кто надеется на разумную выгоду или на дружескую помощь в случае неудачи, нет нужды прибегать к безнравственным средствам. Простота нравов сокращает их потребности; закон, находящийся на почтительном расстоянии, всегда готов заступиться за того, кто нуждается в его защите. Большая часть жителей всегда в море; они бьют китов или ловят на отмелях треску; одни с величайшим старанием возделывают свои маленькие фермы; другие заняты различными ремеслами; некоторые озабочены приобретением всего необходимого для оснастки своих судов и для их починки в случае несчастья или же поисками будущих рынков сбыта. Таков круговорот различных дел, которыми до краев заполнены их дни, если они здоровы, бодры духом и сильны. Порок редко произрастает на голом песке, который не родит ничего без тяжкого труда. Присущие обществу безумства не могут укорениться на почве, столь бесплодной; они обыкновенно впитывают из земли ее избыточные соки, тогда как здесь она способна удовлетворить лишь самые полезные, необходимые и насущные потребности. Сия земля может дать либо здоровье, умеренность и равные возможности для всех, либо ужаснейшую нищету и страдания. Когда б сюда завезли нравы богатых стран, они, подобно эпидемии, разрушили бы все; большинство жителей не смогло бы просуществовать и месяца и вынуждено было бы эмигрировать. Как во всех обществах за исключением туземных, здесь тоже должна существовать разница между отдельными лицами; кто-то должен выделяться среди остальных своим богатством или дарованиями; в сем обществе тоже есть люди разных званий, которые можно назвать высоким, средним и низким; и сия разница всегда будет заметнее среди тех, кто живет морским промыслом, нежели среди земледельцев. Первые больше рискуют и больше ставят на карту; их образ жизни приносит им то прибыли, то убытки, порождающие такое неравенство, коего не могут знать последние, ибо равномерное распределение земли не сулит легкого пути к исключительному богатству. Единственными различиями меж собою земледельцы обязаны собственному трудолюбию и, быть может, особенностям возделываемых земель; отмеченные же мною различия у рыбаков зависят лишь от удачи или неудачи морских предприятий и отнюдь не проистекают из образования; ибо, одинаковое во всех классах, оно просто, полезно и, подобно одежде и домам, лишено всяких прикрас. Сия неизбежная разница в достатке не вызывает, однако, зависти, которая в других обществах порождает преступления. Море, которое их окружает, одинаково открыто для всех и предоставляет всем равные шансы на удачу. Сборщик налогов из Бостона — единственный королевский чиновник, который является на остров: он собирает с жителей необременительную дань, платя которую они отдают долг своим защитникам и попечителям, под сенью чьих крыл они бороздят моря во всех частях света.ПИСЬМО V
ОБЫЧНОЕ ВОСПИТАНИЕ
И ЗАНЯТИЯ ЖИТЕЛЕЙ НАНТАКЕТА
Самый простой способ познакомиться с образом мыслей, правилами поведения и господствующими нравами жителей какой-либо страны — изучить, какое воспитание дают они своим детям, как обращаются с ними дома и чему учат их в местах общественного богослужения. В своем дому дети с самого нежного возраста должны видеть, что родители их степенны, уравновешенны, хотя и не лишены веселости; их приучают к послушанию, которое не основано ни на мгновенных вспышках страстей, ни на легкомысленном удовольствии; их ласково ведут на шелковом поводке, соединяющем в себе мягкость и прочность. В большей части семей на острове царит ценнейшее спокойствие, и дурной пример едва ли может заронить в души детей семена будущих ошибок. Их недостатки исправляют снисходительно, их растят с любовною заботой, их одевают с той благопристойной простотою, от которой, как они видят, никогда не отступают их родители; короче говоря, отнюдь не нравоучения, а сила примера, способная сломить самый крепкий природный инстинкт, приучает их идти по стопам родителей и презирать напыщенность, как нечто греховное. Они приобретают вкус к опрятности, коей отличаются их родители; им внушают необходимость рассудительности и бережливости; и даже самый тон голоса, каким к ним обращаются, обучает их мягкости речи, которая навсегда входит у них в привычку. Рассудительные, трезвые, благонравные родители, любящие свое дело, постоянно занятые каким-либо полезным трудом, чуждые распутству, пьянству и всякой безнравственности, не могут не передать своим детям такие же добродетели и обычаи. Если им оставляют наследство, их учат, как его сберечь и пользоваться им достойно и умеренно; если они не получили и ничего, они знают, что предпринять, и умеют трудиться, как трудились их отцы. Если они потерпят неудачу, на сем острове (как и везде, где главенствует Общество друзей) всегда найдутся средства для помощи, основанной на самых благородных принципах. На молитвенных собраниях им внушают немногочисленные простые заповеди их секты, заповеди в такой же мере наставляющие в трезвости, трудолюбии, справедливости и милосердии, как и те, что провозглашаются в самых пышных церквах и соборах; их обучают первейшим обязанностям христианина — не оскорблять Творца злыми делами; страшиться гнева его и кары; молить его о справедливости и не терять веры в его милосердие. Подобно тому, как всякая секта, вследствие своих особливых способов богослужения и толкования некоторых частей Священного писания неизбежно имеет свои мнения и предрассудки, в какой-то мере определяющие ее положение в обществе, «Друзья» придерживаются своих, хорошо известных принципов: законопослушание, даже вплоть до непротивления; справедливость, доброжелательство ко всем; благорасположение к домашним, трезвость, смирение, опрятность, любовь к порядку, склонность и вкус к коммерции. На острове они замечательны этими добродетелями в той же мере, что и в Филадельфии — их американской колыбели и гордости их общества. В школах они обучаются чтению и каллиграфическому письму до двенадцати лет, после чего их обыкновенно определяют учиться бондарному ремеслу, каковое составляет вторую важнейшую отрасль тамошней промышленности; в четырнадцать лет они уже выходят в море, где в часы досуга товарищи преподают им искусство навигации, упражняться в коем они могут тут же на месте. Они постигают великую и полезную науку управлять судном при различных обстоятельствах, какие всегда могут возникнуть под воздействием моря и ветра, и, без сомнения, в целом свете не найдется более совершенной и полезной школы подобного рода. Им преподают все, что должно знать и уметь гребцу, рулевому и гарпунщику, и таким образом они научаются атаковать, преследовать, догонять, забивать и свежевать левиафанов; усовершенствовавшись в сем промысле после нескольких подобных экспедиций, они вполне могут занять место как за конторкой, так и на палубе. Первые владельцы острова, вернее, основатели сего города, начали с одного-единственного вельбота, на котором они ходили ловить треску. Поскольку места лова недалеко отстояли от берега, они вскоре смогли расширить свое предприятие, а первые успехи в оном деле натолкнули их на мысль, что подобным же образом можно охотиться и на китов, которые до тех пор безмятежно резвились у самого побережья. После многих неудачных попыток и поползновений им наконец удалось поймать одного кита, потом — другого, и так, шаг за шагом, они продвигались все дальше и дальше; прибыли от одного успешного предприятия они пускали на покупку лучшего снаряжения и кораблей для другого, более сложного; посему общие затраты их были невелики, а прибыть в итоге возрастала. Южное побережье острова по направлению с востока на запад было разделено на четыре равные части между четырьмя артелями, состоящими из шести человек каждая; хотя и отделенные от остальных, они вели дело сообща. Посередине участка артель ставила высокую мачту с перекладинами, а рядом строила временную хижину; пока пятеро спали, шестой, стоя на вышке, внимательно следил, не появятся ли в море фонтаны, какие выпускают киты. Завидев их, часовой слезал с мачты, вельбот спускали на воду, и вся артель отправлялась за добычей. Вам может показаться странным, что такое утлое суденышко, как американский вельбот, с шестью крошечными существами на борту, осмеливается преследовать и атаковать самую большую и сильную рыбу, какую создала Природа, в ее родной стихии. Однако благодаря замечательной ловкости, еще более усовершенствованною долгою практикой, которой эти люди превзошли всех прочих китобоев; благодаря тому, что они знают, как поведет себя кит после первого своего движения, и благодаря множеству других полезных наблюдений им почти всегда удавалось загарпунить сего огромного левиафана и притащить его на берег. Так продолжалось до тех пор, покуда полученная прибыль не дала им возможность приобрести более крупные суда и продолжить охоту на китов, когда они покинули прибрежные воды; те, кто не добился успеха, возвращались к ловле трески, которая была им первой школою и первым источником существования; они начали ловить рыбу даже на отмелях близ Кейп-Бретона и острова Сейбл, а также на всех других рыболовных угодьях, коими изобилует сия часть американского побережья. Мало-помалу китобои перенесли свою охоту к берегам Ньюфаундленда, в залив Святого Лаврентия, в пролив Белл-Айл, у Лабрадора, в Дэвисов пролив и даже на 70° широты, где у берегов острова Кейп-Дезолейшн датчане занимаются рыбным промыслом, несмотря на суровость тамошнего негостеприимного климата. Со временем они стали посещать и западные острова, побывали на 34° широты — в местах, особливо славящихся китами, в Бразилии и у берегов Гвинеи. Поверите ли Вы, что они уже добрались до самых Фолклендских островов, и я слышал, как некоторые из них говорили, что собираются идти в Тихий океан. Их уверенность в своих силах так велика, а знание промысла настолько превосходит знания других народов, что они приобрели монополию в китовой торговле. Какими же робкими были их первые шаги, каким было детство и юность их морского промысла и каковой степени смелости и предприимчивости достигли они в зрелости! По их примеру было образовано несколько промысловых компаний во многих наших столицах, где можно найти все необходимые припасы, снасти и лес. Но трудолюбие жителей Нантакета до сих пор позволяло им побеждать всех своих соперников, вследствие чего они и сейчас держат самый большой во всей Америке рынок китового жира, уса и спермацета. Из сего, однако, не следует, что им всегда сопутствует удача; ведь ноле, на котором всегда урожай, было бы поистине необыкновенным; часто экспедиции не возмещают затрат на снаряжение корабля; но жители Нантакета сносят подобные неудачи как настоящие купцы и снова пытают счастия, ибо они, подобно игрокам, никогда не ставят на карту все свое состояние; правда, игроки надеются лишь на счастливый случай, а купцы — на трудолюбие, разумные рассуждения и некоторую удачу. Я был на острове, когда мистер N. недосчитался одного из своих судов; все сочли его погибшим, однако еще до моего отъезда оно благополучно возвратилось в порт после тринадцати месяцев отсутствия. Оказалось, что на той станции, куда их посылали, охота была безуспешной, и, чтобы не возвращаться с пустыми руками, они отправились к берегам Гвинеи; там им посчастливилось поймать нескольких китов, и они привезли домой более 600 баррелей жира и сверх того еще китовый ус. Добычу часто сбывают в городах на континенте, где ее меняют на те товары, которые требуются, но по большей части отправляют в Англию, где всегда продают за наличные. С этою целью снаряжается более крупное судно; его загружают жиром прямо на месте разделки туши и тотчас отправляют в Лондон. Такой способ сберегает время, груз и затраты, а на вырученные деньги китобои привозят домой то, в чем они нуждаются. Большое число судов используется также для перевозки леса на острова Вест-Индии; в обмен на него островитяне получают различные товары, производимые в тех краях, и затем везут туда, где, по слухам, их можно выгодно продать. Будучи людьми весьма сообразительными, жители Нантакета отлично знают, как обратить в свою пользу преимущества, которые постоянно возникают благодаря сочетанию столь многих отраслей торговли; здесь всеми владеет дух коммерции, которая состоит в искусстве взаимного удовлетворения потребностей. Как и все американцы вообще, они в большой степени наделены природной сметливостью, энергией и здравым смыслом, и сии свойства побуждают их браться за множество других второстепенных предприятий, перечисление коих было бы слишком скучным; им отлично известен самый дешевый способ получения леса с рек Кенебек, Пенобскот и Ор, смолы и дегтя из Северной Каролины, муки и галет из Филадельфии, свинины и говядины из Коннектикута. Они знают, как обменять свою треску и вест-индские товары на те предметы, которые они постоянно либо привозят на свой остров, либо отправляют туда, где на них имеется спрос. Посредством всех этих коммерческих сделок они значительно удешевили снаряжение своих китобойных судов и тем чрезвычайно усовершенствовали рыбный промысел. Всеми этими преимуществами они обязаны не только своему национальному гению, но и скудости своей земли; и в доказательство моей правоты посмотрите на Винъярд (соседний с Нантакетом остров), где живут люди столь же мудрые и расторопные, как они. Земля там большею частью чрезвычайно плодородна, и оттого мореплавателей у них меньше, хотя местоположение их острова столь же благоприятствует рыбному промыслу. Раз уж я, возвращаясь в Фалмут, на материк, посетил Винъярд, позвольте дать Вам возможно более короткое, но верное его описание; ведь я не настолько связан главною целью сего путешествия, дабы желать ограничиться одним лишь уголком — Нантакетом.ПИСЬМО VI
ОПИСАНИЕ ОСТРОВА МАРТАС-ВИНЪЯРД
И КИТОБОЙНОГО ПРОМЫСЛА
Этот остров имеет 20 миль в длину и от 7 до 8 миль в ширину. Он находится в 9 милях от континента и вместе с островами Элизабет образует одно из графств Массачусетской колонии, известное под название Даксборо. Острова Элизабет, числом шесть, лежат в 9 милях от Винъярда и славятся превосходными молочными фермами. Эдгартаун и Фалмут, находящийся на континенте в 9 милях от последнего, связаны хорошим паромом. Мартас-Винъярд разделен на три прихода — Эдгар, Чилмарк и Тисбери; его население 4000 человек, из коих 300 — индейцы. Эдгар — лучший морской порт и главный город своего прихода: вследствие того, что почвы в его окрестностях легкие и песчаные, многие его жители следуют примеру жителей острова Нантакет. Город Чилмарк не имеет хорошей гавани, но его земля превосходна и не уступает самым плодородным землям на континенте; гам имеются отличные пастбища, речки, удобные для устройства мельниц, камни для изгородей и т. д. Город Тисбери славится великолепным лесом и имеет гавань, достаточно глубокую для линейных кораблей. На острове насчитывается 20 тысяч овец, 2 тысячи голов отличного рогатого скота, много лошадей и коз; там водятся олени и множество морской птицы. Остров с самого начала и по сей день — главная духовная семинария для индейцев; они живут в той его части, которая называется Чаппакуиддик, и были очень рано обращены в христианство почтенным семейством Мэхью{246}, первыми владельцами острова. Первый поселенец, носивший это имя, завещал своей любимой дочери часть острова, поросшую диким виноградом, поэтому сия местность получила название Мартас-Винъярд (Виноградник Марты), которое потом распространилось на весь остров. Потомки старинных аборигенов и до сего дня живут на землях, которые их предки отвели себе и которые благоговейно охраняются от всяких посягательств. Жители Новой Англии отличаются честностью, с коей они соблюдают условия старинных договоров, которые во многих других провинциях, к стыду их правительств, часто нарушаются. Тамошние индейцы по своему приличному поведению, трудолюбию и опрятности кажутся настоящими европейцами и ни в чем не уступают многим белым жителям острова. Подобно сим последним, они трезвы, старательны и религиозны, что составляет главные характеристические свойства обитателей четырех провинций Новой Англии. Подобно молодым жителям Винъярда, они часто уезжают на остров Нантакет и нанимаются там в китобойцы или рыбаки и своею ловкостью и знанием всех морских промыслов нисколько не уступают белым. Последние подразделяются на два класса: одни владеют землей и с похвальною старательностью и искусством ее обрабатывают; другие, не имеющие земли, отправляются в море, которое составляет главный источник существования обитателей этой части света. Поэтому остров, подобно Нантакету, стал великим рассадником лоцманов и матросов для многочисленных каботажных судов, коими изобилует сия обширная часть Америки. Куда бы Вы ни отправились, везде от Новой Шотландии до Миссисипи Вы встретите уроженцев этих двух островов, занятых морским промыслом. Тамошний климат столь благоприятен для роста населения, что каждый житель с ранней юности хочет жениться; и сие благо столь доступно, что многим приходится впоследствии покидать родную землю и отправляться в другие страны в поисках средств к существованию. Все местные жители, как и повсюду в Массачусетской колонии, — пресвитериане, и здесь я желал бы с благодарностью вспомнить гостеприимство, оказанное мне Б. Нортоном, эсквайром, губернатором острова, а также доктором Мэхью, потомком первого владельца острова. Здесь можно найти лоцманов, досконально изучивших как большой залив, так и бухты Нантакета и все окрестные порты. В штормовую погоду они выходят в море в поисках судов и, с необыкновенной ловкостью взойдя к ним на борт, почти всегда безопасно проводят их в ту гавань, куда они направлялись. Гэй-Хед, западная оконечность острова, богата охрой различных оттенков, которой жители красят свои дома.Суда, наиболее подходящие для ловли китов, — это бриги водоизмещением около 150 тонн, особливо в тех случаях, когда они должны ходить в дальнее плаванье; па них всегда нанимают 13 человек, чтобы укомплектовать два китобойных вельбота, команды которых непременно должны состоять из 6 матросов, из коих четверо гребцы, пятый стоит на носу с гарпуном, а шестой служит рулевым. Вельботов обязательно должно быть два: в случае, если один, нападая на кита, пойдет ко дну, второй, который никогда не охотится одновременно с первым, должен быть готов спасти его команду. Пятеро из тринадцати матросов всегда индейцы; тринадцатый член команды остается на корабле, чтобы управлять им во время охоты. Жалованья морякам не платят; каждый получает определенную долю прибыли хозяина; оттого все они равно озабочены успехом предприятия, все одинаково расторопны и осмотрительны. Китоловов старше 40 лет не бывает; считается, что человек, достигший этого возраста, уже не обладает ловкостью и отвагой, коих требует столь рискованный промысел. И в самом деле, если Вы примете во внимание огромную разницу между предметом охоты и охотниками, если подумаете о ничтожных размерах и легкости их хрупкого суденышка, если вспомните коварство стихии, где разыгрывается сия драма, внезапные и непредвиденные изменения ветра и т. п., Вы охотно согласитесь, что преуспеть в сем рискованном предприятии можно лишь ценою величайшего напряжения всех физических и умственных сил. Как только судно достигает места, где водятся киты, на топ мачты отправляют человека; завидев кита, он кричит: «Awaite pawana!» — «Вот кит!». Все молча ждут, когда он повторит: «Pawana» — «Кит», после чего меньше чем за шесть минут на воду спускают оба вельбота со всеми снастями и орудиями, необходимыми для атаки, и лодки с поразительной скоростью начинают двигаться к киту. Поскольку в сей новой войне индейцы с давних пор сражаются рядом с белыми, Вы легко поймете, отчего китоловы хорошо знают туземное наречие. Прежде команды китобойных судов часто состояли только из индейцев и хозяина; вспомните также, что жители Нантакета понимают язык нейтиков и что на борту судна всегда имеется пятеро индейцев. Приблизиться к киту можно разными способами, в зависимости от его породы, которую поэтому важно определить заранее. Когда вельботы подходят к киту на небольшое расстояние, один из них останавливается невдалеке в качестве свидетеля приближающейся схватки; на нос второго вельбота поднимается гарпунщик, от коего главным образом и зависит успех всего предприятия. На нем куртка, застегнутая на все пуговицы; голова его плотно обвязана платком; в руках он держит свое смертоносное оружие, изготовленное из наилучшей стали, на котором иногда бывает выгравировано либо название их города, либо название судна; к древку гарпуна крепко привязан конец прочного каната, свернутого ровными кольцами в середине вельбота и прикрепленного другим концом к днищу. Закончив приготовления, гребцы в полном молчании работают веслами, предоставляя все дальнейшие действия гарпунщику и рулевому и точно следуя их указаниям. Когда гарпунщик сочтет, что подошел к киту достаточно близко, то есть на расстояние около 15 футов, он приказывает гребцам остановиться; быть может, им встретилась самка, все внимание коей занято безопасностью детеныша, что является весьма благоприятным обстоятельством; быть может, кит принадлежит к опасной породе, и тогда безопаснее ретироваться, хотя рвение редко позволяет им это сделать; быть может, кит уснул, и в сем случае гарпунщик поднимает гарпун высоко над головой, стараясь в эту решающую минуту собрать все свои силы. Он бросает гарпун; гарпун попал в цель; по первому движению кита команда судит об его характере, а также о своем будущем успехе. Бывает, что кит в ярости бросается на лодку и разбивает ее одним ударом хвоста; хрупкое суденышко мгновенно исчезает под водой, и страшная стихия поглощает нападающих. Если бы кит обладал зубами и прожорливостью акулы, они никогда не вернулись бы домой и не смогли бы позабавить жен любопытными рассказами о своих приключениях. Порою кит ныряет и исчезает из виду, и тогда горе тому, кто попытается его удержать. Иногда он несется под водой, словно гарпун не причинил ему вреда, и с такой скоростью тянет за собою канат, что борт лодки воспламеняется от трения. Если же кит поднимается на поверхность, не успев размотать весь канат, это значит, что он обречен на скорую гибель. Потеряв много крови, он слабеет и уже не способен надолго уйти под воду; скорость вельбота при сем почти не увеличивается. Вскоре кит всплывает вновь и, устав наконец сотрясать воду, окрашенную его кровью, издыхает. Туша его остается на поверхности. Бывает, однако, что рана не опасна, хотя гарпун глубоко вонзился в туловище, и тогда кит отчаянно рвется прочь, то ныряя, то поднимаясь на поверхность. Вскоре он натягивает канат и с невероятною силой тащит за собою лодку; сия неожиданнаяпомеха порой вынуждает кита замедлить ход, но иногда лишь пуще его разъяряет и заставляет мчаться еще быстрее. Заметив, что ныряющий кит сильно затягивает вглубь пос лодки, что лодка погружается и наполняется водой, гарпунщик подносит топор почти к самому канату, медлит, все еще надеясь, что кит успокоится, но решительная минута приближается, опасность растет; порою люди, занятые более мыслью о прибыли, нежели о сохранении собственной жизни, идут на большой риск, и остается лишь удивляться, как велика их дерзкая отвага в сей ужасающий миг! Но все надежды напрасны; нужно спасать свою жизнь; канат разрублен; вельбот снова поднимается на поверхность. Если, освободившись таким образом, кит появится вновь, его атакуют и ранят вторично. Когда он издыхает, тушу привязывают к борту и тянут за судном. Далее необходимо топорами и ножами отрубить все части туловища, из коих добывается жир; котлы кипят; жир по мере готовности разливают в бочки; однако это происходит медленнее, чем рубка, и потому трюм судна наполняют кусками мяса, чтобы в случае шторма не пришлось бросить добычу. Достойно удивления, сколько жира дают некоторые киты и какова прибыль тех, кому посчастливилось их изловить. Кит из реки Святого Лаврентия, единственная порода, хорошо мне знакомая, достигает 75 футов в длину, 16 в обхвате, хвост у него шириной 20 футов, китовый ус длиной в 12 футов; весит он обыкновенно 3 тысячи фунтов и дает 180 баррелей жира, а однажды я видел, как из одного только китового языка было получено 16 баррелей. После победы над сим левиафаном следует опасаться двух врагов, не считая ветра; первый из них — акула; эта свирепая прожорливая рыба, которую природа снабдила столь страшным смертоносным оружием, часто подходит к китоловам и, несмотря на все их старания, захватывает часть добычи, особливо по ночам. Акулы весьма зловредны, но второй враг много страшнее и опаснее; это киты-убийцы, длиною около 30 футов; иногда их называют молотильщиками; они так ловки и свирепы, что часто нападают на самых крупных кашалотов и нередко отбирают добычу у рыбаков, а никаких средств защиты от столь мощного противника не существует. Когда все бочки заполнены — ибо китобойцы все делают в море — или когда их ограниченное время истекло, а запасы провизии почти иссякли, они возвращаются домой со своим драгоценным грузом, если только им не удается отправить его на борт какого-либо судна, ведущего торговлю с Европой. Таковы вкратце все отрасли деятельности этих отважных мореплавателей и способ, при помощи коего они уходят на столь большое расстояние от родного острова на ловлю сей огромной добычи. Вот названия и главные характеристические свойства различных пород китов, известных этим людям: Кит из реки Святого Лаврентия, описанный выше. Кит диско, или гренландский. Настоящий кит, или семифутовый ус, водится у наших берегов, длина около 60 футов. Кашалоты, встречаются по всему миру, бывают всевозможных размеров; самые крупные достигают 60 футов в длину и дают около 100 баррелей жира. Горбачи, водятся у берегов Ньюфаундленда, длина от 40 до 70 футов. Полосатик, американский кит; его никогда не убивают по причине быстроты движений. Синий кит, водится в реке Святого Лаврентия, длина 90 футов, убивают его редко по причине чрезвычайной подвижности. Серый дельфин, 30 футов длиной, его никогда не убивают по той же причине. Кит-убийца, или молотильщик, длина около 30 футов; часто убивает других китов, с которыми вечно находится в состоянии войны. Гринда, длиною 20 футов; дает от 8 до 10 баррелей. Морская свинья, весит около 160 фунтов. В 1769 году жители острова снарядили 125 китобойных судов, из коих 50, возвратившиеся первыми, привезли 11 тысяч баррелей жира. В 1770 году было снаряжено 135 судов для рыболовного промысла с командой из 13 человек каждое; 4 корабля, совершающих рейсы в Вест-Индию, — по 12 человек; 25 судов с лесом — по 14 человека; 18 каботажных судов — по 5 человек; 15 торговых судов, совершающих рейсы в Лондон, — по 11 человек. Всё вместе составляет 197 судов с командами в 2158 человек. Обратите внимание на успехи островитян, если вместо нескольких китобойцев они теперь владеют таким флотом! По нравственным правилам, предрассудкам и обычаям люди, которые проводят две трети жизни в море, должны, естественно, отличаться от своих соседей, живущих земледелием. Длительное воздержание моряков, соленый воздух, коим они дышат, постоянные опасности, смелость, необходимая для их преодоления, даже влияние ветров, которое они испытывают, — все это, как легко вообразить, должно по возвращении на берег вызвать у них сильную тягу к спиртному и к тем удовольствиям, коих они так долго были лишены и с коими вскоре им придется снова распроститься. На берегу даже последний бедняк способен удовлетворить многие желания, но в море это совершенно невозможно. Однако, несмотря на мощное действие подобных обстоятельств, я по возвращении здешних флотов не замечаю никаких излишеств, никаких шумных возлияний, тогда как в наших городах на континенте беспечный моряк предается самым низменным удовольствиям и, напрасно полагая, что неделя разгула вознаградит его за долгие месяцы воздержания, безрассудно растрачивает за несколько дней пьянства плоды полугодового труда. Здесь, напротив, всюду царит мир и порядок, очевидно, по причине того, что все моряки на острове женаты, ибо они вступают в брак очень молодыми, и радость возвращения к семье вытесняет все прочие желания. Они уходят в море совсем по иным причинам, нежели большая часть других моряков; в объятия сей стихии их толкает не лень и не пьянство, а твердый план, вполне обоснованная надежда заработать себе на жизнь; они очень рано приобщаются к сему ремеслу, ибо почва на острове скудная, и если б им пришлось остаться дома, то чем бы они могли заняться? Оттого море и становится для них как бы родовым наследием; они отправляются ловить китов с таким же удовольствием и спокойным безразличием, с таким же нетерпеливым ожиданием успеха, с какими сухопутный житель приступает к расчистке болота. Первые вкладывают свое время и свой труд в добычу жира с поверхности моря; вторые — в добычу сена с земель, где прежде не было ничего, кроме кочек, поросших болотной травой. Среди тех, кто не ходит в море, я наблюдал такое же спокойствие, что и у жителей континента; на их лицах не видно уныния, а их сдержанность и благовоспитанность столь для них естественны, что мне показалось, будто я нахожусь в Филадельфии. Когда я высадился на берег, меня сердечно приняли те, к кому я имел рекомендательные письма; такое же искреннее гостеприимство мне оказывали другие, с кем мне довелось познакомиться позже, и могу сказать Вам, что редкий путешественник, прожив здесь хотя бы месяц, не сведет знакомство с главами наиболее почтенных семейств. Куда бы я ни пошел, везде я находил простоту речи и манер; они были даже более старомодны и чопорны, чем я ожидал, и вскоре я понял, что сие проистекает из их обособленного положения, препятствующего сношениям с другими. Поэтому легко понять, как они сохранили все особенности, коими прежде отличалась сия секта. Ни один пчелиный улей никогда еще не вкладывал в добычу воска, цветочной пыльцы и меда столько стараний, сколько члены сего общества; каждый житель города занимается своим делом с большим усердием, но без той рабской покорности, какая, говорят, господствует в Европе. Мастеровой, по-видимому, происходит из столь же почтенной семьи, так же хорошо одевается и питается, пользуется таким же уважением, как те, кто нанял его на службу; некогда они состояли в близком родстве; разная степень преуспеяния составляет причину различных оттенков, существующих в их общине. Однако сие случайное различие до сих пор не вызывало ни надменности и гордости с одной стороны, ни раболепства и униженности с другой. Все их дома опрятны, удобны и уютны; в некоторых помещается по две семьи: когда мужья уходят в море, женам не требуется столь просторное жилье. В домах много прочной мебели, ценной скорее своим удобством, нежели украшениями. Куда бы я ни пошел, везде меня встречали радушно и доброжелательно, и уже после второго визита я чувствовал себя так свободно, словно был старинным знакомым семейства. У жителей Мартас-Винъярда такое изобилие всего, как если бы их остров расположен среди богатейших земель Виргинии, и я с трудом убедил себя, что покинул близлежащий континент, где все в избытке, и нахожусь на бесплодной песчаной отмели, удобренной одним лишь китовым жиром. Здешние сельские постройки весьма незначительны и служат лишь пользе, а лучшие из них находятся далеко от города, и потому я несколько дней развлекался беседой с наиболее понятливыми горожанами обоих полов и знакомился с различными отраслями их промышленности, с различными предметами торговли и с тою природною мудростью, которая, несмотря на недостаток всех необходимых материалов, продуктов и т. п., тем не менее позволяет им преуспевать, жить в достатке и даже иногда составить себе порядочное состояние. Все вместе взятое являет загадку, разгадать которую можно, только приехав на место и наблюдая национальный гений, привезенный первыми поселенцами, а также бесконечное терпение и настойчивость островитян. Все они от высших до низших отличаются необыкновенной остротою суждений, хотя и не получили никакого академического образования; все наделены немалою долей здравого смысла, который усовершенствовался благодаря опыту их отцов, а сие есть наш самый надежный и лучший проводник по жизненному пути, ибо он всего более приближается к безошибочности инстинкта. Блестящие таланты и университетские пауки были бы здесь совершенно бесполезны и даже опасны, они извратили бы безыскусные суждения островитян, совлекли бы их с полезного пути, так хорошо приспособленного к обстоятельствам, сделали бы их более склонными к рискованным предприятиям, более самонадеянными, гораздо менее осторожными и от того менее удачливыми. Приятно слышать их рассказы о том, как их отцы или они сами добивались успеха, встречаясь с различными благоприятными и неблагоприятными превратностями судьбы. Часто, сидя возле очага, я как бы сопровождал их по всему их жизненному пути, от первых шагов и первых сделок, и вместе с ними из хозяина одного-единственного китобойного судна превращался во владельца десятка больших кораблей! Сие, однако, не означает, что всякий, кто начал с одного китобойца, достиг столь большого успеха; нет, здесь существуют те же случайности, то же сочетание добра и зла, которое сопутствует людским делам во всех остальных частях света: великое процветание не достается в удел каждому, одни живут лучше, другие хуже, но если не все достигают богатства, все достигают достатка. В конце концов, разве не лучше владеть одним-единственным вельботом или несколькими пастбищами для овец, жить независимо и свободно под властью мягчайшего на свете правительства, в здоровом климате, в стране милосердия и доброжелательства, чем быть, как столь многие в Европе, обездоленным бедняком, не владеющим ничем, кроме собственного трудолюбия, брошенным на волю бурных волн, зарабатывающим жалкие гроши самым низменным трудом или томящимся в оковах самой мелочной зависимости безо всякой надежды на избавление? Большая часть работников, занятых в рыболовном промысле, многие ремесленники, как-то: бондари, кузнецы, конопатчики, плотники и т. д., не принадлежащие к Обществу друзей, — пресвитериане, некогда приехавшие сюда с материка. Те, кто ныне обладают значительными состояниями, — члены Общества, но все они начинали простыми китобоями: здесь даже считается почетным и необходимым, чтобы сын самого богатого человека послужил в подмастерьях на том же смелом и рискованном промысле, который обогатил его отца; они по многу раз ходят в плаванье, и эти юношеские экспедиции всегда укрепляют их здоровье и помогают им составить понятие о будущих средствах к существованию.
ПИСЬМО VII
ОБЫЧАИ И НРАВЫ НАНТАКЕТА
Как я уже заметил выше, каждый мужчина женится, как только пожелает, обыкновенно в ранней молодости; при этом никто не требует и не ждет никакого приданого; у нас нет брачных договоров, которые хитроумные юристы сочиняют с целью озадачивать и заставлять обращаться в суд наследников или удовлетворять тщеславие супругов. За своими дочерьми мы не даем ничего; их воспитание, здоровье и принятый обычаем убор — это все, чем могут снабдить их отцы многодетных семей. Богатство жены состоит главным образом в ее будущей бережливости, скромности и умении вести домашнее хозяйство, тогда как богатство мужа основано на его способности трудиться, здоровье и искусстве в каком-либо деле или ремесле. Их совместные усилия по прошествии нескольких лет почти всегда приводят к успеху и доставляют им средства, необходимые, чтобы вырастить и воспитать новое поколение, зачатое на их брачном ложе. Дети, рожденные на берегу моря, внимают шуму волн с тех самых пор, как они обретают слух; это первые звуки, с которыми они знакомятся, а купанье и морской воде с ранних лет прививает им смелость, присутствие духа и ловкость, которые впоследствии делают их столь искусными моряками. Они часто слушают воспоминания отцов о былых приключениях, о схватках с китами, и сии рассказы зароняют в их юные души любопытство и вкус к такой же жизни. Нередко пересекая залив, отделяющий остров от материка, они даже во время сих коротких плаваний приготовляются к более трудным и опасным походам, и оттого славятся по всему континенту знанием морского дела. Местных уроженцев легко узнать по походке из сотни — столь замечательна гибкость их членов и особенная подвижность, к спорые они сохраняют до глубокой старости. Говорят, будто сии свойства объясняются действием китового жира, коим они бывают обмазаны с головы до ног, когда обрабатывают его, чтобы сделать пригодным для продажи на европейских рынках или выделки свечей. Но Вы, наверное, пожелаете спросить, какова судьба того избытка населения, который неизбежно происходит от столь великой трезвости, здорового климата и ранних браков? Вы можете справедливо заключить, что на их родном острове и в городе хватает места лишь ограниченному числу людей. Эмиграция для жителей приморских краев равно естественна и легка, что и составляет причину их всегдашней многочисленности, как бы странно сие ни показалось. Постоянно занимаясь морским промыслом, они каждый раз отправляются в различные части нашего континента; по мере увеличения нашего богатства внутри страны расширяется наша внешняя торговля, что, естественно, требует большего числа судов и людей: порою они снимаются с места как пчелы, правильными сплоченными роями. Многие «Друзья» (под сим словом я разумею тех, кого называют квакерами), склонные к созерцательности, ежегодно навещают религиозные конгрегации, которые сие общество насадило по всему континенту, и тем самым поддерживают между ними нечто вроде переписки. Обыкновенно это отменные проповедники, доброжелательные блюстители нравов, которые бичуют порок везде, где усматривают его преобладание, и следят за тем, чтобы не нарушались старинные обычаи и ритуалы общества. Повсюду они несут с собою наставления и полезные советы; путешествуя таким образом, они неизменно делают чрезвычайно необходимые наблюдения касательно до местоположения различных местностей, тамошней почвы, производимых там товаров, расстояния от судоходных рек, цен на землю и т. д. В 1766 году многие жители Нантакета, получив подобные сведения, купили в графстве Орандж, Северная Каролина, обширные земли, расположенные у нескольких истоков Дип-Ривер, западного притока Кейп-Фир или Норт-Уэст-Ривер. Сия область находилась лишь в сорока милях от побережья, куда можно было ехать морем, и отличалась плодородием почвы и другими преимуществами, вследствие чего они без сожаления покинули остров, на котором для них не было больше места. Там они основали красивейшее селение, известное под названием Нью-Гарден, по соседству с достославными селениями «моравских братьев» в Бетабара, Бетамия и Салеме на Ядкин-Ривер. На свете нет уголка красивее; оно расположено среди невысоких холмов, отлогих склонов, прекрасных равнин, по которым текут ручьи, проходящие через поселок. Я никогда не видел земли, которая так быстро вознаграждает людей за их труды и издержки; таковы, за немногими исключениями, те земли, что примыкают к многочисленным устьям всех больших рек, впадающих в Чисапикский залив или протекающих по провинциям Северная и Южная Каролина, Джорджия и т. д. Быть может, это самая прелестная, самая очаровательная местность на всем континенте, ибо она, предоставляя удобные пути сообщения с портовыми городами в определенное время года, совершенно свободна от губительных испарений, что часто поднимаются с низин, примыкающих к Атлантическому океану. Сии земли так же плодоносны, как земли по ту сторону Аллеганских гор. Нью-Гарден находится на расстоянии 200–300 миль от реки Кейп-Фир, а от нее до Нантакета не менее 450 миль, из чего Вы можете заключить, что жители поселка поддерживают связь со своей маленькой столицей главным образом через странствующих «братьев». Другие поселились на славной реке Кенебек, в той части провинции Массачусетс, которая известна под названием Сагадахок. Здесь они облегчили себе труды по расчистке самых густых лесов в Америке с помощью различных отраслей торговли, которым способствует прекрасная река и близость моря. Вместо того чтобы без остатка использовать весь лес, как это приходится делать нам, они превращают его в полезные предметы вывоза, как-то: клепку, доски, мачты, обода, столбы и т. д. С этой целью они поддерживают переписку со своим родным островом, и я знаю многих видных жителей Шерборна, которые, будучи купцами и проживая на острове Нантакет, владеют, однако, ценными фермами на сей реке, откуда получают большую часть средств к существованию: мясо, зерно, дрова и т. д. Право на сии земли принадлежит старинной Плимутской компании, под управлением которой была основана провинция Массачусетс; ныне она находится в Бостоне и до сих пор жалует все свободные земли в пределах своих границ. Хотя сия часть провинции столь плодородна и расположена столь счастливо, она странным образом остается и забвении и небрежении; как это ни удивительно, но великолепные земли по берегам реки до самого Пенобскота пока не привлекли сюда большого числа жителей и поселения здесь все еще пребывают в младенческом состоянии. Правда, для расчистки земли под пахотные угодья требуются огромные усилия, но необыкновенные качества сей почвы щедро вознаграждают трудолюбивого земледельца; я не знаю в наших краях почвы тучнее и плодороднее. Я имею в виду не преходящее плодородие, которое испаряется под действием солнца и исчезает по прошествии нескольких лет; здесь, напротив, даже на самых высоких местах земля покрыта толстым слоем влажного болотного перегноя, который неизменно дает богатый урожай великолепнейших трав и зерна. Если Нью-Гарден превосходит сие селение мягкостью климата, тучностию почвы и большим разнообразием плодов при меньших усилиях, он не взращивает мужей столь же закаленных и способных преодолевать опасности и невзгоды. Все в нем скорее способствует праздности и изнеженности, ибо слишком уж изобильны здешние нивы и слишком уж легко их возделывать. Когда б я мог начать свою жизнь сначала, то, несмотря на все очарование Нью-Гардена, я предпочел бы ему земли на берегах Кенебека; судоходность реки на протяжении свыше 200 миль, обилие рыбы, неизменно здоровый климат, приятная суровость зимы, всегда укутывающей землю толстым снежным покровом, столь же приятная необходимость трудиться — все эти причины намного перевесили бы более благоприятные обстоятельства в Каролине, где люди пожинают слишком много, трудятся слишком мало и слишком спешат насладиться благами жизни. Я знаю, что многие с презрением отвергнут мое мнение и сочтут меня дурным судьею; пусть они поселятся на берегах Огайо у Мононгахела или Редстон-Крика; пусть обоснуются на протяженных берегах сей замечательной реки; я столь же радостно раскину свой шатер на более суровых берегах Кенебека, ибо сии края всегда останутся страной здоровья, труда и энергической деятельности, что составляет характеристические черты общества, которые я ценю превыше роскоши и праздных наслаждений. Итак, хотя Нантакет, сей плодородный улей, беспрестанно выпускает рои пчел, столь же трудолюбивых, сколь сами островитяне, он всегда полон, и в нем нет бесполезных трутней; он неизменно являет зрелище трудов и новых планов; чем больше богатеет человек, тем больше расширяется поле его деятельности; тот, кто приближается к концу своего жизненного пути, трудится столь же упорно, как тот, кто только на него вступил; никто не стоит на месте. Но разве не достойно удивления, что, накопив богатство, никто из них не хочет оставить свой бесплодный остров ради более приятной и беззаботной жизни на материке? Разве не достойно удивления, что, проведя восход и зенит своих дней средь бурных волн и утомившись долгими трудами, они не хотят насладиться закатом в более обширном обществе, в каком-либо уголке terra firma[100], где суровость зимы уравновешивается приятным разнообразием картин, каких не найти здесь? Однако та же магическая сила привычки, что заставляет лапландца, сибиряка и готтентота предпочитать свой климат, свои занятия и свою землю обстоятельствам более благоприятным, приводит сих добрых людей к мысли, что нет такого места в целом свете, которое отвечало бы их склонностям более, чем Нантакет. Здесь завязались все их связи, что станут они делать вдали от них? Жить в роскоши, скажете Вы, заводить новых друзей и знакомых благодаря богатству своего стола, показной щедрости и притворному гостеприимству. Подобные идеи никогда не появлялись у них в голове, они содрогнулись бы от ужаса при мысли о желаниях и планах, столь чуждых простоте, которая являет общепринятую основу их жизни как в достатке, так и в бедности. Им ненавистна самая мысль о том, чтобы в суетной роскоши тратить попусту плоды благотворных трудов; занятые устройством своих сыновей и множеством других полезных дел, чуждые монархическим почестям, они не стремятся приобрести огромные состояния, чтобы купить на них громкие титулы и сомнительные имена! Однако ж на острове Нантакет не так много богатых людей, как можно было бы подумать, приняв во внимание их большие успехи, трудолюбие и знания. Многие умирают в бедности, хотя едва ли могут упрекнуть Фортуну; другие не оставляют после себя такого богатства, какое естественно обещал круг их деятельности и процветание. Причиною сего мне представляются особенные расходы на пропитание; ибо их остров не снабжает город ничем (за исключением немногих семей), и оттого каждый должен привозить все необходимое с материка. Даже сено для лошадей и все остальные товары, необходимые для семьи, хотя и дешевые в краю такого изобилия, как Массачусетс, обходятся дорого из-за стоимости их перевозки. Огромное число мелких судов с материка и с Винъярда постоянно приходит сюда как на рынок. Особенно хорошо обеспечен всем Шерборн, но именно сии постоянные поставки требуют очень много денег. Добыв жир и китовый ус, жители Нантакета прежде всего выменивают их на мясо, хлеб и все остальное, в чем они нуждаются; несмотря на всю их бережливость, потребности большой семьи велики и многочисленны; и расходы так часто повторяются, что постоянно поглощают значительную долю прибыли. Если же вследствие какого-либо происшествия прибыль перестает поступать, должен страдать основной капитал, и часто большая часть их собственности плавает по морям. Жители Шерборна принадлежат лишь к двум церквам. Каждое воскресенье они собираются в молитвенном доме, столь же простом, как и их жилища; и на всем острове имеется один-единственный священник. Что на но сказал бы какой-нибудь богобоязненный португалец? Как, всего-навсего один священник наставляет целый остров и заботится о совести своей паствы! Однако ж дело обстоит именно так, ибо у нас каждый знает, как поступать по совести, и сам печется о своей душе. Сей одинокий священнослужитель — пресвитерианский пастор, который возглавляет очень большую и почтенную общину; вторая состоит из квакеров, которые, как Вам известно, не признают рукоположения и считают, что никому не дано исключительного права читать проповеди, преподавать катехизис и получать за это жалованье. У них толковать Евангелие может всякий, кто почитает себя к тому призванным, а коль скоро они не соблюдают ни причастия, ни крещения, ни каких-либо иных внешних форм, священники им ни к чему. Большая часть островитян постоянно находится в море и часто имеет весьма неотложную надобность взывать к Творцу Природы среди штормов, которые подстерегают их на пути. Обе общины живут в полном мире и согласии; старые времена религиозных раздоров, когда люди почитали за добродетель не только проклинать иноверцев, что было бы еще не страшно, но преследовать и убивать их во славу того Существа, которое требует от нас всего лишь возлюбить ближнего своего, теперь миновали (и, надеюсь, никогда не вернутся!). Каждый ходит молиться туда, где ему больше нравится, и не считает, что сосед его поступает дурно, если не следует его примеру; тот, кто чрезвычайно занят своими мирскими делами, менее нетерпим к делам духовным, и, к счастью, Вы не найдете на острове Нантакет ни праздных трутней, ни исступленных ревнителей веры, ни напыщенных болтунов, ни унылых демагогов. Будь то в моей власти, я отправил бы к китобойцам самого злобного ханжу, какого только можно отыскать в К, и не прошло бы трех или четырех лет, как он превратился бы в более сговорчивого человека и, следовательно, в лучшего христианина. Как ни странно, на острове имеется всего два врача, ибо какая польза может произойти от медицины в примитивном обществе, где так мало злоупотребляют спиртным? Кому нужны лекарства там, где так редки лихорадки и желудки, отягощенные несварением? Трезвость, невозмутимость страстей, умеренность и постоянные труды на свежем воздухе поддерживают и сохраняют здоровье островитян, и они передают его своим детям, зачатым в неоскверненных объятиях целомудренной юной любви и наследующим от родителей самое крепкое телосложение, какое только может даровать природа. Однако ни одна обитаемая часть земного шара не свободна от каких-либо недугов, проистекающих из климата или образа жизни, и оттого местные жители тоже иногда болеют лихорадкой или чахоткой. Со времени основания города в нем никогда не случалось эпидемий, порой вызывающих такое опустошение в других странах; многие жители хорошо знакомы с индейскими средствами лечения простых болезней и успешно их употребляют. Вы едва ли найдете где-либо общину, состоящую из такого же числа совершенно здоровых людей и бодрых стариков, о чьем преклонном возрасте свидетельствуют не морщины на лицах, а зрелая мудрость; и сне, без сомнения, есть одно из главнейших преимуществ острова, которое с лихвой возмещает жителям недостаток более плодородных почв, подобных почвам юга, на которых болезни желудка и печени произрастают рядом с сахарным тростником и божественным ананасом. Местоположение острова, чистый воздух, морской промысел, добродетель и умеренность — вот источник здоровья и силы его жителей. Я льщу себя надеждою, что бесплодие почвы оградит их от опасности захвата или бессмысленного истребления. Когда бы их изгнали отсюда, единственным приобретением завоевателей было бы несколько акров огороженной и возделанной земли, несколько домов и кое-какая движимость. Гений и трудолюбие жителей остались бы при них, а ведь только они составляют все богатство их острова. Он лишился бы своей нынешней славы и через несколько лет вернулся бы в первобытное состояние бесплодия и нищеты; жителям, быть может, позволили бы отправиться на их собственных кораблях на какую-либо другую землю или на другой остров, который они вскоре превратили бы в богатый край, пользуясь теми же способами, какими прежде обогатили Нантакет. Один-единственный адвокат несколько лет тому изыскал средства, чтобы жить здесь, но его достаток проистекает скорее от женитьбы на одной из богатейших наследниц острова, нежели из доходов от его практики; впрочем, он иногда занимается взысканием долгов на материке или предотвращением происшествий, которые порою случаются из-за склонности жителей к спорам. Ему редко приходится защищать интересы ответчика и выступать на стороне истца, ибо на острове принято обращаться в суд лишь в самых крайних случаях, когда налицо явный обман или неотвратимая опасность. Во всех наших густонаселенных городах юристов так много, что я удивлен, отчего им раньше никогда не приходило в голову обосноваться здесь; они — растения, которые будут произрастать на любой земле, которая обработана чужими руками, а стоит им только пустить корни, как они заглушат любой другой росток округ себя. Прибыль, которую они ежедневно извлекают из несчастий своих сограждан в каждой провинции, просто поразительна! Самый невежественный, самый никчемный представитель сей профессии, очутившись в самой глухой части страны, тотчас примется поощрять сутяжничество и, не ударив палец о палец, накопит больше богатства, чем самый состоятельный фермер всем своим трудом. Они так ловко вплели свои теории и уловки в законы страны или, вернее, сделались таким необходимым злом в наших теперешних уложениях, что оно стало казаться неизбежным и неизлечимым. Как жаль, что наши праотцы, которые счастливо уничтожили такое множество пагубных обычаев и в своем светском и духовном управлении бежали такого множества старых заблуждений и злоупотреблений, равным образом не воспрепятствовали появлению группы лиц, столь опасной. В некоторых провинциях, где каждый житель постоянно занят обработкой и возделыванием земли, они единственные члены общества, обладающие какими-либо знаниями; так пусть эти провинции засвидетельствуют, как противозаконно они эти знания употребили. Они являют собою здесь то же, что духовенство прошедших веков являло у Вас; реформация, подрезавшая клерикальные крылья, — предмет гордости той эпохи и самое счастливое событие, какое только могло произойти; столь же полезная реформация требуется ныне, дабы освободить нас от позорных оков и тяжкого бремени, под коим мы стенаем; сие, по-видимому, невозможно, но если человечеству и не суждено изведать такое счастие, о нем нельзя не мечтать всем сердцем. Здесь, среди полного благополучия, не подвергаясь гнету никаких мирских властей, сие общество купцов и рыбаков живет без всяких военных установлений, без губернаторов или иных господ, кроме законов; их гражданский кодекс столь мягок, что они никогда его не замечают. Человек (подобно многим моим знакомцам) может прожить долгую жизнь, может вступить в борьбу со всевозможными превратностями судьбы, мирно наслаждаться добром, когда оно встретится на его пути, и ни разу не прибегнуть к закону за помощью или возмещением убытков. Главное благо, которое он предоставляет, это защита личности, и сия защита оплачивается самыми умеренными налогами, которые жители охотно платят, а также несущественными пошлинами, которыми порою облагаются предметы их законной торговли (ибо они презирают контрабанду). Хотя их муниципальные правила и сходны с правилами, принятыми в других графствах провинции, они отличаются крайней простотой, ибо нантакетцы живут дальше других, больше разнятся своими обычаями, а также родом своих занятий и меньше связаны с густонаселенными областями оной. Та же простота свойственна их богослужению; старейшины — единственные пастыри их общины, наставники молодежи и часто пример для подражания всей паствы. Они навешают и утешают больных; умерших общество хоронит рядом с их отцами, без всякой помпы, молитв и церемоний; над могилами не воздвигают ни камней, ни монумента, указывающих, кто где похоронен; память о них сохраняется лишь в преданиях, а памятником им служит их трудолюбие, доброта, милосердие или же самые явные их недостатки. Пресвитериане чрезвычайно благожелательны к себе и к другим; их священник, как истинный проповедник Евангелия, толкует им его основы, знакомит с наградами, которые оно сулит, и с наказаниями, которыми оно грозит тем, кто сотворит несправедливость. Нет ничего свободнее от бесполезных церемоний и пустых формальностей, чем их богослужение; его можно было бы по всей справедливости назвать простейшим, когда бы мы не знали богослужения квакеров. Как братья во Христе, повинующиеся одному законодателю, они любят и поддерживают друг друга во всех своих нуждах; как товарищи по труду, они сердечно и без всякой зависти объединяются на всех стезях мира сего; меж ними нет иного соревнования, кроме как в их морских походах, в уменье оснащать суда, ходить под парусами, загарпунивать китов и привозить домой самую богатую добычу. Как подданные одного государства, они охотно подчиняются одним и тем же законам и платят одинаковые налоги; однако не следует забывать еще одной характеристической черты сей общины: сколько мне известно, на всем острове, по крайней мере у «Друзей», нет ни единого раба; и в то время как везде кругом царит рабство, одно лишь Общество, сетуя на сие отвратительное надругательство над человеческой природой, явило миру замечательный образец умеренности{247}, бескорыстия и христианского милосердия, освободив своих негров. Я изъясню Вам далее всю меру их выдающейся добродетели и достоинств, которыми они справедливо заслужили уважение остальных своих сограждан, в назидание коим они совершили столь полезное и приятное преобразование. Счастлив народ, подвластный столь мягкому правительству; счастливо правительство, которое правит столь безобидными и трудолюбивыми подданными! В то время как мы вырубаем леса, вызывая улыбку на челе Природы; осушаем болота, сеем пшеницу и превращаем ее в муку, жители острова ежегодно собирают с поверхности моря столь же необходимые богатства. Располагай я досугом и способностями, чтобы сопровождать Вас в путешествии по сему континенту, я раскрыл бы перед Вашим взором поразительное зрелище, очень мало известное в Европе; картину всеобщего счастия, протянувшуюся от морских берегов до последних селений на самом краю необитаемых лесов; счастия, нарушаемого лишь безумием отдельных лиц, свойственным нам духом сутяжничества и теми непредвиденными бедствиями, коих не может избежать ни одно человеческое общество. Так пусть же граждане Нантакета пребудут в мире, не смущаемом ни волнами окружающей стихии, ни политическими беспорядками, которые порою сотрясают наш континент.ПИСЬМО VIII
СВОЕОБРАЗНЫЕ НРАВЫ НАНТАКЕТА
Обычаи «Друзей» всецело основываются на той простоте, которая составляет предмет их гордости и наиболее характеристическую их черту, и сии обычаи приобрели силу закона. Здесь все привержены к простоте в одежде и языке, хотя речь их не во всем соответствует правилам грамматики; местный уроженец, который попытался бы говорить более правильно, нежели другие, прослывет или фатом, или нововводителем. Напротив, приезжий, который усвоит местное наречие во всей его чистоте (согласно их понятиям), будет принят в высшей степени радушно, словно старинный член их общества. Из-за этого их столько раз обманывали, что теперь они стали осторожнее. Они так привержены своей древней привычке трудолюбия и бережливости, что если в любой день недели, кроме Первого (воскресенья), кто-нибудь из них будет замечен в длиннополом сюртуке английского сукна, его станут всячески высмеивать, порицать и сочтут безрассудным мотом, коему опасно доверять и бесполезно оказывать помощь. Несколько лет тому два нантакетца выписали себе из Бостона одноконные фаэтоны, чем вызвали неописуемый гнев у своих степенных сограждан; разъезжать в столь ярко окрашенных экипажи к и презреть ради них более простые и полезные поножи, завещанные отцами, — более страшного преступления они не могли вообразить. Сии предметы вызывающей и дотоле неведомой роскоши чуть было не явились причиной раскола и сделались притчей во языцех; одни предсказывали скорое разорение тех семей, которые их выписали; другие опасались дурного примера; с самого дни основания города еще ни разу не было случая, который так встревожил бы сию простейшую общину. Один из нечестивцев, преисполненный раскаяния, благоразумно отправил свой богомерзкий экипаж обратно на континент; второй, более упрямый и испорченный, невзирая на все увещания, упорно продолжал пользоваться своим, пока сограждане постепенно с ним не примирились; хотя я заметил, что самые богатые и почтенные люди все еще ездят на молитвенные собрания или на свои фермы в одноконной повозке с натянутым сверху благопристойным тентом; и если принять во внимание песчаную почву и скверные дороги, такие тележки представляются средством передвижения, лучше всего приспособленным для сего острова. Праздность почитается на острове Нантакет самым страшным грехом; праздный человек очень скоро становится предметом сострадания, ибо праздность по здешним понятиям есть синоним нужды и голода. Сей принцип так основательно усвоен и стал настолько общепринятым, настолько широко распространенным предрассудком, что жители острова в буквальном смысле слова никогда не сидят сложа руки. Даже когда они отправляются на рынок (который, если мне позволено будет так выразиться, есть не что иное, как городская кофейня) с целью совершить какую-либо сделку или поболтать с друзьями, то в руках всегда держат кусок дерева и, беседуя, как говорится, машинально выстругивают из него какой-нибудь полезный предмет вроде затычки для бочонка с жиром. Я должен признаться, что никогда не встречал людей, которые бы с таким искусством пользовались ножом и с такою пользой проводили самые праздные минуты своей жизни. В часы досуга во время долгих морских походов они вырезают из дерева всевозможные ящички и иные безделушки, которые привозят домой и дарят на память женам и возлюбленным. Они показывали мне всевозможные чашки и другую утварь, изготовленные с величайшим тщанием и изяществом по всем правилам бондарного искусства. Не следует забывать, что, каковы бы ни были их планы на будущее и их будущая судьба, бондарному ремеслу обучают всех; оттого в кармане у каждого жителя острова всегда имеется два ножа, один большой, а другой поменьше, и хотя островитяне презирают все, что называется модой, они выбирают себе ножи с такою же придирчивостью, с какою молодой бостонский щеголь выбирает шляпу, пряжки или камзол, и так же, как он, денег при этом не считают. Сломанный или старый нож они всегда аккуратно убирают в ящик стола. В доме мистера М., одного из почтеннейших жителей острова, я однажды видел более полусотни таких реликвий, и среди них не нашлось бы и двух совершенно одинаковых. Морские походы часто весьма продолжительны, и в отсутствие моряков их женам приходится совершать сделки, вести счета, короче говоря, распоряжаться в доме и заботиться о детях. Поскольку подобные обстоятельства часто повторяются, женщины приобретают способности и вкус к руководительству, которое, благодаря их бережливости и умелому ведению домашнего хозяйства, очевидно, вполне им по силам. Сии занятия развивают их ум и дают им заслуженное превосходство над остальными женами, вследствие чего жительницы Нантакета и Монреаля[101] так обходительны, так любезны и так сведущи во всем, что происходит в мире. Вернувшись домой, мужчины, утомленные трудами в море и полные доверия и любви, радостно одобряют все сделки, заключенные в их отсутствие, и везде царит радость и согласие. «Жена, ты хорошо постаралась», — такими словами они обыкновенно одобряют усердие и трудолюбие женщин. Что стали бы делать мужчины без помощи своих верных подруг? Когда столь многие жители города в одно и то же время уходят в море, он делается совершенно пустынным, и в сию печальную пору женщины навещают друг друга чаще, нежели при мужьях; оттого привычка без конца ходить по гостям коснулась всех женщин до единой, даже тех, чьи мужья никуда не уезжают. Перед уходом дома всегда наводится порядок; в гостях они с необыкновенной живостью коротают вечера за чашкой чая и сытным ужином. Если глава семейства уже воротился после своих трудов, он заходит за женою и спокойно сопровождает ее домой; между тем как молодые парни побойчее легко находят самый гостеприимный дом, где можно собираться с соседскими девушками. Вместо игры в карты, музыки и пения они рассказывают о своих походах за китами, обо всяких морских приключениях и о различных странах и народах, которые они повидали. «Остров Катарины в Бразилии очень чудной остров, — говорит один, — на нем живут одни мужчины, женщин к нему на пушечный выстрел не подпускают; и на всем острове нет ни единой женщины. Хорошо, что у нас все по-другому! Нантакетские девушки и парни весь свет за пояс заткнут». В ответ на сию невинную шутку кругом раздаются смешки; собравшиеся шепчут друг другу все, что придет им в голову; такие вечеринки никогда не обходятся без пудингов, пирогов и сластей; ибо я уверен, что ни один народ, находящийся в сходных обстоятельствах, никогда еще не жил в таком достатке и даже изобилии. Поскольку пьянство здесь неизвестно, а музыку, пение и танцы равным образом презирают, то в часы досуга местные жители любят хорошо поесть. И вот молодые люди сидят, разговаривают и развлекаются как умеют; гот, кто недавно вернулся из похода, ораторствует более прочих; все смеются и болтают; все они совершенно счастливы и ни за что не променяют свои веселые вечеринки на самые блестящие балы в Европе. Вечер продолжается до возвращения родителей, после чего все расходятся по домам, причем мужчины провожают своих подруг. Так нантакетцы проводят многие вечера своей молодости, и оттого немудрено, что они рано женятся. Но, вступив в брак, они уже не кажутся столь живыми и веселыми; новое положение в обществе внушает им серьезные мысли, каких они прежде не знали. Звание отца семейства требует более солидного поведения и манер; молодая жена попадает под руководство обычая, не менее сильное, нежели тирания моды; она постепенно начинает давать советы и наставления; молодой муж скоро уходит в море, он оставляет ее постигать и вершить новую власть, коей она теперь облечена. Те мужья, которые остаются дома, обыкновенно столь же бездеятельны, во всяком случае в том, что касается внутренних семейных дел. Однако из сего рассказа не следует выводитьзаключение, будто женщины Нантакета отличаются необузданным нравом, раздражительностью и властолюбием; напротив, шерборнские жены в своем поведении всего лишь следуют господствующему на острове обычаю; а мужья, равно покорные старинным и добропорядочным нравам своей страны, подчиняются им, даже не подозревай, что в этом может быть нечто неприличное. Если б им пришлось вести себя иначе, они боялись бы нарушить законы своего общества, изменив старинные правила; таким образом, обе стороны совершенно довольны и везде царит мир и согласие. Самый богатый человек на острове всем своим нынешним процветанием и успехом обязан оборотливости собственной жены; все знают, что, когда он уходил в первые плавания, она торговала иголками и булавками, а сверх того содержала школу. Позже она стала покупать более дорогие вещи и продала их так выгодно, что заложила основу дела, которое с тех пор ведет столь же успешно и умело. Она списалась с Лондоном, завела знакомства, короче говоря, единолично управляет фирмой и на острове, и за его пределами. Кто из граждан нашей страны и кто из граждан Нантакета и Бостона не знает тетушку Кисайю? Я должен сказать Вам, что она — жена мистера К…на, весьма почтенного человека, который так доволен всеми ее планами, так доверяет ее суждениям и полагается на ее мудрость, что совершенно не знает забот о своей семье. У них лучшее загородное имение на всем острове, где они живут гостеприимно и в полном согласии. Он, по-видимому, склонен к созерцательности. Вдобавок к способности вести дела своих отсутствующих мужей, нантакетские жены еще и весьма трудолюбивы. Они сами или с помощью работниц прядут шерсть и шелк и были бы навеки опозорены, прослыв бездельницами, если бы не одевали всех своих домашних в хорошее опрятное домотканое платье. Здесь только по воскресеньям мужчинам и женщинам дозволено наряжаться в одежду английского производства; но даже это есть дешевое платье самых мрачных тонов; все одеты совершенно одинаково и в сем отношении походят на членов одной семьи. Среди здешних женщин существует один своеобразный обычай, который чрезвычайно меня удивил; и я, право, не знаю, какова была причина, первоначально породившая в сем примитивном обществе такую странную моду или, вернее, такую необыкновенную потребность. Уже много лет они следуют азиатской привычке каждое утро принимать дозу опиума, и привычка сия гак глубоко укоренилась, что они просто не могут жить без своего зелья; они предпочли бы скорее лишиться самого необходимого, нежели отказаться от излюбленной страсти. Она гораздо шире распространена среди женщин, нежели среди мужчин, лишь немногие из коих заразились сим недугом; правда, шериф, которого я могу назвать самой важной персоной на острове, — он к тому же еще известный врач, и я имею удовольствие быть с ним хорошо знакомым, — много лет был жертвой сей пагубной привычки. Ежедневно после завтрака он принимает три крупинки опиума, без воздействия коего, как он мне часто говорил, он не в состоянии ничего делать. Трудно понять, отчего люди, всегда счастливые и здоровые вследствие труда на открытом воздухе, никогда не отягощаемые миазмами праздности, нуждаются в мнимых целительных свойствах опиума для сохранения бодрости, которую они столь справедливо заслужили своею трезвостью, климатом и счастливыми обстоятельствами? Однако где найти общество, совершенно свободное от безумств и заблуждений? Ведь наименее несовершенное общество, без сомнения, то, в коем преобладает величайшее добро, и в соответствии с сим правилом я могу по всей справедливости утверждать, что никогда не знал общества менее порочного или более безобидного. Большая часть нынешних жителей острова суть потомки двадцати семи первых владельцев, которые получили право на землю; остальные приехали позже, главным образом из Массачусетса; здесь нет ни шотландцев, ни ирландцев, ни французов, как почти во всех других поселениях; здесь живут только чистокровные англичане. Вследствие таких длительных связей все в какой-то степени состоят в родстве; поэтому не удивляйтесь, если я скажу Вам, что они называют друг друга кузенами, дядями и тетями и в повседневном обхождении не употребляют иных обращений, из-за чего кажутся одной большой семьею; если кто-нибудь не станет следовать сему старинному обычаю, его сочтут чопорным и жеманным. Даже те многочисленные горожане, у кого на острове нет ни единого родственника, в силу привычки пользуются оными же словами в разговоре. Если б Вы провели здесь всего несколько дней, Вам пришлось бы перенять сию манеру выражаться, которую никак нельзя назвать неприятной, ибо сна подразумевает общее знакомство и дружбу, объединяющую всех в единстве и мире. Любовь к рыбной ловле так широко распространена, что опа поглощает все их внимание и даже мешает ввести более совершенные способы земледелия. Существует много полезных усовершенствований, которые могли бы улучшить их почву, существует много деревьев, которые прекрасно прижились бы здесь и послужили бы защитой и украшением их любимых угодий, которые они так старательно удобрили. Я уверен, что виргинский можжевельник, акация, платан и многие другие деревья росли бы здесь очень быстро и достигали большой высоты, но все помыслы жителей обращены только к морю. Маис начинает приносить им хороший урожай, а пшеница, посеянная на его жнивье, стала чрезвычайно выгодным злаком; здесь можно без особых стараний выращивать рожь, а при желании и несметное количество гречихи. Подобный остров, населенный вышеописанными людьми, отнюдь не являет собою места, куда легкомысленные путешественники могли бы отправиться в погоне за всевозможными удовольствиями, которые представляют более роскошные города на нашем континенте. Нельзя сказать, что местные жители совсем лишены удовольствий и невинных развлечений; просто богатство ведет здесь не к роскоши и мотовству, а к расширению торговли, к еще большему гостеприимству, к большей опрятности в приготовлении пищи и к употреблению более дорогих вин. Островитяне часто, как я уже говорил, гуляют и беседуют друг с другом, а в особо торжественных случаях ездят в Палпус, где имеется трактир, но сии сельские забавы отличаются тою же умеренностью, что и городские. Они так просты, что едва поддаются описанию; совместные увеселительные поездки, болтовня и прогулки, состязания в поднятии и метании тяжестей — вот и все удовольствия, которые им известны. Ничем иным они не развлекаются и, по-видимому, ничего иного не желают. Трактир в Палпусе обыкновенно посещают те, кто позволяет себе роскошь держать одноконный фаэтон или по-прежнему предпочитают ему, как и большинство жителей, свою допотопную повозку. Отправляясь туда, они вкушают наслаждение от перемены мест и долгого пребывания на свежем воздухе; в день великого праздника они могут позволить себе поднять бодрящую чащу, но сия слабость простительна в таком климате. Верховая езда должна доставлять принятнейшее физическое упражнение для тех, кто столь много примени проводит в море. Меня однажды пригласили поехать в трактир, и я имел удовольствие сопровождать туда одну из множества местных красавиц (ибо остров изобилует красивыми женщинами), в очаровательном своею простотой наряде; подобно всем собравшимся, она веселилась без громкого хохота, улыбалась без жеманства и казалась оживленною без легкомыслия. Я еще никогда в жизни не видел такого непритворного веселья, смешанного с такою скромностью. Все развлекались с величайшей живостью и с самой невинною свободой; ни отвратительное ханжество, ни кокетство не омрачали сию веселую ассамблею; каждый вел себя согласно своим природным склонностям, единственным правилам приличия, которые им известны. Что сталось бы с европейцем без скрипки, танцев и карт? Он назвал бы нашу компанию нудным сборищем и счел сей день одним из скучнейших в своей жизни. Эта сельская поездка чрезвычайно напоминала мне увеселения, принятые в нашей провинции, с тою лишь разницей, что мы не имеем ничего против веселого танца, хотя бы и под немудреные звуки какого-нибудь африканского скрипача-самоучки. Мы воротились столь же довольные, как и выехали, и яркий свет месяца любезно удлинил день, который, как и другие приятные дни, пролетел удивительно быстро. Чтобы осмотреть остров с той стороны, которая всего более удалена от города, я отправился к его восточной оконечности, примечательной одним лишь мысом Почик-Рип, где ловится самая ценная рыба. Миновав превосходно обработанные общинные поля Тетукема с ровными, аккуратными изгородями из можжевеловых столбов и перекладин, я спустился в долину Бэрри, где мятлик и пырей разрослись гуще, чем в других частях острова, затем проехал к Гибову пруду и наконец добрался до Сайасконсета. На сем диком берегу выстроено несколько лачуг для укрытия рыбаков во время лова; все они были пусты, кроме той, куда меня направили. Она стоит на самой высокой части берега и смотрит прямо на открытый океан; почва здесь сплошь песчаная, поросшая скудной редкою травой. Особенно достойною внимания в моих глазах делало сию хижину то обстоятельство, что она была построена на развалинах одной из старинных лачуг, возведенных первыми поселенцами, чтобы следить за появлением китов. Здесь живет одна-единственная семья, соседей у нее нет; я никогда еще не встречал уголка, более удачно выбранного для одиноких раздумий, ничем не связанных с большим миром и бесконечно далеких от всех его волнений и тревог. Единственное, что представляется взору этого семейства, — вечно бушующий океан; он неодолимо привлек к себе все мое внимание; глаза мои невольно направились к горизонтальной линии на краю сей водной глади, которая вечно находится в движении и вечно грозит разрушить берега. Меня оглушил рев волн, перекатывавшихся друг через друга, словно какая-то высшая сила повелела им поглотить клочок земли, на коем я стоял. Я невольно вдыхал соленые испарения, которые поднимались с рассеянных частиц пенящихся валов или водорослей, выброшенных на берегу. В уме моем роились тысячи смутных мыслей, в час их непроизвольного зарождения даже приятных, но теперь наполовину забытых и совсем неясных; да и кто из сухопутных жителей способен без страха созерцать столь удивительную стихию, которая вследствие своей необузданности кажется разрушителем нашей несчастной планеты, но в какое-то определенное время собирает разрозненные обломки и строит из них острова и материки, пригодные для обитания людей! Кто может без изумления наблюдать регулярное перемещение ее вод, которые то вздуваются и проникают во все реки и устья, облегчая судоходство, то, откатившись от берегов, позволяют людям собирать всевозможных моллюсков, сие подспорье бедняков? Кто может наблюдать штормовые ветры, порывы коих иногда бывают столь могучи, что, кажется, способны сдвинуть с места весь шар земной, и не почувствовать, что мысль его неодолимо рвется за пределы повседневных понятий? Неужели это тот же самый ветер, что лишь немного дней назад обдувал американские поля и навевал нам освежающую прохладу; неужели это он так страшно сотрясает морские воды, ломает судовые мачты, топит корабли и творит такие опустошительные катастрофы? Сколь же ничтожною букашкой должен показаться самому себе человек, когда он, полный сих дум, стоит, подобно мне, на берегу океана? Семья, упомянутая мною, живет одной лишь рыбной ловлей, ибо плуг доселе не посмел еще взрыхлить иссушенную поверхность близлежащей равнины; да и с какою целью совершать сей труд? Разве там, где человек наслаждается свободою и политическим благоденствием, он не найдет мира, безопасности и изобилия? Для того чтоб сделать сие место наилучшим прибежищем философских умозрений, недоставало лишь нескольких старых деревьев, под сенью коих раздумья текли бы в столь любезном им одиночестве. Здесь я увидел многочисленное семейство с детьми от мала до велика — благословенными плодами раннего супружества, румяными, как вишни, здоровыми, как рыба, коей они питаются, и крепкими, как сосны; старшие, с младенчества причастившись тайн морского дела, которое назначено им в удел, могли без страха встречать лицом к лицу неистовые волны; младшие, пока еще робея, на берегу спокойного пруда пускали кораблики, изготовленные из ореховых скорлупок и деревяшек, приготовляясь в будущем вести более крупные отцовские корабли по глубокому бурному океану. Я провел здесь два дня с целью ознакомиться с различными отраслями хозяйства и образом жизни в сей необыкновенной уединенной обители. Моллюски и прибрежные устрицы вместе с индейскими лепешками составляют ежедневную и весьма сытную пищу семьи. На соседних отмелях часто ловят и более крупную рыбу, которая служит им величайшим лакомством; имеется также в изобилии копченая свинина. Гудение прялки возвещало о занятиях матери семейства и дочерей; одна из них обучена ткацкому ремеслу и, имея в доме станок, сумела одеть всю семью; все ведут себя весьма непринужденно и, по-видимому, ни в чем не нуждаются. Книг я нашел здесь очень мало — сии люди имеют очень мало времени для чтения; самые обширные их библиотеки состоят из Библии и нескольких школьных учебников на языках нейтиков и английском. Правда, я обнаружил несколько экземпляров «Гудибраса»{248} и Иосифа Флавия{249}, но никто не знает, как они сюда попали. Несколько странно наблюдать, как сии люди, на первый взгляд столь суровые и чуждые всем родам словесности, с удовольствием читают «Гудибраса», что, казалось бы, требует некоторой доли вкуса и предварительных исторических познаний. Однако ж они постоянно читают поэму и могут наизусть повторить многие отрывки, хотя я совсем не уверен, что они способны понять ее достоинства. Разве не удивительно видеть подобные сочинения в руках рыбаков, почти совершенно незнакомых ни с какими другими книгами? «История» Иосифа, конечно, понятнее им и более соответствует их образованию и вкусам, ибо в ней описывается история народа, завещавшего нам пророчества, в которые мы верим, и законы религии, которым мы следуем. Ученых путешественников, повидавших картины и древности Италии и Рима, все еще исполненных восторга и благоговения, которые внушают оные, едва ли удалось бы убедить, что столь ничтожный уголок, в коем нет ничего примечательного, кроме гения и трудолюбия его жителей, тоже может быть достойным внимания. Но я, никогда не видевший красот, коими изобилует Европа, охотно удовлетворюсь внимательным изучением того, что имеет выставить на обозрение моя родная страна, и если у нас нет античных амфитеатров, раззолоченных дворцов и высоких шпилей, мы в наших лесах наслаждаемся истинным счастием, какого не могут дать никакие чудеса искусства. Никто из нас не подвергается гнету правительства или церкви; у нас очень мало бедняков, если не считать бездельников; и, к счастию, сила примера и всяческая поддержка быстро одушевляют честных европейцев стремлением к деятельности, которое, быть может, было подавлено в их родных странах за недостатком возможностей, что так часто заставляет их искать убежища среди нас. Средства к существованию в Европе ограничены; армия, быть может, и многочисленна, флот полон моряков, промышленник обременен излишком рабочих рук; так что же в сем случае должно статься с безработными? Здесь, напротив, человеческому трудолюбию открыто безграничное поле деятельности — поле, которое не будет полностью возделано еще много веков!ПИСЬМО IX
ОПИСАНИЕ ЧАРЛЬСТОНА; РАЗМЫШЛЕНИЯ О РАБСТВЕ, О НАСИЛИИ;
ДУШЕРАЗДИРАЮЩАЯ КАРТИНА
Чарльстон на севере то же, что Лима на юге; каждый из них — столица самой богатой провинции своего полушария, из чего Вы можете заключить, что вид обоих городов непременно должен свидетельствовать о благосостоянии. Перу изобилует золотом, и от того Лима полна жителей, наслаждающихся всеми степенями удовольствий, роскоши и изящества, проистекающими из богатства. Каролина производит товары, которые, быть может, ценнее золота, ибо они добыты большими усилиями; она равным образом выставляет на нашу северную сцену богатство и роскошь, хотя и уступающие Перу, но далеко превосходящие все, что можно увидеть в наших северных городах. Местоположение Чарльстона превосходно, он построен при слиянии двух больших рек, принимающих в свое течение множество других; они менее значительны, но весною пригодны для плаванья плоскодонных судов. Сюда стекаются все товары, произведенные на этой обширной территории, и потому город являет собой средоточие ценнейшего вывоза, а его верфи, доки и склады своим удобством облегчают сии крупные торговые сношения. Местные жители самые веселые в Америке; Чарльстон называют центром нашего великосветского общества, в нем всегда полно богатейших плантаторов, приезжающих сюда в поисках здоровья и удовольствий. Здесь всегда можно увидеть множество больных из Вест-Индии, которые надеются поправить свое здоровье, истощенное пагубным действием тамошнего солнца, воздуха и образа жизни. Я видел много жителей Вест-Индии, уже в 30 лет отягощенных всеми старческими недугами, ибо в сих богатых странах люди обыкновенно теряют способность наслаждаться радостями жизни в том возрасте, когда северяне лишь начинают вкушать плоды своих трудов и воздержания. Чреда удовольствий и затраты на стол превышают все, что Вы можете вообразить; этот город и вся провинция выросли с поразительной быстротой. К сожалению, узкий перешеек, на коем стоит Чарльстон, препятствует его увеличению, что и составляет причину дороговизны здешних домов. Жара, порою очень сильная во внутренних частях колонии, в Чарльстоне всегда умеренная, хотя временами, когда с моря не дует бриз, солнце печет невыносимо. Из-за климата излишества всякого рода, особенно в еде, чрезвычайно опасны, однако, не зная или не боясь опасности, чарльстонцы беспечно наслаждаются короткой и веселой жизнью. Можно даже подумать, что сами солнечные лучи неодолимо влекут их к разгулу и наслаждениям; женщины, напротив, благодаря воздержанию, достигают более преклонного возраста, и редко которая из них не переживает нескольких мужей. Европеец, впервые приехавший сюда, невольно дивится изяществу домов, роскошной мебели и изобилию их стола. Может ли он представить себе, что очутился в стране, лишь недавно основанной? Местные жители подразделяются на три главных класса: адвокаты, плантаторы и купцы. Первым в сей провинции досталась самая крупная добыча, ибо ничто не может превзойти их богатство: силу и влияние. Они достигли ne plus ultra[102] мирского благополучия; без их приказа, подтверждения и одобрения ни одна плантация не будет застрахована, ни один документ на владение землей не будет действителен, ни одно завещание не возымеет законной силы. Сия братия распоряжается всею собственностью провинции вместе взятой и не в пример священникам и епископам почитает ниже своего достоинства удовлетворяться жалкою моисеевою десятиной{250}. Я призываю в свидетели многих жителей провинции, которые, доказывая свое право на несколько сотен акров, заблудились в лабиринте законов и лишились своего родового наследия. Здешние юристы — не толкователи законов, а скорее законодатели, и здесь, как и в большей части остальных провинций, объединили искусство и ловкость писаря с честолюбием владетельного князя; кто знает, к чему сие может привести в будущем? Особенности наших законов и дух свободы, часто побуждающие нас к тяжбам, неизбежно должны бросить большую часть собственности колоний в руки этих господ. В следующем столетии юристы будут владеть на севере тем, чем ныне владеет церковь в Перу и Мексике. В то время как в Чарльстоне царят радость, счастье и веселье, можете ли Вы себе представить сцены бедствий, распространенные повсюду в сельской местности? Уши чарльстонцев в силу привычки стали глухи, сердца их ожесточились, они не видят, не слышат, не разделяют страданий своих несчастных рабов, из чьего тяжелого труда проистекает все их богатство. Ужасы рабства, тяготы беспрерывной страды остаются здесь невидимыми, никто не думает о потоках пота и слез, коими ежедневно обливаются африканцы, увлажняя ими землю, которую они возделывают. Свист бича, побуждающего этих несчастных к непосильному труду, слишком далек от развеселой столицы, чтобы его кто-либо услышал. Представители избранной расы едят, пьют и наслаждаются счастием, в то время как обездоленные вскапывают землю, выращивают индиго или лущат рис под лучами солнца, столь же знойного, как в их родном краю, но без поддержки сытной пищи и укрепляющих напитков. Сей разительный контраст часто доставлял мне темы для мучительнейших раздумий. С одной стороны перед па ми люди, пользующиеся всеми приятнейшими и восхитительнейшими благами жизни — они не знают ни труда, пи усталости и даже не обременяют себя никакими желаниями. За золото, добытое в горах Перу, они снаряжают корабли к берегам Гвинеи; ценою сего золота творятся войны, убийства и опустошения на безобидной и мирной африканской земле, где обитали невинные народы, не ведавшие даже, что не у всех людей на свете черная кожа. Дочь отрывают от рыдающей матери, дитя от убитых горем родителей, жену от любящего мужа; целые семьи хватают и сквозь шторм и ураганы везут в сию богатую с голицу! Здесь их выставляют на продажу как лошадей па ярмарке, клеймят как скотину и заставляют несколько лет работать, голодать и умирать медленною смертью на плантациях. И на кого должны они работать? На людей, которых они не знают и которые не имеют над ними иной власти, кроме власти насилия, иного права, кроме того, коим наделил их сей проклятый металл. Что за странные правила! О Природа, где ты? Разве сии чернокожие не суть твои дети, как и мы? С другой стороны всеобщие терзания и скорбь, от коих нет спасения даже в мечтах и помыслах! День за днем несчастные трудятся без всякой надежды когда-либо пожать плоды своих трудов; всю свою жизнь, все члены волю и усилия обязаны они употребить на умножение богатства хозяев, которые не уделяют им и половины той привязанности и заботы, какою окружены их лошади и собаки. Привязанность и доброта не суждены тем, кто возделывает землю, таскает тяжести и превращает бревна в полезные доски. Сия награда, столь простая и естественная, как можно было бы подумать, граничила бы с гуманностью, но плантаторам выказывать ее не должно! Если неграм позволяют стать отцами, сия роковая милость ведет лишь к умножению их страданий; те несчастные, что разделяют их скудные радости, разделяют и их труды, а когда в тяжелую пору рабы желают помочь своим женам, то со слезами на глазах видят, как те сгибаются под тяжестью двойного гнета, вынужденные нести бремя природы — о роковой дар! — и бремя бесконечного труда. Многие негры на моих глазах проклинали сию неодолимую тягу и раскаивались в том, что, вкусив невинных радостей, сделались виновниками удвоенных мучений своих жен. В отличие от хозяев они не смеют наслаждаться невыразимыми чувствами, коими природа вдохновляет сердца отцов и матерей, они должны подавлять их и становиться жестокосердными и безучастными. Сие противоестественное состояние часто вызывает острейшие, горчайшие муки; в отличие от нас у рабов нет времени заботливо растить своих беспомощных младенцев, ласкать их у себя на коленях и упиваться родительским восторгом. Их родительская любовь отравлена сознанием, что если их дети выживут, то станут такими же рабами, как они; им не дают времени для отправления священных обрядов; матери должны привязывать младенцев за спину и с этою двойной ношей следовать за мужьями на поля, где часто не слышат иных звуков, кроме понуканья или щелканья бича надсмотрщика и криков своих младенцев, изнемогающих от зноя. Несчастные создания кричат и плачут подобно своим родителям, без всякой надежды на избавление; даже животный инстинкт, столь похвальный, столь неодолимый, противоречит здесь выгоде хозяина, а перед сим божеством должны склониться все законы Природы. Таким способом плантаторы богатеют, я же настолько несведущ и чужд подобному образу жизни, что, будь я владельцем плантации, где с моими рабами обращались бы так же, как здесь, я никогда не знал бы покоя, сон мой постоянно нарушался воспоминаниями об обмане, совершенном в Африке, чтобы завлечь их в ловушку, об обмане, превосходящем своею гнусностью все, что может постигнуть обыкновенный человеческий ум. Я думал бы о варварском обращении с ними на борту корабля, об их муках, об отчаянии, неизбежно охватившем пленников, оторванных от друзей и близких и отданных во власть людей с другим цветом кожи, которых они не понимают, увлекаемых в каком-то странном сооружении по вечно бушующей, невиданной ими дотоле стихии и, наконец, обреченных на побои надсмотрщиков и непосильный труд на полях. Неужели сила привычки когда-либо заставит меня отбросить все эти мысли и сделаться таким же глухим и равнодушным к несправедливости торговли рабами и к их мучениям, какими представляются мне богатые жители сего города? Что же такое тогда человек, существо, которое столь безудержно похваляется совершенством и достоинством своей природы среди всевозможных непостижимых тайн и неразрешимых загадок, коими он окружен? Причина, в силу которой человек был создан таким, не менее поразительна! Я знаю, плантаторы говорят, будто здесь рабам живется лучше, чем в Вест-Индии, ибо на нашем континенте земля дешевле, нежели на тех островах, а поля, с коих им позволяют добывать себе пропитание, более обширны. Единственная возможность облегчить положение невольников зависит от прихоти плантаторов, а те, взращенные среди рабов, по примеру своих родителей учатся их презирать и едва ли способны почерпнуть из религии или философии мысль о том, что необходимо сделать их участь менее ужасной, если только природное добросердечие или искра гуманности не превозмогут закоренелую жестокость, приобретенную привычкой. Я прожил здесь слишком недолго, чтобы стать безразличным ко всему, что я вижу каждый день. Я всегда выбираю себе таких друзей и знакомых, в ком могу найти созвучие своим чувствам. В наших северных провинциях тоже имеются рабы; я надеюсь, что приближается время, когда все они будут освобождены, но насколько иная у них участь, насколько иное положение! Они пользуются тою же свободой, что и их хозяева; они так же хорошо одеты и накормлены; здесь следят за их здоровьем, заботливо ухаживают за больными; они живут под одной с нами крышей и в полном смысле слова являются членами наших семей. Многих обучили грамоте и преподали им начатки религии; они трудятся наравне с нами, и с ними обращаются как с равными; у них много привилегий, много установленных законом праздников, и никто не заставляет их работать больше белых. Они женятся по взаимной склонности, каждую неделю посещают своих жен, они одеты как все остальные; им не возбраняется воспитывать, ласкать и наказывать своих детей, кои чтут их как своих законных родителей; короче говоря, они пользуются всеми благами нашего общества, не будучи обязанными нести бремя его забот. Они упитанны, здоровы, сильны и, отнюдь не жалуясь на судьбу, почитают себя счастливее многих белых низшего состояния; они делят с хозяевами провизию, которую помогают добывать; многие из тех, кому добрые квакеры дали свободу, приняли сие великое благо со слезами сожаления и, даже став свободными, не покинули прежних своих хозяев и благодетелей. Однако правда ли, что, как здесь утверждают, эти черномазые неспособны к соревнованию и глухи к радостным звукам поощрения? Ничего подобного; можно привести тысячу примеров в доказательство их верности и благодарности; следовательно, сердца, в коих могут произрастать столь благородные побуждения, подобны нашим, они восприимчивы ко всякому доброму чувству, ко всякому полезному побуждению; они способны умножать знания, впитывать новые идеи, которые в большой степени облегчат бремя их страданий. Однако какие способы применялись для достижения столь желанной цели? Никакие, день прибытия и продажи рабов — первый день их труда, труда, который с этого часа не дает им передышки, ибо хотя по закону им полагается в воскресенье отдыхать, они вынуждены тратить время, отведенное для отдыха, возделывая свои клочки земли. Чего же можно ожидать от несчастных в подобных обстоятельствах? Их насильственно оторвали от родной земли, с ними жестоко обращались на борту корабля и не менее жестоко на плантациях, куда их ежедневно гонят, так возможно ли, чтобы подобное обращение не разожгло в них все страсти, не посеяло семена неискоренимого гнева, не возбудило вечного стремления к мести? Рабы остаются во власти этих неодолимых естественных инстинктов, и разве удары, коими их осыпают, могут подавить эти инстинкты и вызвать у несчастных привязанность к своим мучителям? Они не тешатся надеждой получить свободу до конца своих дней и не черпают бодрости ни в здоровой пище, ни в мягком обращении. Им никогда не внушают надежд, которые сулит человечеству религия, сия система утешения, столь благотворная для обездоленных; тяжесть их цепей не облегчают ни моральными, ни физическими средствами; они коснеют в состоянии первобытного невежества, в том самом состоянии, в коем так быстро разгораются пылкие страсти и естественная жажда мести. Ничто не пробуждает в них волю и усердие; им не сулят ничего, кроме страхов и наказаний, смерть уготована им, если они вздумают бежать, жесточайшие пытки, если посмеют говорить со свойственной им от природы смелостью, но вечный страх перед бичом и казнью уже не достигает цели. Несколько лет назад в Джорджтауне обосновался один священник, который, разделяя чувства, ныне испытываемые мною, обратился с амвона к плантаторам с горячим призывом умерить жестокость; он проповедовал христианское милосердие и патетически использовал великолепные заповеди сей религии, дабы смягчить сердца прихожан и внушить им большее сострадание к рабам, нежели то было в обычае прежде. «Сударь, — сказал ему один из его слушателей, — мы платим вам приличное жалованье, чтобы вы читали нам молитвы и толковали те части Библии, кои предписаны правилами церкви, но мы не хотим, чтобы вы учили нас, как поступать с нашими черномазыми». Священник почел благоразумным воздержаться от дальнейших увещаний. Откуда взялось сне достойное удивления право или, вернее, сей варварский обычай, ибо здесь, без сомнения, нет никакого прана, кроме права силы. Верно нам говорят, что рабство не может быть столь противно человеческой природе, как мы воображаем, ибо оно существовало во все времена и у всех народов; даже лакедемоняне, сии великие поборники свободы, покорили илотов{251} с целью обратить их в рабство, а римляне, коих мы почитаем нашими наставниками в гражданской и военной политике, творили чудовищный гнет и побеждали своих противников, чтобы их поработить и ограбить. Сколь отвратительную картину должна была в то время являть собою вся земля! Провинции, города, области часто совершенно опустошены! Их жители тысячами согнаны в Рим, на этот величайший в мире рынок, и проданы там в рабство! Римские доминионы обрабатывались руками несчастных, кои прежде, подобно их завоевателям, были свободны, богаты и обладали всеми благами, какие только может дать общество, покуда не пали жертвой жестокого права войны и беззаконной силы. Неужто не существует верховной силы, которая направляет не только физические, но и моральные явления в мире? Та величавая рука, что с такою точностью руководствует движением планет вокруг Солнца, что с такою благородной мудростию и отеческой заботой сохраняет порядок во всей этой огромной системе и не допускает ее впасть в хаос, неужели она покинет человечество во власти всех заблуждений, какие только может произвести самая буйная ярость, самые опасные пороки и страсти? История земли! Являет ли она собою что-либо, кроме самых отвратительных преступлений, творимых повсеместно от одного конца света до другого? Мы видим, что везде и всюду равно господствуют алчность, насилие и убийство. История постоянно говорит нам о миллионах людей, брошенных на произвол безумнейших правителей, о целых народах, обреченных слепой ярости тиранов, об опустошенных государствах, о народах, поочередно обрекающих друг друга на гибель посреди развалин, о землях, некогда великолепно возделанных, а ныне снова впавших в первобытную дикость, о плодах вековых трудов многих тысяч, за короткое время уничтоженных немногими! Если какой-то уголок несколько лет мирно дышит, его в свой черед поработят, истерзают и сровняют с землей. Невольно начинаешь думать, что принципы, коими в своих делах руководствуется человек — если почитать его главной действующей силой нашей планеты, — отравлены в наиболее существенных своих частях. Мы никоим образом не принадлежим к тому разряду существ, к коему самонадеянно себя причисляем; кажется, что насилие и жажда крови крепко укоренились в сердце человека, этого хищного животного; более того, он почитает их самым благородным делом в обществе; мы никогда не слышали о герое в математике, в науках или человечности, нет! сие почетное звание приберегается для самых удачливых палачей в мире. Хотя Природа отвела нам для жилья плодородную землю, она поскупилась на свойства и склонности, кои позволили бы нам сполна ею насладиться. До сих пор возделана едва ли половина обширной поверхности нашей планеты; едва ли половина оной заполнена; Природа создала человека, поселила его в леса или на равнины и наделила страстями, кои вечно должны препятствовать его счастию; слабые склоняются пред сильными; люди, подобно стихиям, всегда пребывают в состоянии войны; сила, зло и коварство всегда торжествуют над беззащитной честностью и простодушием. Милосердие, умеренность и справедливость суть добродетели, присущие лишь представителям низшего состояния; мы любим толковать о добродетели и восхищаться ее красотою, пребывая под сенью уединения и одиночества, но, вступив на стезю деятельной жизни, увидим ли мы, что в единоборстве с какой-либо страстью или желанием добродетель одержит верх? Вот почему так много религиозных шарлатанов торжествовало победу над легковерным человечеством и возвело свои лживые вымыслы в символ веры последующих поколений на многие века, покуда они не обветшали от времени и их не заменили новыми. Вот почему самая несправедливая война при поддержке силы всегда одерживает верх; вот почему самые справедливые войны, коих поддерживает одна лишь их справедливость, столь же часто терпят поражение. Таково господство силы, верховного арбитра всех революций, какие мы наблюдаем на нашей планете; сила столь неодолимая, что она часто извращает самые мощные движения и препятствует исполнению самых спасительных планов, хотя и задуманных на благо человечества самим Владыкою вселенной. Такова порочность человеческой природы; кто может проникнуть все се пределы? Одушевившись филантропией, мы часто говорим о милостивой Природе, доброй матери, которая в своих заботах о благе человечества употребила особенные усилия, дабы разнообразить виды растений, фруктов, зерна и различных плодов земли, а также придала характеристические преимущества всякому климату. Сей предмет для размышления, несомненно, вызывает в нас глубочайшую признательность, ибо ее родительское великодушие было столь безмерно, что там, где преобладает бесплодная почва и суровый климат, она вселила в сердца человека чувства, кои превозмогают всякое горе и восполняют все нужды. Она одарила жителей этих краев привязанностью к их первобытным скалам и диким берегам, какой не знают обитатели плодородных земель умеренной зоны. Однако если мы окинем внимательным взором земной шар, не представится ли он нам скорее местом наказаний, нежели восторгов? И, к несчастью, сии наказания достаются невинным, а редкие наслаждения — самым недостойным! Голод, болезни, стихийные бедствия, человеческие распри, раздоры и тому подобное суть порождения всякого климата, и сверх того, всякий климат порождает пороки и страдания, свойственные его местоположению. Взгляните на бесплодные льды севера, чьи голодные обитатели, едва знакомые с солнцем, живут и питаются хуже медведей, на коих они охотятся и коих превосходят лишь даром речи. Взгляните на арктические и антарктические области, сии огромные пустыни, где нет ничего живого, области вечного снега, где зима со всеми ее ужасами воздвигла свой трон и подавила все созидательные силы природы. Назовете ли Вы людьми несчастных кочевников, живущих в этих странах? Теперь сравните сию ледяную силу севера с силою южного солнца; рассмотрите пересохшие земли тропической зоны, насыщенные испарениями серы; взгляните на страны Азии, подверженные смертоносным болезням, истребляющим все живое; взгляните на земной шар, часто сотрясаемый судорогами изнутри и извне, извергающий из множества источников потоки кипящей лавы, что незаметно сочатся из огромных подземных могил, в коих однажды найдут свою гибель миллионы! Посмотрите на ядовитую почву экватора, на эти гнилые вонючие дебри, кишащие ужасными чудовищами, врагами рода человеческого, а потом посмотрите на песчаный континент, иссушенный, быть может, роковым приближением какой-нибудь древней кометы, а ныне являющий собою мерзость запустения. Изучите дожди, свойственные сим областям, где массы серы, горной смолы и электрического огня, объединив свои убийственные силы, непрестанно нависают и взрываются над земным шаром, грозя ему полным уничтожением. На этой крошечной скорлупке так мало уголков, где человек может жить и благоденствовать! Даже в областях умеренного климата, которые, казалось бы, дышат счастьем и покоем, яд рабства, свирепость деспотизма и ярость предрассудков объединились против человека! Здесь лишь немногие живут и правят, тогда как многие умирают с голоду, произнося напрасные мольбы; здесь человеческая природа является, быть может, более порочной, чем в странах с менее благоприятным климатом. Плодородные равнины Азии, тучные низины Египта и Диарбека, плодородные поля вдоль берегов Тигра и Евфрата, обширные земли во всех частях Ост-Индии взору географа должны представляться словно нарочно отведенными для земного рая; однако, хоть они и изобилуют первобытными богатствами природы, хотя природа своими милостями щедро осыпала сии благословенные края, мы здесь находим самых несчастных людей на свете. Они почти всюду лишены столь естественной для человечества свободы, коей пользуются одни лишь их тираны; словом «раб» здесь называют людей всех состояний, которые, словно некоему божеству, поклоняются созданью ниже их самих, покорствуя всякому капризу и беззаконию, каким только может предаваться ничем не ограниченная сила. Там, где должны раздаваться одни лишь звуки мира, благодарности и веселия, льются слезы и слышатся бесконечные стенанья. Здесь исступленная тирания попирает лучшие дары природы, играя судьбою, счастием и самою жизнию миллионов; здесь неисчерпаемое плодородие земли всегда сулит неисчерпаемые бедствия ее обитателям! Людей повсюду обучают искусству проливать чужую кровь, поджигать чужие жилища, стирать с лица земли произведения чужих трудов; половину своего существования одни народы постоянно тратят на уничтожение других. Та малая толика политического благоденствия, какая порой встречается в тех или иных местах, была добыта ценою океанов крови, словно добру никогда не суждено было достаться в удел несчастному человеку. Республики, королевства, монархии, основанные либо на обмане, либо на насилии, следуя тем же путем, расширяются до тех пор, пока в свой черед не разрушатся либо под действием собственных преступлений, либо от руки более удачливого, но равно преступного врага. Если от сего беглого обзора человеческой натуры мы обратимся к рассмотрению так называемого цивилизованного общества, то здесь сочетание всех естественных и искусственных нужд заставит нас платить весьма дорогою ценой за ту малую долю политического благоденствия, коей мы пользуемся. Сие общество являет собою сочетание разнообразных пороков и добродетелей и всевозможных иных понятий, вечно противуборствующих, вечно несогласных друг с другом, вечно ведущих к каким-либо опасным, мучительным крайностям. Из чего же можно заключить, что природа намеревалась наделить нас счастием? Предпочтете ли Вы состояние обитателей лесов участи людей, живущих в более благоприятных обстоятельствах? Зло главенствует и тут и там; первые часто пожирают друг друга за недостатком пищи, последние морят друг друга голодом за недостатком места. Я со своей стороны полагаю, что пороки и страдания, свойственные последнему состоянию, превосходят те, что свойственны первому, в коем настоящее зло встречается реже, в коем оно более терпимо и менее чудовищно. Однако мы желаем видеть землю густозаселенной, дабы довершить счастие королевств, которое, говорят, состоит в их численности. Милосердный боже! С какой же целью столько живых существ обречено на образ жизни, при котором они должны ощупью пробираться сквозь столько заблуждений, совершать столько преступлений и встречать на своем пути столько нужды, болезней и страданий! Я льщу себя надеждой, что следующая сцена послужит оправданием сих печальных раздумий и извинит мрачные мысли, коими наполнил я сие письмо, ибо дух мой подавлен с тех самых пор, как мне довелось стать свидетелем оной. Недавно я был приглашен на обед к одному плантатору, проживавшему в трех милях от N. Дабы укрыться от дневного зноя, я решился пойти пешком по тенистой тропинке, ведущей через прекрасный лес. Неторопливо продвигаясь вперед, я внимательно рассматривал некоторые оригинальные растения, сбором коих в то время занимался, как вдруг ощутил сильное движение воздуха, хотя день был совершенно безветренный и душный. Я тотчас устремил взор свой на поляну, близ коей находился, дабы определить, не полил ли внезапно дождь, и в то же мгновение услышал звук наподобие хриплого голоса, издававшего, как мне почудилось, какие-то нечленораздельные слоги. Встревоженный и удивленный, я стремительно огляделся вокруг и заметил в ярдах тридцати нечто вроде клетки, висящей на дереве, все ветви коего, казалось, были усеяны большими хищными птицами, которые летали вокруг, изо всех сил стараясь забраться внутрь. Повинуясь скорее произвольному движению рук, нежели какому-либо побуждению разума, я выстрелил, все они с отвратительнейшим шумом отлетели на небольшое расстояние, и тут я — страшно подумать и мучительно произнести! — увидел в клетке негра, которогооставили на съедение. Я с содроганием вспоминаю, что птицы уже выклевали ему глаза, склевали мясо со скул, а на его руках и на теле виднелось множество язв. Из пустых глазниц и рваных ран, коими он весь был изуродован, медленно сочилась кровь, окропляя землю. Не успели птицы улететь, как в тело несчастного впились мириады насекомых, с жадностью стремясь поживиться его истерзанною плотью и напиться его крови. Я почувствовал, что цепенею от ужаса; нервы мои содрогнулись; я задрожал всем телом и застыл на месте, став невольным свидетелем душераздирающих мук страдальца. Это живое привидение, хотя и лишенное глаз, все еще сохраняло слух и на своем примитивном наречии умоляло меня дать ему воды. Сама человечность в ужасе отшатнулась бы, не зная, облегчить ли его невыносимые мученья или одним милосердным ударом покончить с сей чудовищною пыткой! Будь у меня в ружье хотя бы одна пуля, я тотчас, не задумываясь, отправил бы его на тот свет, однако, не имея возможности совершить сие доброе дело, я дрожа попытался ему помочь. Увидев невдалеке насаженную на палку раковину, которой пользовались какие-то негры, я наполнил ее водой и дрожащими руками поднес к судорожно искривленным губам несчастного страдальца. Побуждаемый неодолимой жаждой, он пытался схватить ее губами, инстинктивно угадывая приближение ее по звуку, который она производила, проходя сквозь прутья клетки. «Спасибо вам, белый человек, спасибо вам, насыпьте туда яду и дайте мне». — «Давно ли ты тут висишь?» — спросил я его, — «Два дня, и никак не помру, а эти птицы, птицы, а-а-а!..» Подавленный размышлениями, которые внушило мне сие жуткое зрелище, я собрался с силами, двинулся прочь и вскоре был уже в доме, где собирался пообедать. Там я узнал, что негр был предан такому наказанию за то, что убил надсмотрщика. Мне сказали, что подобные казни необходимы в целях самосохранения, и оправдывали рабство доводами, обыкновенно в защиту оного приводимыми, повторением коих я в настоящее время не стану Вас обременять. Adieu.ПИСЬМО X
О ЗМЕЯХ И О КОЛИБРИ
Для чего Вы мне задали сию задачу? Вы ведь знаете: то, за что мы беремся сами, всегда кажется легче того, что велят нам сделать другие. Вы просите рассказать Вам что-нибудь о змеях, но если бы не две особенности, одну из коих наблюдал я сам, а о другой узнал от очевидца, мне, право, почти нечего было бы Вам сообщить. Южные провинции являют собой край, где Природа создала великое множество всяческих аллигаторов, змей, ящериц и скорпионов, от самых маленьких до полоза, самой крупной змеи, которая здесь известна. У нас водятся всего две ядовитые змеи, достойные упоминания, что же до черной змеи, то она не примечательна ничем, кроме ловкости, проворства, красоты и умения завораживать птиц силою своего взгляда. Она мне очень нравится, и я ее никогда не убиваю, хотя устрашающий вид и размеры оной часто берут верх над благоразумием многих людей, особливо европейцев. Самая опасная змея — пилот, или медноголовая; от ее яда до сих пор не изобретено противоядие. Первое ее название происходит от того, что она всегда предшествует появлению гремучей змеи, то есть весною просыпается от зимней спячки на неделю ранее последней. Второе имя она носит вследствие того, что голова ее разукрашена множеством пятен медного цвета. Она прячется в камнях возле воды и чрезвычайно сильна и опасна. Остерегайтесь ее, люди! Я слышал только об одном человеке, которого ужалила медноголовая змея в наших краях. Несчастный тотчас распух самым ужасающим образом: на теле его то появлялись, то исчезали многочисленные пятна самых разнообразных оттенков; глаза выражали ярость и безумие; он бросал на всех присутствующих злобные взгляды; высовывал язык подобно змее; шипел сквозь зубы с невероятною силой, внушая ужас всем, кто стоял рядом. Бледность трупа сочеталась в нем с отчаянной энергией маньяка; его с трудом удалось связать, чтобы обезопасить окружающих от его атак, пока наконец по прошествии двух часов смерть не избавила беднягу от мучений, а зрителей от страха. Яд гремучей змеи не убивает так быстро, и потому остается больше времени для спасения; мы знакомы с различными противоядиями, которые имеются почти у каждой семьи. Гремучие змеи чрезвычайно ленивы, и, если их не трогать, они совершенно безобидны. Однажды во время путешествия мне встретился обрыв, который кишел гремучими змеями, я потрогал некоторых; они казались мертвыми; все они были переплетены друг с другом и оставались в таком положении до восхода солнца. Нашел я их, идя по следам диких кабанов, которые этих змей едят; ими иногда лакомятся даже индейцы. Наткнувшись на спящую змею, они пригвождают ее к земле раздвоенным сучком и суют ей в пасть кусок кожи, которую с силой выдергивают несколько раз подряд, пока не убедятся, что оба ядовитых зуба вырваны. Затем они отрезают змее голову, сдирают с нее кожу и варят подобно тому, как мы варим угрей; мясо у них белое и очень сладкое. Однажды я видел прирученную змею; она была такой кроткой, каким просто невозможно вообразить себе пресмыкающееся; временами она заползала в воду и плавала там, сколько ей вздумается, но стоило мальчикам, которым она принадлежала, позвать ее обратно на берег, как она тотчас повиновалась. Зубы ей вырвали вышеописанным способом; мальчики часто гладили ее мягкой щеткой, и сия ласка, очевидно, была ей очень приятна: чтобы еще больше ею насладиться, она поворачивалась на спину, как кошка у огня. Одна змея этой породы несколько лет назад явилась причиной весьма прискорбного происшествия, которое я изложу Вам так, как рассказала мне о нем вдова и мать жертв. Один фермер — голландец из Минисинка — пошел со своими неграми косить траву, надев сапоги, чтобы предохранить себя от укусов змей. Он нечаянно наступил на змею, которая тотчас бросилась на его ноги, и, когда она отскочила, чтобы повторить атаку, один из негров рассек ее надвое косой. Окончив работу, они воротились домой; вечером фермер снял сапоги и лег спать; вскоре у него начался странный приступ тошноты, он весь распух и, прежде чем смогли вышить врача, умер. Внезапная смерть сия не вызвала особых толков; лишь соседи, как водится, посудачили, и тело без тщательного осмотра было предано земле. Спустя несколько дней сын умершего надел отцовские сапоги и отправился на луг; вечером он их снял, лег и постель, и вскоре с ним случился такой же приступ примерно через такой же промежуток времени, а к утру он умер. Незадолго до его кончины приехал врач, но определить причину столь странной болезни не сумел и, не желая показаться сельским жителям совершенно бесполезным, объявил, что отца и сына околдовали. Спустя некоторое время вдова продала всю движимость, чтобы прокормить младших детей, а ферму сдала в аренду. Один из соседей, купивший сапоги, тотчас их надел, и у пего появились те же симптомы, что у двух других; однако жена его, напуганная случившимся в семье голландца, послала негра за знаменитым врачом, который, будучи, к счастью, наслышан о сем ужасном происшествии, угадал причину, применил масло и т. п. и вылечил сего человека. Тщательно осмотрев роковые сапоги, он обнаружил, что в одном голенище застряли два ядовитых шейных зуба — очевидно, змея так резко отпрянула назад, что вырвала их с корнем. Полости, содержащие яд, и множество мелких нервов остались невредимы и прицепились к сапогу. Несчастные, снимая сапоги, незаметно поцарапали себе ноги остриями зубов, и страшный яд проник в их кожу. Если Вы не видели сих змей, Вы, конечно, слышали об их гремушках; я хочу лишь заметить, что шум, производимый ими, бывает очень громким и отчетливым, когда змеи приходят в ярость, и напротив, когда они довольны, он напоминает далекий неясный шорох. В густонаселенных местностях они теперь встречаются очень редко, ибо стоит им появиться, как люди тотчас объявляют им войну; посему через несколько лет они останутся только в горах. Черная змея, напротив, всегда доставляет мне приятное развлечение, ибо не внушает мысли об опасности. Скорость передвижения змей поразительна, они порою не отстают от лошади; иногда они забираются на деревья в поисках древесных лягушек или всем своим туловищем скользят по земле. В некоторых случаях одна часть их туловища пресмыкается, а другая находится в вертикальном положении; при этом хорошо видны голова и глаза, пылающие огнем, коим я часто любовался; взглядом их они завораживают птиц и белок. Вперив свой взор в животное, змея застывает в неподвижности и лишь изредка поворачивает голову направо и налево, ни на мгновение не сводя глаз с жертвы; та же, обезумев от ужаса, вместо того чтобы бежать от врага, пригвождается к месту, словно пораженная какою-то неодолимой силой, издает вопли, то приближается, то отступает и, наконец, объятая необъяснимым смятением, бросается в пасть змеи, которая заглатывает ее, предварительно облепив клейкою слизью, чтобы она легко проскользнула в глотку. Я должен рассказать Вам одну историю, обстоятельства коей столь же верны, сколь и поразительны. На досуге я обыкновенно совершаю прогулку по своим низинным угодьям, где с удовольствием любуюсь коровами, лошадьми и жеребятами. Все мои луга буйно поросли травою, составляющей главное наше богатство; посреди их я вырыл ров шириною в восемь футов, чьи берега Природа каждую весну украшает диким салендином и другими цветущими травами, которые на этих тучных землях достигают большой высоты. Через ров я перекинул мостик, который может выдержать нагруженный фургон, а по обе стороны рва ежегодно сею коноплю, стебли коей, достигая высоты пятнадцать футов, так густо разветвляются, что напоминают молодые деревца; один раз я даже вскарабкался по такому стеблю на высоту четырех футов над землей. Стебли конопли образуют естественные аллеи, очень густые благодаря ползучему растению, называемому здесь лозою; оно обвивает их ветви и образует весьма приятную тень. Посещая сию незатейливую рощу, я сотни раз с удовольствием наблюдал множество колибри, коими изобилуют наши края; дикие цветы повсюду привлекают сих птиц, которые, подобно пчелам, питаются их соком. Укрывшись в своем убежище, я внимательно изучаю все их повадки, но полет их так стремителен, что совершенно невозможно разглядеть движение крыльев. Сию маленькую птичку природа одарила самыми великолепными красками; безупречнейшая лазурь, прекраснейшее золото, ярчайший багрянец, живописно оттеняя друг друга, расцвечивают перья ее величавой головки. Богатейшая палитра самого затейливого живописца не могла бы изобразить ничего, что напоминало бы разнообразные оттенки наряда сей птицы-крошки. Клюв у нее длинный и острый, словно швейная игла; как и пчелу, Природа научила ее находить в чашечке цветка медоносные частицы, служащие ей достаточною пищей, но кажется, будто она оставляет их не тронутыми, не взяв ничего, что было бы заметно нашему глазу. Когда птица ест, она кажется недвижимой, хотя всякую минуту готова улететь; порою, по неизвестным мне причинам, она разрывает цветки на тысячу частей, ибо, как ни странно, колибри — самые большие забияки среди пернатых. И где только в таком крошечном теле гнездятся столь бурные страсти? Колибри часто дерутся с яростию львов, покуда одна из противнике падет жертвой и не умрет. Утомившись, птичка часто усаживается в нескольких футах от меня, и при таких благоприятных обстоятельствах я рассматривал ее с пристальным вниманием. Ее глазки сверкают, как алмазы, со всех сторон отражая свет: изящная во всех отношениях, она являет собою миниатюрное произведение Великого Родителя, который сделал ее самой маленькой, по в то же время самой красивой из всего пернатого племени. Однажды, когда я предавался одинокому раздумью в своей незатейливой беседке, внимание мое привлек странный шорох, доносившийся откуда-то рядом. Я осмотрелся, но ничего не заметил, и, лишь взобравшись на ствол гигантской конопли, к удивлению своему, увидел двух довольно длинных змей; одна с неимоверной быстротой преследовала другую по скошенному конопляному полю. Нападающей была черная змея шести футов длиной, беглянкой — водяная змея почти такого же размера. Скоро они сошлись и в пылу схватки, казалось, тесно сплелись друг с другом; соединенные хвосты их колотили по земле, и обе, разинув пасть, яростно кусались. Какое отвратительное зрелище! Головы их сократились до крошечных размеров, глаза горели; после пятиминутной битвы водяная змея сумела вырваться и поспешила ко рву. Черная змея тотчас приняла новую позу и, подняв верхнюю половину туловища, с величественным видом снова догнала беглянку и набросилась па нее, а та, в свою очередь, приняла такую же позицию и приготовилась к сопротивлению. Сцена была невиданной и прекрасной, ибо змеи боролись с помощью челюстей, злобно кусая друг друга, но, несмотря на всю их обоюдную ярость и отвагу, водяная змея все еще пыталась отступить ко рву, в свою родную стихию. Когда остроглазая черная змея это заметила, она дважды обвилась хвостом вокруг ствола конопли и, сжав противнице горло, причем не челюстями, а двойным обхватом туловища, стала оттаскивать ее от рва. Стараясь избежать поражения, последняя тоже уцепилась за ствол на берегу и, обретя точку опоры, продолжала схватку со свирепым врагом. Странное это было зрелище; две огромные змеи, прижавшееся к земле и неразрывно сплетенные в единый клубок, извивались, корчились, вытягивались, дергали друг друга, но все их потуги оставались напрасными. В минуту величайшего напряжения кольца, которыми они сплелись, делались совсем маленькими, тогда как свободная часть туловища раздувалась, то и дело содрогаясь в страшных конвульсиях, быстро сменяющих одна другую. Их горящие глаза готовы были вырваться из орбит; водяная змея сложилась вдвое и таким образом заставила вторую неестественно вытянуться; вслед за тем черная змея неожиданно перешла в наступление, тоже сложившись вдвое и, соответственно, вытянув туловище противницы, Сии усилия чередовались; победа казалась сомнительной, склоняясь то на одну, то на другую сторону, пока наконец ствол, вокруг которого обвилась черная змея, внезапно сломался, вследствие какового происшествия обе рухнули в ров. Вода не утушила их ярость, ибо по бурунам я мог следить ход схватки, хотя разглядеть их было невозможно. Вскоре обе появились на поверхности, свившись в клубок, как в начале битвы; но черная змея как будто добилась решающего превосходства, ибо ее голова оказалась над головою противницы, и она стала окунать ее в воду, покуда та не захлебнулась и не утонула. Убедившись, что враг неспособен к дальнейшему сопротивлению, черная змея предоставила трупу плыть по течению, сама же воротилась на берег и исчезла.ПИСЬМО XI
ОТ РУССКОГО ДЖЕНТЛЬМЕНА И—НА А—ЧА,
С ОПИСАНИЕМ ВИЗИТА, КОТОРЫЙ ОН ПО МОЕЙ ПРОСЬБЕ НАНЕС
ЗНАМЕНИТОМУ ПЕНСИЛЬВАНСКОМУ БОТАНИКУ
МИСТЕРУ ДЖОНУ БЕРТРАМУ{252}
В каком бы свете ни рассматривал сию процветающую провинцию путешественник из Европы, глаза его и ум равно испытывают наслаждение, ибо во всех ее частях царит счастие, покоящееся на самой широкой основе. Мудрость Ликурга и Солона никогда не могла дать человеку даже половину тех благословенных даров или непрерывного процветания, какими ныне обладают жители Пенсильвании, а имя Пенна, сего простого, но прославленного гражданина, делает английскому народу более чести, нежели имена многих его королей. С целью убедить Вас, что в предыдущих моих письмах я не расточал незаслуженной хвалы нашему достославному правительству и что здешний климат благоприятствует наукам и искусствам более, нежели климат любой другой американской провинции, и, согласно Вашему желанию, приглашаю Вас вместе со мною нанести визит мистеру Джону Бертраму, первому ботанику сего нового полушария, ставшему таковым в силу своей природной склонности. Именно этому простому человеку Америка обязана множеством полезных открытий и знакомством со многими новыми растениями. Я был весьма расположен к нему благодаря обширной переписке, которую, как мне известно, он вел с наиболее выдающимися шотландскими и французскими ботаниками; я знал также, что его почтила своими письмами королева Швеции Ульрика{253}. Дом его мал, но вполне благоустроен; он сразу бросается в глаза одною особенностью, отличающей его от соседних домов, а именно тем, что посередине его имеется невысокая башня, которая не только придает ему прочность, но служит также удобным местом для лестницы. В расположении всех полей, изгородей и деревьев заметны отменная правильность и порядок, каковые в сельских делах всегда свидетельствуют о процветании. У дверей меня встретила одетая необыкновенно просто и опрятно женщина, которая без всяких любезностей и церемоний доброжелательно спросила меня, кого я хочу видеть. «Я был бы рад увидеть мистера Бертрама», — отвечал я. «Если вы войдете и присядете, я пошлю за ним». — «Нет, — сказал я, — я лучше доставлю себе удовольствие пройтись по его ферме; я легко найду его по вашим указаниям». Спустя короткое время я увидел реку Скулкилл, которая вилась среди прелестных лугов, и вскоре взор мой остановился на недавно сооруженной запруде, которая, казалось, основательно преградила течение. Пройдя значительное расстояние по ее гребню, я наконец добрался до места, где работали десять человек. Я спросил, не знают ли они, где мистер Бертрам. Взглянув на меня, пожилой мужчина в широких штанах и кожаном фартуке сказал: «Меня зовут Бертрамом, вы желаете меня видеть?» — «Сэр, я приехал побеседовать с вами, если вы можете прервать свою работу». — «С легкостью, — отвечал он, — я не столько работаю, сколько даю распоряжения и советы». Мы направились к дому, где он попросил меня подождать, покуда он переоденется в чистое платье, после чего воротился и сел со мною рядом. «Слава о ваших познаниях в американской ботанике и вашем гостеприимстве заставили меня нанести вам визит, который вы, надеюсь, не сочтете докучным; я желал бы пробыть несколько часов в вашем саду», — сказал я. «То, что вы называете моей ботанической славой, дает мне одно величайшее преимущество — удовольствие от визитов друзей и чужеземцев; однако нашу прогулку по саду придется пока отложить, ибо колокол звонит к обеду». Мы вошли в большую залу, где находился длинный стол, уставленный едой; в дальней его части размещались негры, затем работники, домашние и я; а во главе стола восседал почтенный отец семейства с женою. Все склонили головы и произнесли молитву, совершенно лишенную унылого ханжества и напыщенности. «После роскоши наших городов, — заметил хозяин, — сия простая трапеза может показаться вам чрезмерно постной». — «Ни в коем случае, мистер Бертрам, сей скромный сельский обед доказывает, что вы принимаете меня как друга и старого знакомого». — «Я рад, ибо вы здесь желанный гость. Я не привык церемониться; к тому же наше общество совершенно не знает так называемых учтивых выражений. Мы обращаемся с чужими, как со своими. Вчера я получил из Пенсильвании письмо, из коего узнал, что вы русский; какие же причины могли побудить вас покинуть родную страну и поехать в такую даль в поисках знаний или наслаждений? Полагая, что в нашей молодой провинции есть что-либо достойное внимания, вы делаете ей большой комплимент». — «Я был с лихвою вознагражден за путешествие. Я смотрю на нынешних американцев как на семя будущих народов, которые заполнят собою сей бескрайний континент; русских можно в некоторых отношениях сравнить с вами; мы тоже молодой народ, то есть я хочу сказать, молодой в науках, искусствах и усовершенствованиях. Кто знает, какие революции могут в один прекрасный день породить Россия и Америка; мы, быть может, более близкие соседи, чем сами думаем. Я с особенным вниманием рассматриваю все ваши города, я изучаю их местоположение и полицию, которою многие из них уже прославились. Хотя день их основания не так далек от сегодняшнего и еще совершенно свеж в памяти, их происхождение поставит пред потомством загадки, подобные тем, какие приходится ныне разгадывать нам, чтобы определить, когда были заложены древние города, которые время уже отчасти разрушило. Ваши новые здания, новые улицы приводят мне на ум Помпею, где я побывал несколько лет назад; я внимательно рассматривал там все, особливо дорожки, ведущие вдоль домов. Они, казалось, сильно истерты великим множеством людей, которые когда-то но ним ходили. Но как давно это было; ни их строителей, ни владельцев уж нет, и ничего неизвестно!» — «Да вы великий путешественник для человека вашего возраста». — «Сэр, чтобы пересечь большое пространство, каждому достанет и нескольких лет, но чтобы собирать урожаи, подобные вашим, требуются выдающиеся познания. Скажите, мистер Бертрам, для чего вы сооружаете сии запруды, с какою целью тратится столько трудов и средств?» — «Брат Иван, еще ни одна отрасль промышленности не была выгоднее для какой-либо страны или для землевладельцев; река Скулкилл своими извилинами некогда покрывала обширные земли, хотя воды ее были мелки даже во время самых сильных приливов; и хотя некоторые участки всегда оставались сухими, вся территория являла взору не что иное, как гнилое болото, непригодное ни для пахоты, ни для косьбы. Владельцы сих земель теперь объединились; мы ежегодно выплачиваем казначею компании определенную сумму, которая в совокупности превышает убытки, обыкновенно причиняемые наводнениями и мускусною крысой. Благодаря такой удачной выдумке много тысяч акров луговых угодий было спасено от реки Скулкилл, которая ныне так обогащает и украшает окрестности нашего города. Наши братья из Салема, что в Нью-Джерси, довели искусство сооружения запруд до еще более высокой степени совершенства». — «Да, это поистине удачная выдумка; она делает большую честь заинтересованным сторонам и свидетельствует о проницательности и настойчивости, которые весьма похвальны; когда бы жители Виргинии последовали вашему примеру, состояние их сельского хозяйства сделалось бы много приятнее. Я не слыхал о подобных объединениях в других частях континента, отчего Пенсильвания представляется мне королевой, безраздельно правящею сими прекрасными провинциями. Скажите, сэр, каковы были ваши затраты, прежде чем вам удалось сделать сии земли пригодными для косьбы?» — «Затраты весьма значительны, особливо когда требуется расчищать земли, засыпать ручьи и рубить деревья и кустарники. Но сии заливные луга так великолепны и трава для откорма скота так сочна, что урожай трех лег окупает все расходы». — «Счастлива страна, которую Природа одарила такими сокровищами, сокровищами более ценными, чем копи, — заметил я, — если все земли в вашей прекрасной провинции возделываются так же, неудивительно, что она славится процветанием, а ее жители трудолюбием». К сему времени работники окончили обед и удалились в полном молчании и с достоинством, которое мне очень понравилось. Вскоре мне показалось, будто издалека до меня доносится какая-то музыка. «Ваша трапеза была простой и пасторальной, мистер Бертрам, но то, что я слышу сейчас, десерт поистине королевский. Что это такое?» — «Не тревожься, друг Иван, мы всегда так встречаем гостей». Преисполненный любопытства, я пошел в ту сторону, откуда слышались звуки, и обнаружил, что их издают под действием ветра струны эоловой арфы, инструмента, коего я никогда прежде не видел. После обеда мы с хозяином распили бутылку доброй мадеры, не утруждая себя тостами, пожеланиями здоровья и изъявлениями чувств, после чего отправились в его кабинет. Не успел я туда войти, как тотчас заметил герб в золоченой раме с именем Джона Бертрама. Столь неожиданное зрелище чрезвычайно меня удивило, и я невольно спросил: «Разве Общество друзей гордится подобными геральдическими эмблемами, которые иногда служат знаками различия семейств, а еще чаще предметом гордыни и пустой похвальбы?» — «Вам следует знать, — отвечал он, — что отец мой был французом{254}; он привез с собою сию картину; я сохраняю ее как предмет фамильной мебели и как память об его приезде в Америку». Из кабинета мы вышли в сад, в коем я увидел множество любопытных растений и кустарников; некоторые из них росли в теплице, над дверью коей были написаны следующие строки:И—н А—ч.
ПИСЬМО XII
ТЕРЗАНИЯ ЖИТЕЛЯ ПОГРАНИЧНОЙ ПОЛОСЫ
Я желаю переменить мое местопребывание; настал наконец час, когда я должен бежать из моего дома и оставить мою ферму! Но куда мне направить свой путь, коль скоро меня окружили со всех сторон? С нынешними моими обстоятельствами и расположением духа всего более был бы согласен климат полярных областей, где уныло сменяют друг друга шесть месяцев дня и шесть месяцев ночи; и где одного лишь северного сияния достанет, чтобы порадовать мой взор, ныне утомленный зрелищем столь многих тягостных предметов. Суровость оных мест, великий мрак, где царствует печаль, были бы совершенно подобны моему умонаправлению. О, когда бы я мог перенести свою плантацию на берега Оби, как охотно поселился бы я в хижине самоеда иль похоронил себя в пещере лапландца. Когда б я только мог взять с собою свою семью, я бы зимовал в Пелыме или в Тобольске, наслаждаясь миром и невинностию сих земель. Но даже если я достигну полюса или доберусь до антиподов, я никогда не смогу избавиться от воспоминанья о страшных картинах, коих свидетелем я был, и оттого никогда уже не буду счастлив! Счастлив — для чего упоминать мне сие сладкое, сие пленительное слово? Прежде счастие было нашим уделом, теперь оно нас покинуло, и боюсь, что нынешнее поколение им никогда не насладится вновь! Куда бы я пи посмотрел, взору моему представляются одни лишь ужасающие пропасти, в которых уже сгинули сотни моих друзей и знакомых: ибо изо всех живых существ, населяющих поверхность сей планеты, что есть человек, если он лишен общества или попал в такое общество, которое корчится в судорогах и наполовину развалилось? Он не может жить в одиночестве, он должен принадлежать какой-либо общине, связанной какими-либо узами, пусть даже и несовершенными. Люди помогают друг другу и тем взаимно умножают свою смелость и уверенность; слабость одного укрепляется силою всех. До наступления сих бедственных времен{258} подобные мысли никогда меня не посещали; я жил, трудился и преуспевал, не стараясь понять, на чем основываются моя безопасность и мое преуспеяние; но вот я лишился их, и глаза мои отверзлись. Вряд ли кто попадал в обстоятельства столь исключительные, а тем паче ужасные для меня как члена обширного общества, как гражданина низшего подразделения того же общества, как отца семейства, как человека, сострадающего чужим горестям наравне со своими. Увы! Ныне все вокруг нас так извратилось, что самое слово «горесть», едва ли прежде нам знакомое, утратило свой смысл; наскучив сострадать горестям других, всяк сострадает лишь себе. Когда я вспоминаю, сколь многочисленные нити связывают мое сердце с тем, что творится вокруг, ум мой трепещет в лихорадке, и я теряю то душевное спокойствие, в котором только и рождаются здравые мысли. Мне кажется, что рассудок покидает меня, что он рвется прочь из хрупкого и убогого своего обиталища; я снова и снова пытаюсь овладеть собою и вернуть хладнокровие, дабы удержать этого дорогого гостя, чей уход так меня страшит. Вы знаете месторасположение нашего поселка, и потому нет надобности его описывать. С запада он окружен цепью гор; с востока страна заселена еще очень редко; мы живем как бы на острове, и дома стоят на значительном расстоянии друг от друга. У нас более чем достаточно причин ожидать, что с гор явятся наши смертельные враги; пустыня дикая служит им убежищем, где их невозможно отыскать. Она есть дверь, сквозь которую они могут войти к нам, когда им заблагорассудится, а коль скоро они, видимо, решились уничтожить всю линию пограничных селений{259}, конец наш не столь уж далек: начиная от озера Шамплен почти все они одно за другим были преданы огню. Сии набеги тем ужаснее, что совершаются обыкновенно во мраке ночи; когда же мы идем в поле, нас невольно охватывает страх, который отнимает силы и мешает трудиться. Ни о чем не говорим мы столь много и часто, как об этих непрестанных набегах и разрушениях; слухи о них распространяются по всей округе; собираясь у очага, мы пересказываем друг другу страшные новости, и наше воображение умножает ужас! Едва мы садимся за стол, как любой самомалейший звук тотчас поднимает тревогу и не дает нам спокойно насладиться трапезой. Даже аппетит, вызванный трудом и душевным покоем, исчез; мы едим лишь столько, сколько необходимо, чтобы поддержать в себе силы; сон наш тревожат кошмары; порою я просыпаюсь, словно наступил час ужасной опасности; порою нам кажется, что лай собак возвещает появление неприятеля; мы вскакиваем с постели и хватаемся за оружие; жена моя, тяжело вздыхая и молча обливаясь слезами, прощается со мной, словно мы расстаемся навеки; она хватает на руки младших детей, которые своими невинными вопросами еще более усугубляют панический ужас, и пытается спрятать их в погребе, словно наш погреб недоступен огню. Я расставляю всех своих работников у окон, а сам становлюсь возле дверей, где я решил умереть. Страх услужливо усиливает каждый звук; мы прислушиваемся, все делятся друг с другом своими мыслями и догадками. Иногда мы проводим так долгие часы; душа и разум содрогаются в томительной тревоге; сие невыносимое положение во сто крат хуже, чем положение солдата в пылу самой горячей битвы! Порою, набравшись храбрости, я, как подобает мужчине, нетерпеливо жду решающей минуты, но в следующий миг весть от жены, переданная кем-либо из детей, которые к тому же смущают меня своими невинными вопросами, лишает меня мужества; храбрости как не бывало, и я вновь погружаюсь в бездну отчаяния. Наконец, убедившись, что тревога была ложной, мы возвращаемся в свои постели, но какую пользу может принести нам сладостный сон Природы, если он прерывается подобными сценами! Находясь в безопасности, Вы можете составить себе понятие о наших страхах лишь понаслышке; никакой рассказ не передаст наших чувств и страданий. Каждое утро мы ждем, что младшие дети расскажут нам свои страшные сны; тщетно пытаюсь я заставить их замолчать; сие свыше моих сил, и образы, теснящиеся в их растревоженном мозгу, что в дни нашего счастья вызывали только беспечный смех, теперь, напротив, кажутся предостережением и верным признаком грядущей катастрофы. Я не суеверен, но с тех пор, как на нас обрушились сии несчастья, я оробел и стал совсем не склонен с презрением отмахиваться от дурных примет. Хотя сии бедствия распространялись постепенно, они не сделались привычными подобно случайным невзгодам. Чем явственнее провижу я конец, тем больше он страшит меня. Но для чего беспокоить Вас бессвязными рассказами? Тех, кто не ведает тревог, скоро утомят печальные подробности. Ужели Вы можете разделить со мною сию скорбь, ужель готовы Вы пролить слезу, смотря на приближающуюся гибель некогда процветающей зажиточной семьи? Прошу Вас прочитать сие глазами состраданья, с нежною печалью, и изъявить сожаление об участи тех, кого Вы некогда называли друзьями, кто некогда жил в довольстве, покое и полной безопасности, но для кого ныне всякая ночь может стать последней и кто несчастен, как преступник в ожидании приговора. Будучи членом большого общества, которое распространилось на многие части света, я слишком от него далек, чтобы моя связь с ним была столь же крепка, сколь связь с низшим его подразделением, в средоточии которого я живу. Говорят, что в пределах своего острова государство, коего мы составляем лишь часть, справедливее, мудрее и свободнее всех на свете, однако оно не всегда таково в отношении к своим далеким владениям. Я не стану повторять всех слухов, какие до меня дошли, ибо не могу поверить им даже и наполовину. Будучи гражданином меньшего общества, я вижу, что любое несогласие с господствующими в нем ныне мнениями тотчас рождает ненависть; как легко люди переходят от любви к ненависти и проклятьям! Я привержен к миру, так что же мне делать? Я терзаюсь противуположными чувствами — уважением, которое я питаю к старинному родству, и страхом перед новшествами, коих последствия в том виде, как их понимают мои соотечественники, не довольно мне известны. Я знаю, что до злополучной революции был счастлив. Я чувствую, что ныне счастия больше нет, и сожалею о сей перемене. Таков единственный образ мыслей, пригодный для людей в моих обстоятельствах. Если я свяжу свою судьбу с отечеством, находящимся от меня на расстоянии грех тысяч миль, меня назовут врагом своей страны, если я последую за остальными согражданами, я окажусь в оппозиции к нашим старинным властителям. Обе крайности представляются равно опасными для лица столь малого значения и веса, как я, лица, чьи энергические усилия и пример совершенно бесполезны. Что же принадлежит до аргументов, на коих основана сия распря, то я знаю о них очень мало. С обеих сторон много говорилось и писалось, но у кого достанет широты и ясности ума, дабы о сем судить? Великие начала, побуждающие к действию обе партии, надежно скрыты от глаз простых людей, подобных мне; нашему взору предстоит лишь самое очевидное и ясное. Невинные всегда суть жертвы меньшинства; во всех странах и во все времена им уготована одна и та же участь — подчиняться чужой воле, которую потом выдадут за глас народный. Они возмущаются, но их вынуждают трудиться и проливать кровь, их постоянно угнетают и оскорбляют. Потоки крови льются ради блага великих вождей, тогда как о благе народа не вспоминает никто. Великие деяния совершаются не для нас, хотя кто их совершает, как не мы, простые люди, своим трудом, потом и кровью. Книги говорят мне так много, что не осведомляют ни о чем. Софистика, отрава свободных людей, выступает во всем своем обманчивом наряде. В конце концов, большинство людей рассуждает но велению своих страстей, так мне ли при моем невежестве решать, кто прав, кто виноват? Мной движет лишь чувство и расположение духа, других руководителей я не знаю. Увы, под силу ли мне разрешить спор, в коем сам Разум отступил перед жестокостью и кровопролитием? Гак что же мне делать? Я спрашиваю самых мудрых юристов, самых ловких казуистов, самых горячих патриотов, ибо мои намерения честны. Великий Источник мудрости! Ниспошли мне свет и выведи меня из запуганного лабиринта! Должен ли я отказаться от всех своих старинных правил, должен ли отречься от имени, от народа, некогда столь мною уважаемых? Они неодолимо влекут меня к себе; чувства, ими внушенные, росли вместе с моими знаниями и были привиты к начаткам моего образования. С другой стороны, должен ли я вооружиться противу державы, где я впервые увидел свет, противу сотоварищей моих детских игр, моих закадычных друзей и знакомых? Сия мысль приводит меня в содрогание! Хочу ли я заслужить имя отцеубийцы, предателя, злодея, лишиться уважения всех, кого я люблю, дабы сохранить уважение к самому себе; хочу ли, чтобы меня остерегались, как гремучей змеи, или указывали на меня пальцем, как на медведя? Нет, я не герой; у меня недостанет силы принести столь великую жертву. Здесь я связан, я опутан тысячею нитей, но я не ропщу на их гнет; при всем своем невежестве я проникаю взором те нескончаемые бедствия, которые уже обрушились на нашу несчастную страну. Я вижу огромные разрушения, уже объявшие весь театр военных действий; я слышу стенанья многих тысяч семей, разоренных и обездоленных нашими захватчиками. Я не могу сосчитать великое множество детей, коих осиротила эта война, не могу измерить море пролитой нами крови. Одни задают вопрос, не преступно ли оказывать сопротивление и пытаться хоть отчасти отвратить сие зло. Другие утверждают, что если сопротивление станет всеобщим, то ожидать прощения будет напрасно, раскаиваться бесполезно, а участие в преступлении столь многих сделает его незаметным. То, что одна сторона называет достойным похвалы, другая именует позором. Сии мнения изменяются, сокращаются или расширяются подобно военным действиям, на которых они основываются. Что может сделать незначительный человек среди столь яростно противоборствующих партий, равно враждебных людям в моем положении? И в конце концов, кто окажется виноватым? Скорее всего, тот, кто потерпит поражение. Наша участь, участь тысяч, в таком случае зависит от загадочного колеса фортуны. Зачем тогда так много бесполезных рассуждений — ведь мы не что иное, как игрушка рока. Прощай образование, принципы, любовь к отечеству, прощай — все они стали бесполезными для большинства из нас: тот, кто руководствуется своими принципами, будет за них же и наказан одной или другою партией. Тому, кто поступает не по принципам, а так, как велит ему случай, страх или чувство самосохранения, возможно, придется не лучше, но порицать его будут меньше. Что тянем мы на великих весах событий, мы, жалкие и беззащитные жители пограничной полосы? Что любопытствующему миру до того, живем мы или умираем? Кому нужны томящиеся в наших уединенных убежищах добродетель, достоинство и беспристрастность? Мы как раздавленные плугом муравьи, чья гибель не мешает будущему урожаю. Чувство самосохранения, сей закон Природы, оттого и представляется наилучшим правилом поведения: ибо какая польза от нашего тщетного сопротивления и напрасных усилий? Хладнокровный далекий наблюдатель, пребывающий в безопасности, может порицать меня за неблагодарность, может взывать к принципам Солона или Монтескье{260}; он может почитать меня злодеем, может позорить меня поноснейшими именами. Ему самому не грозит никакая опасность, и он, отнюдь не смущаемый душевным трепетом, будет свободно предаваться рассуждениям на столь важную тему, рисуя в своем воображении сие обширное поле битвы, на коем одни идут в атаку, а другие держат оборону. Для него предмет спора — нечто абстрактное; дальность расстояния и разнообразие мнений, не тронутых чувством, являют ему лишь один ограниченный круг идей. Эти у него кругом виноваты, те всегда и во всем правы. Но пусть он хотя бы месяц поживет среди нас, пусть разделит с нами часы бесконечного труда, ужаса и тревоги; пусть долгими бессонными ночами он постоит на карауле с мушкетом в руках, меж тем как острый резец страстей будет бороздить его воображение; пусть его жене и детям ежечасно грозит мучительная смерть, пусть сохранение его собственности зависит от одной-единственной искры, раздутой дыханием врага; пусть он вместе с нами дрожит на полях, трепещет от шороха каждого листа; пусть его сердце, средоточие пылких страстей, разрывается на части при известии о печальном конце родных и близких; пусть он следит по карте, как мало-помалу опустошается вся страна; пусть его встревоженному воображению предстанет ночь, ужасная ночь, когда придет его черед погибнуть подобно великому множеству других. Тогда посмотрим, не возьмет ли в нем человек верх над гражданином и не забудет ли он все свои политические сентенции! Да, он перестанет столь горячо восторгаться славой метрополии, ибо все его помыслы сосредоточатся па сохранении собственной семьи! О, если бы он очутился на моем месте, если б в его доме, как в моем, постоянно толпились несчастные жертвы, только что бежавшие от огня и ножа, которым снимают скальпы; если б он послушал их рассказы о чудовищных расправах и убийствах, приводящих в содрогание человеческую натуру, обстоятельства заставили б его отложить все рассуждения о политике и отбросить все отвлеченные идеи. Сердце мое переполнено и невольно тянется ко всему, что сулит покой и облегчение страданий. Я слыхал, что никто из ныне царствующих монархов не обладает столь многочисленным и прекрасным потомством, как наш король{261}. Он, быть может, великий король, но как и мы, простые смертные, непременно желает своим детям благополучия. Окрыленный надеждой, он без сомнения часто заглядывает в будущее, и наша жизнь представляется ему счастливой. Если бы я, несчастный житель пограничной полосы, осмелился вообразить, что сей великий муж всего лишь на один час первым в государстве стал жертвой тех мучительных страданий, какие беспрестанно испытываем мы, я бы не усумнился, что в час опасности все его помыслы сосредоточатся на сохранении столь многочисленного семейства, а все идеи власти и иных королевских привилегий бесследно исчезнут. Качества, присущие монарху, сколь бы особа его ни была священна, уступят место более естественным и оттого более сильным — качествам мужчины и отца семейства. О! знай он только обстоятельства сей ужасающей войны, я уверен, что он непременно остановил бы бесконечное истребление родителей и детей. Я уверен, что, обращая слух свой к государственным делам, он равным образом внимает велениям Природы, сей великой родительницы, ибо как добрый монарх, подобно ей желает создавать, беречь и защищать. Значит ли сие, что я, стараясь заслужить звание верного подданного, должен с философским спокойствием сказать: благо Британии требует, чтобы моим детям раскроили черепа и мозг их забрызгал стены дома, в котором они взросли; чтобы жену мою у меня на глазах закололи и сняли с нее скальп; чтобы меня убили или захватили в плен или чтоб всех нас без лит них хлопот заперли и сожгли живьем, как это случилось с семейством Б.? Должен ли я покорно ожидать сего последнего апогея бедствий и с полным смирением принять столь жестокий жребий от руки злодеев, бесчинствующих вдали всякой власти, от чудовищ, предоставленных велению диких страстей дичайшего свойства? Если бы африканских львов можно было привезти сюда и выпустить на свободу, они без сомнения убили бы нас, чтобы пожрать наши трупы! Однако для удовлетворения их аппетитов едва ли потребовалось бы так много жертв. Должен ли я ожидать, что меня предадут смертной казни или просто отнимут у меня одежду и пищу и ввергнут в отчаяние, лишив всякой надежды на спасение? Должны ли те, кому удалось спастись бегством, видеть, как все, что им дорого, уничтожено и потеряно навеки? Должны ли те немногие, кто уцелел, забившись в какой-нибудь укромный уголок, напрасно сетовать на судьбу своих семей, оплакивать своих родителей, плененных, убитых или сожженных живьем; должны ли они скитаться в глухих лесах, ожидая смерти где-нибудь под деревом, без звука, без стона, ради нашей победы? Нет, сие невозможно! От человеческой натуры нельзя ожидать столь непомерной жертвы, на нее способны лишь существа более низкого или более высокого разряда, движимые менее или более благородными принципами. Даже те великие деятели, которые столь возвысились над толпой, даже те громовержцы, которые спустили на нас свирепых демонов войны, даже и они — будь найден способ перенести их сюда и сделать простыми фермерами наподобие нас — тотчас из вершителей человеческих судеб превратятся в несчастных жертв и будут страдать и стенать так же, как мы, не зная, как им поступать дальше. Довольно ли Вы постигли трудность нашего положения? Если мы останемся здесь, то рано или поздно погибнем, ибо никакая бдительность не может нас спасти; если мы снимемся с места, то не будем знать, куда направиться, ибо все дома полны таких же несчастных беженцев, и если мы уедем, то станем нищими. Собственность фермеров не похожа на собственность купцов, а полная нищета хуже смерти. Если мы возьмемся за оружие, чтобы защищаться, нас назовут бунтовщиками; но разве позорное бездействие не будет противно Природе? Значит ли это, что мы должны, подобно мученикам, гордиться верностью, которая ныне стала бесполезной, и добровольно склониться пред такими гибельными обстоятельствами, которые окончательно разорят нас, но нисколько не обогатят наших старинных властителей? За столь непоколебимую и тупую преданность мы навлекли на себя презрение наших соотечественников и гибель от рук былых друзей; что бы мы ни сказали, на какое бы достоинство ни претендовали, ничто не спасет нас от ударов, наносимых направо и налево наемными бандитами, кем движут все страсти, заставляющие людей проливать чужую кровь. О, сколь горькая мысль! Напротив, удары, наносимые руками тех, от кого мы ожидали защиты, заглушают старинное уважение и побуждают нас к самообороне — быть может, даже к мести; сие есть путь, который указывает сама Природа как цивилизованным, так и диким народам. В сердце каждого человека Создатель изначально вложил сии чувства, так зачем же нам ежедневно терпеть унижения от власти, которую мы прежде гак горячо любили? Когда лисицу гонят собаки, она стремглав бежит или путает след; когда обкладывают медведя, он храбро защищается и нападает на охотников; когда коршун набрасывается на цыплят, то даже курица, робкая курица, спасая их, готова биться с ним прямо на лету. Так неужели человек, одаренный и разумом, и инстинктом, должен равнодушно, беззаботно и безучастно взирать на то, как огонь пожирает его имущество, а детей вырывают из его объятий или умерщвляют? Неужели ложный разум подавит непогрешимые веления инстинкта? Нет, мое былое уважение и моя былая привязанность исчезли вместе с моею безопасностью; ибо они были куплены ценою защиты, а защиты более не существует. Неужели великое государство, к коему мы принадлежим, не могло осуществить свои намерения посредством своих многочисленных армий, посредством флотов, что бороздят океан? Неужели те, кто распоряжается двумя третями мировой торговли, кто держит в своих руках всю власть, какую только может дать всемогущее золото, кто владеет таким богатством, которое растет вместе с их желаниями, неужели они должны утверждать свои завоевания ценою нашей жалкой невинной крови? Значит ли сие, что я должен проститься с Британией, с нашей прославленной отчизною, что я должен отречься от древнего и почетного звания ее сына? Увы, она сама, некогда заботливая родительница, вынуждает меня поднять оружие против нее. Она сама первой внушила несчастнейшим гражданам наших далеких краев мысль проливать кровь тех, кого мы привыкли называть своими братьями и друзьями. Для чего великой державе, которая ныне сотрясает весь мир, которая едва ли имеет понятие о размерах своих индийских владений, которая стремится завладеть всею мировой торговлей, промышленностью, богатством и властью, для чего ей понадобилось устилать наши многострадальные границы трупами своих друзей, развалинами наших маленьких селений, в которых нет никакого золота? Когда, сгибаясь под бременем мучительных воспоминаний, я пытаюсь разобраться в сих беспорядочных идеях; когда я вижу, как вокруг меня струятся тысячи потоков зла; когда я думаю, к чему приведет меня даже лучший из открытых мне путей, я содрогаюсь — содрогаюсь порою так сильно, что мне хочется воскликнуть: «Зачем Властитель мира сего допустил, чтобы по всей нашей несчастной планете, везде и всегда, среди людей всех состояний творилось так много бессмысленного зла?» За что карает он безгрешных? Я подношу к губам чашу сию, которая меня не минует, и трепещу от горечи ее. Что же тогда есть жизнь, спрашиваю я себя; разве можно назвать ее благотворным, щедрым даром? Нет, она слишком горька; дар должен быть бесценным, а жизнь представляется простой случайностию, и притом наихудшего рода; мы рождаемся на свет, чтобы стать жертвами болезней и страстей, неудач и смерти; лучше совсем не жить, чем жить среди невзгод… Так я нечестиво перескакиваю от одной отрывочной мысли к другой, и мой разум, возбужденный горькими раздумьями, готов порою толкнуть меня к опасным крайностям насилия. Стоит мне вспомнить о том, что я, к великому своему счастию, есть отец и супруг, как глубокое волнение охватывает мое сердце, но увы! прежде оно волновалось радостию и сладостными восторгами, а ныне переполнено лишь скорбию. В другое время моя жена старается отвлечь меня от сих ужасных размышлений, употребляя все доступные ей средства, чтобы меня утешить, но ее слова только усугубляют мои муки, ибо наводят на мысль, что ей придется разделить со мною все бедствия, одно ожидание коих, боюсь, способно помрачить ее рассудок. Я не могу бестрепетно думать о том, что жестокая судьбина ежедневно и ежечасно подстерегает мою любимую жену, которая всегда была мне опорою в сельских трудах, мою верную помощницу, вместе с которой мы воздвигали здание благополучия и независимости, еще вчера нам принадлежавшее, а также моих детей, отраду сердца моего. Забота о самосохранении воистину превыше всех политических установлений и законов; она важнее даже любезнейших нашему рассудку мнений; разумное приспособление ко всяческим велениям века есть непререкаемый закон бытия. Противу великого зла необходимо найти средство, могущее его устранить или облегчить; в настоящем моем положении трудно предпринять шаги, которые, не нанося ущерба или обиды ни той, ни другой стороне, спасли бы моих домашних от неминуемой гибели, ожидающей нас, если мы надолго останемся здесь. Когда б я мог обеспечить им хлеб, покой и безбедное существование — и не хлеб праздности, но хлеб, как и доныне, заработанный честным трудом; когда б я мог обеспечить сие ценою собственной жизни, я б охотно принес ее в жертву. Клянусь перед небом, что я желал бы жить и трудиться только для них, для тех, кого я произвел на сей злополучный свет. Мне кажется, что я напоминаю один из камней, когда-то составлявших разрушенную ныне арку; он еще сохраняет исконную форму своего прежнего положения в кладке, хотя сама кладка давно уже рухнула: подобно ему, я так и останусь никчемным обломком, пока меня не вернут на старое место или не вставят в новое, более прочное окружение. Вдали я вижу другую арку, поменьше, и добраться до нее вполне в моих силах: коль скоро я перестал почитать себя подданным старинной державы, что сейчас содрогается в корчах, я с радостию ухожу в страну менее могущественную. Там я возвращусь в состояние, более близкое к природе, не стесняемое ни многочисленными законами, ни противоречивыми правилами, которые часто натирают шеи именно тем, кого они защищают, однако достаточно далекое от жестокости беззаконных дикарей. Понимаете ли Вы, друг мой, какой путь я избрал? Сие есть путь, ведущий к изрядному селению N., где вдали от ненавистного соседства европейцев люди живут более спокойно, мирно и благопристойно, чем Вы можете себе представить; они не подчиняются никаким законам, но находят в неиспорченных простых нравах все, что законы могут дать. Их порядок вполне отвечает всем простейшим нуждам человека и делает его общественным существом, каким ему должно быть в великом лесу Природы. Вот куда я решился непременно отправиться с семьею{262}. Эксцентричная мысль, скажете Вы, порвать таким образом все прежние связи и завязать новые с людьми, коих Природа наделила столь отличными от нас характеристическими чертами! Но коль скоро счастие моей семьи составляет единственный предмет моих желаний, мне все равно, где мы живем или куда поедем, лишь бы мы все были вместе и находились в полной безопасности. Наши новые бедствия, которые равно разделят все, станут легче; наша взаимная любовь средь всех этих великих изменений сделается прочнейшим звеном нашего нового сообщества, и, принеся нам все радости, какие можно испытать на чужой земле, сохранит наше единство подобно тому, как сила тяжести и сцепление вещества препятствуют распаду вселенной. Не осуждайте меня, это было бы жестоко с Вашей стороны, и к тому же совершенно бесполезно, ибо когда Вы получите сие письмо, мы будем уже в пути. При мысли, что все надежда рухнули, должны ли мы, подобно жалким, трусливым тварям отчаяться и умереть? Нет, я вижу еще способы спасения, хотя они и сопряжены со множеством опасностей, которые я изъясню Вам позже. Поверьте, что к сему шагу меня побуждает не обманутое любочестие, но горечь моего положения и невозможность найти лучший выход: мое воспитание подготовило меня лишь к самым простым житейским делам, я всего лишь лесоруб и землепашец — почетнейшее звание для американца. Я не могу похвастать ни подвигами, ни изобретениями, ни открытиями; я расчистил 370 акров земли под пашню и под луга, и на сие потребовалось много лет моей жизни. Я никогда не имел и не хотел иметь ничего сверх того, что можно было заработать или произвести соединенными силами моей семьи. Я хотел лишь спокойно и независимо жить в своем доме и научить своих детей приобрести средства для будущего достатка, основанного на труде, подобном труду их отца. Таков был жизненный путь, которым шел я сам и который назначил им, полагая, что он как нельзя лучше соответствует их душевным и телесным свойствам. Но сии приятные ожидания не сбылись: мы должны бросить все плоды девятнадцатилетних трудов; мы должны бежать неведомо куда, по самым непроходимым дорогам, и вступить в новое, незнакомое сообщество. О добродетель! Неужели тебе более нечем наградить своих поборников? Либо ты всего лишь химера, либо ты робкая бесполезная тварь, которая в страхе бежит, когда твой великий соперник — любочестие — диктует свою волю, когда вокруг гремит страшное эхо войны и ее жестокая коса под корень срезает беспомощных жалких людей, словно сорную траву. Я во все времена великодушно облегчал страдания тех немногих несчастных, которые мне встречались: я поощрял трудолюбивых; мой дом всегда был открыт для путников; в зрелых годах я не болел; вслед за мною пришли в сии края сто двадцать семей. Многих я вел за руку в дни их первых испытаний; проживая вдали от всех мест богослужения и учебных заведений, я был духовным пастырем своего семейства и учителем многих соседей. В силу своего разумения я внушал им благодарность к господу богу, отцу урожаев, и долг перед человеком; я был полезным подданным, всегда послушным законам и всегда бдительно следил, чтобы их уважали и соблюдали. Моя жена верно следовала моему примеру на своей стезе; ни одна женщина на свете не была бережливей, не умела лучше прясть и ткать полотно; и вопреки всему мы должны погибнуть, погибнуть как дикие звери, загнанные в кольцо огня! Да, я радостно прибегну к сему способу спасения, ибо он — откровение свыше; днем и ночью он является моему воображению; я во всех подробностях обдумал свой план; я рассмотрел все будущие последствия и плоды нового образа жизни, коему нам предстоит следовать — без соли, без пряностей, без полотна и лишь с какой-то скудной одежонкой; новое искусство охоты, которым нам должно овладеть; новые обычаи, которые нам должно усвоить; новый язык, на котором придется нам говорить; опасности, которыми будет сопровождаться воспитание наших детей. Сии перемены издали могут показаться страшнее, чем при более близком знакомстве; да и не все ли равно — есть хороший паштет или пемикан{263}, отменное жаркое или копченую оленину, капусту или тыкву? Не все ли равно, что носить — хорошее домотканое полотно или добротный кастор, спать на перинах или на медвежьих шкурах? Разница так незначительна, что о ней не стоит и говорить. Меня пугают лишь трудности языка и те таинственные чары, которыми индейцы могут околдовать моих младших детей. Какой магическою силой должны обладать эти люди, если детей, усыновленных ими в самом нежном возрасте, нельзя убедить вернуться к европейским нравам? Я своими глазами видел, как люди, чьих любимых детей во время последней войны увели в плен индейцы, после заключения мира отправились за ними в индейские селения, и, к своему невыразимому отчаянию, нашли, что те до такой степени усвоили местные обычаи, что многие вообще их не узнали, а дети постарше, которые все-таки вспомнили своих отцов и матерей, наотрез отказались следовать за ними и бросились к приемным родителям искать защиты от неумеренных изъявлений любви родителей настоящих. Сколь невероятным ни могло бы сие показаться, я слышал тысячу тому подтверждений от лиц, достойных всяческого доверия. В селении К., куда я намереваюсь отправиться, лет пятнадцать назад жили англичанин и швед, чья история показалась бы Вам весьма трогательной, если бы у меня нашлось время ее рассказать. Их захватили уже взрослыми, они счастливо избежали казни, какой обычно предают военнопленных, и им пришлось жениться на индианках, которые спасли им жизнь, приняв их в свои семьи. В конце концов они совершенно привыкли к дикой жизни. В то время, когда я находился в сем селении, друзья послали им значительную сумму денег для выкупа. Индейцы, их прежние хозяева, предоставили им свободу выбора и, не требуя никакого вознаграждения, сказали, что они давно так же свободны, как и они сами. Европейцы решили остаться, и причины, ими выдвинутые, весьма Вас удивят: полная свобода, легкая жизнь, отсутствие забот и треволнений, которые так часто тяготят нас, необыкновенное плодородие земли, которую они возделывали, не полагаясь только на охоту, — оные и еще многие другие основания, которые я просто позабыл, заставили их предпочесть ту жизнь, что часто представляется нам такой ужасной. Следовательно, она не может быть настолько плохой, как мы обыкновенно полагаем; в их общественном устройстве должно быть нечто особливо притягательное и намного превосходящее все, чем можем похвастать мы, ибо тысячи европейцев стали индейцами, однако мы не знаем случаев, когда хотя бы один из аборигенов по своей доброй воле стал европейцем! Очевидно, нечто в сем образе жизни гораздо больше соответствует нашим природным склонностям, нежели искусственное общество, в котором живем мы; в противном случае почему дети и даже взрослые так быстро и так крепко к нему привязываются? В их нравах должно быть нечто колдовское, нечто неотразимое, отмеченное самою Природой. Ибо возьмите мальчика-индейца, дайте ему наилучшее образование, окружите его заботой, наделите самыми щедрыми дарами, даже богатством, и все равно он будет втайне тосковать по своим родным лесам, о коих, как Вы воображаете, он давно позабыл, и при первом же удобном случае добровольно бросит все, что вы ему дали, и с невыразимой радостью возвратится в вигвамы своих предков. Несколько лет тому назад добрый старый индеец, живший в доме X., оставил ему своего мальчика, внука девяти лет. Мистер X. великодушно учил его вместе со своими детьми, окружив отеческою заботой и вниманием из уважения к памяти старика, который был весьма достойным человеком. Он намеревался приспособить мальчика к хорошему ремеслу, но весною, когда вся семья отправилась в лес собирать кленовый сахар, тот внезапно исчез, и лишь спустя полтора года его благодетель узнал, что он добрался до деревни Лысого Орла, где пребывает и поныне. Что бы мы ни говорили об индейцах, об их низком физическом развитии, о недостатке пищи, они здоровы и крепки ничуть не меньше европейцев. Без храмов, без священников, без королей и без законов, они во многих отношениях выше нас, и в доказательство моей правоты я могу сказать, что они живут без забот, спят без тревог, понимают жизнь такой, какая она есть, сносят все ее тяготы с непревзойденным терпением и умирают, не сожалея о содеянном и не страшась того, что ждет их в лучшем мире. Какая философская система может преподать нам столько правил, необходимых для счастья? Они без всякого сомнения гораздо теснее связаны с Природою, чем мы, они — ее родные дети; обитатели лесов — неиспорченные потомки, а жители равнин — выродившиеся отпрыски, далекие, бесконечно далекие от ее простых законов, от ее первоначального замысла. Посему решение принято. Я либо умру в своей попытке, либо добьюсь успеха; лучше погибнуть всем вместе в один роковой час, нежели терпеть наши ежедневные муки. Я не жду, что в селении мы будем наслаждаться ничем не нарушаемым счастием; оно не может быть нашим уделом, где бы мы ни жили; я не строю наше будущее процветание на золотых снах. Куда бы вы ни поселили людей, им всегда придется бороться с неблагоприятными обстоятельствами, порожденными природой, случайностями, свойствами человеческого организма, сменою времен года, с тем бесконечным сочетанием неудач, которое постоянно приводит нас к болезням, бедности и т. п. Кто знает, быть может, в новом положении произойдет какой-либо случай, из коего проистекут новые источники нашего будущего благополучия? Кто может быть столь самонадеян, чтобы предсказывать одно лишь добро? Кто может предвидеть все то зло, что устилает наш жизненный путь? В конце концов, я могу лишь думать о том, какую жертву я намереваюсь принести, что отсекаю от себя, какие перемены меня ждут. Простите мои повторения, мои безумные, мои пустые мысли, они проистекают от возбуждения ума и полноты сердца; еще раз возвращаясь к ним, я как бы облегчаю свое бремя и возвышаю дух свой; притом Вы читаете мое последнее письмо; я бы охотно сказал Вам все, но, право же, не знаю как. О, если бы в часы, в минуты моих горчайших мук я мог без слов внушить Вам те разнообразные мысли, которые теснятся у меня в мозгу, Вы имели бы все основания удивиться и усумниться в их возможности. Встретимся ли мы когда-либо вновь? И если да, то где? На диких берегах… Если мне суждено окончить мои дни там, я постараюсь их благоустроить и, быть может, найду место для еще нескольких семей, которые решат удалиться от ярости бури, чьи бушующие волны еще много лет будут биться о наши далеко протянувшиеся берега. Быть может, мне посчастливится снова занять свой дом, если его не сожгут до основания. Но каким я его увижу? Наполовину изуродованным, с явными следами запустения и разрушений, нанесенных войной. Однако сейчас я считаю, что все потеряно, и надолго прощаюсь с тем, что покидаю. Если я вновь обрету свою ферму, я приму ее как дар, как награду за свое поведение и силу духа. Не думайте, однако, что я стоик — никоим образом, напротив, я должен Вам признаться, что испытываю горчайшее сожаление, бросая дом, который я в какой-то мере построил собственными руками. Да, быть может, мне никогда не доведется вновь узреть поля, которые я расчистил, деревья, которые я посадил, луга, которые в дни моей юности являли собою дикую пустошь, а теперь моими трудами превращены в тучные пастбища и прелестные лужайки. Если в Европе привязанность к наследию отцов почитается достойной похвалы, то сколь более естественной, сколь более крепкой должна быть сия связь у нас: ведь мы, если мне позволено будет употребить такое выражение, сами основатели и делатели своих собственных ферм! Когда я вижу за столом моих цветущих детей, связанных узами горячей любви, в сердце моем разгораются бурные чувства, ощутить и описать которые может лишь муж и отец, попавший в мои обстоятельства. Быть может, мне часто придется видеть, как убитые горем дети и жена невольно вспоминают покой и достаток, в коих они жили под отеческим кровом. Быть может, мне придется видеть, что они нуждаются в хлебе, который я теперь оставляю здесь, — что они страдают от нищеты и болезней, которые становятся еще горше от воспоминаний о прежних днях изобилия и богатства. Быть может, мне будут со всех сторон досаждать непредвиденные невзгоды, коих я не смогу ни предотвратить, ни облегчить. Могу ли я холодно и бесчувственно рисовать в своем воображении такие картины? Судьба моя решена, но поверьте, что я принял свое решение лишь после жестокой борьбы всевозможных страстей — выгода, любовь к покою, обманутые надежды, несбывшиеся планы представали перед моим умственным взором, приводя меня в трепет. О боже! Почему я не отличаюсь спокойствием великодушной секты стоиков, почему мне не довелось причаститься возвышенных уроков, которые Аполлоний Халкидский преподал императору Антонину!{264} Тогда бы я смог увереннее бороться с бурными волнами и привести в безопасную гавань свой утлый челн, который я скоро нагружу всем самым драгоценным, чем я владею на земле; смог бы, прибыв на место, явить своим спутникам более яркий, достойный подражания пример и стать более надежным проводником по новым краям и новой жизненной стезе. Конечно, я знаю, к каким способам до сих пор прибегали, чтобы натравить на нас главные индейские племена. Однако ж они никогда не поднимали и не поднимут свой томагавк на людей, которые не причинили им никакого вреда. Без причины в них не пробуждаются страсти, лишь жажда мести способна подвигнуть их на кровопролитие, ибо они руководствуются побуждениями более высокими, чем европейские наемники, которые за шесть пенсов в день готовы проливать кровь любого народа на земле. Они не знают ничего о природе наших споров, не имеют понятия о революциях, подобных настоящей; гражданские распри между жителями поселка или членами одного племени никогда не упоминаются в их преданиях; многие из них отлично знают, что слишком долго были жертвами обмана и жестокости обеих партий и из-за нас безрассудно вооружались то друг против друга, то против наших белых врагов. Они считают, что мы родились на одной с ними земле, и хотя им не за что любить нас, стараются по каким-то своим соображениям не вмешиваться в наши распри. Я говорю о тех племенах, с которыми знаком лучше всего; несколько сот индейцев наихудшего сорта, породнившихся с еще более скверными белыми, теперь наняты Великобританией с целью совершать свои страшные набеги. В юности я под началом моего дяди торговал с индейцами племени… и торговал всегда честно и справедливо, о чем некоторые из них помнят до сих пор. К счастью, их селение изрядно удалено от опасного соседства белых. Прошлой весною я послал туда человека, который превосходно знает леса и говорит на их языке; он только что вернулся после нескольких недель отсутствия и принес мне — чем я был весьма польщен — вампум из тридцати пурпурных раковин в знак того, что их почтенный вождь предоставит нам половину своего вигвама на то время, покуда мы не построим свой. Он велел передать мне, что земли у них много и они не дорожат ею так, как белые; что мы можем сами ее засеять, а до сбора урожая он обеспечит нас мясом и зерном; что в водах… много рыбы и что его соплеменники, которым он рассказал о моих предложениях, не возражают против того, чтобы мы поселились у них. Я еще не поделился этой радостною вестью с женой и не знаю, как сие сделать; я боюсь, как бы она не отказалась следовать за мною и как бы внезапное предложение о переезде не подействовало на нее слишком сильно. Я льщу себя надеждою, что мне удастся ее уговорить, и меня мучает лишь ее привязанность к родным. Я охотно рассказал бы Вам, каким образом я собираюсь перевезти свою семью на столь далекое расстояние, но сие вряд ли будет для Вас понятно, ибо Вы не знакомы с географическим положением оной части страны. Достаточно сказать, что, проехав около двадцати трех милей сушей, я намерен покрыть остальной путь водой, а когда мы погрузимся в лодку, будет уже безразлично, проплывем ли мы двести или триста миль. Я предполагаю отправить всю нашу провизию, мебель и одежду моему тестю, который одобряет мой план, и оставить себе лишь самое необходимое, надеясь в будущем носить шкуры зверей, добытые на охоте.Чрезмерно обременив себя багажом, мы никогда не сможем добраться до вод… что составляет самую опасную и трудную часть пути, хотя и совсем ничтожную по расстоянию. Я намерен сказать своим неграм: «Во имя господа бога, будьте отныне свободны, мои славные ребята: я благодарен вам за прежнюю службу; считайте меня своим старым товарищем и другом, и если вы будете трезвы, трудолюбивы и бережливы, то непременно заработаете себе на достойную жизнь». Дабы соотечественники не подумали, будто я уехал с целью присоединиться к неприятелю, осаждающему наши границы, я напишу мистеру… письмо о нашем отъезде и о причинах, побудивших меня к оному. Человек, которого я посылал в селение К, тоже поедет с нами и будет во всех отношениях полезным спутником. Итак, Вы можете заранее вообразить меня под кровлею вигвама; я так хорошо знаком с обычаями индейцев, что ничего дурного от них не ожидаю. Я полагаюсь на их гостеприимство больше, нежели на любые договоры, скрепленные подписями многих европейцев. Вскоре по приезде я намерен выстроить себе вигвам такой же формы и размера, как остальные, чтобы ничем не отличаться пред ними и не давать повода для насмешек, хотя индейцы редко бывают подвержены подобным европейским глупостям. Я возведу его рядом с участком земли, который они обещают мне отвести, и постараюсь, чтобы мою жену, детей и меня самого приняли в их общину как можно ранее. Сделавшись таким образом настоящими жителями их селения, мы тотчас займем в их общине такое положение, в котором сможем возместить весь ущерб, понесенный нами вследствие гибели нашего прежнего общества. Согласно их обычаям мы также воспримем от них имена, под коими и будем впредь известны. Мои младшие дети научатся плавать и стрелять из лука, дабы приобрести таланты, которые поднимут их в глазах ровесников-индейцев, а мы со старшими будем охотиться вместе с их охотниками. Я всегда был метким стрелком, однако же опасаюсь, как бы младшие мои дети не поддались неуловимым чарам индейского воспитания и не приобрели таких склонностей, которые могут помешать им вернуться к родительским нравам и обычаям. У меня есть только один способ предотвратить сие зло — как можно больше занимать их работой в поле; я даже решил устроить так, чтобы от нее всецело зависело их ежедневное пропитание. Пока мы заняты обработкой земли, можно не опасаться, что кто-нибудь из нас станет дикарем — такое странное действие производил лишь охота и добытая ею пища. Простите мое сравнение — свиньи, которые рыщут по лесам и раз в неделю получают зерно, по-прежнему остаются домашними, но если их заставить питаться земляными орехами и собственной добычею, они быстро одичают и сделаются свирепыми. Что принадлежит до меня, то я могу по мере надобности пахать, сеять и охотиться, но, если мою жену лишить льна и шерсти, ей некуда будет приложить свои силы, и что она тогда станет делать? Подобно другим скво ей придется готовить нам нинчике и другие блюда из маиса, которые обыкновенно едят эти люди. Ей придется научиться печь в золе тыкву и кабачки, скоблить и коптить мясо дичи, добытой нами на охоте, ей придется с легкой душою усвоить нравы и обычаи соседок во всем, что касается до платья, поведения, манер и домашнего хозяйства. Конечно, если у нас достанет твердости бросить все наше имущество, уехать в такую даль и водиться с людьми настолько на нас непохожими, то сии необходимые уступки составят лишь второстепенную часть нашего предприятия. Перемена износившейся одежды будет не последнею заботой моей жены и дочери, но я надеюсь, что себялюбие заставит их изобрести взамен другую. Быть может, Вы не поверите, что в лесах имеются зеркала и краски всех цветов и что обитательницы оных стараются украсить свои тела и лица, надеть серебряные браслеты и заплести волосы не менее усердно, чем наши предки, пикты{265}, во времена римского владычества. Я не хочу, чтоб моя жена или дочь приняли обычаи дикарей; мы можем жить в мире и согласии с ними, не снисходя до всякого предмета, и я надеюсь, что вследствие повреждения торговли таких украшений теперь не носят. Моя жена отлично делает предохранительные прививки, она уже сделала их всем нашим детям и множеству соседей, которые рассеяны по здешним лесам на слишком дальнем расстоянии от всякой врачебной помощи. Если мы сможем убедить хотя бы одно семейство подвергнуться прививке и она окажется удачной, мы почувствуем себя счастливыми, насколько сие возможно в наших обстоятельствах, ибо жена моя поднимется в глазах соседей — ведь человека, полезного для общества, всегда уважают. Если нам посчастливится избавить хотя бы одно семейство от недуга, являющего собою бич для местных жителей, то я думаю, что в силу примера мы станем поистине необходимы, нас оценят и полюбят: а мы, разумеется, обязаны делать добро людям, которые с такою охотою предложили принять нас в свое сообщество, дать нам кров в своем селении, усыновить нас и даже дать нам свое благородное имя. Да ниспошлет нам бог успешное начало, и мы тогда сможем надеяться быть для них полезнее, чем даже миссионеры, посланные проповедовать им Евангелие, коего они неспособны понять. Что принадлежит до религии, то наше богослужение не очень пострадает от переезда из цивилизованной страны в лесную глушь; оно не будет много проще того, которое мы исправляем здесь в течение многих лет; я же со всем возможным рвением удвою свои усилия и два раза в неделю стану напоминать домашним об их долге перед богом и человеком. Я буду читать и толковать им заповеди из Десятисловия{266} — моя обычная метода, коей я придерживаюсь со дня женитьбы. Полдюжина акров на берегах… почву которых я хорошо знаю, принесут нам в изобилии все необходимое; избыток я почитаю необходимым отдавать тем индейцам, которых постигнет неудача на охоте, и я постараюсь убедить их возделывать немного более земли и не полагаться лишь на охотничью добычу. Дабы еще более поощрить их к землепашеству, я наделю каждые шесть семей ручною мельницей; я изготовил множество оных для бедных жителей наших дальних селений, ибо недостаток мельниц часто мешает им сеять зерно. Будучи плотником, я могу сам соорудить себе плуг и помочь многим индейцам; моего примера будет достаточно, дабы возбудить рвение в одних и наградить труд других. Трудности языка скоро будут преодолены; в своих вечерних беседах я постараюсь научить их вести торговлю своего селения таким способом, чтобы купцы, сия черная язва континента, не смели подойти к ним ближе определенного расстояния и совершали бы свои сделки в присутствии стариков. Я льщу себя надеждой, что свойственное им уважение к старшим и стыд могут помешать молодым охотникам нарушить сие правило. Мы скоро ознакомим с нашими планами сына… и я думаю, что любовь и привязанность, которые он питает к моей дочери, побудят его присоединиться к нам; из него получится прекрасный охотник; он молод, крепок и не уступит в проворстве самому отважному жителю селения. Если бы не сие счастливое обстоятельство, нам угрожала бы большая опасность, ибо при всем моем уважении к оным простым и безобидным людям, сильнейшие предрассудки заставят меня в ужасе отшатнуться при мысли о каком-либо кровном родстве с ними, что, без сомнения!, противно самой Природе, резко отделившей нас друг от друга столь многими неизгладимыми чертами. Захворав, мы воспользуемся их врачебными познаниями, прекрасно приспособленными к простым болезням, которым они подвержены. Так из аккуратных, добропорядочных, зажиточных фермеров, окруженных всеми удобствами, какие только может дать работа в поле и дома, мы превратимся в еще более простых людей, которые лишились всего, кроме надежды, пищи и платья, пригодных в лесу, и променяли большой деревянный дом на вигвам, а перины — на тростниковые подстилки и медвежьи шкуры. Здесь наши сны не нарушат ни страхи, ни дурные предчувствия; мир и душевный покой щедро вознаградят нас за все утраты. Ради сей благословенной награды мне ничего не жаль — слишком уж давно нам в ней было отказано. Чтобы обрести спокойствие, которого мы столь давно взыскуем, я с радостью дошел бы до самой Миссисипи. Порою мне кажется, что сердце мое устало биться; оно просит отдохновения, как просят его мои глаза, отяжелевшие от бесконечных бдений. Таковы составные части моего плана; успех каждой из них я почитаю весьма вероятным, что вселяет в мое сердце надежду на успех всего предприятия. И все же меня не покидает тревога: я боюсь тех опасностей, коими грозит нам индейское воспитание; снова и снова я сравниваю его с воспитанием, которое дает человеку нынешний век, и вижу, что оба они равно чреваты злом. Разум подсказывает мне, что следует выбрать из двух зол наименьшее и признать в нем единственно доступное мне благо; я убеждаю себя, что усердие и труд послужат прекрасным средством противу первого зла, но в то же время понимаю, что ни труд, ни усердие, если они станут приносить нам лишь самое необходимое для жизни почти безо всякого избытка, не смогут обуздать наши помыслы с такою же силою, как в оные времена, когда мы возделывали ниву более пространную. Тогда мы имели избыток, который можно было продать за солидные деньги, и сия прибыль не только вознаграждала нас за прежние труды, но и привлекала к себе внимание работника, внушая ему надежду на будущее богатство. Дабы восполнить сей великий недостаток в побудительных причинах к труду и поставить перед моими детьми практическую цель для предотвращения роковых последствий такого безразличия, я буду вести точный счет всему собранному урожаю и регулярно наделять каждого из них его долею кредита, каковая будет выдана ему наличными по наступлении мира. Таким образом, работая как бы лишь ради собственного пропитания на чужой земле, они будут знать, что в один прекрасный день получат за свои труды сумму в виде наследства или дара, равную их заработку или даже оный превышающую. Ежегодные затраты на одежду, которую они получали бы дома и которой лишены будут там, я также занесу на их счет и оттого льщу себя надеждой, что они будут с большим удовольствием носить одеяло, плащ и мокасины. Внушая им, что охота и рыбная ловля всего лишь развлечение, я не позволю им почитать успехи в охотничьем искусстве необходимым и важным достоинством. Я намерен сказать им: «Вы будете охотиться и ловить рыбу лишь с целью показать вашим новым товарищам, что не уступаете им в сметливости и ловкости». Чему смогли бы они научиться в тех школах, кои сейчас имеются во внутренних частях нашей страны? На какие средства стал бы я содержать их там? Что сталось бы со мною, отправься я в свое путешествие без них? Нет, все будет иначе. Вместо вечных шумных разговоров, столь частых среди нас, вместо душераздирающих семейных сцен они увидят, что внутри и вне дома царит тишина: необыкновенное зрелище мира и согласия — первое, что поражает вас в селениях индейцев. Нет ничего приятнее и удивительнее для европейца, нежели покой и гармония, царящие в их племенах и в каждой семье и нарушаемые лишь проклятым зельем, которое торговцы дают им в обмен на меха. Пусть мои дети не будут знать, как пользоваться компасом, не выучат правил геометрии и латинский язык, зато они усвоят трезвость, ибо теперь запрещено продавать индейцам ром; они усвоят учтивость и скромность, коими столь примечательны молодые индейцы; они будут почитать труд главным достоинством, а охоту — второстепенным. Они будут готовиться к выполнению наших скромных сельских работ на благо нашей маленькой общины, чтобы потом, получив свою долю наследства, приложить силы на более обширном поприще. Постоянные тревоги не будут больше терзать их нежные умы; вечные страхи не будут превращать их в трусов; если в селении N. они приобретут некоторую грубость в обращении и наружности, кои сделают их смешными в глазах легкомысленных столичных жителей, они, надеюсь, твердо усвоят себе вкус к простоте, как нельзя более приличествующий землепашцам. Если я не могу дать им ни одной из тех профессий, кои иногда украшают и поддерживают наше общество, я покажу им, как рубить деревья, как сделать себе плуг и как с помощью немногих инструментов изготовить все необходимые приспособления для работы в доме и в поле. Если они впоследствии вынуждены будут признаться, что не принадлежат ни к какой определенной церкви, я найду себе утешение, зная, что преподал им то изначальное простое вероисповедание, которое составляет фундамент всех остальных. Если они не убоятся бога согласно догматам какой бы то ни было школы, то научатся почитать его на обширной основе Природы. Высшее Существо не обитает в каких-то особых церквах или общинах, оно есть Великий Маниту{267} равно и лесов и долин; даже во тьме глухого леса его справедливость можно постичь и почувствовать так же, как в самых пышных храмах. У нас, как Вам известно, каждое вероисповедание имеет свой особый политический оттенок; здесь оно стремится лишь внушить благодарность и истину; их нежные умы увидят в Высшем Существе Отца всех людей, который требует от нас лишь того, чтобы мы способствовали счастию друг друга. Мы будем говорить вместе с ними: «Отче наш, да будет воля твоя и на земле, как на великих небесах». Быть может, мое воображение слишком сильно преукрасило сию далекую цель; но, как мне кажется, она основана на столь немногочисленных и простых началах, что путь к ней, вероятно, менее чреват неблагоприятными случайностями, нежели осуществление планов более сложных. Сии бессловесные мысли, которые я здесь точно повторяю, порой заводят меня очень далеко, и я теряюсь в предчувствии различных обстоятельств, сопровождающих задуманную мной метаморфозу. Без сомнения, возникнет много непредвиденных происшествий. Увы! В пылу родительской тревоги мне легче, лежа в постели, составить теорию своего будущего поведения, нежели осуществить свои планы на практике. Очутившись, однако, вдали большого общества, к коему мы ныне принадлежим, мы сблизимся теснее, и у нас будет меньше причин для зависти и раздоров. Коль скоро я не прочу моих сыновей ни в священники, ни в юристы, я желаю, чтобы они обрабатывали землю, я не жду от них литературных талантов и молю небо, чтобы они в один прекрасный день стали всего лишь людьми, сведущими в землепашестве, ибо благодаря сей науке наш континент процвел быстрее всякого другого. Даже если бы нам не грозила опасность и они продолжали расти на нашей ферме, старшим двум из них скоро пришлось бы взять в руки мушкет и познать в сей новой школе все пороки, столь распространенные в армиях. Великий Боже! Закрой мне навеки глаза, но избавь от зрелища такой беды! Пусть уж они лучше станут жителями лесов. Итак, в селении N., в лоне мира, коим оно наслаждается с тех пор, как я его знаю, среди добрых гостеприимных людей, чуждых нашим политическим раздорам и не ведающих своих, на берегах прекрасной реки, в глуши лесов, изобилующих дичью, наше маленькое общество в полном согласии с тем сообществом, которое нас приняло и коего частью мы станем, отдохнет, я надеюсь, ото всех тягот, ото всех дурных предчувствий, от наших нынешних страхов и бесконечных бдений. Пи единое слово о политике не омрачит нашу простую беседу: утомленные охотою или трудами в поле, мы будем спать на своих подстилках, не ведая мучительной нужды и научившись обходиться без излишеств; у нас будет всего две просьбы к Высшему Существу: чтобы он оросил плодотворным дождем наши скромные посевы и возвратил мир нашей несчастной стране. Сие составит единственное содержание наших еженощных молитв и ежедневных сетований, и если труд, бережливость, усердие и согласие людей могут быть для него приятным даром, мы непременно получим его отеческое благословение. Там я буду созерцать Природу во всей ее дикости и изобилии; я буду тщательно изучать ту разновидность общества, о коей ныне имею лишь самое смутное понятие; я постараюсь достойно занимать то место, которое позволит мне наслаждаться немногими, но вполне достаточными благами, им даруемыми. Уединенный и одинокий образ жизни, который я вел в юности, должен подготовить меня к сему испытанию, я не первый делаю такую попытку; европейцы, правда, не возили с собой в глушь многочисленные семьи, они отправлялись туда лишь с целью вести наблюдения, я же ищу убежища от бедствий войны. Они отправлялись туда для того, чтобы изучать обычаи аборигенов, я — чтобы принять их, каковы бы они ни были; они отправлялись туда как гости или как путешественники, я — как временный житель, как сотоварищ по охоте и труду, исполненный решимости построить систему счастия, которая окажется соответствующей моему будущему положению и послужит достаточною наградой за все мои прежние тяготы и невзгоды. Я всегда находил такое счастье дома и равным образом надеюсь найти его под скромной крышей вигвама. О, Отец Природы! Если ты соблаговолишь распространить свою всемогущую отеческую заботу на все существа, обитающие на бесчисленных разнообразных планетах, заселенных твоею творческой силой, если ты в бесконечном достоинстве своем не погнушаешься бросить взгляд на нас, жалких смертных, если мое будущее благополучие не противоречит необходимым следствиям тайных причин, назначенных тобою, прими мольбы человека, коему ты в доброте своей дал жену и потомство; будь к нам милосерден, избавь нас от яростной схватки сожалений, желаний и других естественных страстей, направь стопы наши по сим неведомым путям и благослови наш будущий образ жизни. Если мы руководствуемся благими намерениями, значит, нас ведет твоя воля; ты знаешь, господи, что мы не замышляем ни зла, ни обмана, ни мести. Укрепи меня в моем предприятии, чтобы у меня достало сил спокойно и мирно провести сквозь все тяжкие испытания молодую семью, которую ты мне даровал. Внуши мне такие цели и правила поведения, какие будут всего угоднее тебе. Сохрани, о боже, сохрани подругу души моей, самый бесценный дар твой, вдохни в нее смелость и силу, дабы свершила она сие опасное странствие. Благослови детей нашей любви, кровь сердца нашего, дай им твою божественную помощь, вдохни в их нежные умы любовь и добродетель, которая одна лишь может служить основой их поведения в сем мире и счастия в лоне твоем. Восстанови мир и согласие в нашей несчастной многострадальной стране, утишь яростную бурю, которая так долго ее опустошает. Соизволь, молю тебя, Отец Природы, чтобы наши исконные добродетели и усердие не пропали даром и чтоб в награду за наши тяжкие труды на этой новой земле мы вновь обрели прежний покой и смогли заселить ее грядущими поколениями, кои вечно станут благодарить тебя за изобилие, которым ты их наделил. Откровенность сего письма должна совершенно уверить Вас в моем уважении и дружбе, в коих, смею надеяться, Вы никогда еще не усомнились. Как члены одного сообщества, мы связаны взаимными узами расположения и старого знакомства, и Вы, конечно, не можете не соболезновать моим невзгодам, не можете не сетовать со мною на то физическое и моральное зло, которое нас всех обременяет. Когда я взираю на то, что творится с нашей родной страной, выпавший мне жребий кажется не столь уж тяжелым.КОММЕНТАРИИ
УИЛЬЯМ БРЭДФОРД — ♦ — WILLIAM BRADFORD 1590–1657
ИСТОРИЯ ПОСЕЛЕНИЯ В ПЛИМУТЕ (HISTORY OF PLIMOUTH PLANTATION) (Опубл. в 1856 г.)
Уильям Брэдфорд писал свою книгу в 1630–1650 годах., Впервые издана она была лишь много лет спустя. До тех пор рукопись хранилась в семейных бумагах. Правда, наследники автора позволяли с ней знакомиться. Отсюда заимствования из нее в исторических трудах XVII–XVIII веков. Во время войны североамериканских колоний за независимость она была увезена в Англию и считалась пропавшей. В 1844 году ее местонахождение было обнаружено. В 1856 году вышло первое издание книги по снятой копии. В 1896 году рукопись вернулась в Америку, в Бостон, где наконец была осуществлена публикация с оригинала. К тому времени, когда Брэдфорд закончил свою «Историю», в Европе уже давно существовал особый вид литературы — сочинения очевидцев и участников открытий и завоеваний заморских стран. В этих сочинениях, касавшихся в частности Америки, сообщались правдивые, а то и самые фантастические сведения о доселе неведомых краях, воспевались подвиги людей, проложивших путь через бескрайний грозный океан, огнем и мечом покорявших индейцев. Англичане появились в Америке позже испанцев, португальцев и французов — позже появилась у них и литература, повествующая об этом событии. Среди произведений, заложивших ее фундаменту самыми значительными из них были книги Джона Смита (1580–1631), одного из первых поселенцев Виргинии — первой английской колонии в Западном полушарии. Позже Смит вернулся на родину, но так как писал он, основываясь главным образом на опыте пребывания в Америке и именно поэтому сделался знаменитым, с него американцы начинают хронологию своей отечественной литературы, как с даты основания Виргинии — колониальный период своей истории. Считать ли Джона Смита одним из многих авторов из разных стран, писавших об открытии и завоевании Америки по собственным впечатлениям, отнести ли его к представителям английской литературы в этом жанре или избрать родоначальником американской литературы — это не меняет сути его произведений, в которых основной мотив — героико-завоевательный, а повествование эмоционально и не лишено красочного вымысла. Уильям Брэдфорд (1590–1657) — соотечественник и младший современник Смита. В его «Истории поселения в Плимуте» этот мотив полностью отсутствует и изложение ведется, за редкими исключениями, сухо и без прикрас. Произведение Брэдфорда отличает то, чего практически нет в трудах Смита, и стимулирует к размышлениям над проблемами, которые близки человеку нашего «ядерного» века: Брэдфорда интересует духовная жизнь людей его времени и конкретно тех, чью судьбу он разделял, чьей духовной жизнью старался руководить. Он говорит о побудительных мотивах, толкнувших простых людей бросить все свое имущество и покинуть родные места и, мужественно превозмогая горечь разлуки с ближними, страх перед ожидающими их опасностями, пуститься в далекое плавание, пережить тяжкие невзгоды первых лет жизни на незнакомой, неосвоенной земле. В меру своих сил и возможностей они многого достигли. Во многом они разочаровались, убедившись, что достигнутое не совпадает с тем, о чем мыслилось и мечталось. Именно это особенно заботило автора «Истории поселения в Плимуте». Джон Смит и Уильям Брэдфорд отразили две грани английской колонизации американских земель, грани, которые проступали по мере выхода Англии на просторы океана и по мере обострения в стране под покровом религиозных разногласий социальных противоречий. Творчество Джона Смита питали: его судьба офицера-ландскнехта, воевавшего во многих странах Европы, побывавшего в турецком плену; опыт испанских конкистадоров, португальских бандейрантов, французских буканьеров и английских каперов; приключения, испытанные им в Америке и связанная с этим претензия на славу открывателя и завоевателя для Англии обширного заморского края. Личная предприимчивость и направленность творчества Джона Смита, как и его путь в Америку и путь туда его предшественников, определялись в основном жаждой к приобретению американских сокровищ. Она не обязательно была личным чувством — веянием времени, проявлением процесса так называемого первоначального накопления, основу которого составляло обезземеливание крестьян, а также разрушение ремесленных цехов, и который свидетельствовал о росте в Англии капиталистических отношений. Попутно образовались и слились два общественных потока. Один увлекал буржуазию и дворянство, связанное с торговой и предпринимательской деятельностью («новое дворянство»), к колониальной экспансии; другой — уносил обездоленных людей, лишенных земли и орудий труда, на поиски новых мест, где они могли бы вновь обрести землю и работу, а с ними кров и пропитание. Чтобы, слившись, эти потоки доставили английских поселенцев в Америку, нужны были инициаторы и средства. Они явились в лице купцов, организовавших Виргинскую компанию — акционерное общество, предназначенное для извлечения прибыли от вложенного капитала. В такой форме зарождалась колониальная экспансия англичан в Америке. Обострявшиеся социальные и политические противоречия в Англии наиболее зримо обнаруживались в религиозной борьбе, которую вели между собой приверженцы ортодоксального англиканизма — государственной церкви — и «пуритане» — сторонники его реформации в направлении кальвинизма. Свое название они получили от латинского слова «purus» — чистый, истинный, ибо добивались «очищения» англиканской церкви, которая несла на себе многие следы отвергнутого сто лет назад католицизма, только свои религиозные воззрения считали «истинными». Их называли так еще из-за внешней строгости и чопорности, усердного благочестия, вражды к показной роскоши в быту и церкви, мелочной скрупулезности в делах, что отражало буржуазную направленность их веры и морали. Королевская власть считала англиканизм и церковное единообразие важнейшими орудиями поддержания и расширения королевских прерогатив. Пуритан подвергали преследованиям. Особенно жестоким — тех из них, которые принадлежали к радикальным течениям пуританизма и выражали чаяния наиболее угнетенных слоев народа. С течением времени политика королевской власти приходила во все большее противоречие с интересами и нуждами подавляющей части населения страны. Одновременно продолжавшееся развитие буржуазных отношений расширяло и укрепляло движение «нонконформизма» — несогласия с господствующей англиканской церковью. При этом, неоднородное с самого начала, движение это заметно расслаивалось. Часть пуритан получила название «пресвитериане». Ими становились в основном зажиточные люди, претендовавшие на руководящую роль в религиозных общинах, а после «очищения» англиканской церкви — на аналогичную роль в государстве. Они отстаивали такую церковную организацию, при которой все основные вопросы религиозной жизни решались бы пасторами совместно с выборными лицами из мирян (пресвитеры). Они считали необходимым единообразие культа, а потому были сторонниками местных и общегосударственных синодов — съездов представителей общин. Пассивность пуританских лидеров в борьбе с существующими порядками привела к образованию новых и расширению прежних радикальных пуританских течений. Их приверженцы утверждали, что кальвинистские принципы построения церкви (пресвитеры, синоды) противоречат Библии — единственному источнику и закону веры. Отдельные церкви должны быть независимы как от государства, так и друг от друга. Их единственный духовный руководитель — Иисус Христос. Вхождение в церковную общину (конгрегацию) совершенно добровольное, обусловленное лишь заявлением о желании сделаться ее членом и признанием взаимного соглашения о вере (ковенант). Пастор, старейшина и дьякон избираются конгрегацией, большинством голосов. За сторонниками подобных взглядов закрепились наименования: «сепаратисты», «независимые» (индепенденты), «раскольники» (диссиденты), «конгрегационалисты» и др. В их идеологии, когда общины состояли из наиболее угнетенных и эксплуатируемых подданных королевства, порой появлялись элементы «крестьянско-плебейской ереси», которая была издавна особенно ненавистна имущим и власть предержащим за мысль о том, что из равенства людей перед богом следует необходимость равенства их имуществ. «История» Брэдфорда — летопись пережитого и размышления над тем, как возникла конгрегация сепаратистов селения Скруби графства Линкольншир в Англии, какие злоключения они испытали, как оказались в Голландии, почему и с какой целью решили отправиться в Америку, как был основан Новый Плимут и как протекала в нем жизнь первые десятилетия его существования. Немалое место в своей «Истории» Брэдфорд уделяет происходившему в соседней колонии — Массачусетсе. Она возникла через десять лет после Нового Плимута и несла черты, придававшие этим колониям определенное сходство: по истокам происхождения, по организации общественного устройства. Были и отличия. Не умея вскрыть их корни, с одной стороны, уклоняясь от этого из дипломатических соображений, с другой, Брэдфорд в своем повествовании их не касается. Однако в них — ключ к пониманию складывавшихся отношений, которые в конечном счете — уже за пределами рассказанной Брэдфордом «Истории» — привели к слиянию колоний. В Массачусетсе господствовали пуритане-конгрегационалисты. В силу ряда причин, применительно к истории США, именно за конгрегационалистами Массачусетса закрепилось наименование «пуритане», а за плимутцами — «сепаратисты» (также «пилигримы», о чем в соответствующем месте комментариев). По своим религиозным взглядам пуритане Массачусетса мало отличались от сепаратистов Нового Плимута. Рассказ Брэдфорда о встрече плимутца С. Фуллера и Дж. Эндикотта — руководителя первой экспедиции пуритан в Америку — тому яркое свидетельство. Тем на менее лидеры массачусетских пуритан, которые принадлежали или примыкали к буржуазии и в меньшем числе к дворянству, относились к сепаратистам враждебно, о чем открыто заявляли до отъезда из Англии. Они не терпели присутствия сепаратистов в своей колонии, тот же Эндикотт. Они видели в сепаратизме угрозу своему имущественному и общественному положению, угадывая в нем и приписывая ему черты «крестьянско.-плебейской ереси». Кредо пуританских лидеров Массачусетса гласило: «Всемогущий бог, в своей святости и мудрости, так определил условия человеческого существования, чтобы во все времена кто-то был беден, а кто-то богат, кто-то стоял выше и имел власть и достоинство, а другие — ниже и находились в подчинении». Фанатичные, претендующие на исключительное обладание «истинной» верой, руководители Массачусетса старательно выкорчевывали малейшую «ересь», отличавшую взгляды ее носителей от конгрегационализма в насаждаемом виде, учредили в своей колонии всеподавляющий режим теократической олигархии. Новый Плимут в описываемое Брэдфордом время, хотя и обнаруживает сходную тенденцию, избежал подобную судьбу. Характер верований, степень религиозной терпимости и нетерпимости могли отличаться. Как явствует, однако, из «Истории» Брэдфорда, в принципе плимутцы постепенно выходили на тот же путь, по которому шли пуритане Массачусетса, — путь буржуазного развития. В том и другом случае он был определен еще в Англии — условиями созреваемой там буржуазной революции 1640–1660 годов.Л. Слёзкин
БЕНДЖАМИН ФРАНКЛИН — ♦ — BENJAMIN FRANKLIN 1706–1790
АВТОБИОГРАФИЯ (AUTOBIOGRAPHY) (Опубл. в 1791-1828 гг.)
Незаконченная «Автобиография» Франклина составилась из четырех отдельных фрагментов, написанных им на протяжении последних двадцати лет его жизни. Он начал ее в 1771 году, когда жил в Англии в качестве представителя американских колоний, а последние строки писал уже тяжко больным, не вставая с постели, в 1789 году, в Филадельфии. Начальный, самый крупный отрывок в форме адресованного сыну рассказа о первых 24 годах своей жизни, был написан Франклином во время двухнедельного отдыха под Лондоном в загородном доме одного из английских друзей, Джонатана Шипли (епископа Сент-Асафского), поддерживавшего Франклина в его борьбе за интересы колоний. Сын Франклина, Уильям Франклин, многие годы его секретарь и помощник, а в дальнейшем королевский губернатор Нью-Джерси, в годы Войны за независимость США разошелся с отцом, остался верным британской короне, и в последующих частях своей книги Франклин отходит от формы письма отца к сыну, как это было в начале. Франклин вернулся к работе над книгой лишь по прошествии 13 лет. Уже будучи послом США при версальском дворе, очень занятый и не имея под рукой первой рукописи, он лишь подробно остановился на своем самообразовании и «методике» морального совершенствования, выработанной им в те же юные годы. Рукопись помечена: «Пасси, 1784» (Пасси — пригород, где Франклин жил в Париже). По возвращении в США он перечел все написанное и продолжил повествование, доведя его до 1757 года. Позже новые общественные обязанности и усиливающаяся болезнь не давали ему вплотную заняться книгой, и он лишь добавил — в последний год своей жизни — небольшой, четвертый отрывок, охватывающий двухлетний период, до 1759 года включительно. Память порой подводила Франклина, и позднейшие биографы находят у него хронологические и иные неточности. Сохранился проспект книги в целом, из которого явствует, что Франклин намеревался описать и дальнейшую свою жизнь. В заключительной фразе проспекта читаем: «Франция, подписание мира и т. д.», то есть речь идет уже о 80-х годах. Однако эти насыщенные драматическими общественными событиями позднейшие десятилетия в жизни Франклина, когда его деятельность приобретает мировую известность, остались им неописанными и восстанавливаются биографами по его произведениям тех лет и обширнейшей переписке. История рукописи «Автобиографии» Франклина довольно запутана и ее публикация растянулась на многие годы. Уезжая с дипломатической миссией в Европу уже в ходе войны американцев за независимость, Франклин отдал на хранение архив (включая первую часть «Автобиографии») одному из друзей, Джозефу Галлоуэю, проживавшему в стороне от тогдашнего театра военных действий. Превратности войны не пощадили франклиновского архива, но «Автобиография» была спасена и попала к давнему знакомому Франклина, филадельфийскому квакеру Абелю Джеймсу. Ознакомившись с ней, тот сообщил о находке в Париж Франклину с убедительной просьбой продолжить далее рассказ. Просьбу Джеймса поддержал и английский приятель Франклина Воуэн и, предпослав новой рукописи эти письма друзей, Франклин, хоть и крайне занятый, как сказано, продолжил работу. Вернувшись домой в Филадельфию и добавив там третий отрывок, Франклин велел сделать две копии всего написанного и одну отослал в 1789 году в Париж французскому Другу, бывшему мэру Пасси, Луи де Вейару, а другую Бенджамину Воуэну в Лондон с просьбой сообщить свои замечания. Ответа он не дождался. Незадолго до смерти Франклин сделал своего внука Уильяма Темпла Франклина литературным душеприказчиком и полноправным издателем всех своих сочинений. Тем не менее уже в начале 1791 года, вскоре же по кончине Франклина, первая часть «Автобиографии» появилась по-французски в Париже, переведенная, видимо, де Вейаром, и получила сразу всеевропейскую славу. В последнем декабрьском номере своего «Московского журнала» за этот год молодой Карамзин сообщил о выходе книги и русским читателям. «Всякой, читая сию примечания достойную книгу, — писал Карамзин, — будет удивляться чудесному сплетению судьбы человеческой. Франклин, который бродил в Филадельфии по улицам в худом кафтане, без денег, без знакомых, не зная ничего кроме английского языка и бедного типографского ремесла — сей Франклин через несколько лет сделался известен и почтен в двух частях света, смирил гордость Британцев, даровал вольность почти всей Америке и великими открытиями обогатил науки». Второй фрагмент «Автобиографии» появился также по-французски, в Париже в 1798 году. Тогда же две главные «дидактические» главы этой части вышли в свет и по-русски в московском журнале «Приятное и полезное препровождение времени». Андрей Тургенев еще раз перевел их и напечатал в своем сборнике произведений Франклина в следующем, 1799 году. Лишь в 1818 году Уильям Темпл Франклин в составе 7-томного Собрания сочинений своего деда выпустил в Лондоне три первые части его «Автобиографии» в английском оригинале (до того англичане и американцы читали их в переводе с французского). В 1828 году, опять по-французски, появилась последняя, четвертая часть, и лишь в 1868 году Джон Биглоу, американский биограф и издатель наиболее полного по тому времени Собрания сочинений Франклина, напечатал в нем всю «Автобиографию», основываясь на полном авторском тексте. В предлагаемое русское издание «Автобиографии» включен дневник молодого Франклина за время переезда из Англии в Америку в 1726 году, на который он сам ссылается в первой части своей книги.ПАМФЛЕТЫ
ОБ ЭКСПОРТЕ УГОЛОВНЫХ ПРЕСТУПНИКОВ В КОЛОНИИ (EXPORTING OF ELONS ТО THE COLONIES)
Напечатано анонимно Франклином в мае 1751 г. в издававшейся им «Пенсильванской газете».ЭДИКТ ПРУССКОГО КОРОЛЯ (AN EDICT BY THE KING OF PRUSSIA)
Напечатано в лондонском «Джентльмене мэгезин» в октябре 1773 г. Франклин обличает экономические стеснения, налагаемые Англией на свои колонии в Америке, сатирически переадресовывая их самим англичанам от имени прусского короля Фридриха II.ПРОДАЖА ГЕССЕНЦЕВ (SALE OF THE HESSIANS)
Напечатано по-французски в Париже весной 1777 г. Англия в войне с восставшими американскими колонистами закупала наемных солдат у владетельных немецких князей. Они получили в ту пору общее наименование «гессенцев» (наибольшее число их прибыло из Гессен-Кассельского ландграфства). Сатира Франклина направлена как против немецких феодальных владетелей, так и против Великобритании, пользующейся их продажностью и неограниченным произволом.О ПЕРЕРАБОТКЕ ТЕКСТА БИБЛИИ (PROPOSED NEW VERSION OF THE BIBLE)
Напечатано в конце 70-х гг. во Франции. Тонко пародируя Библию, Франклин «переводит» ее на язык политической современности.ЗАМЕТКИ О СЕВЕРОАМЕРИКАНСКИХ ДИКАРЯХ (REMARKS CONCERNING THE SAVAGES OF NORTH AMERICA)
Написано в 1784 г. и отпечатано в личной типографии Франклина в Пасси. Одновременно опубликовано во французской печати.О ТОРГОВЛЕ РАБАМИ (ON THE SLAVE TRADE)
Напечатано в США в «Федерал газетт» в марте 1790 г., после отказа Конгресса рассматривать петицию об отмене рабовладения. Петиция была подана за подписью самого Франклина от имени возглавлявшегося им Пенсильванского общества за отмену рабства и освобождения свободных негров, незаконно удерживаемых владельцами. Ссылка Франклина на якобы прочитанные им «Записки» некоего консула Мартина — характерная для него сатирическая мистификация.А. Старцев
СЕНТ ДЖОН ДЕ КРЕВЕКЕР — ♦ — ST. JOHN de CREVECOEUR 1735–1813
ПИСЬМА АМЕРИКАНСКОГО ФЕРМЕРА (LETTERS FROM AN AMERICAN FARMER) 1782
Первое издание книги вышло в Лондоне в 1782 году под названием: «Письма американского фермера, описывающие некоторые малоизвестные местные обстоятельства, нравы и обычаи Британских колоний в Северной Америке и содержащие сведения об их внутреннем положении в прошлом и настоящем. Писаны для ознакомления к некоему другу-англичанину Дж. Гектором Сент Джоном, фермером из Пенсильвании». Год спустя «Письма» были переизданы с небольшими исправлениями. В обоих изданиях книге предпослано посвящение французскому просветителю аббату Рейналю (1713–1796), труды которого оказали на Кревекера весьма сильное влияние. В 1784 году в Париже был опубликован французский перевод «Писем» (под другим псевдонимом и с новым посвящением маркизу де Лафайету); в 1793 году они были впервые изданы в США. Настоящий перевод выполнен по современному переизданию: J. Hector St. John de Crèvecoeur. Letters from an American Farmer. N. Y., E. P. Dutton and Co., 1957. По сложившейся традиции избранный Кревекером псевдоним Сент Джон включен в его литературное имя вместе с подлинной фамилией. Следует отметить, что Кревекер не просто выступил под псевдонимом, но предпринял попытку создать образ повествователя, простодушного пенсильванского фермера Джеймса Сент Джона, который во многом отличается от реального автора «Писем». Так, например, именно вымышленный Сент Джон, а не эмигрант-француз Кревекер, ведет свое происхождение от пионера-скваттера; именно его ферма находится в Пенсильвании, тогда как сам Кревекер жил в провинции Нью-Йорк и т. п. Такое использование «маски» (из-под которой, правда, то и дело высовывается подлинное «лицо» человека с европейским образованием, неплохо знающего учение физиократов и идеи Ж.-Ж. Руссо) придает «Письмам» некоторые черты романа и позволяет их автору свободно смешивать факты с вымыслом. Как установили американские исследователи, целый ряд эпизодов книги не имеет под собой никакой реальной основы и представляет собой псевдодокументальную прозу, стилизованную под хронику или дневник. С этим связано большое количество неточностей, ошибок и противоречий в тексте «Писем». В какой бы роли ни выступал Кревекер (или, точнее, Сент Джон) — в роли историка или натуралиста, этнолога или географа, он часто грешит против истины, предпочитая эффектную легенду или анекдот унылым фактам. Скажем, к области чистого вымысла можно отнести его утверждение, будто все жительницы Нантакета употребляют опиум, или его рассказы об американских змеях. Однако все подобные отступления от фактов мотивированы самим образом повествователя и общим художественным заданием книги, которая скорее творит миф об Америке, чем дает ее документальное описание. Многочисленные географические названия, встречающиеся в тексте «Писем», не комментируются, ибо этого не требует специфика жанра.А. Долинин
Издательские данные



Последние комментарии
11 часов 50 минут назад
23 часов 56 минут назад
1 день 48 минут назад
1 день 12 часов назад
2 дней 5 часов назад
2 дней 19 часов назад