Лесные Поляны [Константин Никандрович Фарутин] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
К. Фарутин ЛЕСНЫЕ ПОЛЯНЫ Повести и рассказы

Художник С. М. Закржевская

Прощание

Сторона наша лесная. Лес начинается сразу за полями и уходит до горизонта.
Ближний лес редкий. В нем много лесных открытых полян, отдельных рощ и рощиц. На полянках густая высокая трава. А сколько цветов! Не ушел бы!..
По краям полян и в редколесье много земляники. А еще больше костяники. Наклонишься пониже, разберёшь траву, и костяника, вот она, вся на виду!
А грибов сколько! Только не ленись искать, заглядывай в каждый лесной закоулочек и быстро насобираешь корзину подберёзовиков, сыроежек, а если придёшь после тёплых дождей во время колошения ржи, то и с белыми грибами будешь.
В ближнем лесу всегда людно. Ходят сюда любители собирать грибы, ягоды, да и охотники — неопытные юнцы — нет-нет да и спугнут выводок тетеревов. Гулко ударит выстрел — и испуганно крикнет какая-нибудь молодка, забравшаяся в заветное для неё ягодное местечко. Таков ближний лес.
За ближним лесом — дальний лес. В нем нет открытых лесных полян с густой травой и с цветами. Деревья стоят плотной толпой. Берёза и осина — редкие жительницы в том лесу. Всё заняла ель.
В густом бородатом ельнике встречаются толстые осины, толстые берёзы с грязно-белыми стволами, а в низких местах лапчатые рябины с тонкими длинными ветвями.
А по земле всюду мох и редкая высокая лесная трава. По берегам лесных ручьев густые поросли папоротника.
В этом лесу не услышишь ауканья и звонких голосов. Он безмолвен и безлюден.
Редко услышишь стук и пронзительный крик чёрного дятла, перелетающего с дерева на дерево.
В тихую безветренную погоду лес неподвижен и задумчив, в бурю и непогоду он нескончаемо шумит, подобно морскому прибою.
В жаркую погоду в таком лесу очень тепло и душно. Нагретый воздух насыщен испарениями мха, смолы, лесной сыростью.
На болотах, около лесных озёр к этому лесному запаху примешивается запах багульника и стоячей воды.
Вот уже два часа по каким-то еле заметным лесным тропам мы идём и идём в глубь леса.
Я не боюсь лесной дали, не думаю о том, куда мы идём и куда выйдем, — со мной идёт наш деревенский охотник дядя Василий.
Здешние леса ему знакомы. Он исходил их в одиночестве с малых лет. Неразлучные друзья его — ружьё и собака.
Осенью и зимой ходит охотник Василий по лесу. В руках у него ружьё, а впереди собака.
Собак охотник знает хорошо. Изучил их не по книге — по опыту. Уж если берёт себе щенка, то такого, который будет ему впоследствии хорошим помощником и верным другом в лесу.
Барахтаются около матери щенки, лезут друг под друга, подбираясь к соскам. Попробуй разберись, из которого щенка выйдет хорошая собака. Ведь они все одинаковы.
А Василий знает. Придёт к хозяину собаки, побеседует с ним, а потом как бы случайно взглянет на щенков и спросит:
— Куда щенков-то думаешь девать, или уже запродал?
— Раздам, ежели найдутся желающие взять их, — ответит владелец собаки, — а не найдутся, так куда их… и сам не знаю…
— Ты вот этого и этого оставь, — укажет Василий на двух щенков, копошащихся в общей куче. — Из них хорошие собаки получатся. А остальных зря не держи, ни к чему они… дворняги!
— Василий Егорович! — воскликнет хозяин. — Да они вылитая мать и по сложению и по окрасу, а моя Динка, сами знаете, толковая собака…
— Дело твоё, конечно, — спокойно скажет Василий. — А из этих двух, вот этого щенка уступи мне, за ценой не постою…
Возьмёт Василий щенка, облюбованного им, за загривок, поднесёт к своему лицу и станет смотреть щенку в глаза.
Отводит глупыш глаза в сторону, не встретится с глазами Василия, сколько не держи.
— Хороший пёс будет, — промолвит охотник и бережно положит щенка в гнездо матери, которая сейчас же начинает обнюхивать и лизать своего питомца, побывавшего в руках человека.
Щенки, отмеченные Василием, вырастают хорошими охотничьими собаками, а забракованные им остаются обычными дворнягами, способными лаять на луну.
Секрет выбора щенков Василий никому не рассказывает. Если же кто поинтересуется, то охотник ответит коротко и непонятно:
— Присматриваться надо, само покажет, если понаблюдать, как следует…
Собака у Василия — всегда верный друг и помощник.
Уж если его Лыско залаял в ёлку, то ошибки нет: белка или куница тут, на этом дереве. Умей высмотреть!
Подал Лыско голос на глухаря, подходи с любой стороны, собака знает, как отвлечь внимание осторожной птицы от охотника.
И барсука в норе Лыско покажет, и лису. В пустую нору, нежилую, Лыско не полезет и не залает.
Собаку берёт Василий в лес только в сезон — осенью и зимой. Весной и летом собака у него дома.
— Нельзя сейчас с собакой в лес идти, — говорит он. — Весна. Птицы детей выводят. Это каждому понимать надо.
И в беде собака выручает охотника.
Случилось однажды несчастье — придавило Василия деревом. Смерть неминуема. Не выбраться без посторонней помощи из-под ёлки.
Поняла собака беду хозяина. Покрутилась около придавленного человека, повыла да и убежала. А вечером того же дня пришли родные и спасли Василия.
Долго вспоминали этот случай и дивились уму Лыска, который прибежал в деревню домой, стал лаять и визжать, хватая за одежду домашних.

Догадались, что Лыско в лес зовёт, и пошли за ним. И привёл он их к Василию. Потерял Лыска Василий на охоте. Звал, стрелял — не дозвался. Несколько дней ходил охотник в лес искать своего друга, не нашёл. Долго горевал старый охотник. Что поделаешь? Лыско не вернулся. Стал узнавать Василий, где можно достать щенка, похожего на Лыска. Достал. Через год у охотника Василия была другая собака, обученная им, и она была не хуже Лыска. Далеко ли, близко ли, а Василий уходил в лес без компаса. В компас он верил, но считал, что в лесу компас не нужен. — Лес не море, — говорил он. — В лесу на каждом шагу приметы, иди да присматривайся, всегда выйдешь, куда тебе надо. На море, — продолжал он, — там иначе, примет нет, небо да вода, без компаса да без карты идти некуда. Шабаш! Вот и сегодня, собираясь со мной в лес, он взял только корзину и нож, который засунул между дранками в корзинке. — Грибы срезать, может и попадутся, — сказал он. — А ружьё? — спросил я, видя, что дядя Василий не снимает ружья со стены. — Сегодня без ружья пойду и без собаки. Не до них. Сегодняшний выход — особая статья в моей жизни, понял, парень? — спросил он меня. Я молчал. Мне было радостно, что я ухожу в лес со знаменитым нашим охотником, но эта радость тускнела: ведь дядя Василий ружья не берёт, а если не будет ружья да не будет собаки, то и в лесу делать нечего и мне нечем будет похвастать перед своими товарищами. И всё-таки мне было интересно идти с ним в лес, в такой глухой и далёкий, где мало кто бывает, кроме охотников, таких, как Василий. Когда мы прошли с ним низкое сырое место, густо поросшее папоротником и багульником, дядя Василий спросил меня: — Голова не заболела? — Немного, — сознался я. — Это у каждого так. Тут сейчас, как бы на море от качки, голова кружится. Пусть болит, — немного спустя сказал он, — эта боль от лесных трав — полезная. Сейчас болит, а после силы прибавится, на себе проверял. Он медленно шёл впереди меня, маленький и подвижной, часто к чему-то прислушивался и присматривался. Когда вышли на сухое место, дядя Василий остановился, а потом сказал мне: — Давай, парень, отдохнём немного. Устал, наверно? — спросил он. — Устал, — ответил я и сел около ёлки. — Мало ходишь. Надо больше ходить. Жизнь, она не любит покоя, — продолжал он закуривая. — В жизни, что в реке, должно быть течение. Остановилась река — и нет реки: затинится — и шабаш! Так и в нашей жизни — остановился человек и, считай, пропал, завянет, можно сказать. А там, смотришь, и сгинет. Так всё устроено, на движении. — Ведь вот мне уже семьдесят исполнилось, а я еще помирать не собираюсь. Хочу ещё пожить. А почему хочу, спросишь ты? — Он посмотрел на меня: — А потому, парень, что люблю жить. С малых лет люблю. Всяко приходилось, а интереса к жизни не потерял… Ведь и каждый человек живёт ради жизни, правду, парень, я говорю? Он затянулся дымом самокрутки и задумался. Табачный дымок сначала медленно поднимался, расплываясь мутным облачком, а затем, подхваченный восходящим от земли потоком, быстро уносился вверх, становясь невидимым. Над нами в густоте ели что-то слабо потрескивало. Это, наверно, чешуйки коры дерева с треском коробились от сильного тепла. В лесу было тихо. Лишь где-то в стороне изредка слышалось легкое похлопывание. Это неспокойная осина, не переставая, трепетно шелестела своими листьями. Ноги у меня приятно ныли. Голову слегка туманило. Боли не было. Это была какая-то блаженная истома — лёгкая, приятная. Когда самокрутка догорела и начала жечь пальцы, охотник Василий заплевал окурок и затоптал его ногой. — Ну как, отдохнули ноги? — спросил он. — Легко стало, — сказал я и вскочил. — Вот и хорошо. Пойдём походим ещё, да и к дому направимся. Лес становился гуще и мрачнее. Он обступал нас со всех сторон, и казалось, нет ему ни конца ни края. — Эх, парень, — проговорил дядя Василий, — жаль, что ты не занимаешься фотографией, а то бы карточек наснимали. Когда вырубят этот лес, то хотя бы карточка осталась, посмотрел бы на неё и припомнил, какой красавец жил да поживал… — А разве его вырубят? — спросил я. — Обязательно! — и дед тяжело вздохнул. — Тут тоже, парень, понимать надо, что к чему. Я стоял и смотрел на толстые лохматые ели, которые окружали нас со всех сторон. Вершины их слабо шумели от лёгкого ветерка, невидимо пробегающего где-то там вверху. — Вот гляди, — он постучал палкой по толстой ели. — В соку дерево, поспело. На дом годится, на доски, на всё, одним словом. А вот пройдёт пяток лет — и состарится оно. Дупло в нём появится, а может и совсем засохнет — корни откажут, и годиться оно будет только на дрова. Всё равно, что человек. Вот и я, идти-то иду, а всё уж не то! Не гожусь я для всякой-то работы — стар стал, износился… — Может быть, этот лес и не будут рубить? — говорю я. — А чего его оставлять? — Он посмотрел вокруг. — Ишь, какой он вымахал. Пусть рубят, пользу даст людям. А мы с тобой, парень, не в обиде оба, — он улыбнулся. — Я насмотрелся на него вдосталь — всю жизнь провёл в нём, а ты еще не привык, не знаешь его. А без привычки, сам знаешь, и жалость не та. Пока ты вырастешь, на этом месте новый лес образуется, молодой, не хуже этого, понятно? Он замолчал и задумался. Мне жалко было этого большого леса, но более всего мне жалко было деда Василия. Я вижу, как он переживает, как тяжело ему прощаться с лесом, и мне стало понятно, почему он меня, безусого паренька, взял с собой. Со мной ему легче ходить по лесу, который намечен на вырубку. Одинокое прощание — тяжело! Когда мы проходили осинником, дядя Василий остановился и сказал: — Ну-ка, парень, прислушайся, чуешь? — Это осины шумят, — пояснил он. — Всю жизнь шумят. Такое уж дерево осина — неспокойное. И среди нашего брата, человека, попадаются такие шумливые. Шумит, шумит, а всё без толку… Стоит дед Василий и слушает шум осинника, и я стою, слушаю и смотрю на деда. Его строгое лицо озабочено и решительно. В нём борются два чувства: и теплая жалость к своему зелёному другу, и мудрое понимание неизбежного. Так, с небольшими остановками, и пробирались мы по глухому безлюдному лесу, который подлежал вырубке. Скоро мы вошли в берёзовый лес. — Видишь, какая светлынь кругом, что во дворце, — указал дед на окружающие нас высокие берёзы. — Это березники, такое название дано. Иначе и назвать нельзя, — пояснял дед, с улыбкой и радостью глядя вокруг. — Такая светлая и ясная бывает и душа человека. Поговоришь с хозяином такой души — и легко и светло на сердце делается, — говорил дед, любуясь мраморными берёзами. — Здесь раньше берёсту драли, на лапти. Берёста здесь толстая, гладкая. Лапти из неё носились долго, самые лучшие получались, — говорил дед. — Лапти тогда были в ходу. Сапоги-то обували только по праздникам, да и не все, а только те, у кого достаток был. — Кончилось время лаптей. Глянь на берёзки-то, — обратился он ко мне, — стоят, как свечки, ни с одной ни одна берестина не снята! А почему? Потому, что сапоги-то у каждого, да и не одни… Мы вышли к лесной речке. Речки не видно, она пряталась в зарослях ольхи, черёмушника, смородины. — Дальше мы не пойдём, — объявил дядя Василий. — Здесь отдохнём, закусим и пойдём обратно. — А за речкой что? — спросил я. — Там большое болото. Осенью, будем живы да здоровы, клюкву собирать придём. Пойдёшь со мной, парень? — спросил он. — Пойду, обязательно. А ружьё и собаку возьмём? — И ружьё и собаку, как же… В лесной тишине послышались голоса. Дед прислушался и сказал: — Люди! История! Скоро к нам подошли люди. Это были рабочие из вновь организуемого невдалеке леспромхоза. Охотник Василий не ошибся. Дальний, безлюдный и большой лес жил последние дни. Выход в лес старого охотника был прощанием со своим давним, знакомым другом.


Первый волк

— Волков не боишься? — спросил меня наш деревенский охотник Никита Зубов.
— А где волк? — спросил я его, не понимая, чего хочет от меня наш сосед.
— Я неделю тому назад жеребёнка зарыл в лесу около стога. Хороший был жеребёночек, но не знаю, что приключилось с ним, за одну ночь не стало, — вздохнул Никита. — А сегодня, — продолжал он, — был я у стога. Волки повадились ходить на падаль. Вот я и думаю: не сходить ли тебе на ночь, покараулить серых? Картечь-то у тебя есть? — спросил он, взглянув на меня.
— Есть! Десять патронов с прошлого года лежат заряжены, — ответил я и пошёл к сундуку, чтобы достать их и показать охотнику.
— Прошлогодние патроны не годятся — подвести могут. Ты их перезаряди, да завтра и отправляйся. Я бы сам сходил, но поясница не даёт, ни согнуться мне, ни разогнуться, а тут ещё застудить можно — тогда совсем плохо!
— А для того чтобы волки пришли, — продолжал он, — возьми с собой поросёнка в мешке. На поросячий визг сразу явятся.
Много ещё говорил мне Никита о волках, о луне, но я слушал его рассеянно.
Я уже представлял, как один на один встречусь с волками и вступлю с ними в поединок.
Как только ушёл от нас Никита, я сразу стал готовиться к охоте на волков.
На другой день с вечера я уже сидел на стогу с поросёнком в мешке и ожидал зверя.
Хмурая ночь. Тёмная, дождливая, ветреная.
А поросёнок в мешке бьётся, как пудовый карп в сетке. Толкает меня в сипну. А как визжит! На весь лес, на все поляны, на всю ночь!
Этот визг гонит меня по лесной тропинке к дому. Гонит напролом, без остановки. Каждую секунду жду сзади, с боков, спереди удара. Бегу и жду!

Последние кусты. Вот они, совсем рядом, огни лесной деревушки. Теперь визжи до хрипоты, визжи хоть до утра, чёртова скотина! С улыбкой, с душевной радостью подкидываю повыше на спину сползший мешок с осатаневшим в нём животным. А в тёмном закуте двора сбросил мешок с плеча, торопливо развязал, с какой-то озорной лёгкостью вытряхнул из него поросёнка и успел дать ему пинка, отчего он коротко взвизгнул и мирно, по-поросячьи захрюкал. Так кончилась моя первая попытка убить волка у привады на живую приманку. Через несколько дней опять иду к приваде. Зарытая в землю туша жеребёнка растаскана. Разрыта земля, обглоданы начисто кости, и бурые от грязи обрывки требухи раскиданы кругом. Опять приходили серые! Это хорошо! Охотничья страсть неуёмна. Страх недавней ночи вызывает улыбку. Сегодня так не будет. Вторая ночь, а не первая. Первый блин, говорят, всегда комом! Иду той же тропинкой из деревушки. За спиной мешок. Тот же. В мешке поросёнок. Тоже тот же. Всё, как и тогда. И ружьё заряжено картечью, и нож собственной работы с наборной красивой ручкой на поясе — всё, как и тогда, в ту жуткую, страшную ночь. Однако, есть и не то. Не было уверенности — сейчас есть. Был страх — сейчас нет, перегорел после той ночи. И луна не та. Тогда была четверть, а сейчас полнолуние. И погода установилась — зори по вечерам золотисто-желтые. Хорошо в лесу. Под ногами осень — и листья, жёлтые и красноватые, шумят на тропинке и падают на меня сверху, перевёртываясь на лету. А вокруг тишина. За всю дорогу до засидки прострекотал одинокий дрозд, слетевший с земли, да прокричала недалёко сойка, — и всё. А поросёнка как будто и нет. Даже не хрюкнет. Возможно, сберегает голос на обратную дорогу, как в прошлую ночь? В мешке не узнаешь! Тропинка вильнула влево, и я вышел на поляну. Около стога привада. Вон она видна издали. Иду по зелёной отаве. Вечереет. Длинные тени тянутся по поляне и там, на краю её, уходят в тёмную стену леса. Подхожу к стогу. Бросаю на него, на умятое заранее сено, мешок. В мешке хрюкнуло. Живой, значит! Покурить бы не плохо. Лезу по привычке в кармам. Пусто. Хорошо, что не взял. Всё равно бы не закурил. Но если нет с собой — гарантия полная. Забрался на стог. Слева мешок, в нём пыхтит и тычется. Что делает мой зверёныш? Нервничает, наверно, от дорожной тряски. Прямо передо мной, на земле, в двадцати метрах — падаль. Белеют кости на фоне изрытой земли. Прицеливаюсь. Обстрел хороший. Не нужны повороты, даже головой. Появится зверь, нажим пальцем — и готово! Тихо. Слышно только еле заметное похрустывание подо мной: или сено оседает, или мышь грызет вкусные, пахучие сенинки. В мешке посапывает. Спит моя приманка, и крепко спит. Ткнул легонько мешок, хрюкнуло в нём и затихло — прислушивается, значит. Хорошо! Надвигается темнота. Всё ясное и видимое расплывается и становится плохо видимым. Привада и та расплывается… Пора быть луне. Не успел подумать о ней, как из-за леса стало показываться громадное красное днище с темноватыми пятнами. Прищурив глаз, засекаю край луны на ветке дерева. Заметно для глаза, как поднимается она. Скорее бы! Долго сижу. Вдруг справа и не так далёко завыло, долго, с затуханиями. Волки! Под фуражкой пошевелились волосы, разом. По всему телу проскочило что-то неуловимое, и мурашки пошли неторопливо от головы до ног. Перехватило дыхание. Не убежать бы? Для чего-то стал поднимать курки. Не поднимаются. Да они ведь подняты ещё засветло. Неужели волнуюсь? Стало опять тихо. А луна светлая, светлая, и всё кругом как на ладони. Прямо передо мной в кустах шорох. Всматриваюсь туда до боли в глазах. Шорох повторяется — и на край кустов выходит волк. Остановился и смотрит. Неужели заметил меня? С предельной медлительностью подымаю ружьё. До волка метров пятьдесят, а быть может и больше? Прицеливаюсь. Стволы уперлись зверю в грудь. Точно. Палец на спуске. Нажать?! А вдруг далеко? Нажать? Вдруг убежит? Не успел и додумать, как волк с шумом махнул в кусты. Ружьё выпало из одеревеневших рук. Вздохнул. Возможно, долго не дышал. Не помню. Наверно, это был бы мировой рекорд по задержке дыхания. Вот и всё. Был волк — и не стало. Эх, горе-охотник! А еще с добротным ружьём, с картечными зарядами, с поросёнком в мешке! И зверь был тут вот, рядом, бери! Продумал, тяжкодум! А теперь жди, а чего? Нащупываю через мешковину голову поросёнка и ищу пальцами уши, чтобы повыше ушей надавить покрепче. Обрадовался пленник ласке, затыкал пятачком, ища мою руку. Сильно нажимаю. Поросячий визг стрельнул в ночь. Ещё нажим — визг злобный, с рёвом. Хватит. Смотрю кругом, прислушиваюсь. Что это? На том месте, где был волк, — овцы. И большие и маленькие, перебегают. Не успел сообразить, как овцы махом пошли на меня… Волки! Трясущимися руками прицеливаюсь. Выцеливаю большого. Вот он бросился к приваде. Нажимаю спуск. Толчок в плечо. Сноп огня рванул вниз. Запах пороха ударил в нос. Глаза ослепли, ничего не вижу. Всматриваюсь. У привады лежит длинное, тёмное. Волк? Стреляю ещё раз. Лежит. Неужели убил волка?! Мешок во время выстрела толкнул меня сильно в бок. Ощупываю. Поросячьи ноги приподняли мешковину. Поросёнок лежит на спине. Переворачиваю. Сопит и похрюкивает, а не толкается. Обморок, наверно! Шлёпаю его по упругой спине и говорю, а возможно кричу — визжи, радуйся, волка убили! Слезаю со стога. Громадный зверь лежит врастяжку. Толкаю его ружьём. Не двигается. Беру за заднюю ногу и с трудом сдвигаю с места. Тащу к стогу. Закрываю слегка сеном. До утра. Эх, сейчас искурить бы! Ладно, дома покурю. Теперь домой. Сдёргиваю мешок со стога. Хрюкает. Живой, значит. Вскидываю мешок на спину и, насвистывая, иду по ярко освещённой поляне. Вот и тропинка. Не бегу по ней, а иду, и охотничья радость распирает мне грудь. В мешке похрюкивает.


Домоседы

Когда строил отец новую избу, то над окном прибил две доски.
— Для воробьёв, — сказал он, прорезая в одной доске круглую дырку, — пусть живут, веселее с ними.
И хорошо придумал отец. В тот же год между досками и стеной поселились воробьи. И не какие-нибудь, а те самые, что гнездились в нашей старой избе, которую разломали на дрова.
Я хотел в дырку насовать сена, чтобы воробьям меньше было работы при устройстве гнезда, но отец сказал мне: — Они сами натаскают, и такого сена, которое им нравится.
И, действительно, скоро между щелями досок торчала солома, сено и перья — натаскали воробьи, чтобы и мягче было и теплее.
А летом и молодежь у них появилась. Серые комочки, неумело трепеща крылышками, стали вылетать из дырки и садиться на землю.
Родители-воробьи тревожно чирикали и старались увести их в безопасное место.
И вот у нас над окнами живут воробьи, как и раньше жили в старой избе. Настоящие домоседы.
А тут еще ласточки на следующий год налепили под крышей земляных горшочков. Началась около нашей избы шумная птичья жизнь с раннего утра до поздней ночи.
Выйдешь на улицу, а тут — на́ тебе! — и воробьи шумят, и ласточки стремительно со всего разлёта ныряют под крышу.
Ласточки не то, что воробьи, — птицы нежные. Еще на улице тепло и даже утренников нет, а они уже улетают в тёплые края: и холода боятся, и голодная жизнь им незнакома.
А воробьи — герои: и терпеливы, и нетребовательны.
Зимой голодают, мерзнут-то как, ужас! А тепла и пищи у человека не просят.
Воробьи, что живут у нас, в большие морозы забираются на ночь в печную трубу и сидят там до утра. А как потянет из печки дымок, так они сразу марш оттуда!
Выпачканные в саже, садятся над окном, и если светит солнце, то молчаливо греются. Тут уж не до еды, лишь бы не замерзнуть!
И так страдают воробьи всю зиму и холодные и голодные, жалко на них смотреть.
А весной, уже в марте, воробьи забывают зимние лишения — не узнать их!
Чирикая, греются на солнышке, купаются в лужицах от капели, прыгают и перелетают с места на место.
Весна и лето для воробья — сплошная забота. С рассвета до позднего вечера кормят они своё потомство, учат малышей летать и передают им свои воробьиные привычки.
Весело проходит воробьиное лето. Настаёт сытная осень.
Собираются воробьи в большие стаи. Не для отлёта, нет!
Рассаживается такая воробьиная стая на дерево или на изгородь и чирикает без умолку. Все воробьи разом во весь голос.
— Ишь, раскричались, — говорят жители, — не успела еще земля просохнуть, а они опять дождь накликают. Кш!.. Сорванцы!
Воробьи с шумом взлетают, пересаживаются на другое место и с тем же азартом продолжают свой прерванный концерт.

Вещун

Только вошел в лес, как надо мной прокричал ворон.
Я посмотрел вверх и увидел чёрную птицу, с резким свистом крыльев мелькнувшую над вершинами деревьев.
Моя собака Найда где-то далеко впереди.
Иду по-охотничьи — прислушиваюсь и присматриваюсь. В лесу тихо-тихо, только редкие порывы ветра с шумом налетают и проносятся где-то надо мной.
Когда я миновал большой лес и вышел на опушку с лесными полянами, до меня издали донёсся крик ворона — резкий, тревожный. И раз, и два. Немного спустя надо мной опять пролетел ворон с гортанным криком.
Что-то недоброе показалось мне в этом настойчивом облёте леса птицей-нелюдимом.
Мне стало тоскливо, и я позвал собаку.
Посвистел, посвистел — не появляется мой друг. Тогда я стал кричать громко, настойчиво. Собака не прибегала. Я выстрелил и с замиранием сердца начал прислушиваться — не раздастся ли рядом частое ахающее дыхание и вслед за ним около меня закружится моя собака.
Собаки не было. Да что же случилось? Где она?
И на второй выстрел Найда не прибежала.
Остаток дня — до самой темноты — я ходил по лесу и искал собаку. Не нашёл. Расстроенный, я поплёлся домой, оставив где-то в лесу своего спутника. Какое горе!
На другой день рано утром я был в лесу. На том месте. Снова ходил, звал, стрелял и ждал Нанду.
А ворон опять летал над лесом и несколько раз планировал надо мной с гортанным клёкотом.
И я нашёл собаку. Горе сдавило мне грудь и оледенило сердце.
На лесной поляночке валялись клочья шерсти, а неподалёку лежала голова Найды. Один глаз был выклюнут.
Найду разорвали волки. Вчерашний крик ворона над лесом был сигналом о кровавом поединке между хищниками и собакой.
А ворон, свистя крыльями, летал надо мной, изредка вскрикивая, и я не знаю — радовался ли он лёгкой поживе или оплакивал моё горе.


Подледное кино

Установилась погода тихая, ясная и морозная.
Мороз пришёл первым, раньше снега. Да какой мороз!
Хватка у него оказалась смелая, решительная. За одну ночь он покрыл льдом-стеклом лужи и лужицы. Утром на месте луж лежало белое хрупкое стекло. Встанешь на него, а оно — хруп! — провалилось…
И не только лужи, а и озёра за две ночи покрыл мороз стеклом-льдом. Встали озёра…
Пошёл я на одно озеро блеснить из-подо льда окуней. Подошёл к нему и… отшатнулся. Не замёрзло ведь! Да что же такое?
Передо мной зеркальная гладь воды.
Насколько позволяет толща воды, вижу на дне озера зелёные листья кувшинок, коряги мелкие, рыжие водоросли. А вот и живность в воде увидел. Жук-плавунец поднялся со дна, догрёб до поверхности воды, полежал с растопыренными лапками недолго, толкнулся ими и пошёл наискось ко дну. Это же не вода, а лёд! Ведь озеро-то всё-таки замёрзло! Я осторожно ступил в озеро. Под ногой лёд. Ступил ещё — лёд. Иду по воде-льду и каждый раз опасливо ставлю ноги, переступаю. Непривычно ходить по верху воды. Вот щука заметалась под моими ногами и, взмутив воду, спряталась в рыжие водоросли. Продвигаюсь по озеру вдоль берега, осторожно переступаю, и мечутся под моими ногами разные рыбёшки, стараясь спрятаться. Не привыкла рыба, когда над ней ступает человек.
Иду по льду-стеклу и дивлюсь! Какая чистота, какая видимость!
Лёг на лед и стал смотреть на дно. Вот ручейник передвигается, неторопливо таща на себе песочный домик-трубку. Вот мальки стайками гуляют и, подойдя под меня, быстро снуют и исчезают. А вот и полосатый окунь выдвинулся из водорослей и замер не шевелясь. Постучал я по льду рукой — никакого внимания. Постоял окунь ещё немного, передвинулся и опять замер! Кино!
Налюбовался я вдоволь подводной жизнью озера, попробовал блеснить — не берёт!
До конца дня побывал ещё на нескольких таких озёрах.
С виду озёра водянистые, а попробуешь ступить на них — лёд под ногами, чистый, ровный, прозрачный, как хорошее стекло.
А на другой день со мной на озёра шли ребята смотреть подлёдное кино.


Соловей

Густые заросли. Непроходимая стена зелени.
Иду нехоженой травой по краю лесной полянки, оставляя позади себя росную тропинку.
Рядом, в непроглядной чаще, запел соловей. Остановился я и стал слушать великого певца пернатых. Ни одна пичуга не решилась выступить на лесной сцене, занятой соловьём. Пел один он. Когда певец чередовал одно колено за другим, я стал пробираться вперёд, осторожно раздвигая мягкие зелёные ветви кустарника. Не видел никогда соловья. Соловей — не скворец. Поёт в уединении и скрытно. Где он? Я долго присматривался и… увидел его. Так вот он какой! Это он так вдохновенно славит красоту моей земли. Соловей молчаливо сидел, чуть нахохлившись. Какой он нарядный! Ржаво-жёлтые крылышки, горлышко жёлто-красное. А глаза! Большие, большие. Стою и любуюсь. Всё подстать — и вид и голос. И вдруг рядом, в этом же кусту, немного выше щелкнуло, засвистело, и мощная соловьиная песнь пошла во все стороны. А мой красавец, которым я любовался, вытянул головку, пискнул и прыгнул на землю. Тот, которого я не видел, начал петь свою серебристую песню. И тут я увидел певца. Это была маленькая серая птичка с слегка вытянутым вперед широко раскрытым клювиком. Она сидела на черёмуховой ветке и пела. Сильные звучные аккорды чередовались с короткими паузами, заполняемыми еле слышными высокими звуками. Это был соловей. Я долго смотрел на певца и дивился его скромному наряду, простой внешности и могучему голосу. Я не выдержал и вслух неосторожно похвалил его. Соловей слетел с ветки.


Жук-путешественник

Всю ночь дождь по стёклам постукивал.
Голая берёза тонко шумела под окном, и ныли пульсирующим звуком телеграфные провода.
На рассвете чуть подморозило. Трава засеребрилась.
К полудню прояснилось.
Между облаками выглядывало солнце и освещало, как на экране, и тёмные от дождя крыши домов, и лужицы-озёрки на широкой улице, и ближний хвойный лес с одинокими берёзами, раздетыми догола.
Скоро тучи заполнили всё небо, спрятали солнце и стали порывами бросать на землю мелкий дождь со снегом.
Под вечер дождь прекратился, показались отчётливо дали.
Я решил сходить в луга, на озёра посмотреть.
Долго я бродил по лугам, переходя от озера к озеру.
Как всё изменилось! Сколько было в лугах трав пахучих, цветов ярких! Нехитрые птичьи трели неслись из прибрежных кустов озёр… Сейчас только ветер холодный гуляет на просторе…
Вдруг мимо меня с жужжанием пролетел майский жук. Летел он по ходу ветра на высоте моего роста.
Я стал следить за лётом этой маленькой серенькой точки.
Оказалось, что жук летел к ближайшему стогу сена на зимовку.
Удастся ли ему перезимовать в стогу — не знаю, но он нёсся к нему решительно, никуда не сворачивая и с победным жужжанием.


Задание

Как-то так получилось, что я записался в кружок юных натуралистов.
Когда ребята — члены кружка — спросили меня, что я больше всего люблю в природе, то я им ответил:
— Всё люблю — и лес, если он не дремучий, и реки, и озёра люблю, ежели они не глубокие, и грибы люблю, особенно маслята, маринованные если…
— Постой, постой, — перебил меня староста кружка Витя Завьялов. — Ты не говори о том, что вкусно, что невкусно, а вот скажи прямо — змей ловил когда-нибудь?
— Нет, — говорю, — не ловил.
— А вот теперь придётся тебе заняться этим делом и не когда-нибудь, а сразу. Нам для живого уголка надо парочку змей поймать и парочку ящериц. С ящерицами дело улажено, — продолжал Витя, отмечая что-то в тетради. — Коля Зарубин не сегодня — завтра поймает их, а на ловлю змей охотника не было, поэтому такое задание поручаем тебе, как новичку…
— Но я змей боюсь! — воскликнул я.
— Привыкнешь, Вася, не расстраивайся, — и Витя погладил меня по спине. — Змей будешь ловить, как кузнечиков, — вот увидишь…
— Кузнечиков я не боюсь, — оживился я.
— Кузнечиков будут ловить… — он потыкал в тетрадку карандашом: — Зверева, Волкова, Лисицына и так далее, наши юные натуралисты, понятно?
— Тогда выпишите меня из кружка. Змей ловить я всё равно не буду, — твёрдо заявил я.
— Ну это, товарищ Сверчков, сделать не так просто, — произнёс староста. — Это как собрание кружка решит. Да и потом, позволь, за что тебя из кружка-то исключать? Ведь ты еще не показал себя ни хорошим, ни безнадёжным натуралистом. Возможно, и придётся тебя исключать за недисциплинированность, но это пока еще рано, понятно?
На этом закончилось мое первое знакомство с активом кружка юных натуралистов.
А Коля Зарубин, тот самый, который втянул меня в кружок, выслушал меня, сказал:
— Змею поймать ума не надо, это пустяки. Это задание каждый может выполнить. Взял палку с расщепом на конце и ходи по кустам и полянам. Увидел змею, прижал её расщепом — и готово, она вся твоя: хочешь живую, пожалуйста, хочешь мёртвую — тоже можно. А вот у меня задание потруднее — мне надо ящерицу поймать. Ясно?!
Когда Коля сказал мне о палке с расщепом, то я сразу повеселел, и моё задание показалось пустяковым по сравнению с его заданием.
— А как ты ловить её будешь? — спросил я и представил, как трудно поймать это юркое, пугливое создание.
— Поймаю, конечно. Не таких ловили, — похвастался Коля.
Спал я в эту ночь неважно. Снились мне змеи и большие и маленькие. Бегу, бегу за змеёй, хочу прижать её, а она уползает, и я тычу палкой, а ничего не получается.
И Колю во сне видел. Мелькают в траве ящерицы, а он бегает за ними и никак не может поймать. Одна ящерица, большая, как крокодил, повернулась к Коле, открыла зубастый рот да как крикнет…
Я проснулся. Слышу, как мама ругает кошку: — Не суйся в дверь, наго́ла!
Взглянула мама на меня, увидела, что я уже не сплю, и подошла ко мне.
— Ты чего сегодня во сне кричишь и стонешь? Уж не заболел ли? — спросила она и положила руку на мой лоб.
— И жару вроде не чувствуется, — сказала она. — Напугали тебя, наверно смеются над тобой, а ты и рад слушаться…
— Никто не смеётся, — ответил я уклончиво.
— Рассказывай мне, всё знаю… Ежели ты будешь такими пакостями заниматься, то и за стол не садись. Буду кормить в углу, отдельно. Понял? — и мать отвернулась от меня.
— И чего ты, мама, выдумываешь! — сказал я, одеваясь.
— Выдумываю? А кто собирается змей ловить, а? Я, что ли? Да ты пойми только одно, — тут мать посадила меня на лавку рядом с собой: — ведь змеи разные бывают. Нарвёшься на гадюку, ну и прощайся с жизнью… Горя-то, горя-то сколько будет!
Я молчу, а сам думаю: откуда она всё разузнала? Ведь только Коле я рассказывал об этом.
— Нашёл себе занятие! — продолжала мать. — Да и товарищ хорош, нечего сказать. Небось, не взялся змей ловить, а выбрал себе ящерицу. Ловить её труднее, да зато она не кусается…
— Мама! — воскликнул я. — Кто тебе рассказал всё это, ну кто?
— Коля, вот кто! — ответила мать. — Он уже два раза прибегал к нам с палкой. Я спрашиваю его: «Что это у тебя в руках, щипцы какие-то?» — «Это, — говорит, — вашему Васе надо». — «Зачем?» — «А он змей ловить будет, ему задание от кружка». — «А ты кого ловить будешь?» — спросила его. — «Ящериц!.. Для живого уголка надо». — «А почему ящериц, а не змей?» Ох, я его и отчитала, он, наверно, к нам больше и нос не покажет.
И мать вышла из избы.
После завтрака я побежал к Коле. Дома его уже не было.
Нa реке, у больших камней, он должен ждать меня. Так мы условились вчера.
Вот и камни. А где же Коля?
— Коля! — закричал я во весь голос.
— Я здесь, не кричи. — Коля вышел из-за куста шиповника.
— Видел?
В расщепе его палки что-то висело.
— А что это?
— Налим! Во́ как я его, как змею, раз — и готово! Гляди, какой он пёстрый, и живой еще, — рассказывал Коля. — Я пошевелил камень, а он оттуда и высунулся до половины. Я как нажал на него расщепом — и всё в порядке. Понятно?
Налим скользкий, и мы с трудом достали его из расщепа — боялись повредить. Оказалось, что толковое приспособление для ловли змей сделал мой товарищ Коля Зарубин.
— Вот так и змей ловить будешь, — учил меня Коля. — Бери в расщеп любую, нажми поближе к головке, и кончено, — и Коля передал мне оружие для ловли змей.
— А ты чем будешь ловить ящериц? — спросил я.
— Руками. Накрою фуражкой, ухвачу — и в банку, раз — и там, — с такой уверенностью ответил он, как будто поймать ящерицу так же легко, как муху на столе.
— И не боишься руками-то?
— Нет. Это змею нельзя руками брать. Укусит. А ящерицу просто…
— А ты брал их в руки? — перебил я его.
— Не приходилось, — сказал он.
— Мне ящерицу в руки не взять, противно, — говорю я.
— Вот побудем в кружке, так привыкнем. В кружке все такие, ничего не боятся. Даже белку живьём поймали. Кусалась здорово, но всё равно не бросили.
— А кто белку поймал?
— Староста, Витя. Он у нас самый смелый. Хочет дрессировщиком сделаться, как Дуров, в цирке выступать. Ты видел на нём ремень? — живо спросил он.
— Какой?
— Из змеи.
— Таких ремней не бывает, да и не продают нигде, — усомнился я.
— Не продают, это правда. Нигде не купишь. А Витя сам сделал ремень и с пряжкой. Залюбуешься!
— Из чего сделал? — заинтересовался я.
— Ну и непонятливый ты. Ведь я сказал, что из змеи, — рассердился Коля. — Поймал змею, снял с неё шкуру, обработал и сделал ремень. Ясно?
— Ладно, — согласился я. — Увижу Витю, посмотрю. А ты, Коля, не сердись, — успокоил я его. — Чудно мне, вот и всё.
Налима мы отпустили в реку. Он сначала лежал на боку, потом свернулся дугой, выпрямился, быстро завилял хвостом и уплыл под камень.
— Пусть живёт, — сказал Коля. — Нам сейчас не до него. Нам идти в лес. Может быть, и поймаем змею или ящерицу.
Солнце палило здорово. На опушке леса через каждые несколько шагов с лёгким шуршанием скрывались от нас ящерицы.
— Ты видел её? — спросил меня Коля, когда около моих ног нырнула под сухой пенёк ящерица.
— Видел, как крокодильчик маленький…
— Стой, не шевелись! — крикнул на меня Коля.
Я присел и затаил дыхание.
— Вот она сидит, видишь? — шептал мне Коля, указывая на стройную, чистую ящерицу.
Ящерица лежала на конце сухого обрубка дерева. Её пёстрая окраска хорошо подходила под окраску серого, сильно изъеденного короедом дерева.
Рядом с ящерицей тропа лесная. Мы затаились и думали, как поймать её. Только пошевелись — и её как не бывало, ускользнёт. Сидим и наблюдаем. На листок, что рядом с ящерицей, села какая-то муха — серая, длинная, похожая на маленькую осу. Вдруг изо рта ящерицы выскочила какая-то пружинка, ткнулась в муху — и мухи не стало.
— Съела! — прошептал Коля.
— Кого съела? — спросил я, ничего не сообразив.
— Муху. Это у ящерицы язык такой. Как стрельнёт им, так и нет мухи, во́ как точно!
— Знаешь что? — шепнул я Коле. — Не будем ловить эту ящерицу. Я её спугну, ладно?
— Тише, — опять шикнул на меня Коля, — понаблюдаем ещё, это ведь интересно, правда?
— Очень, — шепчу я, — значит она тоже на охоту вышла, как и мы, да, Коля?
— Это она кормится. Гляди, гляди, — Коля ткнул меня в бок, — опять муха села, паук, кажется…
Муха села не напротив головы ящерицы, а сбоку, на такой же листок. Ящерица мгновенно повернулась, и опять что-то мелькнуло между ней и мухой — и мухи не стало.
— Видел, как забирает, залюбуешься, — и Коля, причмокнув языком, пошевелился. Ящерица подняла голову и замерла. Тогда Коля бросился к ящерице и накрыл её фуражкой.
— Скорее, банку давай, банку! — закричал он, прижимая фуражку к дереву.
Я подскочил к нему с банкой в руках.
— Подставляй! — командовал он. — А я приоткрою фуражку.
Подставив банку к краю фуражки, я со страхом смотрел, что произойдёт.
Как только Коля чуть-чуть приподнял край фуражки, ящерица юркнула из-под неё и попала в банку.
— Видал? — торжествующе спросил меня Коля.
Мы стали любоваться пленницей. Ящерица проворно бегала в банке и толкалась в стенки красивой, изящной головкой.
— Не уйдёшь! — шепнул Коля, вынимая из кармана тряпку и шнурок.
Через несколько минут мы завязали банку крепко-накрепко и пошли дальше.
Я завидовал своему товарищу. Как легко ему выполнять задание кружка! Да я таких ящериц наловил бы сотню, а вот поймать змею…
— Коля! — обратился я к счастливцу. — Давай поменяемся? Я буду ловить ящериц, а ты поймай змею, ладно?
— Ишь ты какой! — усмехнулся Коля, плотно прижимая к себе банку. — Давай делать по-честному, — продолжал он, не глядя на меня. — Тебе дано задание ловить змей, ну и лови, а я-то при чём? Ежели ты боишься их, то зачем согласился? Трусишь, — сказал он и, посмотрев на меня, усмехнулся, — на мне хочешь выехать! Нет, Вася, сам поймай.
Я так обиделся на Колю, что ничего не ответил, а только тяжело вздохнул.
— А ты не отчаивайся, — видя моё состояние, посочувствовал он. — Делай, как я учил, и будет всё в порядке.
— Не нуждаюсь в твоей учёбе, — резко выкрикнул я и торопливо зашагал в сторону от Коли.
— Ну и ладно, подумаешь, герой какой выискался, — сказал мне Коля вдогонку, и мы разошлись.
Долго я ходил по лесу, высматривал змей. Забирался на камни, но змей не было. А ящериц сколько!
Подошёл к речке, вода которой булькала на камнях, играя на солнце белыми искристыми струями. Только хотел умыться, как увидел то, чего искал.
Громадная змея обвилась вокруг пня и грелась на солнце.

Пёстрая ромбовидная головка свешивалась с пня, и мне не видно было — спит она или высматривает что на земле. Долго я сидел на корточках, не шевелясь, и не знал, что делать. Передо мной было то, чего я боялся больше всего. «Как я справлюсь с ней? — думал я. — А вдруг она бросится на меня до того, как я зажму её расщепом? А вдруг она бросится за мной, нагонит меня и обовьётся вокруг моих ног?» Я не только вспотел от страха,но даже стал плохо видеть. День померк, и я неясно видел, что меня окружает. — Коля! — хотел крикнуть я, но голоса у меня не стало, а там, в горле что-то хрипело, и я тяжело дышал. В это время длинное тело змеи стало сдвигаться с пня, и я заметил, что голова змеи опускалась к земле. «Уйдёт ведь!» — мелькнула мысль, и я, встав во весь рост, шагнул к змее с расщепом. Кольца змеиного тела двигались быстрее и быстрее, и голова её исчезла в траве. — Не уйдёшь! — прохрипел я и прижал расщепом серую шуршащую полоску. Мгновенно по обе стороны расщепа спиралью задвигались кольца змеиного тела, показывая бело-жёлтое брюхо. Я вжимал расщеп в землю и не знал, что делать: или бросить и убежать, или стоять бесконечно и с отвращением смотреть на переливы змеиного тела.

Трясущимися руками я попытался приподнять своё оружие и узнать, плотно ли засела в нём моя добыча. Приподняв немного расщеп, я увидел, что змея надёжно держится в нём. Тогда я смело поднял расщеп. Змея плотно обвивала палку, стараясь уйти, но расщеп, как щипцами, держал её поперёк крепко и неумолимо. — Коля! — закричал я во весь голос и, затаив дыхание, стал прислушиваться к ответному крику. — Э-ггей!.. — донеслось до меня. На мой настойчивый крик пришёл Коля. — Вот! — и я поднял с земли расщеп, в котором была зажата змея. — А ты… — замялся Коля со страхом рассматривая мою добычу. — Ты смелый… Вишь, как здорово ты её расщепом-то! — И он присел на корточки. — Где поймал-то? — спросил он, не спуская глаз с расщепа. — Вот у этого пня. Змея грелась на солнце, ну я её и увидел, — говорил я, подходя к пеньку. — А мне бы её не поймать, — признался Коля. — Испугался бы? — спросил я. — Конечно, — тихо сказал он. — Вон ведь она какая большая да противная. — А ты сколько поймал ящериц? — спросил я его. — Две. После тебя ещё одну. А другая убежала, хвост у ней оторвался… — Хватит и двух, — успокоил я Колю. — Две ящерицы, да змея, разве мало для живого уголка? — Ну, конечно, хватит. Ведь одна змея двадцати ящериц стоит, — повеселел мой товарищ. — А ты не сердишься на меня? — спросил он. — За что? — удивился я. — А я ведь отказался помочь тебе змею ловить. — Так ты же ящериц ловил, правда ведь? А сердиться на тебя за что? — Тогда давай выкупаемся? — предложил он и стал раздеваться. — Давай. Мы долго плавали в глубоком омуте лесной речки, а на берегу в расщепе извивалась змея и в банке суетливо бегали, тычась головами в стеклянные стенки юркие красивые ящерицы.


В лугах

В высокой луговой траве мелькало — покажется и скроется, покажется и скроется.
— Это Шарик бежит домой, — сказал Яша Колобухин, всматриваясь в то место, где показывалось что-то.
— И не ври, пожалуйста, — возразил я. — Это не Шарик. Когда я проходил мимо их дома, то Шарик лежал у крыльца, даже и не залаял на меня…
— Ну, а кто же это бегает?
— Не знаю, может быть — волк?
— Скажешь тоже, — и Яша остановился.
— А чего? — я подошёл к Яше поближе. — Разве не волки в прошлом году двух овец утащили?
— Мало ли что раньше было, — сказал Яша и посмотрел в сторону деревни.
А деревня наша далеко. Вон она видна на высоком берегу реки, залитая утренним ярким солнцем.
Вышли мы с Яшей, моим товарищем, из дома рано, до восхода солнца. Думали к восходу быть на том омуте нашей реки, где хорошо ловятся на удочку плотва и окуни.
Но произошла задержка. У нас черви ушли из банки.
— Глянь, — недоумевал Яша, показывая мне пустую банку, — ни одного червя не осталось, все ушли. Видишь, в марле сколько дырочек. Вот здорово!
Ругать было некого. Сами виноваты. Разве можно марлей завязывать банку!
Удивляясь хитрости и смекалке червей, пошли мы в овраг за деревню и рыли их снова.
И вот сейчас опять задержка.
Как пойдёшь к омуту, ежели на лугу что-то неладно?
А может быть, и вправду волк по лугам ходит?
Стоим и смотрим. У меня на голове фуражка, а потому мне смотреть легко — солнце не мешает. А Яша без фуражки, и ему приходится прикрывать глаза рукой.
— Гляди, гляди, — испуганно зашептал Яша, — колесо это, колесо катится, гляди!
И точно. Мой товарищ не ошибся. По лугу катилось колесо. Катилось оно к реке от большой бочажины, которая стала пересыхать и зарастать осокой.
Серый толстый круг то показывался, то скрывался в луговой некошеной траве.
А кругом во все стороны ни одной живой души. Лишь одни мы стоим и смотрим то на колесо, то на деревню, надеясь увидеть людей и сказать им. Не может же колесо само собой так долго катиться?
Почти у самой реки колеса не стало. Было — и не стало. Не мелькает в траве серое, круглое. Где же оно?
Удивлённые, мы тихо-тихо стали пробираться к месту рыбалки. А солнце поднималось всё выше и выше, и роса на траве стала высыхать.
— Прозевали рыбалку, — огорчился мой товарищ, перекладывая удилище с одного плеча на другое.
— Завтра пораньше встанем и червей на ночь закроем как следует, не уйдут, — ответил я, ободряя Яшу.
Странный предмет не показывался, и мы ускорили шаги.
Скоро и наш омут. Осталось до него несколько метров. Сейчас размотаем удочки, усядемся и будем следить за поплавками.
В это время на высоком берегу опять показалось серое, и не успели мы рассмотреть, как оно свалилось в воду.
Когда мы подбежали, то по воде расходились круги и никого не было.
— Это, наверно, сом — сказал Яша, всматриваясь с береговой кручи в глубокий речной омут.
— Неправда, — возразил я. — Ведь сом живёт в воде.
— Верно, — подтвердил Яша. — А если та бочажина стала пересыхать, куда ему? Пропадать? Ведь и в книгах пишут, что рыба с мелкого места перебирается на глубокое.
— Может быть, это выдра, — сказал я. — Мой тятька видел тут выдру в прошлом году, а мой тятька врать не будет.
Размотав удочки, мы уселись на берегу омута и следили, не покажется ли в воде то, что напугало нас утром. Но омут был тихий, как и всегда.
Клевала рыба хорошо.

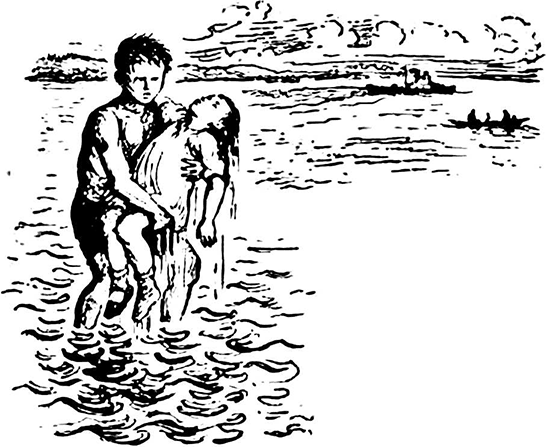
Герой

— Вы не знаете Колю Петухова? Жаль! А знать его надо.
Коля Петухов — мой товарищ. Живём мы с ним в одной деревне, на берегу Волги. Отец его бакенщик, а мой папа рыбак, в рыболовецкой артели работает.
А наши мамы — Колина и моя — нигде не работают, а управляются дома с хозяйством. Готовят еду, стирают и штопают одежду. В летнее время ухаживают за огородами — поливают, пропалывают, подвязывают.
Мы с Колей помогаем только поливать. Полоть сорняки нам не разрешают. Вместе с сорняками я однажды вытаскал и морковь, а Коля — помидоры.
У нас хотя и не Украина, но в огородах растет всё — огурцы, помидоры, морковь, капуста и картофель. Не растут только арбузы, но зато тыквы вырастают такие, что одному и не поднять.
Тут же в огороде растёт малина. Её кусты такие высокие, что заберёшься туда, как в лесную чащу, и лакомишься ароматными крупными ягодами. Если не откликнешься, то никто и не найдёт.
У Колиной мамы в огороде тоже малины много, но есть ещё и смородина.
А сколько на широких кустах бывает ягод! Присядем с ним к кусту и едим вволю.
Наша деревня, где живём мы с Колей, — лесная. За деревней луга, а за лугами леса. Большие, заволжские. На лугах много озёр, и все заливные.
В лесах, что тёмной стеной стоят на горизонте, — дичи и зверя много. Даже медведи есть. Мне и Коле медведя видеть не приходилось. Может быть потому, что мы далёко в лес не ходим.
А что нам, ребятам, делать в дальнем лесу? Ягод и грибов, если год урожайный, сколько угодно в ближнем лесу. В большой лес и далёко от дома уходят взрослые, с ружьями которые.
В луговых озёрах много рыбы. Уж так мы любим удить рыбу, что прямо страсть!
Заберёмся в заветное рыбное местечко где-либо на озере и сидим под кустами. Сидим и чуть дышим, не спуская глаз с поплавка.
Только качнётся поплавок и пойдут по тихой воде кружочки, как Коля шепчет мне: — Гляди, клюет ведь, не прозевай!
И только окунётся поплавок в воду, как дёрнешь и почувствуешь, что на крючке есть рыба.
Если не особо упирается, то сам справляешься. Выкинешь из воды рыбину, которая, как резиновая, отскакивает от земли, возьмёшь её в руки и чувствуешь, как она упруго гнётся в руках и хочет высвободиться.
Посадишь её на кукан и опустишь в воду.
Если попадётся на крючок крупная рыба, то приглушённо крикнешь: — Коля! Помоги! Не упустить бы!
Он и сам видит, что на крючке не ёрш. Бросится ко мне на выручку. Ловко подведёт подсачек, и затрепыхается в нём, поднимая шум, или бойкий язь, или упрямый и сильный окунь.
Хорошо на озёрах! Не ушёл бы!
Так у нас с Колей проходило лето. Помогали дома, в хорошую погоду ходили на озёра, в жаркую купались в Волге.
И вот в конце лета Коля Петухов прославился.
Коля Петухов стал герой!
Случилось это так.
В середине дня мы пришли купаться. Только успели раздеться, как на пристани закричали: — Спасите, спасите!
Видим — на воде, недалеко от пристани, плывёт что-то белое, на шар похожее.
Мы выскочили из воды и смотрим. А Коля рванулся к пристани. Бросились и мы за ним, вдогонку.
Бежим и видим, как Коля вбежал на пристань и сразу со всего маха прыгнул в воду.
Все толпятся на пристани, и мы тут же, голые, и не знаем, что случилось.
И на воде, теперь уже далеко от пристани, плывёт не шар, а белая шляпка. Значит, утонул кто-то?
И вдруг ниже пристани, метрах в тридцати, вынырнул из воды Коля, гребёт одной рукой, а другой что-то держит. Присмотрелись, а рядом с его головой еще чья-то голова.
— Скорей, мальчик, скорей к берегу давай! — кричат с пристани, потом бросаются все на берег и бегут туда, где на воде Коля.
Тут к Коле на помощь кто-то бросился с берега в одежде. Но Коля уже встал на ноги и держал на руках девочку в белом платье.


Белёк

Лёд на море, повинуясь ветру и течению, напирал на берег.
Громадные ледяные поля безостановочно двигались и крошились о береговые скалы.
Куски льда, похожие на пилёный сахар, шумели, образуя живые шевелящиеся валы, которые, вырастая в высоту, осыпа́лись.
На одной из льдин, проходившей недалеко от берега, виднелись чёрные неподвижные бугорки.
Промышленник[1] Игнат, проводив взглядом тюленью лёжку, направился в промысловую избушку.
Сильный ветер наваливался на Игната, толкал его и, проносясь по равнине, рвал малозаснеженную мёрзлую землю тундры.

Он останавливал упрямца, не давал ему дышать, заставлял отворачиваться, чтобы перевести дыхание. Вот и избушка. Игнат ухватился за скобу, с трудом открыл дверь и, сдерживая её, проскочил в сени. Дверь с сильным стуком захлопнулась. В сенях было тихо. Только в дощатые стены градинами стучали мелкие камешки и комья мёрзлой земли, бросаемые ветром. В избушке тепло. В каменке под плёнкой пепла — куча горячих углей. На нарах, что вдоль стены, лежат товарищи Игната. Они уже позавтракали, наговорились вдосталь и, наверно, давно уже спят, так как в воздухе нет едкого махорочного дыма. Игнат снял верхнюю одежду, встал, наклонясь грудью к каменке, и протянул озябшие руки к тлевшим углям. Когда он согрелся, то сел к столу и стал закуривать. На столе стоял закопчённый чайник, кружки, лежали куски хлеба и варёная тюленья печень. В углу избушки, на длинных деревянных гвоздях, висели белые халаты с большими тёмными пятнами. В этой избушке жило семь человек да еще восьмой юный промышленник — сын Игната Яша. Яши в избушке не было. «Опять на охоту убежал», — подумал Игнат и прислушался к свисту ветра. Ветер не утихал. Под упругими ударами норд-оста избушка вздрагивала. Раскурив трубку, Игнат негромко произнёс: — Михайло, а Михайло! Зверь на льду. С нар поднялся мужчина в ситцевой рубахе, без пояса, босой. Пригладив рукой волосы, он обулся и сел к столу. — Много? — спросил он. — Много, с бельками, — ответил Игнат, не отрывая от губ трубку. Проснулись и остальные промышленники. Игнат сегодня дежурил на берегу моря и знал, что́ происходит на море. Льдина с лёжкой тюленей, которую увидел Игнат, должна остановиться не раньше как через час у Северного мыса. Закон приливного и отливного течения изучен промышленниками, и они хорошо знают движение льдов. За время остановки льда — между сменой приливного течения на обратное, отливное, — промышленники должны перебить, сколько успеют, лежащих на льдине тюленей, разделать их и вытащить туши на берег. Если тюленей много и Игнат с товарищами не успеют управиться с ними, пока стоят льды, то они оставят добычу на льду, поставят около неё вешки и на втором подходе льдов вытащат оставленное на берег. Часто случается, что береговой ветер угоняет льды в море и добыча промышленников пропадает. Перед уходом на Северный мыс пришёл с охоты Яша. Это невысокий паренёк в заячьей шапке-ушанке, в дублёном полушубке, подпоясанном ремнём, и в серых новых валенках. Широкое обветренное лицо расплылось в улыбке, когда он зашёл в избушку. Серые глаза светились радостью. И как не радоваться! На его ремне висели четыре куропатки. — Ай да Яша! Вот это охотник, — шумно встретили его промышленники. — Сколько он дичи настрелял, ну мастак! Все жители избушки брали дичь в руки и хвалили молодого охотника. — Вари обед, Яша, — сказал Игнат, — а мы пойдём. — А ты, тять, лёжку увидел? — спросил Яша. — Большую, с бельками, — ответил Игнат. — Я тоже с вами пойду, возьмите меня, — попросился Яша. — Не торопись, Яша, — сказал Михайло с улыбкой, — начинай всегда с маленького. Сначала куропаток постреляй, а потом и к зверю подходи. Ясно? Яша ничего не сказал и стал раздеваться. Наскоро поев варёной печени с хлебом и выпив по кружке горячего чая, промышленники стали собираться на море. Собрались быстро. Белые маскировочные халаты они надели поверх тёплой верхней одежды, стоящие в углу берданы закинули за плечи, а в коридоре взяли багры и гуськом, сбиваемые с ног ветром, пошли к морю. Яша остался один. Придут они с промысла часа через четыре. А быть может, и раньше. Надо спешить варить обед. Сварить обед просто. Было бы из чего варить! Четыре куропатки на восемь человек. Это же по полптице на каждого. Не плохо! С чего начать? Яша поставил на огонь чайник. Выглянул в окно. От самой избушки до обрывистого берега моря голая изодранная ветром земля с пятнами оледеневшего снега. А дальше море, на нём льды, сливающиеся с горизонтом. Окно маленькое, в одно стекло, и потому не видно, как далеко ушли отец и его товарищи. Яша набросил на себя полушубок и выскочил в сени. С трудом открыл дверь, прижимаемую ветром, и протиснулся на волю. На берегу моря — и вправо и влево — никого не было. «Низом пошли», — решил Яша и юркнул обратно в сени. Чайник тонко свистел. Яша налил горячего чая в кружку, достал с полки кусок сахара и, прикусывая его с хлебом, стал запивать. Куропаток ощипывать очень легко. Ощипывать птиц Яша любил. Дома, когда к празднику отрубали голову петуху или курице, Яша просил мать: — Мама, дай мне, я так ощипаю, что не запачкаюсь и не вырву с мясом ни одного пера. — Бери, только рубашку и штаны не запачкай, осторожнее возись, — предупреждала мать, подавая сыну красавца петуха или пеструю ожиревшую курицу. Особенно трудно ощипывается шея у птиц. Перо длинное, кожа оттягивается, как резина, и если неумело взялся, то вместе с перьями отрывается мясо. Он ощипал только двух птиц, а перьев набрался ворох. Куда их? Не выбрасывать же? Ведь дома мать собирает перья в мешок, а потом, когда перьев набирается много, делает подушки. Вот и теперь он спит на маленькой подушке, которую мать положила ему с собой. Яша достал с нар подушку. Она была лёгкая-лёгкая. «Добавлю пера — и она будет ещё лучше», — решил он и положил подушку возле себя на лавку. Ощипана последняя птица. Перьев на целую подушку хватит. Вот здорово! Яша осторожно распорол верхнюю чёрную сатиновую наволочку, потом вторую, белую, сшитую из старой отцовской рубашки, и стал осторожно укладывать в распоротую подушку перо. Подушечка заметно прибавилась. И когда он зашил её, и зашил не хуже, чем мать зашивает, тоже с подгибом краев, то долго любовался, а потом вскочил на нары, лёг и положил голову на подушку. «И выше стало и мягче, хорошо-то как! Во́ маме-то покажу», — подумал он и бережно погладил подушечку. Остальные перья, разлетевшиеся по лавкам, по полу, он подмёл и бросил их на горящие уголья. Перья задымили, зашипели, свёртываясь в чёрные шарики, и вспыхнули красноватым огнём. Дрова в каменке горели ярким пламенем. Дым, как облако, висел, прижимаясь к потолку, и толчками вырывался в четырёхугольное окно, выходящее в сени. Окно закрывалось деревянной задвижкой, и в избушке долго сохранялось тепло раскалённой каменки. Когда Яша опалил на огне птиц, они стали румяные и вкусно запахли. Он не утерпел, отрезал кусочек мяса и стал жевать. Мясо было невкусное, твёрдое, а румяная корочка горчила. Он сплюнул в огонь и решил никогда не пробовать птиц в сыром виде. Через час в избушке к запаху тепла и дыма примешивался вкусный запах дичи. В большом закопчённом котле варились куропатки. Их белые тушки показывались и скрывались в водяных кипящих бурунчиках. Вот теперь можно попробовать. Если мясо стало мягким, то можно опускать в котёл и картошку; она, нарезанная угловатыми кусочками, лежала на тарелке. Молодой повар, подхватив половником одну птицу, вынул её из котла и положил на стол. Как хорошо она пахнет! Яша, придерживая тушку за оголившуюся косточку, отрезал кусочек мяса и, подув на него, чтобы не обжечься, стал пробовать. Мясо стало вкусное, мягкое, уже готовое, но пресное. Зачерпнув кипящего бульона, он осторожно схлебнул его с ложки и решил добавить соли. Теперь хорошо. Плотный, вкусный бульон вызывал аппетит. Нет, он не будет обедать до прихода отца и его товарищей. А уж если сильно проголодается, то можно испечь картошку. Печёная картошка — объедение. Высыпав нарезанную картошку в кипящий бульон и долив воды до самого верха, Яша успокоился. Он справился с заданием. Обед приготовлен. Пусть приходят хоть сейчас! И обед неплохой. Яша представил себе, как озябшие и усталые люди будут есть его дичь, не только сваренную им, тринадцатилетним мальчишкой, увязавшимся с отцом на промысел, но и добытую им. Убить в тундре в такую пору осторожную и чуткую куропатку не всякий может. Тут нужны не только меткость в стрельбе, но и подход к птице, скрадывание её. И всё же Яша подкрался к стае куропаток, и после выстрела между кочками в карликовом ивняке осталось лежать неподвижно четыре птицы. С охотничьей радостью он поднял птиц, привязал их к ремню и понёсся к избушке с добычей. Разве может быть что-либо лучшее в его начинающейся охотничьей жизни?! Вечерело. Короткий зимний день кончился. Яша наелся печёной картошки и стал прислушиваться — не идёт ли отец. В избушке совсем темно, только игравшее в каменке пламя догорающих дров бросало красноватые отблески на стены и они то освещались, то прятались в темноте. Как скучно! Яша лёг на нары, положил под голову подушечку, дополненную пером, и прислушивался к шуму и стуку ветра на воле. Незаметно уснул. И вот он дома, в приморской деревушке, что в девяноста километрах отсюда. С трудом передвигая ноги, идёт он с охоты. Рядом с ним трусит, изредка настораживаясь и бросаясь в сторону, лайка Тайга. Умная собака не оставляет Яшу. Она хорошо сегодня помогла ему. Кряковая утка и два чирка, что висят на поясе у Яши, вынесены из воды Тайгой. Не будь её, молодой охотник вернулся бы без добычи. Убитые им утки плавали бы на воде озера, достать их без лодки нельзя. Где же взять лодку на лесном, нелюдимом озере? А верная собака знала своё дело. За каждой уткой она плавала без всякого принуждения. Яша, не замочив ноги, идёт домой с богатыми охотничьими трофеями. Сосед их Иван Кузьмич, что работает на салотопенном заводе, увидел Яшку, обвешанного утками, и крикнул: — А ну, Яшка, в рот-те перец, подойди сюда! Яша проснулся. В сенях было шумно. Стучали обледенелыми сапогами и искали в темноте дверь. Мальчик вскочил и зажёг фонарь — «летучую мышь». В избушку стали входить промышленники. Когда разгорелся фонарь и стало светло, Яша увидел, что отец держит что-то в руках. — Что это? — спросил Яша, подойдя к отцу. — Белёк, — ответил Игнат и стал смотреть, куда бы положить детёныша тюленя. — Сюда, тять, давай его мне! — взволнованно закричал Яша и взял из рук отца зверёныша. Пушистый, с чёрным носом и чёрными глазками зверёк не двигался. Ласты его были плотно прижаты, а маленький плоский хвост, чуть раздвоенный на конце, свисал. Яша держал на руках белька, как ребёнка, и любовался им. — Положи его в угол, никуда не уйдёт да мешать не будет, клади вот сюда, — и Игнат отодвинул скамейку: Яша положил белька и стал гладить его. Зверёныш сопел и ровно дышал. «Пусть спит», — и Яша оставил его в покое. В каменке ярко горит огонь. На столе суп, сваренный Яшей. С удовольствием едят его и хвалят. Яша ест плохо. Он возбуждён и похвалой, и тем белым комком, что лежит в углу. — Да ты ешь, ешь, голова садовая, — говорят ему товарищи его отца. — Ha-ко вот, съешь, — и бородатый Михайло положил в тарелку Яши целую куропатку. Яшка краснеет, молчит, нетерпеливо ест, поглядывая на белька. Вдруг белёк пополз из угла, затыкал чёрным носом во все стороны и заплакал, словно грудной ребёнок. Яша бросился к бельку, положил его опять в угол и погладил. Белёк засопел, стал водить носом по сторонам. — Соску ищет, молока надо, — сказал Игнат. — Время подошло кормиться, — заметил Михайло, отодвигаясь от стола. — Пропадёт, — сказал один промышленник. — Ничего не будет, живучие они, бельки эти самые, по неделе голодом сидят и ничего, живут, — сказал другой, — мне приходилось возиться с ними, я их знаю… живучие животины. — А потом пропадёт, — подтвердил первый. — Оно, конечно, сгинет… Иначе нельзя, без еды жить не будешь… Давно уже спали усталые люди, оконце избушки было заткнуто на ночь тряпкой, в каменке тлели головешки, а Яша сидел у стола и дремал.

Как только белёк начинал шевелиться, Яша подходил к нему, гладил его и совал в рот зверёнышу палец. Белёк сопел, тыкал чёрным носом и стонал. И так почти всю ночь. Всё же сон одолел. Как ни старался Яша не спать, а уснул. Сначала сидя за столом, а потом перебрался на нары. Утром Яша проснулся вместе со взрослыми. Белька в углу не было. Где же он? Не высказывая тревоги, Яша осмотрел пол избушки и обнаружил белька под нарами. Там лежали старые, неизвестно кем брошенные туда ненецкие пимы из оленьей шкуры. Белёк спал на пимах, уткнувшись в оленью шерсть. — Где зверюга? — спросил Яшу дядя Гриша, смелый и сильный промышленник. — Спит под нарами, — тихо ответил Яша. — Да, — протянул дядя Гриша, — кормить-то его нечем, вот горе. Молока ему надо. Ведь он всё равно, что дитё малое, молока ему подай. — А чаем его можно поить? — спросил Яша. — Попробуй. Только ведь он не станет чай пить, соску ему надо с молоком. Яша опять полез под нары проверять, спит ли белёк. Дежурил на берегу моря в эту ночь суетливый промышленник — Иван Шариков. Когда артель завтракала, Иван вбежал в избушку, запыхавшись: — Вставай! — закричал он, открывая дверь. — Живо на море! Что там творится, ужас! — Он сбросил с себя шапку и, размахивая руками, выкрикивал. — Зверя на льду, что блох, черным-черно! — А сколько счётом? — спокойно спросил Михайло. — Как счётом? — ответил Иван. — Ну как, не понимаешь, что ли? Ну тысяча, две, три, миллион, может быть, — повысил голос Михайло. — Скажешь тоже, миллион, — протянул улыбаясь Иван. — С сотню-то может наберётся, а может и больше… — А зачем шумишь так? Артель быстро позавтракала и стала собираться в море. — Тять, — попросился Яша, — возьми меня с собой. — В другой раз, когда зверь будет вот здесь, напротив, тогда обязательно возьму, а сейчас надо идти к Северному мысу. Это далеко. А ты, если не хочешь сидеть дома, сходи за куропатками. Обедом накормишь, — сказал Игнат и вышел из избушки. Ветер затих. С моря доносился шум льда. По берегу моря шли люди. Это отец Яши и его товарищи уходят к Северному мысу. Там они спустятся на лёд и будут промышлять на льду. И так каждым день. Такова жизнь приморских зверобоев. Как только ушли на промысел, Яша достал белька и стал пытаться кормить его. Налил в тарелку сладкого чая. Белёк пыхтел, отворачивался и жалобно кричал. Тогда Яша стал пробовать ложкой залить в рот зверёнышу сладкий чай. Белёк захлебывался, фыркал и кричал ещё жалобнее. Яша достал из-под нар пимы, бросил их в угол и положил на них белька. «Пропадёт с голоду, факт, — подумал Яша. — Надо, наверно, молоко, а где его возьмёшь?.. А как жалко его… Ух, как жалко! Уж лучше бы отец не приносил!..» Яша сидел на корточках около белька и гладил его шёрстку. Позавтракав, Яша взял ружьё, вышел из избушки и направился к морю. С высокого обрывистого берега хорошо видна даль моря. Во все стороны — вправо, влево и прямо — перед Яшей льды. Стоит Яша и смотрит на море. Недалеко от него, на самом обрыве берега, каменный знак — гурий. Выложен знак из крупных обломков выветрившихся песчаников. Эти знаки сделаны промышленниками для опознавания берега. На гурий, что недалеко от Яши, уселась белая полярная сова. Повернула к нему свою кошачью голову и щёлкнула клювом. Вскинул Яша ружьё. Выстрелил. Сова оттолкнулась от камня и, медленно махая широкими крыльями, полетела в тундру. Яша не любил этих птиц с большой головой и жёлто-зелёными глазами. Похожие на древесный обрубок, они целыми днями сидели в тундре где-либо на камне и дремали. Стрелял он их, но не убивал. Отпугивал. Отец скакал ему однажды: — А сов ты, сынок, не убивай, ни к чему они, пугнуть пугни, а не попадай. Так и сейчас, Яша вполне мог бы свалить на землю этот белый пенёк, что уселся на гурий, но не стал, а только пугнул её свистом дроби, что пронеслась рядом. Заложив новый патрон в ружьё, Яша подошёл к гурию. На верхних камнях много белых меловых пятен с подтёками. Это помёт белых красавиц, из тех, что сейчас сидела тут. Постояв около гурия, Яша направился вдоль берега, всматриваясь в проходящие льды. Что это? На большой льдине, что шла недалеко от берега и ломала себя о береговой припай, лежали чёрные длинные чурки. Яша долго смотрел на проходящую льдину, a потом, что есть духу, пустился бежать к избушке. «Отнесу им белька, пусть кормят, а то пропадёт с голоду», — решил он. Забежал в избушку. Торопливо поставил ружьё в угол, взял на руки белька и побежал к морю. Бежать с бельком было тяжело и неудобно. Яша пошёл быстрым шагом. Вот и то место, где он увидел льдину с тюленями. Льдины не было. Она далеко ушла вместе с остальным льдом. Яша стал догонять её, высматривая с высокого берега. Вот и льдина. Она недалеко от берега. Около жёлтого пятна, которое заметил Яша, лежал взрослый тюлень. «Кормит детёныша», — подумал Яша и стал спускаться на льды. Вот он внизу. Перед ним высокие нагромождения битого льда. Там, за высоким ледяным валом, с шумом двигался лёд. А где же та льдина, на которой лежат тюлени? Не видно. Да разве увидишь её, когда всюду высятся ледяные горы! Сверху, с высокого берега, льдина была хорошо видна, а здесь её не увидеть. Яша по краю берегового припая стал пробираться вперёд, в надежде увидеть и догнать тюленей. Долго пробирался смелый юный охотник с бельком на руках по краю припая. И вдруг шум на море затих. Движение льда остановилось. Лёд встал как бы на отдых. Закончился отлив. Только через час начнётся прилив и льды начнут своё движение в обратную сторону. Прижимая к себе белька, который стал вести себя неспокойно, стараясь вырваться из рук, Яша решил подняться наверх и оттуда, с высокого берега, увидеть льдину с тюленями. Тяжело и долго поднимался Яша по заснежённому оледенелому берегу. Пот каплями стекал со лба. Вот и тундра… Отсюда хорошо видно море, льды. Как на ладони. Вон она, та льдина, и она недалеко от берега. На ней те же чурки. Значит тюлени лежат, не ушли. Как спуститься? Прямо нельзя — круто очень. Разобьёшься. Недалеко овраг. Яша подошёл к нему, присмотрелся. Недолго думая, он сел, подогнул под себя ногу и, придерживая барахтающегося белька, с шумом покатился вниз по ровной оледеневшей стене оврага. Скатился вниз. Дно оврага завалено плавником. Брёвна лежат крест-накрест. Перебравшись через плавник и обойдя высокие береговые ропаки, Яша ступил на плавучий лёд. Лёд не двигался. Осторожно перепрыгивая и перешагивая с льдины на льдину, Яша разыскивал лёжку. Недалеко от него заковылял, переваливаясь на ластах, тюлень. Высоко подняв голову, он уходил к краю льдины, ища лазейку, чтобы уйти в воду от опасности. А вот и белёк, которого он заметил сверху. Белёк лежал около маленького снежного сугробика. Яша положил рядом с ним своего белька, постоял немного и направился к берегу. Вокруг зашуршало. Весь лёд, как по команде, тронулся с места, и холмики битого мелкого льда, что вспучились между льдинами, стали осыпаться. Начался прилив. Игнат с товарищами вернулся с промысла вечером. В избушке было холодно. Погасшие угли в каменке указывали, что в ней с утра не горел огонь. — Гляди-ка, охотник-то наш на весь день ушёл, ишь ты, как затянуло его, — удивлялись промышленники, раздеваясь в холодной избушке. — У него вчера удача была, вот и увлекло парня, — сказал Михайло. — Я в его годы по суткам домой не показывался, в лесу пропадал, — заметил другой. — А ведь неладно с сыном-то, — тихо сказал Игнат и взял в руки прислонённое к стене Яшино ружьё. Все семь человек наклонились к ружью и стали его рассматривать. Ружьё было заряжено. Когда вынули патроны, то обнаружили пороховой нагар в правом стволе, левый ствол был чистый после вчерашней чистки. Значит, Яша стрелял. В кого и где — оставалось загадкой. — А где белёк? — спросил Игнат, и все семь человек стали искать белька. Залезали под нары, заглядывали под пол, искали в сенях — белька нигде не было. — Всё ясно, товарищи, — глухо проговорил Игнат, — это я погубил сына. И зачем я принёс белька, зачем? Яша понёс его в море, на льды, и его, конечно, унесло. Что я, старый дурень, сделал! — отчаивался Игнат, торопливо одеваясь. — А он сильно переживал, когда услышал, что шапку из белька сошьют. С лица даже переменился. — Да он всю ночь не спал, всё присматривал за зверёнышем… — Известно дело, ребята — они ребята везде, жалко им зверушек разных, маленьких… Все семь человек, усталые, голодные, быстро оделись и пошли на берег моря искать Яшу. Они разошлись по всему берегу и, похожие на каменные гурии, неподвижно стояли и прислушивались к ночным звукам моря. Возле берега нескончаемо и неудержимо шёл лёд. Долго стояли они молча на берегу мора, а потом стали сходиться в одно место. Невесёлой унылой кучкой все пошли в холодную пустую избушку. Яша, как только тронулся лёд, побежал на берег. Пробежав одну большую льдину, он не успел перескочить на вторую — образовалось разводье. В быстро увеличивающейся канаве вода как бы кипела, наверх всплывал мелкий шуршащий лёд. Яша пронёсся на другой конец льдины, но там разводье оказалось ещё шире. Берег медленно плыл, и Яша понял, что его несёт и что он остался на льдах. Он кое-как перебрался на соседние льдины, но они от берега были отрезаны живыми, шевелящимися дорожками. Вот его проносит мимо того каменного гурия, на котором сидела полярная сова. Тут недалеко и избушка. В неё вечером придут усталые люди, а его не будет, и они не будут знать, где он. До самой темноты маленький человечек бегал по льдам, пробирался к берегу, но его несло и несло в неведомую холодную даль моря. Его несло мимо заснежённых незнакомых берегов, и берега эти отдалялись и отдалялись. Яшу охватил такой страх, что он не знал, что ему делать. Он кричал долго-долго. В ответ слышался шум льда да крики на льду бельков, лежащих где-то недалеко и зовущих к себе мать. А когда совершенно стемнело, подул ветер, понесло мелкий, колючий снег. Всё смешалось вместе — и тонкий свист, ветра в ледяных торосах, и шорох льда, и частые удары испуганного сердца Яши. Игнат всю ночь не уходил с берега — прислушивался к ночным звукам моря, к свисту ветра и часто ходил в избушку, надеясь встретить в ней вернувшегося сына. Товарищи Игната тоже не спали. Они приходили на берег моря и слушали — не послышится ли человеческий крик в шуме льда и ветра. Прошла в ожидании тяжёлая длинная ночь. Яша не вернулся. После завтрака все семь человек вышли на поиски Яши. Что его унесло на льдах, это точно. Исчезнувший белёк и оставленное ружьё говорили об этом. Ивана Шарикова оставили на берегу моря около избушки, а все остальные пошли по берегу моря — трое в одну сторону и трое в другую. К концу дня условились прийти в избушку. Первым заметил Яшу Михайло. В километре от берега на движущемся льду он увидел чёрный маленький столбик. Это чёрное то показывалось, то исчезало.

Михайло показал товарищам на замеченное им. Все начали наблюдать. — Человек, конечно человек, — заговорили разом промышленники и стали определять, где остановятся эти льды в ожидании сменного течения. По их расчётам этот лёд с человеком на нём должен остановиться у дальней песчаной бухты, что в восьми километрах от них. Сразу решили — всем немедленно пойти к бухте Песчаной и там снять человека со льдов. К бухте Песчаной пришли в одно время со льдом. Как они и определили, лёд остановился. Чёрная точка на льду двигалась, то показываясь, то скрываясь за торосами и ропаками. Михайло с товарищами спустились на лёд и ловко, как и подобает промышленникам, обходили торосы, разводья и уверенно двигались в том направлении, где должен быть человек. Кричали они в три голоса до хрипоты, до боли в горле, но никто на их крик не отзывался, и никого они не могли увидеть. Ветер относил их крик не в море, а на берег. Тогда они стали обследовать каждую льдину, заглядывая за вздыбленные холмики, за торосы. Их поиски походили на поиски бельков на льду во время их промысла. Михайло, заглянув за подветренную сторону одного тороса, увидел Яшу. Мальчик сидел за ледяным ропаком, опустив голову на грудь. Полушубок и валенки были заледеневшими, на шапке снег. — Яшка? — крикнул Михайло. Яша поднял голову и бессмысленно посмотрел на Михайлу. — Здесь! — закричал Михайло. — Сюда! Нашёл! Идите сюда! Он подхватил на руки обессилевшего мальчика и пошёл с ним к берегу. Скоро его нагнали товарищи, и они попеременно несли Яшу на руках. Там они разожгли большой жарким костёр из плавника, отогрели Яшу и дали ему поесть. Яша немного окреп и стал рассказывать о том, как он попал на лёд и как его унесло. По крутому безлюдному берегу студёного моря шли четыре человека. Среди них шёл Яша. Пришли они в избушку ночью. Как были все рады, когда за столом сидел освещаемый фонарём и светом огня каменки сын промышленника — Яша. — Растёт смена — эвон какой сын-то у тебя, помор, настоящий помор, — радостно сказал Михайло и посмотрел на Яшу.


На берегу студёного моря

Старый ненец Евсей одиноко стоит на берегу моря.
Ветер, что дует без остановки вторые сутки, шевелит его седые волосы, слезит узко прищуренные глаза и шумит в ушах нескончаемым тяжёлым прибоем бурного студёного моря.
Девятый вал, набегая на берег, стреляет по-орудийному, ударяя в нишу береговой скалы, похожую на громадную тёмную пасть какого-то чудовища.
С силой ударившись в углубление, вода выбрасывается высоко вверх и рассыпается мириадами брызг.
Волны, гремя галькой, вбегают далеко на берег и, по-змеиному шипя, уносятся назад, встречаясь с новой набегающей на берег волной.
Накатная волна заворачивается в гигантскую живую трубу и с глухим шумом оседает, рассыпаясь белоснежной кипенью.
А дальше от берега, до самого горизонта, с лёгким шумом нескончаемо бегут и бегут к берегу водяные валы, с шелестом подгоняя друг друга.
Море пустынно — ни парохода, ни лодки. Только над подвижными холмами-волнами плавно скользят чайки, то показываясь, то скрываясь в водяных оврагах.
Долго стоял старый Евсей, всматриваясь в морскую даль. Его зоркие глаза ничего не находили в этой всхолмлённой, по-дикому красивой, равнине.
Недалеко от Евсея на высокий береговой скалистый выступ села полярная сова. Похожая на пёстрый деревянный обрубок, она тревожно заворочала круглой головкой, заметив Евсея.
Её кошачьи жёлтые глаза долго следили за человеком. Когда Евсей потянулся в малицу за табаком, сова не выдержала.
Злобно щёлкнув клювом, она оттолкнулась от камня, расправила свои широкие круглые крылья и плавно, над самой землёй, полетела в тундру.
Ветер не переставал. Выкурив трубочку, Евсей неторопливо пошёл к чуму…
Евсей — житель тундры. Его родина — край долгой полярной ночи и долгого полярного дня.
Родился Евсей в дымном чуме. Сразу же после рождения он стал привыкать к суровой ненецкой жизни.
Маленький Евсей кочевал вместе с родителями.
Длительность стоянки жителей тундры, ненцев, на одном месте зависит от подножного корма оленей. Мало мха — оленье стадо в сотни голов оставляет на пастбище голую землю через один-два дня. Много мха — стоянка длится неделю и больше.
Ветвисторогие олени, впряжённые в нарты, быстро перевозят своих хозяев с одного места на другое.
Переезд в поисках хорошего пастбища в десятки и сотни километров — обыденное явление в ненецкой жизни.
Собираясь на новое место, ненцы грузят на нарты весь свой нехитрый скарб, необходимый для существования.
Оленьи шкуры, колья для установки чума, домашняя посуда, добытые на охоте шкуры песца, шкуры морского зверя — всё это упаковывается на нартах, и олени со скоростью нескольких десятков километров в час мчат ненцев по голой, местами болотистой, местами каменистой тундре.
На нартах перевозят и детей всех возрастов.
Лежит на нартах завёрнутый в оленью шкуру маленький, совсем крохотный, нескольких месяцев от рождения, человек.
Он без рубашки. Медленно падающие снежинки с серого, низкого неба опускаются на нарты, садятся на голый животик ребёнка и тают.
А он не плачет. Он стучит ножками и ловит красными ручонками порхающие в воздухе снежинки.
Так вот и рос маленький Евсей, соревнуясь с жизнью-мачехой.
Сколько раз смерть схватывала его и держала в своих объятиях, овевая своим холодным дыханьем!
Не сдавался Евсей. Тлевшая угасающим угольком его жизнь брала верх. Уголёк разгорался ярко, сильно — и смерть отступала.
Когда маленький Евсей стал крепко на ноги, не падал в кочковатой тундре, он оделся, как и взрослые ненцы, в малицу, повесил на пояс охотничий нож в деревянных ножнах и, взяв в руки тяжёлую берданку, стал промышлять зверя.
Нелегко подкрасться к морскому зайцу, который, отдыхая на льдах или на песчаной косе моря, через каждую минуту поднимает усатую морду и маленькими зоркими глазами осматривается — нет ли какой опасности.
Часами ползёт юный промышленник по ровному месту, подкрадываясь на верный выстрел к чуткому зверю.
Как только зверь опускает голову, Евсей ползёт несколько шагов и затихает.
Зверь поднимает голову, зорко оглядывается по сторонам и втягивает воздух, стараясь уловить посторонний запах.
Убедившись в полной безопасности, зверь опускает голову и сразу опять засыпает.
Давно уже на Евсее всё мокрое, оледеневшее. Свирепый ветер спирает дыхание, старается превратить в ледяшку маленького смельчака.
Евсей упрям. Ведь он охотник, он человек! Он не замечает холода. В его груди сильно бьётся сердце и бешено гонит кровь по жилам, согревая упрямца.
Ползти хватит. Громадный зверь лежит, не замечая Евсея. Он так близко от охотника, что хорошо слышно спящее дыхание.
Пока зверь спит, Евсей устанавливает сошки, кладёт на них берданку, прицеливается и кашляет.
Зверь медленно поднимает голову и прислушивается.
Евсей стреляет. Свинцовая пуля навылет пробивает усатую голову — и двадцатипудовый зверь остаётся неподвижным.
Так и жил Евсей, борясь за существование. Он становился большим, сильным, выносливым, достойным хозяином своей суровой страны.
И вот уже пролетела жизнь. Евсей состарился и обессилел. Износился.
Доволен старик жизнью. У него есть сын. Это его гордость, его любовь.
Его сын — Игнат — учится на доктора в большом городе. Шесть лет не видел Евсей своего Игната.
А завтра он увидит его. Игнат кончил ученье и едет работать в тундру — лечить и сохранять здоровье своих земляков ненцев.
Вот уже два дня живёт Евсей на берегу моря. Завтра пароход подойдёт сюда, и на шлюпке на дикий суровый берег будет высажен его сын.
Евсей на нартах, запряжённых четвёркой оленей, приехал к морю, взяв с собой своего друга, старого Буяна.
Свой чум Евсей поставил в небольшой впадине пологого увала, обращённого к морю. Отсюда, с увала, хорошо видно море.
По всей впадине и по склонам увалов морошечник и низкие тощие заросли полярной ивы, в которых в изобилии водятся куропатки.
Когда Евсей подошёл к чуму, лежавший у входа в него Буян приподнял голову, взглянул на своего хозяина и, опершись на передние лапы, выгнулся, оскалив жёлтые, съеденные временем, клыки.
Буян, как и Евсей, стар. Он уже второй год не считается оленегонной собакой, не ходит пасти оленей. Не может.
Евсей привык к Буяну, любит и жалеет его не меньше тех собак, которые стерегут стада оленей.
Буян был смелой и сильной собакой. Не одному волкуБуян мёртвой хваткой вгрызался в горло и не разжимал зубы до тех пор, пока глаза хищника не заполнялись мутным смертным покоем.
Сейчас Буян не то. Это смирная, тихая и покорная собака.
Лежит он у входа в чум до тех пор, пока нет собак-пастухов. Как только около чума появляются возбуждённые и голодные рабочие собаки, Буян неторопливо уходит за чум, ложится там, чувствуя свою ненужность среди них.
Уходит стадо, убегают собаки, и Буян не спеша выходит из своего угла, обнюхивает собачьи объедки и ложится на своё место у входа в чум.
Евсей выходит к нему, садится с ним рядом, и умный пёс, глядя на своего хозяина, кладёт на его ноги свою старую голову.
Раскурив трубочку, Евсей, к удивлению собаки, проговорил: — Как живёшь, Буян?
Буян поднял голову, взглянул на своего хозяина и вопросительно уставился на него, не понимая, чего он хочет от него.
— Не понимаешь? — спросил его Евсей.
Буян виновато шевельнул хвостом, и в глазах его ещё более выразилось непонимание.
— Глупый ты, Буянушка! — ласково сказал Евсей и стал гладить волнистую шерсть собаки.
Буян привстал, лизнул руку Евсея и коротко взвизгнул, как бы спрашивая: «Что надо сделать, хозяин?»
— Сегодня у меня счастливый день, — проговорил Евсей и прижал к своей груди лохматую голову собаки.
Буян бодро встряхнулся, в глазах его появился молодой задор и решимость.
Толстый, с большим подвесом хвост живо заходил из стороны в сторону. Вся фигура Буяна преобразилась. Это была уже не старая дряхлеющая собака, а молодая, сильная, решительная на всё.
В это время ветер донёс с моря протяжный гудок.
Евсей проворно вскочил, сделал козырьком ладонь и долго всматривался в морскую даль.
А там, в бурном студёном море, чёрным толстым жгутом тянулся по ветру дым парохода.
Собака, ничего не понимая, смотрела на хозяина, не спуская с него глаз.
Евсей, протянув руку к морю, крикнул: — Буян! Это он! Игнат едет, Игнат!
Буян, как бы сообразив, начал азартно лаять и кружиться около своего хозяина.
Евсей побежал к морю. Его седые волосы развевались по ветру. Он легко, как и раньше, бежал, не чувствуя тяжести в ногах.
Впереди него, высоко подбрасывая зад, нёсся Буян, радостно взлаивая.
А далеко в тундре к морю мчались на ветвисторогих оленях ненцы встречать своего земляка — доктора Игната.


Метеорит

Звезда упала за деревней, в поле, а может быть, и в лес. Он рядом. Яркий огненный след прочертил черноту ночи.
Видели падение звезды только два человека — сторож Иван, охраняющий сельмаг, и пионер Володя Трусов, фотографировавший звездное небо не по заданию школы, а так, по своему желанию, любительски.
Шума при падении звезды Володя не слышал, а Иван уверял, что шумело так, словно весенний снег сползал с крыши.
Кто из них двоих, счастливцев той ночи, был прав, судить трудно, да никто и не вмешивался в их спор, так как все жители деревни спали.
Сторож Иван, как только пронеслось по небу огненное, бросился в канаву и залёг в ней, ожидая взрыва. Так он действовал в бытность на фронте. Услышит шелест летящего снаряда или свист бомбы и тут же падает. А когда дрогнет земля от взрыва, да просвистят смертоносные осколки, встает тогда Иван, отряхнётся и как ни в чём не бывало начинает закуривать.
— Пронеслось мимо, — скажет он самому себе и улыбнётся.
Так и сейчас. Лёжа в канаве, он ожидал близкого взрыва, глухого содрогания земли и, по привычке уткнувшись лицом в землю, прикрыл голову руками.
Взрыва не было. Тогда Иван осторожно поднялся из канавы.
По-прежнему было тихо. Над головой было то же небо — глубокое, бездонное, утыканное бессчётными светлыми точками.
«Что бы это значило?» — подумал Иван и стал закуривать. Руки плохо слушались, и «козья ножка» не получалась такой, какую он обычно свёртывает. Только что успел прикурить и погасить горящую спичку, как услышал торопливые мелкие шаги.
Иван быстро смял «козью ножку», горящий табак мелкими искрами посыпался на землю. Взяв берданку наизготовку, Иван кашлянул.
— Дядя Ваня, это вы? — услышал он детский голос.
— Я, — ответил сторож. — А что случилось? — спросил он Володю.
— Вы видели, как метеорит упал? — спросил Володя.
— Какой такой метеорит, ничего я не видел, — ответил Иван, стараясь рассмотреть мальчика.
— Вот он по небу только-только пронёсся, неужели не видели?
— По небу пронёсся, а это что такое, звезда какая, что ли?
— Не звезда, а камень, метеоритом называется, — сказал Володя, сильно волнуясь.
— Ишь ты, чудеса-то какие, — удивился сторож. — А я думал — снаряд летит. Ведь я в канаву со страху-то свалился, — и он засмеялся.
— А где он, камень этот самый? — спросил он Володю.
— Ежели не сгорел, то где-нибудь упал в поле, а может быть и в лесу, — ответил Володя, всматриваясь в темноту.
Володя уходя слышал, как Иван бормотал что-то, а потом чиркнул спичкой, прикуривая потушенную цигарку.
Утром все знали, что ночью, недалеко от деревни, упал с неба камень.
Героями дня были сторож Иван и пионер Володя Трусов. Только они видели это интересное редкое явление.
Володя еще на рассвете обошёл и поле за деревней, побывал и на опушке леса, но метеорита не нашёл.
Что упал метеорит, Володя знал точно. О них он читал в книгах и слышал рассказы учителей о небесных камнях, падающих на землю.
Шума при падении метеорита Володя не слышал, и удара его о землю тоже не слышал, но огненный след коснулся земли и коснулся недалеко, за деревней.
Как найти его? Володя никогда еще не видел метеорита, а тем более не держал в руках. Какой он?
Школьный учитель, Сергей Александрович, пришёл к Трусовым и подробно расспросил Володю о ночном происшествии.
В тот же день все школьники после уроков охотно пошли искать небесного странника, упавшего на землю.
Метеорита школьники не нашли. Обыскали поле за деревней, лесную опушку, аукались в лесу, носились как угорелые с найденными камнями к Сергею Александровичу и опять искали, искали, искали.
Метеориты Сергей Александрович видел, — правда, в руках он их не держал, но всё равно вид небесного камня — метеорита запомнился на всю жизнь.
Камни, которые приносили ему школьники, были обыкновенные — или угловатые, иногда сглаженные куски гранита или диабаза.
Сторож Иван на другой день собрался в лес.
Долго ходил Иван. Обошёл много мест, а ничего постороннего в лесу не обнаружил.
Хмурые ели стояли, как и всегда, тёмно-зелёные, как будто и не думали о том, что скоро зима. Осина, та забеспокоилась — покраснела, пожелтела и начала оголяться, чтобы не заморозить на своих ветвях хлопотливые листья. И рябина, и берёза готовятся к зиме, меняют одежду.
Устал Иван. Но всё же набрал поздних рыжиков, волнушек и, выйдя на лесную поляночку, стал закуривать.
Когда он закурил и, откашлявшись, посмотрел в сторону, то увидел у одной ёлки, стоящей недалеко, свежеопалённые ветви, которые белели изломами от верха до низа дерева.
Иван привстал, распрямился и осторожно пошёл к изуродованному дереву.
Часть сучьев ёлки лежала на земле, некоторые висели, держась на коре. Толстый корень ёлки, выступающий наверх, был перебит, и в земле была ямка. Что-то ушло в землю.
Иван оцепенел, не смея двинуться с места. Долго он стоял, прислушиваясь к лесному шуму, а потом взял корзину и торопливо пошёл в деревню.
На другой день на глубине нескольких метров был обнаружен метеорит.
Это был чёрный, с лакированной поверхностью камень. На его спекшихся боках было много овальных неглубоких ямок.
Взял в руки метеорит и Иван. Он долго смотрел на него и сказал, ни к кому не обращаясь: — Ну и чудеса!
После этого случая сторож Иван стал знаменитым человеком в деревне. И не только в деревне.
Из Академии наук приехал научный сотрудник, беседовал с Иваном, расспрашивал его о жизни, всем интересовался, благодарил за помощь, оказанную им науке.
В ясные звездные ночи сторож Иван часто посматривал на небо и, увидев падающую звезду, говорил: — Не долетела, милая, до земли, сгорела!


Зверобой

Частым моим спутником в увлекательных прогулках на лесную быструю речку, что день и ночь шумит за нашей деревней, был Зверобой.
Это был коренастый мальчик, широкий в плечах и всегда румяный.
Глаза у Зверобоя голубые, любопытные, а волосы белые с завитушками, как у девочки.
Звали мальчика Сашей. Это его имя.
Если же вы спросите: «А где Саша?», то вас тоже спросят: — «Это который, Зверобой, что ли?»
Саша Зверобой! Интересно, правда?
Зверобою было десять лет. Учился он тогда в третьем классе. Учился, как и все, и ничем особенным не отличался от своих товарищей.
Какого же зверя одолел или с каким зверем вступал в бой этот мальчик?
Всё вышло просто. Бабушка Саши, старая тётя Груня, заваривала траву зверобой и пила её как чай.
— Это из чего чай, бабушка? — спросил её однажды Саша.
— Зверобой, внучек, зверобой пью, трава такая растет, и чай из неё вкусный-вкусный, попробуй! — И бабушка налила Саше чашку красного настоя травы зверобой.
— А что со мной от неё будет? — спросил Саша, пробуя напиток.
— А ничего, внучек, разве только сильным будешь, а больше ничего не случится.
— А это правда? — У Саши перехватило дыхание.
— Эта трава сильная, внучек, ежели кто пьёт её, то таким сильным делается, что любого зверя одолеет. Сила такая в ней, в этой траве, — сказала бабушка и опрокинула на блюдечко вверх дном порожнюю чашку.
Саша торопливо допил зверобой и побежал на улицу.
Около дома лежал глубоко засевший в землю большой угловатый камень.
Саша подошёл к нему, уцепился пальцами и потянул. Камень с трудом подался немного. Саша взял сильнее — и камень вышел из земли. Жучки и разная живность, бывшие под камнем, засуетились. А один из подкаменных жителей, длинноусый жук, с удивлением посмотрел на Сашу и нырнул в норку.
Мальчик вздохнул и стал смотреть, где бы ещё попробовать свою силу.
Около бревён лежала опрокинутая вверх дном лодка. Она вся рассохлась совершенно, никому не была нужна и покоилась тут уже не первый год.
Саша подошёл к лодке, взялся за её край и стал повёртывать.
Лодка не трогалась с места. Тогда он побежал домой и попросил у бабушки ещё чашку зверобоя.
Вторая чашка силы не прибавила. Лодка упрямо лежала на своём месте.
— Недели через две осилю, — решил Саша.
В тот же день Саша похвастался перед своими товарищами, что он скоро будет очень сильным.
— Сильнее меня не будет здесь никого, — и он победно посмотрел на изумлённых своих друзей.
— А почему ты сильным будешь? — спросили его.
— А оттого, что я пью зверобой. Трава такая, сила от неё в человеке копится.
Не все ребята поверили Саше. Некоторые сомневались в таком действии какой-то травы, но сильно не спорили с Сашей, потому что ничего не знали о зверобое.
Однажды собрались ребята в лес, в поход на дальние лесные озёра.
По дороге на озёра Саша вспомнил что-то и побежал обратно в деревню.
— Ты куда побежал? — спросили его.
— Сейчас вернусь, — крикнул Саша: — я забыл выпить зверобой.
С тех пор и стали звать Сашу — Саша Зверобой.
Бабушка каждый день наливала Саше чашку крепкого настоя и говорила: — Пей, Сашенька, никакая хворь не пристанет к тому, кто пьёт зверобой.
Иногда не хотелось пить, но, чтобы не обидеть старую, а также желание стать сильным заставляли Сашу выпивать зверобой.
— А сильным-то я когда буду? — спросил Саша бабушку.
— А вот вырастешь большой — и сила появится, — ответила бабушка.
Через несколько дней Саша узнал о траве зверобой совсем другое. И узнал опять-таки от бабушки.
Пришла в дом Саши соседка и попросила у бабушки траву зверобой.
— Живот у моего Васютки заболел, — сказала она, садясь на лавку. — Вы, бабушка, в прошлый раз давали траву зверобой, я заварила и давала пить ему, так у него боль-то в животе как рукой сняло.
— Как же, как же, — засуетилась бабушка. — Зверобой — самое лучшее лекарство от боли в животе, и кровь может остановить…
— И силу прибавляет, — подсказал Саша.
— Сила, внучек, от работы прибавляется. Вот будешь большой — и сила будет, а от зверобоя только хворь пропадает, — сказала бабушка удивлённому Саше.
— А сейчас, внучек, поднимись на чердак да принеси зверобой, он там под стрехой.
Саша поднялся на чердак, взял из-под стрехи перевязанную верёвочкой связку сухого зверобоя и принёс бабушке.
После этого случая Саша перестал пить настой зверобоя, и когда ребята спросили его, когда же он будет самым сильным, то Саша ответил: — Когда вырасту.


Подарок артиллериста

Впервые компас мы увидели у Юры Соловьёва, нашего товарища.
Юра Соловьёв, это брат сержанта-артиллериста, того самого, который приехал в отпуск и ходил с Юрой в лес.
Сержант-артиллерист носил на тонком кожаном ремне сумку. В сумке были карандаши какие хочешь — и красные и синие, всякие. Толстые и тонкие.
В этой же сумке под мягким стеклом была карта. Мы близко карту не видели и не знаем, что на ней, но Юра рассказывал, что на той карте всё есть — и деревни, и овраги, и ручьи, и деревья. А деревья можно узнать какие — или ёлки, или берёзки. Вот какая карта была в сумке у артиллериста!
В этой же сумке, в кожаном кармашке, был компас. Мы думали, что это часы, а Юра нам сказал, что это компас и он нужен при стрельбе из пушек.
Как-то раз Юра сказал нам: — Мы вчера с Колей ходили в лес далеко, далеко, и всё по компасу шли. Вот здорово! С компасом куда хочешь иди и не заблудишься, — выведет.
Мы с завистью смотрели на нашего товарища, знающего такое большое и важное дело.
— Юра, — стали просить мы, — покажи нам компас!
— Сейчас нельзя, — ответил нам Юра. — Вот уедет Коля, и я его покажу, он мне его оставляет.
— Насовсем?
— Конечно. Бери, говорит, дарю. Сам учись ходить по лесу с компасом, и ребята пусть учатся.
— А когда он уедет? — спросил я.
— Завтра утром. Ему надо с вечерним поездом уехать, чтобы не опоздать в часть. Там у них, у военных, — продолжал рассказывать Юра, — ох и строго насчет этого: опоздал — и пиши пропало!
— Выгонят?
— Не выгонят, а вызовут к командиру, да и дадут как следует.
— Наколотят? — спросил Митя Ковшов, маленький, но бойкий.
— Не наколотят, а отругают как следует. Ну… и стыдно ведь, когда ругают.
Юра говорил правду. Когда в школе или дома ругают, то не знаешь, куда деваться от стыда, глаза ни на кого не смотрят.
… Артиллерист утром уехал на станцию, и мы, конечно, проспали. Когда прибежали провожать, то его уже дома не было.
В тот же день Юра показал нам подарок брата.
Все мы потянулись к подарку. Каждому хотелось подержать в руках компас артиллериста.
— Без него в лесу пропадёшь, — произнёс Юра.
Мы наклонились и смотрели, как стрелка компаса повиляла, повиляла из стороны в сторону и остановилась.
— Вот смотрите, — и Юра, показывая на стрелку, сказал: — Черный конец стрелки всегда показывает север, а светлый показывает юг.
— А как узнать, куда надо идти, чтобы не заблудиться? — спросил я.
— А тут на компасе цифры есть, по ним и узнавать надо, — и Юра положил компас в карман.
— А ты знаешь эти цифры? — спросили мы Юру.
— Конечно! Это же просто, — степенно ответил он. — Вот ты, Вася, — обратился он ко мне, — скажи, что в той стороне за нашей деревней?
— Лес, — ответил я.
— А какой лес?
— Сначала бор, потом гарь, потом болото, а потом…
— Постой, — перебил меня Юра. — Всё верно. А вот скажи, как найти болото.
— Идти прямо — и выйдешь на болото, — ответил я.
— Еще неизвестно, — усомнился Юра. — Можешь и не выйти. Пойдешь, закружишься в лесу и болото не найдёшь. А с компасом — раз и готово, тут уж никуда не свернёшь.
— А зачем компас? Болото там, за гарью, чего проще, пошёл и прямо туда, — сказал Миша Масленников, высокий, угрюмый парень, мечтавшим стать геологом.
— Это верно, — согласился Юра, — но всё же с компасом лучше. Наверняка придёшь туда, куда захочешь. Факт!
Несколько дней мы не расставались с компасом. Даже купаться на реку ходили по стрелке.
В воскресенье пошли мы в лес.
Вышли из деревни рано утром. Я взял удочки, чтобы на лесном озере поудить окуней. Митя и удочки взял и жерлицы на щуку, а Миша — корзину. Уж очень он большой любитель грибы собирать! Ну, а Юра, как обладатель компаса, взял компас и банку стеклянную для мёда. Он обещал нам диких пчёл в дупле разыскать.
Когда подошли к лесу, то решили идти на озеро половить там рыбу, пособирать грибов и идти с озера домой.
Мы с Митей бывали ни озере, хорошо знали тропу к нему и потому предложили идти по тропе. Юра и Миша не хотели даже слушать нас.
— Мы по тропе не пойдём, — заявили они. — Мы по компасу будем идти — и быстрее и не заблудимся.
Мы с Митей настаивали идти тропой. Тогда Юра предложил:
— А вы идите к озеру своим путём, своей тропинкой, а мы пойдём с компасом, по стрелке, а потом и увидим, кто раньше придёт на озеро и придёт ли вообще.
— Ладно, — согласились мы, — так и сделаем.
Когда мы уходили, то видели, как Юра и Миша склонились над компасом и что-то обсуждали.
Дороги через гарь не было. Под ногами тропинка еле заметная, и идти по ней надо осторожно — чуть отвлёкся и потерял её.
Лесной пожар, когда-то бушевавший в этом лесу, был не только верховым пожаром, но и низовым. Горела земля — мох, торф, и деревья не только вспыхивали огненными факелами, но и падали, так как корни их перегорали в раскаленном пепле метровой толщины. Деревья лежали крест-накрест с вывороченными корнями. Вся гарь поросла иван-чаем, малинником…
Еле заметная тропка виляла, обходя корневища, широкие, как щиты. Упиралась в поваленные деревья, и если не было обхода, то невидимо перекидывалась через них и опять терялась в лесном буреломе.
Митя идёт впереди. За ним иду я и смотрю по сторонам.
Вот высокий, как телеграфный столб, пень какого-то толстого дерева с круглыми в нём дырками.
Я видел это сломанное сухое дерево раньше, когда мы впервые шли с Митей на озеро.
Из одной дырки этого высоченного пня выглядывал пёстрый дятел и резко выкрикивал. Мы остановились и стали смотреть.
— Там у него гнездо, наверно, — сказал Митя.
— Вот бы посмотреть, — и я стал присматриваться, как бы влезть на пень.
— И не думай, — возразил Митя. — Не залезть, да и дырка маленькая, как в скворешне…
Долго мы стояли и любовались на красивую птицу, которая тревожилась, разглядывая нас.
Гарь незаметно понизилась и перешла в низину, на которой вместо тропинки была узкая полоска чёрной жижи, засасывающей ноги.
С большим трудом мы пробрались через неё и вышли на болото.
Мшистое, с редкими низкими соснами и уродливыми берёзками, болото лежало перед нами без конца и края.
Когда мы ступили на мягкую мшистую тропинку, Митя сказал: — Теперь не заблудимся!
Откуда-то налетел ветер, и яркое солнце беспрерывно закрывали низкие, быстро бегущие облака.
— Дождь собирается, — и Митя стал всматриваться в серое низкое небо, накрывшее болото как бы плотным серым одеялом.
— В шалаше отсидимся, — говорю я, и мы ускоряем шаги.
Вот и озеро. Тёмное, оно гнало низкую волну к берегу, куда мы подошли, и волна нескончаемо булькала, ударяясь в плотные торфянистые берега.
Листья кувшинок при сильных порывах ветра поднимались ребром и казались стаями плавающих уток.
Разыскали шалаш. Низкий, односкатный, он был плохо заметен в прибрежных зарослях крушины, черёмухи, рябины и других деревьев, растущих у воды.
Только подошли к нему, как по листьям деревьев зашлёпали крупные капли дождя.
Хорошо сидеть в укрытии, пахнущем зеленью! Монотонно шумит дождь, и кажется, что нет ничего больше на свете, кроме этого шума, который нет-нет да и усилится, когда порыв ветра стряхнёт с деревьев пригоршни капель.

Дождь не переставал. Крыша шалаша стала протекать, и холодные капли падали за ворот. — Где-то наши? — проговорил Митя. — Наверно, в том конце озера, — отвечаю я и прислушиваюсь. — Едва ли, — отозвался Митя, — трудно им найти озеро по компасу. Как ходить по лесу с компасом, я и сейчас не знаю… — Может быть, они случайно выйдут на озеро, ведь оно большое, — говорю я. Дождь лил всё сильнее и сильнее. В шалаше тесно и неудобно. Ноги затекли, под нами появилась вода. Митя выглянул из шалаша, повертел головой и сказал: — Вроде светлеет на небе! И правда. Дождь стал редким, мелким, а потом затих совершенно. Мы вышли из шалаша. Выглянуло солнце из-под края толстой тёмно-серой тучи и теплом и светом залило всё вокруг. Какая красота! Капли дождя, чистые, словно стекляшки, висят на ветвях деревьев, на траве. Озеро, словно вымытое, стало тихое, и похоже оно было на стеклянную чёрную пластинку с зелёным рисунком на краю. Вот на листе кувшинки сидит синяя стрекоза. Она припала к листу и чуть пошевеливает длинным тонким брюшком. Крылышки её неподвижны. Она сушит их. Ветра нет. Мы стали громко кричать и звать своих товарищей. Никто не отзывался. Торопливо пошли в другой конец озера и кричали там до хрипоты во все стороны. Юры и Миши не было и в том конце озера. Что делать? Вернулись к шалашу, размотали удочки и приступили к уженью. Хотя клёв был хороший, но мы всё время думали о товарищах, и нас не радовали и крупные окуни и зубастая щука, попавшая на жерлицу. Когда солнце стало спускаться к горизонту, мы пошли домой. Наших товарищей дома не было. Пришли они в деревню ночью — усталые и злые. Компас увёл их неизвестно куда. Они не знали, как им пользоваться, часто меняли направление, а потом, когда поняли, что заблудились, совсем не смотрели на стрелку, а шли куда вздумается. Они ходили по лесу и кричали до тех пор, пока их крики не услышал лесной объездчик, который и вывел их из леса.

В медвежьих владениях

Я возвращался с охоты. До моего дома оставалось три километра.
Надо было пройти одно открытое поле, пройти деревню Пески — небольшую, в несколько десятков домов с одной улицей, спуститься дорогой к речке, а тут уже и моя деревня — Лесные Поляны.
В деревне Пески ко мне подошёл мальчик. В руках у него была газета, свёрнутая в трубку.
— Вы, говорят, книги пишете? — несмело спросил он и, не дав мне ответить, передал газетную трубку: — Вот посмотрите, тут мои записки о нашем походе в лес.
Я хотел спросить мальчика, чей он, но не успел. Он убежал.
Вот они, записки о походе. На обложке ученической тетради старательно выведено крупными буквами «ПОХОД В ДАЛЬНИЙ ЛЕС» и ниже помельче, скорописью, — «М. Завьялов».
На второй странице заголовок — «Наши сборы». После слова «сборы» поставлены три восклицательных знака, а дальше разборчивым почерком следуют и сами записки.
«…Скорее бы проходила зима. Уж так она надоела — снег сыплет и сыплет и днём и ночью.
Сегодня опять утром расчищал дорогу. Так замело, что из дома не выйдешь. Надолго ли?
И всё равно зиме не засыпать нас снегом. Ведь придёт и весна!
Давно не записывал, а сегодня надо записать.
Под окном, на большой берёзе, укрепил скворешни. Сам сделал их.
Раскачивает ветер голые берёзы, и качаются вместе с ними беленькие домики и ждут гостей.
Сергей Туманов вчера в школе говорил, что у них в деревне видели скворцов и даже будто бы один скворец подлетел к его скворешне. А может быть, Сергей соврал?
Ой, что это? Кто-то у меня на берёзе просвистел.
Сергей не соврал. Вот только сейчас у моих скворешен сидели скворцы. Посидели и улетели.
Может быть, скворешни им не понравились?
Напрасная тревога. Всё оказалось в порядке. Вот уже несколько дней у моих скворешен поют весенние голоса.
Вижу, как у скворца надувается горлышко и в нём перекатывается что-то. И это что-то рождает звук. Хорошо поют скворцы. Радуются, что долетели!
Сегодня в школе только и разговоры, что о скворцах. Все радуются прилёту вестников весны.
Больше всех выставил скворешен Витя Куракин — семь штук. Когда мы его спросили, почему не шесть и не восемь, то он ответил нам: — Потому, что у нас в семье семь человек.
Вообще-то неплохо, что у каждого домашнего своя скворешня, но вот у нас дома есть бабушка старая-старая, а ей для чего?
Ладно. На будущий год и я сделаю и выставлю четыре скворешни.
Последние дни занятий в школе. Домой из школы не бегаю, летаю — ниже четвёрки нет отметок. Даже бабушке похвастался — прокричал ей в ухо о своих отметках. Она погладила меня по голове и сказала: — Учись, внучек, учись!
Ура! Я перешёл в седьмой класс.
Сегодня все — и отец, и мать, и сестрёнка, и бабушка, хвалили меня и наказывали, чтобы я всегда учился хорошо.
И они правы! Учиться хорошо ли, плохо ли зависит от меня.
Я сказал им, чтоб они не сомневались во мне.
… У меня в избе сидят мои друзья — Коля Ермолов и Сергей Туманов.
Коля, толстый низенький паренёк, живёт напротив нашего дома. Его дом похож на наш, только у нас крыша из дранок, а у них — тесовая. Окна же одинаковые — с резными наличниками и выкрашены в один цвет — в красный.
Сергей из другой деревни. Он не похож ни на меня, ни на Колю. Он длинный. Особенно ноги. А как хорошо бегать Сергею!
Он у нас в школе лучший бегун. Ему наш учитель Павел Николаевич сказал однажды: — Не отставай ни в чём от своих ног. Из тебя может получиться и бегун отличный, и человек дельный. Природа тебя отличила от других.
Сергей сидит около стола, а ноги у него на половине избы, вытянуты на всю длину.
Разговор у нас секретный. Еще зимой мы уговорились совершить поход в дальний лес.
И вот сейчас окончательно договаривались побывать на самом дальнем лесном озере.
Сиенское озеро от нашей деревни километров за двадцать, и всё лес до самого озера.
Из соседней деревни, откуда Сергей Туманов, на озере часто бывал охотник Филипп Елесин.
Сергей ходил с ним на это озеро в прошлом году.
Когда мы спросили Сергея — знает ли он дорогу, то он нам ответил: — Тропу запомнил, на деревьях есть затёски, будем смотреть, авось не заблудимся.
Охотник Елесин лежит больной. Мы ходили к нему. Он посоветовал нам сходить на это озеро и на Тёплые ключи просил зайти, они там поблизости.
Через два дня мы выступили в поход.
Поход! Кого не волнует это слово!
Тут и смелость, и находчивость, и наблюдения, и душевная поэзия, а главное — вся природа, все её красоты и загадки перед тобой. Заманчиво, увлекательно!
Летний ведренный день. Шагаем неторопливо полями. По краям полевой дороги и справа и слева рожь.
Лёгкий ветерок выгибает ржаные просторы, и уходит к кромке леса широкая волна высокой ржи.
Проходим покосами. Море цветов. Колокольчики, и большие и маленькие, кланяются нам. Широкие соцветия тысячелистника и собачьего дягиля — по краям тропинки. А на самой тропинке широкие бархатные листья подорожника глушат шаги.
За покосами лес — тихий, задумчивый. С лесной, вытоптанной скотом дороги свернули на тропу. Тропа виляет то вправо, то влево. Идти жарко. Рюкзак оттягивает плечи, и спина становится мокрой от пота.
Прошли пять километров. Это сказал нам Сергей. Он идёт впереди. Высокий, на длинных ногах, он как будто не спешит, а приходится поторапливаться — иначе можно отстать.
Возле тропы стали попадаться грибы. Коля Ермолов на ходу крикнул:
— Во, грибов-то сколько, надо будет на обед набрать…
Сергей как бы наткнулся на препятствие. Остановился. Повернулся к нам.
— А спички взяли? — спросил он.
— Я не взял, — ответил я.
— И я не взял, — ответил Коля.
— Забыли, значит! Эх вы! — махнул Сергей рукой. — Спички не взяли! Как можно? — удивился он, снимая с плеч рюкзак.
— Придётся кому-то топать обратно, без спичек нельзя, — сказал он и стал рыться в своих карманах.
— Точно, спичек нет, — коротко заметил он и взглянул на меня.
— Тебе придётся, ты самый маленький и бегаешь здорово. Валяй, Миша, выручи! — сказал он мне с улыбкой.
Кому хочется бежать обратно? Слова же Сергея — „ты бегаешь здорово“ — задели меня. „Мигом слетаю“, — подумал я, и ни слова не сказав, сбросил с плеч рюкзак и рванулся за спичками.
— Здесь будем ждать, здесь! — неслось мне вдогонку.
Дорога знакомая, усталости пока никакой нет, и я пошёл легко, с „ветерком“.
Конечно, пять километров, как здорово ни бегай, не пробежать без передышки, ежели без тренировки человек, но всё же, где поровнее да поглаже дорога, я нажимал.
Обратно, со спичками, я не бежал. Шёл шагом. Бежать не мог. Устал. Одежда на мне — хоть выжми — сырая от пота.
Только прошёл покосы и стал входить в лес, смотрю — бежит мне навстречу Коля Ермолов.
— Ты куда? — спрашиваю его.
— Компас забыли. А без компаса в лесу нельзя, — задыхаясь ответил он. — Сергей послал меня — беги, говорит, скорее, может быть Мишу догонишь, передай, чтобы и компас прихватил, он у нас в шкафу остался. А ты, Миша, здорово бегаешь, — сказал Коля и был таков.
Вот и та полянка, откуда послали меня. Сергей сидит на пне у тропинки и ждёт меня и Колю. Передал я ему спички и сел отдыхать. Потом мы решили полежать и уснули оба. Я первый услышал шаги и открыл глаза. Коля вернулся с компасом. Оказалось, что он бегает быстрее меня. А на вид увалень. Вот и пойми!
Опять пошли. Когда сильно устали и проголодались, то решили остановиться пообедать.
Расположились на сухой полянке, недалеко от тропы. Вещи сложили к большой разлапистой ёлке. Я свой рюкзак повесил повыше, на сучок. На видное место.
После небольшого спора, кому чистить картошку, собирать дрова и варить обед, решили: готовить обед мне, а они уйдут грибы собирать, наберут грибов и будет у нас на обед грибной суп.
Сергей и Коля пошли в лес. Грибы искать для обеда. Я стал собирать дрова, достал из рюкзака картошку, пошёл к лесному ручью чистить её и котелок взял с собой.
Хорошо в лесу! Задумчивые деревья стоят неподвижно. Там, вверху, пробегает по верхушкам лёгкий ветерок. Листья осин беспорядочно качаются из стороны в сторону на своих длинных чутких черенках.
Близко, почти рядом, какая-то пичуга свистит и свистит с небольшими перерывами.
На поляне, где мы остановились, высокая лесная трава. Много цветов.
Вот белобрюхий шмель, обсыпанный жёлтой цветочной пыльцой, садится на цветок.
Клонится цветок под тяжестью любителя сладкого. Высосав из нежных цветочных колодцев сладкий сок, шмель отталкивается от цветка, гудит и садится на другой. Оставленный шмелём цветок резко выпрямляется и начинает кланяться солнцу, теплу и свету.
Вот и ручей. Высыпаю картошку около воды, снимаю сапоги и опускаю ноги в воду. Ручей ниже по течению булькает и поёт что-то…
Сижу и неторопливо чищу картошку. Вся? Уходить не хочется, а надо. Быть может, уже грибы принесли?
На поляне никого нет. Грибники не вернулись. Далеко было слышно их ауканье, а сейчас затихло. Где-то они?
Быстро насобирал дров. Всё подготовил. Кричу. Никто не отзывается. Ухожу искать товарищей.
Прекрасен летний лес. Иду зарослями папоротника. Проходя через низину, хватаю руками лапчатые перистые листья. Едкий, чуть неприятный запах спор папоротника резко ощутим.
За низиной ровное, сухое место. Кругом смешанный лес — много осинника.
Прямо передо мной, около берёзок, стоит, весь на виду, боровик. Красная шляпка заметна издали. Спешу к нему. Наклоняюсь, разбираю траву и срезаю ножом толстую ножку. Держу в руках ядрёный, влажный сверху, гриб. Налюбовавшись боровиком, всматриваюсь в гущу травы.
— О, да тут ещё есть грибы, и ещё! Много!
Вот один, вот ещё два. А там видна целая семья. Коричневыми фонариками выглядывают боровики из лесной травы и красуются друг перед другом. Я красивый! Нет, я красивый! У тебя ножка кривая и тонкая, а у меня во́ какая! И прямо на меня смотрит гриб с тёмно-дымчатой шляпкой. Бросаюсь к нему. Срезаю. Да это же белый!
Собираю грибы в кучу. Кажется, всё. Не видать больше. Укладываю грибы в фуражку. Полная. А остальные куда? За пазуху.
Вот и поляна. Торопливо разжигаю костёр. Едкий дым отгоняет комаров. Над ярким огнём висит ведро, в ведре варятся грибы, и белые и боровики.
Трудно, когда голоден, дожидаться обеда. Посыпаю солью два белых гриба и, воткнув в их корешки прутики, кладу грибы на горящие головни. Грибы шипят, парят, и около костра начинает вкусно пахнуть. Наверно, готовы. Берусь за прутики, подношу ко рту горячий „шашлык“ и начинаю пробовать. Как вкусно! Съел оба гриба и ещё приготовил два.
Ведро кипит, покачиваясь на тагане. Кладу в ведро картошку и соль.
Мой „шашлык“ готов. Обжигаясь, ем и причмокиваю от удовольствия.
Грибной суп уже готов. Отодвигаю таган в сторону. Пусть преет моя кулинария.
А как соль? Зачерпываю ложку, дую на горячее варево и пробую.
Замечательно! Какой вкусный суп! Гожусь в повара. Скорее бы приходили товарищи.
Кричу что есть силы. До меня доносится далёкий звук. Услышали. Кричу ещё, тороплю их.
На поляну выходит Сергей и Коля. В майках. Рубашки в руках. До отказа набитые грибами. Вываливают грибы в кучу, надевают рубашки, бегут к костру, крутятся в дыму и хохочут.

У Коли заплыл глаз. Спрашиваю и узнаю, что Колю жиганула оса, когда он хотел поближе рассмотреть висящий на ветке серенький шарик — осиное гнездо. У Сергея на ноге царапина, и к ней привязан носовым платком какой-то широкий лист. — Компресс поставил, — хохочет Сергей, смазывая царапину йодом. — У меня всё в порядке, — говорю я, указывая на котелок с супом. Вечереет. Садимся обедать. На поляне лёгким облачком висит дым от костра. Ночевали на этой поляне. Дежурить должны были поочерёдно, но к середине ночи на поляне царила лесная тишина. Костёр потух. Укрывшись куртками, мы уснули и проспали до рассвета. Первым пробудился Сергей. Встал, бесшумно разжёг костёр, подвесил над огнём чайник и запел. Слышу сквозь сон песню, поёт кто-то, а пробудиться не могу. Когда пение стало громким, я проснулся, проснулся и Коля. Молча лежим и слушаем. Оказывается, у Сергея есть ещё одна особенность — голос. Вот, поди же, узнай, на что способен человек! Ведь никогда ни я, ни Коля не слышали его пения. Грудной голос звучно наполнял лес. — Сергей! — крикнул Коля. — Ты мастер петь, вот не знал-то! Сергей оборвал песню и смущённо произнес: — Это я только здесь, в лесу. Не утерпел! Утро было хорошее — тихое, тёплое. Над нами светло-зелёное небо и на нём два облачка с золотистыми краями. Там, за лесом, взошло солнце, и оно освещает их, этих вольных странников, которые не спеша плывут над тихим, утренним лесом. Позавтракали, потушили костёр и пошли. Как и вчера, Сергей идёт впереди. У него компас. Он следит за затёсками на деревьях. Затёски сделаны на поворотах. Лесная тропа иногда круто поворачивает в какую-либо сторону. Не будь затёски — можно потерять тропу и заблудиться. — Вот эту затёску делали мы в прошлом году, — и Сергей указывает на беловатую, заплывшую серой отметину на дереве. Идём и любуемся лесом. Тропа неодинакова, то узкая и ясно видимая, то переходит в топь и теряется в мочажинах. Трудно переходить через трясину по двум жёрдочкам. Балансируешь руками и хватаешься за ближние ветви. Километров через пять сделали привал. Сняли рюкзаки, расправили усталые плечи и сели отдыхать на трухлявую валёжину. А в лесу по-прежнему тихо. Когда переходили черничник, то вспугнули выводок рябчиков. Ох, и напугались мы, когда внезапно и около нас с треском взлетели! Канюк с жалобным криком летает где-то над лесом, но мы его не видим. Скоро озеро. Давно уже идём по ржавой и топкой мочажине. Ноги по колено засасывает жёлтая пузырящаяся масса. Чавкаем сапогами, оставляя за собой грязно-ржавое месиво. Топь кончилась. Вышли мы на сухое моховое болото. Справа и слева по обе стороны тропинки кустики голубики. Много фиолетово-матовых ягод. На ходу лакомимся сладковато-пресными ягодами. Вместе с кустиками голубики заросли багульника. Он свешивается на тропинку, закрывает её. Дурманящий запах приятен. — У меня заболела голова, — сказал Коля, подкидывая повыше на спину тяжёлый рюкзак. — Это от багульника, — и Сергей, сломав ветку, поднёс к своему лицу. — Ишь, как он вкусно пахнет, а между прочим, от запаха может болеть голова. А у меня никогда не заболит, этот запах мне нравится, — и Сергей стал ещё глубже вдыхать запах смоляной ветки. Голубичник и багульник остались позади. Мы идём по ровному мшистому болоту с редкими низкими соснами. Всюду морошечник. Кое-где виднеются жёлтые переспелые ягоды. На маленьких моховых кочках и между ними насыпан белый, крупный горох. Это клюква. Стебельки, на которых держатся ягоды, тонкие, незаметные, и кажется, что ягоды кто-то рассыпал. Попробовали… Ягоды оказались крепкими и на вкус горько-кислыми. А вот поздней осенью они помякнут, потеряют горечь, а кислота останется. Показалось озеро. Увидели мы на этой болотной равнине чёрную воду. Подошли к воде и остановились. Так вот оно какое, Сиенское озеро! Мрачное, нелюдимое! Берега озера торфянистые. У самой воды по всему берегу тощие кустики ивы, багульника. В воде кувшинник. Крупные, как восковые, листья его неподвижно лежат на чёрной воде. Идём по берегу и замечаем, что берег качается — от береговой кромки идут волны. Значит, мы идём по моховому настилу, а под нами вода? Порядком струсили: а вдруг провалимся?.. — Ребята! — крикнул Сергей. — Вот „окно“. Видите чёрную дыру в земле, это полынья. Ну-ка притащите палку, померяем, глубоко ли здесь? Мы сбросили рюкзаки и, осторожно ступая, пошли к высокой засохшей ольхе. Кое-как сломали её и принесли к яме. Сергей подошёл насколько можно к „окну“ и опустил в него ольховую жердь. — Дна нет, — сказал он. — Вот ежели да в такую яму угодишь, считай пропал! Вот так болото! Мы смотрим на предательскую полынью и невольно отступаем назад. Шагаем по тропинке осторожно. Вдруг Сергей испуганно крикнул, провалившись по грудь между кочками. — В „окно“ провалился, не подходите близко! — заорал он. Мы стоим и не знаем, что делать, а Сергей всё глубже и глубже погружается в трясину. — Жердь, жердь давайте! — кричит он, хватаясь за кочки. Когда принесли жердь, то у нашего товарища виднелись между кочками только руки и голова.

— Больше не погружусь, — спокойно говорит он. — Под ногами твёрдое и холодное, наверно до мерзлоты достал. Хотя мы испугались, но при слове „мерзлота“ нам стало весело. Вот какие у Сергея длинные ноги — до вечной мерзлоты достали! С помощью жерди Сергей выбрался из трясины. — Вот, чёрт возьми, попал-то я как, — говорил он, дрожа от холода. — Ежели бы один, то пропал бы, засосало бы совсем… В том месте, где только что был завязший по шею Сергей, опять была обычная ржавая тропинка… Бедный Сергей! Он стоит и дрожит, а с него медленно стекает пахнущая гнилью коричневая жижа. Отходим от тропы и у двух сосёнок, где место покрепче и посуше, разжигаем костёр. — Больше никуда сегодня не пойдём, — говорит Сергей, снимая с себя мокрую, грязную одежду. Разожгли костёр. Жаркое пламя рванулось вверх, поднимая высоко белые обрывки перегоревшего мха.

Сергей сушит одежду. Выглянувшее из тучи солнце так припекло, что в костре не было нужды. — Пусть горит, — сказал Сергей, — с огоньком как-то веселее, да и обедать пора. Из чего обед будем варить? — спросил он. — Из рыбы, уху сварим, — загадочно произнёс Коля, доставая из рюкзака что-то завёрнутое в бумагу. — Лёски? — удивился Сергей. — Ты чего раньше-то молчал? Ведь тут рыбы полно озеро, — топтался он около Коли, рассматривая рыболовные лёски с крючками. — А вот червей-то здесь не найти, — помрачнел он. — Удить-то на что будем, а? — А это что? — и Коля, победоносно оглядев нас, вынул из кармана рюкзака мешочек с червями. Стали собираться удить. — Вы идите удить, — сказал нам Сергей, — а я досушусь и буду картошку чистить. Только, смотрите, в „окно“ не провалитесь, — заботливо предупреждал он, когда мы направились к воде. Расположились с Колей недалеко друг от друга. Закинута удочка. Поплавок из пера белым столбиком неподвижно стоит на чёрной воде озера. — Есть один! — кричит Коля и бежит ко мне. В руке у него небольшой чёрный окунёк. Я повернулся и стал рассматривать подводного жителя озера. — Клюет, гляди! — шепнул Коля, указывая на мой, уходящий в толщу воды, поплавок. Подсекаю. Тяжело ходит рыба в воде. Сырое, только что срубленное рябиновое удилище гнется больше, чем нужно. И вот к моим ногам вылетает окунь. Какой окунь! На полкило, не меньше! Коля ахает от удивления и убегает к своей удочке. С трудом достаю крючок из широкой пасти окуня, забрасываю удочку и несу ошалелую рыбу к костру. Сергей взял окуня и сказал: — Какой великан! Беги, лови ещё. Да скажи, чтобы и Коля нёс свой улов. Через полчаса уха будет готова. Окуни клевали хорошо. Только забросишь — и уже потянуло. Крупного окуня, но чуть меньше моего, поймал Коля. Остальной улов — это средней величины рыбины. А через полчаса, на сухом мягком мху, под горячим солнцем мы завтракали. Уха из окуней — чудо! После обеда пошли на Теплые ключи. По рассказу Филиппа Елесина, Теплые ключи на берегу речки, которая вытекает из озера. Стали искать лесную речушку. Да разве найдёшь её, затиненную и незаметную? Пошли низиной, заросшей осокой, ивняком, крушиной. Долго шли по какой-то глухой тропке. — Ребята, — испуганно зашептал Коля, — глядите сюда!

Мы наклонились и увидели на тропке глубокий след, похожий на след босого человека. — Медвежий след, — выдохнул Сергей. Мы со страхом рассматривали след зверя. — А зачем нам Теплые ключи? — прошептал я, всматриваясь в густой кустарник. — Не знаю! — протянул Сергей. — Это Филипп просил сходить, а мне что… — Нечего нам там делать, —решительно заявил Коля. — Да нам их и не найти, эвон трущоба-то какая! — и я ближе подошёл к Сергею. — Пошли на озеро, а то, чего доброго, заблудимся, — сказал Сергей и, не останавливаясь, пошёл в обратную сторону. С трудом вышли к озеру — и устали и еле разыскали его. Солнце клонилось к лесу — наступал вечер. Пришли к тому месту, где обедали, и нам стало весело, весело. К ужину пошли собирать ягоды. Ягод было много, много. Можно было набрать полное ведро черники и голубики, но в одном месте черничник был помят и изжеван. — Медведь лакомился ягодами, — решили мы и проворно убрались с ягодного места. Быть может — и не медведь? Нет, уж лучше подальше от такой встречи. Ночевали тут же, у озера. Всю ночь не спали, боялись. И как не бояться, ежели ночью в озере кто-то плескался? Может быть утки полоскались, может быть рыба играла, а может быть и медведь приходил водички попить и выкупаться? Молча сидели всю ночь у костра и ждали утра. Скоро ли? Стало светать. В предутреннем свете завиднелось озеро — тихое, тихое. Низкий туман волнами побежал по воде. Сразу же пошли удить. Быстро наловили окуней. Сергей сварил уху. Позавтракали и знакомой дорогой пошли домой из „медвежьих владений“».

Лесные Поляны

Деревню Лесные Поляны со всех сторон окружает лес.
Если посмотреть вокруг с высокого холма, на котором установлен тригонометрический знак, то Лесные Поляны — не что иное как бревенчатый плот, плот, плавающий в бескрайнем зелёном море.
Летом горизонт в голубоватой дымке, и не поймёшь, где лес, а где небо.
Осенью горизонт чистый, дали прозрачные, и сколько ни смотри, не увидишь конца леса.
А зимой, на широком белом экране темнеют леса большими и малыми островами.
Много снега покоится зимой на колючих лапах ельника и сосняка.
Идёшь по зимнему лесу, заденешь хвойный сук, а на тебя снег как рухнет, так и остановишься.
И закружится вокруг тебя снежная пыль, блестя на зимнем солнце разноцветными искорками.
Хорошо в Лесных Полянах в любое время года.
Из леса выбегают к деревне две реки — Кистига и Рубежнинца. Кистига шире и многоводнее, а потому и считается Рубежница притоком Кистиги.
Во всём остальном реки одинаковые.
В той и другой хрустальной чистоты вода. На обеих реках каменистые пороги, вода на которых шумит то сильно, то слабо, в зависимости от дождей. Даже если подойти к перекату в январе, в тридцатиградусный мороз, и прислушаться, то можно услышать позванивание певучей струны подо льдом.
И в Кистиге и в Рубежнице много рыбы.
Пудовые щуки с весны до поздней осени хозяйничают в омутах.
Окуни, налимы и язи доживают до старости и достигают баснословных размеров.
Хороши леса и реки у деревни Лесные Поляны.
И жители Лесных Полян под стать окружающей природе. Рослые, сильные и мужественные. Сила и мужество дружат с душевной добротой и человечностью.
Встретился Назар Ковчин, охотник из Лесных Полян с медведем. Встал медведь на задние лапы и смотрит на охотника.
«Что бы значило, — подумал Назар, доставая из-за кушака топор, — чего это он на меня обзарился?»
Оглянулся охотник на шорох и увидел медвежонка.
— Ишь ты, — улыбнулся силач, пряча топор за кушак. — За сына беспокоишься, а молчишь! Неровён час, покалечить мог бы, ну а раз с дитём, то живи!
Повернулся Назар к медведице спиной и пошёл как ни в чём не бывало своей дорогой.
А медведица так и осталась стоять как пень, недоумевая. Медвежонок тоже встал столбиком рядом и смотрел в сторону охотника.

Постояла медведица, постояла, опустилась, да как даст шлепка своему питомцу — не лезь, мол, когда тебя не спрашивают. И ещё случалось. Нашли мы в лесу гнездо тетёрки, собрали яйца в фуражку, да и пустились домой, что есть духу, похвастать. Увидели нашу находку взрослые да и напали на нас. «Вы что, сорванцы, сделали? Кто вас научил этому? А ну-ка марш в лес, отнесите яйца, где взяли!» Леснополянцы — народ гостеприимный. Всей деревней кормили одного горожанина-туриста, который в лесу повредил ногу и не мог двигаться. В Лесных Полянах, далеко на севере, и прошло моё детство. В Лесных Полянах я впервые стал узнавать жизнь.
На одной поляне, поросшей редкой лесной травой, мы встретились и долго смотрели друг на друга. С высоко поднятой головой стоял передо мной могучий лось, жадно втягивая воздух, стараясь понять — опасен я или нет?

Я сидел неподвижно, не спуская глаз с великана. Я видел, как легко вибрировали его ноздри и мелко дрожала шерсть… На широкой лопасти его рога ползала оса. Она бойко двигалась и, казалось, как будто что-то разыскивала. Любопытство сильнее страха. Лось опустил голову и вытянулся в мою сторону до того резко, что казалось, вот-вот упадёт. Тогда он бесшумно приподнял переднюю ногу и тихо поставил её ближе ко мне. Он потянулся ко мне, маленькому человечку, забравшемуся в лесные дали, и старался узнать, кто я. Или он уловил запах человека, или его удивили мои испуганные, широко раскрытые глаза, — не знаю. Лось тревожно и коротко фыркнул. Мгновенно поднял голову, подобно стальной пружине вздыбился и, сильно бросив себя в сторону, умчался. Всё это произошло так неожиданно, что я долго не мог сообразить, что со мной было. Лишь на моём лице, словно что-то вещественное, чувствовалось дыхание лесного великана.
* * *
Неведомая лесная тропа вывела меня на лесную поляну. Усталый и измученный, я сел на трухлявую валежину. Лес устал от жары и стоял разморённый — неподвижен и задумчив. Над головой, в густой ели, цокнуло, зашуршало — и на валежине очутилась белка. В красной шубке, с кисточками на кончиках ушей, большеглазая, она поднялась на задние лапки и уставилась на меня. Я вижу вздрагивающий хвостик, закинутый на спину. Вижу её неподвижные усики и всю мордочку, смешную и милую. Комары обнаглели. Они густо облепили моё лицо и шею. Как хотелось вскочить и резким движением отмахнуться от них. Когда комары залепили мои глаза, я не выдержал и махнул рукой. Белка вытянулась столбиком, тревожно цокнула и в два прыжка очутилась на ёлке. Еще качались ветви, по которым, как по ступенькам, уходила белка в вершину дерева, а я всё смотрел в её сторону и чувствовал на себе беличье любопытство, смешанное со страхом.* * *
Баня у каждого леснополянца своя. На берегу реки стоят бани в один ряд — низкие, с одним крошечным оконцем в одно стекло, и смотрятся в плёсо, заросшее в летнее время кувшинником. В каждой бане каменка. Каменки выложены из круглых диабазов. Синеватые тяжёлые камни хорошо нагреваются при топке и долго служат, не трескаясь и не рассыпаясь при обливании их водой для пара. К каменке примыкает поло́к, на котором леснополянцы упариваются до потери сознания. Раскаленная докрасна каменка и берёзовый веник — первая необходимость леснополянской бани. — Без пара да без веника — не мытьё, — говорят леснополянцы. Исхлестав себя веником в шестидесятиградусной жаре, леснополянец вылезает из бани и с разбега бросается в реку. Это летом. Зимой любители пара и веника выбегают из бани и плашмя падают в снег. Перевернувшись в снегу несколько раз с боку на бок, они с диким криком влетают в баню, бросаются на поло́к и с кряхтеньем опять начинают париться. …От жары на полке́ трещат волосы. Горячий воздух обжигающим комком врывается в лёгкие. Я кричу, плачу и прошу отца отпустить меня. Отец неумолим. Он крепко держит и хлещет меня веником сильно, горячо. Когда я слабну и мешком опускаюсь на горячие доски, отец подхватывает меня, берёт подмышку, открывает дверь, выносит на улицу и бросает в снег. Я моментально прихожу в себя, вскакиваю на ноги и с толстым слоем снега на голом теле бросаюсь в баню. От тающего на мне снега перехватывает дыхание, и я кричу во весь голос от страха, не зная, что со мной происходит. Это зимой. Летом после парки отец бросает меня в реку, и я, захлебываясь, как щенок, пускаю пузыри и карабкаюсь к берегу. Так жители Лесных Полян закаляют себя, и я, маленький леснополянец, вместе с ними готовил себя к жизни взрослых.* * *
Первая увидела нечистую силу Агафья Барабанова, маленькая бабёнка, та самая, которая родила восемнадцать детей, сохранив и бодрость и подвижность. — Гляди-ко-сь! — кричала она, указывая на дорогу. — Нечистая сила едет! Ратуйте, крещёные! — и она, размашисто перекрестившись, сложила руки на животе в ожидании неизбежного. От соседней деревни по направлению к нашей мелькала чёрная фигура, то показываясь, то скрываясь на дороге. Отчаянный крик вызвал в деревне тревогу, и все, кто был дома или работал неподалёку, сбежались к Агафье. — Вон она, вон она по ветру несётся и прямо к нам, — и короткая сухонькая ручка Агафьи висела в воздухе, как стрелка компаса. — И впрямь, что же это такое? — прикрывшись от солнца ладонью, спрашивал самого себя Семён Бушуев, стараясь рассмотреть непонятный предмет, двигающийся к нашей деревне. Все застыли в недоумении, не спуская глаз с дороги. Мы, ребятишки, рванулись к речному мосту, где должна обязательно проехать нечистая сила. И у моста мы её увидели. На большой скорости под гору ехал человек, сидя на колёсах. Колёса так быстро крутились, что в них стоял ослепительный блестящий круг. — Лисапед! — закричал Мишка Кокорин, ездивший в прошлом году к брату в город. — Лисапед едет! Вот здо́рово!
Велосипедист спустился на мост и, подъехав к нам, спрыгнул с колёс. — Проеду я в Сурковскую? — спросил он, вытирая носовым платком пыльное лицо. Мы стояли в отдалении, жались друг к другу и молчали. — Языки проглотили! — И велосипедист улыбнулся. Кое-кто из нас улыбнулся, но носом шмыгнули все, разом. — Здо́рово у вас получилось, — засмеялся незнакомец и покатил рядом с собой невиданную нами машину, держа её за рога. Навстречу ему неторопливо шла толпа леснополянцев. — Здравствуйте, мужички, — сказал велосипедист и поднял фуражку. — Здоро́во живёте! — оглядывая его с ног до головы, ответил Семён. — Это на чём едешь-то? — спросил он сурово. — Как на чём? — удивился незнакомец. — На велосипеде еду, разве не видите? — Лисапед это, мужики, машина такая о двух колёсах, — сказал Семён обступившей толпе. — Тётка Агафья! — закричал он. — Иди сюда, не бойся. Это лисапед, и на ём такой же человек, как и мы. А ты только людей зря всполошила, сумасшедшая! — В Сурковскую проеду? — спросил Семёна велосипедист. — Ведь как не проедешь, — задумчиво ответил Семён, не отрывая глаз от велосипеда. — Вон ведь он какой узенький, по любой тропке прокатится. Там у нас лавы через реку, — оживился Семён, — но они тебя не задержат. Не на лошади ты. Проедешь, понятно! Незнакомец попрощался, приподняв фуражку, поставил ногу на педаль, толкнулся другой ногой и, закинув себя на седло, поехал по деревне. Агафья крестилась безостановочно, а мы бежали во всю прыть, стараясь не отстать от велосипедиста.
* * *
Все бабушки рассказывают сказки. Моя бабушка сказок знала мало. Она рассказывала о том, что пережила и что видела. — О чём рассказать-то? — спрашивает она, когда я попрошу её. — Обо всём, только занятное, интересное… — Про медведя надо? — И она посмотрит на меня пристально. — Про медведя не хочу, — отказываюсь я. — Медведи живут в нашем лесу, неинтересно про медведей. — Тогда послушай об Иване-богатыре, сильном мужике…
Я затаивал дыхание и начинал слушать приглушённую речь бабушки. В избе тихо-тихо и так темно, что не видишь не только самого себя, но ничего: ни лежанки, на которой я сижу, ни стен, ни потолка, ни даже окон — вот какая темнота! Лишь в печной трубе прошуршит что-то, как-будто кто забежит в неё и остановится прислушиваясь. «… И пришел Иван-богатырь на Енисей-реку искать счастливую долю, — рассказывает бабушка, сидевшая со мной рядом на лежанке. — А Енисей, широкий как море, течёт неведомо куда, а кругом безлюдье. Лишь белые чайки летают да жалобно кричат, как будто плачут о ком-то… И вот стал Иван-богатырь выбирать место для своей семьи в диком крае, чтобы и самому пожить в довольстве и деток вырастить здоровыми и сильными. А кругом по обе стороны Енисея — леса да степи… „Богатые места“, — думает Иван-богатырь, оглядывая с бугра незнакомые дали. Долго ходил Иван-богатырь по енисейской земле. Траву мерял своим ростом — по грудь и выше колыхалась она без конца и края. Землю Иван-богатырь мял в ладонях, сжимал в комок и нюхал. Радовалась душа Ивана-богатыря, сильно колотилось сердце в груди, и туманила голову несказанной красой и довольством енисейская земля. „Осилю, — решил он. — Силы хватит!“» — Уж так он рад был, что и не знаю, — сказала бабушка и, как мне показалось, голос её дрогнул, и она замолчала. — А ты разве видела его? — спросил я, всматриваясь в невидимое в темноте её лицо. — Много я в жизни, внучек, людей видела и Ивана-богатыря знала, — и бабушка, тяжело вздохнув, прежним голосом продолжала рассказ. «Пришёл он к семье, а семья на берегу Енисея ждала его. Самый-то старший сынок его, десяти годков, вот всё равно, что ты, такой же белобрысый и веснушковатый, побежал навстречу Ивану-богатырю. — Ой, тять, — закричал он, — рыбы-то сколько в реке! Так и плещется, так и плещется, на уху бы надо наловить. — Погоди, сынок, — ответил ему Иван-богатырь. — Вот уладим всё, обзаведёмся хозяйством — и рыбы наловим, да ещё какой, во! — И Иван-богатырь развёл свои крепкие руки на весь размах. Улыбнулся сынок его и кивнул головой — ладно, мол, подождём пока. И жена у Ивана-богатыря под стать ему — рослая, здоровая, работящая. И принялись они вдвоём енисейскую-то землицу обуздывать. А сынок тот с двумя ещё меньшими братиками нянчиться стал: то ягод им принесёт, то рыбки малюсенькой наловит да в ведро с водой опустит для забавы… Работал Иван-богатырь с рассвета до ночи. Всё-то он делал своими сильными руками. И сила, внучек, у него была не человеческая. Возьмётся за вершину дерева, что мешает ему поле пахать, и с корнем его вырывает, так с пластом земли на корнях и относит в сторону. А то ежели камень под лопату попадёт, так он его берёт на лопату да и несёт в кучу, а в камне в том не меньше десяти пудиков. Вот какой был Иван-богатырь! А через годик на том берегу Енисея, где остановился Иван-богатырь с семьёй, остались две могилки. Умерли у Ивана-богатыря сыновья-малолетки, не вынесли они тяжёлой, суровой жизни одиночки-переселенца. Остался старший сынок, тот, что был похож на тебя, и уехал Иван-богатырь обратно на то место, откуда и тронулся на Енисей». — А где он сейчас, этот Иван-богатырь? — спросил я. — Здесь он, внучек, на погосте под деревянным крестом лежит, — и бабушка, часто задышав, легла на лежанку. — А тот, сын-то его старший, где он? — не унимался я. — А сын — это, внучек, отец твой, воевать против германца взяли его. И тут я понял, что Иван-богатырь — это мой дедушка, ездивший на переселение в Сибирь. Не осилил он в одиночку богатой енисейской земли. Я лежал около бабушки и молчал. Мне ясно представлялась большая река с крутыми берегами, и по берегу реки ходит Иван-богатырь с голыми руками и вытаскивает деревья с корнями. Я придвигался вплотную к бабушке и гладил сморщенную, сухую кожу её рук, тех рук, которые когда-то рыли лопатой далёкую енисейскую землю.
* * *
На нашем крыльце у порога прибита подкова. — Зачем она прибита? — спросил я свою бабушку. — Для счастья, внучек. Счастье подкова приносит, — ответила она, старательно подметая крыльцо. — А что это — счастье? Какое оно? — опять спросил я, щупая холодное, выбеленное ногами железо. — А счастье — это вся жизнь ежели хорошая, вот и счастье. А к нам оно еще не пришло, — вздохнула она. — Вот вырастешь и узнаешь, какое оно и часто ли оно попадается… — А у кого в нашей деревне счастье в доме? — не отступался я от бабушки. — Счастье у богатых, внучек. Жизнь у них хорошая, сытная, довольная, — и бабушка выпрямилась. — Вот у Громовых, верно, у тех счастье, у Елесиных хотя и не такое большое, но всё же счастье, не то, что у нас, бедняков. — А почему мы не богатые? — Отстань, ради бога, от меня! — загорячилась бабушка. — Почему да почему! Что я тебе, учёная, что ли? Вот вырастешь, да ежели придётся выучить тебя, тогда и мне скажешь… А сейчас шёл бы в огород да капусту поливал. Вон оно как с самого утра припекает. Горит ведь всё. Уходя в огород, я спросил у бабушки, а почему у Громовых нет подковы у дверей, а в доме счастье? Бабушка посмотрела на меня, покачала головой и проговорила: — Иди работай!* * *
Жаркое солнце высушило землю, выпило ручьи и пересушило реки. Леснополянские речонки Кистига и Рубежница обмелели так, что в любом месте можно переходить с одного берега на другой. Омута тоже обмелели и не стали такими страшными, какими были до засухи. Не стало в них водоворотов, и в середине дня можно было увидеть дно омутов с сонной рыбой, лениво пережидающей полдневный зной. Поля желтели по-осеннему. Низкие хлеба страдали от жажды, не наливая зерно. Даже трава выгорела, и не было желания посидеть или полежать на жёстких колючих лужайках. Леснополянцы день и ночь молили бога: — Пошли, господь, дождичка, дождичка пошли, горит хлебец-то, как жить будем? Но бог не внимал просьбам леснополянцев. С утра до ночи раскалённое багровое солнце жгло всё подвластное ему. Случалось — собиралась туча, разрастаясь в ширину, темнела, и казалось, вот-вот подует свежий ветерок, огненный зигзаг судорожно мелькнёт в вышине, покатится по небу глухой гром и зашлёпают на горячую иссушенную землю крупные капли долгожданного дождя. Получалось необыкновенное. Тёмная туча переставала увеличиваться, она худела — делалась тонкой, расплывчатой, и, вместо дождевых полос, с неба яркими жгучими снопами, падали лучи солнца на притихшую от жары округу. Каждый день ходили леснополянцы в поля, на покосы и видели, как медленно умирали хлеба, желтели и выгорали травы. Бессилие леснополянцев переходило в злобу, злоба сменялась покорностью. На бога не роптали, хотя он, вездесущий и всемогущий, видел страдания леснополянцев. — Велик наш грех против господа бога. Прогневили его, плохо молимся, и за это он наказывает нас, — раздавались голоса, призывающие леснополянцев к покорности судьбе. Решили отслужить молебен в поле, окропить умирающие хлеба святой водой и всем миром попросить у бога дождя — слезами и верой. Движется по полям толпа леснополянских жителей с обнажёнными головами. Седой священник, облачённый в ризу, поёт священные псалмы, ему подпевает высокий, худой дьячок в чёрном подряснике. Леснополянцы громко плачут, широко крестятся и утирают рукавами слёзы, моля бога о скором дожде. А жаркое солнце немилосердно жжёт несчастных, и на небе нет ни одного облачка.* * *
Незаметно расту. Сегодня первый раз обул отцовские сапоги, навернув на ноги по две портянки. — Вот, — сказала мать, — скоро сапоги совсем впору будут, теперь ум надо копить. Я притопнул тяжёлым сапогом по полу и шумно вздохнул. — Куда собираешься? — спросила она, втайне любуясь мной. — На Фёдорово болото, клюквы надо принести бабушке, — важно ответил я, подпоясываясь кушаком. — Сам гляди, только ведь это не близко, да и зверей в лесу много, — говорит мать, освобождая для меня корзину. В отцовских сапогах хоть на край света. Иду по лесной дороге и любуюсь на свои следы. Кто подумает, что прошёл не взрослый? А вот и следы медведя. В его ступню вмещаются два моих следа. Сравниваю, смотрю по сторонам — не встретиться бы с мишкой. След зверя встречный. От этого немного лучше, но на душе тоскливо и поговорить не с кем. Лес шумит, шумит, и ему всё равно — есть я или нет меня. И всё равно я любуюсь им — и большим и могучим. Сажусь отдыхать на поросшую зелёным мхом трухлявую валежину. Корзину ставлю рядом, топор втыкаю в дерево. Рядом закричала желна. Я вздрогнул и взял топор в руки. Кричит желна, значит видит кого-то. Меня ли? Встаю с валежины и всматриваюсь в густоту леса. Желна с криком полетела дальше. Значит, меня учуяла. Хотя ноги и гудят от тяжёлых отцовских сапог, но надо спешить. До болота еще далеко, а осенний день короткий. Углубляюсь в лес дальше и дальше. На лесной тропе остаются следы взрослого человека.* * *
Шайтан — наша собака. Уходя на войну, отец сказал мне: — Береги собаку, из беды выручит всё равно, что человек. … Шомпольное ружьё оттягивает плечо. За кушаком топор, на руке корзина. Когда уходил в лес, мать наказывала: — Брусники набери! Умный пёс бежит впереди. Не остаётся ни одного куста, ни одной лесной поляночки, не обследованной собакой. Когда Шайтан уходит от меня надолго — начинаю свистеть. После свиста в стороне от тропы слышится треск, частое-частое дыхание, и ко мне вылетает мой спутник. Не успею погладить, как он опять уносится и я остаюсь один. Где-то далеко слышится взлаивание, до меня доносится лай, ровный, спокойный. «На зверя лает», — думаю я, сворачиваю с тропы и напрямую, напролом спешу к собаке. Вижу, — под высокой елью сидит Шайтан и, подняв морду вверх, лает. Увидев меня, он учащает лай и одним глазом косит на меня. «Тут, мол, гляди настояще, я-то её вижу», — как бы говорит он и продолжает подавать голос. Смотрю в ёлку. Ничего не замечаю в густоте хвои. Обхожу дерево кругом и ничего на нём не вижу. Да где же она? Достаю из-за кушака топор и обухом, что есть силы, ударяю по шершавому стволу ели. Одновременно с моим ударом Шайтан взвизгивает, перебегает на другую сторону, а потом несётся от ёлки к ёлке, преследуя уходящую ве́рхом белку. И вот я увидел её. Она перелетает с дерева на дерево, серой лентой ввинчивается в вершины, торопливо спускается вниз и, не задерживаясь на качающихся ветках, перемахивает дальше. Несётся Шайтан, за Шайтаном бегу я, и оба мы смотрим вверх, запинаясь за валежины. Вдруг Шайтан задерживается и лает в небольшую редкую ель. Подхожу сзади собаки и — вот она, пушистая, вытянулась вдоль сука, свесив вниз головку и смотрит на собаку. Бросаю на землю топор, схватываю с плеча ружьё и целюсь в голубоватое возвышение на сучке.
Резкий толчок в плечо. В уши ударяет сильный звук, и с ветки падает белка. — Отдай! — кричу я, подбегая к Шайтану. Умная собака подаёт мой трофей. Сую за кушак тёпленького гибкого зверька и шагаю дальше. Шайтан опять умчался куда-то… Вот и брусничник. На нём так много ягод, что я стал горстями бросать их в корзину. «Успеть бы до ночи выйти из леса», — думаю я, торопливо собирая ягоды. А чего не успеть? Прошло полчаса, а у меня уже полная корзина крупных тёмно-бордовых ягод. Еще вечерние сумерки не сгустили темноту, как я уже шагал к дому. Шайтан опять впереди. Когда я переходил буреломную низину, то Шайтан выбежал ко мне и, глядя в сторону, зарычал. Потом взвизгнул и бросился с лаем с тропы. Я шагнул за ним — и весь похолодел. Огромный медведь стоял на задних лапах, замахиваясь на Шайтана. Я что-то крикнул, выскочил на тропу и торопливо выстрелил в воздух. Шайтан залаял ещё азартнее. Я стал звать его, убегая к дому, поминутно оглядываясь. Корзина оттягивает руку, топор за кушаком болтается, и хочется его выбросить. Я не останавливаюсь. Шайтан где-то сзади один задерживает зверя.
* * *
Сегодня у нас в доме переполох — я убил лису. Когда я переступил порог избы с лисой, закинутой за спину, то братишка и сестрёнка онемели и уставились на меня немигающими глазами. Мять, выглянувшая из чулана, ойкнула и с волнением спросила: — Неужто сам? А я стою и не знаю, что делать. Как вести-то себя? Кричать от радости или степенно напускным басом промолвить: «Вот подвернулась одна», и бросить лису на пол.
Дрожащими руками держу матёрого лисовина длиной побольше меня и стою. — Клади на лавку, — засуетилась мать, снимая с меня шапку. Я положил лису и стал снимать полушубок. Брат и сестра подошли к зверю и несмело стали дотрагиваться до пышного длинного хвоста. Потом, как по команде, вскочили, бросились на улицу, и в зимнем морозном воздухе два ребяческих голоса кричали на всю деревню: — У нас Васька лису убил!

Пришел сосед, посмотрел мой трофей и сказал: — Тебе надо ружьё хорошее, настоящее. А лиса первый сорт. Молодец Васюк! И, лукаво улыбаясь, сказал матери: — Ты, соседка, невесту держи на примете, сына-то женить пора!
* * *
Капкан держал зверя. Переднюю лапу крепко сдавили железные скобы. Заслышав мои шаги, волк припал к земле, прижал уши и, не мигая красными от злобы и боли глазами, уставился в сторону близкого шороха. Когда в ельнике мелькнула моя фигура, волк поднялся и ожесточённо стал грызть железо, стараясь освободиться. Когда я подошёл близко — зверя в капкане не было. Уходя на махах, волк оставлял на покрытой снегом земле капли крови. В перевёрнутом капкане осталась замёрзшая лапа зверя с широко растопыренными пальцами. Весь день я преследовал волка по следу и настиг его вечером. Зверь или устал, или ему надоело мое преследование, — не знаю, — но в десяти метрах от себя я увидел его, затаившегося в низком подсаде на краю болота. Глаза его следили за мной, в ощеренной окровавленной пасти хорошо были видны желтые клыки, заходящие друг за друга. В углах рта белела пена. Плотно прижатые уши, вздыбленная шерсть на загривке — признак того, что волк решил вступить в поединок со мной.
Кто раньше? Трясущимися от страха и волнения руками вскидываю ружьё и стреляю. Зверь подпрыгивает, бросается в сторону и, ломая кусты, уходит от меня. Я смотрю в сторону уходящего волка и терпеливо заряжаю ружьё.
* * *
Вечером пришла мать, расстроенная. Она прошла к столу, села на лавку и задумалась, подперев голову руками. — Ты чего, мама? — спросил я, затаив дыхание. — Дров нет, завтра топить нечем, — ответила она, не взглянув на меня. — Я привезу дров, — проговорил я, а сам напугался своих слов и своего голоса. — А ведь и вправду, — оживилась мать, — вон ведь какой ты, до моего плеча дорос, — и она встала со мной рядом. — Ты знаешь, сынок, — она положила руку на мою голову: — я сегодня всех обошла, никто не хочет помочь, все отказываются. У самих, мол, дел много… Вот беда наша! — Дрова, ты знаешь, где, и дорогу не забыл, наверно, — найдешь? — говорила она, разжигая самовар. Плохо я спал в ту ночь. Всё представлял себе — как буду ехать один, справлюсь ли с лошадью, осилю ли воз, не напали бы волки… Пробудился рано, не спалось. — Ты чего рано как поднялся? — спросила меня мать, слезая с печки. — В лес-то ведь надо ехать? — спросил я в надежде услышать от матери: — Какой там лес, сиди лучше дома!.. Но я этого от неё не услышал. Она обулась и, выходя из избы, сказала: — Сенца Воронку подкину, да и тебя накормить надо. Из открытой двери в избу тугим толчком хлынул холод, резко обжигая мои босые ноги. Воронко запряжён. Он стоит, опустив голову, и не то дремлет, не то вспоминает ту пору, когда вольно ходил по лесу, срывая любимые, вкусные травинки. A сейчас сено и сено, да лютые морозы, от которых щёткой поднимается шерсть, да морозный пар узкими струями вылетает из заиндевелых ноздрей. — Много-то не клади, — наказывает мать, — да в ухабах-то поглядывай, а то опрокинет воз, что делать-то будешь? Я усаживаюсь в дровни на охапку сена, как обычно взрослые леснополянцы ездят зимой в лес. Мать подаёт мне вожжи и говорит: — Ну с богом, сынок, поезжай, — голос её дрожит, и она чего-то смахнула со своего лица. Умная лошадь трусит по наезженной дороге. Под полозьями скрипит морозный снег, вылетают из-под ног Воронка морозные ледяшки: то пронесутся они мимо, то ударят меня в грудь, в ноги.
Дорога вошла в лес. Справа и слева от меня — сказочный дворец. На лапах ельника снег. Так причудливы снежные наросты на деревьях, что диву даёшься! Вот пень. На нём вырос огромный гриб-дождевик, какие бывают летом на луговых полянках. Толстая сужающаяся книзу ножка, а выше на ней шар, похожий на футбольный мяч, только гораздо больше. А вон ещё такой же снежный гриб, и ещё, и ещё. Эх, если бы да летом были такие красивые пни! Въезжаю под снежную арку. Снег пригнул рябину к земле, засыпал вершину, и образовалась огромная дуга с песцовым горжетом наверху. Проезжая, не вытерпел: встал на дровнях во весь рост и ударил топором по согнутому дереву. Рухнул снег на меня, на дровни, и закружились в морозном воздухе бесчисленные блёстки, оседая на дорогу. А на снегу всюду следы. Вот от одного пня до другого протянута по снегу мелкая ажурная строчка, да такая красивая и точная, что глаз не оторвёшь. Это мышка вышла ночью из тёплого подснежного жилья, понюхала морозный воздух и не юркнула обратно, а невидимо перебирая ножками, прострочила нежную строчку до другого пня и, пробуравив с хода рыхлый снег, ушла в него. А это вот заяц неторопливо, с остановками, прислушиваясь к ночному лесу, проковылял по лесной поляне, легко отталкиваясь широкими лапами от рыхлого, по пояс человеку, снега. А это что? Около кустов на лесных полянах, ровно, с точными промежутками друг от друга, натыканы по снегу ямки, как будто зубчатое колесо прокачено от куста к кусту. Это лиса принюхивалась и прислушивалась, обходя многокилометровые лесные владения в поисках добычи. Когда я въехал в березник, то увидел на небольшой поляне снежные норы с бугорками и с разлётом снега по краям. Остановил Воронка, слез с дровней и, проваливаясь по колено в глубоком снегу, заглянул в одну норку. Да это же подснежное глубокое убежище, уходящее в сторону! На дне убежища видны перья и много, целая горсточка, мёрзлых желтоватых шишечек, похожих на весенние серёжки берёзы. Это зимние квартиры тетеревов, в них они проводят в глубоком сне длинные зимние ночи. А вот и мой поворот. Никто по нему не проходил, не проезжал. На дороге глубокий снег. Лишь следы зверей исписали её во всех направлениях. Снег рыхлый, и Воронко тащит дровни, не останавливаясь. Я стою на коленях и держу в руках туго натянутые вожжи, готовый в любую минуту повернуть, куда нужно. Вот Воронко споткнулся, чуть остановился и с трудом вытащил ноги. На снегу осталась грязь, смешанная со снегом. Значит, не везде под снегом замерзло! Вот здорово! Костёр дров, к которому я подъехал, был похож на широкий белый сугроб, наметенный под деревьями. Как хорошо сделала мать, положив мне на дрова лопату! Воронко ест сено, на котором я сидел, а я разгребаю снег. Неужели холодно? Я работаю без рукавиц, полушубок лежит на снегу, покрываясь инеем, а мне жарко. Из-под снега показываются оледеневшие толстые кряжи. Стучу по ним топором и с трудом наваливаю их на дровни. Сколько положить-то — не знаю. Наверно, хватит? — Хватит? — спрашиваю Воронка, который нет-нет да и покосится на меня умными глазами, как бы говоря: — клади, клади, но знай, что до хорошей дороги не близко, вывезем ли? Тяжело идут дровни с дровами. Воронко часто останавливается.
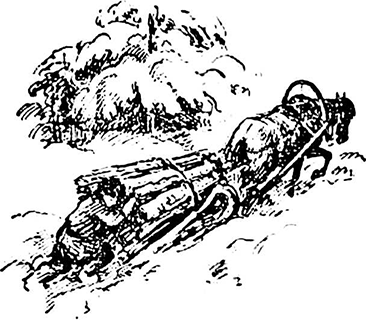
Я кричу, помогаю ему, толкая воз сзади. Когда Воронко уходит вперёд, а я отстаю, то начинаю истошно кричать: — Тпру, стой, тпру! Воронко останавливается. Я догоняю его и, отдышавшись, глажу по холке и понукаю. Рывок, бег за возом, отставание, мой крик и опять остановка. Вот и конец нашим мучениям. Мы на дороге. Глажу Воронка по горячей мокрой шее и что-то говорю ему. Усталый, разгорячённый, сажусь на дровни сверху, и так мне хорошо, так я счастлив, что начинаю петь, и радость распирает мне грудь. А Воронко неторопливо шагает по дороге, изредка всхрапывая.
* * *
Заблудились. Куда идти — не знаем. Мой товарищ — леснополянский охотник Никита Зубов, присел на поваленное бурей дерево и проговорил: — Ничего не получается, водит нас! Я сел рядом с ним. Хотя сумерок ещё нет, но в лесу как-то всё притихло и стали появляться между деревьями неясные широкие тени. Сидит мой спутник и неторопливо курит. Я сижу и думаю: «Где же всё-таки мы?». — Пошли! — коротко сказал Никита и зашагал, обходя буреломы и завалы. Я иду сзади еле-еле. Начинаю отставать и, чтобы напомнить о себе, сильно кашляю. Обернулся Никита в мою сторону и остановился. — Заморился? — спросил он. — А ведь я место признал. Вывел он нас к избушке. Вот она, тропа-то. Недалечко осталось. Потерпи! Хотелось спросить, — кто же вывел-то нас, но боязнь задержаться заставила меня умолчать об этом. — Вот и изба, будь она неладна, — мрачно сказал Никита, указывая на односкатную крышу, видную в высоком малиннике.
Перед нами лесная избушка. Дверь закрыта и подперта колом, на крыше толстый слой рыжей хвои и прошлогодних листьев. Никита открыл дверь и, держа ружьё стволами вперёд, переступил порог. Пахнуло дымом и ещё чем-то сырым, лежалым. Вечерние сумерки прятались по углам и мешали видеть внутренность избы. Зажжённая спичка осветила низкие нары, каменку, полку над дверью и маленькое, в одно стекло, оконце в стене. — Вот и ночлег, — оглянулся на меня Никита. — Будь как дома, — стараясь придать голосу живость, говорил он, ставя ружьё в угол. Через полчаса в каменке ярко горел огонь, и мы в свете его ужинали. Погода портилась. Поднялся сильный ветер, и лес зашумел глухо и неприветливо. После ужина Никита закрыл дверь и в скобу вставил палку, укрепив её за косяк. Лес шумел, порывы ветра врывались в открытое дымовое окно, и едкий жаркий дым резал глаза. — Буря собирается. Здесь завсегда так, — тихо сказал Никита, прислушиваясь к шуму леса. Клонило ко сну. Я лёг на нары и, укрывшись пиджаком, уснул. Сколько спал — не знаю, но пробудился от настойчивого голоса моего товарища. — Вставай! — шептал он. — Неладно ведь! Я привстал на нарах и не мог ничего понять. — Чуешь? — спросил меня Никита. Я гляжу на него, сидящего в отблесках слабого огня каменки, и вижу бледное испуганное лицо и широко раскрытые безумные глаза. — Чуешь? Ходит около избы, всю ночь ходит, спать не даёт, — шепчет он, указывая на стену. Я прислушался. Действительно, за стеной слышался какой-то шорох. Он то затихал, то усиливался и передвигался от одной стены к другой. — Кто это? — спросил я и почувствовал, как у меня перехватило дыхание от страха. — Не знаю, — шепчет он. — Всю ночь вот так, даже дверь дёргало. Я тихо слез с нар и сел рядом с Никитой. А лес шумел, и временами о крышу постукивали редкие капли дождя. — Нехорошее место, — шепчет Никита. — Из-за этого и заброшена эта изба. Боязно в ней. Сидим, подбрасываем в каменку дрова и прислушиваемся к шороху за стеной избушки. Спать уже не хотелось. Скорее бы утро! Скорее бы избавиться от этого гнетущего страха! И вот в оконце начинает появляться голубоватый свет. Значит, утро! Наконец-то! Рассвело. Я подошёл к оконцу, прильнул к стеклу и увидел за окном заросли малины. А за стеной шуршало и шуршало, как и ночью. Никита открыл дверь и с ружьём наизготовку шагнул через порог. Я за ним. Около избы никого не было. Порывы ветра набегали на малинник, и его длинные ветви царапали стену.
* * *
Я ищу корову, нашу единственную Чернуху с обломанным рогом. Не пришла вечером из леса. Всё стадо неторопливо, с остановками вошло в деревню и стало расходиться по своим дворам с радостным сытым мычаньем. Только к нашему двору не свернула корова, и в моей руке так и остался густо посолённый кусок хлеба, приготовленный для Чернухи. Беспокойство наше усилилось, когда наступила ночь. Всей семьёй выходили за деревню слушать — не раздастся ли где знакомое мычанье. Я стоял около матери, пугаясь темноты, и с ужасом думал: где-то наша Чернуха, как-то она одна проведёт в лесу такую длинную, тёмную осеннюю ночь. Спать легли поздно. Всё ждали, ждали… Когда пропели полночные петухи, мать сказала: — Чернуха осталась в лесу. Завтра чуть свет иди искать. Может быть, бог и спасёт её… Бескрайни леса, окружающие Лесные Поляны. Иди день, иди два дня, иди неделю — и всё лес, и лес. И чем дальше, тем он угрюмее и нелюдимее. Вот я и хожу с самого утра по лесным дорогам и тропинкам и слушаю — не звякнет ли где звоночек, что надет на шею Чернухи. Послушаю, послушаю да и начинаю звать Чернуху во весь свой детский голос. Перестану кричать и долго слушаю отголосок моего крика, который певуче затихает где-то в лесной дали… Коровы нет. Жалость к ней и желание найти её заставляют меня идти и идти без остановок. Чувствую усталость. В моей ходьбе уже нет утренней лёгкости. Шаги получаются и короткие и медленные. Буреломы и завалы обхожу, а утром перелезал, перепрыгивал и даже не замечал их. Устал. Присел отдохнуть. Посидел, посидел и съел кусок хлеба. Другой кусок, густо посолённый, оставил для Чернухи. Завернул его понадёжнее и сунул обратно в карман. После еды и отдыха заметно прибавилось силы, и я опять начал колесить по лесу. Сколько исходил места — не знаю, но стало темнеть в лесу. Уж не ночь ли наступает. Так скоро? А темнота незаметно окутывала лес. Дальше просветы стали сливаться в общую тёмную стену, и я понял — день кончился. Теперь домой, только домой. Успеть бы выбежать из леса до полной темноты. Не иду, а бегу. Царапаюсь хлёсткими ветвями, переваливаюсь через валежины, чавкаю в лесной грязи сапогами и несусь, а куда? А где-то дом, где деревня? И тут меня охватил ужас — ведь я заблудился. Сразу обмяк. Руки буквально опустились, ноги стали тяжёлыми. Я почувствовал полную потерю сил. Остановился, слушаю и не знаю, что делать? В лесу тихо-тихо. Только сердце тукает, да частое дыхание с лёгким свистом вырывается наружу. В это время недалеко от себя я услышал вздох. Кто-то тяжело вздохнул и отряхнулся. Я перестал дышать и обмер от страха. Вздох повторился, и легонько звякнуло. Да это же Чернуха! Ну, конечно, это её звоночек на шее издал звук. Негромко позвал. В ответ раздалось осторожное мычанье.
В ночной темноте я обнимал Чернуху, тихо разговаривал и бережно скармливал ей кусок посолённого хлеба.
* * *
Жители Лесных Полян летом угоняют лошадей пастись в «остров», так называют лес за поскотиной. Остров — большой лес. Если идти от Лесных Полян на север, то человеческого жилья нет на сотни километров. Идти на запад или на восток — встретятся на пути небольшие деревеньки, что в десятках километров от Лесных Полян, а дальше безлюдье. А если двинуться на юг, то через полтораста километров придёшь в город. Леснополянские лошади и пасутся летом в этом безграничном, неогороженном лесу. «Стая» — вот название того места, куда леснополянцы загоняют лошадей в лесу на ночь. «Стая» — загородка из жердей, рассчитанная на ночёвку в ней сорока-пятидесяти лошадей. Деревья в загородке не вырубаются, а на них тщательно обрубаются нижние сучья, чтобы лошади не могли повредить себя крепкими, как гвозди, сучками. Рядом с загородкой устраивается шалаш — стан. Стены у стана сбиты из толстых еловых плах, проконопаченных мхом. Покрывается стан сверху еловой корой. Перед входом в стан — огнище, где горит костёр, на котором готовят себе горячую похлёбку леснополянские пастухи. Дым костра отгоняет комаров от лошадей, когда они находятся в загородке, а также запах дыма отпугивает медведей, они частенько бродят по ночам около «стаи». Пасут лошадей леснополянцы поочерёдно, по три жителя на каждую смену. Сменяются через сутки, по вечерам, после загона всех лошадей на ночь в загородку. Завтра наша очередь. Мать пришла вечером и сказала: — Не знаю, что и делать. Попросила Семёна Бушуева сходить в нашу очередь — отказался. Ноги болят, ходить не может. Что делать? — А если я пойду? — Тебя не возьмут, да и какой от тебя толк? Заблудишься, самого искать придётся. Лес-то вон какой, без конца и края… Я вздохнул и замолчал. Мать посидела немного, встала и пошла к двери, проговорив: — Я сейчас приду, не ложись пока… Не успел я прочесть «Бежин луг», как пришла мать. — Говорила сейчас со Степаном, — сказала она, зайдя в избу. — Согласился тебя взять. «Хоть и мало от него, — говорит он, — пользы в лесу, но пусть собирается, лес надо знать каждому». Готовься, — сказала она мне, — завтра после обеда с ним и пойдёшь, а сейчас ложись спать… Уснул я под утро. Всю ночь думал, что я буду делать в лесу, как я буду искать лошадей, как я буду ходить по лесу, в котором нет ни дорог, ни тропинок. После полудня я шагал позади Степана, углубляясь в лес всё дальше и дальше. В новых лаптях, в новых пестрядинных штанах Степан выглядел молодо, да и шёл он бойко и сноровисто. Лесная дорога грязная, топкая. Я уже несколько раз падал и за голенища сапог налилось грязной болотной жижи, а Степан даже лапти не запачкал.
По жердочкам, что проложены через топи и через лесные ручьи, Степан перемахивал легко, невесомо, а я оступался и с трудом вытаскивал ноги из трясин. — Ты чего, опять оступился? — спрашивал меня Степан. — Тут хоть пляши, ноги не замочишь, а ты э-вон… Ну, да ничего, придем на место — высушишься, — успокаивал он меня и опять шёл легко и свободно, а я, чтобы не отстать от него, вприпрыжку бежал за ним и падал. Пахнуло дымом. Послышалось ржание лошадей, и мы подошли к стану. У дымного костра стоял Никита Фролов, один из пастухов, которых мы пришли сменять. Он неторопливо свёртывал «козью ножку» и, увидев нас, заулыбался. Степан поздоровался с ним, протянув ему руку, снял с плеч заплечный пестерь, повесил его на сучок стоящей рядомёлки, вынул из-за кушака топор, воткнул его в лежащее около стана бревно и сел. — Отдыхай, — сказал он мне и стал закуривать. — А чего его послали? — указал Никита на меня. — Разве не могли найти, кто бы за них отпас? — спросил он у Степана. — Семён отказался, не может, а другой кто? Все заняты, — ответил Степан и добавил: — Ничего, пусть привыкает к лесу. Завтра найду ему лошадей и пусть гонит в стан. — Оно, конечно, — согласился Никита, — хоть за огнём смотреть будет — и то ладно… — Всех нашли-то? — спросил Степан, кивнув головой на загородку. — Всех, там Михайло с Иваном гонят остальных, пойду встречать. — И Никита пошёл от стана и сразу затерялся среди частокола деревьев. — Ну, — обратился ко мне Степан, — пойдём теперь дрова заготовлять на ночь. Идём мимо загородки. Лошади, пригнанные Никитой, отмахиваясь от комаров, ходили в загородке по кругу. Некоторые, особенно молодые, прижимая уши, бросались друг на друга, хватали зубами и, проворно повёртываясь, лягались.

Земля в загородке была так сильно утоптана, что походила на гладкий чёрный пол. Кора на деревьях, о которую тёрлись кони, была как бы отшлифована. На некоторых деревьях были глубокие и широкие выгрызы, как на коновязях. Когда проходили, то лошади потянулись к нам через изгородь. Степан погладил свою лошадь по шее и ласково спросил: — Что, Карюха, признала? Карюха тихо заржала и зашлёпала толстыми губами, толкая руку Степана, прося хлеба. Когда вечерняя темнота стала заполнять лес, мы со Степаном управились с дровами. Из нашей смены пришёл Андрей-шерстобит — сухонький подвижной мужичок, который тоже стал помогать нам, и около стана уже высилась большая груда дров — сухостоя. Сменившиеся Михайло и Иван торопливо собрались и пошли домой. Остался ночевать с нами Никита Фролов. — Вы, мужики, идите, — сказал он уходящим, — а я переночую здесь. Утром мне надо берёсты клубок надрать — лапти ребятишкам сплести. — Как хочешь, оставайся, — сказал Михайло. И вот я в лесу, далеко-далеко от дома, пастух, сижу у костра, как взрослый. А случись сейчас на десять метров отойти от стана — от страха вспотею. Ночь выдалась ветреная. Стал накрапывать дождь. Степан положил в огонь толстую-толстую валежину — пусть горит, эту дождь не зальёт. Когда стемнело совсем, лошади в загородке затихли. В свете огня костра видно было, что они стоят, опустив головы, и дремлют. Ветер усиливался. Капли дождя падали в огонь, на горящих поленьях появлялись чёрные точки и тут же исчезали. Дым крутился во все стороны, резал и слезил глаза, и я искал спасенья от него, переходя с одной стороны костра на другую. Степан сварил картофельный суп с перловой крупой и пригласил ужинать Никиту, Андрея и меня. Никита отказался, а Андрей достал из своего пестеря ложку и с удовольствием стал хлебать пахнущий дымом суп. Я тоже не без охоты черпал из котелка вкусный бульон и неторопливо ел, присматриваясь к моим ночлежникам. Степан Орлов, наш сосед, по прозвищу Кремень, — один из тех, чей род уходит в далёкие времена Лесных Полян. Дед Степана — Дмитрий — был первым поселенцем здешних мест. Пришёл он из Онежского края сам-седьмой. Двигался на двух самодельных лодках в тёплые края, но южнее Лесных Полян не спустился. Заболели в дороге два сынишка у переселенца, да и сама хозяйка Мавра занемогла. С больными детьми куда ехать, да и Мавра стонала, стонала да и молвила в одно раннее утро главе семьи: — Ты, Митрий, как хочешь, а меня оставь, невмоготу мне, боюсь, как бы не оставить тебя и малолеток насовсем где-то в дороге. Под сердце подкатывает, да и голова словно хмельная. Посмотрел Дмитрий на Мавру, и ёкнуло у него сердце. В дорожных заботах да в большом стремлении к лучшей жизни не замечал он, что его хозяйка, когда-то краснощёкая и весёлая, совсем истаяла. Белее берёсты стало её лицо, даже в губах ни одной кровинки, да и глаза с каким-то нехорошим блеском… — Ой, жёнушка, что я наделал, — виновато сказал Дмитрий. — Просмотрел я тебя. Невдомёк было, что тебе тяжело. В таком случае ставим на этом месте кол и будем прививаться к нему. Здесь всё же лучше, чем в холодной Онеге. — Как знаешь, Митрий, только смотри, чтобы после всё хорошо было… Я шла бы, да шла… А сейчас, сам видишь, сдала совсем, — с трудом говорила Мавра, лёжа в лодке. — Сам вижу, чего уж тут! Будем здесь основываться. Край был богатый, где застала беда переселенца Дмитрия. В лесу много зверя, ягод, грибов уйма, а в реках много рыбы. — Проживём, — успокаивал себя Дмитрий и принялся со старшими двумя сынами строиться. А в сорока верстах от этого места, вниз по реке Кистиге, деревня была, ведущая своё начало от карел, а потому, когда Дмитрий попал туда впервые, то удивлялся — и народ-то в ней какой-то особый, говорят нараспев, и печи большие во всю избу понаделали. А тут и сыны Дмитрия побывали в той деревне. Сначала ездили по делу, а потом — погулять, людей посмотреть и себя показать. И в одни год — чего в один год! в один месяц! — пришлось Дмитрию быть сватом в двух домах далёкой деревни. Женились сыновья Дмитрия, и сразу на берегу Кистиги появились две постройки рядом с домом Дмитрия — сыновей его, Алёши и Пафнутия. Через год после свадьбы у Дмитрия стали внук и внучка. Вот этот внук, первый новый мужчина, появившийся на берегу Кистиги, и был Степаном, который сидел сейчас рядом со мной и аппетитно хлебал горячую похлёбку, каждый раз старательно вылизывая ложку. Когда у Степана появились ещё братья и сёстры, и родные и двоюродные, — Мавра умерла. Похоронил Дмитрий свою старуху в лесу, за избами и обнёс могилу изгородью. Это был первый человек, нашедший вечный покой на берегу лесной, дикой Кистиги. А тут и название новой деревни прижилось. Когда спрашивали Дмитрия в далёкой деревне, где он живёт, то Дмитрий отвечал: — А вот, ежели плыть вверх по Кистиге, то среди леса будут чистые места, поляны, — тут моё и пристанище. И стало то место, где горе заставило Дмитрия остановиться, — называться Лесные Поляны. Много с тех пор утекло воды в Кистиге, много народилось леснополянцев и немало умерло. Там, где была одинокая могилка Мавры, стало большое кладбище с высокими деревьями. Деревянные кресты на могилах сгнивают, сваливаются. Могильные холмики зарастают травой, выравниваются. На этих холмиках опять роют могилы, опять ставят кресты, и всё идёт вкруговую… Степан сейчас одинок. Жена у него есть — старая Евфросиния, но Степан в обиде на неё. Нарожала Евфросиния девок, а парней — ни одного. — Ты хоть бы одного наследника родила, — сказал он ей, когда бабка-повитуха пригласила Степана к роженице взглянуть на очередную новорождённую. Евфросиния только тяжело вздохнула, а бабка утешала Степана: — Бог даст здоровья да долгой жизни, и сынок будет. — Сейчас бы надо! — глухо сказал Степан и вышел из избы. Двух дочек Степан выдал замуж, а две еще не определены. Евфросиния стала старая, и, как видно, не родит она ему сына. — Как Степан Алексеевич дальше-то будешь? — спрашивали его однодеревенцы. — Сынка-то нет? — Не уважила меня хозяйка, — вздохнёт Степан. — Зятя придётся в дом брать. — Оно, конечно, если работящий да нужный попадётся, не загубит хозяйство, да и вас, стариков, не обидит. — Так-то оно так, но свой-то бы сынок был, тогда бы и горя мало, — и пройдёт по лицу Степана счастливая улыбка, тут же сменяющаяся печалью. С каждым годом Степан глубже и глубже уходил в себя. Мысль о том, что всё приобретенное и нажитое тяжёлым трудом перейдёт чужому человеку и неизвестно какому, — угнетала Степана. Душевная доброта сменилась неприязнью к другим, завистью к тем, у кого хозяйство переходило по наследству сыновьям. В конце концов, у Степана появилась скупость. — Хватит того, что растащат после моей смерти, а сейчас пусть оно будет моё и лишнее, а пусть у меня. И когда однажды у него весной попросили для корма скота солому, что лежала у гумна под снегом всю зиму и была Степану не нужна и он категорически отказал в просьбе, его прозвали — Кремень. И вот этот скупой Степан, человек-кремень, наш сосед, согласился взять меня в лес в свои помощники с целью. «Кто знает, — думал он, — может быть, он будет моим приёмным зятем…» Это я узнал позже. А я, далёкий от дум Степана, хлебал суп и думал: «Что-то со мной будет завтра, справлюсь ли я с обязанностью загонщика лошадей в стан?» Другой наш сосед, Андрей-шерстобит, — не коренной леснополянец, а пришлый. Появился он в Лесных Полянах как кустарь-шерстобит откуда-то с Вятки. Молодой бойкий парень, он сразу приглянулся леснополянцам. Приходя в избу, куда его приглашали бить шерсть, он привычно вбивал в стену гвоздь и вешал на него свой лук. Потом, как дома, снимал верхнюю одежду и оставался в одной рубашке с вышитым воротничком. Не дожидаясь приглашения садиться, он садился к столу и закуривал. В избе распространялся приятный запах табака. Такого запаха не знавал ни один леснополянский курильщик. — Чего это ты запалил-то? — спрашивали его хозяева. — Уж больно духовито пахнет-то?! — Мы ведь не из простых, — важно говорил Андрей, выпуская изо рта пахучие колечки дыма. — Нам простой табак во вред, ежели его курить, как все. Скоро в избу приходили соседи, любовались молодым шерстобитом и нюхали духовитый запах. Сговорившись о плате за работу, Андрей принимал шерсть от хозяев, накладывал её на сетку и начинал ударять по сыромятной тетиве. Тетива подхватывала шерсть, певуче дрожала и разделяла клочки шерсти на отдельные шерстинки, взбивая их высоко и пышно. Во время работы Андрей пел. Лук как бы аккомпанировал его голосу, и песня лилась, заполняя избу всю до отказа. Через две недели ушёл из Лесных Полян Андрей-шерстобит. Уходил не один. Около гумна он долго стоял с леснополянской красавицей Олей. Вот уже Андрей скрылся в ближайшем лесу, а Оля всё стояла, смотрела милому вслед и вытирала лицо кончиком косынки, накинутой на плечи. А осенью в Лесных Полянах вновь появился Андрей-шерстобит. Празднично одетый, он пришёл в дом Оли и бух хозяевам в ноги. — Что хотите, то и делайте, — заявил он растерявшимся от неожиданности Олиным родителям: — я люблю вашу дочь и прошу руки её. — Что ты, Андрей, батюшка! — всплеснула руками мать Оли. — Я, маменька, люблю его, и без него мне жизнь не мила, — промолвила Оля, не поднимая ни на кого смущённых очей своих. — Чего, старик, молчишь-то? — набросилась родительница Оли на старого Артемия, видя, что тот стоит и не знает, что делать. — Чего молчу? — переспросил отец Оли. — Не та у меня думка была, но ежели так получилось, то что сделаешь!.. Вставайте рядом! — крикнул он молодым, снял с переднего угла икону и подошёл с благословением. И стал Андрей-шерстобит леснополянцем. Не подвёл он ни Олю — жену свою, ни родителей Оли, ни жителей Лесных Полян. У Андрея оказались золотые руки. Всякое дело спорилось у него. Завидовали Артемию и хвалили зятя и очно и заочно. А сколько детей нарожала ему его Оля! Да все такие рослые, здоровые и, главное, — все сыны. Кончил ужинать Андрей-шерстобит, сидит у огня и думает… А Никита Фролов спать завалился. Про таких, как Никита, в Лесных Полянах говорят: «не важно полати, ему бы поспати». Никита Фролов — самый беднейший житель Лесных Полян и самый богатый по числу детей. Тринадцать дочерей и сыновей родила ему его Дарья. Почти все живы, если не считать двоих, что утонули в Кистиге. Один потянулся с плотов за маленькой рыбёшкой, да и нырнул под плоты. Когда достали, то он уже был не жилец, умер. А второй сын зимой в прорубь с салазками угодил. Салазки достали, а пассажира так и не нашли. И весной нигде не всплыл. Наверно, песком где-либо в омуте затянуло. А остальные все живы. Все сыновья и дочки похожи на Никиту — маленькие, медлительные, к работе не охочие. За малый рост, за медлительность и за сильную вспыльчивость прозвали Никиту Фролова — Нккитка-Чикитка. Чья корова поздним утром идёт в лес с мычаньем, разыскивая деревенское стадо? — Никитки-Чикитки. Кто в сенокос, в горячее время года, отдыхает под деревьями в тени, пережидая полуденную жару? — Никитка-Чикитка. Чьи дети в престольные праздники уходят по соседним деревням просить милостыню? — Никитки-Чикитки. Кто в праздник, ломая частокол, выхватывает из него колья для драки? — Никитка-Чикитка. В избе Никиты Фролова темно и тесно. Крыша протекает, в окнах вместо выбитых стекол — грязные тряпки. — Вот подрастут ребятишки и наладят хозяйство, — говорит Никита, — а мне не под силу. Их много, а я один, как говорится, — один с сошкой, а семеро с ложкой. Тяжело, конечно, мне, но надежда на ребят, выручат. Так и живёт в бедности и нужде Никита Фролов, ожидая помощи от сыновей своих, которые растут, подгоняя друг друга и не особо рьяно берутся за работу. Давно уж наступила ночь. Вот и Степан забрался в стан и лёг к стенке рядом с Никитой Фроловым. Андрей долго сидел, покурил несколько раз и тоже влез в стан. Я сижу один, поправляю дрова в костре и прислушиваюсь к ночному шуму. Дождь усиливается. Пламя костра слабеет. Дождевые капли, как из лейки, льются на огонь. Костёр шипит, дымит, но не гаснет. Толстые дровины чернеют от дождя только сверху, в середине костра толчками переливается огненное золото. В загородке нет-нет да и послышится или звяк колокольчика, или злобный визг какой-либо шальной молодой лошади. Вслед за визгом слышится глухой удар по земле задними ногами. Хочется спать. Лезть в стан не могу. Надо тревожить спящих, а они так хорошо спят!

Я облокачиваюсь, кладу голову на руки и дремлю. Не знаю, сколько спал и спал ли, но пробудился от сильного лошадиного топота, ржанья, треска чего-то. Андрей и Степан выскочили из стана и стали поспешно обуваться. Только Никита не пробудился и спал, широко раскинувшись на мягкой подстилке стана. Костёр еле горит. Ветер шумит, не переставая, а дождь стал меньше. Далеко по лесу разносится лошадиный топот. — Разнесли загородку-то ведь! — сказал Степан, всматриваясь в темноту. — Ни одной лошади не осталось, все убегли, — сказал Андрей и громко, во весь голос закричал: — Э-г-г-ей-й!.. — Ну, Васюк, — проговорил Степан, обращаясь ко мне: — будет дело! Теперь за неделю не соберёшь лошадей. — А что случилось? — спросил я, не понимая. — Медведь приходил, — спокойно ответил Степан. — Видишь, что от загородки осталось — одни обломки! — Такие ночи он любит, — и Андрей, взяв горящую головню, пошёл к изгороди. — Вот! — закричал он. — Идите сюда! Видите, какой подходил. В красноватом свете горящей головни на мокрой земле были видны громадные медвежьи следы, похожие на следы босого человека. На верхних жердях загородки лежала грязь. Очевидно медведь подошёл и встал во весь рост, опираясь на жерди. Лошади, увидев такого ночного гостя, рванулись, разломали изгородь и унеслись неведомо куда, подальше от опасности. Спать мы больше не ложились. Ждали утра. Когда рассвело, наскоро позавтракали и пошли искать лошадей. Никиту Фролова разбудили, и Степан попросил его привести в порядок изгородь. — Идите, — сказал Никита, — не сумлевайтесь, я сделаю, мне ведь это недолго… — Постарайся, — сказал Андрей, — а то пригоним лошадей, а загородки нет, они опять и уйдут. — Сказано, что сделаю, чего еще надо, — вспылил Никита и стал закуривать. В той стороне, куда ночью бросились лошади, мелкие деревья были поломаны и смяты. Широкой полосой уходил след нескольких десятков лошадей от загородки. В топких местах лошади так глубоко вязли, что едва вытаскивали ноги. Это видно было по тем большим комьям, которые были выброшены наверх. Ветер затих и дождь перестал. Я иду за Степаном. Переходим низины — согры, бугры, сплошь покрытые черничником. Сгоняем стайки рябчиков, от взлёта которых я шарахаюсь в сторону. День в разгаре, а мы все ходим и прислушиваемся — не звякнет ли где колокольчик на шее лошади. — Стой! — прошипел на меня Степан, схватив меня за плечо. — Чуешь? — спросил он, повернув голову вправо и открыв рот. Я затаил дыхание и стал слушать. — Там! — выдохнул я, указав вправо от нас. — Подходить надо с голосом, — сказал Степан и громко во весь голос крикнул: — О-го-го-го!.. — Ты тоже кричи, — сказал он мне. — Не жалей голос, не часто это, может быть в этом году и не придётся пасти. Я закричал звонко, пронзительно. Лес загудел, и далеко от нас покатилось по лесу моё звонкое: а-а-а!.. — А почему надо кричать? — спросил я. — А чтобы лошади не напугались. Ежели подходить к ним тихо, то они примут нас за зверя: насторожатся, всхрапнут, да и были таковы. Ищи, свищи! А ежели с голосом, то они будут знать, что это люди, и не убегут, хотя под ногами будет трещать. Разговаривая и крича, мы подошли к лошадям. Они вскинули головы, посмотрели на нас и, убедившись, что опасности нет, стали опять неторопливо срывать высокие лесные травы. — Десять! — сказал Степан, сосчитав лошадей. — Это хорошо, значит они уже стабунились. — Пусть эти пасутся тут, а мы пойдём искать других. Быть может, на наше счастье, не в одиночку разбежались и остальные, и нам легче будет их искать. К полудню нашли еще пятнадцать лошадей и тут же встретились с Андреем-шерстобитом. Он вышел на наши голоса. Андрей тоже нашел табун, и когда поговорили, то выяснилось, что лошади все, только нет кобылы Никиты Фролова. — Ты, Васька, погонишь вот этих, — указал мне Степан на лошадей, которые паслись около нас. — Мы пойдем с Андреем и погоним тех, которых увидели с утра. — А куда их гнать, в какую сторону? — спросил я, чувствуя, как у меня похолодело всё внутри. — Они сами знают, где «стан», иди только за ними неотступно да покрикивай, — сказал Степан и, заметив мою бледность, успокоил: — А ты не бойся. Мы ведь с Андреем тоже не особенно лесок-то этот знаем… Так-то… — А когда гнать их? — А вот как солнце будет клониться к вечеру, так и начинай. А сейчас будь около них, на виду чтобы, да не кричи, а то они сейчас и тронутся. Я проводил глазами Степана и Андрея, и мне стало до того жутко и страшно, что хоть плачь. Оказалось, что лошади пасутся не на одном месте. Они беспрерывно двигаются по лесу — идут и на ходу хватают траву. Некоторые места, где нет травы, проходят, не наклоняя головы к земле. Я иду за ними, покашливаю и негромко нет-нет да и крикну, чтобы знали, что я с ними. Проглядывавшее между облаками солнце закрыло надолго, и я не знал — или вечереет, или еще рано, но тут же решил начать загон. Во весь голос я закричал: — Эг-г-гей!.. пошли!.. пошли!.. пошли!.. Лошади сразу же побежали рысью, а некоторые, молодые, сорвались в галоп и убежали в сторону. «Пропал», думал я, не отставая от убегающего от меня табуна. На мне давно уже нет ни одной сухой нитки, но я не отстаю — бегу и бегу, не теряя лошадей из виду. И тут случилось страшное. Я крикнул, а вместо крика в горле захрипело. Я прокашлялся — не помогло. Перебегая через низину, я торопливо напился воды, сильно пахнувшей мхом. Крикнул. Голос прозвенел и оборвался. Я обомлел и не знаю, что делать. Как быть дальше-то? Вооружившись длинной палкой как удилищем, я стал размахивать ею и бежать за табуном.

Палка визжала тонко. Лошади шарахались от этого звука и уносились от меня. Я оставался один. Останавливался, прислушиваясь, и, уловив треск и позванивание колокольчиков, бросался туда. Табун шёл, не останавливаясь, я бежал за ним, стараясь не упустить его из виду. Да я его и не вижу! Я вижу только одну, две лошади, да и то ненадолго. Всё скрывают деревья. Куда они бегут? Где стан? Что делать? — эти вопросы завладели мной, и я, не глядя по сторонам, бежал и бежал, повизгивая палкой. Вдруг табун остановился, замер, а потом всхрапнул и понесся врассыпную, ломая и круша маленькие деревья. Я остановился. Топот лошадиный удалялся и затих совершенно. Я остался один. Куда теперь? Попробовал кричать. Изо рта вылетали свистящие звуки и только. Всматриваясь в окружающие меня деревья, я стал пробираться в том направлении, куда умчались кони. Сколько шёл — не знаю, но невдалеке ясно расслышал звон колокольчика. Сильно кашляя, я пошёл туда. Невдалеке от себя увидел лошадь. Это была старая вороная кобыла Никиты Фролова. Она подняла голову и стала смотреть на меня. Подойдя к ней вплотную, я торопливо достал из кармана размокший кусок хлеба. Вороная подошла ко мне и толстыми, мягкими губами взяла хлеб с руки и стала его жевать, роняя на землю крошки. Я погладил её по шее и дал ещё хлеба. Когда она съела второй кусок, я приблизился к ней сбоку и стал гладить её по спине. Потом, недолго думая, повалился на её спину грудью и с большим трудом уселся верхом. Вороная сразу же пошла. Я её не погонял и не направлял — и нечем и не знаю — куда.

Она шла, а я низко припадал к её шее, если сучья цеплялись за меня. Сучья с шуршанием протаскивались по моей спине, а один толстый зацепил мою фуражку и сдёрнул её с головы. Она не упала на землю, а осталась висеть на дереве. Когда стало темнеть, послышалось ржание, стук и запахло дымом. Стан! Я спрыгнул с лошади и пошёл за ней сзади. Она уверенно подошла к загородке и положила голову на жерди. Я подошёл к стану. Тут были не только Андрей и Степан, но и новые пастухи, которые пришли сменить нас. — Куда ты запропастился? — спросили меня. — А лошади мои пришли? — прохрипел я. — Давно прибежали. Вот только кобылы Никиты нет, — недовольно сказал Степан. — Придётся из-за неё ночевать здесь… — Я пригнал кобылу Никиты, — прошептал я и указал на вороную, которая стояла у изгороди и дремала. — Неужто пригнал? — обрадовались Степан и Андрей. — Вот молодец-то! — Ну, мужики, — обратился Степан к нашей смене, — все кони в «стае», вон она, Никитина вороная, запусти её. — Ну, Васюк! — восхищался Степан. — Молодец, брат, выручил, а то бы завтра полдня надо было терять, пока бы нашли её. Молодец, право! В полной темноте мы шли домой. Я не отставал. Мне было легко и радостно. Усталости я не чувствовал.
* * *
Стоим на коленях. Весь класс. Каждый на полу у своей парты. Сидит один — сын церковного старосты Гришка Тарасов.
Законоучитель — священник отец Павел что-то пишет в классном журнале. Наверно, ставит отметки. Нам всем по колу, а Тарасову — пять. Первым не ответил Миша Краюхин — стриженый лесенкой веснушчатый коротыш. — А ну, чадо Краюхин, — обратился отец Павел к моему соседу по парте, — скажи нам, через какое море Моисей проложил дорогу жезлом своим? Миша встал и вопросительно глянул на меня. — Не подсказывать! — сказал отец Павел, подходя к нашей парте. В классе наступила зловещая тишина. — Не выучил урок? — спросил он и коротко бросил: — На колени! Миша, держась одной рукой за край парты, опустился на пол. Законоучитель прошёл к столу и уткнулся в журнал. Весь класс, все двадцать учеников разом выдохнули и стали прятаться за впереди сидящих, ожидая вызова. — Отвечай ты! — назвал он мою фамилию. Я встал и почувствовал в ногах тяжесть. В лицо бросилось что-то горячее, и я сразу весь вспотел. — Через какое море Моисей проложил дорогу жезлом своим? — повторил он вопрос, глядя на меня в упор. Я стоял, краснел и ждал подсказки. — Не подсказывать! — опять рявкнул отец Павел и, понизив голос, наклонясь над журналом, проронил: — На колени! Скоро весь класс стоял на коленях. Ни один из нас не знал этого библейского злополучного моря. — Григорий Тарасов! — вызвал он единственного сидящего на передней парте. Не успел отец Павел задать ему вопрос, как он, вытянувшись и подняв подбородок кверху, произнёс скороговоркой: — Через Чермное море, батюшка! — Молодец! — похвалил его отец Павел. — Садись! Гришка сел и победоносно глядел на всех нас счастливыми глазами. — Почему ты не выучил моего урока? — спросил меня отец Павел. — Я выучил, да забыл, — ответил я еле слышно. — А позавтракать, наверно, не забыл? Завтракал сегодня? — спросил он меня. — Картошку с рыжиками ел. — Не только о маммоне надо думать, чадо мое, — и он прошёл мимо меня дальше между партами. — А ты почему не выучил? — спросил он Алёшку Андрюхинцева, бледного сухонького паренька из соседней деревни. — С Нюркой весь вечер нянчился. Мамка у нас заболела, — пропищал Алёшка, втягивая голову в плечи. — Отец твой забыл храм божий, вот бог и наказывает. А уроки надо учить, чадо мое! — А ты, — обратился он к Гришке Тарасову, — передай родителям своим, ты на верном пути и тебе ставлю пять, — и отец Павел склонился над журналом. В коридоре раздался звонок. Отец Павел захлопнул журнал и, не глядя на нас, пошёл из класса. Мы вскочили с колен и шумно выбежали в коридор.
* * *
Восемь километров для нас, школьников, — прогулка. Наперегонки, со смехом, шутками пробегали мы их за короткое время. Ведь домой, а не куда-нибудь несёшься после недельной разлуки с родными. Порожняя корзина игрушкой перелетает из руки в руку. Попутные подводы не вызывают зависти: предложи подвезти — не согласишься. Ноги без удержу несут домой, и им приятно ступать по знакомой лесной дороге, будь то лютый холод или жаркая погода. Вот они, наши Лесные Поляны. Только выйдя из леса, увидишь дымчато-серые крыши низких осадистых изб с высокими черемухами и рябинами подле них. И кажется, что деревня — безлюдная, заброшенная, — так пустынно на единственной деревенской улице. И никто-то в ней не рад тебе, и никому нет дела до тебя, маленького парнишки, спешащего домой из школы на воскресный день. Так ли? А кто это стремительно начинает бегать по деревне, то появляясь, то исчезая около изб? Это наши друзья, наши товарищи быстрее нас, — что нас! — быстрее ветра носятся от избы к избе и кричат: — Васька ваш идёт! Петька идёт! Мишка идёт! Подбегаешь к избе, а тебя уже встречают, тебе рады, на тебя смотрят, не спуская глаз. А прибежавшая соседка выпаливает: «Вырос-то, вырос-то как!» А ты и не знаешь, за что взяться. Уж очень всё изменилось за неделю! Все такое милое, родное! Даже кошка, и та стала какая-то другая, не похожая на прежнюю, хотя она та же самая и она тоже признала тебя и трётся о руку усатой мордочкой, глухо мурлыча. Как в сказке проходит субботний вечер, воскресенье в кругу родных, в родной деревне. А в понедельник утром, в рассветной темноте мы шагаем в школу за восемь километров, покидая родные места на неделю. Дорога кажется длинной и скучной. Корзина с хлебом и пирогами оттягивает руку. Хочется остановиться, сесть и заплакать. На попутную подводу смотришь просительно в надежде, что хозяин подводы подсадит и подвезет… А иногда и попросишь: — Дяденька, подвези до Раменья! Сегодня нас нагнал едущий порожняком из соседней деревни вернувшийся с войны усатый молодой мужик — Алексей Пронин. Когда он поровнялся с нами, мы, как всегда, всякому, кто старше нас, сказали: — Здравствуйте, дяденька! — Ошиблись, мальцы! — прокричал он, придерживая лошадь. — Я теперь не дяденька, я гражданин! Понятно, кто я? Гражданин! — и он, рассмеявшись громко и раскатисто, огрел лошадь кнутом и унёсся, оставив нам незнакомое слово — «гражданин». Войдя в волостной центр, где была наша школа, мы увидели этого дяденьку-гражданина, стоящим на брёвнах, окружённым толпой жителей. — Теперь мы граждане, товарищи, — гремел его голос. — Земля, леса — всё наше, народное! Да здравствует революция, товарищи! А на церковь, на колокольню, на верёвке поднимали пулемёт, и по селу какие-то незнакомые люди ходили с винтовками.* * *
Умерла бабушка. Последнее время она плохо слышала и редко слезала с печки. — Это ты, внучек? — спрашивала она, когда я приходил на воскресенье домой и шумно рассказывал домашним о виденном и слышанном в школе. — Я это, я, домой пришёл! — кричал я ей в ухо. — А я ведь, внучек, совсем ослабла, — тихо говорила она. — Зову смертыньку, а она не идёт. Грешна я, наверное, очень… А ты эвон какой стал, большой вырос, — и она начинала гладить меня по голове. — Живи, внучек, дай бог тебе здоровья, да уважай людей — и тебя будут уважать, — говорила она, открывая глаза. — А отца с матерью не забывай, как большой вырастешь, — и она, убрав руку с моей головы, забывалась. И вот сегодня утром её не стало. Я залез на печку и крикнул: — Бабушка, я в школу пошёл! Бабушка мне не ответила. Я крикнул ещё громче и дотронулся до неё. Бабушка не пошевелилась. Я спрыгнул с печки и испуганно прошептал матери: — Мама! Бабушка не живая! Похоронили её на кладбище. Когда выносили гроб из избы, то очень удивлялись — всё равно что ребенок, никакого веса в ней нет! Я долго не мог привыкнуть, что нет у нас бабушки, и мне было тоскливо и непривычно.* * *
В школе что-то произошло. Утром, перед началом уроков, мы собрались, как и всегда, в зале, на молитву. Стоим ровными рядами, а заведующего школой, старого Константина Андреевича нет. Он всегда присутствовал при нашем построении и первым начинал запевать «Царю небесный», а мы подхватывали знакомые нам слова, и двухэтажное здание школы гудело от наших ребячьих голосов. Сегодня мы одни. Построились по сигналу дежурного и ждём. Кто-то кого-то толкнул, послышался сдержанный смех, и ряды стали смешиваться. В это время из учительской вышли все наши учителя и с ними два незнакомых мужчины — один бритоголовый с круглым красным лицом и маленькими заплывшими глазками, а другой черноватый, сухощавый, с волосами на пробор и в очках. Мы быстро заняли свои места, затаили дыхание, стали смотреть и ждать, что будет. Наш заведующий пошептался с незнакомыми нам мужчинами. Бритоголовый кивнул головой, вынул из маленького кармашка пиджака аккуратно сложенный носовой платок, вытер им лицо, отошёл от остальных, кашлянул и начал говорить. У него был такой тонкий голос, что мы удивились. Сам такой большой и толстый, а такой у него голос! — Милая детвора! Не стало в России царя. Теперь все равны и свободны. Учиться вы будете так же, как учились и до сегодняшнего дня. Ваши славные учителя будут вести уроки, как и раньше. И вы, милая детвора, учитесь по-прежнему хорошо. Он подошел к заведующему и что-то сказал ему. Константин Андреевич тут же объявил нам: — Сегодня уроков не будет, и молитвы тоже не будет. — Помедлив немного, добавил: — И вообще её больше не будет. Мы стояли и не знали, что делать: или расходиться, или продолжать стоять. Видя, что мы не расходимся, заведующий махнул нам рукой: — Идите, на сегодня всё! Молодой учитель Михаил Евграфович, подставив стул, снял со стены портрет царя и ушёл с ним в учительскую. Мы бросились в классы и, хлопая крышками парт, уложили книги в сумки и побежали из школы. Около волостного правления было людно. У многих на рукавах были красные повязки.* * *
Я на заработках. Работаю вместе со взрослыми, получаю, конечно, меньше. Но это не беда. Беда в другом. Комары сводят с ума. Хочется бросить всё и бежать. Бежать куда угодно, лишь бы избавиться от них. Комары лезут в глаза, в нос, вместе с воздухом попадают в горло, забираются за ворот, залезают в рукава. Проведёшь по шее ладонью — она вся в крови. Хлопнешь себя по лбу рукой — на руке кровь. Сколько комаров! Тучами висят они над нами с назойливым писком, залепляют глаза. Шея укутана платком, шапка надвинута на уши — и всё равно, хоть плачь, нет покоя! А надо работать. Подбивка шпал песком — моё дело. Под каждую шпалу надо лопатой туго-туго набить песок так, чтобы шпала лежала и плотно и ровно.
Работаем на перегоне между станциями. Проходящие поезда провожаем с завистью. Мимо нас поезда проходят тихо, на малой скорости. Мы успеваем не только рассмотреть вагоны, но даже хорошо видим людей, едущих в тамбурах и на подножках. Завидуем. Им что! Их не кусают комары, и они с улыбкой смотрят и на нас и на проходящую перед их глазами лесную зелень, на тихие задумчивые озёра, на лесные тенистые речки и на цветущую черёмуху, что белыми пятнами виднеется в густоте леса. «Счастливые какие! — думаешь про них, и тут же невольно срывается злой нотой: — Вас бы сюда!» Поезд уходит. Провожаешь глазами покачивающийся задний вагон и, тяжело вздохнув, опять начинаешь подбивать песок под шпалы. А после работы на ближайшие озера идёшь рыбачить. Там лучше. Там и комары не страшны. Жаркий дымный костёр оберегает от них. Тысячи комаров сжигает пламя, а десятки, сотни тысяч кружатся и кружатся, высматривая, как бы изловчиться, напасть на тебя и утолить жажду твоею кровью. А ночей нет. Светло, как днём. Так и сидишь всю ночь у костра да бегаешь проверять удочки. А потом, под утро, до того захочется спать, что не можешь терпеть. Ляжешь около дымного костра, накроешься пиджачишком и засыпаешь крепко-крепко. Пробудишься, день в лесу наступил. Прибежишь в артель, а там уже собираются на работу. Когда успеешь позавтракать, а когда сунешь в карман кусок хлеба и пойдёшь на железнодорожное полотно шпалы менять.
* * *
У меня в руках деньги. Не грош, не копейка, а рубли — и бумажки и серебро. Я их положил в карман, в штаны. Потом подумал, подумал и переложил в пиджак, во внутренний карман. Постоял немного, пощупал — тут ли, и зашагал к дому. Через три дня открыл дверь своей избы. — ВернулсяI — заплакала мать, усаживая меня за стол. — Похудел-то как! — и она вынула из печки чугун с варёной картошкой. — Ешь, сынок, ешь! — угощала она, с тревогой глядя на меня. — Уж не больной ли? — Как рассчитали-то? Дали деньжонок-то, или все за харчи удержали? — спросила она, когда я досыта наелся. — Вот, — и я протянул ей свой первый заработок. Она взяла деньги, прижала мою голову к своей груди и зарыдала: — Кормилец наш!* * *
Небольшая железнодорожная станция. Деревянный вокзал. Над вторым этажом — надстройки с маленькими окнами, похожие на терема, почему и весь вокзал кажется домом-теремом. В вокзале грязный зал для пассажиров, окошко билетной кассы, похожее на леток скворешни. В коридоре вокзала стеклянное окно с выдвинутой задвижкой. Это окно железнодорожного телеграфа. В телеграфной три аппарата. Они дробно стучат и выпускают из себя узкую белую полоску бумажной ленты, которая идёт и идёт бесконечно. Если при выходе из аппарата ленту не закатывать на специальную катушку, то кольца спирали её образуют на полу целый ворох. Пахнет краской, острой щёлочью и еще чем-то, с непривычки противным… За одним телеграфным аппаратом, на высоком круглом табурете, сижу я. Моя работа пока простая. Целыми днями, шесть часов подряд, я нажимаю пальцами руки на телеграфный ключ и мысленно повторяю — раз, раз-два-три. Раз, раз-два-три. Это я учусь азбуке Морзе. Учусь создавать на движущейся бумажной ленте точки и тире. При счёте «раз» я нажимаю на ключ и немедленно поднимаю его. На ленте остаётся длинная беспрерывная линия, прочерченная колёсиком, купающимся в краске. Когда ключ поднят, колёсико не касается бумажной ленты, и она идёт из аппарата чистая, без линии. Это я сделал точку. При счёте «раз-два-три» я нажимаю на ключ, и у меня на ленте получается чёрная линия, втрое длиннее первой, точечной. Это получилось тире. Если счёт «раз», «раз-два-три» участить, а соответственно участить и движение рукой, то на ленте получаются знаки азбуки Морзе, которые можно, читая, переписывать словами на телеграфный бланк. Через месяц мне разрешили участить счёт, и моя рука без всякого мысленного счёта стала быстро поднимать и опускать телеграфный ключ. А ещё через месяц я уже выстукивал все буквы алфавита и из этих знаков — точек и тире — составлял слова, которые и появлялись на быстро бегущей телеграфной ленте. А ещё через месяц, когда я мог в одну минуту создавать сто двадцать знаков, мне разрешили передавать телеграммы и включили меня в список дежурных телеграфистов.* * *
Письмо из дома — для меня праздник. Любовно всматриваюсь в каждую буковку и мысленно представляю всех своих домашних и вижу автора письма — босоногую Лену. Это она под диктовку матери старательно выводила на бумаге буквы, располагая их тесно друг к другу. Мать смотрит на неё, маленькую, склонившуюся над письмом, и говорит: — Разборчивее пиши-то. Ишь, какие закорючки поставила! Тут и учёному не прочитать! Чего спешишь-то? Я знаю, что после этого замечания матери сестрёнка начинает округлять лишние завитки и у нее буквы теряют свою форму, становясь непохожими и неразборчивыми. Видя, что исправление ухудшило письмо, она говорит матери: — Я перепишу письмо снова, ладно, мама? — Переписывай, да не торопись, а то не прочитать Васеньке твою писанину, — вздыхает мать и принимается за домашние дела. Шмыгая носом, Лена занимается чистописанием. Полученное письмо меня удивило. Помимо обычных советов матери о том, как держать себя, что кушать, как беречь себя от простуды, почерком сестрёнки было написано: — «Почему ты хочешь приехать раньше срока? Что с тобой случилось? А о том, что ты приедешь, так это известно. Вот уже третий день сорока по утрам стрекочет на нашей крыше, а это значит, что к нам кто-то приедет. Кроме тебя к нам приехать некому. Пиши скорее, что случилось с тобой. Если надумал ехать, то приезжай, а то мы сильно беспокоимся». Не успел я ответить, что со мной ничего не случилось и до каникул я не собираюсь домой, как получил из дома второе письмо — короткое, торопливое. «…Если, сынок, не собрался, то не езди. К нам приезжал твой двоюродный брат Пашка Ключарёв. Жил он у нас два дня. Сорока пророчила его, а не тебя. А кто мог знать это?»* * *
В Лесные Поляны я приехал через несколько месяцев. В отпуск. На мне форменная фуражка, тужурка с блестящими пуговицами. Леснополянцы увидели меня такого, не похожего на прежнего, и не удивились, а прониклись ко мне уважением, от которого мне было очень неловко. При встрече со мной мужички брались за головной убор и протягивали мне, как взрослому, руку. — По учёному пошёл? — спросил меня Степан и, не дав мне ответить, продолжал: — Не боги горшки обжигают, и наш брат, ежели дать ему всё, что положено человеку, не на последнем счету будет. Исстари наш народ в смекалке да в труде силён. Иди, Василий, в люди, в жизни всё надо… Как сон пролетел отпуск, и я опять, как и прежде, пешком за шестьдесят километров ухожу на железную дорогу, ставшую моим вторым домом. Пять лет я выстукивал точки и тире на железнодорожном телеграфе. Побывал я за эти пять лет на десятках больших и маленьких железнодорожных станций. А через пять лет я поехал учиться в тот город, который находится в полутораста километрах от Лесных Полян. Перед отъездом в город я приехал в Лесные Поляны. Всё изменилось за это время. Мои сверстники выросли, как и я, — даже не узнаешь. Некоторые уехали работать в далёкие края. Андрей-шерстобит умер. Приехал из леса, лёг на печку (захворал что-то), а к утру кончился. Жена его Оля сильно постарела и, рассказывая об Андрее, вытирала на лице непослушные слёзы. Никита Фролов занялся рыбной ловлей. Сделал себе челнок и «ботает» в сеть рыбу — и себя кормит и другим даёт в обмен на хлеб и картошку. Сыновья у него всё такие же медлительные, неразговорчивые. Старший Изосим уехал куда-то работать. … Наступил день моего отъезда. Какая тяжесть на сердце! Я вышел за деревню и долго смотрел на тот лес, который без конца и края, так же как и раньше, уходит от Лесных Полян во все стороны. Я стоял и прощался с ним, как с моим лучшим другом. Он научил меня любить и знать его. Он был первым моим учителем в познании природы. Любовь к лесу я перенёс и на людей. Мне милы и незабываемы и Степан, который с самого утра ходит около нашей избы, чтобы проводить меня. Мил мне и покойный Андрей-шерстобит, вся жизнь которого — труд с малых лет. Мне мил и «новоявленный» рыбак Никита Фролов, воспитавший и вырастивший в нужде и бедноте большую семью… Надо ехать! Воронко (а он сильно, сильно постарел) стоит и дремлет, безучастно глядя на всё окружающее. Я не знаю, что со мной. Клубок чего-то тяжёлого давит меня, и мне хочется не только плакать, хочется рыдать. Но я креплюсь. Ведь я уже большой, а кругом столько народа — и молодые и старые пришли провожать меня. Ведь я уезжаю в город, еду учиться… Пора. Воронко трогает с места. Мать бросается ко мне и плачет, бессвязно что-то произнося. Я не выдерживаю. Слёзы выступают у меня на глазах, и я, как сквозь туман, вижу леснополянцев. Степан подошёл ко мне, протянул руку и сказал: — Не тужи, Василий, не в лес едешь, не заблудишься. Время-то вон какое настало… А меня, старика, не забывай… Я ведь что… с богом ступай! Никита Фролов, когда я садился на телегу, сунул мне что-то завязанное в узелок. — Вот, Василий, не обессудь, рыбки тут хозяйка моя поджарила, отведай. Чем богаты, тем и рады, — и он, опустив голову, отвернулся и поднёс руку к глазам. Воронко медленно идёт. Я смотрю на Лесные Поляны.
Вот уже видны только крыши… Вот нет и их. И когда выехали на бугор, на котором установлен тригонометрический знак, то Лесные Поляны стали похожи на бревенчатый плот, плавающий в бескрайнем зелёном море. Прощайте, Лесные Поляны!


Горькая быль

Река Вотча, что неторопливо пробирается вологодскими лесами, впадает в реку Кубину.
Река Кубина, петляя по лесным полянам и луговым просторам, течёт в реку Сухону, а Сухона, набрав силу от таких рек, как Вотча и Кубина, вливается в Северную Двину.
Широкая, многоводная Северная Двинасмело входит в Белое море. И даже в море, за островом Мудьюг, что в нескольких десятках километров от Архангельска, она идёт широкой мутной полосой, не признавая моря. И только дальше, там, где вода сходится с горизонтом, море вступает в поединок с упрямой, самолюбивой рекой — сбивает её течение, поглощает её.
Тут конец Северной Двины. Воды её, расходясь на сотни километров, смешиваются с водами Белого и Баренцева морей, и становится морская волна и более высокой и более сильной.
И Вотча, и Кубина, и Сухона, и Северная Двина — сплавные реки. Каждый год идёт по ним лес. Идёт по-разному.
По суженным и порожистым местам идёт быстро, ныряя в бурунах и водоворотах. По тихим широким разливам идёт плавно, неторопливо, тычется в берега, пристаёт к ним, как бы на отдых.
Северная Двина несёт на себе громадные плоты леса, умело связанные из сотен кубометров бревён. Большие и маленькие буксиры тянут за собой такие плоты. Или же плоты идут по широкой реке сами собой, управляемые умелой и опытной рукой специалистов-плотогонов.
А река Вотча и река Кубина не тащат на своей спине плотов из бревен, ни больших, ни маленьких. Лес по этим рекам идёт «молем». Каждое бревно — и толстое и тонкое, и короткое и длинное — плывёт по реке самостоятельно. Таких разрозненных бревён плывут тысячи. И идёт каждую вёсну эта зыбкая живая полоса бревён по обеим рекам, растягиваясь на десятки километров.
Такой молевой лес, пройдя по небольшим, но многоводным весной речкам, выйдя на просторы больших рек, скапливается в «запанях», в таких местах, где можно эти разрозненные брёвна сортировать и вязать из них плоты — и большие и маленькие.
Река Вотча — лесная река. Летом она смирная, с тихими омутами и омуточками, в которые, как в зеркала, любуются собой водолюбивые деревья — ольха, ива, черёмуха…
На мелких перекатах прозрачная вода Вотчи поёт свою мелодию, переливаясь через обросшие зелёной тиной валуны и занесённые песком и илом коряги.
Хороша река Вотча летом! Заберёшься в густоту, что охраняет омут, и тихо, с замиранием сердца следишь за поплавком. Красноглазая сорожка и полосатые окуньки, выхваченные из глубины омута, задевают за прибрежные ветви деревьев и приятно холодят руки, когда снимаешь их с крючка.
А на перекатах сторожит хариус. Не успела подняться с воды резвая стрекоза или упавшая в воду какая-либо мушка, как сразу же появляется бурунчик или же подскок быстрой рыбы. Это хариус схватил свою жертву и ушёл на облюбованное им место, в засаду. Это летом и осенью.
А весной, в половодье, река Вотча — зверь. Да какой зверь! — злой, лютый! На перекатах шумит, пенит воду, гремит камнями, ломает препятствия.
А в омутах, широких, мутных, — водовороты и круговые и глубинные. Попадёшь в такой водоворот — закрутит, как щепку, и утянет на дно, не справиться!
— Эх, и разгулялась! Знай подбрасывай! — говорят сплавщики, сбрасывая в весеннюю Вотчу брёвна, вывезенные зимой на её берега. Подхватывает вода брёвна и уносит их вниз, то стремительно, то тихо.
Я стою на берегу мутной весенней Вотчи и вспоминаю.
В убогой, затерянной в лесах деревне, на задворках, старая почерневшая от времени изба.
Это наша изба. В ней живут мои родители, братья, сестра.

Маленькие, в одно стекло, два оконца смотрятся на наш глинистый огород. За огородом река. Берега у реки высокие, глинистые, в летнее время густо покрытые мать-мачехой. За рекой такая же деревня, чуть побольше нашей, с церковью. И ещё есть деревни, но они до того малы и незаметны, что увидеть их очень трудно. Кругом лес, лес и лес. В урожайные годы, когда поздние весенние и ранние осенние заморозки не посещают крохотных полей и от жаркого солнца не потрескается земля, — хле́ба у большинства жителей хватает только до рождества, то есть до конца декабря. В неурожайные годы зерно с полей собирают только на семена. А как жить? Жить надо. Надо заработать и купить хлеба. А на что купить? Бедные занимают хлеб у богатых мужиков в отработку — за жнитво или за косьбу. Бедные уходят на заработки — сапожничают, портняжничают, плотничают в соседних волостях, уездах. Бедные шьют белые холстинные сумы, одевают их на худенькие плечи своих заморённых недоеданием детей, благословляют их и выводят на улицу. И ходят по близким и далёким деревням, переходя от избы к избе, маленькие нищие с заученной жалостливой фразой: — Подайте милостыню христа ради! Так жила забытая счастьем и довольством наша убогая деревушка в далёких северных лесах. Давнее прошлое отчётливо встало передо мной, и мне стало тоскливо и жутко. И вспомнилось мне, как однажды, когда подули тёплые весенние ветры, отец мой пришёл откуда-то и сказал мне: — Пойдёшь на выгонку. Сейчас говорил с вербовщиком, обещался записать. Уж как-нибудь отблагодарим его, не за спасибо согласился. — Когда идти? — выдохнул я и замер. — Узнаем. Не ты один, не бойся. Сам видишь — бедность нас заела. Последнюю муку доедаем. — Сколько муки-то осталось? — спросил он у матери. — С пуд-то, наверно, наберётся, — сказала мать. — Вот слышишь? — заметил отец. — Да и изба не сегодня — завтра развалится. Углы-то совсем сгнили… И вот я — сплавщик. Пришёл я на реку Вотчу в половодье. Пешком. Долго шли сплавщики и я с ними. На шестой день подошли к сплавной конторе. В конторе сплава посмотрели на меня — маленького, худого, с облупленным носом, с потрескавшимися губами и сказали: — Этого в хвост. Иди! Я торопливо вышел из конторы. — Куда тебя? — спросил меня такой же подросток. — В хвост! — ответил я. — И меня тоже в хвост, — сказал он тихим голосом, подошёл ко мне и встал со мной рядом. Из конторы на крыльцо выскочил рослый парень, с силой захлопнул дверь, подбежал к нам и торопливо стал выкрикивать: — Я в хвост не пойду! Дудки! Это был веснушчатый, с глазами навыкате, белобрысый парень с широкоскулым мясистым лицом, с отвислыми губами. Уши и шея одного цвета — темные от грязи. Волосы прямые, никогда, или очень давно, не стрижены. Когда он сказал «дудки», то цыкнул в сторону слюной, и слюна тонкой струйкой брызнула вдаль на несколько шагов. «Вот бы научиться так», — подумал я и позавидовал парню. — Мой тятька мастером был, — продолжал он горячиться, — не знают, что ли? А они меня ровняют вот с такими сопляками, — он кивнул на меня и откинул со лба громадный козырёк засаленной кепки. Я ничего не сказал парню, а покраснел и отодвинулся от него. Незнакомый мне паренёк, которого тоже назначили в хвост, опять встал со мной рядом. — В хвост! — возмущался парень. — Ишь ты, придумали! Третьей рукой назначают. Как бы не так! Первую руку, не меньше! Парень так разошёлся, что стал ругаться всякими словами. Испуганные, мы стояли, не смея пошевелиться. Дверь конторы открылась, вышел пожилой дядя без шапки, в чёрном пиджаке и в сапогах с лакированными голенищами. — Эй ты, буян! — окликнул он парня. — Зайди в контору! — Это я, что ли? — и парень шагнул к крыльцу. — А кто же, как не ты? — ответил дядя и добавил: — Разговор будет! — Видали? Я сказал, что в хвост не пойду, так и вышло. — И парень подмигнул так, что его нос дернулся кверху и в сторону. — Во, хлюст какой! — послышалось в стороне. Из конторы доносился визгливый голос парня. Я постоял ещё немного, отошёл от крыльца и сел на брёвна. Паренёк тоже сел со мной рядом, снял с плеч холщовую котомку положил её возле себя и стал переобуваться. — Ты чей? — спросил он меня, стягивая сапог с ноги. — Подчеварский! — ответил я и, в свою очередь, тоже спросил: — А ты? — А я из Липников, слыхал про такие? — Слыхал, но только не бывал у вас, а ты был у нас? — спросил я его. — В Подчеварах-то? Нет, не был. А нам к вам незачем ездить-то. — А к вам зачем ездить? — А к нам и подавно незачем. Мы ведь кругом в лесу. Я и на выгонку первый раз пришёл. Мамка-то не отпускала, — утонешь, говорит. Плакала, как я собирался. Ну, а отец, тот посылал. Иди, говорит, может на штаны себе заработаешь. У меня штаны-то по праздникам носить есть, и рубаха есть, — и он с улыбкой посмотрел на меня. — Но той весной штаны я замазал. Полез на сосну, а на сосне, сам знаешь, смолы-то сколько!.. Мамка стирала, стирала… А пятна, как сопли, так и остались. Она уж хлестала, хлестала меня штанами-то… Он разулся и, смотря на стёртый ноги, сказал: — Сапоги-то не мои. Тятька принёс от Громовых. А Громов — это богач, он телятами да коровами торгует, а иногда и кошек покупает. Когда как… Тятька выпросил у него сапоги. Петька, — говорит, — придёт с выгонки, так откосит за сапоги или отожнёт. Ну и дали вот их! — Он взял в руки сапоги и стал осматривать. — Тятька наказывал, чтобы я берёг их, — продолжал он, ставя сапоги возле себя. — Следи, говорит, чтобы не украли. Босиком останешься, что будешь делать? Так что я буду следить за ними, — и он придвинул сапоги ещё ближе к себе. — А у тебя лучше моих, — кивнул он на мои сапоги. — И не жмут? — спросил он. — Нисколько, как в валенках, — говорю я. — И не протекают? — снова спросил он. — Нет. Ни капли! Ноги сухие! — Хорошо тебе, — вздохнул он. — Вы, наверно, богачи? — спросил он после небольшого молчания. — Ежели бы богачи, то не пришёл бы сюда. А если сапоги у меня лучше твоих, так они тоже не мои, а братовы, он в Вологде учителем. А на сплав меня тоже отец послал. Изба у нас совсем развалилась, углы погнили, да и хлеба нет. Вот он и послал меня. — Иди, говорит, может рублишко какой заработаешь. — Значит, ты тоже из бедных? — перебил он меня. — Знамо из бедных! — Тогда мы с тобой и по реке пойдём вместе, ладно? — Конечно, вместе. — Не обмани только, — оживился он. — Мне ведь мамка-то наказывала: подыщи, говорит, там товарища хорошего, веселее будет и лучше. А тебя как зовут? — спросил он и стал обуваться. — Николаем, — ответил я. — Значит, Колька? Да? — А меня Петькой. Петька Егоров я. Не успел мой товарищ — Петя Егоров — обуться, как около конторы закричали: — Кто принят, за баграми! За баграми! Петя встал с бревна и, притоптывая о землю, стал обуваться. Обувшись, он поморщился от боли, быстро схватил лежавшую рядом холщовую котомку с верёвочными лямками, закинул её за плечи, и мы побежали за баграми. У нового дощатого сарая было людно. Все старались первыми пробраться к кладовщику. Сплавщики-профессионалы приходили на сплав леса со своими баграми, лёгкими, удобными, острыми. Кто не имел своего багра, тот получал его на складе. Часть багров была насажена на шесты, бери в руки и иди на реку. Большая часть багров лежала кучей на полу кладовой. Нам с Петей готовых багров, с шестами, не досталось. Выдали нам чёрные с окалиной железные штуковины с загнутыми крюками и заставили расписаться в толстом журнале. Любоваться своим, теперь уже собственным инструментом — некогда. Надо скорее захватить шесты, пока их не разобрали. За конторой, около бревён лежали шесты. Сухие шесты, прямые, гладкие, были разобраны, и нам достались сырые, тяжёлые, длинные палки — и комлистые и кривые. — Что, ребятки, получили багры? — спросил нас рыжебородый мужик в меховой шапке, похожей на кубанку, в домотканных крашеных в чёрный цвет штанах и в таком же, но коротком пиджаке с хлястиком сзади. На ногах рыжебородого были новые сапоги с длинными голенищами, что делало его неуклюжим и смешным. «Кот в сапогах» — подумалось мне, и я улыбнулся.

— Получили? Тогда давай сюда! — Подойдя к нам, он долго смотрел на нас, будто примериваясь к нам или обдумывая что. Улыбнулся чему-то, бросил свой багор на землю, снял с плеч котомку, положил её рядом с багром, взял у нас шесты и багры. — Покараульте это, — он указал на свои вещи, — а я сейчас приду. Это было так неожиданно и так скоро, что мы не сразу сообразили, что остались без багров. — Куда он? — спросил Петя. — Не знаю! — ответил я, смотря на мужика, который неторопливо уходил от нас. — Эй, дяденька! — крикнул я и побежал за ним. Он услышал, повернулся к нам и ответил: — Я приду, ждите!.. — Ты знаешь его? — спросил меня Петя. — Нет! А ты? — Не видал никогда, вот попались-то, — вздохнул он. — Не обманет, — успокоил я. — Раз котомку и багор оставил, значит придёт. Мы замолчали и стали наблюдать за окружающим. У конторы шумно, весело. Вот один сплавщик, немолодой, сел на брёвна и стал складным ножом вырезать на шесте багра метку. А вот щеголеватый, в чёрных матерчатых штанах и в шапке из серого зайца, присел на бревно, достал из кармана брусок и стал точить крюк у багра. — Эх, и багорчик выбрал, — говорил один сплавщик, ловко перекидывая багор из руки в руку. — Не багор, а находка, сам таскать будет, — и он с силой вогнал крюк багра в одно из бревён. Мы с Петей так засмотрелись, что не заметили, как подошёл рыжебородый. — Вот, получайте! — услышали мы. — Это вот твой будет, — и он подал мне багор с длинным прямым шестом. — А этот ты бери! — и он дал в руки моему товарищу такой же багор, но с более коротким шестом. Шесты были не те, которые он взял у нас. — А гвозди у вас есть? — спросил он. — Нет, — ответили мы. — Так дело не пойдёт, — и он потянулся к карману своего пиджака. — Вот вам гвозди, пригодятся, — и он подал нам по нескольку гвоздей. Мы взяли гвозди и посмотрели друг на друга. — А знаете, это для чего? — Приколачивать! — ответил Петя. — Чего приколачивать? — И мужик засмеялся. — Багры, — опять ответил Петя. — Багры приколочены, до запани не оторвутся. Ведь вы до запани пойдёте? — спросил он. — Я до запани, — сказал я. — И я с ним, тоже до запани. — До конца, значит, это хорошо, молодцы ребята! — он улыбнулся, стал закуривать. Откашлявшись после глубокой затяжки, он сказал, не глядя на нас: — А гвозди, ребятки, всегда держите при себе. Для чего? А вот для чего, — продолжал он, — за реку-то ежели придётся — как будете попадать? Не знаете? То-то, а это вопрос сурьёзный. Кашевар, скажем, приготовил кашу, а каша-то на том берегу, а вы на этом, что делать? А где лодка? Лодки нет, и никто вас не перевезёт. Выгонщик сам должен перебираться. Вот, к примеру, мне, хоть до запани сейчас. Были бы брёвна, а брёвна на сплаве всегда под рукой. Встану на два бревна или на одно, как придётся, и, глядишь, — на том берегу. А вы? А вот гвоздики-то вам и пригодятся. Вы возьмите два бревна, досочку какую, либо палку подыщите, да и прибейте гвоздиками палочку или досочку к брёвнам, и у вас получится плот. Знай подгребай багориком — и будешь на том берегу. Поняли? — Большое спасибо, дядя, — сказал я. — Вот и всё, теперь идите, сплавщики, мать честна́я, — он с улыбкой посмотрел на нас, поднял с земли котомку, багор и пошёл от нас. Мы посмотрели друг на друга, засмеялись и тоже пошли к кучке сплавщиков, которые с баграми, как с пиками, стояли около конторы. Остаток дня мы с Петей протолкались около конторы, не зная — куда нам идти, к кому обращаться и что делать дальше. Тут же на брёвнах пообедали. Хлеб был чёрствый-чёрствый. У Пети была маленькая горбушечка хлеба, похожая на сухарь. Соли у нас с ним не оказалось. Сухой чёрствый хлеб глотался трудно. На крыльце конторы стояла бочка с водой. Я сходил — зачерпнул кружку. У Пети кружки не было. — Ты подожди, не ешь пока, — сказал я. — Вот я доем кусок с водой, да и отдам тебе кружку — и лучше будет. Он ничего не сказал мне, а только кивнул головой — ладно, мол, подожду. Тут же рядом с нами сидели и обедали другие сплавщики. Они тоже, как и мы, ходили к бочке и зачерпывали из неё воду. Под вечер в лесу задымили костры. Все пошли в лес. У конторы никто больше не оставался. Мы с Петей тоже пошли за взрослыми. Ночевали недалеко от конторы, в лесу. Ночь была холодная, с резким северным ветром. Все места у костров были заняты, и мы с Петей дрогли в стороне, далеко от тёплого спасительного огня. И только, когда усталые люди, пожевав всухомятку хлеба с солью и наговорившись вдоволь о предстоящем заработке, о домашней нужде, улеглись на землю около костров и затихли, думая каждый о своём, мы с Петей подвинулись поближе к огню и стали отогреваться. Усталость взяла своё. Петя положил под голову свою котомку и прилёг поближе к огню, свернувшись калачиком. Я пока храбрился, сидел и подсовывал в огонь обгоревшие концы дров. Петя как лёг, так и затих, уснул. Немного спустя я тоже прилёг около него.

— Эй вы, ребятки, сгорите ведь! — услышали мы громкий голос и разом вскочили. Костёр, около которого мы уснули, шумел огнём, и пламя его жаркой красной полосой качалось из стороны в сторону. — Откуда они взялись? — удивлялись у костра. — А они с вечера-то в холодке отогревались! — И посылают же таких! — А чего? — возразил высокий сплавщик, раскуривая трубку. — Вот моему Мишке стукнет тринадцать годков, тоже придётся послать, — нужда, она не считается с годами… Мы отошли от костра в сторону, присели на обрубок ёлки и прислушивались к разговору. Когда совершенно рассвело, к нам подошёл рыжебородый, что приготовил нам багры. — Вы, ребятки, будете у меня в артели. Наша артель — вот она, — и он подвёл нас к костру, у которого сидели и лежали сплавщики. — Помощников привёл, принимайте, — громко сказал рыжебородый. Некоторые повернулись и стали нас рассматривать. — Первый раз попали сюда? — спросил кто-то. — Первый! — стараясь быть смелым, ответил я. — А ты, герой? — спросили Петю. — Мы с ним не бывали ни разу, — и Петя кивнул на меня. — А с домом простились? — Они с того света домой письмо напишут. — Жениться-то успели? — На русалках их поженим! Мы молчали. Шутки и смех сыпались со всех сторон. Все смеялись, и нам с Петей стало легче и не так страшно. Скоро наша артель, захватив котомки и багры, пошла куда-то. Мы с Петей стояли в стороне и не знали, что делать. — А вы чего остались? — услышали мы рыжебородого. — Ведь на завтрак пошли. И не сказали. Ну и народец! — он ещё говорил что-то, но мы с Петей бросились догонять артель. На опушке леса дымил костёр. Над ним висел на толстой круглой перекладине большой чёрный котёл. Котёл был закрыт деревянной крышкой. Из-под неё шёл пар и смешивался с дымом костра. Когда дым с паром качнулись в нашу сторону, в нос ударил вкусный запах. — Кашей пахнет, чуешь? — спросил меня Петя. — И маслом тоже, — сказал я и втянул в себя запах. — А нам дадут каши? — опять спросил Петя. — Наверно дадут, раз мы зачислены в артель, — отвечаю я и разыскиваю глазом рыжебородого. Было людно, шумно. Каждый, кто приходил на завтрак, доставал из голенища сапога ложку и высматривал свой десяток. Мы были в десятке у рыжебородого мужика. Звали его Анатолий Михайлович Сорокин. Он был артельным, то есть старшим артели. Устроились мы на завтрак на небольшой поляне между двух ёлок. — А у тебя ложка есть? — спросил я Петю. — Есть, в котомке. — А у меня за голенищем, смотри, — сказал я и достал деревянную крашеную и покрытую блестящим лаком, расписную ложку. Петя быстро сбросил котомку с плеч, развязал её и вынул ложку, тщательно завёрнутую в чистую холщовую тряпку. — Мамка завернула, — сказал он и, осмотрев ложку, удивился: — Во́, и не сломалась! — Он взял её в зубы и стал завязывать котомку. С ложками в руках мы стояли около кучки сплавщиков, сидящих на земле. Это был наш десяток. В этом десятке мы теперь и должны завтракать, обедать и ужинать. Принесли кашу. Большой эмалированный таз до краёв был заполнен жёлтой дымящейся паром кашей. Сверху, в углублении, янтарной лужицей было налито масло. — А вы чего стоите? — сказал нам рыжебородый. — Садитесь, особого приглашения не ждите… Не у матки за столом!.. Он тщательно размешал кашу и, стукнув по краю таза ложкой, сказал: — С богом, мужики!

Сразу десять ложек опустились в таз. Моя ложка тоже устремилась туда же. Горячая каша обжигала рот. Многие, поперхнувшись, закашляли, проворно шевелили губами, языком, чтобы не проглотить огненный комок. Я и Петя робко тянулись к артельной посудине и захватывали неровно — иногда пол-ложки, а иногда и полную. Пшённая каша стекала с ложек. Приходилось подставлять под неё ломоть хлеба. Ели молча. Слышалось торопливое чавканье, покашливание и стук ложек о края таза при стряхивании излишков. Каша в тазу уменьшалась быстро. Пока мы с Петей приспосабливались, таз опустел. — Ежели такой кашей будут кормить, то сытно будет, — тихо проговорил Петя после завтрака. — А вкусная какая! — и он причмокнул языком. Тщательно вылизав ложку, он стал засовывать её за голенище сапога. Голенище было узкое, и ложка туго подвигалась. — Сломается, — видишь, как жмёт её, — сказал я. — Ой, что ты! Это нельзя, а каша как? — и он стал искать в голенище более широкое место. — А ты давай ложку мне, я положу её вот в этот сапог, — предложил я, хлопнув рукой по голенищу. — А и правда! — обрадовался он. — На, клади! А то вдруг у меня сломается… Все будут кашу есть, а я буду сидеть. Правда ведь? — и он с улыбкой наблюдал за своей ложкой, которую я засунул в широкое голенище моего левого сапога. — А мы всё время будем вместе, да? — спросил он, стараясь заглянуть в мои глаза. — Конечно, вместе, а как же? — подтвердил я. Петя вздохнул: — Только не обмани. После завтрака наш артельный, Анатолий Михайлович, встал, взял багор, прислонённый к дереву, и сказал: — Ну, мужики, пойдёмте! От конторы дорога уходила в лес. По этой дороге и направилась артель. Мы с Петей шли сзади. Разговаривать некогда. Грязная, заваленная валежником и сучьями дорога была трудно проходима. В более густом лесу, в низких местах, лежал снег. Он был с краёв оледенелый и усыпан сверху хвоёй и мелкими ветками. Ноги засасывало до самых колен и с большим трудом приходилось вытаскивать сапоги из лесной трясины. — Куда идём? — спросил меня Петя. — Не знаю, — ответил я. Шли без остановки. «Наверно, хотят пройти лес, а потом и отдыхать будут», — подумал я. Скоро впереди засветлело, и мы вышли из леса. Дорога повернула вправо и стала ещё хуже. Всюду валялись кряжи, брёвна, вершинник. Да будет ли конец-то?! Вдруг все остановились. Вправо и влево от нас высокие штабели брёвен. А за штабелями речка — узкая, бурная, с крутыми берегами. Мы с Петей обошли артель стороной и вышли к реке. У каждого штабеля возились люди. Они скатывали брёвна в реку. Работали в одних рубахах. В руках были колья. Мы стали смотреть на их работу и на реку. Быстро катится бревно. Ударяясь о воду, оно ненадолго исчезает в ней и в нескольких метрах от места падения шумно всплывает и, покачиваясь, уносится вниз. Сбрасывалось в воду несколько штабелей, и вода в реке кипела. Артельный подошёл к нам с Петей и сказал: — Вы, ребятки, отдыхайте пока! Мы с Петей сели на брёвна и стали смотреть на работу взрослых. — Не боишься? — спросил меня Петя. — А чего бояться? — А мало ли чего? Вон она, какая река! Если свалишься, то и не выплывешь. — А ты плавать умеешь? — спросил я. — Плохо. Эту реку мне не переплыть. Может быть, и переплыл бы, ежели голый, без ничего… — А ты, наверно, и плавать мастер? — спросил он меня. — Не умею. — Совсем? — Не приходилось. — Реки нет, что ли? — Есть, но я не плаваю. — Боишься? — Боюсь. — Ты всегда такой? — спросил он меня. — Какой «такой»? — Не хвастун. Другой, может быть, и не умеет плавать, а нахвастался бы. — А что мне врать? — ответил я. — Раз не умею, тут уж ничего не поделаешь. — Тогда знаешь что, — он наклонился ко мне, — мы будем всё время вместе, тогда не пропадём. В случае я тебе помогу, а если что случится, ты мне поможешь. Хорошо? Мамка-то очень горевала, как я уходил. Жалко ведь!.. — Ты посиди тут, — сказал через несколько минут Петя, — а я пойду поближе, посмотрю на брёвна. Гляди, сколько их катится в воду! Посидишь, ладно? — Иди посмотри, а я отдохну, — сказал я. — А ты тоже устал? — Немного. Петя вздохнул. — Я тоже устал, но тут так интересно! — И он быстро зашагал к самому краю берегового обрыва. Он остановился и стал смотреть на реку. Только тут я внимательно оглядел его. Это был худенький мальчик, меньше меня ростом. Лицо у него вытянутое, бледное. Нос прямой, узкий, как бы точёный. Волосы белые, прямые, нестриженные. Глаза любопытные, живые. Когда он рассказывает, то глядит куда-то в сторону. Если слушает, то смотрит на рассказчика в упор, не мигая. Пиджачишко на нём, как и на мне, короткий, из чёрной материи — «чёртовой кожи». Шапка-ушанка из кошки или зайца — не разобрать. Выношена. Я подошёл к нему. — Вот здорово, — удивился он. — Ни одно бревно не тонет. Сначала скроется под водой, а потом опять выплывает наверх. А почему это так? — В нём, в бревне, много воздуха, — говорю я. — Вот и не тонет. — А во мне? — И в тебе есть воздух, только он в лёгких, а в других местах вода! — неуверенно отвечаю я. — И в голове вода? — спросил он и уставился на меня. — Вода везде, — говорю я серьёзно. — И в голове есть, и в ногах, и в руках. Только в лёгких воздух. Ты разве не видал, как лёгкие от овцы или от телёнка плавают сверху, когда варят щи? — Видал. Поэтому и зовут их лёгкими, что они лёгкие, да? — Наверно. — Интересно!.. — и Петя задумывается. Стало накрапывать. Мы пошли к нашей артели, которая была в сборе. Сейчас предстояла нам с Петей неизвестная работа сплавщика. — Вот, ребятки, — сказал нам наш артельный. — Теперь пойдём по реке до самой запани. Вы всё время будете идти самыми последними, — в хвосте, значит. Увидите на берегу бревно, столкните его в воду, пристало ли бревно к берегу, тоже оттолкните. После вас на берегу не должно оставаться брёвен. Понятно? Большие заломы мужики разберут, вам не оставят. А в Залесной нас каша будет ждать! Пошли, мужики! — обратился он к артели. С баграми на плечах пошли гуськом друг за другом все сплавщики нашей артели вниз по реке, а мы с Петей торопливо сбежали к самой воде. Река бушевала. Мутная вода неудержимо неслась, размывая глинистый берег. Вот на середине реки из воды показалось что-то чёрное, горбатое и скрылось. Уж не человек ли? Вот опять показалось. Да это же пень! Его широкие, разлапистые корни задевают за речное дно, и он, как бы борясь с течением, шумно всплывает и шумно опускается. Жутко! Брёвен на воде не было. Сильное, быстрое течение умчало их, и лишь около берега плыли щепки и разный речной мусор. — А ты знаешь, где Залесная? — спросил меня Петя, когда мы остались одни и торопливо пробирались по берегу, обходя деревья, кусты, ручьи… — Нет, не знаю. — А как же мы найдём её? — Найдём. Раз обед там, то значит и Залесная на берегу где-то, не пройдём мимо. — А может быть, Залесная на том берегу? — Может быть, и на том берегу, — машинально ответил я и посмотрел на быстрое течение. — Там, наверно, перевоз есть? — Зачем нам перевоз, ведь у нас есть гвозди, — отвечаю я. — Гвозди, вот они, — Петя тряхнул полой, и в кармане звякнуло. — Покричим, река-то ведь неширокая. — Правда! Это хорошо бы… — тихо сказал Петя, и мы замолчали. На небольшом повороте реки в малом заливчике лежали брёвна. Брёвен было около десятка, но они были такие толстые, что диву дашься. — Ишь ты, как закинуло, — сказал Петя. — Нам, пожалуй, их и не сдвинуть, вон они какие толстые, — и он ткнул одно бревно багром. — Давай попробуем, — проговорил я и стал багром, как рычагом, сталкивать бревно к воде. Петя сбросил котомку и начал помогать мне. Мы разом, одной силой стали катить его к воде. И вот оно уже в воде. Петя толкнул его от берега, оно наискось пошло на середину реки и быстро, быстро отдалялось. Самым неподатливым оказалось сосновое бревно не меньше метра в диаметре. Ох, и досталось нам с Петей! Боясь сломать шесты, мы стали сталкивать его кольями. Подсовывали один конец под бревно, брались за колья и — раз взяли, раз взяли! С трудом подкатили бревно к воде, а потом уже баграми оттолкнули его на середину реки. Переваливаясь с боку на бок, бревно поплыло. — Вот так бревно, — наверно, в нём пудов сто будет, правда? — сказал Петя, надевая на плечи котомку. — Ежели испилить его на тёс, то пол-избы закрыть можно, — говорю я. Неторопливо мы пошли дальше, вниз по реке. Брёвен на берегу не было, и мы больше к воде не спускались. — Если так пойдём, — сказал Петя, — то скоро и в запань придём. — А где запань, ты знаешь? — спросил я Петю. — Нет. А ты знаешь? — спросил Петя. — У нас в деревне дядя Иван каждый год ходит на выгонку. Он рассказывал, что запань на Кубине. — А это далеко? — Кубина-то? — переспросил я. — Да. — Наверно далеко, я ведь тоже не знаю. — Значит, и домой не скоро, — и Петя остановился. — А как же тогда скворцы? — Какие скворцы? — Я зимой сделал четыре скворешни. Две сразу поставил на рябинину. У нас под окном большая, большая рябинина. Одну скворешню я поставил повыше, а другую пониже. А другие две скворешни на Мишкину берёзу хотел поставить, а не пришлось. — А что случилось? — Мишка заболел, головной тиф у него признали, в больницу увезли. Ну, а меня вот сюда послали… Послышались голоса, и, выйдя из-за кустов, мы увидели нашу артель. Все сплавщики сидели на брёвнах. Брёвна лежали не только на берегу, но и вся река была завалена ими. Вода шумела и булькала между брёвнами, тесно прижатыми друг к другу.

— Пришли? — спросил нас артельный. — Гляньте, что тут натворило, — кивнул он на реку, от берега до берега заваленную брёвнами в несколько рядов. Ниже затора вода кипела. В больших и малых водоворотах показывался разный речной мусор и сразу уходил в глубину. Артельный, Анатолий Михайлович, пошёл на средину завала. Походил по брёвнам, потыкал их багром и вышел на берег. — Держат бережные, вот эти, — он показал на несколько брёвен, лежащих наклонно в воде. Из воды торчали их концы не больше двух метров. — Берёмся, — сказал он и с силой всадил загнутый крюк своего багра в бревно. Как дятлы, застучали по бревну багры. — Взяли! — громко крикнул артельный. Бревно не подалось. — Взяли! — ещё громче крикнул он, и бревно разом выскочило из воды. Некоторые сплавщики упали. Стало весело. Затор зашевелился и затих. — Сейчас пойдёт! — сказал артельный и воткнул багор в другое бревно. Когда все разом дёрнули, бревно вылетело из воды и затор тронулся. Сжатые брёвна стали расходиться вширь, и ниже того места, где был затор, образовалась широкая серая полоса брёвен. Сразу же были сброшены в воду и те брёвна, которые лежали на берегу. Артель стала собираться дальше. — Вы, мужики, идите верхом, а я поспешу, — сказал артельный. Он подтянул к берегу два плывущих бревна и встал на них. Брёвна закрутились у него под ногами, он дал им успокоиться, оттолкнулся багром от берега. Его понесло. — До Залесной четыре версты! — крикнул он на берег. Его вынесло на средину реки. Артель ушла вперёд, а мы с Петей стояли и смотрели на нашего артельного, который удалялся от нас и был похож на чёрный столбик, стоящий в воде. Залесная — приречная деревушка. В ней не больше сотни построек, считая амбары, бани. Вышли мы к деревне незаметно для нас. Лес расступился, около реки появились большие и маленькие чистые поляны с остожьями — покосы. За покосами поля с косыми изгородями и старым незапаханным жнитвом. А среди полей, вытянувшись по берегу реки, стояла Залесная. Как мы узнали после, около приречных деревень по берегам рек не бывает оставшихся брёвен. Жители таких деревень, несмотря на то, что живут в лесу, не отказываются от готового бревна. Сплавное бревно для них дармовщина. Поэтому охотников на сплавляемый лес много. Воровали лес сотнями брёвен. Лесные берега рек надёжно скрывали украденное. Прятали брёвна по-разному. Одни рыли недалеко от реки большие канавы, похожие на современные траншеи, ловили плывущие по реке брёвна, стаскивали их в эти канавы, засыпали землёй и заваливали деревьями. А крупные воры — заготовители сплавного леса на постройку дома или другой надобности — возили брёвна на лошади подальше от реки, в лес, и там прятали. Розыском ворованного леса в приречных деревнях занимались особые люди, нанимаемые на время сплава леса, — фискалы. Задача сплавщика-фискала — находить спрятанный лес, добираться до виновников и составлять на них акты. Участь фискалов незавидна. Узнав, что фискалы пришли в деревню, жители не пускали их в избы, грозили им. При всяком удобном случае избивали их и даже убивали. Всё это мы с Петей узнали от нашей артели. Как сказал наш артельный, в Залесной нас ожидал обед. Ниже деревни у нашего берега стоял большой плот. На плоту был красивый тесовый домик — сплавная контора. Около домика на приспособлении из кирпичной кладки горел костёр. Над костром висел тот же чугунный чёрный котёл, в котором варился завтрак. На берегу, между редкими по-весеннему, ещё голыми кустиками, наша артель собралась на обед. За обедом с вёдрами ушли трое сплавщиков. Но так как на обед было приготовлено второе блюдо, надо было послать ещё двух человек. — А вот пусть ребятишки сходят, они молодые, для себя ведь, — кивнул на нас угрюмый бородатый сплавщик. — Дождёшься от них, — возразил кто-то. — Гляньте, они еле на ногах держатся. — Устали, наверно? — Я в их годы юлой крутился около старших-то, — опять буркнул угрюмый. — Избаловались, вот и нет уважения. Мы стояли в стороне и молчали. Я от усталости и голода ослаб совершенно. Петя стоял со мной рядом и по-стариковски опирался на багор. Он часто переступал, — наверно, сапоги давили ноги. Обед артелью был не съеден, а уничтожен за несколько минут. Мяса нам с Петей не досталось, каши успели захватить из артельной посудины по нескольку ложек. Места нам остались позади, и мы за каждой ложкой тянулись через плечи сидящих. — Пойдём, — пригласил меня Петя после обеда. — Куда? — спросил я. — Дообедывать, — прошептал он. — Ты не наелся? — А ты? — Нет! — И я нет! — Так как же? — Вот и пойдём, у нас ведь хлеб есть и соль у меня в кармане! Артель стала курить, а мы с Петей в стороне за кустами дообедывали хлебом с солью. Ох и вкусен хлеб! Лучше каши и щей с мясом. В артели толкают, оттесняют, а здесь ешь не торопясь. Хорошо! — Вот и наелся досыта, — и Петя остаток хлеба положил в котомку. — А ты? — спросил он. — Больше не хочу, — сказал я и тоже остаток хлеба стал убирать в свою котомку. — Ежели и завтра не наедимся, то тоже хлебом доедим, ладно? — уставился на меня Петя. — Конечно, голодными сидеть не будем! Мы замолчали. За кустами слышался разговор артели. О чем-то горячо спорил, по голосу как будто угрюмый, сердитый всегда сплавщик. — А мне какое дело, пусть обсыхает! — горячился он. — Должны мы в срок пригнать лес в запань или не должны? — это спрашивал артельный. Его голос. — Всё равно мне из нужды не выйти, и хоромы мне Уловский не выстроит, это мне известно, — громко говорил угрюмый. — Уловский тоже под началом, и задержка сплава ударит по его карману. — Это опять голос нашего артельного. — Нам от этого не легче, — кто-то сказал ровным голосом. — Бросьте, мужики, спорить, — всё равно плетью обуха не перешибёшь! — И то правда, — послышались голоса, — вот дойдём до запани — и шабаш! — Отдай положенное — и всё! — И домашние дела ждут. — Поскорее отделаться — и в сторону. Отдельные голоса слились в общий гул, и разобрать что-либо нельзя было. — Чего это они? — спросил Петя. — Не знаю, спорят о чем-то… — А каша-то какая вкусная! — протянул Петя. — Мамка в праздник тоже варит кашу, но, сам знаешь, праздники-то редко. Вот если бы праздники каждый день были, вот бы здорово! — И он причмокнул языком. — А у тебя дома кашу тоже по праздникам варят? — спросил он. — Не в каждый праздник. — А чего, коровы нет, наверно? — Была, а сейчас нет, продали. — А у нас есть, — Петя встал на колени. — Большая, большая, чёрная, с одним рогом. Молоко носим на завод, в сыроварню… А знаешь, — он подвинулся ко мне, — обрат не хуже молока. Мы с Веркой обрат едим с хлебом. Только у нас хлеб не такой, — рассуждал Петя, не глядя на меня. — Мамка ржаную муку мешает с овсяной, так выгоднее. Хотя хлеб и не такой вкусный, как этот, но зато надольше хватит. Ведь правда? — Ну, конечно, надольше, — машинально отвечаю я. — Вот видишь! — А, это вы, молокососы? — к нам из-за кустов бойко подошёл парень, которого мы видели у сплавной конторы. — Как дела? — спросил он и откинул со лба козырёк кепки. Он бесцеремонно пощупал наши пиджаки и удивился: — Сухие! Вот как! — А ты мокрый? — спросил Петя, и в его глазах мелькнула злоба и неприязнь к этому самодовольному парню. — Мне негде мокнуть! Если дождик, мы и под крышей переждём, а к реке я близко и не подхожу, — хвастался парень. — Что же ты делаешь? — спросил я. — Вам до меня, как до того берега, не допрыгнуть, понятно? Я фискал! Вот кто я! — и он так цыкнул слюной, что она перелетела ближайший куст. Мы с Петей переглянулись. — Выходит, ты главный какой-то? — спросил Петя. — Главный не главный, а подчиняться и мокнуть в воде не надо. Сам себе хозяин! Вот захочу — и пойду сейчас в деревню молоко пить. А захочу — пойду в лес. Вот какой я, ясно вам! — Он так начал кричать, что мы с Петей сразу оба притихли и перепугались. — Ты чего раскричался? — послышалось в стороне, и к нам подошёл артельный. — Я рассказываю им, а они слушают, — кивнул на нас парень и пошёл к артели. — Вы, ребятки, не бойтесь его, — сказал нам артельный. — От нас он, из соседней со мной деревни. Отец у него артельным был, вот как бы и я. Утонул он. Вот уж два года минуло. Остался у него Гришка, вот этот самый. — Гордый он и хвастун, — перебил артельного Петя. — Гордость эта напускная, — продолжал артельный. — Отца его, покойного Александра Ивановича, знало всё начальство. Только бывало и слышно — Зябликов, Зябликов. Вот Гришка-то и держится за его славу. Думает, что если он сын Зябликова, то ему всё можно. Не пошёл ведь с багром, как вы, а напросился, где полегче. Фискалом послали. — Его убьют, правда? — спросил Петя. — Кто убьёт? — удивился артельный. — Нам говорили, что фискалов бьют, — сказал Петя. — Случается, но редко, — ответил артельный. — Не любят фискалов, это верно… Каждый день пробирались мы берегом реки — то ве́рхом, если не было на берегу брёвен, то низом, шли около воды, сталкивая в воду отставшие и приставшие брёвна. Приходилось уходить от реки на километр и больше — искать место перехода через бушующие весенней водой речушки и ручьи. Вымокли до нитки. Ноги плохо слушались, и мы с Петей плелись, пошатываясь от усталости. Скоро ли? — Давай отдохнём, — предложил как-то Петя, — всё равно не дойти до ночлега. Завтра догоним, ладно? — Если сегодня не догоним, то завтра и подавно. Нельзя так, — говорю я Пете, а сам всматриваюсь в тёмный лес, который со всех сторон окружает нас. Снега нигде нет, но холодно. Резкий ветер с мелким дождём сечет нас на лесных полянах. Хорошо только в густом-густом лесу. Там тихо и тепло. Но такого леса по берегу реки немного. Всё больше голые кусты, голые берёзы и отдельно стоящие ёлки. А река петляет, кружится по лесу и прячется в нём. Иногда теряем её и долго продираемся сквозь заросли голого черёмушника, ища воду. Да вот же она, рядом, мутная, игривая. Скорее бы ночлег! Вот он, спасительный дымок. Артель располагалась обычно на поляне на высоком берегу реки. Ужинаем всегда в сумерках. Есть не хочется. Мокрая одежда холодит, и ложка стучит о зубы. Когда взрослые уснут у костров, мы перебираемся поближе к огоньку. Начинаем сушиться. Ноги у Пети — страшно смотреть! Пузыри, ссадины. И на пятках и на пальцах. — Как же ты ходить будешь? — ужаснулся я. — Не знаю. Такие уж сапоги! — Знаешь что, — говорю ему, — давай поменяемся. Я твои сапоги обую, а ты — мои. Всё равно, мне мои сапоги великоваты, а тебе будут как раз. Сена туда положим — и будет мягко. — Скажешь тоже! — удивился он. — У тебя вон какие хорошие, а ты меняться. Смешно! — Так ведь не на совсем, на время только. Как ноги у тебя заживут, так и разменяемся. — Ну, если на время, то давай попробую. Только зачем это, — сказал он, глядя на мои сапоги. — Как зачем? — хриплым шёпотом говорю я. — Ты посмотри на свои ноги! Надо идти, идти, а ты? Он взял мои сапоги и стал примерять. Обул их с портянкой, встал и, улыбнувшись, сказал: — Лучше! — Он шагнул несколько шагов. — И не жмут, вот здорово! Ну, а ты-то попробуй мои, — может быть, они и на ноги тебе не полезут? — спохватился он.

Я с трудом натянул его сапоги. Встал. — Ну как? — спросил он. — Ничего. — Не жмут? — Нет. — Значит, ноги у меня такие. — Сапоги тебе малы, вот и жмут, — говорю ему и пробую ходить. Его сапоги мне тесны. Особенно правый сапог. Но я не сказал ему об этом, а с силой притопнул о землю, — видишь, как они мне по ноге, точь-в-точь. Петя сел и стал бережно снимать мои сапоги. — А ты знаешь, — рассказывал он, — ведь я едва дошёл сегодня. Как ни поставлю ногу, всё жмёт и трёт. Замучился. Думал, не дойду. А ты хороший! Вот бы мамке-то сейчас рассказать, она бы и плакать перестала. — Он замолчал, глядя в огонь. Ночь была холодная. Остаток ночи мы крутились у костра, подставляя к огню то спину, то бока. Дождя не было. Это наше счастье. Утром у нас не попадал зуб на зуб, но мы были сухие. Это больше чем хорошо! В некоторые дни мы проходили немного. Река петляла по низким местам, разлилась по всем низинам, и большим и маленьким. В каждой залитой водой низине были брёвна. Вся артель работала без перерыва. С большим трудом приходилось выводить брёвна из мелких луговых луж. Обедать ходили вниз по реке за пять километров, а после обеда кричали «дубинушку» на этих же залитых водой лугах. Дождя не было, но все были мокрые с головы до ног. Я однажды ухитрился провалиться между брёвен и вымок до пояса. С помощью Пети снял сапоги, выжал портянки и с большим трудом обулся. — Жмёт? — спросил меня Петя. — Тесно немного. — Давай разменяемся, — сказал он. — А уговор? — напомнил я.Петя вздохнул и замолчал. На ночлег вся наша артель приходила усталая, мокрая. На ужин всегда готовилась пшённая каша. Ели её молча, торопливо. Все спешили к спасительному огню. Скорее, скорее обогреться, обсушиться! Сегодня ночь выдалась тёплая, тихая. Проснулся я на рассвете. Спать почему-то не хотелось. Подложив в костёр дров, я тихо сидел и присматривался к окружающему. Вот рядом со мной лежит Петя. Он сжался в комок и подтянул колени к подбородку. Холодно ему, но спит. Чуть в стороне лежит, раскинувшись как на постели, наш артельный Анатолий Михайлович. Он спит босой, как и все члены нашей артели, но сапоги у него в мешке, а мешок под головой. Так-то надёжнее! У другого, потухшего костра спят остальные. Они похожи на серые валуны, разбросанные в беспорядке, кучками, на лесной опушке. Вот угрюмый сплавщик раскинул руки в стороны и застонал. Тяжело, длинно. Что снится этим людям? Быть может, они видят себя в поле. В перерыве для отдыха всё чаще и чаще слышались слова: земля скоро поспеет, пора пахать, пора! Вон какое воспарение от матушки, не запоздать бы! Всё может быть! А сейчас кормильцы семей храпят и чешутся во сне, нагревая теплом своего тела холодную сырую землю. Когда рассвело совершенно, все эти серые валуны, лежавшие у потухших костров, зашевелились, стали подниматься и, ёжась от холода, подбегать к костру. Костры задымили. Дым едкой горечью резал глаза, слезил их, и на грязных лицах снова и снова появлялись тёмные, грязные полосы. Едкий дым забирался в лёгкие и заставлял судорожно, до боли кашлять. Но вот костры вспыхивают ярким обжигающим пламенем. Десятки рук тянутся к огню с портянками. Запах дёгтя и дыма господствует у костров. Горячая портянка хороша озябшим за ночь ногам. Приятно, когда сухие ноги! Над полыхающими жаром кострами досушивается и нагревается верхняя одежда. В руках пиджаки — чёрные и серые, новые и поношенные, с заплатами и рваные. Всякие! И, наконец, над пламенем рукавицы. Все покидают ночлег, все спешат на завтрак — к артельной посудине. Костры остаются одни. Жаркий огонь бегает по горящим дровам. Золотисто-красные угли льют приятную теплоту и соревнуются своей красотой с солнцем, которое неторопливо, ярким весенним светом заливает догорающие костры на лесной опушке. Дни проходили в однообразии. Разнились они друг от друга количеством пройденного пути да тяжестью работы. Руки болеть перестали. Они уже не чувствуют такой усталости к концу дня, как вначале. Появилась сноровка и умение владеть багром. Сейчас я и Петя с первого удара глубоко вгоняем крюк багра в бревно и легко освобождаем багор. В первые дни всё не давалось — и багор в бревно не впивался, и не освобождался. Ведь были случаи, что уплывающее бревно чуть не вырывало багор из рук. Но тут под боком оказывался Петя — и всё обходилось благополучно. Ноги у Пети стали заживать. На потёртостях образовались корочки, и он уже не жаловался на боли при ходьбе. — Знаешь что, — сказал он однажды ночью у костра, — отдай мне мои сапоги, а ты возьми свои, — и он поставил рядом со мной мои сапоги. — Вот дойдём до запани и разменяемся, к тому времени и нога у тебя заживёт, — и я указал ему на большую потёртость лодыжки. Петя посмотрел на меня и уставился на огонь. — Знаешь что? — оживился он. — Приходи к нам в Липники, я тебя плавать научу. У нас река пошире этой будет, а вода как стеклышко, всё видно на дне. Придёшь, ладно? — Если дома отпустят, то приду, чего не прийти, приду конечно, — соглашаюсь я. — Отпустят. Ты только скажи, что к Петьке к Егорову — и всё. Я тебе дома всё, всё покажу. У меня и книги всякие есть. И про сыщиков есть. Вот читать-то страшно! Мамка меня часто бранит. Опять, говорит, про сыщиков начитался, всю ночь во сне кричал и плакал. А я ведь не знаю, может это и не от сыщиков? — А у тебя книги Гоголя есть? — спрашиваю его. — Нет, своих нет. А Гоголя я читал. У него тоже страшно написано. Только у него не про сыщиков, а про покойников. Жуть! — и Петя придвинулся ко мне. — А ещё я тебе покажу, где клад зарыт, — прошептал он. — Какой клад? — Как какой?! Деньги, золото… — А ты видел его? — Клад не всякому даётся, — шептал он. — Мамка говорит, что ежели ты не заслуживаешь, то клад из рук уйдёт. Вот он, клад-то какой, а ты спрашиваешь, видел ли я. Может, кто и видел. — И он задумался. — Мы тоже клад искали, — говорю я. — Нашли? — И Петя подался ко мне. — Нет, не нашли. Яму вырыли большую, а до клада не докопались. — Глубоко, значит, ушёл клад. Если не заслуживаешь его, то хоть с вёрсту прокопай землю — не достанешь. Ты копаешь, а клад уходит и уходит, всё глубже и глубже. У меня мамка тоже клад искала. Докопалась до чего-то до железного, лопата как стукнет в железо, а мамка и убежала. Испугалась. А когда снова пришла и стала копать, то никакого железа не было. Клад ушёл глубже. Мы так бедными и остались. А ежели бы клад-то найти… И я бы не пришёл сюда и ты, правда, ведь? Рассветало. Потухшие за ночь костры разгорелись ярким, горячим пламенем. Из-за леса поднималось весеннее солнце. На реку Кубину мы вышли под вечер. Узкая, лесная и бурная Вотча осталась там, в далёкой весенней дымке. Остатки потухших костров на её берегах — немые свидетели нашего трудного опасного пути. По Кубине плыли брёвна. По широкой, многоводной реке они неслись без задержки. Заторы, такие, как на реке Вотче, здесь редки. Только на больших порогах можно ожидать заторы из бревён. Громадными бревенчатыми заторами славятся большие пороги под Баранихой. К этим порогам мы подошли поздно вечером. На всю ширину реки от берега до берега стоял многослойный затор из брёвен. Разобрать его, сдвинуть с места всю эту, сжатую неимоверным напором воды, бревенную массу — не просто. Тут требовалось умение, опыт и смелость. Ночевали недалеко от порога. Ужинали и уснули под шум воды и стук брёвен в реке. С рассветом все были на реке. Тут были и другие артели, которых мы до этого не видели. Каждая артель держалась особняком, отдельной группой. Все курили, плевались и смотрели на затор, который беспрерывно рос и ширился. Только сейчас, днём, он был виден весь от начала, от нашего берега, до конца, до того берега. Это было что-то необыкновенное. Из воды торчали поставленные стоймя, «на попа», как здесь называют, многометровой длины брёвна. По такому бревенчатому мосту можно ходить смело, брёвна не уйдут из-под ног в пучину. Наш артельный, Анатолий Михайлович, очень расстроен. Скоро, с минуту на минуту, ожидается сам хозяин сплава — подрядчик Уловский. — Ну, мужики, не подведите меня, да и сами смотрите в оба, — предупреждал он свою артель. — А нам что, — сказал угрюмый, — мы не краденые, нам бояться некого, а сами себя знаем, не первый год на сплаве. — Так-то оно так, но начальство — всегда начальство, — говорит наш артельный и отходит от артели. К затору пришли и другие мастера сплава — артельные других артелей. Они стояли в сторонке и что-то обсуждали. О нас, наверно, забыли. Мы с Петей сидели на высоком берегу и наблюдали за рекой. Вот к затору несёт брёвна. Они с силой ударяются, разворачиваются и, как живые, начинают нырять под низ, встают на дыбы. Затор приподнимается, потрескивает, а на берег выползают всё новые и новые брёвна. Мастера сплава и наш артельный пошли на затор. Они долго ходили по бревенчатому настилу, стучали баграми по брёвнам и о чем-то советовались. Когда они вышли на берег, раздались крики — уйти с затора! Туда, где вода кипит большими и малыми бурунами, где резвятся, вырываясь из-под бревенного завала, выпуклые мутные водовороты, — идут несколько человек мастеров. Вот один из них начинает рубить топором выгнутое под напором воды бревно. Взмах, втором, третий! Слышится сильный треск дерева, и в образовавшиеся ворота, — вернее, окно — начинают нырять брёвна. Завал шевелится и затихает. Топорами рубят в нескольких местах. Вот затрещало и тут и там, и затор, как живой, трогается с места. Мастера проворно бегут на берег, прыгая с одного бревна на другое. Брёвна под их тяжестью уходят в пучину и с шумом всплывают. Затора не стало. На его месте бешено мчится вода. Громадные камни, скрытые под водой, образуют белые клокочущие буруны. По всей ширине реки вода или плавно перекатывается через невидимые в воде каменные препятствия, или режет себя острыми выступами. Все артели поднимаются наверх, на высокий берег и уходят вслед за плывущими по течению брёвнами, а мы с Петей стоим около воды и ждём нашего артельного. Наш артельный к нам не подошёл. Все мастера, в том числе и Анатолий Михайлович, встали каждый на своё бревно, уравновесили его, быстро перебирая ногами, и, воткнув багры около своих ног в бревно, помчались через порог. Вода в бурунах заливает смельчакам ноги до колен и выше, а они твёрдо, как вбитые, проносятся друг за другом через бушующий порог. Буруны позади. Багры у смелых мастеров в руках. Они, чуть касаясь ими воды, направляются к берегу, соскакивают и толкают брёвна-«транспорт» подальше от берега. Честь и слава вам, безвестные герои! Наши дневные переходы удлинились. В день делаем по двадцать километров. Брёвен на берегах нет. Редко-редко встретишь приставшее бревно, оттолкнёшь его и идёшь, идёшь, усталый, до ночлега. Места проходили хотя и лесные, но людные. Ночевать останавливались в прибрежных деревнях. Пускают на ночлег, но неохотно и не везде. — Фискалы, наверное? — спрашивают нас. — Нет, тетушка, не фискалы — сплавщики мы. Это вот всё наша артель по деревне ходит! — указываем мы на сплавщиков, которые, как и мы, ходят по деревне, ища ночлега. — Ну, ладно, ночуйте! Заплатить-то, наверное, нечем? — Жалованье еще не получили, — говорим мы. — Вот тут у порога ложитесь, — указывают нам. Мы благодарим, как можем, и ложимся с Петей спиной друг к другу, подложив под головы свои котомки. А как рады теплу и уюту избы! В некоторых деревнях обойдёшь все избы, и в каждой получаешь отказ. — На вас, наверно, вшей, как гороху, — скажут нам и погрозят ещё: — Проваливайте подобру-поздорову, рвань вшивая… Когда деревня затихала и успокаивалась, мы с Петей украдкой, воровски забирались ночевать в баню, ложились на полок и, прислушиваясь к ночным шорохам, засыпали тревожным сном. А утром с первыми петухами так же воровски покидали свою гостеприимную ночлежку и спешили к реке — к завтраку, к работе. До запани, то есть до конца нашей работы, оставалось четырнадцать дней хода. Весна в разгаре. Деревья — берёза, ольха в светлой, молодой зелени. На черёмухе бутоны цветов. На солнцепёке — черёмуха в цвету. Пригнёшь к лицу пахучие цветы, уткнёшься в них — и так захочется домой, хоть плачь! А Петя загрустил по-настоящему. — Я сегодня во сне дом видел, — сказал он, когда мы присели отдохнуть. — Опять снилось? — Да, снилось! — вздохнул он. — А скворцы-то, наверное, поют как! Ведь у меня две скворешни, — оживился он, — да если Мишка поправился, тот ещё две поставил, вот здорово-то! — И он прищёлкивает языком. — А как ты думаешь, — спросил он однажды, — много нам дадут денег? — Не знаю, — ответил я. — Ведь кому как. Кому много, а нам, наверное, всех меньше. — Мне лишь бы хватило на штаны, — тихо сказал он. — Тятька так и сказал — зарабатывай себе на штаны. А может, и на рубаху ещё останется? — Я думаю, останется и на рубаху. И ещё останется! — Неужели! — выкрикивает он. — Вот бы хорошо-то! Через два дня нам с Петей пригодились гвозди, которые дал наш артельный. Весь день дул сильный ветер. Широкая весенняя Кубина от берега до берега шумела белыми барашками. Мы шли около самой воды и сталкивали редкие оставшиеся на берегу брёвна. Наша артель где-то впереди нас медленно брела к ночлегу. Вечерело. Мы пристально всматривались, не стоит ли где у берега знакомый нам плот с котлом и кашей. Скоро мы увидели его, и у нас перехватило дыхание: плот и вся артель были на том берегу. Правый и левый берега реки были не жилые. Не видно было ни деревьев, ни отдельных домов. Мелкий кустарник с отдельными высокими деревьями тянулся во все стороны от нас.

Поравнявшись с плотом, мы стали кричать, чтобы нас перевезли. Ветер дул в нашу сторону, и на наш крик никто не отзывался. Кричали долго, до хрипоты. Махали руками, шапками. Никто нас не заметил. Наступала ночь. — Поедем на брёвнах, — предложил Петя. — А переедем? — спросил я, посмотрел на широкую мутную реку, и мне стало жутко. — А мы на гвоздиках! Вот они! Ведь не зря их дал нам Анатолий Михайлович. Мы спустились к воде и стали искать дощечки или палки, чтобы при помощи их сколотить пару брёвен. Не так-то просто оказалось подобрать что-либо подходящее на пустынном берегу. Разошлись в разные стороны по берегу и кое-как, с большим трудом подобрали длинные палки. Стали ловить проходящие возле берега брёвна. Плыли они редко-редко, и не каждое можно было достать багром. Не скоро, но всё же подтянули к берегу четыре бревна и соединили их попарно. Попробовали оба встать на два бревна, но чуть-чуть не выкупались. Надо переправляться врозь: Петя — на своих брёвнах, я — на своих. Первым от берега оттолкнулся я. Меня сразу подхватило течение и понесло. Стараюсь выводить свой плот на середину реки. Ударяю багром по воде, а брёвна при каждом ударе наклоняются то в одну сторону, то в другую. Стало страшно. Пытаюсь повернуть обратно, к берегу, но не могу. Меня тащит и тащит вниз по течению, и всё время относит от берега. Чем дальше от него, тем больше волн. Ноги стало заливать. Белые барашки плещут в брёвна, и они наклоняются, ныряют. Я старался сохранить равновесие и багор держал перед собой поперёк. Петя был недалеко от меня. Он стоял на брёвнах и несмело опускал и подымал багор. Нас вынесло на середину реки. Брёвна стало заливать водой. — Петя! — закричал я, стараясь перекричать шум волн и порывы ветра с дождём. — Эгей!.. — глухо донеслось до меня. — К берегу надо, к берегу-у-у! — кричу я. — Ладно-о-о! — донеслось опять со стороны Пети. Тогда я с силой стал колотить багром по воде, пытаясь повернуть брёвна к берегу. Брёвна закачались так, что я потерял равновесие и упал. Ухватился за брёвна и стал вползать на них. Вода хлестала меня в грудь, в лицо. Я захлёбывался, но кое-как вполз, встал на колени и обеими руками держался за скользкие заливаемые волнами брёвна.

Багра не было. Багор утонул. Руки у меня окоченели. Мокрая одежда сдавила мне грудь, и дышать было трудно. Зубы стучали от страха и холода. С трудом я высмотрел Петю. Он стоял на брёвнах, но багром не махал. Мы были на самой середине реки. Я попробовал кричать, но голоса не было. В горле хрипело тихо, дребезжаще. Кругом меня шумел ветер да булькала вода. Стало темнеть. Петя почему-то стал отставать. И всё же в наступающей темноте, на середине мутной волнистой реки я долго видел столбик, заливаемый водой. То плыл Петя. Сколько меня несло, не знаю. В наступившей темноте, слева от меня, показалось что-то большое, тёмное. Это тёмное приближалось ко мне. Я всматривался долго, долго. Да это же берег, кусты! Брёвна несло к кустам. Не дожидаясь, когда кусты будут шуршать о брёвна, я прыгнул. Ноги уперлись в дно, но течение сбивало меня. С трудом я дотянулся до кустов, ухватился за ветви и стал выбираться на берег. Вот она, земля! Я стою на берегу и не могу прийти в себя от радости, что я живой. Недалеко от меня послышались голоса. Кто-то торопливо пробирался по берегу, шурша кустами. Я остановился и крикнул. — Коля-а! — донесся голос из кустов. — Живой ли? — И около меня оказался наш артельный. — А где Петька? — спросил он, осматриваясь вокруг. — Не знаю, — еле выговорил я, дрожа от страха и холода. — Он тоже был на брёвнах, — сказал я. — Ежели он не выбрался, то его лодка подберёт, — и Анатолий Михайлович громко, во весь голос, закричал: — Петя-а!.. Звук его голоса тут же затих, сбитый сильным ветром. — Увидели мы вас на воде и сразу бросились на помощь, — рассказывал артельный, когда мы шли с ним к месту ночёвки артели. — А Петя, как же мы оставим его? — спросил я, остановившись. — Найдут, — успокоил он меня. — Вперёд ушли трое, ежели он на берегу, то встретятся с ним, а ежели на брёвнах плывёт, то лодка ушла вниз, подберут… Вот и ночёвка. Костёр горит плохо. Никого у костра нет. — Не вернулись еще, не нашли значит, — проговорил артельный, разжигая костёр. — Сушись скорее, — сказал он, помогая мне снимать одежду. Когда я согрелся, пришла лодка. Из неё вынесли Петю. Я подбежал к нему и не знал, что делать. — Зазяб напарник-то твой, — сказал угрюмый бородатый сплавщик. — На берегу лежал, выбраться — выбрался, а идти-то силы нет, измучился. Петю раздели и положили к огню, укрыв сухой одеждой. Когда он согрелся, то застонал и позвал меня. — Ты живой? — спросил он. — Меня к берегу поднесло, я и прыгнул на кусты, а тут и Анатолий Михайлович близко оказался. — Меня тоже к берегу поднесло, но я, как выбрался, так и уснул сразу. А багор я не упустил, так всё время и держался за него, — сказал он и улыбнулся. — А я упустил, там на брёвнах залило меня, — сказал я, и мне стало неловко, что я потерял багор. — О багре не беспокойся, — вмешался артельный, — запасный есть. Утром, когда пригрело солнце, нас разбудили. Петя заболел. Он до того ослаб, что еле двигался. — Вы, ребятки, идите на харчевую, с ней и до запани доедете, остался один переход, — предложил нам артельный. — А где харчевая? — спросил я. — Недалеко отсюда. — Михайло, а Михайло, — обратился он к бородатому сплавщику, — отвези-ка ребяток на харчевую, да там и ожидай нас. Мы сели в лодку и через час были на харчевой, на том плоту, на котором готовилась для нас во время сплава каша. К вечеру на харчевой мы приплыли в запань. Запань. Низкие бараки на берегу реки. На воде брёвна, брёвна и брёвна. Толстые стальные тросы сдерживают тысячи кубометров леса, прошедшего трудную извилистую дорогу. Сколько тут брёвен, которые тяжело лежали на берегу и противились нашей детской силе! Где-то тут, в этом нагромождении брёвен, и наши плоты с гвоздиками. Эти спаренные брёвна были единственными свидетелями нашего мужества в борьбе со стихией. И они были бы единственными свидетелями нашей гибели. Запань. Контора. Получка. Выдача денег, заработанных мужеством и лишениями. Моя очередь. За мной Петя. — Фамилия? Называю. — Зовут как? — Николай. — Распишись вот тут, — указал мне казначей. Я расписался. Он отсчитал мне деньги, поставил против моей фамилии «птичку» и бесстрастно, не глядя на меня, крикнул: — Подходи, кто там! Петя подошёл. — Фамилия? — Егоров, Петя. — Распишись. Петя расписался. Когда казначей отсчитал деньги, то Петя спросил: — А на штаны хватит этих денег? Казначей удивлённо поднял глаза на Петю. Кругом засмеялись. — На штаны, говоришь? — переспросил казначей и серьёзно сказал: — И тебе и батьке хватит. Подходи, кто там? — опять позвал казначей. Петя, держа деньги в руке, отошёл от барьера и сразу ко мне. — Ты знаешь, — сказал он с радостью, — хватит на штаны и даже останется, вот славно-то! Сколько счастья и довольства было на его заветренном остроносом личике! Он старательно завернул деньги в тряпочку и положил в котомку. В тихое, тёплое утро я и Петя с партией сплавщиков шагали к ближайшей железнодорожной станции. Горячее солнце ласково светило нам, а в небе, высоко, звенела над нами песня жаворонка.



Последние комментарии
2 часов 45 минут назад
14 часов 52 минут назад
15 часов 43 минут назад
1 день 3 часов назад
1 день 20 часов назад
2 дней 10 часов назад