Горизонт-75 [Лев Иванович Кузьмин] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
Горизонт-75


А. Соболев ГРЕНАДА, ГРЕНАДА, ГРЕНАДА МОЯ… Рассказ
Рис. В. Захарова-Холмского.
 Данилка, который тоже было повернул назад, после этих слов поплыл за Мишкой-испанцем. Он преклонялся перед этим смелым мальчишкой, хотел с ним дружить, но тот не замечал Данилку, вернее, относился к нему, как и ко всем ребятам. Сейчас Данилке хотелось доказать Мишке-испанцу, что он годится в друзья. Мишка-испанец бросил на него удивленный взгляд, но промолчал. Они молча доплыли до прибрежных камышей, Мишка встал на ноги. Данилка тоже. Вода была по горло.
— Коснулись ногами — и все. Теперь можно и назад, — сказал Мишка-испанец, не успел Данилка дух перевести.
Данилка кивнул. Конечно, доказали всем, на что способны, теперь можно со спокойной совестью плыть обратно. Но как только Данилка взглянул на тот берег, куда предстояло плыть, у него похолодело в груди. Пологий низкий берег был так далек, что казалось, озеру не было конца. Дернуло же Данилку плыть за «испанцем», который старше его и сильнее. Филька вон не дурак, остался на берегу и хоть бы хны! Сидит себе сейчас, пузо греет на закатном солнышке.
Мишка-испанец обернулся.
— Поплыли! Не отставай!
Данилка жалко улыбнулся в ответ: дескать, давай, все в порядке, а сам со страхом смотрел на воду. Мишка поплыл первым, и Данилка, пересилив страх, тронулся за ним. Они были еще в тени от соснового бора, а Данилка почувствовал, что до берега ему не доплыть. Руки и ноги смертельно устали, он двигал ими как чужими. А мальчишки уже плыли по освещенной солнцем части озера, и головы их мокро сверкали на солнце. Данилка с тоской смотрел на них, не покидала настойчивая мысль: только бы не свела судорога, сведет и — все.
Где-то там, за спиной, все ниже опускалось солнце, и его блеск отражался в той части озера, до которой они никак не могли доплыть. Данилка еле шлепал по воде руками и чувствовал, что еще немного — и он сдаст. Невзначай он хлебнул воды, закашлялся и совсем потерял силы. Данилка хотел крикнуть: «Помогите!» — но вместо этого опять хлебнул воды. Страх сжал сердце. Он отчаянно забарахтался на месте и вдруг увидел рядом голову Мишки-испанца.
— Ты чего? Устал?
Данилка замотал головой, он не хотел сознаться, что устал, не мог уронить своего достоинства перед Мишкой-испанцем.
Мишка внимательно посмотрел на Данилку и сказал ободряюще:
— Не робей, я рядом поплыву.
От этих слов у Данилки прибавилось сил. Мишка-испанец плыл рядом сильно и спокойно. Наконец они выплыли на солнечное место. Плыть стало легче. Но к берегу Данилка подгребал совсем обессиленный. На травке-муравке сидели мальчишки и смотрели на них. Данилка попробовал достать ногами дно, не достал и начал захлебываться. И тут же почувствовал, как рука Мишки-испанца подхватила его. Данилка вынырнул, судорожно хватил воздуху и отчаянно забил руками по воде. Мишка подтолкнул его к берегу, и Данилка вдруг почувствовал под ногами твердое. Он встал на ноги и, сдерживая судорожное дыхание, старался, чтобы ребята не заметили, как он испугался. Мишка-испанец вышел на берег и преувеличенно бодро сказал:
— Эх, люблю повеселиться, особенно пожрать. Навалимся на ягоды, пацаны!
Данилка понял, что он отвлекает внимание ребят. Тело было странно чужим и все дрожало от перенапряжения, ноги подкашивались. Сердце колотилось где-то в горле, в груди было пусто и больно, голова кружилась. Он сел на траву, ко всему безразличный, и громко икнул. Мальчишки засмеялись. Данилка икнул еще раз, потом еще и еще, и уже не мог остановиться. Его трясло, он чакал зубами, а мальчишки покатывались со смеху.
— Чо смеетесь, дураки! — закричал Мишка-испанец. — Сами струсили плыть, а над ним смеетесь! Слабаки!
Он подвез Фильке подзатыльник, пнул Ромкину корзинку с ягодой.
— Кто вякнет еще, будет иметь дело со мной.
Пацаны притихли, никто не хотел иметь дела с Мишкой-испанцем.
А Данилка все икал и икал и никак не мог остановиться. А в сердце уже рождалась радость от сознания, что он преодолел свою слабость и страх и не отстал от Мишки-испанца.
Они оба не знали тогда, что пройдет не так уж много лет, и будут они вместе форсировать Днепр. Будет кипеть вода от разрывов снарядов и пулеметных очередей. Их батальон будет брать на обрывистом берегу клочок земли, чтобы с этого «пятачка» начать дальнейшее наступление. Они снова будут плыть рядом, и нельзя будет, как в детстве, повернуть назад или хотя бы отдохнуть. И уже Данилка — гвардии лейтенант — будет поддерживать в воде раненого Михаила — своего комбата, но на берег вытащит его мертвым. И потом, после ожесточенной рукопашной схватки, чудом оставшись в живых, на узкой каменистой полоске берега будет Данилка хоронить своего друга на отбитой у врага земле. И впервые за войну заплачет обжигающими слезами…
Данилка, который тоже было повернул назад, после этих слов поплыл за Мишкой-испанцем. Он преклонялся перед этим смелым мальчишкой, хотел с ним дружить, но тот не замечал Данилку, вернее, относился к нему, как и ко всем ребятам. Сейчас Данилке хотелось доказать Мишке-испанцу, что он годится в друзья. Мишка-испанец бросил на него удивленный взгляд, но промолчал. Они молча доплыли до прибрежных камышей, Мишка встал на ноги. Данилка тоже. Вода была по горло.
— Коснулись ногами — и все. Теперь можно и назад, — сказал Мишка-испанец, не успел Данилка дух перевести.
Данилка кивнул. Конечно, доказали всем, на что способны, теперь можно со спокойной совестью плыть обратно. Но как только Данилка взглянул на тот берег, куда предстояло плыть, у него похолодело в груди. Пологий низкий берег был так далек, что казалось, озеру не было конца. Дернуло же Данилку плыть за «испанцем», который старше его и сильнее. Филька вон не дурак, остался на берегу и хоть бы хны! Сидит себе сейчас, пузо греет на закатном солнышке.
Мишка-испанец обернулся.
— Поплыли! Не отставай!
Данилка жалко улыбнулся в ответ: дескать, давай, все в порядке, а сам со страхом смотрел на воду. Мишка поплыл первым, и Данилка, пересилив страх, тронулся за ним. Они были еще в тени от соснового бора, а Данилка почувствовал, что до берега ему не доплыть. Руки и ноги смертельно устали, он двигал ими как чужими. А мальчишки уже плыли по освещенной солнцем части озера, и головы их мокро сверкали на солнце. Данилка с тоской смотрел на них, не покидала настойчивая мысль: только бы не свела судорога, сведет и — все.
Где-то там, за спиной, все ниже опускалось солнце, и его блеск отражался в той части озера, до которой они никак не могли доплыть. Данилка еле шлепал по воде руками и чувствовал, что еще немного — и он сдаст. Невзначай он хлебнул воды, закашлялся и совсем потерял силы. Данилка хотел крикнуть: «Помогите!» — но вместо этого опять хлебнул воды. Страх сжал сердце. Он отчаянно забарахтался на месте и вдруг увидел рядом голову Мишки-испанца.
— Ты чего? Устал?
Данилка замотал головой, он не хотел сознаться, что устал, не мог уронить своего достоинства перед Мишкой-испанцем.
Мишка внимательно посмотрел на Данилку и сказал ободряюще:
— Не робей, я рядом поплыву.
От этих слов у Данилки прибавилось сил. Мишка-испанец плыл рядом сильно и спокойно. Наконец они выплыли на солнечное место. Плыть стало легче. Но к берегу Данилка подгребал совсем обессиленный. На травке-муравке сидели мальчишки и смотрели на них. Данилка попробовал достать ногами дно, не достал и начал захлебываться. И тут же почувствовал, как рука Мишки-испанца подхватила его. Данилка вынырнул, судорожно хватил воздуху и отчаянно забил руками по воде. Мишка подтолкнул его к берегу, и Данилка вдруг почувствовал под ногами твердое. Он встал на ноги и, сдерживая судорожное дыхание, старался, чтобы ребята не заметили, как он испугался. Мишка-испанец вышел на берег и преувеличенно бодро сказал:
— Эх, люблю повеселиться, особенно пожрать. Навалимся на ягоды, пацаны!
Данилка понял, что он отвлекает внимание ребят. Тело было странно чужим и все дрожало от перенапряжения, ноги подкашивались. Сердце колотилось где-то в горле, в груди было пусто и больно, голова кружилась. Он сел на траву, ко всему безразличный, и громко икнул. Мальчишки засмеялись. Данилка икнул еще раз, потом еще и еще, и уже не мог остановиться. Его трясло, он чакал зубами, а мальчишки покатывались со смеху.
— Чо смеетесь, дураки! — закричал Мишка-испанец. — Сами струсили плыть, а над ним смеетесь! Слабаки!
Он подвез Фильке подзатыльник, пнул Ромкину корзинку с ягодой.
— Кто вякнет еще, будет иметь дело со мной.
Пацаны притихли, никто не хотел иметь дела с Мишкой-испанцем.
А Данилка все икал и икал и никак не мог остановиться. А в сердце уже рождалась радость от сознания, что он преодолел свою слабость и страх и не отстал от Мишки-испанца.
Они оба не знали тогда, что пройдет не так уж много лет, и будут они вместе форсировать Днепр. Будет кипеть вода от разрывов снарядов и пулеметных очередей. Их батальон будет брать на обрывистом берегу клочок земли, чтобы с этого «пятачка» начать дальнейшее наступление. Они снова будут плыть рядом, и нельзя будет, как в детстве, повернуть назад или хотя бы отдохнуть. И уже Данилка — гвардии лейтенант — будет поддерживать в воде раненого Михаила — своего комбата, но на берег вытащит его мертвым. И потом, после ожесточенной рукопашной схватки, чудом оставшись в живых, на узкой каменистой полоске берега будет Данилка хоронить своего друга на отбитой у врага земле. И впервые за войну заплачет обжигающими слезами…
Б. Дробиз СОЛДАТСКАЯ ВЕРНОСТЬ ПРИСЯГЕ Очерк
Рис. В. Захарова-Холмского.Под Духовщиной Николай был ранен, но с поля боя не ушел. Двадцатого сентября сорок третьего года Совинформбюро передало: «Войска Калининского фронта в результате четырехдневных ожесточенных боев прорвали сильно укрепленную полосу врага, разгромили его долговременные опорные пункты и штурмом овладели важнейшим опорным пунктом обороны немцев на путях к Смоленску — Духовщина». В тот день Николай писал матери:
«Мы теперь «Духовщинские»! Верховный Главнокомандующий объявил нам благодарность. А я представлен к награде медалью «За боевые заслуги». Был ранен в левую руку, но ты, мама, не волнуйся: рана не страшная, скоро заживет, и я снова пойду в бой».Через пять дней — двадцать пятого сентября — наши войска освободили Смоленск. В уличных схватках Николай был вторично ранен, но остался в строю, отказался уйти в санбат. Два года ждала многострадальная Белоруссия своих сынов-освободителей. И они пришли. Успешно наступая на Могилевском направлении, часть приближалась к важному узлу железнодорожных и грунтовых дорог — городу Кричеву. Было ясно, что противник постарается закрепиться на этом участке. Чтобы установить намерения гитлеровцев, требовался «язык». — Кто возглавит поиск? — Командир полка гвардии подполковник Фирсов выжидающе посмотрел на начальника штаба майора Федоровского. — Кто? — переадресовал Федоровский вопрос начальнику разведки капитану Веревкину. — По-моему, самая подходящая кандидатура — сержант Алексеев. Начальник штаба поддержал: — Отделение боевое, ребята, как на подбор, один к одному. С наступлением темноты разведчики вышли на передний край. Пронизывающий ветер хлестал в лицо холодными дождевыми струями. — Погодка самая подходящая! — пошутил Николай, посматривая на фосфоресцирующие стрелки ручных часов. — Черт ногу сломит. Неожиданно резанула длинная пулеметная очередь, в небо взвилась осветительная ракета. Разведчики замерли. «Неужели обнаружены?» — с тревогой подумал Николай. «Нет, стрельба, кажется, случайна», — решил он, когда установилась прежняя тишина и ракета погасла. Выждав еще немного, подал команду: — За мной! Разведчики вышли на берег реки. Николай шагнул в воду. Через десяток шагов пришлось пуститься вплавь. Намокший маскхалат сковывал движения.
 — Хороша купель! — шепнул Назаров. — Зуб на зуб не попадает.
У развилки дорог обнаружили заброшенный хуторок. Прислушались. Ни звука.
— Видно, всех жителей угнали, — сказал Николай, когда разведчики доложили, что не обнаружили ни одной живой души. — Займем крайнюю хату. Фашисты сюда заглядывать не станут, делать им здесь нечего.
С рассветом дорога на Кричев ожила, и наблюдатели с трудом разбирались в бесконечном потоке машин: шли они с севера на юг, и с юга на север, и к переднему краю, и в тыл. Весь день накапливали разведчики сведения о противнике. В стекла цейссовского бинокля Николай разглядел даже лица фашистов.
Северо-западнее Кричева разведчики засекли огневые позиции минометных батарей, обнаружили скопление танков, артиллерии и пехоты.
Под вечер поток машин схлынул, дорога опустела. Лишь изредка проскочит автомашина или мотоциклист.
— Теперь надо и о «языке» подумать. — И Николай изложил свой план. — После войны сложим хозяевам новую хатенку, а теперь пусть-ка сослужит она нам добрую службу.
Баррикада из бревен перегородила дорогу. Разведчики залегли у обочины.
Из-за поворота вынырнул мотоцикл с коляской.
— Доннер веттер! — заорал мотоциклист, резко тормозя. Он соскочил с сиденья, и тут услышал внушительное:
— Хенде хох!
Забрали у него пакет со срочным донесением. Мотоцикл оттащили с дороги.
— Отличная фрицеловка! — посмеялся Николай.
Не прошло и пяти минут, как показалась машина с зажженными фарами, мчащаяся с большой скоростью в сторону Кричева. Черный «мерседес» с грохотом врезался в баррикаду. Разведчики подбежали к машине. Шофер и сидящий рядом офицер были мертвы. На заднем сиденье стонал гитлеровец.
— Ты-то, гад, нам и нужен! — проговорил Назаров, вытаскивая фашиста из помятой машины.
— Берите аккуратней, — предупредил Николай. — Смотрите, чтобы не подох. Без «языка» приказано не возвращаться.
Забрали портфель, набитый картами и документами, забрали у убитых документы и оружие. Взвалив на плечи полуживого немца, заспешили к переправе.
С ценными трофеями вернулись разведчики.
Вскоре наши войска с боем взяли город Кричев.
Отчаянной была схватка за железнодорожный мост через реку Березину. Мост усиленно охраняли. Но Алексеев со своими разведчиками под огнем противника ворвался на него и завязал бой с фашистами. Николай истребил пятерых гитлеровцев, а двенадцать вражеских солдат сдались в плен его отделению.
В августе сорок четвертого года сержантскую гимнастерку украсил орден Красной Звезды — вторая боевая награда.
То была особая операция.
Перед ночной штурмовой группой, в которую вошло отделение Алексеева, стояла сложная и рискованная задача: ворваться в город Радзимин Варшавского воеводства, разгромить немецкий штаб. Отбирались добровольцы, пловцы. С благодарностью вспомнил тогда Николай реки своего детства — Косьву и Миасс. В кромешной тьме достигли водного рубежа. Николай одним из первых был на противоположном берегу. Гитлеровцы обнаружили смельчаков, открыли по ним огонь. Броском гранаты Николай уничтожил пулеметную точку, затем автоматным огнем обеспечил переправу товарищей.
Горстка советских воинов штурмом ворвалась в город, разгромила штаб, захватила документы, радиостанцию. Решительно и находчиво действовал в этом бою сержант Алексеев, сразивший шестерых фашистов. Противник в панике бежал.
Четырнадцатого сентября сорок четвертого года советские воины овладели предместьем Варшавы — крепостью Прага.
— Хороша купель! — шепнул Назаров. — Зуб на зуб не попадает.
У развилки дорог обнаружили заброшенный хуторок. Прислушались. Ни звука.
— Видно, всех жителей угнали, — сказал Николай, когда разведчики доложили, что не обнаружили ни одной живой души. — Займем крайнюю хату. Фашисты сюда заглядывать не станут, делать им здесь нечего.
С рассветом дорога на Кричев ожила, и наблюдатели с трудом разбирались в бесконечном потоке машин: шли они с севера на юг, и с юга на север, и к переднему краю, и в тыл. Весь день накапливали разведчики сведения о противнике. В стекла цейссовского бинокля Николай разглядел даже лица фашистов.
Северо-западнее Кричева разведчики засекли огневые позиции минометных батарей, обнаружили скопление танков, артиллерии и пехоты.
Под вечер поток машин схлынул, дорога опустела. Лишь изредка проскочит автомашина или мотоциклист.
— Теперь надо и о «языке» подумать. — И Николай изложил свой план. — После войны сложим хозяевам новую хатенку, а теперь пусть-ка сослужит она нам добрую службу.
Баррикада из бревен перегородила дорогу. Разведчики залегли у обочины.
Из-за поворота вынырнул мотоцикл с коляской.
— Доннер веттер! — заорал мотоциклист, резко тормозя. Он соскочил с сиденья, и тут услышал внушительное:
— Хенде хох!
Забрали у него пакет со срочным донесением. Мотоцикл оттащили с дороги.
— Отличная фрицеловка! — посмеялся Николай.
Не прошло и пяти минут, как показалась машина с зажженными фарами, мчащаяся с большой скоростью в сторону Кричева. Черный «мерседес» с грохотом врезался в баррикаду. Разведчики подбежали к машине. Шофер и сидящий рядом офицер были мертвы. На заднем сиденье стонал гитлеровец.
— Ты-то, гад, нам и нужен! — проговорил Назаров, вытаскивая фашиста из помятой машины.
— Берите аккуратней, — предупредил Николай. — Смотрите, чтобы не подох. Без «языка» приказано не возвращаться.
Забрали портфель, набитый картами и документами, забрали у убитых документы и оружие. Взвалив на плечи полуживого немца, заспешили к переправе.
С ценными трофеями вернулись разведчики.
Вскоре наши войска с боем взяли город Кричев.
Отчаянной была схватка за железнодорожный мост через реку Березину. Мост усиленно охраняли. Но Алексеев со своими разведчиками под огнем противника ворвался на него и завязал бой с фашистами. Николай истребил пятерых гитлеровцев, а двенадцать вражеских солдат сдались в плен его отделению.
В августе сорок четвертого года сержантскую гимнастерку украсил орден Красной Звезды — вторая боевая награда.
То была особая операция.
Перед ночной штурмовой группой, в которую вошло отделение Алексеева, стояла сложная и рискованная задача: ворваться в город Радзимин Варшавского воеводства, разгромить немецкий штаб. Отбирались добровольцы, пловцы. С благодарностью вспомнил тогда Николай реки своего детства — Косьву и Миасс. В кромешной тьме достигли водного рубежа. Николай одним из первых был на противоположном берегу. Гитлеровцы обнаружили смельчаков, открыли по ним огонь. Броском гранаты Николай уничтожил пулеметную точку, затем автоматным огнем обеспечил переправу товарищей.
Горстка советских воинов штурмом ворвалась в город, разгромила штаб, захватила документы, радиостанцию. Решительно и находчиво действовал в этом бою сержант Алексеев, сразивший шестерых фашистов. Противник в панике бежал.
Четырнадцатого сентября сорок четвертого года советские воины овладели предместьем Варшавы — крепостью Прага.
«Пишу после ожесточенного боя за Прагу, — сообщал он матери. — Бой был не на жизнь, а на смерть. Мы стойко стояли на своем рубеже. На рассвете пошли в наступление. Сломив сопротивление противника, ворвались в крепость. Ни днем, ни ночью не утихает гул рвущихся снарядов. Противник несколько раз переходил в контратаки, но все бесполезно. У меня не хватает слов, чтобы описать тебе обстановку. Ты должна сама понять, что тут творится. Перед нами открыт путь на Берлин…»В одном из октябрьских боев Николай был ранен и отправлен в госпиталь. В тот день — седьмого октября сорок четвертого года, — вернувшись с перевязки, Николай не узнал своей палаты. Раненые повскакивали с коек, возбужденно кричали, размахивая костылями. — Гады! Гады! — Фашисты хуже диких зверей! Солдат-сапер, сосед Николая по койке, протянул газету: — Почитай-ка, что они сделали с ним! Николай увидел в центре страницы портрет молоденького бойца и Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении Смирнову Юрию Васильевичу звания Героя Советского Союза. Взгляд задержался на заголовке «Беспримерная стойкость гвардейца». Николай прочитал:
«Даже под изуверскими пытками комсомолец Смирнов не проронил ни слова. Верный своей воинской клятве хранить тайну, он решил, что лучше принять смерть от рук палачей, чем выдать им своих товарищей, чем предать свою Родину, свой народ. Он умер так, как умирают солдаты, безгранично любящие свое Отечество».— Понимаешь, сержант, Юрий-то Смирнов был моим другом. Макарьевские мы, из-под Костромы, с Унжи. Одно ремесленное училище металлистов кончали, одни курсы электросварщиков. Такого парня загубили! — задыхаясь от гнева, произнес сапер. На его глазах выступили слезы. Всю ночь ворочался Николай, не мог уснуть, думал. Засыпая под утро, спросил себя: «А хватило бы у меня мужества вынести то, что вынес он, Юрий Смирнов?» Вскоре Николай выписался из госпиталя, вернулся на фронт.
Густой дым самосада плывет к потолку, еле виден тусклый язычок самодельной коптилки. Железная печка, сделанная из трофейной бочки, накалена докрасна. В землянке жарко и душно. А за порогом непроглядная темень, непогода. Разбушевавшийся ветер хлещет почем зря дождем вперемешку со снегом. Дверь в землянку распахивается, и вместе с порывом ветра в нее влетает связной командира полка. — Сержант Алексеев здесь? К капитану Веревкину! Проклиная слякотный январь, Николай с трудом шагал по раскисшей земле, гадал, зачем вдруг понадобился капитану Веревкину. Ведь только прошлой ночью привели «языка». В штабном блиндаже командир полка Фирсов внимательно слушал доклад начальника штаба. Майор водил по карте карандашом. Капитан Веревкин торопливо записывал что-то в толстую тетрадь. — Отдохнули? — спросил Фирсов, не отрываясь от карты. — Так точно! — А разведчики? — Отдохнули, товарищ подполковник! — Хорошо. Предстоит, сержант, нелегкая работа. Срочно требуется контрольный пленный. Ясно? — Так точно, ясно! Срочно требуется контрольный пленный. — Подробности согласуете с капитаном Веревкиным. Вы свободны. В землянке Николая моментально обступили разведчики, протягивая кисеты, набитые самосадом. — Объясню потом, а сейчас отдыхать! И не забудьте подогнать обмундирование, почистить оружие да написать домой письма. Время еще есть. У разведчиков традиция — перед вылазкой в тыл врага черкнуть родным на всякий случай пару слов: жив, мол, здоров, того и вам желаю, ждите, скоро вернемся с победой! Николай вырвал из тетради листок и старательно вывел:
«Добрый день или вечер, мама! Шлю тебе сердечный гвардейский привет и наилучшие пожелания в жизни, а главное, чтобы была здорова! Самочувствие мое хорошее. Обо мне не беспокойся. Ты пишешь, что скучаешь в разлуке, ловишь по ночам шорохи тишины и мечтаешь о встрече со мной! Мама! Я вернусь, когда над страной развеются тучи, утихнет ураган, а от фашистов не останется и пепла. Верь, родная, что скоро это время настанет, и мы снова будем вместе. Извини за небрежное письмо, пишу при свете коптилки. Передавай привет моим дружкам. Крепко тебя обнимаю, целую. Твой сын Николай».Свернул треугольничек. Протянул связисту: — Передашь почтарю, пусть на полевую сдаст. Туманным утром пятнадцатого января сорок пятого года отделение сержанта Николая Алексеева вышло на задание. — Погодка, будь она неладна, — пробурчал кто-то за спиной Николая, — в двух шагах ничего не видно. Николай промолчал. Справа и слева била наша артиллерия. Прошли километра полтора-два. Туман не рассеивался. Николай посмотрел на компас: «Кажется, сбились. Надо принять правее». У деревни Дзбаница разведчики внезапно наткнулись на большую группу гитлеровцев. Завязался неравный бой. — Отходите! Я прикрою! — крикнул Николай. — Будем биться вместе! — услыхал он. — Я приказываю: отходите! — повторил он, залег за домом и открыл автоматный огонь. — Рус! Нихт шиссен! Не стреляйт! — кричали гитлеровцы, окружая смельчака. Николай ответил длинной автоматной очередью, услыхал, как взвыли раненые. Пахло пороховой гарью. Над головой с противным воем лопались разрывные пули. Вдруг у ног вспыхнул яркий сноп разорвавшейся гранаты. Воздушной волной из рук вырвало автомат. Николай почувствовал, как десятки осколков раскаленными иглами впились в лицо и тело. Превозмогая боль, он с трудом поднялся, чтобы вытащить из кармана шинели «лимонку», но силы оставили его, и он рухнул на землю, теряя сознание. Очнулся Николай в незнакомой комнате. — Пи-и-и-ть! — с трудом произнес он рассеченными, запекшимися губами, но осекся. Понял: в плену. Случилось то, чего он больше всего боялся. Он весь напрягся, приготовился к поединку. «Все равно фашисты от меня ничего не добьются!» Сбитые с толку внезапным прорывом обороны, глубоким рейдом советских танков по немецким тылам, гитлеровцы спешили добиться от пленного русского сержанта нужных сведений. — Какой есть шасти? — кричал охрипшим голосом переводчик. Зрачок «шмайссера» уткнулся в лицо Николая. Николай молчал, сцепив зубы. Нет, он не нарушит военной присяги, не выдаст врагу военной тайны под самой страшной пыткой… Над ним издевались, беспощадно били, но он не сказал ни слова.
«На следующий день, — писал в наградном листе командир 1320-го стрелкового полка 413-й дивизии 65-й армии гвардии подполковник Фирсов, — когда противник был выбит с занимаемых рубежей, наши бойцы обнаружили труп сержанта Алексеева со следами пыток каленым железом, загнанными под ногти иглами. Фашисты выкололи раненому советскому воину глаза, вырезали на лбу звезду. Несмотря на пытки, молодой коммунист сержант Алексеев не выдал военной тайны. Тов. Алексеев Н. П. представляется к награде орденом Отечественной войны I степени посмертно».Николай Алексеев ушел в бессмертие непокоренным. Поэт Михаил Матусовский посвятил мужественному разведчику Николаю Алексееву стихотворение «Тверже стали»:
Виктор Симонов СТИХИ
Рис. Н. Скакун.БРАТУ

* * *

В. Воробьев ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ
Рис. С. Можаевой.ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
Весна 1943 года. Наша маршевая рота прибыла на передовую. Солдаты в роте были всякие — и молодые, и пожилые, и обстрелянные, и те, кто еще, как я, пороху не нюхал. И все мы были вконец измучены сначала бездельем в запасном полку, а потом поспешным маршем к фронту. Стоим, озираемся, смотрим — попали в артиллерию. Я думал, сейчас нас к пушкам поставят и будут учить стрелять. А командир дивизиона, решительный такой, высоченный капитан, встал перед строем и говорит: — Кто, ребята, сапожники — два шага вперед! Выступило несколько человек. — Жестянщики?! Плотники?! Еще вышли. — Кто поваром может? Кто умеет с лошадьми? Еще несколько солдат выступили вперед. — Кто парикмахеры? Портные? Слесарей надо позарез! — капитан провел ребром ладони по горлу. Так он чуть не все специальности на свете перебрал, и всякий раз кто-нибудь да отзывался. На войне-то, оказывается, не только стреляют, а и работают. И вот смотрю — один я остался позади стоять. — А ты, сирота, кто? — спросил меня капитан. — Студент… — отвечаю. — К пушкам! — властно показал он рукой. Так я стал артиллеристом. Возле орудия, когда я подошел, лежали на шинелях четверо солдат. Я лихо козырнул и, бросив скатку с вещмешком, весело спросил: — Четверо, а где остальные? Я видел на марше — около пушек по семь-восемь человек толкутся. Солдаты хмуро на меня глянули, а седой солдат тихо сказал: — Дурак… Не знаешь, куда солдаты на войне деваются? Я понял. «Трижды дурак», — с досадой подумал я о себе. Помолчав, я спросил седого солдата: — Что мне делать? Тот встал, молча взял лопату и воткнул ее шагах в десяти от пушки. — Копай! — кратко бросил он и отошел. А что копать и зачем — не сказал. Я внимательно огляделся. В сторонке от орудия лежало несколько раскрытых новеньких ящиков. В них тускло и масляно поблескивали медью снарядные гильзы. Невдалеке виднелись ровики. Подошел, глянул. Длиной в рост человека, глубиной едва по колено. Я бодро принялся за дело и вскоре догадался, почему ровики мелкие. Копни чуть глубже — сразу выступает вода. — Готово! — доложил я седому солдату. — А теперь давай учи стрелять. И кивнул на орудие. А солдат неожиданно весело глянул на меня, и вижу… снова берет лопату. Отер рукавом, подышал на нее, снова отер. Лопата сверкала. Он попробовал большим пальцем, насколько она остра, из кармана вынул напильничек. — Точи, чтоб как бритва! — приказал он. Я наточил. Бритва — не бритва, а ничего, острая. Отложил я лопату и снова к седому: — Что делать? Тот показал на большой жестяной чайник и сказал: — Побрызгай возле орудия… «Вот, — думаю, — сейчас подмету и буду учиться палить из пушки». Я быстро наполнил чайник из какой-то ямки, усердно полил плотно утоптанный пятачок возле орудия, ищу глазами веник или метлу какую-нибудь, а седой мне говорит ласково: — Да не мести. Это на случай большой стрельбы. А то пыль от земли поднимается, глаза ест… — Эй, вали сюда, покурим! — позвали солдаты. Я видел, они посмеиваются. Подошел, мне протянули кисет, мы закурили… Ах, сколько раз потом я остро сожалел, что ровик мелок, и, страшась смерти, вжимался в трясущуюся влажную землю. Как тщательно затачивал лопату, особенно после того, когда пришлось на седьмом дыхании закапывать горящие снаряды. И как я горько горевал, когда хоронил седого солдата… Но все это было потом. А сейчас я не мог оставаться без дела и принялся писать письмо маме. Это первое письмо с фронта начиналось словами: «Вот я и на месте! Бьем фашистов в хвост и в гриву!..» Ну, это я как бы сообщал заранее. Понимал теперь — можно и не успеть написать письмо. А мама должна была получить от меня такое письмо. Хоть одно. Перед вечером появился лейтенант. Молодой, блондинистый и веселый. Мы вскочили. — На, студент, зубри давай! Он сунул мне брошюру об устройстве пушки, кивнул на меня солдатам и с улыбочкой: — Он, ребята, способный, но вы ему лучше своими словами. И заторопился. Прорва дел на батарее…МОЙ НАПАРНИК
В сорок третьем году, весной на Кубани, собрали нас, солдат, тысячи полторы в запасной полк. Смысл в этом был: кто из госпиталя, кто новобранец — всех надо определить, кого куда следует. А иных подучить военному делу. Но казалось мне тогда, запасной полк — ненужная маята. Однажды удрал я на танцульку в станицу, и меня в наказание послали рубить и возить для бани дрова. Напарник мой и начальник мне сразу понравился. Легко было с ним, хотя люди мы с ним очень разные. Я вертопрах, а он степенный колхозник откуда-то с Поволжья. Разговорились. Пятеро детей у него… Это запомнилось. Ростом он был невысок, а силен. Лицо с пшеничными усами всегда свежее, будто вот-вот, сию минуту, холодной водой умылся. Глаза спокойные, добрые. И все-то он ими помаргивал. Меня поразили его руки, огромные коричневые ручищи с толстыми кривоватыми пальцами. Где-то читал я: «раздавленные работой руки». Неправильно это, нехорошо. Никакая работа не раздавит рук. От нее они только умнее и крепче. И впрямь, у моего напарника ременные вожжи текли между пальцами, как шелковинки. Мы рубили в станице акации. Те, что растут возле хат, вдоль плетней и под окнами. Ну, кто другой рубил бы и возил, а напарник мой — нет. Он прежде в хату войдет, пилотку снимет, объяснит терпеливо, как и что и кто велел, и кому дрова. О сынах поспрашивает искренне, и хозяйкину воркотню, а то и крик со слезой, все участливо выслушает. Глазами совестливо помаргивает, самосадом дымит и рукой дым, будто в горсть, ловит и вежливо убирает за спину. Потом вместе с хозяйкой выберут, какое дерево повалить. Подпилим, уроним, я ветви обрубаю, а тем временем напарник мой то плетень подгнивший наскоро поправит, то хозяйкин топор на топорище насадит или еще что-нибудь ладит. И только огорченно помаргивает и вздыхает: «Дом без хозяина…» В первый раз я было и ветви на бричку закинул, да он смахнул наземь. И еще отпилили мы с ним чурбачков с комля. Он расколол, изрубил ветви, а мне велел отнести к хозяйкиной летней печурке. Спасибо ему, научил… И хотя я делать ничего такого не умел, даже лошадью в жизни никогда не правил, он меня очень-то не осуждал. Понимал, что дело всякое у всякого свое. Ну, а сейчас война.
Был какой-то особенно солнечный и радостный денек. В кружевной прозрачной тени акаций голубели хаты. Из-за плетней тянуло прохладой. Мы сидели на передке рядом. Напарник правил, я балагурил, с безнадежной смелостью заговаривал с девчатами-станичницами, что в белых платочках попадались навстречу.
Напарник мой улыбался в усы, снисходительно помаргивал. Потом достал из кармана завернутый в тряпицу соленый огурец. Нас в запасном полку кормили однообразно, а тут вдруг живой соленый огурчик с чесночным ароматцем!
Огромными своими ручищами ловко, как фокусник, точно пополам с вкусным хрупом переломил мой начальник огурец и половинку ласково вручил мне, как дают конфету маленькому в утешение.
А чуть позже мы оказались с ним в маршевой роте и, наконец, очень скоро на передовой. Напарника моего взяли к лошадям, а меня обручили с пушкой.
И вот, как-то в недобрый день, когда отговорили наши пушки, перестали рваться позади, не очень близко, вражеские снаряды, подошел ко мне солдат и сказал:
— Твоего напарника убило.
Рассказал, что когда немцы стали бить из орудий, напарник мой завел лошадей в укрытия — щели, вырытые в речной дамбе. Да стало жаль ему бричку: в щепы ведь разнесет.
Выскочил он под разрывы, хотел бричку в укрытие вкатить. Тут его и убило осколком.
«Какая нелепая смерть! Да на что она сдалась ему, эта бричка! Пропади она пропадом!» — чертыхался и досадовал я.
Правда, без этой брички иной раз не на чем будет раненого поскорее в санбат отвезти, обескровит, погибнет… Или не подвезут на ней к спеху снарядов хоть десяток, когда в непролазной грязи на дорогах застрянут машины, и, не прикрытый огнем, упадет в атаке пехотинец…
Скатилось на запад уставшее, измученное солнце. Мы на шинели опустили в могилу бесстрашного солдата, стали закапывать.
По негромкой команде взвод кинул винтовки к плечу, дал залп.
Потом все ушли…
Я вытер лицо пилоткой.
И все неотступно думалось мне: «А дома не знают, хохочут, может быть, сейчас и прыгают его детишки… И не знают, не знают!..»
Солнце багрово мерцало на самом краю степи. Близко, за черными кустами, шелестела река.
И хотя я делать ничего такого не умел, даже лошадью в жизни никогда не правил, он меня очень-то не осуждал. Понимал, что дело всякое у всякого свое. Ну, а сейчас война.
Был какой-то особенно солнечный и радостный денек. В кружевной прозрачной тени акаций голубели хаты. Из-за плетней тянуло прохладой. Мы сидели на передке рядом. Напарник правил, я балагурил, с безнадежной смелостью заговаривал с девчатами-станичницами, что в белых платочках попадались навстречу.
Напарник мой улыбался в усы, снисходительно помаргивал. Потом достал из кармана завернутый в тряпицу соленый огурец. Нас в запасном полку кормили однообразно, а тут вдруг живой соленый огурчик с чесночным ароматцем!
Огромными своими ручищами ловко, как фокусник, точно пополам с вкусным хрупом переломил мой начальник огурец и половинку ласково вручил мне, как дают конфету маленькому в утешение.
А чуть позже мы оказались с ним в маршевой роте и, наконец, очень скоро на передовой. Напарника моего взяли к лошадям, а меня обручили с пушкой.
И вот, как-то в недобрый день, когда отговорили наши пушки, перестали рваться позади, не очень близко, вражеские снаряды, подошел ко мне солдат и сказал:
— Твоего напарника убило.
Рассказал, что когда немцы стали бить из орудий, напарник мой завел лошадей в укрытия — щели, вырытые в речной дамбе. Да стало жаль ему бричку: в щепы ведь разнесет.
Выскочил он под разрывы, хотел бричку в укрытие вкатить. Тут его и убило осколком.
«Какая нелепая смерть! Да на что она сдалась ему, эта бричка! Пропади она пропадом!» — чертыхался и досадовал я.
Правда, без этой брички иной раз не на чем будет раненого поскорее в санбат отвезти, обескровит, погибнет… Или не подвезут на ней к спеху снарядов хоть десяток, когда в непролазной грязи на дорогах застрянут машины, и, не прикрытый огнем, упадет в атаке пехотинец…
Скатилось на запад уставшее, измученное солнце. Мы на шинели опустили в могилу бесстрашного солдата, стали закапывать.
По негромкой команде взвод кинул винтовки к плечу, дал залп.
Потом все ушли…
Я вытер лицо пилоткой.
И все неотступно думалось мне: «А дома не знают, хохочут, может быть, сейчас и прыгают его детишки… И не знают, не знают!..»
Солнце багрово мерцало на самом краю степи. Близко, за черными кустами, шелестела река.
ХОРОШАЯ СТРАНА АНГЛИЯ
Вскоре после войны я преподавал в мужской школе английский. Вызовешь, бывало, ученика к столу и велишь отвечать урок — пересказать что-нибудь по-английски. Мальчишка старательно двигает челюстями. На плохо умытой физиономии умом и смелостью светятся мальчишечьи глаза. Ребята очень любили нас, донашивающих армейскую форму. Однако не щадили и прозвища нам давали странные какие-то: «Тигра», «Жмот», «Ржавый»… Меня прозвали «Манки» — обезьяна, по-английски. А я прозвал их всех ирокезами. За воинственность и коварство. И вот, отвечает ирокез урок, но говорит тихо. Я требую, чтобы говорил громче. Челюсти у мальчишки двигаются энергичнее, глаза смотрят преданно. Видно, что ученик урок знает. Но я не слышу и начинаю злиться. Прошу повторить все сначала, произносить фразы громко. А ирокез, как нарочно, жует английские слова совсем уж втихомолку. Я чувствую, что багровею, требую снова все повторить, да чтобы громко. Громко! Но тот отвечает еще тише. Хотя почему-то жилы у него на тоненькой шее вздулись от натуга. Я вращаю глазами и собираюсь влепить мальчишке за озорство двойку, но тут замечаю, что у моих ирокезов отверсты рты. Они будто что-то кричат. До меня, словно издалека, доносится: — Владимир Ива-анови-ич! Он уже орет! Куда гром-че?! — На лицах ребят веселое недоумение. И я спохватываюсь: опять навалилась глухота. Контузия… А между тем надо выкручиваться. Попробуй позволь ученикам мужской школы догадаться о таком твоем качестве. Представляете, что на уроках будет? Бедлам! Вот что будет. Ну, я ставлю пятерку, велю ученику садиться на место. И поясняю: Англия-де, в конечном итоге, остров. Из-за постоянного грохота морского прибоя англичанам приходится прямо-таки кричать друг другу. К тому же Англия, естественно, страна моряков. А на кораблях, известное дело, команды отдаются не шепотом, а во всю глотку. Так что в среднем все англичане говорят очень громко. Очень!
А моим ирокезам только начни говорить про острова, грохот прибоев, да упомяни про какой-нибудь мыс Доброй Надежды — не шелохнутся и после звонка не отпустят.
Я рассказываю, что знаю и чего не знаю, а время работает на меня, и ребята забывают, с чего все у нас началось и ни о чем не догадываются…
О звонке я узнаю по топоту и воплям в коридоре. С кого-то с живого снимают скальп. Ну, это услышит и мертвый!
Ну, я ставлю пятерку, велю ученику садиться на место. И поясняю: Англия-де, в конечном итоге, остров. Из-за постоянного грохота морского прибоя англичанам приходится прямо-таки кричать друг другу. К тому же Англия, естественно, страна моряков. А на кораблях, известное дело, команды отдаются не шепотом, а во всю глотку. Так что в среднем все англичане говорят очень громко. Очень!
А моим ирокезам только начни говорить про острова, грохот прибоев, да упомяни про какой-нибудь мыс Доброй Надежды — не шелохнутся и после звонка не отпустят.
Я рассказываю, что знаю и чего не знаю, а время работает на меня, и ребята забывают, с чего все у нас началось и ни о чем не догадываются…
О звонке я узнаю по топоту и воплям в коридоре. С кого-то с живого снимают скальп. Ну, это услышит и мертвый!
МЕДАЛЬ «ЗА ОБОРОНУ МОСКВЫ»
Борис Бурылов В ПОРУ САМЫХ ЛЕГКИХ ОБЛАКОВ Стихотворение
Рис. С. Можаевой.Л. Кузьмин ПРИВЕТ ТЕБЕ, МИТЯ КУКИН! Повесть
Рис. О. Коровина.1
Старая бревенчатая школа темнеет среди голубых мартовских снегов. На покатую, сугробную, всю в длинных сосульках кровлю падают легкие тени сосен. По вешней погоде снег с влажных веток обрушился, деревья стоят лохматые, а над ними — синь, солнышко и кучевые прохладные облака. В этой деревенской школе интернат для детей-ленинградцев. Ленинградцы ждут здесь конца войны вот уже второй год. К сельскому тихому житью, к глубоким снегам ребятишки давно привыкли, как давно и крепко привыкли друг к другу. Здание школы небольшое, и жильцов тут немного. Все они малыши в возрасте от пяти до девяти лет. И только двое — Елизаров и Кукин — чуть постарше. Единственная воспитательница и учительница ребят, маленькая решительная женщина в старомодном пенсне, Павла Юрьевна, занимается с Елизаровым и Кукиным отдельно, по программе третьего класса. Таким своим особым положением оба мальчика гордятся, держатся всегда вместе, даже кровати-раскладушки в спальне у них стоят рядом. Но все же полного равенства в этой дружбе нет. Кукин находится у Елизарова в некотором подчинении. Правда, в подчинении добровольном. Он очень уважает Сашу Елизарова. Уважает за высокий не по годам рост, за умение произносить но утрам звонко и весело, на всю спальню, английское приветствие: «Гуд морнинг!», за удивительную начитанность, за ловкость в драке, если таковая случится с деревенскими, ужасно напористыми в бою мальчишками; уважает за всегдашнюю справедливость, за нежадность и за многое, многое другое, даже за прическу «чубчик».
Прическа кареглазому, говорливому Елизарову очень идет. Он храбро ее отстоял перед Павлой Юрьевной, когда всех мальчиков стригли наголо, «под нуль».
Митя Кукин отлично понимает, что всех этих замечательных качеств у него самого нет, и, наверное, никогда не будет.
Митя знает, что он хотя и силен, и крепок, да слишком низкоросл. Он знает, что его круглое девчоночье лицо некрасиво залепили веснушки; что в случае чего сдачи он дать никому не может — ему для этого надо рассердиться. А сердиться Митя не умеет совсем. Нрав у него добродушный, покладистый, как у дворового щенка.
Но это все мелочи. Главная причина преклонения Кукина перед Елизаровым та, что у Саши есть отец, а у Мити отца нету.
А вот было время, когда и Саша Елизаров начал считать себя сиротой. Начал считать вот почему. Сашин отец — фронтовик, раньше на свою ленинградскую квартиру письма присылал часто, но когда Сашу перевезли в интернат, когда Сашина мама тоже ушла на фронт, потому что была военным врачом, то письма от отца приходить перестали. Они не приходили долго, почти целый год. От мамы из окруженного фашистами Ленинграда весточки были тоже очень редкими, и Саша очень волновался, а про отца думал, что он погиб. Думал, но не верил. И Митя вместе с ним тоже не верил. Митя говорил:
— Вот погоди, Сашок, однажды утречком ты проснешься, и на тумбочке у тебя будет лежать письмо…
И так оно все и получилось. Прошлой осенью, первого сентября, Саша проснулся, глянул как всегда на тумбочку, а там — письмо. Настоящее треугольное воинское письмо!
Митя письмо тоже увидел. И хотя письмо было не ему, но он обрадовался так, как будто письмо получил сам, и побежал вместе с приятелем по всей школе, закричал:
— Ура! Сашкин папка нашелся! Сашкин папка нашелся! Он в госпитале раненый лежит.
А потом вдруг на душе у Мити сделалось неприютно. Он затосковал, кинулся в темный чулан под чердачную лестницу, обнял там связку березовых черенков для метел и — заплакал. Заплакал от жалости к себе.
Он заплакал потому, что у него, у Мити Кукина, отец уже никогда не найдется. Отец у Мити никуда не пропадал, он просто давным-давно умер, когда Митя был еще маленьким.
А вот мать и сестренки у Мити живы, но пропали. Случилось это в самые первые дни войны.
До того, как началась война, жил Митя с матерью и с двумя сестренками Любашей и Дашей невдалеке от Ленинграда в совхозе «Дружная Горка», и когда началась эвакуация, то все они поехали в товарном, переполненном людьми поезде на Урал.
Но Митя до Урала не доехал. Доехал он только до какой-то ленинградской сортировочной станции. На этой станции поезд стоял долго, была жара, всем хотелось пить. Митя взял пустой чайник и, никому ничего не сказав, пошел к водонапорной колонке за водой.
У колонки шумела толпа. Все лезли, кричали, толкались, — Митя тоже стал пробиваться к самому крану. И когда пробился, и набрал полный чайник, и пришел на перрон, то на том месте, где стоял его поезд, увидел только пустые рельсы. Поезд ушел, увез неизвестно куда маму, увез Любашу и Дашу, и Митя остался один с полуведерным чайником в руках.
Потом к Мите подошла чужая тетенька с красной повязкой на рукаве, стала выспрашивать, что да как, и на другой день Митя оказался в детском эшелоне, и вот приехал сюда, в интернат.
Чайник тоже здесь. В нем разносят чай во время обеда, и малыши называют его «Митин чайник».
Под лестницей Митя плакал недолго. Других укромных местечек в интернате нет, Саша быстро его разыскал, вошел в темноту, услышал жалостное Митино сопение и сразу все понял. Он погладил Митю по спине, по испачканной паутиной и пылью курточке и сказал:
— Не плачь, Митя. Вот увидишь, найдутся и твои, как нашелся мой папа… Тут главное: терпеть, терпеть — и вытерпеть. Ты же сам так говорил.
Но все же полного равенства в этой дружбе нет. Кукин находится у Елизарова в некотором подчинении. Правда, в подчинении добровольном. Он очень уважает Сашу Елизарова. Уважает за высокий не по годам рост, за умение произносить но утрам звонко и весело, на всю спальню, английское приветствие: «Гуд морнинг!», за удивительную начитанность, за ловкость в драке, если таковая случится с деревенскими, ужасно напористыми в бою мальчишками; уважает за всегдашнюю справедливость, за нежадность и за многое, многое другое, даже за прическу «чубчик».
Прическа кареглазому, говорливому Елизарову очень идет. Он храбро ее отстоял перед Павлой Юрьевной, когда всех мальчиков стригли наголо, «под нуль».
Митя Кукин отлично понимает, что всех этих замечательных качеств у него самого нет, и, наверное, никогда не будет.
Митя знает, что он хотя и силен, и крепок, да слишком низкоросл. Он знает, что его круглое девчоночье лицо некрасиво залепили веснушки; что в случае чего сдачи он дать никому не может — ему для этого надо рассердиться. А сердиться Митя не умеет совсем. Нрав у него добродушный, покладистый, как у дворового щенка.
Но это все мелочи. Главная причина преклонения Кукина перед Елизаровым та, что у Саши есть отец, а у Мити отца нету.
А вот было время, когда и Саша Елизаров начал считать себя сиротой. Начал считать вот почему. Сашин отец — фронтовик, раньше на свою ленинградскую квартиру письма присылал часто, но когда Сашу перевезли в интернат, когда Сашина мама тоже ушла на фронт, потому что была военным врачом, то письма от отца приходить перестали. Они не приходили долго, почти целый год. От мамы из окруженного фашистами Ленинграда весточки были тоже очень редкими, и Саша очень волновался, а про отца думал, что он погиб. Думал, но не верил. И Митя вместе с ним тоже не верил. Митя говорил:
— Вот погоди, Сашок, однажды утречком ты проснешься, и на тумбочке у тебя будет лежать письмо…
И так оно все и получилось. Прошлой осенью, первого сентября, Саша проснулся, глянул как всегда на тумбочку, а там — письмо. Настоящее треугольное воинское письмо!
Митя письмо тоже увидел. И хотя письмо было не ему, но он обрадовался так, как будто письмо получил сам, и побежал вместе с приятелем по всей школе, закричал:
— Ура! Сашкин папка нашелся! Сашкин папка нашелся! Он в госпитале раненый лежит.
А потом вдруг на душе у Мити сделалось неприютно. Он затосковал, кинулся в темный чулан под чердачную лестницу, обнял там связку березовых черенков для метел и — заплакал. Заплакал от жалости к себе.
Он заплакал потому, что у него, у Мити Кукина, отец уже никогда не найдется. Отец у Мити никуда не пропадал, он просто давным-давно умер, когда Митя был еще маленьким.
А вот мать и сестренки у Мити живы, но пропали. Случилось это в самые первые дни войны.
До того, как началась война, жил Митя с матерью и с двумя сестренками Любашей и Дашей невдалеке от Ленинграда в совхозе «Дружная Горка», и когда началась эвакуация, то все они поехали в товарном, переполненном людьми поезде на Урал.
Но Митя до Урала не доехал. Доехал он только до какой-то ленинградской сортировочной станции. На этой станции поезд стоял долго, была жара, всем хотелось пить. Митя взял пустой чайник и, никому ничего не сказав, пошел к водонапорной колонке за водой.
У колонки шумела толпа. Все лезли, кричали, толкались, — Митя тоже стал пробиваться к самому крану. И когда пробился, и набрал полный чайник, и пришел на перрон, то на том месте, где стоял его поезд, увидел только пустые рельсы. Поезд ушел, увез неизвестно куда маму, увез Любашу и Дашу, и Митя остался один с полуведерным чайником в руках.
Потом к Мите подошла чужая тетенька с красной повязкой на рукаве, стала выспрашивать, что да как, и на другой день Митя оказался в детском эшелоне, и вот приехал сюда, в интернат.
Чайник тоже здесь. В нем разносят чай во время обеда, и малыши называют его «Митин чайник».
Под лестницей Митя плакал недолго. Других укромных местечек в интернате нет, Саша быстро его разыскал, вошел в темноту, услышал жалостное Митино сопение и сразу все понял. Он погладил Митю по спине, по испачканной паутиной и пылью курточке и сказал:
— Не плачь, Митя. Вот увидишь, найдутся и твои, как нашелся мой папа… Тут главное: терпеть, терпеть — и вытерпеть. Ты же сам так говорил.
2
«Саше Елизарову от капитана второго ранга Сергея Елизарова и от лейтенанта Николая Бабушкина. Враг будет разбит, победа будет за нами! Пусть Гитлер помнит Сталинград, пусть помнит красных моряков на Волге!»Павла Юрьевна как глянула на фотографию, так сразу похлопала по карману стеганой безрукавки, вынула тонкое, в блестящей оправе пенсне, защипнула пружинками переносицу и, отнеся от себя фотографию на всю длину руки, произнесла: — Ох, Саша! Какой у тебя геройский отец… Сразу видно, сталинградец! И лейтенант Бабушкин тоже герой, хотя о своих подвигах они ничего и не пишут… Ты, Саша, когда станешь посылать ответ, не забудь поздравить с наградой товарища капитана и товарища лейтенанта от всего интерната, и от меня лично. Она положила фотографию, повернулась к окну, глянула в оконное стекло на себя, как в зеркало, почему-то вздохнула и быстро пошла к двери. А Саша крикнул ей вслед: — Напишу! Обязательно напишу. А еще он громко добавил: — Май-о-о! И это на языке североамериканских индейцев значило: «Хорошо!» Саша умеет разговаривать не только по-английски, а почти на всех языках всего мира. Правда, из каждого он знает лишь два-три словечка, он выучивает их не по учебникам, а вычитывает из приключенческих книг, но все равно Павла Юрьевна однажды назвала его полиглотом. Назвала при всех, и все интернатские жители сначала сильно смутились, потому как подумали: слово это ругательное. Но, когда Павла Юрьевна разъяснила, что так называют людей, знающих много иностранных языков, то и Митя, и все малыши стали уважать Сашу еще больше. Ответ на письмо с фотографиями Саша послал в тот же день. Написал ли он там капитану Елизарову и лейтенанту Бабушкину привет от Павлы Юрьевны — неизвестно, а вот про Кукина Митю написал. Он сам прочитал эти строчки Мите вслух. Строчки были такие:
«У тебя есть друг, и у меня есть друг. Его зовут Митя Кукин. Ему десять лет, и у нас с ним все вместе. Мы бы с ним тоже снялись на карточку, да фотографа у нас тут нет, и у Мити Кукина никого нет, ни отца, ни матери. А есть у нас только заведующая Павла Юрьевна, завхоз Филатыч и петух Петя Петров. Когда был мороз, Митя прятал петуха под своей кроватью, а еще Митя рубит для кухни дрова, носит воду, а я ему помогаю. Так что снять на карточку нас некому, не обижайся».Капитан второго ранга Елизаров, конечно, не обиделся. Более того, он и сам в ответном письме прислал Мите поклон, а лейтенант Бабушкин приписал снизу капитанских строчек большими буквами: «Привет тебе, Митя Кукин!» Митя как увидел приписку, так сразу выхватил письмо из Сашиных рук, отбежал в сторону, прижал письмо к животу и чуть не криком сказал: — Что хочешь делай, Сашок, а письмо отдай мне! Хочешь, я тебе за него свою шапку на твою старую сменяю? — Не надо мне твоей шапки, — ответил Саша. — Что я, буржуй, что ли, на письмах наживаться? Бери так… И вот с тех пор письмо с лейтенантским приветом Митя носит всегда в нагрудном кармане курточки и перечитывает его не меньше чем по два раза в день: утром после подъема и вечером перед сном. А когда на сгибах появились дырки, Митя подклеил их вареной картошкой и газетной бумагой, и опять аккуратно сложил письмо, и опять убрал в карман. Митя и сам бы послал лейтенанту Бабушкину письмецо, да начинать переписку первым все не решался. Писарь он был никудышный, очень боялся наделать в письме ошибок и тем самым испортить у лейтенанта Бабушкина о себе впечатление. Митины успехи за партой не очень-то велики. Он хотя и старается, и плохих отметок у него почти не бывает, но и хорошие проблескивают редко. — Середнячок ты у нас, Митя… — нет-нет да и скажет Павла Юрьевна, когда ставит ему очередную тройку. Ставит, вздыхает, но тут же спохватывается, начинает утешать: — Ничего, ничего. Порою способности приходят позже. Так случалось со многими умными и впоследствии очень знаменитыми людьми. Главное, чтобы человек был надежным. А ты, Митя, человек вполне надежный. Ты у нас, можно сказать, мужчина в доме! Без тебя с нашим хозяйством мы бы не знали, что и делать… От таких речей Митино конопатое лицо расцветает, белесые ресницы над зелеными глазами начинают смущенно и в то же время радостно трепетать. Все, что говорит Павла Юрьевна о Митиных заслугах, — правда. Как только кончится урок, как только Павла Юрьевна поднимет со стола медный колокольчик с надписью «Дар Валдая» и звякнет им, так Митина круглая, словно шарик, фигурка в затертом казенном пальтеце и в пушистой шапке-ушанке скатывается с крыльца во двор. А белый двор усыпан по мягкому, подталому снежку рыжими сосновыми иголками. А сосны над головой стоят чуть не до неба. Воздух сладок, свеж, пахнет по-весеннему ветром, и здесь Митя чувствует себя на полной свободе. Он здесь — хозяин положения, и даже сам Саша Елизаров попадает волей-неволей к нему в подчиненные. Митя хватает с поленницы топор, ставит на попа чурбан-кругляш, — бац! — бьет по нему наотмашь, и чурбан разлетается на две половинки. Саша тоже берет топор, тоже ударяет по кругляшу, но «бац!» у него не получается. Чурбан как стоял целехонек, так и стоит, а лезвие топора глубоко вязнет в сырой древесине. — Кар-р-рамба! — ругается по-иностранному, кажется, по-испански, Саша. — Как хоть ты все это делаешь? Научи? И Митя учит. Подсказывает, что лезвие топора надо держать чуть-чуть наискось, что ударять надо резко, безо всякого страха, но Саша все равно при ударе побаивается, трусит промахнуться, удар у него выходит не тот, и в конце концов Митя говорит: — Ладно… Потом научишься. Давай подтаскивай мне чурбаны, я сам переколю. И так во всем. Хоть дрова колоть, хоть снег от крыльца откидывать, хоть воду на кухню таскать из бочки — Митя все делает куда быстрее и аккуратнее Саши. И выполняет он эту не очень легкую мужскую работу с удовольствием. Снег, сосны, поленница в снегу, стук ведра о край деревянной бочки напоминают ему далекую «Дружную Горку», напоминают родной дом.
3
4
5
 Саша со стороны увидел, как Зорька мощно вздыбилась, развернулась на задних ногах и, обрушивая с себя сверкающую на солнце воду, с висящим на гриве мальчиком, вымахнула на лед. Она проломила его, опять вымахнула и вот уже, хромая и волоча за собой вождей, выбежала на берег.
Там она остановилась. Митя скатился на снег и кинулся осматривать Зорьку. Дышала она шумно и тяжело, ноги ее дрожали. Вода капала с длинного хвоста, с гривы, под раздутым животом нелепо висело седелко.
— Прости меня, Зоренька, прости… — опять было заплакал Митя, да тут подбежал Саша, подал валенки, пальто, сказал:
— Оденься.
Потом бодрым голосом добавил:
— Вот видишь! За Филатычем можно было и не посылать. Если бы не послали, никто бы ничего и не узнал.
— Ну, д-да… Ф-фиг бы не узнал… — едва выговорил Митя. Его трясло не меньше Зорьки.
Саша со стороны увидел, как Зорька мощно вздыбилась, развернулась на задних ногах и, обрушивая с себя сверкающую на солнце воду, с висящим на гриве мальчиком, вымахнула на лед. Она проломила его, опять вымахнула и вот уже, хромая и волоча за собой вождей, выбежала на берег.
Там она остановилась. Митя скатился на снег и кинулся осматривать Зорьку. Дышала она шумно и тяжело, ноги ее дрожали. Вода капала с длинного хвоста, с гривы, под раздутым животом нелепо висело седелко.
— Прости меня, Зоренька, прости… — опять было заплакал Митя, да тут подбежал Саша, подал валенки, пальто, сказал:
— Оденься.
Потом бодрым голосом добавил:
— Вот видишь! За Филатычем можно было и не посылать. Если бы не послали, никто бы ничего и не узнал.
— Ну, д-да… Ф-фиг бы не узнал… — едва выговорил Митя. Его трясло не меньше Зорьки.
6
7
8
9
10
11
 — Ты чему радуешься? — подскочил к нему Саша. — Ты чему, разиня, радуешься? Тому, что поезд упустили, да?
Но Митя и этих слов будто не понял. Он очумело взглянул на товарища, лотом торжественно, обеими руками вознес пакет еще выше и повернул его так, что Саша сам, хотел-не хотел, а уставился на пакет.
На грубой парусине, в которую пакет был зашит, четко виднелась фиолетовая чернильная надпись:
— Ты чему радуешься? — подскочил к нему Саша. — Ты чему, разиня, радуешься? Тому, что поезд упустили, да?
Но Митя и этих слов будто не понял. Он очумело взглянул на товарища, лотом торжественно, обеими руками вознес пакет еще выше и повернул его так, что Саша сам, хотел-не хотел, а уставился на пакет.
На грубой парусине, в которую пакет был зашит, четко виднелась фиолетовая чернильная надпись:
А чуть пониже обратный адрес: п/п 1928 Н. И. Бабушкин. И тут Саша сам позабыл про поезд. Он забыл даже про тетю Клавдю, которая в это время пересчитывала разбросанные ящики, составляла их горкой. Саша выхватил из Митиных рук пакет, еще раз перечитал оба адреса; перечитал, сказал: — Ну, Митя… Ну, Митя… — а дальше сказать ничего не мог. А тетя Клавдя: «Раз, два, три, четыре, пять!» — досчиталась до этого пакета, ткнула в него пальцем: «Шесть!» — и вдруг тоже удивилась: — Вы зачем его схватили? Зачем? Положите. Он ведь не ваш. — Наш! — с ликованием в голосе крикнул Саша. — Наш! Вот его — Дмитрия Кукина. Тетя Клавдя изумленно подняла брови: — Ну-тка, ну-ка… Ой, и верно! Кукину. Дмитрию. От кого это тебе? От какого-то Бабушкина с полевой почты. От какого Бабушкина? — От лейтенанта. От Н. И… — осевшим голосом просипел Митя и потянулся к пакету. — Это как понимать — «Н. И.»? Имя-отчество говори полностью, — сказала тетя Клавдя и отнесла руку с пакетом в сторону. Митя перепугался, что пакет она не отдаст, и растерянно прошептал: — Так я же не знаю… — Ах, не знаешь! Может, ты и своего имени не знаешь? Может, ты совсем и не Дмитрий? Может, у вас в интернате какой другой Дмитрий Кукин есть? А ну, показывай паспорт! Тетя Клавдя вроде бы шутила, и вроде бы и не шутила. Испуганный Митя разобрать этого не мог. На глазах у него навернулись слезы, да тут вмешался Саша. Он закричал: — Да вы что? Почему же он не Дмитрий, когда он — Митя! А от Бабушкина у него письмо есть — в кармане. Митя, покажи письмо! Митя стал расстегивать пальто, чтобы добраться до курточки, а тетя Клавдя увидела, как пальцы у него дрожат, не могут нашарить петельки, испугалась и сказала: — Не надо, не надо. Я ведь смеюсь. Бери свой пакет, только распишись вот здесь. Она вынула из кармана полушубка химический карандашный огрызок, стопку бумажек, и на одной бумажке Митя вывел свою фамилию: «Кукин». А потом подумал и добавил для верности: «Дмитрий». Он хотел еще написать: «Семенович», да тетя Клавдя отняла бумажку, засмеялась: — Хватит, хватит. И так все теперь законно. Бери пакет. — Его можно уже и раскрыть? — спросил Митя. — Можно, да потерпи чуть-чуть. Сперва помогите мне почту до саночек донести. Они у вокзала стоят. Митя сунул свой пакет за борт пальто, с готовностью схватил сразу пару посылок, Саша тоже взял пару посылок, а тетя Клавдя — посылку, тюк и мешок. Они пошли по платформе и там, в самом конце, увидели двух железнодорожников в черных узких шинелях и в черных зимних шапках. Железнодорожники громко разговаривали, смеялись. Один из них свертывал папироску, и был он очень высокий, худой, с лохматыми седыми бровями над горбатым носом, а второй был маленький, молоденький, с розовым лицом. «Наверное, тот большой — наш дежурный, а тот маленький — Валя», — подумал Митя. Подумал, сразу вспомнил про свое беглое положение, и сердце у него тоскливо заныло. «Неужто Саша опять будет ждать поезда? Неужто опять побежим?» Он опасливо покосился на Сашу, но тот спокойнехонько нес посылки, на Митю не глядел, сигналов никаких не подавал. Тогда Митя нежно, подбородком, погладил торчащий из-под борта пальто уголок пакета. Ему не терпелось узнать: что там? Ему так не терпелось, что он первым добежал до саночек и, поскорее освобождая руки, бросил ящики на саночки. Саша тоже разгрузился, и прямо тут, на посылках, на саночках, мальчики принялись тормошить пакет. — Господи! — сказала тетя Клавдя. — Вот нетерпёны… Без ножниц, прямо зубами шпагат рвут! Пошли бы ко мне на почту, там бы и распечатали. Не рвите, не рвите, давайте помогу. Ей ведь и самой страсть как хотелось увидеть, что там такое прислал Мите Кукину лейтенант Бабушкин. А мальчики уже раздернули толстые швы, и внутри под упаковкой оказались еще два отдельных, замотанных в бумагу пакетика. — Давай, разматывай! — сказал Саша, и Митя принялся разматывать первый сверток. Он разматывал его очень бережно. Он разматывал его очень тихо. Он разматывал его так медленно, что Саша крикнул: — Да скорее же! И Митя развернул и сразу сказал: «Ох!» И, сверкнув золотом якорей и прошуршав черным шелком ленточек, возникла великолепная матросская бескозырка. Митя опять вздохнул: — Ох! Тетя Клавдя произнесла: — Ну и ну! А Саша сказал: — Вот так да! Ну-ка, надень-ка! Митя снял ушанку, надел бескозырку. — Идет! В самый раз… — похвалил Саша. А тетя Клавдя добавила: — Вылитый гвардеец! Митя протянул бескозырку Саше: — На, Сашок, и ты примерь. Но Саша мужественно отказался. Саша сказал: — Не надо. Посылка твоя, значит, и бескозырка твоя. Давай дальше смотреть. А дальше обнаружились не менее прекрасные вещи. Синий с красным шестигранный командирский карандаш «Тактика» с двумя наконечниками из новеньких, с медным блеском автоматных гильз; огромная, шириной с ладонь, плитка шоколада под названием «Золотой якорь» и — письмо! Совсем небольшое письмо, но зато все целиком — для Мити. Сказано в письме было вот что:Энская область
Кукушкинский район
Детский интернат № 3
Дмитрию Кукину
«Дорогой братишка Митя! Шлю тебе свой краснофлотский привет и сердечный поклон от всего нашего экипажа. Про тебя, браток Митя, мы узнали из Сашиного письма. Письмо читали все моряки, и вот приносят тебе краснофлотскую благодарность за то, что ты там, в героическом тылу, в интернате, с честью несешь свою трудовую вахту. Это нам, фронтовикам, большая подмога. А от себя, Митя, лично я шлю посылку. Она, браток, маленькая, да сам понимаешь, с фронта посылки посылать трудно. Надеюсь, после победы встретимся, тогда подарков будет больше. А пока напиши мне поскорее ответ и обрисуй в нем подробно все свои дела. Наши боевые дела идут отлично. Бьем фашиста-захватчика, скоро ему придет полный конец. Привет Саше Елизарову, вашим старшим товарищам — Филатычу и Павле Юрьевне, и вообще всему интернатскому экипажу. Крепко жму твою трудовую руку. Лейтенант Бабушкин. А попросту — Николай Иванович».Письмо прочитали все сразу. Митя держал его открыто, читал молча. Саша тоже читал молча, только тетя Клавдя произносила каждую фразу вслух. А потом от себя добавила: — Вот это человек так человек! Сразу видно, душевный. Очень даже душевный. А Митя прочитал письмо до конца, до последней точки, и так разволновался, так разволновался, что и словечка сказать не мог. Когда же услышал, как тетя Клавдя хвалит лейтенанта Бабушкина, так сразу выхватил из растерзанного пакета шоколад, всю плитку, и стал совать ей в руки: — Это вам! От него! — Что ты, что ты, — заотмахивалась тетя Клавдя. — Что ты! Таким гостинцем не меня надо угощать. Этот гостинец ты у себя там на всех ребятишек разделишь. То-то им будет радости! Нет, не возьму и не возьму. Тогда Митя схватил двухцветный карандаш и протянул Саше. — Тогда ты, Саша, себе вот это возьми! Саша карандаш взял, осмотрел, даже понюхал, потому что новенькие карандаши пахнут нисколько не хуже самого лучшего шоколада, но тоже сказал: — Нет! И он сказал не только «нет». Он подумал, подумал и тихонько добавил: — Мне, Митя, ничего не надо. Я от лейтенанта Бабушкина привет получил, и на том спасибо. Мог бы и не получить… А карандаш подари лучше Егорушке. Вместо дудочки. Ведь у него сегодня день рождения. Митя, когда услышал такое, даже собственным ушам не поверил. Он заглянул Саше прямо в глаза и медленно переспросил: — Как так, Егорушке? Ты, значит, согласен?.. А ты сам? Ты сам тоже идешь со мной? — Иду, Митя, — сказал Саша. — Конечно, иду… После такого письма куда ж нам идти? — Только домой. Ответ лейтенанту Бабушкину писать! — просиял Митя. — Конечно, ответ лейтенанту писать, — тоже легко вздохнул Саша и махнул рукой: — Собирай багаж. Побежали! К дому побежали. Мальчики сами не заметили, как впервые за все два года жизни в этом краю назвали свой интернат не «интернатом», не «школой», а домом. А тетя Клавдя смотрела на них и ничего не понимала. — Вы о чем, ребятишки? Как это домой, когда у вас Филатыч где-то здесь, в селе? — А мы с ним все равно встретимся! — улыбаясь, кивнул в сторону дороги, в сторону интерната Митя. Разговаривать с тетей Клавдей он теперь не боялся, потому что все теперь было честно, все правильно. Митя даже помог тете Клавде стронуть груженые саночки с места и спросил: — Одна довезете? — Довезу. Сегодняшний груз невелик, я и больше важивала… Ступайте. Счастливо вам! — И вам спасибо! — сказали мальчики, завернули опять в парусину Митину посылку, взялись за руки и побежали по тропке сначала через рельсы, потом через поле — прямо к лесной дороге. А вокруг уже рассветало. Серая ночная мгла в небе распахнулась, превратилась в пушистые облака. Навстречу облакам всплеснулись яркие лучи, и опять во всей земной белизне, по сверкающему полевому насту протянулись от каждой торчащей из-под снега былинки, от каждого снежного заструга голубые тени. Мальчики выбежали на дорогу, помчались в гору, и вдруг навстречу им из-за этой горы вынырнула темная лошадиная голова с дугой, потом вся лошадь, а за ней сани-розвальни. В санях стоял на коленках человек, солнце светило ему в спину, и весь он казался черным. Лошадь тоже казалась черной. Только передние ноги у нее ниже колен были белыми, словно в белых, невероятной чистоты чулках. Бежала она ходкой рысью. У Мити екнуло сердце. — Неужели Филатыч на Зорьке? Саша прикрылся ладонью от солнца, посмотрел, сказал: — Не похоже… Эта лошадь совсем другая. Видишь, ноги белые. Но это была все-таки Зорька, а в санях — Филатыч. Он остановил Зорьку, выскочил из саней. Он бежал к ним с широченным тулупом в руках, на ходу раскрывая его, распяливая, и мальчики смотрели на Филатыча и не могли понять: к чему здесь тулуп? Они прижались друг к другу. Они ждали: сейчас на них обрушится кара, но обрушился на них и накрыл с головой только вот этот мохнатый тулуп. Филатыч накрыл обоих, как неводом, овчинным тулупом и крепко стянул края широкополой одежины руками, запричитал, заприговаривал: — Матушки мои! Вот вы где! Нашлися! А мы-то с Юрьевной чуть ума не лишились! Пойдемте, матушки мои, пойдемте! Поедемте домой… Он даже не спрашивал, куда и зачем убегали мальчики. Он только так вот их, укрытых тулупом, и подталкивал к лошади, подталкивал к саням и все уговаривал: — Пойдемте, пойдемте… Мальчики растерялись. Им обоим стало как-то не очень уютно, не очень хорошо и даже совестно, что старый бородатый Филатыч так возле них суетится.
 Саша выскользнул из тулупа, обернулся к старику и, боясь поглядеть ему в глаза, проговорил звонким от напряжения голосом:
— Товарищ Филатыч! А товарищ Филатыч!
— Што? — испуганно спросил тот.
— Вы, товарищ Филатыч, не думайте: не из-за вас мы убежали… Мы по ошибке убежали. И эксплуататором, товарищ Филатыч, я вас неправильно называл.
— Да господи! Да об чем речь! — воскликнул тонким голосом старик, взмахнул руками, и тулуп с Мити свалился на дорогу. — Да разве я… Да какое такое тут может быть думанье! Не было ничего и — шабаш! Вот как!
Старик еще раз махнул рукой, словно что-то отрубил, даже притопнул валенком и сказал уже совсем иным, твердым своимвсегдашним голосом:
— Садитеся! Поехали! Теперь, считай, все в аккурате.
— И Зорька в аккурате? — робко спросил Митя.
— Считай, да. Видишь, головой тебе машет? Иди, погладь.
— А ноги?
— Что ноги?
— Это вы ей так забинтовали?
— А то кто же? Еще с недельку побинтуем, а там совсем пройдет.
— И жеребеночек у нее будет?
— Будет, будет. Ладно, что ты сумел ее тогда распрячь… Вызволил из полыньи… Иди с ней поздоровайся, да и поехали.
И вот опять теплые Зорькины губы ткнулись в Митину ладонь. И опять он стоял и гладил ее шелковистую шею, а Зорька все поматывала головой и даже обнюхала оттопыренное на груди Митино пальтецо, обнюхала то место, где лежал пакет от лейтенанта Бабушкина.
— Потерпи, Зоря, потерпи… — шепнул ей Митя. — Вот приедем домой и — покажу. Всем покажу и тебе покажу.
А потом усталых мальчиков свалила дремота, и, лежа под мягким теплым тулупом, Митя увидел сон.
Ему приснилось лето, высокая трава, и шагают будто бы они по этой траве с лейтенантом Бабушкиным. Трава очень большая, раздвигать ее ногами трудно, и лейтенант Бабушкин говорит: «Что мы так тихо идем? Давай помчимся!» — «Давай», — говорит Митя, и вот перед ними возникают два длинногривых коня. Один конь — это Зорька, второй конь — это взрослый ее жеребенок. Он тоже гнедой, только во лбу у него белая звезда.
И лейтенант садится на Зорьку, Митя на жеребенка, и они мчатся. Они даже не мчатся, они — летят. Они несутся над зеленым лугом, над пшеничным полем, над макушками тихих сосен, а под соснами школа и рядом с ней широкие ворота.
Кони опускаются на тропинку у самых ворот, пофыркивают, помахивают головами, а на воротах белое полотнище и на нем голубыми, очень большими буквами написано: «Привет тебе, Митя Кукин!»
— Это от тебя, Николай Иванович, мне привет? — спрашивает Митя Бабушкина, и лейтенант отвечает:
— От меня, Митя, от меня… Я теперь тебе всегда буду присылать приветы, всю жизнь!
Митя засмеялся во сне, задел откинутой рукой Сашу. Тот во сне тоже улыбнулся и вдруг произнес громко, сразу на трех языках:
— Шарман! Вери велл! Май-о-о!
Филатыч посмотрел на спящих мальчиков и, словно поняв Сашины слова, по-русски добавил:
— Верно, сынок, верно. Все хорошо, что хорошо кончается. Потом вспомнил недавний разговор, с усмешкой покачал головою.
— То-ва-рищ Филатыч… Товарищ, да еще и Филатыч! Ну, надо же такое сказать…
Он причмокнул на Зорьку:
— Но, Зоренька! Но, милая! Топай скорее… Товарищи проснутся, поди есть захотят.
И Зорька затопала скорее, она тоже торопилась к дому.
Саша выскользнул из тулупа, обернулся к старику и, боясь поглядеть ему в глаза, проговорил звонким от напряжения голосом:
— Товарищ Филатыч! А товарищ Филатыч!
— Што? — испуганно спросил тот.
— Вы, товарищ Филатыч, не думайте: не из-за вас мы убежали… Мы по ошибке убежали. И эксплуататором, товарищ Филатыч, я вас неправильно называл.
— Да господи! Да об чем речь! — воскликнул тонким голосом старик, взмахнул руками, и тулуп с Мити свалился на дорогу. — Да разве я… Да какое такое тут может быть думанье! Не было ничего и — шабаш! Вот как!
Старик еще раз махнул рукой, словно что-то отрубил, даже притопнул валенком и сказал уже совсем иным, твердым своимвсегдашним голосом:
— Садитеся! Поехали! Теперь, считай, все в аккурате.
— И Зорька в аккурате? — робко спросил Митя.
— Считай, да. Видишь, головой тебе машет? Иди, погладь.
— А ноги?
— Что ноги?
— Это вы ей так забинтовали?
— А то кто же? Еще с недельку побинтуем, а там совсем пройдет.
— И жеребеночек у нее будет?
— Будет, будет. Ладно, что ты сумел ее тогда распрячь… Вызволил из полыньи… Иди с ней поздоровайся, да и поехали.
И вот опять теплые Зорькины губы ткнулись в Митину ладонь. И опять он стоял и гладил ее шелковистую шею, а Зорька все поматывала головой и даже обнюхала оттопыренное на груди Митино пальтецо, обнюхала то место, где лежал пакет от лейтенанта Бабушкина.
— Потерпи, Зоря, потерпи… — шепнул ей Митя. — Вот приедем домой и — покажу. Всем покажу и тебе покажу.
А потом усталых мальчиков свалила дремота, и, лежа под мягким теплым тулупом, Митя увидел сон.
Ему приснилось лето, высокая трава, и шагают будто бы они по этой траве с лейтенантом Бабушкиным. Трава очень большая, раздвигать ее ногами трудно, и лейтенант Бабушкин говорит: «Что мы так тихо идем? Давай помчимся!» — «Давай», — говорит Митя, и вот перед ними возникают два длинногривых коня. Один конь — это Зорька, второй конь — это взрослый ее жеребенок. Он тоже гнедой, только во лбу у него белая звезда.
И лейтенант садится на Зорьку, Митя на жеребенка, и они мчатся. Они даже не мчатся, они — летят. Они несутся над зеленым лугом, над пшеничным полем, над макушками тихих сосен, а под соснами школа и рядом с ней широкие ворота.
Кони опускаются на тропинку у самых ворот, пофыркивают, помахивают головами, а на воротах белое полотнище и на нем голубыми, очень большими буквами написано: «Привет тебе, Митя Кукин!»
— Это от тебя, Николай Иванович, мне привет? — спрашивает Митя Бабушкина, и лейтенант отвечает:
— От меня, Митя, от меня… Я теперь тебе всегда буду присылать приветы, всю жизнь!
Митя засмеялся во сне, задел откинутой рукой Сашу. Тот во сне тоже улыбнулся и вдруг произнес громко, сразу на трех языках:
— Шарман! Вери велл! Май-о-о!
Филатыч посмотрел на спящих мальчиков и, словно поняв Сашины слова, по-русски добавил:
— Верно, сынок, верно. Все хорошо, что хорошо кончается. Потом вспомнил недавний разговор, с усмешкой покачал головою.
— То-ва-рищ Филатыч… Товарищ, да еще и Филатыч! Ну, надо же такое сказать…
Он причмокнул на Зорьку:
— Но, Зоренька! Но, милая! Топай скорее… Товарищи проснутся, поди есть захотят.
И Зорька затопала скорее, она тоже торопилась к дому.
МЕДАЛЬ «ЗА ОБОРОНУ КИЕВА»
Н. Внуков ШРАМЫ НА КОЛОННАХ Рассказ
Рис. В. Кадочникова.1
Рядовой пиротехнической роты Александр Белавин давно приготовил конверты для праздничных писем. Он вынул их из полевой сумки и разложил на столе. Не торопясь, заточил карандаш. Вырвал из тетрадки несколько листков бумаги. В красном уголке воинской части было тихо. Только из коридора чуть слышно доносилась музыка. Наверное, дежурный включил радио. Первое письмо будет, конечно, матери и сестренкам в далекое село Власово. Они, наверное, давно ждут не дождутся, а он никак не может выбрать несколько свободных минут. Сегодня повезло — никаких вызовов, хотя было уже четыре тревоги. Он придвинул к себе клетчатый листок и аккуратно написал в правом верхнем углу:«6 ноября 1941 года. Ленинград.
Дорогие мои! Поздравляю вас с праздником Великого Октября. Как вы живете? Получаете ли весточки от Володи и Вани с фронта? У меня служба идет как обычно — ученья, тревоги, выезды на задания. В общем — все нормально…»Он поднял карандаш и задумался. Хотелось написать многое. О том, как недавно обезвреживали неразорвавшуюся бомбу на Охте. Она упала недалеко от моста и ушла глубоко в землю. Откапывали долго. А когда откопали, у бомбы вместо взрывателя оказался пустой алюминиевый цилиндрик. Сначала не могли понять, почему. Потом решили, что среди немецких рабочих, изготовляющих боеприпасы, тоже есть друзья — антифашисты. …Или о том, каким суровым стал город. Как забирали в леса и обкладывали мешками с песком Медного всадника, чтобы защитить его от взрывов. Как снимали с гранитных постаментов знаменитых коней у Аничкова моста. Но слов не хватало. Как всегда, когда рассказать нужно многое, а с чего начать — не знаешь. Да и времени на длинные письма никогда не хватало. «После войны расскажу», — подумал Александр и улыбнулся. Радио в коридоре вдруг замолкло. Музыку обрезало, словно ножом. Послышался громкий голос диктора: «Внимание! Внимание! Воздушная тревога! Воздушная тревога!» И сразу же отрывисто и четко застучал метроном. В городе завыли сирены. Александр посмотрел на часы. Было 22.10. Пятый налет фашистских самолетов за сегодняшний день. Это они ради праздника стараются. Устрашают… Как ненавидел сейчас Александр идущие в темном вечернем небе самолеты с черными крестами на крыльях и летчиков, хладнокровно сбрасывающих на город тяжелые бомбы! Но на этот раз отбой наступил необычно быстро. Через десять минут перестал стучать метроном. Наступила глухая тишина. Потом снова начали передавать музыку. «Видно, зенитчики отогнали самолеты!» — подумал Александр и принялся за письмо. В красный уголок заглянул старшина Федулов. — Белавин! К командиру роты! Быстро! Ну вот… Придется дописывать ночью. Он собрал бумагу, конверты, надел на карандаш наконечник, сделанный из гранатного капсюля, сложил все в полевую сумку. Потом снова достал карандаш и написал после слов «все нормально»:
«Сейчас иду на ответственное задание. Выполню его с честью. Не беспокойтесь обо мне».
2
— Назначаю вас старшим расчета, Белавин. Примите команду. — Есть принять команду. Александр посмотрел на трех красноармейцев. Ребята незнакомые. Молодые. Но, кажется, ничего, крепкие. — Бомба на улице Союза Связи у Главпочтамта. Определите калибр, тип взрывателя. Если невозможно обезвредить, подорвите на месте. — Ясно, товарищ капитан. — Желаю удачи. Действуйте.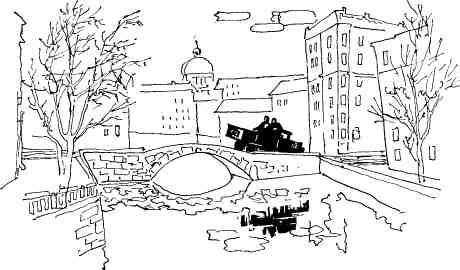 Уже в грузовике, грохотавшем по пустым улицам города, Белавин познакомился с расчетом, спросил:
— Приходилось когда-нибудь откапывать бомбы?
Красноармейцы переглянулись.
Один из них прогудел обиженно:
— Мы уж штук двадцать в дым пустили. Не сомневайтесь.
— Это хорошо, — сказал Белавин.
И больше не проронил ни слова до самого места. Он вообще не любил длинных разговоров.
Уже в грузовике, грохотавшем по пустым улицам города, Белавин познакомился с расчетом, спросил:
— Приходилось когда-нибудь откапывать бомбы?
Красноармейцы переглянулись.
Один из них прогудел обиженно:
— Мы уж штук двадцать в дым пустили. Не сомневайтесь.
— Это хорошо, — сказал Белавин.
И больше не проронил ни слова до самого места. Он вообще не любил длинных разговоров.
3
Бомба упала у перекрестия улицы Союза Связи и переулка Подбельского, прямо против арки Главпочтамта. Проломив асфальт, она ушла в грунт, оставив после себя солидную дыру, засыпанную землей. У места падения бомбы кто-то уже поставил знак запрета движения. Поодаль, за аркой почтамта, маячила одинокая фигура дежурного дружинника. Уже совсем смеркалось. Темные дома двумя угрюмыми шеренгами стояли вдоль улицы. Ни единого проблеска света не пробивалось из окон наружу. Белавин достал из кузова аккумуляторный фонарь с синим фильтром и осмотрел место падения бомбы. По величине дыры определил ее вес — двести пятьдесят килограммов. Теперь нужно было узнать, на какую глубину ушла бомба под улицу. Взяв у одного из пиротехников щуп — длинный металлический стержень, — Белавин погрузил его в рыхлую землю. Стержень вошел в почву на всю свою полутораметровую длину, не встретив сопротивления. Бомба лежала глубже. Он знал, что двухсотпятидесятки пробивают землю на глубину пять, шесть и даже семь метров. Но бывает, что бомба останавливается и в двух метрах от поверхности. Все зависит от высоты, с которой ее сбросили, и от того, пикировал самолет на цель или нет. Пикировать фашист не мог. Налет происходил вечером, и пилот в условиях плохой видимости просто выбрасывал свой смертоносный груз из бомбовых отсеков. «Метрах в трех от поверхности, — мысленно определил Белавин, разглядывая обломки асфальта. — Интересно, почему не взорвалась? Что это, неисправность взрывателя или…» Это «или» было самым неприятным для пиротехников, занимавшихся неразорвавшимися авиабомбами, НАБами, как их сокращенно называли. В девяноста случаях из ста оно значило, что взрыватель у несработавшей бомбы — замедленного действия, вероятнее всего с часовым механизмом. И на какое время замедления механизм поставлен, знали только те, кто подготавливал адскую машину к действию. «Будем надеяться, что она без часиков», — подумал Белавин. Он обернулся. Пиротехники расчета стояли с лопатами в руках, а за ними — дружинник с красной повязкой на рукаве зимнего пальто. В синем свете фонаря повязка казалась совсем черной. — Когда упала? — спросил Белавин. — Минут тридцать-сорок назад. Мы сразу позвонили к вам в штаб, — ответил дружинник, и Белавин по голосу понял, что перед ним девушка, и, кажется, очень молодая. — Это вы поставили знак запрета движения? — Да. — Правильно сделали. Молодец. В почтамте кто-нибудь есть? — Нет. Мы их предупредили. Все ушли. И из этих домов тоже все ушли, — девушка показала рукой на темные окна со стеклами, перекрещенными белыми бумажными полосками. — Куда ушли? — В убежище. Белавин сделал шаг к девушке и вгляделся в ее лицо. «Совсем еще девчонка, — подумал он. — Сколько ей? Лет пятнадцать, от силы шестнадцать. Как моей сестре Кате…» Он вздохнул и произнес тихо: — Простите, девушка, но вам тоже нужно будет уйти. Она вскинула голову: — Я не могу. У меня пост… — Сейчас здесь командую я! — Голос его стал жестким. — И отвечаю за все тоже я. Я снимаю вас с поста. Идите. И передайте людям в убежище — до особого распоряжения не выходить. Понятно? Дежурная постояла несколько секунд, словно не решаясь тронуться с места, словно хотела сказать что-то еще, потом резко повернулась и пошла по переулку Подбельского к улице Герцена. Белавин дождался, когда она повернула за угол, и только после этого сказал своим: — Давайте, ребята.4
Было два пути. Один очень простой — погнать машину за мешками с песком, насыпать защитную стенку, отгораживающую арку почтамта и фасады домов от действия заряда, и прикрепить к бомбе толовую шашку. Детонация шашки вызовет взрыв. Песок примет в себя осколки и приглушит ударную волну. Это был легкий путь, но рискованный. Неизвестно, сколько нужно насыпать песка, чтобы сохранились дома вдоль улицы и само здание Главпочтамта. Неизвестно, успеют ли они это сделать, пока бомба лежит спокойно. Если у нее взрыватель с часовым замедлителем, она может взорваться в любую минуту. Белавин повернулся к зданию. Вот она, арка, знакомая всем ленинградцам. Арка, справа от которой — вход в Главную почту города. Там, под огромным стеклянным куполом, билось сердце Ленинграда. И оно не могло остановиться. Оно связывало город со всей страной. Если бы оно замерло на несколько дней, пульс города дал бы перебой, и еще неизвестно, чем бы все это кончилось… Другой путь был надежнее, но очень опасный. Его нужно было пройти предельно осторожно, потому что на каждом шагу там человека подстерегала смерть. Но зато этот путь выключал работу Главной почты всего на несколько часов и сохранял дома вдоль улицы от разрушения. И существовала еще одна причина, заставившая Александра Белавина сразу же отказаться от первого варианта. Своему расчету он сказал всего девять слов: — Ребята, завтра — седьмое ноября. Будем копать траншею вдоль улицы. И по тому, как они взялись за лопаты, и по тому, что не было задано ни одного вопроса, Белавин увидел, что расчет действительно опытный. Только люди, много работавшие с неразорвавшимися авиабомбами, могли понять его мысль, хотя она была очень проста. Нужно повернуть бешеную силу взрыва в том направлении, где она ничего не сможет разрушить, где только одна пустота. Нужно вырыть канаву от места падения бомбы в сторону Исаакиевской площади. Тогда страшная ударная волна взрыва пройдет вдоль улицы Союза Связи и, вырвавшись на простор площади, ослабнет, потеряет свою сокрушительную мощь. Здания не будут задеты. Быть может, только судорожно дрогнет земля да вылетят стекла в окнах.5
Белавин вдруг вспомнил, как покупал конверты для писем несколько дней назад. Он купил их совершенно случайно здесь, на Главпочтамте, находясь по делам в этом районе. Огромный зал был сумрачен — стеклянный купол его был защищен листами фанеры, досками и песком. В окошечках, где принимали письма, слабыми звездочками светились маломощные лампочки — здесь, как и во всем городе, экономили электричество. Он подошел к ближайшему окошечку и на стеклянной витрине увидел конверты. Простые, из плотной синей бумаги, с напечатанными для адреса строчками. Он давно уже не пользовался конвертами. В части все письма писались на листках, вырванных из школьных тетрадей и сложенных треугольничком. Никаких марок, никаких почтовых ящиков — треугольнички сдавались в канцелярию части, откуда поступали на военную почту. А тут… На некоторых конвертах были даже наклеены марки с видами павильонов Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. Александр сначала растерялся, увидев конверты. Они были словно пришельцами из довоенного мира. Из того времени, когда Ленинград еще не знал затемнений и на его улицах не было разрушенных домов. Он подошел к окошечку и тронул пальцем стекло, под которым, лежали конверты. — Это… продается? Девушка за стеклянной перегородкой подняла голову. У нее были усталые глаза. — Конечно. Тридцать две копейки штука. — Дайте мне три… И марки, чтобы… покрасивее……Сейчас почтамт был пустынен и темен. Он словно ожидал взрыва, который мог ударить по стенам в любую минуту. Его судьбу держали в руках Белавин и бойцы пиротехнического расчета. Только от них зависело — жить зданию дальше или превратиться и груду разбитого кирпича.
6
Через полчаса лопата одного из пиротехников лязгнула о металл. — Кажется, стабилизатор, — сказал он негромко. Александр спрыгнул в яму. Встав на колени, пошарил рукой в рыхлой земле. Ладонь натолкнулась на погнутый стальной лист. Да, пиротехник не ошибся. Это был верхний конец пера стабилизатора. Он торчал из земли, как плавник акулы. Отбросив лопатой крупные комья, Белавин добрался до корпуса бомбы. Потом вынул из кармана куртки стетоскоп, обыкновенный медицинский стетоскоп, которым врачи выслушивают больных, вставил в уши пластмассовые наконечники и приложил чувствительную головку к телу бомбы. Закрыл глаза, прислушиваясь. Сначала он ничего не услышал. Сильно шумела кровь в ушах. Но потом из глубины, казалось, из самого центра земли, проклюнулся звук, едва уловимый, похожий на постукивание крохотных стальных молоточков. Стук то усиливался, то почти исчезал, и не понять было — существует он на самом деле или это обман напряженного слуха. Рука с головкой стетоскопа двинулась по корпусу бомбы. Пиротехники наверху ждали. Александр еще плотнее прижал головку стетоскопа к стали. Нет. Это не обман слуха. Молоточки внизу отчетливо отстукивают секунды. — Взрыватель с часовым замедлителем, — сказал он, поднимаясь с колен и выдергивая из ушей наконечники стетоскопа.
7
Все три пиротехника замерли на своих местах. Значит, это самая страшная бомба, с которой им придется работать! — Вот это штучка… — пробормотал один из них, зябко поеживаясь и искоса взглянув на яму. — В первый раз, что ли? — сказал другой. — Попытаемся сделать так, чтобы не тикало. Третий решительно перехватил ручку лопаты: — Нужно копать. — Да, — сказал Белавин. — Как можно быстрее добраться до ее головы. Иначе… — Ясно! Четыре саперные лопаты снова вошли в грунт, расширяя и углубляя яму. Через десять минут стабилизатор бомбы окопали со всех сторон. Показалась верхняя часть корпуса. Работать стало легче. Пошел влажный песок, а за ним голубая глина. Она резалась лезвиями лопат почти без усилия. Влажные пласты аккуратно ложились на края ямы. Расчет работал молча, быстро, и Белавин в который уж раз мысленно благодарил командира роты за этих спокойных ребят, умеющих открыто смотреть в лицо самой смерти. Когда бомба показала из земли почти все свое холодное тело, Александр сказал: — Хватит. Теперь я один. А вы — гоните траншею. Пиротехники выбрались наверх и начали снимать асфальт на середине улицы.8
Бомба лежала наклонно, почти на боку, головой в сторону арки почтамта. Будто слепой бездушный металл сам нащупал цель. Александр снова прослушал стальное тело. Взрыватель продолжал равномерно штамповать секунды. Сколько их осталось до взрыва? Десять? Пятьдесят? Сто? Ленинградцам были знакомы бомбы, которые взрывались через час после падения. Некоторые срабатывали через десять, пятнадцать, тридцать минут. Но были и такие, которые лежали спокойно по нескольку суток. Он снова взглянул на часы. Стрелки показывали 0.20. Значит, уже наступил праздник. Они приехали сюда в 22.50. По словам дежурной, бомба упала минут за сорок до их приезда. Примерно в 22.15. Значит, механизм замедления включился два часа назад. Два часа… «Предположим, что механизм поставлен на три часа, — сказал сам себе Александр. — Они всегда ставят многочасовые взрыватели на какое-нибудь круглое время. Тогда у меня в запасе час. За этот час ребята должны прокопать метров пять-шесть траншеи. Неглубоко. Только, чтобы ослабить почву в направлении взрыва. А я за этот час должен добраться до взрывателя и вывернуть его из корпуса бомбы или как-нибудь остановить часовой механизм…» Он взял лопату и срезал пласт глины в направлении к голове бомбы. Еще один пласт. И еще. …Только не давать воли нервам. Не сделать какого-нибудь лишнего движения… Спокойствие, точность и быстрота — вот что сейчас важнее всего. И не смотреть на часы. Лопата осторожно скребла по металлу. Весь мир остался сейчас за стенками ямы. Мир тех, кто спит в темных тревожных комнатах, кто сидит в убежище. Мир ночных смен на заводах. Город. Запертые двери. Темные окна. Все позади. Впереди только бомба, нацеленная на арку Главного почтамта, и там, в самой узкой части ее, — взрыватель, который необходимо вынуть. …Еще несколько пластов глины отброшены в сторону. Александр отложил лопату. Вынул из чехла нож. Концом лезвия начал расчищать вершину бомбы. Синий свет переносной лампы отбрасывал черные причудливые тени. Тени ползли, прыгали, перекрывали друг друга. Иногда казалось будто у него не одна рука, а несколько. — Товарищ Белавин! — окликнули его сверху. — Что? — Мы начали глубоко только у воронки, а дальше берем все мельче. Чтобы пошел вроде бы в гору. Так дело быстрее. Правильно? — Правильно, Груздев. Сколько сделали? — Метров пятнадцать. Скоро кончим. А у вас как? — Порядок. Главное — вы поторапливайтесь. — Гоним. Пиротехник ушел. …Золотые ребята!9
Нож чиркнул по стали и ушел в глину. Все! В мертвом свете фонаря Александр увидел скругленную вершину бомбы. Пальцы нащупали выступ взрывателя. Вывернется? Кажется, он без секрета. Может, попробовать затяжным ключом? Он вылез из ямы. Подошли пиротехники. — Товарищ Белавин, у нас все. — Спасибо, — сказал он. — Идите к машине. Отдыхайте. — Мы? — удивился Груздев. — Зачем к машине? Мы не устали. — Я приказываю! — Ну что ж… Идемте, ребята. А вы? — Попробую его вывернуть. — Товарищ Белавин, — попросил Груздев. — Может быть, я… — Нет! Идите!10
Они не успели дойти до машины, которая стояла на улице Герцена. На полнеба полыхнула зарница. Качнулась под ногами земля. Железный гром прокатился по крышам домов. Здания вокруг Исаакиевской площади отбросили его назад, и он вернулся ослабленный, но все еще грозный. И тишина. — Это наша! — вскрикнул один из пиротехников, и все трое бросились со всех ног к арке почтамта.11
Приказ
министра внутренних дел Союза ССР
город Москва
В ночь с 6 на 7 ноября 1941 года, работая в составе пиротехнического расчета по ликвидации неразорвавшейся авиабомбы замедленного действия, рядовой Белавин Александр Федорович проявил самоотверженный героический подвиг. Откатывая бомбу у самого здания почтамта г. Ленинграда, пиротехники обнаружили, что в ней работает часовой механизм взрывателя. Чтобы спасти почтамт от разрушения, нужно было сделать направленный взрыв путем удлинения котлована по направлению улицы. Зная, что бомба может взорваться в любую минуту, рядовой Белавин продолжал работу. В момент завершения работы последовал взрыв, от которого здание почтамта не пострадало. Так, свято выполняя военную присягу, рядовой Белавин ценой своей жизни спас почтамт от разрушения. Указом Президиума Верховного Совета СССР за мужество и отвагу, проявленные при выполнении задания командования, рядовой Белавин А. Ф. посмертно награжден орденом Ленина.Приказываю:
За проявленный самоотверженный героический подвиг рядового Белавина Александра Федоровича зачислить навечно в списки войсковой части Н.Министр внутренних дел СССР
12
И посейчас колонны Исаакия несут на себе следы того взрыва. Проходя мимо собора со стороны улицы Союза Связи, обрати внимание на северо-западный портал. Там, на высоте десяти-двенадцати метров, на зеркальном граните колонн, ты заметишь несколько глубоких выбоин. Остановись. И вспомни рядового пиротехнической роты Александра Белавина, одного из славных солдат, защищавших Ленинград в трудные годы войны.МЕДАЛЬ «ЗА ОБОРОНУ ЛЕНИНГРАДА»
В. Пикуль САГА О ГИРОКОМПАСАХ
Рис. В. Захарова-Холмского.Так уж случилось, что когда я убежал из дома «в юнги», мой отец, комиссар с Беломорской флотилии, уходил с кораблей на сушу — уходил добровольцем в окопы Сталинграда, чтобы уже никогда не вернуться домой. Мне было тогда 14 лет… Я всю жизнь благодарен нашему флоту, который воспитал меня. Я благодарен эскадренным миноносцам, с высоких мостиков которых дальше видится в юности. Я начинаю петь хвалу гирокомпасам, без которых моя жизнь была бы совсем не та, что так удачно сложилась.
Война изменяет жизнь человека по своим жестоким правилам. Эти правила, если вдуматься, всегда справедливы. Справедлива ведь даже смерть на поле брани, когда ты погибаешь за правое дело. Конечно, когда мы, мальчишки, собрались на Соловках, объединенные общим романтичным званием «юнги», мы тогда не думали о смерти, о геройской гибели в волнах. Но к войне на море нас готовили хорошо! Настолько хорошо, что я, изучивший специальность рулевого, приобрел в школе юнг первые теоретические навыки по обращению с гирокомпасами. Электронавигационные инструменты юнгам «читал» мичман Сайгин — скромный и тихий человек, с неизменной улыбочкой в уголках губ. Джек Баранов, мой сосед по кубрику и по классу, наверное, еще не забыл того дня, когда этот мичман перед нами, притихшими от удивления, раскрутил на столе волчок. Это был обыкновенный детский волчок. Но за повадками этой игрушки мне вдруг открылись целые миры, и теория гироскопа, скупая и черствая, вдруг расцветилась яркими красками. Я заболел, я просто заболел от восхищения! Гирокомпасы, дающие кораблям курс, гирокомпасы, от работы которых зависит точность огня артиллерии и торпедного залпа, эти непостижимые гирокомпасы, работавшие по принципу волчка-гироскопа, стали моей судьбой. Продолжая учиться на рулевого, я глубоко сожалел, что школа юнг не готовила штурманских электриков. Но, мичман Сайгин приметил мою страсть к электроприборам, и между нами наладилась дружба, какая бывает между мастером и подмастерьем. После занятий я приходил в его кабинет, где стояли системы «Сперри» и «Аншютца», колдовал над ними, читал книжки и ПШС (Правила Штурманской Службы), сладко грезил, что буду аншютистом на стремительных кораблях, уходящих в лучезарное море… Мне повезло: на собственном опыте я убедился, что нет такой мечты, которая бы не исполнилась. В этом смысле я — очень счастливый человек! К концу занятий, когда мы уже готовились идти на боевые корабли, я стал в своем классе маленьким «мэтром» по электронавигационным инструментам. Если кто из ребят чего-либо не понимал, он обращался ко мне: — Валька, расскажи о втором правиле гироскопа! И я, радостный от волнения, лихо отдраконивал: — Если к оси свободного гироскопа в работающем состоянии приложить внешнюю силу, то ось его последует не в направлении приложенной силы, а в перпендикулярном направлении. Это свойство гироскопа называется прецессией… Я сдал экзамены на одни пятерки и мне как отличнику боевой и политической подготовки было предоставлено право выбора любого флота. Помню, как горько рыдал мой друг Джек Баранов — его определили на Волжскую военную флотилию, и ничего нельзя было поделать: у Джека были четверки. А я выбрал Северный флот! И вот уже сколько лет прошло, а я хвалю себя за этот выбор. Северный флот — это обширные боевые коммуникации, это широкое окно в мир. Я прибыл по месту назначения с тощеньким вещмешком, где самым ценным грузом были учебники по теории гирокомпаса, по электронавигационным приборам. Одна из этих книг прошла со мной много огней и вод и сейчас стоит у меня в библиотеке на почетном месте. На ее титуле надпись карандашом: «НЕГАЗИН Михаил. Соловецкие острова» (был у нас такой юнга — Миша Негазин, где он сейчас — не знаю)… Пятерки, заработанные мною на Соловках, сыграли свою роль и здесь, в полуэкипаже Северного флота, куда нас отправили для распределения по кораблям. Я мог выбирать любой класс кораблей, исключая подводные лодки, для службы на которых нас не готовили. Я выбрал эсминец, ибо на эсминцах начинал свою жизнь мой отец — начинал ее безграмотным деревенским парнем, масленщиком в машинных отсеках, а я, его сын, заступал сразу на мостик новейшего и отличного эсминца, который носил торжественное имя — «Грозный». Заранее оговариваюсь, что никаких подвигов я не совершил, хотя и попадал в различные переплеты, а писать о боевых действиях своего корабля не считаю нужным — о «Грозном» и его боевых походах можно прочесть в любой книге о Северном флоте. Итак, я — рулевой… Качает зверски. Я держу в руках манипуляторы рулей. Передо мною в матовом голубом сиянии мягко вибрируют стрелки тахометров. Словно человеческое лицо, в потемках рубки желтеет круглое табло репитера. А передо мною откинут черный квадрат ходового окошка, и там — только ночь, только мрак, только свист ветра, только летят оттуда потоки ледяной воды… Казалось бы, чего еще желать романтично настроенному мальчишке, которому в пятнадцать лет доверили во время войны вести в океане эсминец, лежащий на боевом курсе? А мальчишке-то надо совсем другое: с мостика эсминца, где жужжит лишь репитер гирокомпаса, он мечтает спуститься на днище эсминца, где работает — неустанно и архиточно! — сама матка (то есть сам гирокомпас).
 Сознаюсь, что в таком деле, как вождение корабля, тоже нужна особая одаренность. Можно блестяще знать теорию, прекрасно изучить приборы управления, но корабль «слушаться» тебя не станет. Буду честен: «Грозный» плохо слушался меня, когда я руководил его движением, толкая манипуляторы рулей. А вот юнга Коля Ложкин (где он сейчас — тоже не знаю; отзовись, друг Коля!), одновременно со мной прибывший на корабль, был прирожденным мастером своего дела. «Грозный» сразу же стал повиноваться юнге Коле Ложкину, но он не желал повиноваться Вале Пикулю…
В свободную минуту я спешил в гиропост с таким же трепетом, с каким пушкинский Скупой рыцарь спускался в подвал, наполненный драгоценностями. Гиропост «Грозного», размещенный на самом днище корабля, где уже слышно, как вода обтекает корпус, этот боевой пост столь обильно насыщен техникой, что буквально негде ткнуть пальцем в переборку — обязательно попадешь в какой-нибудь датчик.
Здесь трудились ради победы два волшебных мага: старшина-аншютист Лебедев, бывший московский кондитер, и краснофлотец Васильев, работавший до войны электромонтером на Псковщине. Я смотрел на этих людей снизу вверх, и всё, что они делали, мне казалось таким же непостижимым, как потом цирковые аттракционы иллюзиониста Кио.
Васильев сразу заподозрил во мне претендента на его должность, а старшина Лебедев, длинноногий и жилистый человек с усами, как бы перенял эстафетную палочку из рук мичмана Сайгина — моего первого наставника в гирокомпасах. Лебедев, добрая душа, учил меня, прямо скажем, жестоко — он требовал точных ответов, а теория тут же проверялась практикой; ведь гирокомпас всю войну гудел под током, и это была живая теплокровная техника, а не мертвая, как на Соловках, в кабинете электронавигационных приборов. Лебедеву было уже за тридцать, я возле него казался сопляком, и старшина иногда даже держал меня за ухо:
— Сколько раз тебе талдычить, что чувствительный элемент, представляющий собой гиросферу, получает питание через эбонито-графитные пояса и полярные шапки от токопроводящей жидкости из смеси глицерина… Отвечай, салажня паршивая: чем питаются обмотки статоров гироскопов?
— Они питаются, — отвечал я, — от мотора генератора трехфазным током в сто двадцать вольт…
Коля Ложкин в это время делал большие успехи на мостике, а я подвизался внизу, одурманенный тайнами гирокомпаса, и это дошло до мостика — до горных высот корабельной власти. Меня вызвал в каюту штурман — старший лейтенант Присяжнюк.
— Слушай, Пикуль, — сказал он мне, — ты ведешь себя странно. Старшина рулевых Василий Сурядов уж на что некляузный человек, но и тот жалуется на тебя.
— А что я сделал ему плохого?
— Плохого ты ему ничего не сделал, но ведь и хорошего от тебя тоже не видишь. Не пойму: вроде бы прислан ты для рулевой вахты, а старшина Лебедев говорит, что тебя кнутом из гиропоста не выжить… Объясни мне: что ты там потерял?
— Я ничего не потерял, товарищ старший лейтенант, я нашел там то, что мне интересно. Хотите верьте, хотите нет, — выпалил я с жаром, — но без гирокомпасов мне нет больше жизни!
— Пойдем, — сказал штурман, поднимаясь.
По командирскому трапу мы поднялись из коридора кают-компании в салон. Второй раз в жизни я стоял на пушистом ярко-красном ковре командирского салона, среди бронзовых канделябров и зеркал, вдыхая запах бархатных штор, обозревая небывалый для меня корабельный уют… Командир «Грозного» капитан 3-го ранга Андреев указал на меня и спросил штурмана:
— Вот это он и есть?
Только сейчас я заметил, что здесь же находится и старшина Лебедев в чисто отстиранной робе, в старшинской «шапке с ручкой».
— Старшина, — повернулся к нему командир, — я жду, что вы скажете о юнге Вэ-Пикуле.
— Не сокровище, — отвечал Лебедев (добрая душа). — Конечно, в теории он малость подковался, практические навыки кое-какие от нас перенял, но… ветер еще бродит в голове!
— Ветер и будет бродить, — заметил штурман Присяжнюк, и я ощутил в нем своего заступника. — Вы, старшина, учитывайте, что в свои пятнадцать лет, когда его сверстники еще собак гоняют, Пикуль вам ни Сенекой, ни Фейербахом стать и не сможет. Лучше скажите: можете ли вы в условиях боевой обстановки подготовить из юнги Пикуля классного аншютиста, которому я мог бы доверить вахту у гирокомпаса?
Командир носком ботинка поправил загнувшийся край ковра.
— Давайте решим этот вопрос сразу. Как рулевой юнга Вэ-Пикуль не представляет никакой ценности. Но эта не совсем обычная страсть его к гирокомпасам тоже ведь чего-то да стоит!
Тут я стал понимать, к чему клонится разговор. Попади я в такую же ситуацию в условиях, скажем, XVIII века, я бы, наверное, рухнул в ноги офицерам, слезно причитая: «Благодетели мои, осчастливьте, век буду бога молить…» Но сейчас я был юнгой ВМФ СССР, и это определяло мое сознание.
— Обещаю все свои силы… все старания… — начал было я.
Но командир и штурман выслушали не меня, а Лебедева.
— Я берусь, — заявил старшина, — подготовить из юнги Пикуля аншютиста для самостоятельной вахты в гиропосту.
Сознаюсь, что в таком деле, как вождение корабля, тоже нужна особая одаренность. Можно блестяще знать теорию, прекрасно изучить приборы управления, но корабль «слушаться» тебя не станет. Буду честен: «Грозный» плохо слушался меня, когда я руководил его движением, толкая манипуляторы рулей. А вот юнга Коля Ложкин (где он сейчас — тоже не знаю; отзовись, друг Коля!), одновременно со мной прибывший на корабль, был прирожденным мастером своего дела. «Грозный» сразу же стал повиноваться юнге Коле Ложкину, но он не желал повиноваться Вале Пикулю…
В свободную минуту я спешил в гиропост с таким же трепетом, с каким пушкинский Скупой рыцарь спускался в подвал, наполненный драгоценностями. Гиропост «Грозного», размещенный на самом днище корабля, где уже слышно, как вода обтекает корпус, этот боевой пост столь обильно насыщен техникой, что буквально негде ткнуть пальцем в переборку — обязательно попадешь в какой-нибудь датчик.
Здесь трудились ради победы два волшебных мага: старшина-аншютист Лебедев, бывший московский кондитер, и краснофлотец Васильев, работавший до войны электромонтером на Псковщине. Я смотрел на этих людей снизу вверх, и всё, что они делали, мне казалось таким же непостижимым, как потом цирковые аттракционы иллюзиониста Кио.
Васильев сразу заподозрил во мне претендента на его должность, а старшина Лебедев, длинноногий и жилистый человек с усами, как бы перенял эстафетную палочку из рук мичмана Сайгина — моего первого наставника в гирокомпасах. Лебедев, добрая душа, учил меня, прямо скажем, жестоко — он требовал точных ответов, а теория тут же проверялась практикой; ведь гирокомпас всю войну гудел под током, и это была живая теплокровная техника, а не мертвая, как на Соловках, в кабинете электронавигационных приборов. Лебедеву было уже за тридцать, я возле него казался сопляком, и старшина иногда даже держал меня за ухо:
— Сколько раз тебе талдычить, что чувствительный элемент, представляющий собой гиросферу, получает питание через эбонито-графитные пояса и полярные шапки от токопроводящей жидкости из смеси глицерина… Отвечай, салажня паршивая: чем питаются обмотки статоров гироскопов?
— Они питаются, — отвечал я, — от мотора генератора трехфазным током в сто двадцать вольт…
Коля Ложкин в это время делал большие успехи на мостике, а я подвизался внизу, одурманенный тайнами гирокомпаса, и это дошло до мостика — до горных высот корабельной власти. Меня вызвал в каюту штурман — старший лейтенант Присяжнюк.
— Слушай, Пикуль, — сказал он мне, — ты ведешь себя странно. Старшина рулевых Василий Сурядов уж на что некляузный человек, но и тот жалуется на тебя.
— А что я сделал ему плохого?
— Плохого ты ему ничего не сделал, но ведь и хорошего от тебя тоже не видишь. Не пойму: вроде бы прислан ты для рулевой вахты, а старшина Лебедев говорит, что тебя кнутом из гиропоста не выжить… Объясни мне: что ты там потерял?
— Я ничего не потерял, товарищ старший лейтенант, я нашел там то, что мне интересно. Хотите верьте, хотите нет, — выпалил я с жаром, — но без гирокомпасов мне нет больше жизни!
— Пойдем, — сказал штурман, поднимаясь.
По командирскому трапу мы поднялись из коридора кают-компании в салон. Второй раз в жизни я стоял на пушистом ярко-красном ковре командирского салона, среди бронзовых канделябров и зеркал, вдыхая запах бархатных штор, обозревая небывалый для меня корабельный уют… Командир «Грозного» капитан 3-го ранга Андреев указал на меня и спросил штурмана:
— Вот это он и есть?
Только сейчас я заметил, что здесь же находится и старшина Лебедев в чисто отстиранной робе, в старшинской «шапке с ручкой».
— Старшина, — повернулся к нему командир, — я жду, что вы скажете о юнге Вэ-Пикуле.
— Не сокровище, — отвечал Лебедев (добрая душа). — Конечно, в теории он малость подковался, практические навыки кое-какие от нас перенял, но… ветер еще бродит в голове!
— Ветер и будет бродить, — заметил штурман Присяжнюк, и я ощутил в нем своего заступника. — Вы, старшина, учитывайте, что в свои пятнадцать лет, когда его сверстники еще собак гоняют, Пикуль вам ни Сенекой, ни Фейербахом стать и не сможет. Лучше скажите: можете ли вы в условиях боевой обстановки подготовить из юнги Пикуля классного аншютиста, которому я мог бы доверить вахту у гирокомпаса?
Командир носком ботинка поправил загнувшийся край ковра.
— Давайте решим этот вопрос сразу. Как рулевой юнга Вэ-Пикуль не представляет никакой ценности. Но эта не совсем обычная страсть его к гирокомпасам тоже ведь чего-то да стоит!
Тут я стал понимать, к чему клонится разговор. Попади я в такую же ситуацию в условиях, скажем, XVIII века, я бы, наверное, рухнул в ноги офицерам, слезно причитая: «Благодетели мои, осчастливьте, век буду бога молить…» Но сейчас я был юнгой ВМФ СССР, и это определяло мое сознание.
— Обещаю все свои силы… все старания… — начал было я.
Но командир и штурман выслушали не меня, а Лебедева.
— Я берусь, — заявил старшина, — подготовить из юнги Пикуля аншютиста для самостоятельной вахты в гиропосту.
 Он меня подготовил, а вскоре его направили с караваном судов в Англию, и моим старшиной стал Иван Васильевич Васильев, который сейчас работает монтером в Сестрорецке. По боевому расписанию во время тревог Васильев должен был находиться наверху — в штурманской рубке, а я оставался внизу — при гирокомпасе. Я был чрезвычайно горд от сознания, что в тревожную минуту, когда эсминец оглашали колокола громкого боя, мне надо было снимать трубку телефона и докладывать:
— Гиропост — мостику: бэ-пэ-два бэ-чэ-один к бою готов!
БП-2 БЧ-1 — это боевой пост № 2 боевой части № 1.
Так я стал командиром боевого поста. Мне было тогда уже 16 лет.
Я делал во время войны свое маленькое, нужное для флота дело: следил, чтобы мой любимый гирокомпас давал кораблю истинный курс. Гирокомпас работал всю войну без выключений, его держала в напряжении, как и всех нас, боевая готовность. Я да мой старшина — нас двое, а в сутках 24 часа, вот и получалось на каждого по 12 часов вахты ежедневно. А потом тревоги, обледенение приборов на мостике, засоление инструментов во время шторма. Бывало, отстоишь вахту в шесть часов — в запахе масел и бензина, в одуряющем гуле и звоне приборов, — а тут:
— Аншютиста наверх… протереть линзы на репитерах!
И так во время шторма, бывало, раз по десять в сутки тебя поднимут на мостик. Спать приходилось безбожно мало. Всю войну, как я сейчас вспоминаю, я хотел только одного — выспаться.
А когда война закончилась, я стал прощаться с кораблем, обходя все его отсеки. Под конец спустился и в свой гиропост, где провел самые лучшие, самые яркие, самые неповторимые дни своей юности… Тут я не выдержал. Я не сентиментальный человек, но со мною случилось что-то такое, что бывает единожды в жизни. Колени у меня вдруг сами собой подломились — я опустился перед гирокомпасом, который еще тихонько гудел, подвывая мотором, словно от усталости бессонных ночей войны. Я обнял гирокомпас с нежностью и — рыдал, рыдал, рыдал…
Выстукиваю на машинке вот эти строчки, а на глаза опять невольно навертываются слезы. От тех трудных времен у меня сохранились две ленточки. На одной — «ШКОЛА ЮНГОВ ВМФ», а на другой — «ГРОЗНЫЙ». Да еще в старых бумагах сохранилась небольшая акварелька — вид моего гиропоста.
Память иногда возвращает меня назад, в юность. Тогда я снова вижу себя мальчишкой, юнгой, несущим боевую вахту возле тех приборов, которые дают кораблю истинный курс.
Он меня подготовил, а вскоре его направили с караваном судов в Англию, и моим старшиной стал Иван Васильевич Васильев, который сейчас работает монтером в Сестрорецке. По боевому расписанию во время тревог Васильев должен был находиться наверху — в штурманской рубке, а я оставался внизу — при гирокомпасе. Я был чрезвычайно горд от сознания, что в тревожную минуту, когда эсминец оглашали колокола громкого боя, мне надо было снимать трубку телефона и докладывать:
— Гиропост — мостику: бэ-пэ-два бэ-чэ-один к бою готов!
БП-2 БЧ-1 — это боевой пост № 2 боевой части № 1.
Так я стал командиром боевого поста. Мне было тогда уже 16 лет.
Я делал во время войны свое маленькое, нужное для флота дело: следил, чтобы мой любимый гирокомпас давал кораблю истинный курс. Гирокомпас работал всю войну без выключений, его держала в напряжении, как и всех нас, боевая готовность. Я да мой старшина — нас двое, а в сутках 24 часа, вот и получалось на каждого по 12 часов вахты ежедневно. А потом тревоги, обледенение приборов на мостике, засоление инструментов во время шторма. Бывало, отстоишь вахту в шесть часов — в запахе масел и бензина, в одуряющем гуле и звоне приборов, — а тут:
— Аншютиста наверх… протереть линзы на репитерах!
И так во время шторма, бывало, раз по десять в сутки тебя поднимут на мостик. Спать приходилось безбожно мало. Всю войну, как я сейчас вспоминаю, я хотел только одного — выспаться.
А когда война закончилась, я стал прощаться с кораблем, обходя все его отсеки. Под конец спустился и в свой гиропост, где провел самые лучшие, самые яркие, самые неповторимые дни своей юности… Тут я не выдержал. Я не сентиментальный человек, но со мною случилось что-то такое, что бывает единожды в жизни. Колени у меня вдруг сами собой подломились — я опустился перед гирокомпасом, который еще тихонько гудел, подвывая мотором, словно от усталости бессонных ночей войны. Я обнял гирокомпас с нежностью и — рыдал, рыдал, рыдал…
Выстукиваю на машинке вот эти строчки, а на глаза опять невольно навертываются слезы. От тех трудных времен у меня сохранились две ленточки. На одной — «ШКОЛА ЮНГОВ ВМФ», а на другой — «ГРОЗНЫЙ». Да еще в старых бумагах сохранилась небольшая акварелька — вид моего гиропоста.
Память иногда возвращает меня назад, в юность. Тогда я снова вижу себя мальчишкой, юнгой, несущим боевую вахту возле тех приборов, которые дают кораблю истинный курс.
МЕДАЛЬ «ЗА ОБОРОНУ ОДЕССЫ»
М. Смородинов ЛИНИЯ ФРОНТА Очерк
Рис. Н. Горбунова.…В слесарке царил привычный гул. Скрежетали напильники, выбивали чечетку молотки, занудливо подвывая, сыпал искрами наждачный круг. Пол мастерской ощутимо вибрировал — работали старенький, латаный-перелатанный строгальный станок «Шепинг» и три токарных, под стать ветерану. Женька старательно драл напильником зажатый в тисах металлический брусок. В нем можно было угадать очертания будущей половинки пассатижей, или, попросту, плоскогубцев. Изредка Женька отрывал взгляд от заготовки и сквозь ромбики металлической сетки, отделявшей верстак напротив, глядел, как работает Борис. Сноровисто орудуя молотком и зубилом, Борис вырубал из железного листа крышку, похожую на букву «т». Старался он вовсю: сделанные им крышки будут стоять на контрольных площадках гаубиц. Встретив взгляд приятеля, Борис подмигнул и поднял три пальца. Женька понял: на три крышки сделано больше задания, — и сам приналег на работу… Когда он принес мастеру поблескивающие пассатижи, Павел Александрович повертел их, придирчиво развел и свел ручки, проверил на просвет острую «кусающую» кромку. Одобрительно хмыкнув, он велел Женьке идти в учебный класс. — А я полторы нормы шарахнул! — подвигаясь и давая Женьке место за столом, сказал Аркаша. — Напильником «от и до»? — Что я, психованный? По разметке заготовку на наждаке ободрал, остатки напильником подправил. Жрать охота, скорей бы обед! — Это точно. — Вчера мать кашу сварила, так девки чуть не всю слопали. Мамка мне остатки накладывает, а Люська с Наткой вокруг вертятся. Вроде ведь ели, да снова хотят. Мамка их отгоняет, говорит, что если единственного кормильца не кормить, так все с голоду окочуримся. А девкам хоть бы хны, лезут. Ну, я им показал… Женька встал и отошел к окну, стекла которого были заклеены накрест полосками серой оберточной бумаги. Глядел на высокие синеватые сугробы, думал. Худо живетсяАркашке. А разве остальным легче? Почти все пацаны в группе кормильцами в семьях остались. Только не смог бы он смотреть на голодных малышей, не вытерпел бы, поделился… На мгновение выглянув из-за низких туч, показалось холодное зимнее солнце. Солнечные зайчики заплясали на карте, занимающей полстены, забрались на плакаты, осветили лица ребят. Бам-м-м… — могучий гром враз зачеркнул зимнюю тишь и сонливость, тряхнув здание училища. Стекла тоненько зазвенели. — Крупный калибр! — За Каму снарядики садят. Удары монотонно повторялись. Бам-м-м… — рявкает на заводском полигоне пушка. Воздух как бы тяжелеет, наполняясь глухим гудением. Тупорылый снаряд летит над заснеженной Камой. Бам-м… — звук уже приглушенный, и не поймешь: то ли это сосновый бор возвратил эхо выстрела, то ли вздрогнула земля от врезавшегося в нее снаряда. Гром пушек напомнил каждому о войне. Но вслух о ней говорить не хотели. — Интересно, на полигоне по цели пуляют? — спросил Сережа. — Смотря из каких пушек, — ответил Борис. Он недаром считался «потомственным пушкарем». Отец его и дед — кадровые рабочие Мотовилихинского завода. Из сработанных ими пушек в гражданскую беляков громили. Борис мечтал стать артиллерийским офицером. Война началась раньше, чем он вырос. Отец ушел на фронт, а сыну наказал заменить его на заводе. Вот и пошел Борька после седьмого класса в ФЗУ. В класс вошел мастер. Все встали. Павел Александрович начал без предисловий: — Сейчас, товарищи, я сдал начальнику училища список тех, кто завтра пойдет в завод. Должен сказать, что еще не все из вас правильно понимают меру личной ответственности за порученное дело. Я говорю не только о дисциплине, хотя она имеет важное значение, особенно сейчас, в военное время… Бам-м-м… — громыхнула на заводском полигоне гаубица. — Я хочу, друзья, чтобы вы ни в делах, ни в поступках не роняли честь рабочего человека. Один из вас сегодня хвастался, что полторы нормы дал! А за счет чего? Заготовку на наждаке ободрал, труд себе облегчил. Но ведь металл-то раскалился, значит, структура изменилась, и может появиться слабина. Мастер достал кусок стальной проволоки и попробовал перекусить ее сделанными Аркашей пассатижами. Ничего не получилось. Тогда Павел Александрович взял Женькино изделие. Только хрупнула проволочка!
Борису и Сергею повезло. Их направили в главный сборочный цех. Получив пропуска, оба заважничали, на расспросы ребят о цеховых делах не отвечали, секретничали. После завтрака все получившие пропуска, не дожидаясь строя, спешили в завод. Остальные строились перед зданием фабрики-кухни и топали к заводским проходным — их пропускали по общему списку. Аркадий с Женькой второй месяц слесарили в деревомодельном цехе. Сперва им пришлось походить в подсобниках. Таскали мусор, вывозили стружку, убирали верстаки. Потом ребятам стали доверять изготовление оснастки для банников. Этих специальных щеток для чистки пушечных стволов требовалось много и разного калибра. Монотонность операций, особенно клепка переходников, выматывала, но ребята не жаловались. Клепка все-таки лучше, чем заплетка щетины. На злосчастной заплетке даже и не знаешь, кто ты по профессии: и слесарь, и портной, и сапожник — все вместе. Руки у ребят постоянно были в ссадинах от проволоки и не уступающей ей по жесткости щетины. …Дни шли за днями, эшелон за эшелоном уходил на фронт с пушками. Женька и Аркаша по-прежнему делали банники. Но ребятам хотелось дел более заметных, они мечтали работать в главном сборочном. И вот в мае мечта сбылась. Ребята сдали зачеты на разряд, получили пропуска. Женьку и Аркашу приняли на главный конвейер, где уже стажировался Борис. В половине восьмого могучий рев гудка оповестил о начале смены. Женька занял свое место на сборочном конвейере. Операции, выполняемые им, были не очень сложны, но требовали полной выкладки сил. Женька «обувал» пушки — надевал и крепил литые металлические колеса, ободья которых были покрыты толстым слоем прочной резины. Надо вставить изнутри в ступицу пять болтов и закрепить снаружи пятью гайками. Пять гаек на левое колесо, пять на правое. После этого оставался совсем пустяк: установить рессорный лист и закрепить двумя гайками. А «обутая» гаубица шла дальше — под нагрузку ствола, сдачу прицельной, окончательную проверку работы всех механизмов. Две-три готовые гаубицы цепляли к трактору и везли в южный конец завода, где в маскировочной зелени тополей располагался полигон. А Женька тем временем «обувал» следующую пушку. Он спешил, стараясь не подводить товарищей из своей фронтовой бригады, в которую, кроме него, Бориса и Аркаши, вошли еще трое молодых рабочих. Создать бригаду предложил Борис. Когда Женька и Аркаша впервые пришли в сборочный цех, Борис, как «старожил», провел товарищей по цеху: «Вот участок сборки; вот компрессорная; здесь салазочная; а это ствольный участок…» Словом, все показал, даже укромные местечки за складом брезентовых чехлов, где можно было прикорнуть на минуту в ночную смену, если уж совсем будет невыносимо. А потом сказал: — Я давно Сережку сватал, организуем, мол, бригаду. Обязательство возьмем — нормы перевыполнять, как кадровые рабочие. А он уперся: «На фига сдалась твоя бригада? Я и один могу не хуже пупок надрывать». — А зачем, на самом деле, бригада? — спросил тогда Аркаша. — Темный ты! — сердито сказал Борис. — Будем работать рядом, помогать друг другу. У тебя, например, все узлы для сборки поступили, и ты свою операцию начинаешь выполнять. А я, скажем, какой-то детали под рукой не имею и простаиваю, пока ее не подадут. И вот, пока я свободен, могу помочь тебе, а ты, когда освободишься, ко мне придешь. Понял? Да и вообще всей бригадой друг другу помогать, даже дома. И работать будем на одну карточку… Вспоминая все это, Женька не выпускал из рук тяжелый гаечный ключ. Пять гаек слева, пять гаек справа, две — на рессорный лист. Руки дрожали от напряжения, глаза слипались: вчера после работы допоздна таскал с колонки воду. Говорят, такого засушливого лета, чтобы картошку поливали, давненько не случалось. — Женька, я тебе уши надеру! — услышал он голос контролера Кати. — Что же это ты портачишь? — Она ткнула пальцем в гайку крепления гаубичного колеса. — Слабина, хоть рукой крути. — Сейчас подтяну, — с непонятным безразличием ответил Женька. — Ты, случаем, не прихворнул? — внимательно глянув на парнишку, опросила Катя. — Надо шесть машин, весь сегодняшний задел, перепроверять. — Здоров как бык. Перепроверю! Взяв ключ, Женька пошел на участок окончательной сдачи. На двух из шести гаубиц в креплении колес действительно была слабина. Но, как ни старался Женька, гайки не поддавались. Махнув рукой на все правила безопасной работы, Женька нарастил ключ полуметровой трубкой, и железо, наконец, сдалось. Пять гаек слева. Пять гаек справа… А руки потные, ключ то и дело срывается. — Давай помогу! — подошел Борис. — Не надо, сам. — Давай! Мы же одна бригада. Бам-м-м! — тяжелый раскат орудийного грома прорвался сквозь сонное наваждение. «Держись, Женька! — приказывали пушки Мотовилихи. — Держись, пересиль слабость. Линия фронта проходит и через твое сердце, через цех, через город. Колеса гаубиц помнят тепло твоих рук! Пять гаек справа, пять гаек слева…»
МЕДАЛЬ «ЗА ОБОРОНУ СЕВАСТОПОЛЯ»
Бронислава Бурштейн РАССКАЗЫ
Рис. С. Можаевой.ЖАЛОСТЬ
В деревне, куда нас эвакуировали, не говорили «люблю», говорили — «жалею». Это было для меня слово вовсе новое. Раньше я знала его как? Ушибла коленку — мама пожалеет. А тут совсем что-то другое. Но прежде чем рассказывать про слово «жалею», я расскажу про холод и про Леньку. От холода некуда было деваться. В классе стыли на парте чернила в непроливашках, а дома… В тот год у нас вдруг появилась изба. Своя! Маленькая, в два окошка, слепленных вместе, потому что им некуда было разойтись на узеньком простенке. Мама выменяла ее на свое и бабушкино пальто. Но зато какая это была радость: жить в своей избе, а не на квартире! В тот день, когда мы перебирались, я впервые увидела Леньку. Впрочем, увидела не впервые, но разглядела — точно. Я таскала из ограды в избу вещи, а Ленька неподвижно стоял у ворот, закусив большой палец варежки. Смешной мальчишка с приплюснутым носом и серыми глазами. В ладном полушубке, валенках и меховой шапке с аккуратно подвязанными ушами. Я смотрела на него вызывающе, всем своим видом изображая: что, мол, ты тут глазеешь в нашей-то ограде? Ему, наверное, было очень тепло, потому что он стоял неподвижно и очень спокойно, и я не решилась его задеть. Он так и не тронулся с места, пока я не закончила носить вещи, и незаметно исчез со двора. А к вечеру он возник у нас на пороге и деловито заявил: — Я к вам в гости пришел. Оказалось, он живет через дорогу в добротном пятистенке и даже учится со мной в одном классе. Только я в школу давно не ходила и потому мало знала его. С тех пор он приходил каждый день. Он рассказывал мне про свою деревню, про школу, а я ему про то, что успела повидать, живя в городе. Повидать я успела не так уж мало, но Ленька больше всего любил слушать про велосипед. Велосипед мне подарила бабушка годам, наверное, к трем. Он был трехколесный, маленький, с неудобным стульчиком-сиденьем и педалями на переднем колесе. Для серьезной езды негодный вовсе. Но когда я рассказывала, я искренне верила, что велосипед был большой, двухколесный, настоящий. Быстрый, как ветер. — Что уж ты не могла велосипед взять? — упрекал меня Ленька. — Да вот не догадалась, — оправдывалась я виновато. А потом мы начинали придумывать, как едем вдвоем за грибами в дальний лес. Да мало ли куда можно уехать на велосипеде, который так и остался неисполнившейся мечтой многих моих ровесников… Ленька очень разохотил меня идти в школу. Однако мне нечего было обуть. В старых маминых альпинистских ботинках я ходить стеснялась. Но желание учиться оказалось сильнее, и я решилась, пошла. С Ленькой, конечно. Он проводил меня до самого последнего переулка перед школой, даже сумку мою нес, потому что у меня мерзли руки. Из переулка мы шли врозь, независимо глядя по сторонам, будто незнакомые вовсе, а то увидят — задразнят. Стеснялась я напрасно. Ребята у нас были добрые, и они даже обрадовались, что я наконец-то появилась в школе. Но в тридцатиградусный сибирский мороз ботинки мои каменели, и ноги в них ужасно мерзли. Согреться я не могла даже дома, потому что печь попервоначалу сильно дымила и давала мало тепла. Однажды после урока наша учительница сказала: — Пимы на школу поступили. Поднимите руку, у кого отец или брат на фронте, тому пимы дадут. Братьев у меня не было, а отца взяли не на фронт, а послали на одну очень далекую и очень важную стройку. Так что ни на какие пимы мне надеяться не приходилось. Руки подняли почти все, и мне было ужасно стыдно. Будто я была виновата в чем-то перед своими товарищами, у которых отцы и братья были на фронте. Ленька сразу увидел мое замешательство. Он перегнулся ко мне со своей парты и прошептал: — Ничего. Я тебе свои пимы дам. Мы по очереди будем… Я не нашла, что Леньке сказать, промолчала. Однако он от своего не отступился. И на другой день, когда мама послала меня за молоком, он живо стряхнул с ног пимы и коротко сказал: — На… Я сунула ноги в пимы, еще хранившие тепло Ленькиных ног. Тепло было невозможное, ласковое, совершенно не испытанное раньше или начисто забытое, может быть. Первые несколько минут я наслаждалась этим теплом. Потом вдруг застеснялась. — Да что ты, Ленька, я как это в твоих пимах пойду? Он поднял на меня свои серые глаза и сказал очень серьезно: — Да ведь я жалею тебя… И я побежала за молоком в Ленькиных пимах, и согревшиеся ноги мои мчались легко. Мне казалось, что все видят и догадываются, что я в Ленькиных пимах, и поэтому я и радовалась, и смущалась, и гордилась.КРАПИВА
Крапива жжет. Об этом знают все. Но что ее можно есть, мы узнали только в войну. Из нее, оказывается, можно сварить щи, кашу, испечь лепешки. Чтобы накормить всю семью, если ничего, кроме горсточки зерна, больше нет, ее надо собирать по большому мешку каждый день. Собирать крапиву была моя обязанность. До войны я всегда удивлялась, до чего буйными зарослями росла эта самая крапива в самых интересных местах: под заборами, среди кустов в саду, где бы так хорошо было прятаться, если бы не крапива. А сейчас, наоборот, я удивлялась, до чего ее мало, ведь набить надо целый мешок. Я уже обобрала все ближние и дальние огороды, плетни, кусты. Теперь крапиву можно было найти только на берегу ручья Чузика в зарослях смородины и черемухи. К ней надо было продираться, перелезать через невысохшие бочаги воды, оставшиеся от половодья. Один раз я там даже заблудилась. У меня была мечта. Не главная, но все же: один раз, в свой день рождения, я за крапивой не пойду. Не пойду, и все! И это будет очень хороший день. Так мы и договорились с мамой. Я проснулась очень рано. Все еще спали, но солнце уже заглядывало в избу. На улице весело пели птицы. Я сразу вспомнила, что у меня сегодня день рождения, что я не иду за крапивой, и настроение у меня стало отличное. Я стала строить всякие планы, мечтать… И вдруг я подумала: «А что же мы сегодня будем есть?» Я, наверное, потому так подумала, что у меня уже давно ныло в желудке от голода. Но, кроме крапивы, и не выдумаешь ничего. А крапива осталась только в излучине Чузика за мельницей. Туда надо долго идти по берегу. Потом у висячей черемухи пролезть под кусты… Как же мама найдет это место? Но если туда мама не пойдет, ей ни за что не набить мешок крапивой. Мне стало жалко маму. Я потихоньку слезла с топчана. Было еще очень рано. У нас в Сибири в июне солнце почти не сходит с неба. Выбралась в сени, надела большие мамины бахилы и ушла в прохладное утро… Это было замечательное утро! Я шла, и мне хорошо было думать, что у меня сегодня день рождения и что я так славно всех обхитрила…СЫНЫ ПОЛКОВ Слова В. Суслова Муз. Я. Дубравина Песня


А. Ожегов ГВАРДЕЙСКИЕ МАЛЬЧИШКИ Очерк
Рис. Н. Горбунова. Этих мгновений хватило гитлеровцу, чтобы пробить фуражку генерала, но второй выстрел Андрей успел предупредить.
Через несколько минут к месту происшествия подъехала и машина командующего. Ему рассказали о случившемся. Командарм попенял Белову за неосторожность, а потом поблагодарил воспитанника за спасение жизни генерала и крепко, по-мужски, как взрослому, пожал руку.
— Служу Советскому Союзу! — звонко ответил юный гвардеец…
В 4 часа утра на следующий день, как было назначено, 29-я гвардейская завязала бой за Луккенвальде. Здесь освободили более шестнадцати тысяч советских и иностранных военнопленных, в том числе бывшего командующего вооруженными силами Норвегии Отто Ругге.
В боях за Луккенвалыде особо отличились батальон пермяков под командованием Дозорцева, который к тому времени стал капитаном, и батальон Семина, ворвавшиеся в город обходным маневром.
А после победных боев за Луккенвальде, уже на окраине Берлина, Андрею Аксенову вручали орден Красной Звезды…
И больше мы ничего не знаем об этих ребятах. Следы их затерялись на мирных дорогах. Вот тут-то и понадобится ваша помощь, следопыты. Где искать, как искать?
Имеется фотография, на которой Андрюша Аксенов и Саша Кирсов сняты вместе с Героем Советского Союза Хардиковым. Коммунист Яков Давыдович Хардиков живет в Киеве. Может, с него начать поиски?
В Свердловске живет полковник Н. Абрамов, бывший работник штаба бригады. Он хорошо знал гвардейских мальчишек.
Видимо, стоит связаться со следопытами Брянщины, где Андрюша с Сашей присоединились к уральцам, а также с городами Унеча, Самбор и другими, через которые пролегал боевой путь 29-й бригады.
С чего начать — это решат уже сами красные следопыты, которые возьмутся за поиск.
Желаем удачи!
Этих мгновений хватило гитлеровцу, чтобы пробить фуражку генерала, но второй выстрел Андрей успел предупредить.
Через несколько минут к месту происшествия подъехала и машина командующего. Ему рассказали о случившемся. Командарм попенял Белову за неосторожность, а потом поблагодарил воспитанника за спасение жизни генерала и крепко, по-мужски, как взрослому, пожал руку.
— Служу Советскому Союзу! — звонко ответил юный гвардеец…
В 4 часа утра на следующий день, как было назначено, 29-я гвардейская завязала бой за Луккенвальде. Здесь освободили более шестнадцати тысяч советских и иностранных военнопленных, в том числе бывшего командующего вооруженными силами Норвегии Отто Ругге.
В боях за Луккенвалыде особо отличились батальон пермяков под командованием Дозорцева, который к тому времени стал капитаном, и батальон Семина, ворвавшиеся в город обходным маневром.
А после победных боев за Луккенвальде, уже на окраине Берлина, Андрею Аксенову вручали орден Красной Звезды…
И больше мы ничего не знаем об этих ребятах. Следы их затерялись на мирных дорогах. Вот тут-то и понадобится ваша помощь, следопыты. Где искать, как искать?
Имеется фотография, на которой Андрюша Аксенов и Саша Кирсов сняты вместе с Героем Советского Союза Хардиковым. Коммунист Яков Давыдович Хардиков живет в Киеве. Может, с него начать поиски?
В Свердловске живет полковник Н. Абрамов, бывший работник штаба бригады. Он хорошо знал гвардейских мальчишек.
Видимо, стоит связаться со следопытами Брянщины, где Андрюша с Сашей присоединились к уральцам, а также с городами Унеча, Самбор и другими, через которые пролегал боевой путь 29-й бригады.
С чего начать — это решат уже сами красные следопыты, которые возьмутся за поиск.
Желаем удачи!
МЕДАЛЬ «ЗА ОБОРОНУ СТАЛИНГРАДА»
МЕДАЛЬ «ЗА ОБОРОНУ КАВКАЗА»
И. Садриев «ЗАРНИЦА» Очерк
Рис. С. Можаевой.МЕДАЛЬ «ЗА ОБОРОНУ СОВЕТСКОГО ЗАПОЛЯРЬЯ»
МЕДАЛЬ «ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ БЕЛГРАДА»
Эдуард Бабаев В ОТПУСК Стихотворение
Рис. Н. Скакун.Л. Давыдычев НЕЛЕПЫЙ СЛУЧАЙ ИЗ ЖИЗНИ ВОВКИ КРАСНОЩЕКОВА, или рассказ о том, как генерал-лейтенант в отставке Самойлов Петр Петрович задумал что-то совершенно невероятное и как по вине этого самого Вовки Краснощекова все и — сорвалось
Рис. В. Аверкиева.Шел старичок по улице
Никто и не знал, не подозревал, подумать даже не мог, что он генерал-лейтенант, хотя и в отставке. Идет себе старичок невысокого роста, седенький, с загорелой лысинкой, одетый во все еще непривычную для него одежду — штатскую. А кто знает, кто, скажите мне, пожалуйста, заподозрить может, что она — одежда-то штатская — для него непривычная, хотя носит он ее вот уже два года три месяца и — сегодня вот, со времени начала нашего повествования — тринадцать дней? Мало ли старичков по улицам ходит? Вы спросите: а где же его боевые ордена и медали? Они у него на парадном мундире. Почему же он тогда колодок не носит? Это его тайна, о которой вы узнаете чуть-чуть позднее. Итак, в жаркий июльский день, с которого и начинается наше повествование, невысокий старичок шел по улице. Но прежде чем рассказывать о нем, я должен рассказать о Вовке Краснощекове по прозвищу Дармоезд.Вовка Краснощеков по прозвищу Дармоезд
На всех, как говорится, видах городского транспорта, кроме такси, конечно, Вовка Краснощеков ездил бесплатно, даром, то есть зайцем. К сожалению, я не знаю, почему безбилетников прозвали зайцами. Почему — не кроликами? Не мышками? Не сусликами — почему? Почему бы их жуками не прозвать? Или — еще лучше — таракашками? Микробы они, по-моему. Но как ты безбилетника ни называй, жулик он самый обыкновенный. Причем жулик мелкий — жульчонок он, так сказать. Из-за каких-то трех или четырех копеек, пусть даже из-за шести копеек, человек на подлость идет! Маленькую, но подлость. Микроб жулика, одним словом. Получит Вовка от родителей деньги на абонементы — и прямым ходом в кафе-мороженое. Мороженое Вовка не ест, а прямо-таки сглатывает. На эскимо, например, ему всего два с половиной глотка требуется. И фамилия у него Краснощеков, и щеки у него действительно красные, но не от стыда за свое безбилетное поведение, а от природы, от здоровья. А здоров он — на трех или даже четырех человек его здоровья хватит. Здоровое здоровье!
Бегом полгорода пробежать может, троллейбус обогнать может, а трамвай так запросто, но ему все виды городского транспорта, кроме такси, конечно, подавай.
И не стыдился Вовка своего безбилетного поведения, а гордился собой, умным себя полагал, сообразительным.
У него даже песенка такая была:
И фамилия у него Краснощеков, и щеки у него действительно красные, но не от стыда за свое безбилетное поведение, а от природы, от здоровья. А здоров он — на трех или даже четырех человек его здоровья хватит. Здоровое здоровье!
Бегом полгорода пробежать может, троллейбус обогнать может, а трамвай так запросто, но ему все виды городского транспорта, кроме такси, конечно, подавай.
И не стыдился Вовка своего безбилетного поведения, а гордился собой, умным себя полагал, сообразительным.
У него даже песенка такая была:
 Но остался еще один вопрос по поводу Вовкиных безбилетных поездок. А если контролер? Вы надеетесь, что наш Дармоезд пугался, прятался?
Нет, нет, нет и нет!
Он продолжал спокойненько сидеть. А когда к нему обращался контролер, то оказывалось, что Вовка-то — глухонемой! Ни слова сказать не может, ни слова услышать не может!
Мычит Вовка на весь трамвай, автобус или троллейбус, старается, чтобы его поняли, пальцами на уши показывает, язык высовывает. И хотя нет такого закона, по которому глухонемым разрешается зайцами ездить, нашего профессора, академика краснощекого, да еще и генерала к тому же, все жалели: и пассажиры, и контролеры. Поезжайте, дескать, дальше, пожалуйста!
Но сколько веревочке ни виться, быть концу. Попал однажды наш глухонемой Дармоезд в историю.
Но остался еще один вопрос по поводу Вовкиных безбилетных поездок. А если контролер? Вы надеетесь, что наш Дармоезд пугался, прятался?
Нет, нет, нет и нет!
Он продолжал спокойненько сидеть. А когда к нему обращался контролер, то оказывалось, что Вовка-то — глухонемой! Ни слова сказать не может, ни слова услышать не может!
Мычит Вовка на весь трамвай, автобус или троллейбус, старается, чтобы его поняли, пальцами на уши показывает, язык высовывает. И хотя нет такого закона, по которому глухонемым разрешается зайцами ездить, нашего профессора, академика краснощекого, да еще и генерала к тому же, все жалели: и пассажиры, и контролеры. Поезжайте, дескать, дальше, пожалуйста!
Но сколько веревочке ни виться, быть концу. Попал однажды наш глухонемой Дармоезд в историю.
Встреча Вовки Краснощекова со странным старичком
Ехал Вовка в трамвае, сидел у окошка и подремывал. И сквозь дремоту мечтал он о том, как хорошо бы зайцем на большом корабле по морю поплавать. Сидел бы он на палубе и смотрел бы во все глаза на дельфинов, которые за кораблями плывут. Любовался бы Вовка! Наслаждался бы он! А тут еще подходит к нему дяденька в белом пиджаке и черных брюках, а в руках у него большой, прямо-таки огромный поднос, а на подносе целых пятнадцать… нет, нет, не пятнадцать, а целых двадцать три вазочки с мороженым! И дяденька этот в белом пиджаке и черных брюках говорит: — Стыдно, мальчик! Вовка открывает сначала один глаз, потом второй и видит, что он не на большом корабле по морю плывет, а в обыкновенном трамвае по городу едет, и стоит перед ним не дяденька в белом пиджаке и черных брюках, а лысенький старичок в синем костюме и говорит: — Стыдно, мальчик! — А что такое? — зевнув, спросил Вовка. — В чем дело? — Что такое? Что такое? — с укором переспросил старичок. — В чем дело? В чем дело? А ты не видишь, что вот стоит женщина с ребенком на руках, а тут ты, понимаешь ли, расселся! Видишь? — Конечно, вижу, — подтвердил Вовка, удобнее устраиваясь на сиденье. — Не слепой. И вдруг старичок как скомандует: — Встать! Да так он скомандовал, что Вовку будто какая-то сила с места подбросила. Он вскочил, сделал шаг в сторону, а старичок предложил женщине с ребенком на руках: — Прошу вас, садитесь. Да, все места были заняты, а ездить стоя Вовка не привык: неинтересно это, трудно. И решил он сойти на ближайшей остановке. Но не тут-то было! Едва трамвай остановился и открылись двери, как вошел длинный-длинный дяденька с длинными висячими рыжими усами и начал проверять у выходивших пассажиров абонементы. «Привет-приветик! — подумал Вовка. — Глухонемого из меня уже не получится. Получится из меня заяц-дармоезд». Но ведь профессор он, академик краснощекий, генерал как-никак, — так неужели не выкрутится? Выкрутится-выкрутится, не беспокойтесь! И Вовка с озабоченным видом начал шарить по карманам, шарил, шарил и — целую горсть абонементов разных на все виды городского транспорта, кроме такси, конечно, — насобирал. Передохнул Вовка, как после тяжелой и сложной работы, и с гордым, совершенно независимым видом протянул абонементы контролеру и сказал: — Выбирайте. Вы в них получше меня разбираетесь, конечно. Контролер — длинный-длинный дяденька — задумчиво покрутил сначала один длинный висячий рыжий ус, потом — другой и взглянул на Вовку таким пронзительным взглядом, что стало ясно: хоть дяденька этот никогда ни профессором, ни академиком, ни генералом не был, но еще ни одному безбилетнику обмануть его не удавалось. — В этом я, конечно, лучше тебя разбираюсь, — спокойно проговорил он, — но ты уж будь таким любезным, рассортируй свою коллекцию. А трамвай тем временем двинулся дальше. — Это как? — спросил Вовка уже испуганно. — Как это — рассортируй? Какую это коллекцию? — Отдели абонементы трамвайные от автобусных и троллейбусных, — объяснил контролер, — потому как мы едем именно в трамвае. Сойдут, кстати, и троллейбусные. А еще лучше — плати сразу штраф. Фокусы ваши заячьи нам давно известны. — Нет у меня денег, — совсем испуганно пробормотал Вовка, судорожно соображая, что бы ему такое придумать, после чего контролер пожалел бы его. — Обокрали меня! — жалобно крикнул он. — Рублик вытащили! Бабушка на мороженое дала, а… — …А я рублик проел и решил зайцем прокатиться, — добавил контролер. — Эх, даже и врать-то по-настоящему вы не умеете! — Я врать не умею?! — возмутился Вовка. — Да я, к вашему сведению… да я так наврать могу… Тут все пассажиры рассмеялись, и Вовка пробормотал: — А я и врать-то не собирался… Видимо, физиономия у него была настолько несчастна и растерянна, что лысенький старичок в синем костюме предложил: — Ну, если ты врать и не собирался, хотя и умеешь врать, скажи нам всю правду. — В милицию таких забирать надо, а не разговоры с ними разговаривать! — крикнула с задней площадки старушка, на руках у которой была маленькая тощенькая белая собачонка с большими черными злыми глазами. Собачонка пронзительно и злобно тявкнула семь раз. Хотел ей Вовка ответить, да не стал: бульдог бы если был или овчарка, — это другое дело, а тут собаченция какая-то мелкая, хоть в микроскоп ее разглядывай. — Долго еще думать будем? — спросил контролер. — Отпустили бы вы его на все четыре стороны, — посоветовал, не отрываясь от газеты, один дяденька. — Припугнули бы как следует и отпустили. Вот тут-то Вовка и показал, что если он и не академик, не профессор даже, но голова у него соображает да еще как! — Ладно уж, ладно, — плачущим голосом произнес он, громко шмыгая носом, — вот высадите вы меня, предположим, на Стахановской, а я живу около Крыловой. Значит, что получится, по-вашему? Пешком обратно в такую даль топать? Или опять из-за вас зайцем ехать? Так получается? — Вот это постановка вопроса! — насмешливо воскликнул контролер — длинный-длинный дяденька с длинными висячими рыжими усами — Выходит, мы во всем виноваты? Из-за нас ты зайцем катаешься.
— Есть предложение, — сказал лысенький старичок в синем костюме. — Денег у данного зайца все равно нет. Позвольте, я заплачу за него штраф, заберу его с собой, потолкую с ним, объясню ему его безобразное поведение и дам абонемент на обратный проезд домой.
Старушка с задней площадки хотела что-то крикнуть очень возмущенно, но собаченция опередила ее и злобно тявкнула девять раз.
«Собаченциям тут всяким все делать разрешается, даже людей ни за что ни про что облаивать, — подумал Вовка уже облегченно, чувствуя, что главная для него опасность миновала, — а вот нормальному человеку даже молча и то спокойно проехать не дают».
— Хорошо, — грозно сказал контролер, и длинные рыжие висячие усы его пошевелились тоже грозно, — хорошо, может, даже и прекрасно. На этот раз прощаю. Но если ты еще хоть раз попадешься, поблажки не жди. Будешь иметь дело с милицией.
Он отказался брать штраф за Вовку у лысенького старичка в синем костюме, и они — старичок с Вовкой — сошли, как только трамвай остановился.
Собаченция вслед залилась злобным лаем, и Вовка с трудом удержался, чтобы ей не ответить.
Старичок шел впереди, не оглядываясь, словно уверенный, что Вовка будет идти за ним следом хоть целый день. Вовка, конечно, подумал мельком: а что же мешает ему дать стрекача? Не побежит же лысенький старичок за ним?! Но что-то удерживало Вовку, чему он и сам удивлялся, но шел и шел.
Вроде бы старичок как старичок. Немало таких по улицам ходит. Невысокого роста, седенький, с загорелой лысинкой — абсолютно ничего особенного, кроме того, что он почему-то решил за Вовку штраф платить да еще абонемент на дорогу домой дать…
Чудеса не чудеса, а — подозрительно. Вовка даже ненадолго остановился, разглядывая старичка. Нет, вроде бы ничего, ровным счетом ничего особенного в нем не было. Нет, нет, что-то было. Но — что?
Старичок шел каким-то особенным шагом и держался как-то особенно прямо. Но даже не это смущало Вовку. Он вдруг вспомнил о том, что старичок собирался с ним потолковать. Вот чего надо бояться!
Но Вовка тут же отогнал это предостережение, бросился к старичку, настиг его и спросил:
— А вы кто, дедушка?
— Вот это постановка вопроса! — насмешливо воскликнул контролер — длинный-длинный дяденька с длинными висячими рыжими усами — Выходит, мы во всем виноваты? Из-за нас ты зайцем катаешься.
— Есть предложение, — сказал лысенький старичок в синем костюме. — Денег у данного зайца все равно нет. Позвольте, я заплачу за него штраф, заберу его с собой, потолкую с ним, объясню ему его безобразное поведение и дам абонемент на обратный проезд домой.
Старушка с задней площадки хотела что-то крикнуть очень возмущенно, но собаченция опередила ее и злобно тявкнула девять раз.
«Собаченциям тут всяким все делать разрешается, даже людей ни за что ни про что облаивать, — подумал Вовка уже облегченно, чувствуя, что главная для него опасность миновала, — а вот нормальному человеку даже молча и то спокойно проехать не дают».
— Хорошо, — грозно сказал контролер, и длинные рыжие висячие усы его пошевелились тоже грозно, — хорошо, может, даже и прекрасно. На этот раз прощаю. Но если ты еще хоть раз попадешься, поблажки не жди. Будешь иметь дело с милицией.
Он отказался брать штраф за Вовку у лысенького старичка в синем костюме, и они — старичок с Вовкой — сошли, как только трамвай остановился.
Собаченция вслед залилась злобным лаем, и Вовка с трудом удержался, чтобы ей не ответить.
Старичок шел впереди, не оглядываясь, словно уверенный, что Вовка будет идти за ним следом хоть целый день. Вовка, конечно, подумал мельком: а что же мешает ему дать стрекача? Не побежит же лысенький старичок за ним?! Но что-то удерживало Вовку, чему он и сам удивлялся, но шел и шел.
Вроде бы старичок как старичок. Немало таких по улицам ходит. Невысокого роста, седенький, с загорелой лысинкой — абсолютно ничего особенного, кроме того, что он почему-то решил за Вовку штраф платить да еще абонемент на дорогу домой дать…
Чудеса не чудеса, а — подозрительно. Вовка даже ненадолго остановился, разглядывая старичка. Нет, вроде бы ничего, ровным счетом ничего особенного в нем не было. Нет, нет, что-то было. Но — что?
Старичок шел каким-то особенным шагом и держался как-то особенно прямо. Но даже не это смущало Вовку. Он вдруг вспомнил о том, что старичок собирался с ним потолковать. Вот чего надо бояться!
Но Вовка тут же отогнал это предостережение, бросился к старичку, настиг его и спросил:
— А вы кто, дедушка?
 Старичок остановился, внимательно оглядел Вовку и тоже спросил:
— А чем, собственно, вызван твой вопрос?
— Просто интересно, — ответил Вовка. — Должен же я знать, с кем иду.
— Может быть, тебя интересует и то, куда мы идем? И зачем мы идем?
— Куда идти — мне все равно. И зачем идти — все равно. Делать-то мне нечего.
— Вот это плохо. Это очень плохо, когда человеку делать нечего.
И старичок снова двинулся вперед, по-прежнему не оглядываясь, теперь-то уже точно уверенный, что Вовка будет идти за ним следом хоть целый день.
Но Вовка опять догнал его и опять спросил:
— Кто вы такой, дедушка?
Старичок остановился, внимательно оглядел Вовку и тоже спросил:
— А чем, собственно, вызван твой вопрос?
— Просто интересно, — ответил Вовка. — Должен же я знать, с кем иду.
— Может быть, тебя интересует и то, куда мы идем? И зачем мы идем?
— Куда идти — мне все равно. И зачем идти — все равно. Делать-то мне нечего.
— Вот это плохо. Это очень плохо, когда человеку делать нечего.
И старичок снова двинулся вперед, по-прежнему не оглядываясь, теперь-то уже точно уверенный, что Вовка будет идти за ним следом хоть целый день.
Но Вовка опять догнал его и опять спросил:
— Кто вы такой, дедушка?
А старичок-то оказался…
Старичок опять остановился, очень внимательно оглядел Вовку, словно только сейчас увидел его, и ответил: — Генерал-лейтенант в отставке Самойлов Петр Петрович. — Да ну?! — вырвалось у Вовки, и он застыл с широко раскрытым ртом, будто задохнулся. — Чему же ты так удивился? — обиженно, как показалось Вовке, спросил старичок. — Не похож я, по-твоему, на генерал-лейтенанта даже в отставке? Не такие они, по-твоему, что ли, бывают? А? Вовка с трудом передохнул, кашлянул даже, чтобы в горле не было сухо, пробормотал: — Не ожидал я… вдруг… — Чего — не ожидал? Чего — вдруг? — Ну… как это?.. вдруг… Генерал-лейтенант в отставке Самойлов ждал, долго и терпеливо ждал, когда Вовка произнесет что-нибудь более или менее внятное. Но только через некоторое время Вовка сумел ответить, да и то еле слышно: — Первый раз в жизни с живым генералом разговариваю. Не верится. — Звать тебя как? — Вовкой. Краснощеков Вовка. — Не Вовка, а Владимир, — строго поправил его генерал-лейтенант в отставке Самойлов. — Вот что, Владимир… — Он недолго помолчал, словно раздумывая, продолжать или нет разговор, и вдруг торопливо спросил: — Мороженого хочешь, Владимир? И опять Вовка от неожиданности потерял дар речи, промычал что-то совсем невразумительное, даже ему самому непонятное, но зато утвердительно кивнул головой шесть раз. — В трамвае ты был разговорчивей, — недоуменно заметил генерал-лейтенант в отставке Самойлов. — Идем. Предстоит нам с тобой, Владимир, наиважнейший разговор. От него многое в твоей жизни измениться может. Вовка понемногу приходил в себя. Нет, вы только представьте всю эту историю с самого начала. Ехал он в трамвае зайцем, то есть дармоездом обыкновенным, нарвался на контролера, вот-вот в милицию могли забрать как миленького, и вдруг спасает его странный старичок, который оказывается (подумать только!) генерал-лейтенантом, правда, уже в отставке, и он приглашает поесть мороженого! Да что — мороженое! Предупреждает генерал-лейтенант в отставке, что будет у него с Вовкой наиважнейший разговор. Никто ведь ему, Вовке, ни капельки ни за что не поверит! — Не поверят ведь мне никто, — с сожалением признался он, — что я с вами познакомился. — А никто и не должен знать, что ты со мной познакомился. — Как — не должен?! — поразился Вовка. — Познакомиться с живым генералом и никому этим не похвастаться?! Тогда и знакомиться-то для чего?.. Зря, получается. — Со временем тебе все станет ясно, — строго произнес генерал-лейтенант в отставке Самойлов и ускорил шаги, словно заторопился, чтобы не опоздать куда-то. Неизвестно отчего, Вовке вдруг стало тревожно. Он ощутил неприятное беспокойство, а в голове замелькали разные идеи вроде той, что он действительно попал в какую-то историю, которая еще, кто его знает, чем окончится, что старичок этот странный и не генерал вовсе, а пенсионер обыкновенный, и что… Что — что?! По натуре своей Вовка был человек бойкий, смышленый и, как говорится, не робкого десятка, и растерялся он поэтому лишь ненадолго. — Петр Петрович! — позвал он. — А куда это мы так быстренько? — Есть мороженое, — раздалось в ответ, — если ты не возражаешь. — Я-то, конечно, не возражаю. Но уж раз десять поесть мороженого-то можно было. Вот, пожалуйста, опять киоск. Генерал-лейтенант в отставке Самойлов остановился и самым строгим голосом сказал: — Прошу следовать за мной. — А через несколько шагов он добавил, оглянувшись мельком. — Все узнаешь на месте. Учись подчиняться хотя бы генерал-лейтенанту хотя бы в отставке. Тут Вовке опять стало немного не по себе. «Точно, точно, — пронеслось у него в голове, — никакой это не генерал, никакого мороженого мне и не видать… Тогда кто же он такой и куда же мы почти бежим?» Нет, нет, проще всего было бы — улизнуть! Но что-то удерживало Вовку от этого, и он спешил за странным старичком, который больше даже и не оглядывался на него. Тогда Вовка — и это было разумное решение — решил твердо: будь что будет. В конце концов, если хочешь жить интересно, умей рисковать. И хотя тревога на сердце не проходила, Вовка следовал за старичком. Успокаивал Вовка себя еще и тем соображением, что если сбежишь, ничего не узнав, то потом всю жизнь будешь жалеть об этом.Начало не очень приятного для Вовки Краснощекова, но и для него же очень наиважнейшего разговора
Наконец, они оказались на берегу Камы, спустились по лестнице к набережной, подошли к павильончику с полосатой полотняной крышей, около которого стояли под большими зонтами столики и стулики. Странный старичок (вот тут-то Вовка опять усомнился, что он — лысенький, невысокенький — может быть генерал-лейтенантом, пусть и в отставке!) купил шесть вафельных стаканчиков, четыре эскимо и два брикета. Сели они за столик, и странный старичок предложил веселым голосом: — Начали! Уж как Вовка любил и умел есть мороженое, но до Петра Петровича ему было, скажем прямо, далековато. Тот ел так быстро и так ловко, что опередил Вовку намного. Вовка еле-еле успел расправиться с одним эскимо, одним стаканчиком и одним брикетом, а у Петра Петровича уже двух стаканчиков, двух эскимо и одного брикета — как не бывало. Он тут же остановился, закурил сигарету и сказал: — Ты ешь, ешь, Владимир. Вовка и ел себе на здоровье, а странный старичок говорил: — Потом ты расскажешь мне, как ты докатился до такого позора, что стал ездить зайцем и не уступал места старшим, да еще женщине, да еще с ребенком на руках. И вообще, расскажешь о своей жизни. Доложишь мне, как ты живешь, чем ты дышишь. — Дышу я воздухом. — Вовка, совсем уже осмелев, усмехнулся. — Живу нормально. А вот вы — настоящий вы генерал или нет?
— Самый обыкновенный генерал, — вздохнув, подтвердил старичок, быстро расправившись с остатками мороженого. — Генерал, генерал, — с грустью повторил он, — только в отставке. Отслужил. — Он еще два раза вздохнул. — А что, по-твоему, значит жить нормально?
Вовка пожал плечами, подумал и ответил:
— Ну… нормально… как все живут.
— Все живут по-разному. Учишься как?
— Тоже нормально. Пятерочки бывают, четверочки.
— А троечки? Двоечки? Единички?
— Двоечки-то очень редко. Очень-очень. Вот троечки… встречаются. А почему вас это интересует?
— Если ты окажешься хорошим человеком, я буду с тобой дружить… Чего ты глаза вытаращил?
— Так ведь… Как это — дружить?.. Вы же генерал, а я… я-то ведь всего-навсего…
— А вдруг ты — будущий генерал?
— Ну… — Вовка до того растерялся, что сунул в рот бумажку от брикета, пожевал и выплюнул в урну. — Дедушка, а вы меня не разыгрываете?
— Не зови меня дедушкой, — строго напомнил странный старичок. — Зови меня Петр Петрович. И с какой это стати я буду тебя разыгрывать? Нет, Владимир, намерения мои самые серьезные. Итак, ты докатился до немыслимого позора — позволил себе ездить зайцем.
— Позора? — недоуменно и обиженно переспросил Вовка.
— Самого настоящего позора.
— Так ведь не я один. Дяденьки даже и тетеньки некоторые… тоже. Я видел, Петр Петрович, своими собственными глазами видел!
— Я не про некоторых дяденек и тетенек спрашиваю, а про тебя, Владимир. Как ты докатился до такого несусветного позора? И учти: я разговариваю с тобой абсолютно серьезно. От этого нашего разговора зависит многое, очень многое. Ты даже представить не можешь, какое великое дело мы с тобой способны организовать, если подружимся. Итак, сознаёшь ли ты всю глубину своего падения, понимаешь ли ты, что ездить зайцем — недостойно настоящего человека?
— Да… в общем… — Вовка прятал глаза от пронзительного, строгого, даже сурового взгляда генерал-лейтенанта в отставке Самойлова. — Да я и не знал… понятия не имел, что это позор… что это падение… Кататься я очень люблю! — признался он. — И мороженое очень люблю!
— Это не ответ. Жаль, если ты окажешься плохим, несознательным человеком. Жаль, очень жаль.
— Да нормальный я человек, — оказал Вовка, тщетно пытаясь догадаться, к чему весь этот разговор и надо ли его продолжать. Вовку уже беспокоила собственная неуверенность: ему вдруг опять подумалось, а что если странный старичок все-таки не генерал? Тогда зачем ему тратить время на разговор и деньга на мороженое? А если он даже и генерал, то зачем все-таки ему понадобился Вовка? — Нормальный я человек, — повторил он. — Зайцем больше кататься не буду… А вот почему вы без орденов и медалей? Почему вы хотя бы орденские планочки не прикрепили на пиджак?
— Ордена и медали у меня на мундире. А планочки, как ты выразился, я не прикрепил, потому что не привык все еще в штатском ходить, хотя ношу его вот уже два года три месяца и тринадцатый день… Не привык. А может быть, и никогда не привыкну. Представляешь, всю жизнь отдать армии, пройти три войны и вдруг оказаться штатским?! Это все равно, что, ну, я даже и не знаю, с чем это сравнить можно! Места себе на нахожу! — Генерал-лейтенант в отставке Самойлов настолько разволновался, что пошел, купил еще по два стаканчика мороженого, по два эскимо, быстро с ними разделался и продолжал: — Вот какая, Владимир, обстановка.
— Не понимаю я вас, — признался Вовка. — Вам же есть чем гордиться.
— Есть чем гордиться! — насмешливо, почти с возмущением воскликнул генерал-лейтенант в отставке Самойлов. — Так вот сидеть дома и гордиться с утра до вечера? Потом телевизор посмотреть, поспать и снова — гордиться? Ну, предположим, — уже спокойнее продолжал он, — сижу я и горжусь своим боевым прошлым, а ты в это время зайцем едешь. Или троечки получаешь. А то и двоечки. Чего же мне гордиться? А?
— Да при чем здесь я-то?! — поразился Вовка, подпрыгивая на стулике. — За троечки и двоечки меня родители да учителя ругают, так это понятно.
— А понятно тебе, за что я воевал? — грозно спросил генерал-лейтенант в отставке Самойлов. — За что я воевал, ты знаешь?
— За Родину. За народ.
— Правильно. А что такое Родина? Что такое народ?
— Ну… — Вовка немного попыхтел от умственного напряжения. — Родина — это вся наша страна. А народ — это все люди.
— И ты в том числе, Владимир.
— Я?! — Вовка опять подпрыгнул на стулике. — Я-то… Конечно… Но как это — в том числе? Как?
— А вот так. Ты — тоже частица народа, нашего великого советского народа. Маленькая, крошечная, но — частица. Сознавать это надо, Владимир, выводы из этого надо тебе сделать. Глубокие выводы. Вникни: если одна частица народа зайцем ездит, вторая — на двоечки учится, третья — вообще дурака валяет… Что получается? Получается, что каждая из этих частиц, в том числе и ты, не понимает, что мы за нее кровь проливали. Да, да, Владимир! Я воевал за то, чтобы и ты вырос замечательным человеком! И ты! И — все!
— Но ведь меня еще на свете не было, когда вы воевали, — жалобно сказал Вовка. — Как же вы могли за меня воевать, если я еще не родился?
Генерал-лейтенант в отставке Самойлов покачал головой и с сожалением произнес:
— Многого ты, Владимир, не понимаешь. Самого главного не понимаешь. А пора бы. Человек-то ведь ты почти взрослый. Не успеешь оглянуться, а тебя уже и в армию призовут. А ты готовишься к этому? Думаешь ли хотя об этом?
— Думать-то я об этом думаю. Только далеко мне еще до армии. Сто тысяч раз еще успею оглянуться. Я, между прочим, космонавтом буду. Здоровье у меня хорошее.
— Здоровье у него хорошее. А голова как у тебя работает?
— Нормально.
— Подведем итог нашего разговора, — сумрачно предложил генерал-лейтенант в отставке Самойлов. — Взгляды на жизнь у тебя, Владимир, неверные. Очень и очень неверные. Если хочешь, я займусь тобой. Постараюсь объяснить тебе смысл жизни.
Вовка призадумался. Честно говоря, расспросы Петра Петровича и его рассуждения стали для мальчишки тягостными. Генерал, а послушаешь — как учительница: троечки, двоечки… Но вот смысл жизни — это интересно, хотя и непонятно. Больше всего Вовку, конечно, подкупало то, что разговаривали с ним совершенно серьезно, как, пожалуй, еще никто с ним не разговаривал, да к тому же и мороженым вдоволь угощали.
Взвесив все это, Вовка вскочил, руки по швам, пятки вместе, носки врозь и прямо-таки гаркнул:
— Рады стараться, товарищ генерал-лейтенант!
— Тише, тише! Вольно. Садись. Называй меня только Петром Петровичем. Третий раз напоминаю. Условия нашей с тобой дружбы следующие. Держать слово крепко. Дал слово — выполни во что бы то ни стало. Это первое. Второе: ничего не скрывать друг от друга. Будем предельно искренними. Я тебе раскрою все свои тайны.
— Тайны?! — Вовка с трудом удержался, чтобы не подпрыгнуть на стулике. — Какие тайны?
— Со временем узнаешь. Когда мне станет ясно, что же ты за человек. Завтра встречаемся здесь. В семь ноль-ноль.
— Утра?!
— Конечно. Если бы я имел в виду вечер, то сказал бы: в девятнадцать ноль-ноль. А мы встречаемся, повторяю, в семь ноль-ноль.
— Так рано? — упавшим голосом спросил Вовка. — Я постараюсь, Петр Петрович. Есть быть завтра здесь в семь ноль-ноль.
Генерал-лейтенант в отставке Самойлов помолчал, внимательно разглядывая Вовку, сказал:
— О нашем знакомстве никому ни слова. Ясно?
— Ясно-то ясно. — Вовка, сколько ни сдерживался, кисло улыбнулся. — А что я папе с мамой скажу? Соврать придется, да? Ведь спросят они, обязательно спросят, куда это я в такую рань собрался?
— Да, положение осложняется. Чего бы нам с тобой такое придумать, чтобы и не врать, и правды не сказать?
— Если я даже и правду скажу, мне все равно не поверят, Петр Петрович. Ну, кто мне поверит, что я познакомился с настоящим генерал-лейтенантом, хотя и в отставке? Сочиняешь, скажут, выдумываешь.
— Ну, а если мы с тобой поедем на рыбалку или по грибы пойдем?
— Спросят: а с кем? Тут уж совсем смешно получится. На рыбалку поеду или по грибы пойду — с кем? С генералом! Врешь, скажут, выдумываешь… Что прикажете делать, Петр Петрович?
— Представь себе, понятия не имею… Давай-ка еще поедим мороженого и посоображаем, что же нам делать.
Глотал Вовка мороженое и весело думал о том, до чего же удивительно устроена жизнь. Совсем недавно, какой-нибудь час с небольшим, ехал он в трамвае зайцем, попался контролеру, могли Вовку и в милицию забрать, а тут вдруг спасает его странный старичок в синем костюме, лысенький такой старичок, но оказался он генерал-лейтенантом, хотя и в отставке. Кормит он Вовку мороженым, предлагает дружить и собирается открыть ему какие-то тайны. Чудеса, да и только! Жаль, как жаль, что нельзя об этом никому рассказать! Но — почему? А вдруг какая-нибудь невероятной важности военная, понимаете, военная тайна?! Ух, мороз по коже, но не от мороженого, а от волнения! Вдруг Петр Петрович не просто генерал-лейтенант и не в отставке, а разведчик?! И вдруг он даст Вовке задание?! А что? Вдруг… вдруг… вдруг… Эти «вдруг» мелькали в Вовкиной голове одно за другим… И вот он уже видел себя Героем Советского Союза в военной форме. Звание? Ну хотя бы майор! Пусть капитан хотя бы! И на лейтенанта Вовка согласен!.. Тут он передохнул, испугался собственной фантазии и решил, что пока надо воздержаться от всяких «вдруг».
Он спросил:
— А если я из дома незаметно сбегу? Встану раньше всех, тихонечко оденусь и… никто ничего и не услышит?
— Но ведь потом тебе все равно придется объяснять, куда и почему ты исчезал таким образом? Нет, Владимир, положение у нас с тобой очень и очень сложное. И выхода из него я пока не вижу, не улавливаю даже. Дело усугубляется еще и тем, что нам надо спешить. То, что я задумал сделать, не терпит отлагательств. Дорог каждый день.
Опять пришлось Вовке призадуматься. Ничего он толком не понимал, но чувствовал, даже коленки у него от этого подрагивали, что ждут его замечательные, необыкновенные события. Ведь он всегда надеялся, что когда-нибудь да случится с ним что-нибудь этакое, чего еще ни с кем из мальчишек не бывало.
А сейчас это самое необыкновенное вот-вот начнется, а может быть, уже и началось!
— Петр Петрович! — воскликнул Вовка. — Ура! Я придумал! Честное слово, придумал! Один раз, понимаете, всего один-единственный разик можно ведь соврать!
— Нет, нет, нет и нет! — сурово возразил генерал-лейтенант в отставке Самойлов. — И речи об этом быть не может! Генералы не врут! Презираю всякую ложь!
— Тогда я не знаю… — уныло пробормотал Вовка. — А что мы все-таки собираемся делать, Петр Петрович? — Он с нетерпением ждал ответа от пригорюнившегося Петра Петровича, не дождался и настойчиво переспросил: — Что же мы с вами делать-то собираемся?
— Пока это — тайна, — недовольно ответил Петр Петрович. — И я пока не могу тебе ее открыть. Просто не имею права. Я ведь еще не знаю, что ты за человек. Например, я не уверен, что ты умеешь держать язык за зубами. Не уверен я, что ты умеешь держать слово. А о нашем с тобой деле никто ничего не должен знать. Ник-то. Ни-че-го.
— Никто ничего и не узнает, — решительным тоном заверил Вовка, хотя тут же подумал, до чего же ему трудно будет не проболтаться о генерал-лейтенантовской тайне. — Честное пионерское, буду держать язык за зубами. Мне бы только поскорее узнать, что это у вас за тайна.
— Хочешь, я тебе расскажу, с чего все началось?
— Что — началось?
— А то, из-за чего я решил с тобой подружиться. Страшная история произошла со мной. Только слушай внимательно. Слушай и, главное, старайся понять.
— Есть слушать! — прошептал Вовка.
— Дышу я воздухом. — Вовка, совсем уже осмелев, усмехнулся. — Живу нормально. А вот вы — настоящий вы генерал или нет?
— Самый обыкновенный генерал, — вздохнув, подтвердил старичок, быстро расправившись с остатками мороженого. — Генерал, генерал, — с грустью повторил он, — только в отставке. Отслужил. — Он еще два раза вздохнул. — А что, по-твоему, значит жить нормально?
Вовка пожал плечами, подумал и ответил:
— Ну… нормально… как все живут.
— Все живут по-разному. Учишься как?
— Тоже нормально. Пятерочки бывают, четверочки.
— А троечки? Двоечки? Единички?
— Двоечки-то очень редко. Очень-очень. Вот троечки… встречаются. А почему вас это интересует?
— Если ты окажешься хорошим человеком, я буду с тобой дружить… Чего ты глаза вытаращил?
— Так ведь… Как это — дружить?.. Вы же генерал, а я… я-то ведь всего-навсего…
— А вдруг ты — будущий генерал?
— Ну… — Вовка до того растерялся, что сунул в рот бумажку от брикета, пожевал и выплюнул в урну. — Дедушка, а вы меня не разыгрываете?
— Не зови меня дедушкой, — строго напомнил странный старичок. — Зови меня Петр Петрович. И с какой это стати я буду тебя разыгрывать? Нет, Владимир, намерения мои самые серьезные. Итак, ты докатился до немыслимого позора — позволил себе ездить зайцем.
— Позора? — недоуменно и обиженно переспросил Вовка.
— Самого настоящего позора.
— Так ведь не я один. Дяденьки даже и тетеньки некоторые… тоже. Я видел, Петр Петрович, своими собственными глазами видел!
— Я не про некоторых дяденек и тетенек спрашиваю, а про тебя, Владимир. Как ты докатился до такого несусветного позора? И учти: я разговариваю с тобой абсолютно серьезно. От этого нашего разговора зависит многое, очень многое. Ты даже представить не можешь, какое великое дело мы с тобой способны организовать, если подружимся. Итак, сознаёшь ли ты всю глубину своего падения, понимаешь ли ты, что ездить зайцем — недостойно настоящего человека?
— Да… в общем… — Вовка прятал глаза от пронзительного, строгого, даже сурового взгляда генерал-лейтенанта в отставке Самойлова. — Да я и не знал… понятия не имел, что это позор… что это падение… Кататься я очень люблю! — признался он. — И мороженое очень люблю!
— Это не ответ. Жаль, если ты окажешься плохим, несознательным человеком. Жаль, очень жаль.
— Да нормальный я человек, — оказал Вовка, тщетно пытаясь догадаться, к чему весь этот разговор и надо ли его продолжать. Вовку уже беспокоила собственная неуверенность: ему вдруг опять подумалось, а что если странный старичок все-таки не генерал? Тогда зачем ему тратить время на разговор и деньга на мороженое? А если он даже и генерал, то зачем все-таки ему понадобился Вовка? — Нормальный я человек, — повторил он. — Зайцем больше кататься не буду… А вот почему вы без орденов и медалей? Почему вы хотя бы орденские планочки не прикрепили на пиджак?
— Ордена и медали у меня на мундире. А планочки, как ты выразился, я не прикрепил, потому что не привык все еще в штатском ходить, хотя ношу его вот уже два года три месяца и тринадцатый день… Не привык. А может быть, и никогда не привыкну. Представляешь, всю жизнь отдать армии, пройти три войны и вдруг оказаться штатским?! Это все равно, что, ну, я даже и не знаю, с чем это сравнить можно! Места себе на нахожу! — Генерал-лейтенант в отставке Самойлов настолько разволновался, что пошел, купил еще по два стаканчика мороженого, по два эскимо, быстро с ними разделался и продолжал: — Вот какая, Владимир, обстановка.
— Не понимаю я вас, — признался Вовка. — Вам же есть чем гордиться.
— Есть чем гордиться! — насмешливо, почти с возмущением воскликнул генерал-лейтенант в отставке Самойлов. — Так вот сидеть дома и гордиться с утра до вечера? Потом телевизор посмотреть, поспать и снова — гордиться? Ну, предположим, — уже спокойнее продолжал он, — сижу я и горжусь своим боевым прошлым, а ты в это время зайцем едешь. Или троечки получаешь. А то и двоечки. Чего же мне гордиться? А?
— Да при чем здесь я-то?! — поразился Вовка, подпрыгивая на стулике. — За троечки и двоечки меня родители да учителя ругают, так это понятно.
— А понятно тебе, за что я воевал? — грозно спросил генерал-лейтенант в отставке Самойлов. — За что я воевал, ты знаешь?
— За Родину. За народ.
— Правильно. А что такое Родина? Что такое народ?
— Ну… — Вовка немного попыхтел от умственного напряжения. — Родина — это вся наша страна. А народ — это все люди.
— И ты в том числе, Владимир.
— Я?! — Вовка опять подпрыгнул на стулике. — Я-то… Конечно… Но как это — в том числе? Как?
— А вот так. Ты — тоже частица народа, нашего великого советского народа. Маленькая, крошечная, но — частица. Сознавать это надо, Владимир, выводы из этого надо тебе сделать. Глубокие выводы. Вникни: если одна частица народа зайцем ездит, вторая — на двоечки учится, третья — вообще дурака валяет… Что получается? Получается, что каждая из этих частиц, в том числе и ты, не понимает, что мы за нее кровь проливали. Да, да, Владимир! Я воевал за то, чтобы и ты вырос замечательным человеком! И ты! И — все!
— Но ведь меня еще на свете не было, когда вы воевали, — жалобно сказал Вовка. — Как же вы могли за меня воевать, если я еще не родился?
Генерал-лейтенант в отставке Самойлов покачал головой и с сожалением произнес:
— Многого ты, Владимир, не понимаешь. Самого главного не понимаешь. А пора бы. Человек-то ведь ты почти взрослый. Не успеешь оглянуться, а тебя уже и в армию призовут. А ты готовишься к этому? Думаешь ли хотя об этом?
— Думать-то я об этом думаю. Только далеко мне еще до армии. Сто тысяч раз еще успею оглянуться. Я, между прочим, космонавтом буду. Здоровье у меня хорошее.
— Здоровье у него хорошее. А голова как у тебя работает?
— Нормально.
— Подведем итог нашего разговора, — сумрачно предложил генерал-лейтенант в отставке Самойлов. — Взгляды на жизнь у тебя, Владимир, неверные. Очень и очень неверные. Если хочешь, я займусь тобой. Постараюсь объяснить тебе смысл жизни.
Вовка призадумался. Честно говоря, расспросы Петра Петровича и его рассуждения стали для мальчишки тягостными. Генерал, а послушаешь — как учительница: троечки, двоечки… Но вот смысл жизни — это интересно, хотя и непонятно. Больше всего Вовку, конечно, подкупало то, что разговаривали с ним совершенно серьезно, как, пожалуй, еще никто с ним не разговаривал, да к тому же и мороженым вдоволь угощали.
Взвесив все это, Вовка вскочил, руки по швам, пятки вместе, носки врозь и прямо-таки гаркнул:
— Рады стараться, товарищ генерал-лейтенант!
— Тише, тише! Вольно. Садись. Называй меня только Петром Петровичем. Третий раз напоминаю. Условия нашей с тобой дружбы следующие. Держать слово крепко. Дал слово — выполни во что бы то ни стало. Это первое. Второе: ничего не скрывать друг от друга. Будем предельно искренними. Я тебе раскрою все свои тайны.
— Тайны?! — Вовка с трудом удержался, чтобы не подпрыгнуть на стулике. — Какие тайны?
— Со временем узнаешь. Когда мне станет ясно, что же ты за человек. Завтра встречаемся здесь. В семь ноль-ноль.
— Утра?!
— Конечно. Если бы я имел в виду вечер, то сказал бы: в девятнадцать ноль-ноль. А мы встречаемся, повторяю, в семь ноль-ноль.
— Так рано? — упавшим голосом спросил Вовка. — Я постараюсь, Петр Петрович. Есть быть завтра здесь в семь ноль-ноль.
Генерал-лейтенант в отставке Самойлов помолчал, внимательно разглядывая Вовку, сказал:
— О нашем знакомстве никому ни слова. Ясно?
— Ясно-то ясно. — Вовка, сколько ни сдерживался, кисло улыбнулся. — А что я папе с мамой скажу? Соврать придется, да? Ведь спросят они, обязательно спросят, куда это я в такую рань собрался?
— Да, положение осложняется. Чего бы нам с тобой такое придумать, чтобы и не врать, и правды не сказать?
— Если я даже и правду скажу, мне все равно не поверят, Петр Петрович. Ну, кто мне поверит, что я познакомился с настоящим генерал-лейтенантом, хотя и в отставке? Сочиняешь, скажут, выдумываешь.
— Ну, а если мы с тобой поедем на рыбалку или по грибы пойдем?
— Спросят: а с кем? Тут уж совсем смешно получится. На рыбалку поеду или по грибы пойду — с кем? С генералом! Врешь, скажут, выдумываешь… Что прикажете делать, Петр Петрович?
— Представь себе, понятия не имею… Давай-ка еще поедим мороженого и посоображаем, что же нам делать.
Глотал Вовка мороженое и весело думал о том, до чего же удивительно устроена жизнь. Совсем недавно, какой-нибудь час с небольшим, ехал он в трамвае зайцем, попался контролеру, могли Вовку и в милицию забрать, а тут вдруг спасает его странный старичок в синем костюме, лысенький такой старичок, но оказался он генерал-лейтенантом, хотя и в отставке. Кормит он Вовку мороженым, предлагает дружить и собирается открыть ему какие-то тайны. Чудеса, да и только! Жаль, как жаль, что нельзя об этом никому рассказать! Но — почему? А вдруг какая-нибудь невероятной важности военная, понимаете, военная тайна?! Ух, мороз по коже, но не от мороженого, а от волнения! Вдруг Петр Петрович не просто генерал-лейтенант и не в отставке, а разведчик?! И вдруг он даст Вовке задание?! А что? Вдруг… вдруг… вдруг… Эти «вдруг» мелькали в Вовкиной голове одно за другим… И вот он уже видел себя Героем Советского Союза в военной форме. Звание? Ну хотя бы майор! Пусть капитан хотя бы! И на лейтенанта Вовка согласен!.. Тут он передохнул, испугался собственной фантазии и решил, что пока надо воздержаться от всяких «вдруг».
Он спросил:
— А если я из дома незаметно сбегу? Встану раньше всех, тихонечко оденусь и… никто ничего и не услышит?
— Но ведь потом тебе все равно придется объяснять, куда и почему ты исчезал таким образом? Нет, Владимир, положение у нас с тобой очень и очень сложное. И выхода из него я пока не вижу, не улавливаю даже. Дело усугубляется еще и тем, что нам надо спешить. То, что я задумал сделать, не терпит отлагательств. Дорог каждый день.
Опять пришлось Вовке призадуматься. Ничего он толком не понимал, но чувствовал, даже коленки у него от этого подрагивали, что ждут его замечательные, необыкновенные события. Ведь он всегда надеялся, что когда-нибудь да случится с ним что-нибудь этакое, чего еще ни с кем из мальчишек не бывало.
А сейчас это самое необыкновенное вот-вот начнется, а может быть, уже и началось!
— Петр Петрович! — воскликнул Вовка. — Ура! Я придумал! Честное слово, придумал! Один раз, понимаете, всего один-единственный разик можно ведь соврать!
— Нет, нет, нет и нет! — сурово возразил генерал-лейтенант в отставке Самойлов. — И речи об этом быть не может! Генералы не врут! Презираю всякую ложь!
— Тогда я не знаю… — уныло пробормотал Вовка. — А что мы все-таки собираемся делать, Петр Петрович? — Он с нетерпением ждал ответа от пригорюнившегося Петра Петровича, не дождался и настойчиво переспросил: — Что же мы с вами делать-то собираемся?
— Пока это — тайна, — недовольно ответил Петр Петрович. — И я пока не могу тебе ее открыть. Просто не имею права. Я ведь еще не знаю, что ты за человек. Например, я не уверен, что ты умеешь держать язык за зубами. Не уверен я, что ты умеешь держать слово. А о нашем с тобой деле никто ничего не должен знать. Ник-то. Ни-че-го.
— Никто ничего и не узнает, — решительным тоном заверил Вовка, хотя тут же подумал, до чего же ему трудно будет не проболтаться о генерал-лейтенантовской тайне. — Честное пионерское, буду держать язык за зубами. Мне бы только поскорее узнать, что это у вас за тайна.
— Хочешь, я тебе расскажу, с чего все началось?
— Что — началось?
— А то, из-за чего я решил с тобой подружиться. Страшная история произошла со мной. Только слушай внимательно. Слушай и, главное, старайся понять.
— Есть слушать! — прошептал Вовка.
Встреча генерал-лейтенанта в отставке Самойлова со Смертью в модной мини-юбке и с неимоверно длинной сигаретой в беззубом рту
Петр Петрович начал рассказывать: — Недавно я заболел, да так здорово заболел, что ночью подумал: а вдруг я сейчас умру?! Раз и, как говорится, нету? И стало мне, старому воину, очень страшно, до того жутко мне стало, что пальцы ног мгновенно похолодели, окоченели прямо, а на лбу выступил пот. Сердце не билось ровно, как это бывает у нормальных людей, а бухало: вот-вот лопнет, разорвется или из груди выскочит. Понимаешь, вот-вот могу умереть… Что же такое происходит, люди добрые? Генерал, и — трусит! Неслыханное дело! Но страх не проходил, сколько я ни внушал себе, что мне должно быть за это стыдно. Мне и было стыдно, обидно мне было, а страх меня не отпускал. Три войны я прошел, в каких только переделках не бывал, восемь тяжелых ранений, а легким и средним и счета нет, а тут… Да и не имею я права умирать ни с того ни с сего! И дел у меня много. В конце концов просто несправедливо и глупо, возмутительно просто — вдруг умереть! Никогда я ничего не боялся, а тут… И до того я на себя рассердился, что страх прошел, но мысли в голове у меня перепутались, и все они дергались, что ли… Дома никого нет, даже если «караул!» крикнешь, никто не услышит. «Вот ситуация! — подумал я. — Поговорить бы со Смертью перед смертью! Я бы ей сказал! Она бы у меня попрыгала, старушенция безглазая!» — Ты звал меня? — раздался негромкий, хрипловатый, на редкость противный голос, щелкнул выключатель, зажглась настольная лампа, и я увидел… Ты только представь себе, Владимир, такую картину. Стоит перед моей кроватью особа в огромных черных очках, длинноволосая, в модной белой мини-юбке, черном свитере. — Я пришла. — И она мерзко хихикнула. — Ты кто такая? — с трудом выговорил я, хотя уже догадался, что за особа передо мной. — Кто ты? — Я Смерть, — сказала она, села на стул, закинув нога на ногу (кость на кость, то есть), улыбнулась беззубым ртом, вставила в него неимоверно длинную сигарету, щелкнула зажигалкой, выпустила семь колец дыма, стряхнула пепел прямо на пол и проговорила: — Времени у нас с тобой не так уж много. Слушаю тебя. Только заранее учти, что все разговоры со мной бесполезны. Решение мое о тебе окончательное. А жаловаться на меня некому. И некуда! — Она столь мерзко хихикнула, что меня всего передернуло. — Ну? Надо отметить, Владимир, что как только эта особа назвала себя, я вдруг сразу успокоился. Если явилась Смерть, значит, дела мои плохи. Да что там — плохи! Хуже — дальше некуда! И что мне ей сказать? И зачем? Она должна быть зла на меня: ведь сколько раз я уходил от нее! Она коварна, немилосердна, несправедлива, жестока и, по моему глубокому убеждению, страшно глупа. Но от всего этого мне было не легче. И чтобы выиграть время, собраться с мыслями, я спросил:
— Почему ты так странно выглядишь? Я представлял тебя по рисункам из старинных книг — старухой в черном балахоне и с косой в руках. А ты стиляга какая-то!
Смерть захихикала еще противнее, чем раньше, и хихикала так долго, что я окончательно пришел в себя и оборвал ее:
— Хватит! Не очень-то приятно тебя слушать. — Я сел на кровати. — Чего ты так вырядилась?
— У меня сегодня выходной день, — проскрипела Смерть, — есть у меня и балахон, который называется саван, есть и коса. Сегодня я гуляю и удовольствия ради решила кой-кого припугнуть.
— И меня? — спросил я. — А я-то зачем тебе понадобился?
— А я тебя не люблю. Я тебя давно ненавижу, — мерзким голосом объяснила Смерть. — Храбрые не боятся меня и долго не сдаются мне. А я обожаю, когда люди плачут, стонут, страдают, рыдают, проклинают жизнь, — уже шипела Смерть, и ее холодное дыхание касалось моего разгоряченного лица. — Ты не можешь не понимать, что на этот раз тебе от меня не уйти.
Голова моя тут закружилась, сердце больно сжалось, мне показалось, что у меня заболели все старые раны сразу. Борясь с бессилием, я пробормотал:
— Но… но… у меня есть одно очень важное дело. Дай мне его сделать… потом забирай меня… прошу тебя.
Смерть долго и мерзко хихикала, снова вставила в беззубый рот неимоверно длинную сигарету, щелкнула зажигалкой, выпустила семь колец дыма, стряхнула пепел прямо на пол, гнусным голосом сказала:
— Обещай мне не делать ничего полезного людям, особенно детям, и я не трону тебя. Видишь, как я добра и великодушна?.. Ну? Я жду.
Тут я до того разозлился, что ответил так:
— Была ты, извини за выражение, дурой, такой и осталась. Череп-то у тебя пустой! Соображать тебе нечем! — Перед глазами у меня поплыли темные и разноцветные круги. Я упал на подушку. — Не делать-ничего полезного людям — это ведь и значит умереть! Нет, нет, пустоголовая, все равно рано или поздно мы с тобой разделаемся!
— И Смерть умрет? — ехидно спросила моя незваная гостья. — Не-е-е-ет! Смерть бессмертна! — Она приблизила ко мне свою отвратительную физиономию, прохрипела: — Если хочешь жить, ничего не делай полезного людям, особенно детям! Живи бездельником, и я несколько лет не трону тебя!.. Отвечай!
Собрав все силы, я приподнялся на руках, потом сел, и хотя голова моя пошла кругом, а дыхание стало прерывистым, я, не размахиваясь, ударил… но кулак мой попал в воздух. Я потерял равновесие и едва не полетел с кровати на пол.
Совершенно обессиленный, я опрокинулся на подушку.
Лежу и думаю: что же это такое со мной было?
Сон?
Но горела настольная лампа, которую я перед тем, как лечь в постель, выключил!
Едва дождавшись утра, я вызвал врача. Повышенная температура,-что-то неладное с сердцем, и я получил приказ: не вставать несколько дней.
Хотел я рассказать врачу, что мне ночью привиделось, но постеснялся. Что бы мог обо мне подумать врач? Стыдно же генерал-лейтенанту, хотя и в отставке, видеть такие глупые сны! Кроме того, я не мог себе простить, что испугался, — пусть и во сне.
Лежал я в постели, ничем вроде бы не болел, даже температура у меня была нормальная, и сердце успокоилось, а на душе у меня, понимаешь ли, Владимир, было плохо.
И ничего я не мог придумать, как бы мне от этого неприятнейшего ощущения избавиться.
Не прошло оно и тогда, когда я уже окончательно выздоровел и стал выходить из дому.
Но однажды я вдруг вспомнил, что в ту злополучную ночь, когда мне привиделась Смерть, я оставил настольную лампу невыключенной! Значит, просто я был нездоров, мне приснился одновременно ужасный и глупый сон.
Надо было просто забыть его, а он не забывался. Более того, с каждым днем я все больше думал о нем.
Не знаю, поймешь ли ты меня, Владимир, но я постараюсь объяснить тебе, на какие мысли навел меня этот сон.
И генерал-лейтенант в отставке Самойлов замолчал, опустив голову, словно и забыл, что перед ним сидит ничего не понимающий Вовка.
Правда, Вовка сразудогадался, что ему тоже надо помолчать — не мешать Петру Петровичу думать. Вовка уже не сомневался: эта встреча будет важным событием в его жизни.
— Ты ничего не понял? — спросил Петр Петрович.
— Ну ни капельки! — признался Вовка.
И чтобы выиграть время, собраться с мыслями, я спросил:
— Почему ты так странно выглядишь? Я представлял тебя по рисункам из старинных книг — старухой в черном балахоне и с косой в руках. А ты стиляга какая-то!
Смерть захихикала еще противнее, чем раньше, и хихикала так долго, что я окончательно пришел в себя и оборвал ее:
— Хватит! Не очень-то приятно тебя слушать. — Я сел на кровати. — Чего ты так вырядилась?
— У меня сегодня выходной день, — проскрипела Смерть, — есть у меня и балахон, который называется саван, есть и коса. Сегодня я гуляю и удовольствия ради решила кой-кого припугнуть.
— И меня? — спросил я. — А я-то зачем тебе понадобился?
— А я тебя не люблю. Я тебя давно ненавижу, — мерзким голосом объяснила Смерть. — Храбрые не боятся меня и долго не сдаются мне. А я обожаю, когда люди плачут, стонут, страдают, рыдают, проклинают жизнь, — уже шипела Смерть, и ее холодное дыхание касалось моего разгоряченного лица. — Ты не можешь не понимать, что на этот раз тебе от меня не уйти.
Голова моя тут закружилась, сердце больно сжалось, мне показалось, что у меня заболели все старые раны сразу. Борясь с бессилием, я пробормотал:
— Но… но… у меня есть одно очень важное дело. Дай мне его сделать… потом забирай меня… прошу тебя.
Смерть долго и мерзко хихикала, снова вставила в беззубый рот неимоверно длинную сигарету, щелкнула зажигалкой, выпустила семь колец дыма, стряхнула пепел прямо на пол, гнусным голосом сказала:
— Обещай мне не делать ничего полезного людям, особенно детям, и я не трону тебя. Видишь, как я добра и великодушна?.. Ну? Я жду.
Тут я до того разозлился, что ответил так:
— Была ты, извини за выражение, дурой, такой и осталась. Череп-то у тебя пустой! Соображать тебе нечем! — Перед глазами у меня поплыли темные и разноцветные круги. Я упал на подушку. — Не делать-ничего полезного людям — это ведь и значит умереть! Нет, нет, пустоголовая, все равно рано или поздно мы с тобой разделаемся!
— И Смерть умрет? — ехидно спросила моя незваная гостья. — Не-е-е-ет! Смерть бессмертна! — Она приблизила ко мне свою отвратительную физиономию, прохрипела: — Если хочешь жить, ничего не делай полезного людям, особенно детям! Живи бездельником, и я несколько лет не трону тебя!.. Отвечай!
Собрав все силы, я приподнялся на руках, потом сел, и хотя голова моя пошла кругом, а дыхание стало прерывистым, я, не размахиваясь, ударил… но кулак мой попал в воздух. Я потерял равновесие и едва не полетел с кровати на пол.
Совершенно обессиленный, я опрокинулся на подушку.
Лежу и думаю: что же это такое со мной было?
Сон?
Но горела настольная лампа, которую я перед тем, как лечь в постель, выключил!
Едва дождавшись утра, я вызвал врача. Повышенная температура,-что-то неладное с сердцем, и я получил приказ: не вставать несколько дней.
Хотел я рассказать врачу, что мне ночью привиделось, но постеснялся. Что бы мог обо мне подумать врач? Стыдно же генерал-лейтенанту, хотя и в отставке, видеть такие глупые сны! Кроме того, я не мог себе простить, что испугался, — пусть и во сне.
Лежал я в постели, ничем вроде бы не болел, даже температура у меня была нормальная, и сердце успокоилось, а на душе у меня, понимаешь ли, Владимир, было плохо.
И ничего я не мог придумать, как бы мне от этого неприятнейшего ощущения избавиться.
Не прошло оно и тогда, когда я уже окончательно выздоровел и стал выходить из дому.
Но однажды я вдруг вспомнил, что в ту злополучную ночь, когда мне привиделась Смерть, я оставил настольную лампу невыключенной! Значит, просто я был нездоров, мне приснился одновременно ужасный и глупый сон.
Надо было просто забыть его, а он не забывался. Более того, с каждым днем я все больше думал о нем.
Не знаю, поймешь ли ты меня, Владимир, но я постараюсь объяснить тебе, на какие мысли навел меня этот сон.
И генерал-лейтенант в отставке Самойлов замолчал, опустив голову, словно и забыл, что перед ним сидит ничего не понимающий Вовка.
Правда, Вовка сразудогадался, что ему тоже надо помолчать — не мешать Петру Петровичу думать. Вовка уже не сомневался: эта встреча будет важным событием в его жизни.
— Ты ничего не понял? — спросил Петр Петрович.
— Ну ни капельки! — признался Вовка.
«Хорошим человеком можно стать уже в детстве!»
— Так ни капельки и не понял? — переспросил генерал-лейтенант в отставке Самойлов. Вовка в ответ только громко и тяжело вздохнул, помолчал и проговорил: — Сначала было смешно, а потом — непонятно. — Что — смешно? — Да вот как вам Смерть приснилась. — А чего же тут смешного? — обиделся Петр Петрович. — Пусть это был всего-навсего сон, но он лишний раз напомнил мне, старому человеку, что рано или поздно я умру. А умирать, знаешь ли, никому неохота. Тебе этого, конечно, не понять. А мне очень хочется объяснить тебе это. Видишь ли, по моему глубокому убеждению, мы, взрослые, относимся к вам, как к младенцам. То вам знать рано, это вам знать рано. — Вот правильно! — радостно воскликнул Вовка. — Вот это я понимаю! Я, конечно, не совсем уже маленький, но ведь и не взрослый еще. Вы и не знаете, как плохо быть маленьким! — Вот я и решил относиться к тебе как к взрослому. Посмотрим, что из этого получится. Может быть, ничего не получится… — Генерал-лейтенант в отставке Самойлов опять надолго замолчал, и Вовка не выдержал и спросил: — Петр Петрович, а когда же вы со мной как со взрослым разговаривать будете? — Да я уже давно так с тобой разговариваю. Неужели ты не заметил? И тут Вовка вспомнил, что ведь работает у него голова, ведь недаром он себя профессором и академиком иногда считает! Сообразил ведь Вовка, ответил: — Заметил, Петр Петрович, еще как заметил! Когда я вас совсем не понимаю, значит, вы со мной как со взрослым разговариваете! — Ну, Владимир! — Генерал-лейтенант в отставке Самойлов посмотрел на него с уважением. — Наконец-то у меня появилась уверенность в том, что ты способен понять мой замысел. Конечно, это случится далеко не сразу, не в один день… — Я буду стараться, — сказал Вовка, — вы бы только хоть немножечко бы рассказали мне, в чем все-таки ваша тайна. — Нет, нет, сразу ты ничего не поймешь, Владимир. — Генерал-лейтенант в отставке Самойлов склонился над столиком и прошептал: — Решил я, знаешь ли, вернуться в детство. — И, предупреждая недоуменный вопрос Вовки, он продолжал: — Это очень сложно объяснить, но… Вот сначала я закончу рассказ о своем нелепом сне. Понимаешь ли, в нем оказался значительный смысл. Слушай внимательно. Сон этот напомнил мне, что я стар и жить мне осталось… во всяком случае, не так уж много. И я понял, что мне надо торопиться. Мне нельзя терять не только ни одного дня, а — ни одного часа. Я должен успеть помочь вам, мальчишкам, понять смысл жизни. Для этого я должен снова как бы стать маленьким. — А как?! — вырвалось у Вовки. — Завтра и узнаешь, — строго ответил Петр Петрович. — Завтра я должен убедиться в том, что ты умеешь держать слово. Это будет первое для тебя испытание. Понимаешь, мне нужен человек, которому я мог бы доверять как самому себе. Я хочу доказать вам, мальчишкам, что хорошим человеком можно стать уже в детстве. А то ведь многие из нас полагают — и это крайне неправильно, — что в детстве можно валять дурака, а хорошим человеком стать, когда подрастешь. Вовка уже захотел есть: подошло время обеда. «Купит он еще мороженого или нет?» — с тоской подумал он, а генерал-лейтенант в отставке Самойлов продолжал рассуждать тем же озабоченным тоном. Вовка слушал рассеянно, потому что мало что понимал, и очнулся лишь тогда, когда услышал: — И чтобы тебе мысли мои стали чуть-чуть яснее, расскажу тебе историю о черном котенке. «Ну, про котенка-то я уж как-нибудь пойму», — с облегчением, но все же уныло решил Вовка.История про черного котенка
Генерал-лейтенант в отставке Самойлов начал рассказывать, и с первых же слов Вовка почувствовал, как разволновался Петр Петрович. То ли от жары, то ли именно от волнения он несколько раз протер платком свою загорелую лысинку. Вот что услышал Вовка. — Я пишу мемуары, то есть воспоминания о своей жизни, о том, как от солдата я дослужился до генерала, как прошел три войны. Мемуары пишут многие, но только я пишу свои воспоминания для вас, мальчишек. Для тех, кому предстоит стать солдатами, офицерами, а иным — генералами. Однажды, когда я устал от работы, отправился я погулять. Настроение у меня было прямо-таки замечательное. Я даже забыл, что нахожусь в отставке. Мне казалось, что я по-прежнему в боевом строю. Я сознавал, что работа моя нужна, необходима. В этот день я как раз написал о том, что военный человек — самый мирный человек, хотя всю жизнь он учится воевать, и если требует Родина, воюет. А воевал я для того, чтобы бы жизнь была замечательной. А замечательной она может быть только в том случае, если все мальчишки и девчонки вырастут настоящими людьми. Вот за это я и воевал, Владимир. И вот иду я по нашему двору, а сюда я переехал недавно, и никто в доме не знает, кто я такой. Для всех я — просто обыкновенный старичок-пенсионер. Иду я, на душе у меня, как говорится, птички поют, и вдруг… Сначала я глазам своим не поверил. Стою, понимаешь ли, Владимир, столб столбом, даже крикнуть не могу, не то что с места сдвинуться. Представь себе такую отвратительную картину. Привезли во двор огромную кучу песка, чтобы было где играть малышам. А четыре, извини за выражение, оболтуса вырыли в этом песке яму и, знаешь, чем они занимались? Берет один из них маленького черного котенка, бросает его в яму, и все четверо закидывают этого несчастного хвостатого младенчика песком! Котенок, естественно, пищит, выкарабкивается из-под песка, и как только из него выберется, четыре оболтуса начинают все сначала! Ну, как ты назовешь их действия, Владимир? — Дураки они, по-моему. — Дураки-то они, конечно, дураки. Но ведь дураки бывают и добрыми. А эти четверо — изверги самые настоящие! Много я в своей жизни видел страшного, Владимир, много. Но это было на войне. И зверствовали там не люди, а фашисты. И — что же мне было делать? «Ай-я-яй!» — сказать? По затылку стукнуть? Во-первых, пока я одного стукаю, остальные разбегутся. Во-вторых, ничего они не поймут. А я книгу для них пишу. Пишу для них о том, как я за них воевал… И вокруг ни одного человека! — Прекратите издевательство! — крикнул, наконец, я, а сам подумал, что хоть одного из оболтусов да поймаю. — В милицию захотели? — спрашиваю я. — Или чтобы родители вас выпороли? Сам же потихонечку подхожу к ним все ближе и ближе, прикидывая, у которого из четверых уши длиннее: чтобы удобнее ухватить было. — Наш котенок, дедушка, — отвечает один. — Что хотим, то с ним и делаем. — Мы его тренируем, — с хихиканьем добавил второй. — Он у нас мировой рекорд ставит. — Молчать! — крикнул я, услышав такие глупости. — Смирно! — И схватил одного за ухо, крепко схватил, так, что он завизжал и присел. — И не вздумай вырываться, еще больнее будет, а то и ухо оторвется.

 Приятели его, конечно, врассыпную — в разные подъезды. Скулит у меня в руке один из этих извергов, самый длинноухий, просит:
— Ой, дедушка, отпустите, ой, дедушка, больно!.. Ой, оторвете ухо-то!.. Ой, отвечать будете!.. Ой! Ой, больно!
— А котенку хорошо, по-твоему, было?
— Так ведь котенок он, — ой! — а я человек. Ой! Да не убегу я, только ухо отпустите! Оторвется ведь ухо-то!
Пожалел я его, взял за резинку трусов: если вырвется, придется ему в одной майке бежать!
— Доставай котенка, — приказал я и не выпустил из рук резинку, пока он лазал в яму. — Как тебя звать?
— Федор.
— Что мне с тобой делать?
— Отпустить, конечно.
— Отпустить. Хитрый какой. А кто отвечать за безобразие будет? Чей котенок-то?
— Вообще-то ничей. А подобрал его Генка.
— А кому это в голову пришло так бедного котенка мучить?
— Не помню. Генке, наверное.
— Генка, значит, во всем виноват?
— Чего вам от меня, дедушка, надо? — хорошо еще, что довольно вежливо спросил Федор. — Поиграли мы немного, а вы…
Короче говоря, Федор ничегошеньки не понимал. Извини, Владимир, за грубое слово, но оказался он болван болваном. Ну как еще можно назвать человека, если он не только может зверски мучить животное и нисколько не удивляться тому, что друзья предали его, Федора этого, в момент опасности? Бросили! Постыдно сбежали! Как можно назвать человека, который выше тройки ни разу в жизни не получал никаких отметок? И нисколько не стыдился двоек? Как еще можно назвать человека, который ничем не интересовался, кроме, как он выразился, телика?
— Чем же ты занимаешься целыми днями? — спросил я.
— А чем надо заниматься? — удивился Федор. — Каникулы ведь. В кино хожу, когда деньги есть. На рынок хожу семечки пробовать.
— Так ради чего ты живешь?
— Чего ради? Ну вот скоро есть пойду. Мамка пироги стряпает.
— А потом?
— Откуда я знаю? — Федор пожал плечами. — Придумаем с ребятами чего-нибудь.
— А кем ты собираешься стать, когда вырастешь?
— Пойду по стопам отца, — гордо ответил Федор. — Он у меня пожарник. А пожары бывают редко. Правда, отец один раз ранился, но зато три благодарности имеет и значок красивый на ленточке. А я уж не ранюсь. Я ловкий.
Словом, разговаривать с ним было в высшей степени бесполезно. И оставить его безобразное поведение без последствий я права не имел. Сидим мы с ним, молчим. Он в носу ковыряет да ухо свое изредка трогает. Я Федора за трусы уже не держу. Вижу, что бежать он не собирается.
— Чего, — спрашиваю, — не бежишь?
— Так ведь пироги-то еще не готовы, — он отвечает.
Взял я котенка в руки, давай с него песок стряхивать. Настроение у меня вконец испортилось.
— Это из-за Федьки-то? — удивился Вовка.
— Нет, не из-за Федора, — ответил генерал-лейтенант в отставке Самойлов. — А, так сказать, из-за всех Федоров. Ведь все вы — будущие солдаты нашей великой армии, граждане нашей великой страны. А чем вы занимаетесь? Не умеешь ты, Владимир, мыслить глубоко.
— Мелко я, что ли, мыслю? — обиделся Вовка. — Придет время, вырасту, в армии служить буду.
— А каким ты придешь в армию?
— Каким? Нормальным.
Генерал-лейтенант в отставке Самойлов усмехнулся, сказал:
— Конечно, армия — великолепная школа, но представь себе, не каждого и она может исправить. И вот если сейчас же за Федора не взяться, не учить его уму-разуму, придет он в армию таким же, какой он и есть. Не нужны такие армии. С детства, понимаешь, Владимир, с самого раннего детства надо знать, чего ждет от тебя Родина. А ведь она надеется на тебя, на Федора, на каждого из вас! — Он помолчал и продолжил рассказ: — Так вот, сидим мы с Федором, молчим. Я о нем думаю, а он, верно, о пирогах. И этак старательно в носу ковыряет.
— Чего ты там ищешь? — спрашиваю.
— Где?
— Да в носу своем!
— А это у меня привычка такая. Меня из-за этого даже из класса удаляли.
И противен мне Федор, между нами говоря, и что-то с ним делать надо. Ну, ковырять в носу армия его быстренько отучит. Это, так сказать, не проблема. Но вот почему он сам от этой глупейшей привычки отвыкнуть не считает нужным? А?.. И решил я заняться вами, мальчишками. Причем выбрать самых, так сказать, неподдающихся.
Приятели его, конечно, врассыпную — в разные подъезды. Скулит у меня в руке один из этих извергов, самый длинноухий, просит:
— Ой, дедушка, отпустите, ой, дедушка, больно!.. Ой, оторвете ухо-то!.. Ой, отвечать будете!.. Ой! Ой, больно!
— А котенку хорошо, по-твоему, было?
— Так ведь котенок он, — ой! — а я человек. Ой! Да не убегу я, только ухо отпустите! Оторвется ведь ухо-то!
Пожалел я его, взял за резинку трусов: если вырвется, придется ему в одной майке бежать!
— Доставай котенка, — приказал я и не выпустил из рук резинку, пока он лазал в яму. — Как тебя звать?
— Федор.
— Что мне с тобой делать?
— Отпустить, конечно.
— Отпустить. Хитрый какой. А кто отвечать за безобразие будет? Чей котенок-то?
— Вообще-то ничей. А подобрал его Генка.
— А кому это в голову пришло так бедного котенка мучить?
— Не помню. Генке, наверное.
— Генка, значит, во всем виноват?
— Чего вам от меня, дедушка, надо? — хорошо еще, что довольно вежливо спросил Федор. — Поиграли мы немного, а вы…
Короче говоря, Федор ничегошеньки не понимал. Извини, Владимир, за грубое слово, но оказался он болван болваном. Ну как еще можно назвать человека, если он не только может зверски мучить животное и нисколько не удивляться тому, что друзья предали его, Федора этого, в момент опасности? Бросили! Постыдно сбежали! Как можно назвать человека, который выше тройки ни разу в жизни не получал никаких отметок? И нисколько не стыдился двоек? Как еще можно назвать человека, который ничем не интересовался, кроме, как он выразился, телика?
— Чем же ты занимаешься целыми днями? — спросил я.
— А чем надо заниматься? — удивился Федор. — Каникулы ведь. В кино хожу, когда деньги есть. На рынок хожу семечки пробовать.
— Так ради чего ты живешь?
— Чего ради? Ну вот скоро есть пойду. Мамка пироги стряпает.
— А потом?
— Откуда я знаю? — Федор пожал плечами. — Придумаем с ребятами чего-нибудь.
— А кем ты собираешься стать, когда вырастешь?
— Пойду по стопам отца, — гордо ответил Федор. — Он у меня пожарник. А пожары бывают редко. Правда, отец один раз ранился, но зато три благодарности имеет и значок красивый на ленточке. А я уж не ранюсь. Я ловкий.
Словом, разговаривать с ним было в высшей степени бесполезно. И оставить его безобразное поведение без последствий я права не имел. Сидим мы с ним, молчим. Он в носу ковыряет да ухо свое изредка трогает. Я Федора за трусы уже не держу. Вижу, что бежать он не собирается.
— Чего, — спрашиваю, — не бежишь?
— Так ведь пироги-то еще не готовы, — он отвечает.
Взял я котенка в руки, давай с него песок стряхивать. Настроение у меня вконец испортилось.
— Это из-за Федьки-то? — удивился Вовка.
— Нет, не из-за Федора, — ответил генерал-лейтенант в отставке Самойлов. — А, так сказать, из-за всех Федоров. Ведь все вы — будущие солдаты нашей великой армии, граждане нашей великой страны. А чем вы занимаетесь? Не умеешь ты, Владимир, мыслить глубоко.
— Мелко я, что ли, мыслю? — обиделся Вовка. — Придет время, вырасту, в армии служить буду.
— А каким ты придешь в армию?
— Каким? Нормальным.
Генерал-лейтенант в отставке Самойлов усмехнулся, сказал:
— Конечно, армия — великолепная школа, но представь себе, не каждого и она может исправить. И вот если сейчас же за Федора не взяться, не учить его уму-разуму, придет он в армию таким же, какой он и есть. Не нужны такие армии. С детства, понимаешь, Владимир, с самого раннего детства надо знать, чего ждет от тебя Родина. А ведь она надеется на тебя, на Федора, на каждого из вас! — Он помолчал и продолжил рассказ: — Так вот, сидим мы с Федором, молчим. Я о нем думаю, а он, верно, о пирогах. И этак старательно в носу ковыряет.
— Чего ты там ищешь? — спрашиваю.
— Где?
— Да в носу своем!
— А это у меня привычка такая. Меня из-за этого даже из класса удаляли.
И противен мне Федор, между нами говоря, и что-то с ним делать надо. Ну, ковырять в носу армия его быстренько отучит. Это, так сказать, не проблема. Но вот почему он сам от этой глупейшей привычки отвыкнуть не считает нужным? А?.. И решил я заняться вами, мальчишками. Причем выбрать самых, так сказать, неподдающихся.
«Если ты опоздаешь…»
Генерал-лейтенант в отставке Самойлов спросил: — Понял ты что-нибудь, Владимир? — Не все понял, Петр Петрович, — признался Вовка, — но пойму обязательно. — Надеюсь. Верю. Все зависит от тебя. Ты только одно уразумей: каким человек был в детстве, таким он может остаться на всю жизнь… Ты часто врешь? — так неожиданно спросил Петр Петрович, что Вовка машинально ответил: — Бывает. — Но он тут же спохватился и объяснил: — Приходится иногда. Потому что иногда скажешь правду, тебе и попадет. — Отвыкай врать. Пусть уж лучше попадет и здорово попадет, чем врать. А вот если ты кому-нибудь что-нибудь пообещаешь, то всегда сдерживаешь свое слово? Ну, предположим, пообещаешь товарищу прийти к нему, то можешь не прийти? — А что особенного? — удивился Вовка. — Это же пустяк самый пустяковый. — Будешь отвыкать и от этого. Любое обещание, пусть самое пустяковое, надо выполнять с такой же обязательностью, как самое важное. Итак, завтра здесь в семь ноль-ноль. — Итак, итак, а как? Как, если не врать? Вы же сами говорили, Петр Петрович. — И продолжаю утверждать, что врать — это не к лицу порядочному человеку… Но тогда наша встреча с тобой может и не состояться? — Почему? Ведь врать нельзя, когда делаешь нехорошее дело, Петр Петрович. — Нет, никакой лжи нет оправдания. — Генерал-лейтенант в отставке Самойлов опять достал платок и опять вытирал в волнении свою лысинку. — Надо, надо думать. Не откажешься еще от мороженого? Вовка с трудом удержался от радостного восклицания и произнес по возможности равнодушным тоном: — Пожалуй, можно еще. Мороженое они уничтожили молча и быстро. И опять Вовка отстал: когда он приканчивал последнее эскимо из четырех, Петр Петрович уже курил и рассуждал: — Я договорился с несколькими генералами, они в восторге от того, что я задумал… И вот в самом начале… Федор, тот явится без осложнений. Его дома никогда не спрашивают, куда и зачем он уходит. — Непонятно мне, почему в семь ноль-ноль? — обиженно спросил Вовка. — Почему не в десять ноль-ноль? Или еще лучше — в одиннадцать тридцать? — Зачем терять столько времени? «Вообще-то есть выход из положения, — подумал Вовка, — взять, да и самого Петра Петровича немного обмануть. И он успокоится, и мне голову ломать больше не придется». И Вовка сказал: — Есть выход из положения. — Какой? — сразу оживился генерал-лейтенант в отставке Самойлов. — Я скажу так: «Дорогие мои родители! Завтра мне очень нужно по очень важному делу выйти из дома в шесть тридцать. Пока, дорогие родители, это важная военная тайна. Когда будет можно, я вам все объясню». — И что ответят родители? — Помучают, правда, немного. Что, что да зачем. Куда да куда? А потом отпустят. — Вроде бы складно у тебя получилось. Ну, а если они все-таки будут настаивать? — И я буду настаивать, Петр Петрович. — Все равно другого выхода у нас нет. Надеюсь на тебя, Владимир. В семь ноль-ноль. И ни минутой позже. Если ты опоздаешь, меня ты больше никогда не увидишь. — Петр Петрович! — взмолился Вовка. — Я, конечно… Я постараюсь, но… — Что «но»? Какие могут быть «но», когда ты договариваешься с генерал-лейтенантом, хотя и в отставке? Если ты и его подведешь, то кто же тебе вообще будет верить? — Хорошо, хорошо, Петр Петрович, — пробормотал Вовка, — не беспокойтесь. Я постараюсь, я изо всех сил постараюсь. Все будет в порядке. — Тогда будь здоров, Владимир. До завтра. Вот тебе абонемент. Вовка поблагодарил, попрощался и смотрел вслед, пока Петр Петрович не скрылся за углом.А вот и нелепый случай
На другое утро Вовка проснулся в девять тридцать. На условленном месте генерал-лейтенанта в отставке Самойлова Петра Петровича не было.* * *
А теперь, дорогой наш читатель, вместо того чтобы с нетерпением ждать да гадать: «Что же произойдет дальше?» — ты сам возьми да и придумай, как будут развиваться события и чем все это дело кончится. Придумай и напиши на листке бумаги. Напиши и запечатай в конверт. А конверт пошли нам в «Горизонт». В следующем выпуске «Горизонта» самые интересные письма мы опубликуем, а потом писатель Л. Давыдычев откроет вам тайну, которую хотел сообщить генерал-лейтенант в отставке Петр Петрович Самойлов Вовке Краснощекову и другим мальчишкам.МЕДАЛЬ «ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ ВАРШАВЫ»
Е. Фейерабенд НЕБЕСНЫЕ ОСТРОВА Стихотворение
В. Шитов Я ЛЕС ПОЛЮБИЛ С ДЕТСТВА Очерк
Рис. Е. Нестерова.— Жизнь? — спросите вы, и теперь я на вас с укором погляжу. Да, жизнь. Как родимся, так ни минуты мы с вами без леса не обходимся. Спим в деревянной колыбели. Легка она и ласкова. Первые шаги свои делаем по теплому деревянному полу родного дома. За деревянным столом едим мамину стряпню. Первые каракули делаем деревянным карандашом. И за деревянной школьной партой выводим первые буквы… Но это все видимое, осязаемое, пощупать можно и убедиться, что оно деревянное. А если древесину перерабатывать? Ткани и лекарства, бумагу и спички, шпалы и детали для самолетов, уголь для выплавки высокосортного чугуна — все дает нам лес. Грибы и орехи, цветы и ягоды, сено скоту и нектар пчелам — все дает лес. Лес укрепляет речные берега и защищает поля от ветра. Лес спасает нас от пыли, заводского дыма, от жары и городского шума. А сам лесной воздух, творящий здоровье!.. Но давайте с другого боку подойдем, ребята. Разве мы любим и ценим только то, что можно съесть или надеть, из чего можно что-то добыть или извлечь видимую пользу? А птичье пение на заре — это что? Какая от него корысть? А беличий хвост, мелькнувший в хвое? А диво дивное — сосновый выворотень, похожий на сказочного лешего? А росный дождик, сыпанувший за шиворот, когда ты лез под еловую лапу, где рыжик притаился медным пятаком? А осенняя паутинка на траве? А слепящая белизна зимней просеки, прошитая неровной стежкой мышиного следа?.. Что нам со всего этого? Какой прок, какой урожай? И ведь есть он, есть. Только подсчитать его нельзя ни на вес, ни на штуки. Он в нас. Это урожай РАДОСТИ, которую лес дарит — всякому, готовому ее принять. Так что дает он не просто жизнь, а жизнь радостную. Тут уж только не ленись, принимай сердцем это богатство.
Лес к нам всегда с добром. А как мы ему платим за это? Вот после чьей-то молодецкой забавы пятнадцати-двадцатилетние елки сломаны: кто-то силу показывал, деревья гнул в дугу. Вот на квартальном столбе номер соскоблен, верхушка изрублена, да еще пакостная надпись увеличительным стеклом выжжена. Вот муравейник разворошен, разорен. Вот след от варварского — во всю поляну — кострища. Вот береза, порубленная на палаточные колышки. Вот сосна, раненная десятком выстрелов: кто-то упражнялся. А вот выбирали елки для новогоднего праздника. Разрешение на порубку, видно, было, да вырубить бережно толку не хватило: не отоптали елочку, не осмотрели как следует, срубили — не понравилась, однобока, редка, другую срубили — опять нехороша. Однажды брошенных в лесу елок оказалось вдвое больше, чем увезли… Больно это видеть, тяжело и горько об этом говорить. А надо! Ведь лес не помнит зла, он снова и снова встречает вас цветами и ароматом трав, угощает грибами и птичьим пением. Так откликнитесь же на это добро, будьте к нему сами добры и заботливы. Я всегда находил себе хороших помощников среди вас, ребята. Особенно когда работал в Верхнекурьинском лесничестве. Я тогда часто бывал в школах, предупреждал об опасности лесных пожаров, рассказывал о дозорной службе. И вот, помню, как-то летом прибегает в контору лесничества мальчишка. Раскраснелся, запыхался, с порога кричит: — В лесу пожар! Мы с лесниками кинулись на место пожара, а там уже на пяти сотках огонь усмирен. Кем? Одними ребятишками. Было их человек восемнадцать, боролись они с пожаром отчаянно, а главное — грамотно, знали, что делать. Палки, коряги пошли в ход: ребята окапывали огонь, забрасывали его землей, затаптывали огненные змейки, ползущие по траве. Мы написали потом об их поступке в газету, очень горячо благодарили этих смелых мальчишек. В другой раз ребята подобрали вымпел, сброшенный с дозорного самолета, развязали мешочек с песком, прочитали записку и тут же позвонили в контору лесничества, сообщили о том, где пожар. Мы вовремя успели принять меры. Родители многих ребятишек тогда мне шутя жаловались: — Придем в лес отдохнуть, захотим у костра посидеть — дети не дают. Говорят, что нельзя разжигать летом огонь. Но интереснее всего, конечно, почувствовать себя в лесу хозяином и работником. У нас в Верхней Курье было школьное лесничество. Закрепили за ним четыреста тридцать гектаров леса. Лесхоз выдал ребятам удостоверения Государственной лесной охраны, форму. В 1968 году члены школьного лесничества посадили пятьсот деревьев, прочистили пять гектаров леса, смастерили сто пятьдесят скворечников. На следующий год собрали больше ста килограммов сосновых шишек, расселили полсотни муравейников. А вы знаете, что такое муравейники? Это здоровый лес! Вот в Полесье, в Белоруссии, взяли под охрану все муравейники, и в нескольких районах удалось полностью отказаться от химических способов борьбы с вредителями леса. Каждая муравьиная семья может уничтожить за лето от трех до восьми миллионов вредных насекомых… Твердо знаю, что в любом лесхозе, обратись вы туда, таким помощникам, как вы, будут только рады. Может быть, кто-нибудь из вас найдет в этом свое призвание, свою будущую профессию? Ведь чем раньше определишь главное дело своей жизни, тем интереснее будет жить. Не легче, а именно интереснее. В любимой работе все принимаешь близко к сердцу, все тебе дорого, все тебя касается. Никаких сил, никакого времени не жалко, и всегда находишься в поиске, в беспокойстве.
Я лес полюбил с детства, но работать туда пришел не сразу. В 1915 году окончил сельскохозяйственное училище, стал агрономом, поступил на службу в Оханскую земскую управу. А сам скучал о лесе. И вот в 1925 году бросил все, перешел в лесничество. Зарплата вдвое меньше, хлопот втрое больше, зато на душе — вдесятеро легче: свое дело делаю. И было именно так, как я вам говорю: всегда хотелось делать его как можно лучше. Вспоминаю 1927 год. В зоне нашего лесничества идет заготовка леса. Как вывезти пятьдесят две тысячи кубометров? Зима, вывозить конной тягой по заснеженной дороге тысячи деревьев — дело очень долгое и трудное. Решил я построить дорогу не снежную, а ледяную. Изучил трассу, произвел съемку, нивелировку. Сделали мы два огромных дощатых бака, из трех прорубей пруда закачивали в них воду, ночами поливали этой водой нашу трассу в метр шириной. Сани соорудили тоже специальные, длинные, но узкие, по ширине дорожки. Грузили на них до десяти кубометров дров и по ледяной дорожке пускали эти сани. Работа была жаркой, веселой и закончилась быстро, и обошлась в два раза дешевле. В лесном хозяйстве есть два очень трудных дела: собирать шишки и извлекать из них семена. Как облегчить этот труд? До сих пор эти вопросы по-настоящему решенными считать нельзя. И я над ними много думал. Два года вечерами после работы возился у себя в бане, конструировал шишкосушилку, чтобы семена вышелушивать. Нужны были электромоторы, вольтметр, реле времени, редуктор, шкивы и еще-множество деталей и приборов. Все купил — истратил деньги, сбереженные на покупку коровы. Узнал о моей работе директор Пригородного лесхоза. Приехал, поглядел сам, велел лесничим показать. Собрались лесничии, посмеялись. — Зря, — говорят, — себя изводишь, ничего у тебя не вышло. Я тогда в бане косяки выставил, по частям погрузил шишкосушилку на телегу, привез в лесничество и провел испытания. Расчеты подтвердились. Лесничии, которые так дружно смеялись над моей машиной, теперь дружно признали ее ценность. Я получил авторское свидетельство, а от лесхоза — премию. Рассчитал и смастерил аппарат, который может без труда снимать шишки прямо с веток, да только с веток срубленного дерева. Проходи вдоль ствола — удовольствие, а не работа. Но ведь не станешь же лес рубить, чтобы шишки снимать на семена! Как добраться до верхушки растущего дерева? Приделать мачту к трактору? Потащит ли трактор мачту в двадцать — двадцать пять метров высотой? Да они вместе, трактор и такая мачта, лесу больше переломают-перемнут. Вот по воздуху бы такой аппарат запустить! А если и впрямь по воздуху? К вертолету бы подцепить — и… Взял книги о вертолетах, изучил, просидел над расчетами три ночи. Потом отправился на вертолетную площадку… И тут я хочу сказать вот что. Разные люди живут на свете, ребята. Одни очень тяжело отказываются от привычных идей и представлений. Вот уж и идеи эти устарели, но нет приказа от них отказаться, и самим перестраиваться желания тоже нет: ведь всякая ломка — это риск, это ответственность, которую надо на себя брать. Других волнуют не личные удобства, а интересы дела. За свои семьдесят лет я повстречал немало первых и очень много вторых. Первые часто смотрели на меня как на старого чудака, который фантазирует от нечего делать, старались отмахнуться. А вторые хотели понять, помочь, если надо. Я заговорил о тех и других, потому что вспомнил, как внимательно и серьезно слушал тогда меня, человека случайного и впрямь захожего чудака, командир вертолетчиков Николай Иванович Новиков, как повел на поле, стал вблизи показывать то, что я предположил лишь теоретически. Приспособления для сбора шишек и заготовки черенков со стоящих деревьев будут смонтированы на микровертолете. Но дело сейчас не в технических деталях и подробностях, а в том, что надо быть упорным, надо искать — и люди тебя поддержат. Я был настойчив в своих поисках, потому что думал о деле своей жизни — о лесе, и потому, что всегда ощущал чью-то дружескую поддержку. Порой это была помощь людей вовсе незнакомых. Узнав из газеты «Комсомольская правда» о моей работе, они присылали письма, советы и даже посылки с образцами материалов, которые могли бы мне пригодиться! Благодарю, спрашиваю, сколько должен за образцы, а учитель физики из Донецкой области Владимир Антонович Науменко в ответ: «Мне доставляет радость оказать вам услугу… Я помогаю вам ради дела, которое делается и для меня и для всех. Так что это еще надо посмотреть, кто кому должен платить». Вот так! Ну что тут скажешь? Только одно: — СПАСИБО, ЛЮДИ! …Я уже давно мечтал поговорить с вами, ребята, о самом дорогом для меня — о лесе. Вот и поговорил, наконец. А пока говорил, думал: «Что же главное в этом разговоре?» Что надо любить лес? Да, это. Что надо искать дело своей жизни в детстве? И тогда будешь счастлив? Да, и это! А может быть, как раз вот это: надо жить так, чтобы люди без труда находили, за что сказать тебе спасибо?..
Литературная запись А. Зебзеевой.
МЕДАЛЬ «ЗА ВЗЯТИЕ БУДАПЕШТА»
МЕДАЛЬ «ЗА ВЗЯТИЕ КЕНИГСБЕРГА»
Авенир Крашенинников КУСОЧЕК БЕЛОЙ ЭМАЛИ Очерк
Рис. С. Можаевой.Лысьва — Пермь
МЕДАЛЬ «ЗА ВЗЯТИЕ ВЕНЫ»
МЕДАЛЬ «ЗА ВЗЯТИЕ БЕРЛИНА»
А. Тумбасов В МУЗГАРКИНОМ КРАЮ Очерк
Рис. автора.«Ходит ветер по Студеной, наметает саженные сугробы снега, завывает в лесу, точно голодный волк. Избушка Елески совсем потонула в снегу. Торчит без малого одна труба, да вьется из нее синяя струйка дыму. Воет пурга уже две недели, две недели не выходит из своей избушки старик и все сидит над больной собакой…»Эти строки из рассказа «Зимовье на Студеной» Д. Н. Мамина-Сибиряка, как и весь рассказ, я услышал впервые на уроке чтения еще в начальной школе, и он запомнился мне на всю жизнь. Даже на войне, в землянке при свете коптилки, сделанной из снарядной гильзы, иногда вдруг возникали в памяти образ старого охотника и собака Музгарко. Уроженец южноуральского поселка золотоискателей, я все же ясно представлял себе тот суровый край, где даже речка называлась Студеной, а вокруг одинокого зимовья непроходимые болота и тайга, в которой жили медведи и волки, одолевавшие Елеску, и на десятки верст нет и намека на человеческое жилье. Я мечтал побывать там. Прошли годы, и вот жизненные обстоятельства привели меня в северное Прикамье в бассейн реки Колвы, где, как можно понять из рассказа, и стояло зимовье Елески-охотника. Город Чердынь стоит на высоком берегу, на холмах, с которых далеко видны леса за рекой Колвой, Полюдов Камень, а в ясную погоду в дальней дали — и очертания Уральских гор. Они то густо-синие, то размыты легкой дымкой в маревном дыхании земли. Этот небывалый пейзаж видел и Д. Н. Мамин-Сибиряк, когда в 1888 году приехал в Чердынь. Внизу река Колва. Она берет начало в северном Предуралье и, пробежав сотни верст по тайге, плавным разворотом подкатывает к Чердыни. На берегу ее в лесной деревушке Чалпан родился и жил Елеска. Но однажды в холерный год, рассказывает писатель, Елеска потерял всю семью и остался бобылем. А тут еще как-то его подмял на охоте медведь и крепко изуродовал. И когда Елеска поправился, то пошел в Чердынь искать место, либо какую работу. Богатые купцы предложили ему быть сторожем на зимовье.
«…Вся работа только зимой: встретить да проводить обозы, а там гуляй себе целый год. Харч мы тебе будем давать и одежду, и припас всякий для охоты — поблизости от зимовья промышлять можешь. Одним словом, не жисть тебе будет, а масленица», — обещали ему купцы.Зимовье, узнал Елеска, на Студеной. На волоке с Колвы на Печору, то есть там, где с одной реки в другую суденышки можно перетащить волоком по суше. Место гиблое, глухомань и болота.
«— Далеконько, ваше степенство… — замялся Елеска. — Во все стороны от зимовья верст на сто жилья нет, а летом туда и не пройдешь. — Уж это дело твое, выбирай из любых: дома голодать или на зимовье барином жить».Так и сказали с усмешкой — «барином жить». Куда, мол, тебе, бедняку, еще податься.
«Подумал Елеска и согласился, а купцы высылали ему и харч и одежду только один год. Потом Елеска должен был покупать все на деньги от своей охоты и рыбной ловли на зимовье. Так он и жил в лесу. Год шел за годом…»А купцы торговали, набивали мошну. В Чердыни стоят на берегу Колвы пузатые амбары, выстроившись в ряд, как пришельцы из прошлого века. Бойкая жизнь начиналась здесь по весне, когда в ожидании парохода купцы отпирали пудовые замки, распахивали двери, как черные пасти безоконных амбарищ, и выворачивали нутро кладовых наружу. А чердынский люд пестрой толпой высыпал на холмы встречать первый пароход. Он показывался снизу. Вначале долго был виден черный столб дыма, а потом уж и пароход, шлепающий плицами торопливых колес. Шипящий и сверкающий медью, точно разгоряченный конь в богатой сбруе, пароход приставал к берегу, басовито оповещая о прибытии. Заколвинские леса долго перекатывали зычное эхо первого гудка. Но Елеска в своем далеком зимовье не слышал его: между Чердынью и Студеной на сотни верст везде леса! Вот и флюгер над двором купца Алина, скупщика пушнины: из жести вырезан бегущий олень. В какую сторону ни бежит он, поворачиваясь по ветру, все — в тайгу. Но не к Елеске — к нему и эхо не долетает, а весной и летом вовсе забывали о нем. Лишь с наступлением зимы вспоминали о зимовье.
«Выпавший снег все мысли старика сводил на обоз, который приходил по первопутку, когда вставали реки. Людей он только и видел один раз в году».Отрадой и радостью в его жизни был лишь верный, понятливый и умный друг Музгарко. И на охоте не раз выручал, рискуя своей собачьей жизнью. И обоз вместе ждали они, вместе радовались его приходу.
«Музгарко отлично понимал каждое слово хозяина и при одном слове «обоз» смотрел вверх реки и радостно взвизгивал, точно хотел ответить, что вон, мол, откуда придет обоз-то, из-за мыса».Изменился край, Чердынь уже давно не купеческая, совсем другие люди живут. Лишь старый флюгер над бывшим алинским подворьем все еще указывает направление ветра, и нередко в северную сторону, значит на Печору, в верховья Колвы — туда, где было зимовье. Это от Чердыни верст сто пятьдесят — двести.
Зачердынские края — неохватное море тайги! Но надо ли считать версты и петлять по таежным дорогам, когда на картах уже давно пролегли прямые линии воздушных трасс. За каких-нибудь час-полтора мы перенеслись далеко в верховья Колвы. Проехав еще сколько-то на машине, я оказался вовсе близко к местам, где некогда стояло зимовье на Студеной. …У спуска к реке стоял обоз. Не старики, не бородатые мужики в тулупах, а женщины, ребята и девчонки — школьники суетились у подвод. На одних санях бочки с керосином, на другие укладывали продукты. Надя, кучер моей подводы, прикрепила почтовую сумку к головке саней и, сдерживая гнедуху, толклась коленями на мешках. Лошади, почуяв дорогу, не стояли на месте. — Может, не так ладно повезу — лошадь уросит, — стыдливо призналась Надя, натягивая вожжи. И тут же поинтересовалась: — Далеко ли едете? — Да слышали мы, где-то здесь раньше зимовье на Студеной было. Стариков-охотников хотим порасспросить… Может, расскажут — где? А Надя, откинувшись назад, изо всех сил натягивала вожжи — подводы съезжали к реке. Спуск был крутой, лошади плохо слушались, пока не съехали и мало-помалу не разобрались друг за дружкой. Впереди пошла ретивая лошадка, задавая тон всему обозу. Кони хрупко уминали снег копытами, и сани катились по заснеженной вровень с берегами Колве. Дорога, повторяя плавные изгибы реки, едва обозначалась на равнинно-белой, убаюканной метелями реке. Островерхие черные ели и пихты стояли по сторонам на страже тишины и покоя. — Значит, на Студеную? — уточнила Надя, усаживаясь поудобнее в санях. — Да вроде такой речки вовсе нет, она только в рассказе про Музгарку. — Почему же нет? Ведь то, что в рассказе написано про Колву, про Чердынь, — все правда, значит, и Студеная должна быть. — В такую-то даль ехать, речку какую-то искать… Может, и зимовье-то сгнило, — сочувственно отозвалась Надя. Я и сам не очень уверен в том, что найду Студеную и что зимовье там не сгнило за три четверти века… Но ведь все так же текут в Колву студеные северные речки, все так же шумит на их берегах вечнозеленая тайга. Начиная от Черепаново вверх по Колве ни на чем другом, как на лошадях, не проедешь в зимнее время. Летом еще можно по реке на «моторе». Но Колва, петляя, наматывает километров сто, а «горой», как называют здесь санный путь берегом, вдвое короче. — О-о! Эстреб! — небрежно погоняет коня Ястреба кучер. С Колвы дорога пошла в гору. Ястреб, выгнув спину и тяжело вздувая бока и напружинивая мышцы, кое-как тащил сани, проминая снег. Мы пешком поспевали за ними. Тяжелый подъем в гору возместился потом пологим длинным спуском. Хотя дорога была запорошена, однако сани легче скользили с горы и порой подталкивали коня. Он, вскидывая голову, мчал нас сквозь занесенную снегом тайгу. И только кое-где, прижимаясь к стволам-великанам, стояли незаснеженные кедрики. Деревня Сусай открылась враз, как только кончился лес и мы выехали на реку. Домишки в Сусае выстроены без особого плана на берегу Колвы, будто рассыпаны из большой пригоршни. Вечер выдался холодный. Выяснило. Молодой месяц словно звенел на светлом и тоже звонком небе, нацеливая острый конец в первую звезду. Огромный светящийся небосвод, серебряный месяц и яркая звезда — как предзнаменование белых ночей. Они зарождаются на севере Прикамья, а отсвет их, отраженный куполом высокого неба, распространяется далеко на юг, захватывая и Пермь. Словом, эти светлые вечера — как пролог весны света, когда незаметно расковываются снега и начинается великое пробуждение природы. За весной света наступит второй, наиболее бурный период — весна воды. А пока все ручейки и реки таятся под сугробами. Март в верховьях Колвы — зимний месяц. Навстречу нам, будто катились два розовых пряника, бежали голышами по снегу парнишки. Они были в таком счастливом возрасте, когда стыдиться некого, а простуды не боялись. Пробежав амбар, малыши-голыши скрылись в бане, курившей во все пазы и щели жаром. — Пацаны десятника Егора, — сказал Николай, — у него надо спросить лошадь до Талово. Рано утром десятник шествовал по тропинкам, соединяющим дворы Сусая, наряжать ямщика. А конюх, Дорофея Анисимовна, расторопная и проворная женщина, уже запрягла сильного коня по кличке Греня. Наконец, как в старину, объявили: — Лошадь подана, ямщик отряжен! Но ямщик — не борода да рукавицы, а вчерашняя школьница Галя. Она сдерживала нетерпеливо настроенного коня вожжами. И когда чуть поослабила их, конь, уже почуяв седоков в розвальнях, так рванул с места, что едва не свернул прясла. Мы ехали словно в траншее, рыхлый снег нависал с обеих сторон выше розвальней и нагребался в них. Казалось бы, зимний заснеженный лес — однообразная и скучная картина. А в самом деле это бесконечно длинная и неповторимая сказка. По тайге словно разбрелись белые медведи, разбежались соболя, чудища какие-то повсюду, на каждой выщерблине, в складке коры, на черных родинках белых берез, на сучьях и голых ветвях — комьями и комками снег. А на согбенных березах, перекинувшихся над дорогой, столько напластовано снега — будто полотнища, на которых можно было бы написать: «Добро пожаловать! Въезжайте в сказку!» Начался удивительный, все завораживающий и усыпляющий снегопад. Лес отступил, и мы не увидели с таловских полей Тулымский Камень, одно из звеньев в цепи Уральских гор. Скоро въехали в деревню, также убаюканную снегами. Внизу не замерзающий даже в лютые морозы ручей, либо речонка, впадающая в Колву и давшая название деревне — Талово. Буран начался такой, что ни тропинок, ни дороги не видно. Кони лишь чутьем, памятью ли своей находят старую колею. За одной подводой пройдет вторая, третья и промнут дорогу. Нет, не западет и не заглохнет путь в самую отдаленную деревню — Дий! На перекладных пробирались мы в Дий и обратно. С разными ямщиками, так называют здесь кучера или возницу, встречались в дороге. Забытое слово «ямщик» словно всплывает из старины и бытует на верхней Колве наравне с современными. Здесь не только мужчины, но и женщины, и ребята проворны. Если запрягают коня, любо посмотреть, как затягивают, увертывают сыромятную упряжь, набадривают чересседельником дугу, похлопывают коня, поправляют шлею… Самый северный сельсовет Чердынского района — Черепаново. Деревня стоит на крутом, очень высоком берегу, и Колва видна из окошек далеко! Леса по склонам гор, теснящих Колву, словно в акварельных отмывах уходят в забураненную даль. — Рыба под окном, охота рядом, — рассказывает Николай Венедиктович Мисюрев. — Раньше-то вовсе рябчика много было. Теперь вот, чит был на березник, наклюется рябчик и пропадет, или яйцы по весне в гнездах вымерзают — не стало рябчика. Белку собака брала на поеде, глухаря оказывала… На охотничьем языке рассказывает Мисюрев о промысле зверя и птицы. Километрах в двадцати у него избушка в тайге и на расчищенном голом месте чамья — амбарчик на столбах для хранения продуктов и шкурок от пакостного зверя. В обыденном наречии охотников нет слова «убил», они говорят: добыл куницу, белку, рябчиков столько-то пар.
 Самостоятельно охотиться Мисюрев стал с пятнадцати лет, а с отцом помаленьку втягивался с десяти.
— Под Урал и за Урал ходили месяца на полтора, два. Четырех медведей заваливали, — рассказывает охотник, разглаживая бороду.
— Вы не знаете речку Студеную? — спросил я у охотника.
— С Якши на Чусовское озеро была Студенка, и перевозка стояла… А Студеную не слыхал.
Да, Студеной, возможно, и нет вовсе. Но было зимовье, и много было в Чердынском краю охотников с такой же судьбой, как у Елески.
Самостоятельно охотиться Мисюрев стал с пятнадцати лет, а с отцом помаленьку втягивался с десяти.
— Под Урал и за Урал ходили месяца на полтора, два. Четырех медведей заваливали, — рассказывает охотник, разглаживая бороду.
— Вы не знаете речку Студеную? — спросил я у охотника.
— С Якши на Чусовское озеро была Студенка, и перевозка стояла… А Студеную не слыхал.
Да, Студеной, возможно, и нет вовсе. Но было зимовье, и много было в Чердынском краю охотников с такой же судьбой, как у Елески.
«Отец промышлял охотой, и Елеска с ним еще мальчиком прошел всю Колву. Били они и рябчика, и белку, и куницу, и оленя, и медведя — что попадет. Из дому уходили недели на две, на три».Точно такое же рассказывали все охотники-старики, только с душевной жалобой на то, что птицы и зверя стало меньше. Даже в зимнем лесу отпечатки следов, какие могут оставить постоянные обитатели, почти не встречаются. Только однажды свежий и крупный след волка пересек нам дорогу в Дий. Гаврило Максимович, один из первых поселенцев Дия, рассказывает, как основалась деревня: — Приехал отец, дядя, племянники — Данила и Федор. У Федора пришли со службы сыновья Наум и Иван, тоже построились, и стало шесть дворов — пошел род Собяниных. Охотиться Гаврило Максимович начал с двенадцати лет и первый раз убил 50 пар рябчиков. Ружье было курковое, заряжалось с дула. Припасы и ружья доставали через купцов в Чердыни. За пушниной в Дий приезжал приказчик Шувалов. Белок, куниц, соболя увозил с собой, а рябков кто-нибудь доставлял в Чердынь. Получали муку, соль, крупу, товар…
 Интересно было узнать, не пользовались ли охотники приметами либо заговорами какими.
— Заговоров и примет не знал. Старанием да терпением добывал зверя и птицу, — тихим старческим голосом говорит Гаврило Максимович.
Я стал расспрашивать о покосах и лугах, названия которых показались мне интересными: Полатна, Троедыра, Девятильник, Мекитина Кулига, Выдерев исток, Крутое, Свизюхин мыс, Заячья пожинка, Егоркова пожня…
Память у деда, как и голубые глаза, была светлая. Назвал он и притоки Колвы. Вниз по течению: Меговая, Ямжач, Визья, Няризь, Буршер… Вверху — Сурья, Кысурья, Костина речка, Максина речка, Уйваш.
Опять упомянулась Сурья! А не слышал ли он о Студеной?
— Ключики-роднички называют Студенкой — знаю, а про Студеную речку не слыхал…
Может быть, предположил я, речка Студеная со временем пересохла и остались от нее светлые, холодные ключики и роднички!
Интересно было узнать, не пользовались ли охотники приметами либо заговорами какими.
— Заговоров и примет не знал. Старанием да терпением добывал зверя и птицу, — тихим старческим голосом говорит Гаврило Максимович.
Я стал расспрашивать о покосах и лугах, названия которых показались мне интересными: Полатна, Троедыра, Девятильник, Мекитина Кулига, Выдерев исток, Крутое, Свизюхин мыс, Заячья пожинка, Егоркова пожня…
Память у деда, как и голубые глаза, была светлая. Назвал он и притоки Колвы. Вниз по течению: Меговая, Ямжач, Визья, Няризь, Буршер… Вверху — Сурья, Кысурья, Костина речка, Максина речка, Уйваш.
Опять упомянулась Сурья! А не слышал ли он о Студеной?
— Ключики-роднички называют Студенкой — знаю, а про Студеную речку не слыхал…
Может быть, предположил я, речка Студеная со временем пересохла и остались от нее светлые, холодные ключики и роднички!
«Обоз пришел совершенно неожиданно. Старика больше всего поразило то, что Музгарко прокараулил дорогих, жданных гостей. Обыкновенно он чуял их, когда обоз еще был версты за две, а нынче не слыхал. Он даже не выскочил на улицу, чтобы полаять на лошадей, а стыдливо спрятался под хозяйскую лавку и не подал голоса. — Музгарко, да ты в уме ли? — удивился старик. — Проспал обоз… Ах, нехорошо! Собака выползла из-под лавки, лизнула его в руку и опять скрылась: она сама чувствовала себя виноватой…»Музгарко заболел, и с этих строк в рассказе начинают развертываться печальные события. А собаки здешние, действительно, в одиночку или стаей всегда встречают незнакомца, облаивают лошадей. Собаки-лайки, которых так много во всех деревнях, заинтересовали меня, как некие предки по Музгаркиной ветви. Не сохранилась ли память о нем, хотя бы в кличках? Но теперь собак кличут вполне по-современному: Космос, Спутник, Уралко. И просто: Ветерок, Тайга, Малина, Охотник, Думка, Куфар, Кушма… Лишь в деревне Нюзим есть Музгар!
На Колве провожали русскую зиму. Весело, хмельно и празднично было в избах. От души провожали зиму-матушку. Всякий заезжий — гость, а гостя сажают в передний угол, оклеенный репродукциями из «Огонька», обложками журнала «Работница», картинками из журналов мод и всякими другими. Стол у Праксии Григорьевны накрыт новой клеенкой, пахнущей то ли особым клеем, то ли краской. На нее она расстилает клетчатую домотканую скатерть из покупных ниток и ставит угощение, а когда водружает на средину большую чашку, объявляет во всеуслышанье: — Морошка! Морошка! Мне никогда не приходилось пробовать морошки. Смородина и малина самая доступная ягода. Клюкву и бруснику потеснило Камское водохранилище, а до морошки я еще не добирался и смотрел на чашку с золотисто-желтым, неизвестным по вкусу хлебовом в нетерпении. — Угощайтесь морошкой! И со всех сторон потянулись руки. Большинство не из желания, а из уважения к хозяевам отведали и положили ложки. Мне, как гостю, досталось сполна! Об этой болотной вкусной ягоде рассказывают здесь, как о рассыпанном по земле кладе. — Сколько у нас морошки — ступить некуда… А вы бы видели, как она цветет… Про Студеную я больше не спрашиваю. Смотрю вокруг и рисую зимовье колвинских деревень.
МЕДАЛЬ «ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ ПРАГИ»
О. Селянкин.














































Последние комментарии
17 часов 4 минут назад
1 день 5 часов назад
1 день 6 часов назад
1 день 17 часов назад
2 дней 11 часов назад
3 дней 45 минут назад