Дождь над городом [Валерий Дмитриевич Поволяев] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
Валерий Поволяев ДОЖДЬ НАД ГОРОДОМ Рассказы и повесть


Рассказы

КОЕ-ЧТО О КОМАНДЕ «ПЛАВАЮЩЕЙ СКОВОРОДКИ»
1
Бухта была неровной, с рваными обкусами берега, на котором гнездилась крупная, хорошо обкатанная галька, справа в воду отвесно и несколько настороженно, словно сомневаясь в правильности поступка, падала скала, и ее надо было огибать вплавь, потому что под скалой было «с ручками», слева же дно мельчало, и ломкий, со стесанной макушкой мыс можно было обойти по воде, завернув вещи в полиэтиленовую пленку, чтоб не замочить. Вода в бухте была божественной, чистой, как... «как слеза?» — нет, это не то сравнение, слезы часто бывают мутными, подкрашенными — и все из-за обмазки, которой нынешние девчонки повадились штукатурить глаза, — она была чистой, как речной лед, как скол хрусталя, сам излом, как оптическая линза, сквозь воду были видны все камни, все вымоины на дне, хотя до дна этого толщь была ой-ой какая — не донырнуть! В чистой глуби нежились, распустив зонты, медузы, шныряли туда-сюда вороватые темноспинные бычки, посверкивали любопытными выпуклыми глазами, причем тут были бычки самых разных пород — и кнуты, и ротаны, и рыжики, и песочники, и кругляки, и поматосхистусы, стайками клубилась хамса и феринка, иногда с глупым, намертво припечатанным удивленным выражением проплывали луфари, а за ними стрелами проносились длинноносые и жутковатые, с гвоздями зубов, теснящимися в пасти, сарганы, степенно передвигались привычные ко всему лобаны и окуни. Иногда встречались рыбины и неприятные — плоскобрюхие, похожие на ресторанные подносы морские коты, за которыми веревками волочились хвосты — самые опасные предметы туалета, поскольку в каждой веревке спрятан костяной шип, способный располосовать ногу от пятки до бедра; еще попадались (и немало) морские скорпионы, или, как их здесь называют, дракончики, чей удар вызывает ожог, паралич, а иногда и смерть. Сквозь воду было видно, как по камням ползают крабы, клешнястые, зеленовато-красные, с тинкой вокруг глаз и лапок, собирают разный донный сор, шевелят челюстями, пережевывая добытое. Словом, бухта была для охоты «перший сорт», словно специально сотворена, что надо бухточка, о такой на своей холодной реке Лене ребята только могли мечтать. К вечеру море наливалось тяжестью, вязкой густотой, синью, крабы выбирались на гальку и цокали по ней лапками, будто крохотные лошади копытцами, подбирали, что осталось от туристов; из глуби приплывали вкусные усатые креветки, которых ловили нейлоновой авоськой — тбилисское производство, по три с полтиной штука, с рук, — варили в новеньком, не успевшем еще как следует прокоптиться котелке, долго смаковали, обсасывали со всех сторон, перетирали зубами кожуру, хрящики и косточки, вспоминали холодное пиво, которое пили проездом в Москве, в дымном баре, расположенном около вокзала; вспоминали, что в этом заведенье было также полно креветок, только не таких мокасголек, каких море давало им, а совсем других, непохожих на шмакодявок — белотелых, мясистых, в пол-ладони величиной. Где-то далеко, на той линии, где кончалось море и начиналось небо, плыли белые, сплошь в светляках — вся палуба украшена огнями, вот света и много — корабли, а над ними медленно раскачивались крупные, как тарелки, звезды — не какие-нибудь подслеповатые сколы, вымороженные бешеной сибирской студью, которые разве что в микроскоп рассматривать, а именно величиной с обеденное блюдо, с переливами, игривые — то погаснет совсем, то вдруг заблистает таким яростным сверканьем, что... — в общем, непривычными были после серого скудного ленского неба нарядные южные звезды, да еще такие игривые, будто шампанского хватили. Звезды перемигивались, кокетничали с корабельными светляками, и, поддерживая игру, иногда какой-нибудь корабль давал гудок, и тогда Леня Мазин отрывал от надувной подушки голову и лениво констатировал: — «Орджоникидзе», в Батуми пошел. Повез людей и говяжью тушенку. Или: — Итальянец. Проходом чешет. В Ялте стоял. Заправился пенькой, станками завода «Красный пролетарий», медом, куриными яйцами, велосипедами, досками, спичками, соломенными шляпами и водкой «Экстра», и промежду прочим... Спешит скорее уйти в Средиземное море, вот только круг зачем-то делает. Угадывал он без ошибок. Леня был местным, родился в Коктебеле и долго жил тут, потом завербовался в Сибирь, на стройку, на ленские баржи, и теперь приезжал на родину только в гости. Не домой, а в гости. Скулить по этому поводу он не скулил, не переживал, не хлестал себя кулаками в грудь, хотя Коктебель любил больше, чем облысевшие ленские берега да речные обмыски, на которых до лета не истаивал снег. Тут, на море, и вода была ласковее и теплей, и жизнь била ключом, и людей интересных столько, что ими хоть пруд пруди: ведь каждый норовит прогреть свои кости на горячем черноморском песке, а деньги... деньги в Крыму можно заработать не меньшие, чем в мерзлоте, шлепая туда-сюда по волнам-перекатам, отстукивая движком километры, размызгивая тупым носом «плавающей сковородки», а конкретнее — их катерка-буксира (кто дал это прозвище, уже никто и не помнит), шугу — месиво из обмылков льда, торя дорогу тяжелобрюхим баржам, везущим добро для золотых приисков, для бамовских комсомольцев-строителей. Часто в лютую январскую студь, без сна ворочаясь в брусовой одноэтажке, Мазин грезил коктебельскими размывами, долами, мысами, грудами гор, небрежно рассыпанными по земле, земляной скалой Топрах-Кая, которую коктебельцы прозвали Хамелеоном, потому что эта бескостная тяжесть каждую секунду меняла свой цвет — она становилась то черной, то слепяще оранжевой, словно слепленная из мандариновой мякоти, то иссиза-свинцовой, то совсем прозрачной и светлой, ровно ледышка; сердитым, в обрывках туч, Кара-Дагом, горой Узун-Сырт, помнящей лучших планеристов страны, стекольно-чистыми бухтами — Львиной, Пуццолановой, Гравийной, бухтой Барахтой, и тогда ему хотелось впиться зубами в подушку, заскулить в щенячьей тоске, закусить губы. К утру тоска проходила и он как ни в чем не бывало вылезал на сорокаградусный мороз, рысью топал в порт, на ленский берег, в мастерские, где они штопали-перештопывали свою «плавающую сковородку» — речной утюг, до некоторых пор не имевший даже названия, а всего-навсего порядковый номер и лишь недавно получивший рыбье, а вернее — креветковое имя «Чилим». Чилимами зовут дальневосточных креветок. Оттаивал Леня Мазин лишь во время отпуска, когда он возвращался в Крым, в коктебельский рай. ...Он поднялся с надувного матраса, сухо, как-то нафталинно, заскрипевшего под его телом, нашарил в кармане штанов часы, встряхнул их, потом поднес к глазам. — Мамочки, девять часов! Пора за ужин браться. Ужин у них намечался диковинный, не для сибирского желудка. Дело в том, что в бухте, как раз посреди зеркала, проросли из донной почвы два камня, вода их накрыла на чуть-чуть, буквально на полметра, замаскировала от худого глаза, но упрятать совсем не смогла. Камни эти за долгую свою жизнь изрядно проросли бородачом и кишечницей, щекотным взморником, с каждым проходом волн волосья дружным махом взметывались наверх, испускали пузыри, бормотали что-то, дивясь солнцу, взбуркивали хрипло, когда макушка с облипшей прической вдруг вылезала из-под глубокой волны на свет божий. При обследовании оказалось, что камни эти обросли не только водорослями: прямо под шапкой, в густых ласковых кореньях — и нырять-то совсем не надо — в мшистой жижке прочно обосновались съедобные ракушки мидии, целая колония. Пыхтя и отплевываясь соленой водой, набрали на ужин с полведра мидий, крепких, бокастых, тяжелых, что камни, в густой жесткой щетке, обметавшей замки скорлупин, — все пальцы изрезали, но все-таки добыли. А пальцы изрезать было немудрено: мидии припаяны к камням плотно и крепко, хватка у них мертвая — только зубилом скалывать. — Давай, Ленечка, начинай стряпню, — лениво шевельнулась Варвара, посмотрела снизу вверх на Мазина. И здоров же был парень Ленька — грудная клетка сплошь в витых нашлепинах, в обмотке жил, живот пробросом в позвоночник уходит, облепляет костяшки позвонкового столба, кожа лоснится чем-то сизоватым от быстрого загара, но, когда солнышко пропечет основательно, сизина эта исчезнет, волосы небрежно на лоб брошены, с бровями склеены, а под бровями — два омутца с чертями в глуби, холод из них выплескивается, да еще некая мужская непокорность, неколебимость забивает все другие выражения. — Варь, стряпня — это ж бабье дело, — сказал Мазин. — Знаю, Ленечка, но ты ведь у нас добрый. — Добрый, — согласился Леня и принялся чиркать спичками, совать их под сложенные горбиком дровешки, костер палить. Удалось ему это раза только с пятого. Закурился бледный синюшный дымок, скручиваясь в шпагат в воздухе, побрел неохотно ввысь, к макушке отвальной скалы, с которой на берег бухточки была специально проброшена альпинистская веревка — а может, и не специально, может, просто забыта. На рогульку навесил котелок с морской водицей: мидии ведь должны в своей родной стихии вариться, как рыба в воде речной, как раки, от этого и вкус особый бывает, и аромат. — А самое лучшее, говорят, мидии без всякой воды на противень класть. Железо раскалится, мидии раскроются, сок из них вытечет, мясцо обсохнет, обвянет — есть его потом, что шоколад, так же вкусно. — Вот бы и приготовила шоколад на всех. — Это я к слову. — Ладно, Варь, будем считать, что ты должница, с тебя фантик... — За каждый фантик по поцелую, да? — Это мы особо обговорим. — Не сердись, Ленечка... Ну, приготовь мидий... Ну, пожалуйста! Ладно? — Пусть вода вначале вскипит, — Мазин распрямился, подошел к аккуратно, будто в магазине, сложенной рубашке, на которой поверху лежала тяжелая брикетина транзистора, щелкнул колесиком, вызывая бесовский агрегат к жизни. Раздался далекий, припорошенный сухим, похожим на рвущуюся материю, треск, сквозь него, как вода сквозь промокашку, просочился хрипатый, оглушенный собственным буйством взвизг саксофона, замер, вдруг чего-то испугавшись, с шипом пробрался в воздух, снова замер — во второй раз его сбил с панталыку барабанный бряк, фельдфебельский стук палочек, утяжеленных кругляшами-набалдашниками, гуд тугого кожаного бока, а потом все это опять поглотил вязкий прелый звук — видно, наступила пауза между двумя мелодиями. И верно, пауза. Когда материя порвалась, то сквозь нее потекло нечто новое — мелодия тягучая, ну ровно смола, прилепи к скальному стесу — назад ножом соскребать придется... Но потом звук прочистился, посвежел, начал пружинить, вот уже и стекло в нем прорезалось, и серебряная россыпь забрякала. Море утихомирилось вовсе, и только волны со слабым, чуть слышимым шорохом копошились в береговой пене, звезды опустились ниже и теперь внимательно разглядывали крохотный, высвеченный костерными языками пятачок, не обращая внимания ни на большие корабли, гирляндой нанизанные на ниточку горизонта, ни на города, до которых также доставал их взгляд. Мазин поднялся и, вяло раздвигая воздух руками, пошел к Варваре — приглашать на танец. — Стамбул, — произнес он, — это радио Стамбула нас развлекает. Они медленно давили ногами гальку, и по Ленькиной физиономии было видно, что ему очень хочется в Стамбул, хочется в затемненный кабачок, где в эту минуту тоже, наверное, танцуют люди, тесно прижимаясь друг к другу, разные богатые люди хлещут шампанское из ведра, закусывают ананасами и вытирают салфетками сахарные зубы. Варваре же не улыбался Стамбул, поэтому она танцевала нехотя, иронически похлопывая себя ладонью по джинсам, по тому месту, где была пришита кожаная квадратина с облохмаченными краями и стертой надписью, уже совсем коричневой от износа и ветхости. Но тут в котелке приподнялась и, неохотно перевалившись через край, нырнула в сизый, больно стрельнувший дым вода, раздалось острое и злое гусиное шипенье. Мазин подскочил к костру, оставив Варвару танцевать одну, отчего на ее чуть ленивом и малоподвижном лице появилось капризное выражение — как же так, как же? за что обидели? — Мазин быстро пошвырял мидии в котелок, разом осадив кипятковый надолб, помахал рукой, отгоняя в сторону чад. — Вот, мамочки, чуть варево в Турцию не уплыло. Еще чуть-чуть, и пришлось бы нам махать платочками... А потом, если бы кипяток залил костер, то едкий, хуже кислоты, дым затопил бы крохотную береговую полоску и все вокруг — и люди, и креветки, и гладконогие крабики-травянки, и вся рыбья челядь — все бы кругом забилось в кашле, но вот, слава богу, обошлось. — Варись-варварись, мидия! И большая и маленькая. Так Варвара? — бормотнул Мазин, цыкнул на костер, вернулся к своей даме, вяло поскрипывающей ногами по гальке. — Вперед, голубушка! — скомандовал он. — Продолжим наши танцы-шманцы. — Музыки же нет, — Варвара приподняла плечи. — А мы и без музыки гусары, — сказал Мазин. — Вперед! К костру придвинулся Юрка Лящук, Юрась, которого до сих пор вроде бы и не существовало — он лежал в притеми скалы, подстелив под себя штормовку, молча глядел в костер, на беготню пламени, на прыганье колких хвостов, думал о чем-то своем, глубоком, очень глубоком — почти потустороннем — это чувствовалось по отрешенности, по безвольной мягкости губ, изломистым складкам, выползшим из-под крыльев носа, по угловатым, буграми собравшимся надбровьям. Был он неказист, Юрась Лящук, немного жалок и несерьезен в своей физической легкости, отсутствовала в нем обезоруживающая мужская мощь, степенность — какой-то худой, тонконогий; подросток, и только, в свои двадцать восемь лет. Его даже звали как-то по-детски: Юрась, Юрасик... Он взял металлический прут, шевельнул им костер, выгребая угли из-под днища котелка, чтоб варево опять не вспухло, не выплеснулось на огонь... Все в мире определяется по каким-то сопоставлениям, по сравнению одного с другим, по действительной игре вещей, по глупости, по воле родовой линии, по тому, как бог сотворил когда-то Адама, а потом из его ребра сделал женщину. Какие-то нетрезвые в своей непонятности мысли вертелись в лящуковой голове, он морщился, тер пальцами голый блесткий лоб, самые корешки коротких, уползающих на затылок волос, опять морщился — многое было непонятно ему... А впрочем, что же тут непонятного? Все ясно как божий день... Он страдал из-за этого самого... будь оно неладно... из-за ребра. Из-за Варвары, словом. Во внешности он здорово проигрывал Мазину и мучительно, до холодных, покрывающих кожу ожогами слез переживал, страдал, комплексовал, запинался и потел, если речь заходила о Варваре, — в общем, вел себя, как всякий влюбленный человек, неразумно, скомканно, трудно, вызывая жалость. Из котелка шибануло вкусным запашистым варевом, сложной замесью, какая бывает, когда на стол выставляют чугун хорошо приготовленных раков, и от одного только этого аромата во рту собирается горьковатая липкая слюна. — Эгей, танцоры, — позвал Лящук, — готов ужин-то. — Спасибо, Юрасик, — кивком поблагодарил Мазин. — Не забудь это сообщение в ТАСС передать, пусть по всем газетам распространят. А теперь выуди мидий и засыпь в кипяток креветок. Лады? В авоське усатые, почти полна коробочка... Креветок готовить — не то что мидий, мороки тут не так уж много. Лящук с грустным, а вернее, с притихшим, даже пришибленным видом выгреб из авоськи живых, устало шевелящих усами креветок и, выдавив из себя жалобную, мученическую улыбку, коротким броском зашвырнул их в котелок. Костерные языки лизали новенькое, незакопченное дно котелка, бросали на берег бронзовые отсветы, делали воду глубокой, какой-то смуглой, похожей на кожу незнакомого животного, и таилось в этом что-то диковинное, тревожное, неутоленное, что-то библейское даже, если хотите. — Эй, танцоры, к столу пора! — выкрикнул, глядя в сторону, в изрезанную морщинами боковину горы, Лящук. — Спасибо, Юрасик, — дразнящим, тонким от натуги и Варвариной близости голосом проговорил Мазин, остановился и, не выпуская Варварину талию из руки, поклонился ей. — А Кита мы будем дожидаться? Иль без их превосходительства к ужину приступим? — Вон Кит твой, не пропал, — бросил от костра Лящук. Из-за скалы, утопшей в воде, выдвинулась ветхая, неясная в своих очертаниях лодка, послышался визгливый, полуистошный бормот уключин, обрываемый гулким шлепаньем весел по гладкой и тугой, словно резина, воде. Шлеп-шлеп, шлеп-шлеп, шлепов сорок, наверное, потребовалось, прежде чем лодка уткнулась своим взопревшим, размокшим, как картон, носом в береговой стес. — Здорово, орлы! — пробасил Кит, выбрался из лодки, могучий, плечи литого металла — они словно специальное приспособление, на таких мешки только таскать, нечесаный и кудлатый, стрельнул крохотными, ну ровно бирюзовые капелюшки, что из сережек вынуты, глазками в костер, подтянул лодку за обрывок веревки. Мазин со всей своей мужской статью и красой был щенком в сравнении с Китом. — В самый аккурат ты поспел, Кит, — сказал Мазни. — Не опоздал. Кит промолчал — особо разговорчивым он никогда не считался. — Прошу к столу, господа гусары! — скомандовала Варвара. — Шпаги, кремневые пистолеты, кинжалы, стилеты, прочее железо оставьте у входа... — Слушаюсь, господин фельдмаршал, — пришлепнул ладонь ко лбу Мазин, первый скакнул к костру, сел, скрестил ноги на восточный лад. Мидии получились в самую пору — обвядшие, как и хотела Варвара, но не совсем, не сухие, не то что рыба барабулька, которую под пиво продают на коктебельском базаре, а сохранили сок, вкус, влагу, зубы с лопающим звуком погружались в желтовато-рыжую мякоть, и нёбо обметывало приятным вязким теплом — мясо было похоже на крабье, но только нежнее, чище, без волокнистых остьев, в меру солоноватое (это уж от морской воды). Есть их надо так: скусив юбчонку у ракушки и посмаковав ее, съедаешь эту самую одежку, потом вытряхиваешь брюшцо из выемки — это несъедобно, а вот под брюшцом к боковине раковины припластован толстый мясистый корень, главный мускул мидии; этот сладкий ошметок — самое настоящее объедение... — Говорят, в мидиях жемчуг водится, — почти совсем закрыв глаза, простонала Варвара, высосала жижку из распаренного мускула. — Бывает, только зубы от этого жемчуга надо сберегать. Если попадется жемчуг — кусалки обколоть можно, — отозвался Мазин. — Хочу бусы из жемчуга. — Мамочки! Он у здешних мидий некрасивый — черный, либо коричневый. — Все равно хочу. — Ишь ты, — Мазин с интересом, будто впервые видел, оглядел Варвару, проговорил тихо, почти про себя, — может быть, из этой просьбы что-нибудь и получится... В этот вечер они много болтали, много дурачились — в основном Мазин и Варвара, Лящук же сохранял болезненное и скучное выражение на лице, Кит постреливал огоньками-бирюзинками по сторонам, улыбался чему-то отрешенно. Ужин подходил к концу. Итак, на первое у них ничего не было, на второе — мидии, на третье — креветки, на четвертое — «белая роза». «Белая роза» — это чай без заварки и без сахара. Когда кто-нибудь из них выуживал из котелка очередную грудастую креветку, пробовал на зуб, то физиономия становилась довольной и счастливой. Лящук все-таки на несколько минут позабыл про Варвару, он, обсасывая креветки, мучительно вспоминал, как надо правильно есть раков (что креветки, что раки — ведь суть-то у них одна, и то вкусно, и это вкусно, у тех хвост из мяса состоит, и у этих, у тех усы длинные, и у этих тоже не короткие — словом, креветки и раки — это одно и то же): вначале шейку надо есть или же вначале клешни, а? Что? Однажды, в то еще время, когда Лящук пробовал пробить дорогу в столичный институт, один знакомый газетчик взял его в пивной бар Дома журналистов. Они два битых часа сидели за черным столиком, сдували пену с пива и грызли раков. А потом их сосед, интеллигентный мужчина с изрядно покрасневшим от выпитого лицом, рассказал, как надо правильно есть раков. Оказывается, существует целый ритуал. Рака надо разломить пополам, выудить из нутра белые и тонкие макаронины-кишочки, съесть их, потом очистить клешни, сжевать и их, запивая соусом из того же панциря, и только потом приступить к шейке, смакуя ее, перекатывая языком от десны к десне, упиваясь, испытывая удовольствие. В институт Лящук так и не поступил. Вполне возможно, что из-за того же пива. Ну да не об этом речь.
2
Теперь несколько слов о том, что это за ребята. Я впервые встретил их не в Коктебеле, нет — далеко от этого райского южного места, от синих скал, от бухты, где развернулись события (даже не знаю, что это за бухта была. Львиная? Нет, не Львиная... Но кто знаком с коктебельскими окрестностями, должен знать эту бухту), — словом, далеко от фиолетовой, прозрачной, как хорошо обработанный дорогой камень, водной выемки, врезанной в скалы, — встретил на Лене, в небольшом, до недавнего прошлого совсем никому не ведомом городке Усть-Куте (сейчас же Усть-Кут знаком каждому из нас, он часто встречается в газетных сообщениях: ведь с Усть-Кута начинается знаменитый БАМ, это первая железнодорожная станция трассы). День тогда был летний, белесый, Лена обмелела, она всегда сильно мелеет в жару; откуда-то сверху, из раздола реки, притащился чумазый буксирчик, приволок на хвосте огромную, груженную шпалами баржу. Шпалы истекали черной смолистой жижкой, пахло от них больницей, карболкой, еще чем-то острым. И пока шла разгрузка баржи, я познакомился со всеми пятью, кто работал на буксирчике. С поварихой Варварой, механиком Лящуком, матросами Китом и Мазиным, шкипером Сазонычем (он пока еще не приехал в Коктебель) — человеком очень молодым (хотя прозванье «Сазоныч» — это все-таки больше к старику подходит, но, видимо, так уж было заведено — старшего уважительно величали по имени-отчеству либо просто по отчеству), веселого норова, гитаристом и песенником, любителем розыгрыша и шутки. Команда показалась мне дружной, занятной, свой буксирчик она называла «плавающей сковородкой», была предана этому судну, как только вообще бывает предан человек неживому существу, механизму, железке... Словом, там, на Лене, имела место первая наша встреча, вторая же произошла в Крыму, в Коктебеле. Да, возможно, я что-то напутал в штатном расписании «плавающей сковородки», кого-то не той должностью наделил (хотя, по-моему, все вроде бы правильно), так пусть уж ребята не обижаются, не таят зла на меня...
3
— Ну, как работает? — поинтересовался ранним утром Лящук, глядя, как Мазин ковыряется в акваланге. Привезли они с собой эту бандуру, штуку весом в пуд, железо, которое, простите, ни бэ ни мэ не выговаривает, — бесполезное оно, только на дно с ним, как подбитому кораблю, идти — вот какой это акваланг! — и зачем только привезли, непонятно. — Как трактор, начал работать, — неожиданно заявил Мазин. — До Одессы можно донырнуть. И еще на обратную дорогу останется. — Ну-ну, блажен, кто верует, — Лящук, легонько попихивая камешки носками кед, направился к морю — драить зубы. Солнце встало уже давно, а сонное море еще чуть курилось, как лесной бочаг в предосеннюю пору. — Юрасик! — крикнул вдогонку Мазин. — Посмотри, какой корабль на горизонте пылит? Лящук присмотрелся, но ничего разобрать не мог — плыло там какое-то корыто, а какое — не разглядеть: далеко! — Какого оно цвета? Серого? — Вроде б серого, — неуверенно ответил Лящук. — Па-нят-но... Эта кастрюля — «Петропавловск». Пять с половиной тысяч тонн измещение, судно старое, проплавает еще год, и на кладбище. Идет в Одессу, везет лекарства, автомобили «Москвич», листовое железо и удобрения. Через пять дней потопает в африканские воды, повезет цемент. — Волшебник, — усмехнулся Лящук. — Капитан сидит сейчас в каюте и читает таможенный талмуд. На столе у капитана бутылка коньяка, на четвертушку отпитая, и пустой фужер. Только что его опрокинул капитан. На камбузе кок готовит завтрак, меню следующее: бифштексы натуральные, грешная каша, острый томатный соус и подогретый консервированный компот. Леня Мазин когда-то мечтал перейти на большие корабли, плавать в загранку. Да что и говорить, Лящук тоже не отказался бы. Но то было раньше. А сейчас есть БАМ, его бросать нельзя, как нельзя оставить серую ворчунью Лену, «плавающую сковородку», тихие сибирские рассветы, кедровое вольготье, охоту по первому снегу — все это накрепко въелось в сердце, это неистребимо. Лящук уселся на камень, зачерпнул рукой воды. Вода была прозрачной, как стекло; в ладони, словно пойманная рыбка, вертелось плоское зерёнышко песчинки, юркое и желтое. Он усмехнулся: в Гибралтар бы сейчас... Там, где Танжер. Иль дальше — в Дакар, Дар-эс-Салам, Уолтфишбей. Или на Канары. Говорят, на Канарских островах — лучшая в мире погода, плюс двадцать пять зимой и плюс двадцать пять летом. Загорай, облупляйся, помахивай печеными пятками в воздухе. Ни тебе простуд, ни тебе болезней. Да‑а, поплавать бы матросом годика так три. Но нельзя, пока строится трасса, пока они плавают по Лене на плоскодонной сковородке, на своем «Чилиме». Природа на Лене приезжему может показаться излишне однообразной: посмотрите прямо — утес такой-то, посмотрите налево — пупырь такой-то, а направо... смотрите внимательно... на вершине каменной скалы стоит крест. Скособочился, видите? Там похоронен неизвестный золотоискатель — видать, когда возвращался из промысла, «дружки» кокнули, а потом совесть заела — похоронили по-человечески и крест поставили. В отпуск они ушли случайно. Так уж получилось. Есть в их ленском флоте теплоход «Таймыр», так этот теплоход повредился и стал на ремонт, команда его сходила в отпуск, а когда вернулась, посудина еще не была готова, тогда таймырцев и бросили на «Чилим» поплавать месяц, а чилимцев отпустили отдыхать. Вот они и приехали... Отдыхают, сил набираются. Пока вчетвером. Пока... Ибо вчера им на почте дряхлая старушенция в синем форменном берете вручила под расписку телеграмму. Телеграмма не отличалась обилием словес: «Буду двадцатого. Готовьте встречу». И все. Даже подписи нет. Словом, в стиле Сазоныча. На четвереньках подполз Кит, потряс лохмами, сбрасывая с себя сонное оцепенение, разлепил глаза, вгляделся в воду, вздохнул обреченно — видать, собственное отражение не понравилось, подцепил что-то на мели пальцами, извлек — оказалось, обкатанный водой бутылочный осколок. — Леньке сгодится, — Лящук набрал воды в рот, пополоскал, выплюнул белую, пополам с зубной пастой смесь. — Он ведь у нас стекляшки собирает. — Где стекляшка? Что за стекляшка? Откуда стекляшка? Отложи для коллекции, — Мазин, громыхая аквалангом, протащился мимо Лящука, вошел по колено в воду, натянул на лицо маску. Кит даже головы не поднял, все продолжал смотреть в воду. — Берегись, рапаны! — Лящук снова выдавил на щетку горку зубной пасты, засунул щетку в рот. Из палатки показалась заспанная Варвара. — Салют, ребята, — простонала она, распластываясь рядом на песке. — Салют, — пробурчал Лящук. — Что такой хмурый, ланцелот? — спросила Варвара. Любит она всякие красивые словечки, нынешняя повариха, будущий филолог (Варвара готовится поступать в университет, на филологический). Ланцелот-ланселот... — Да так... — Может, не с той ноги встал? — Да нет. Вроде бы с той... В двадцати метрах от берега из морской пучины высунулась мазинская голова, посмотрела на них противогазными очками и, «сделав тете ручкой», утонула вновь. — Что это он спозаранку? — спросила Варвара. — Промышляет. Варвара улыбнулась, Лящук помрачнел, погрузился в себя: от него не ускользнула эта улыбка, приязнь и нежность Варварины — и что она только нашла в этом курдле, в Мазине, а? Немой вопрос повис в воздухе, и Лящук помрачнел еще больше, а Варвара, не понимая всей глубины его состояния, но вместе с тем уловив перемену на лещуковом лице, потянулась безмятежно, спросила спокойно, с ускользающим равнодушием: — Вид у тебя, парень... Гром гремит, земля трясется... Дождь, что ли, предвидится? — Не предвидится, — пробурчал Лящук. — Я, что ль, сегодня по котелкам, по щам да кашам дежурная? — Ты, — отплюнулся зубной пастой Лящук. — Я там сливы привез, — оторвался от воды Кит. — Что ж вчера не предложил, джентльмен? — спросила Варвара. — Забыл. — Всегда у тебя что-нибудь неладно. Лящук, умывшись, расстелил на берегу холстину, развернулся лицом вверх, чтобы солнцу было сподручнее красить его портрет в бронзовый колер, чтоб лучи не ускользали и не промахивались, сглотнул вязкий сладковатый ком, оставшийся от зубной пасты, закрыл глаза и погрузился в цветастую одурь, в полусон-полуявь, куда извне проникали плеск моря, далекие всхлипы чаек, глухие заэкранные голоса. До поры до времени невозможно было выплыть из этой одури, прийти в себя... Очнулся он от чужого голоса, оторвал тяжелую, набухшую звоном голову от холстины, увидел, что рядом с их утлым полуутопшим челноком впахалась в берег округлым носом рыбацкая лодка — крепкая, черная от смоли, со свисающими с бортов веслами. В голове у Лящука промелькнуло недоумение: почему весла, ведь над кормой лодки возвышается голубой остроугольный пенек мотора? — но потом сообразил, что у берега здесь мелко, мотор может зацепить винтом за дно, вот и приходится браться за весла. Голос принадлежал худому и низкорослому, одетому в продырявленную голубую майку человеку. Грудь у него была узкая, костистая, совсем без мышц — казалось, что сколоченную из фанеры коробку туго обтянули кожей, без всяких прокладок, простилок, прослоек, накрепко зашнуровали — получилась грудь, которую сверху прикрыли майкой, чтобы не было стыдно за грубое изделие, за топорную работу. Пахло от человека рыбной чешуей, внутренностями, морской губкой, которой здесь обмощены все камни, — словом, профессия его была ясна: человек этот — из промысловой бригады, чьи сети стоят перед Лягушачьей бухтой, под крутым отвальным берегом, с которого сползают в воду сизоватые, цвета плесени ручейки. Это мягкая глина «кил». В морской воде мыло не мылится, не пузырится радужной пеной, а вот кил, тот мылится, им даже белье стирать можно и голову мыть. Леня Мазин с этим дивом их еще в день приезда познакомил. — Что ты здесь со своим чудо-юдо-аквалангом потерял? — укоризненно выговаривал рыбак Мазину, и Лящук понял, что эти люди давно знакомы, еще по коктебельской жизни Лени. — Ракушки эти вот, да? Их ты потерял, да? Или ерша берешь на абордаж, выковыриваешь его, мухрастого, из песка, а? Мазин изобразил плечами жест, поднял их вопросительно: а черт его знает, может, и ерша... Рыбак распалился еще больше. — Недалеко отсюда, во‑он за теми вот камнями, метров триста если пройти, имеется одно место, ты же здешний, должен знать... Немцы там в сорок втором затопили шхуну. Торпедой стрельнули и уложили на грунт. Иностранная шхуна-то. Вот туда и попробуй забраться. Рыбешка там покрупнее водится. Не ерш-скорпена, не слизь морская. Наши иногда ныряют, кой-чего и из предметов достают. Намотай себе на ус. Как живешь-то? — Местами ничего. — Как БАМ? — Строится. — Ну, заглядывай вечером... Туда, в рыбацкий домик. Выпьем, покудахтаем. — Спасибо, — поблагодарил Мазин, рыбак легко прыгнул в лодку, сдвинул ее веслом с места, отогнал на глубину, дернул веревку, конец которой, увенчанный деревянной пуговкой, высовывался из мотора, лодка окуталась сизым вонючим парком, пошла задом. Через минуту она грохотала уже за скальным выступом. Мазин еще некоторое время крутился на одном месте, не зная, что и предпринять, потом, увидев, что Лящук смотрит на него, спросил: — Слышал? — Слышал. — Ну и как? — Есть смысл попробовать. Леня крутнулся еще раз, постоял немного молча и, не придумав ничего путного, потопал к палатке. Пора было завтракать — поспели рапаны, которых Мазин наловил, пока Лящук загорал, пребывая в цепенящей одури. День разгулялся совсем, уже здорово припекало, хотя все вокруг еще было покрыто слоистой прозрачной поволокой. Голая, с редкой порослью макушка горы едва виднелась в этой дымной накипи. И вообще, день сегодня до самого финиша будет дымным — куда ни глянь, все в сизой глубине. Рапаны оказались куда вкуснее вчерашних мидий. Во-первых, они были крупнее — потому и сладкого съедобного мяса в них имелось больше. Прикрытые роговыми пластинами, рапаны долго сохраняли свой стоградусный кипятковый жар, были горячими донельзя — приходилось остужать их, бросать в мелкую воду. Накрытые приблудной волной, костяные скрутки рапан шипели, фыркали, будто раскаленные голыши. Но остудить — это еще четверть дела, куда труднее было выковыривать из скруток мясистые комки ракушек, чьи мышцы были упругими, твердыми, будто резиновые каблуки, никак не хотели поддаваться, горячили пальцы, обжигали ногти. Лящук поддел сильнее, ощутил, как вначале оборвался мускул — белый, сочный, похожий на корешок гриба, потом поддалось и все остальное - вывалился буроватый многослойный мешочек в мясной опояске, затем ошметок мякоти. Рапаны оказались не только вкуснее мидий — в них и мяса имелось больше, было что ухватить зубами, и вкус здорово отличался — чуть сладковатый, вязкий, питательный, схожий с растительным (знаете, есть такая деликатесная трава сергибус, стебель толщиной в мизинец, кожица тонкая, нежная, чистить совсем не надо, во рту тает — так вкус рапаны был похож на вкус сергибуса). После завтрака решили сходить на челноке к затопленной шхуне, посмотреть, что это за диковинка, за которую так рьяно агитировал рыбак.
4
— Кто первый лезет под воду? — спросил Мазин. — Вы или я? Лящук стукнул себя кулаком в грудь — давай я! Киту было безразлично, а Варвара качнула борта челнока — неустойчивая скорлупка-то — и насмешливо посмотрела на Мазина: такой здоровяк, а... Тот вдруг покраснел и решительно взялся за ремень акваланга: Варварин взгляд он принял слишком однозначно, текст спутал с подтекстом. — Я пойду первый. Вот так-то, мамочки! — сказал он, поглядел на Варвару, но та уже была занята чем-то своим, кажется, огромной, как парковая беседка, мутно бледнеющей в глубине медузой. Медуза медленно и величественно, ровно подводный корабль, проплывала под лодкой, держа курс в открытое море. Лящуку опять стало грустно — опять его всерьез не принимают. Хотя откуда им знать, что лучшие пловцы — это худые люди, что знаменитый капитан Кусто имеет такое же телосложение, как и он. Худой человек входит в воду, как нож в масло. Без всплесков, без усилий. Совершить бы сейчас что-нибудь героическое... — Рублей так на сто двадцать, — усмехнулся он вслух. — Ты чего? — спросила его Варвара. Лящук посмотрел куда-то в сторону, потом вверх, в дымную жаркую сизь, и не ответил. Мазин тем временем проверил золотники. Воздух подавался исправно. На пояс он нацепил нож с пробковой ручкой, специальный, нетонущий: мало ли что может случиться в воде — и гигантский спрут встретится, и обжора акула, и рыба-пила... Лящук слабо улыбнулся, ощутив где-то в разъеме груди прохладу, легкость, рассмеялся сипловато и тихо, почти про себя. — Ну, мамочки, я пошел! — проговорил Мазин. — Ни пуха тебе, — благословила Варвара, и тут Лящук отметил, что в Варваре исчез вчерашний интерес к Мазину, угас, сошел на нет, и Мазину вряд ли что тут светит, вряд ли он может рассчитывать у Варвары на успех. И честное слово, Лящуку стало как-то спокойнее, утихомирилась, улеглась душевная маета, и с солнца вдруг сползла дымная наволочь, сизая тусклота растаяла, и оно засияло чисто, как-то ликующе, напряженно. Мазин немного неуклюже, погромыхивая привязанными к спине железными стаканами, перелез через борт челнока, чуть совсем не завалив его, в ответ вскрикнула Варвара, что-то глухо прорычал Кит, Леня взмахнул руками, окончательно теряя устойчивость, тяжело ухнул в воду, пустил струю пузырей, разгреб перед собой плотную, утренней чистотой наполненную толщь, ушел в глубину. До шхуны надо было идти метров десять — двенадцать. Она прочно стояла на дне, вернее, даже вросла в него, одним бортом притулясь к облепленной морской тиной каменной стенке, — большая, вытянутая, как сигара, с обрубленными мачтами и нелепым приспособлением на корме, напоминавшим китобойную пушку. На носовой палубе с двух необломленных торчков тяжело свисали обмахренные бородатыми водорослями провода. Мазин уцепился рукой за поручень, идущий вдоль борта шхуны, и, отправив наверх длинную гирлянду крупных белых пузырей, подтянулся к поручню, повисел немного на нем неподвижно, потом пробрался к капитанской каюте. Сверху было видно, как он пытается кулаком разбить стекло одного из иллюминаторов, но стекло, толстое и прочное, как дубовый спил, не поддается, на арапа его не возьмешь, поэтому, ударив еще несколько раз рукой по иллюминатору, Мазин бросил бесполезное занятие, посмотрел наверх, словно спрашивая у тех, кто остался в челноке, правильно ли он поступает. — Правильно, — буркнул Лящук. Недалеко от челнока, прижимаясь к прибрежным бухтам и волоча за собой пенный шлейф, прополз черный от старости и грязи сейнер. Лящук подумал, что если бы сейчас в челноке был Мазин, то он наверняка бы сказал: «Старая коробка, ловит бычков, шесть человек команда... Более чем на километр от берега не рискует удаляться, трехбалльный шторм пережидает в гавани, где тихо, как у ребенка в люльке. Капитан старый, лысый, выдвиженец из бухгалтеров, сидит сейчас в каюте и дует чай. На вахте стоит чиф. Чиф? Вы спрашиваете, кто такой чиф? В переводе на русский язык это означает «старший помощник капитана». Мазин тем временем перебрался на самый нос и пробовал теперь отвернуть зубчатую коробку гидрокомпаса. — Ни черта он не найдет на этой пепельнице. Компас зачем-то ему понадобился. Тьфу, барахольщик. — Юрасик, что он делает? — несколько недоуменно поинтересовалась Варвара. — Обрезание, — буркнул Лящук. — Что-что? — А-а, не приставай! Потом скажу! Варвара обиделась, а Лящук ощутил в себе некоторое злорадное успокоение: это тебе, мол, дорогая девонька, за муки душевные, за то, что не замечаешь чистых порывов, привязанности, за боль причиненную. Мазин закончил бесполезную возню с гидрокомпасом, медленно проплыл над каютой, «приземлился» на кормовом пятаке. Там в деревянный настил палубы был врезан здоровенный люк — такие люки делаются для того, чтобы в трюм можно было опустить крупногабаритный груз. Люк этот, толстенный, донельзя тяжелый, был поднят когда-то специальной катерной лебедкой и так, в поднятом состоянии, был оставлен и теперь тихонько покачивался-поскрипывал влево-вправо, повинуясь всплескам подводного течения. Под крышкой косо уходил в глубину черный провал. Мазин завис над провалом, выпустил очередную порцию воздуха, — изображение, как в телевизоре, когда идет передача из космоса, ухудшилось. Мазин продолжал висеть неподвижно над провалом: видно, не мог решиться — лезть в трюм или не лезть... — Струсил? — спросил Лящук. — Что значит, струсил или не струсил? — проговорила Варвара. — Риск, конечно, благородное дело, но есть вещи, ради которых нет смысла рисковать. Просто глупо рисковать. — Ясно, — буркнул Лящук, — раз нет смысла, значит, нет, — улыбнулся про себя, грустно и затяжно, подумал, что кроме смысла есть вещи иного порядка: гордость, честолюбие, сила, смелость, желание утвердить самого себя... В это время Мазин сделал сильный мах ластами и провалился вниз, в черноту трюма. — Ап, — сказала Варвара. — Пора выключать ящик, все равно уже ничего не видно, — перевернулась на спину и, прикрыв глаза зелеными, какой-то ядовитой лягушачьем окраски очками, стала загорать. — У меня сливы есть, — неожиданно пробасил Кит, — вчера привез. — И мы их не съели? — спросила Варвара. — Съели, да не все. Осталось... — Давай их сюда. Кит деловито вытянул откуда-то из-за спины бумажный, косо простроченный нитками куль, с хрустом распахнул горловину. Варвара, запустив туда руку, взяла две или три штуки — больше не вместилось, Лящук тоже взял пару. Сливы были кирпично-красные снизу, с закопченными боками и сизой протемью сверху, там, где задиристо, будто щенячьи хвосты, торчали тугие и твердые, почти одеревеневшие хвостики; крупны они были необыкновенно: возьмешь одну в руку, а она лежит тяжело, удобно, занимая всю выемку ладони — ну, ровно куриное яйцо, а не слива. — Такой сливой убить можно, — сказала Варвара. — Точно, попадет в висок, и заказывай деревянную тельняшку, — произнес Лящук тихо, с какой-то недоброй, болезненной яростью, ясно прорезавшейся в его голосе, и всем сквозь тихость почудилась такая явная угроза, что даже ни на что не реагирующий, молчаливый Кит хмыкнул, покосился на Лящука бирюзинами, взметелил ладонью лохмы на голове. — Так уж и тельняшку, — лениво проговорила Варвара, — что-то злости в тебе, Юрась, много стало, день у тебя наперекосяк с самого утра идет. Они еще не знали, не ведали, как сложится у них день дальше, что их ждет в ближайшие полчаса.
5
Время тянулось медленно и нудно, светило вновь утонуло в дымной сизи и приубавило свой пыл, солнечные охлесты были нежаркими, не южными — северными скорее, такое солнце в летнюю пору и в Ленинграде водится. — Что бы я еще увезла из Коктебеля — так это коллекцию камней, — Варвара вяло поболтала ладонью за бортом, отерла мокрыми пальцами лоб. — Камни тут хорошие в прибое попадаются. — В нашей бухте они есть, — отозвался, не открывая глаз, Лящук. — Я, например, халцедон нашел. — Хоть показал бы... Какой он? — Беловатый, с дымкой, на солнце посмотришь — светится, — Лящук шевельнулся устало, согнал с лица морщины, с ними сползло и выражение обиды, исплаканности, уголки губ приподнялись кверху, утонули в ямочках. — В самый первый день, когда мы приехали, я разведывал насчет камней. Тут на побережье Сердоликовая бухта есть, так там целая экспедиция камнеискателей работает, сердолики добывает, потом туристам и дикарям, вроде нас с вами, продает... — А сердолик, он какой? — Как и халцедон, прозрачный, только не дымчатый, а красноватый, в теплину, либо розовый... — Цвета бедра испуганной нимфы, — усмехнулась Варвара. — Фу! — Это не я, — быстро произнесла Варвара, — это классика... В здешних скальных обрывах, срезами ниспадающих в море, можно не только халцедон или сердолик найти, но и «стеклянный блеск» — так здесь называют горный хрусталь, и «ледяной дым» — аметист, и бледно-желтый, немного смахивающий на конторский клей опал, который, если опустить в воду, начинает лить перламутровый свет, и кровавый, недоброго цвета гейландит, называемый «маковым камнем», и черно-зеленый хлорит — «змеюшник», и кара-дагские яшмы, целую россыпь: желтые, зеленые, коричневые, красноватые, бурые, с налетом сизи, и благородный белый натролит — «крымский снег», и мутноватый, похожий на огуречный рассол анальцим... Всеэто море выкатывает, выбрасывает на берег во время штормов, прибоев или просто посылает в дар с хлесткой бурной волной, поднятой экскурсионным теплоходом-торопыгой. Лящук читал про все эти камни, читал еще там, в Сибири, в Усть-Куте, перед отпуском: ведь всегда бывает интересно все и вся знать про места, куда едешь отдыхать. — Туристы тут каменной болезнью болеют, это похуже азиатского гриппа, — немного помолчав и оправившись от Варвариной реплики, заговорил Лящук, — целые чемоданы камней с собой увозят. — А какие тут еще бывают камни? — Диковинные. — Именно? — Например, есть такие каменюшки, которые называют «цвет Крыма», — они схожи со здешними горами, желтовато-бурые, округленные, вроде голубиных яиц. Еще есть «морские духи» — это зеленые камни, таких тут много... Есть «чучундры» — камушки, похожие на человека, «крестовики» — исчерканные рисунком, «загадочные» — это халцедоны и сердолики с пятнышками, вроде как с птичьими глазами, — эти камни всегда подглядывают за человеком, все видят, но ничего не говорят, они молчуны. Умные молчуны. Здешние жители называют их лягушками, а «морских духов» величают «собаками». — Неинтересно как, — шлепнула ладонью по воде Варвара. — А «крестовиков» они прозвали «полинезийцами»... — Это уже лучше. — Еще тут много «куриных богов». — Камушки с дыркой, это я знаю... Счастье приносят. — Только в том случае, если за один день найдешь семь штук и нацепишь их на шею... — Почему семь, а не восемь? Или не девять? — Так принято... Лящук в этом разговоре открылся вдруг с новой, совершенно неожиданной стороны: Варваре всегда казалось, что он сухарь, зануда, неудачник — отсюда и комплексы, и мгновенно, словно керосин, плеснутый в костер, вспыхивающая злость, и приступы печали, истомы, чахоточность фраз, тоска по несбывшемуся, острая, почти слезная обидчивость, постоянное стремление выяснять отношения, а потом зажиматься, уходить в себя. Когда Лящук рассказывал о камнях, у него и голос, и лицо изменились, и слова новые нашлись, и что-то теплое, живое, осязаемое находилось совсем рядом, когда он рассказывал, чудилось даже — протяни руку, и дотронешься до этого живого, непонятного существа, то ли чижа, то ли белки, чего-то близкого, чему и названия, честно говоря, нет. Геологом бы Лящуку быть, драгоценности разыскивать, а не на «плавающей сковородке» вкалывать. — Еще! — попросила Варвара. — О камнях можно говорить долго, — вздохнул Лящук, — это песня. Кит вскинулся в челноке, ошалело покрутил кудлатой головой, похоже, он все это время спал — и точно спал! — потянулся с долгим сладким подвывом, взметнул над собой руки, тяжелые, обросшие коричневой, еще не успевшей выгореть щетиной, с хрустом сложил их, снова распрямил, опять сложил. — Ого, сколько тебя, — шевельнула губами Варвара, — сколько мяса, костей... Гора! Кит промолчал, заглянул за борт, лицо у него вдруг странно перекосилось, рот съехал на подбородок, а на шее, с булькающим звуком взбугривая кожу, заходил кадык, скулы с тугим треском натянули кожу, и вдруг тяжелый, сиплый, словно пароходный гудок, полный тоски и отчаяния крик заставил в одно мгновенье вскочить Варвару и Лящука. Челнок под их ногами чуть было не располовинился, как арбузная корка. И от секущего страшного «а‑а‑а‑а‑а» покачнулось солнце, ухнуло куда-то вниз, к горизонту, подпрыгнуло, отфутболенное, и враз черным и жутким сделалось небо, и облака невесомо, бесформенно обвисли на нем, и вздыбилось море косым яростным валом, вздыбилось и опало, стало ровным, словно одеревенело. — А-а-а-а-а-а-а, — бесконечен был этот раненый крик. Лящук схватил Кита за руку, рванул что было мочи на себя, заваливая матроса на скамейку, но сил у него не хватило, Кит оттолкнул его и, взвившись в воздух, переломился, распрямил ноги и ровно, почти без всплеска вошел в воду. И только тут Лящук увидел, что произошла вещь действительно страшная, фатальная. И Варвара это увидела, стиснула веки, выдавливая из них горечь, всхлипнула тонко, неверяще, подстреленно, прошептала, не разлепляя белых губ: — К-как же эт-то? — Вновь всхлипнула, покачнулась и, если бы Лящук не подставил руку, упала бы. Лящук вдруг почувствовал, как в нем одряхлели и обвяли мышцы, источилась, иссякла жизнь, где-то в боку, не прикрытом ребрами, сжался и разжался ком, и сразу стало трудно дышать, по лбу покатился ядовитый пот, горло перехлестнуло удавкой, и вот уже потемнело в глазах, красные овалы завспыхивали совсем близко, обжигая и прокалывая болью, и начало казаться, что все... все, конец пришел... Лящук захватил нижнюю губу грядкою зубов, прокусил и, только когда по подбородку потекла кровь, очнулся и как-то странно, однобоко удивился, почему же он не кричит, почему в горле застрял вопль, и он никак не может протолкнуть этот похожий на окаменелый стон тычок? Он тихо сполз на дно челнока, вяло перевалился через борт, по плечи, головой вниз, погрузился в теплую и соленую, похожую на слезы, морскую воду, сделал слабый гребок руками, потом еще один, и еще, оттолкнулся от лодки. Но ныряльщиком он был все же куда более слабым, чем Кит, до Кита ему не дотянуться, силы не те, дыханья не хватает, и стучит уже в висках кровь, и надо возвращаться обратно, и грудь стискивает железный, наглухо сцепленный клепкой обруч, и горло сдавливает, душит невыплеснутый крик. Стряслось страшное, почти непоправимое, такое выпадает раз в десять тысяч, в сто тысяч, в миллион, в десять миллионов случаев. Пока они загорали, бездельничали, ели сливы, отпуливая пальцами косточки в воду, трюмный люк шхуны, поднятый вертикально и делавший кивки то налево, то направо, то налево, то направо — подчиняясь любому подводному теку, любому движению, любой судороге, любой дряблой волне, — качался, качался и, вспугнутый каким-то неведомым придонным валом, рухнул на трюмный вырез, накрыл его своим многотонным разбухшим телом, закупорил, запечатал Мазина в чреве шхуны. Это-то и увидел первым Кит и первым кинулся на подмогу. Главное — не метаться, главное — не суетиться, спокойствие, спокойствие, спокойствие — только в спокойном состоянии, все трезво взвесив, холодно рассчитав, задушив в себе все нестойкое, эмоциональное, заглушив тревогу, смятенность, все взрыды и всхлипы, готовность к смерти, все жалкое, подавленное, трусливое, можно помочь Мазину, только в таком состоянии, только в таком... Лящук, ощутив, что он вот-вот потеряет сознание, выгнулся рыбой, так что у него захрустели, сместились позвонки, отчаянно, из последних сил заработал ногами, устремляясь вверх, к блеклому пятнышку солнца, к дымной небесной сизи, к воздуху, к челноку с беспамятной Варварой, к крикливым чайкам, к пузырению волн, к привычному шлепу прибоя, к реденьким, немощным облакам, ко всему, чем жив, чем болен человек, что его питает, дает заряд любви, мысли, творчеству, бытию. Он вымахнул на поверхность, ухватился слабой, плохо гнущейся от усталости рукой за борт челнока, хрипло всосал в себя воздух, почувствовал, как в нем распахнулись, словно крылья, раздвинулись легкие, вобрали в себя кислород, и его затрясло от слабости, от омерзения к собственной немощи, от надорванности, от близкого, буквально накоротке, и потому очень сильного ощущения опасности, к которой он только что прикоснулся. — К-как там, Юр? — услышал он скрипучий, наполненный слезами шепоток Варвары. — Не... не дотянул, — прохрипел Лящук, отплюнул горькую жижку, набившуюся в рот. Рядом с грохотом пробил волнистую твердь Кит, захватил ртом воздух, но этого не хватило, тогда он сделал еще один судорожный захват, вцепился в нос челнока, обвис на руках. Бронзовые глаза-капелюшки утеряли безмятежную голубизну, налились кровью, сделались неподвижными, остекленели, и эта жестокая перемена, происшедшая на лице Кита, эти жесткие, отвердившиеся щеки, замороженность висков, лба, подбородка, глубокие выбоины, в которые провалились глаза, сказали куда больше, чем сказал бы сам Кит. И, тем не менее, Варвара вторично спросила с тихой, квелой надеждой: — К-как? Кит дрябло погремел свинцом, дробью, застрявшей у него в горле, скривил тяжелую, с переломом посредине нижнюю челюсть, сплюнул в воду. — Глубоко, с‑сука... Н‑никак. — К-кран бы сюда... П‑плавучий... Иль катер с лебедкой, — тоскливо проговорил Лящук. — Т‑тут даже если донырнешь, все равно люк не оттянешь... Он водой придавленный. — Сколек там времени? Глянь, — по-прежнему загнанно, чужим голосом попросил Кит. Варвара сунула руку в сумку, в которую были сложены паспорта, деньги, часы — то самое, что они всегда брали с собой, не оставляли в палатке, вытянула наугад часы, посмотрела на них невидяще, бессмысленно: — Двенадцать. Ровно двенадцать. — Та-ак, — продребезжал размятым металлом Кит. — Запасов воздуха у него с гулькину ногу. Минут на двадцать. А там... — М-мальчики, — Варварины плечи затряслись, — м‑мальчики, надо что-то сделать... М‑мальчики! Кит не ответил, втянул в себя воздуха побольше, трудно оттолкнулся от челнока и, привычно перемалывая ногами воду, ушел в глубину. Лящук тоже засипел часто и надорванно, собираясь с силами, поднырнул под челнок, перевернулся в воде и, с силой оттолкнувшись от днища челнока ступнями, сделал гребок, ушел на метр в прозрачную бутылочную зелень, еще сделал один отчаянный гребок, вложив в него все, что имел, еще на чуть-чуть приблизился к шхуне. Кита он не видел, Кит растворился в этой жутковатой толщи, будто кристалл снадобья в стакане воды, перестал существовать, истаял в атомном взрыве, и не спасти его больше, как и Мазина не спасти, нет их, нет... Он прошел еще несколько метров вниз и вдруг с холодным, каким-то потусторонним, омерзительно расчетливым интересом начал оглядывать водную глубь, все, что жило, что творилось в ней. Здесь было холодно, много холоднее, чем наверху, видать, из-под берега в море вливалась горная протока, и вода тут, кажется, была менее соленой, чем наверху; какие-то страшноватые, обезображенные круглыми черными катышами выпученных глаз, суетились длиннорылые рыбешки, а на уровне уха, словно приклеившись, неотступно следовала мясистая голубая медуза, зло раскрылатив свой зонт, украшенный бахромой висюлек. «Дура чертова», — подумал он. В ушах закололо, забарабанило, и Лящук, не выдержав, рванулся было обратно, но какая-то жесткая, расчетливая трезвая сила остановила его: погоди! Он удержал порыв, ощутив себя вдруг сильным, лишенным страха, заработал с обреченным отчаянием, делая руками короткие крепкие гребки, ощутив неожиданно — вот уж полная чушь, шизофрения, галлюцинация! — прогорклый вязкий дух гари, нефтяного отстоя, какой он всегда ощущал, когда опускался в горячечное машинное нутро «плавающей сковородки». Еще почудился запах мокрой осенней земли, обложенной палой листвой, когда еще не холодно, но с небес уже начинает валиться на землю редкий и робкий, неестественно воздушный, вызывающий щенячий обжим в горле снег — он пухом ложится на листья и тут же проседает, истончается, мокрит траву. И на душе становится надорванно, одиноко, тоскливо, а земля сопротивляется вестнику грядущих морозов, она еще пахнет живым — травою, целебными кореньями, грибами, ягодой, злаками, земля не хочет засыпать, и дух ее обладает такой же печальной будоражащей силой, как и дух первого снега, — силой щемящей и мучительной. Говорят, у лыжников, да и у пловцов тоже, и у альпинистов случается, что приходит второе дыхание. Лящук никогда спортом не занимался и, признаться, не верил этому. Но тут с ним произошла неожиданная вещь: едва он снова устремился вниз, к шхуне, цепляясь глазами за обросшее водорослями длинное тулово судна, словно что-то щелкнуло в его организме, подобно тому, как щелкают счетчики в такси, и напряжение — огромная тяжесть, давившая на голову, на уши, обжавшая виски, — прошло... Стало вдруг легко, свободно. Он сделал несколько раскованных сильных гребков, все ближе и ближе к шхуне, и добрался было уже до поручней рубки, как понял, что воздуха все-таки больше не остается в легких, кончился воздух. И слезная обида вдруг захлестнула его с такой силой, что он чуть не хлебнул воды, и тогда сразу бы наступил конец, и стало страшно, его охватило сложное чувство: здесь была и жалость к погибающему Мазину, перемешанная с жалостью к себе, и смутно подступающая к горлу тошнота, и осознание того, что он больше не сможет сделать ни одного нырка, иссякла его крепость, иссохла. Он в последний раз, чувствуя, как слипаются, склеиваются веки, посмотрел на шхуну, облепленную ракушками, шелковистой тиной, в которой деловито и невозмутимо ползали небольшие, со спичечный коробок, крабы, мельтешили козявки и мальки, тихо и до смешного жалко попрощался с немым рыбьим миром и, делая стригущие махи ногами, устремился наверх, к солнцу, к свету, чувствуя, что дойти до этого самого солнца-света у него не хватит сил. И действительно, силы, как и жажда жить, кончились у него где-то на половине пути, и еще некоторое время он машинально стриг ногами, загребал ладонями воду, стараясь ухватить пальцами смятую солнечную нашлепину, качающуюся, как поплавок в безветренной ряби, и, когда все уже было исчерпано, когда его шансы спастись стали равны нулю, когда он уже хлебнул соленого взвара и почти потерял сознание, вода исчезла. Он вяло всплыл на горбину волны, тяжело, будто получил пинок под ложечку, перевернулся на спину. Снизу его поддело плотным, словно резиновым, накатом, чуть не перевернуло, но он удержался, шевельнул руками, как нерпа ластами посуху, — неуклюже, разбито, отяжелевше, сквозь муть, опутавшую его облаком, совершенно посторонне и равнодушно поймал Варварин взгляд, испуганный, колючий, страдающий, попробовал улыбнуться, но не получилось — губы у него были расплющены, словно по ним кто-то съездил кулаком, рот набит какими-то солеными осколками, крошевом, сгустками студня, клейкими ошмотьями пищи. Выплеснувшей из-под лодки волной его неожиданно приподняло и опрокинуло обратно, снова вниз лицом, он пробовал вяло сопротивляться, но обмяк, увидя, что изо рта в воду выплеснулось что-то бурое, маслянистое, тяжелое, и совсем не огорченно, скорее устало-равнодушно, истерзанно понял — это кровь. Варвара, почуяв неладное, звучно шлепнулась в накат волны, всхлипывая и стуча зубами, подплыла к Лящуку, поддела его снизу рукой, толкнула к челноку, зашептала знобко, потрясенно, пугаясь вида крови: — Давай, Юр, к лодке... Ну, милый, давай... Ее голос, близость ее придали немного сил. Он сделал гребок по-собачьи — есть такой, высмеянный всеми мальчишками от Балтики до Тихого океана, — способ плавания по-собачьи, потом еще один, фузливый и слабый, добрался до челнока, втесался в мягковатый, изопревший борт ногтями, подтянул к животу правую ногу, ватную, неповоротливую, грузную, заваливая ее за борт, Варвара помогла, тогда он вскарабкался на челнок вначале грудью, потом животом, с отпугивающей горестной ясностью увидел, как на днище челнока закапала кровь, пятная старое полупрелое дерево. Откуда-то сбоку — откуда, Лящук уже не видел, — задавленно сопя, приплыл Кит, помог перекатиться в лодку. Лящук закрыл глаза и утонул в минутном забытьи, будто в омуте — темном, бесформенном, болезненном, куда никакие звуки, кроме стука собственного сердца, не доходили. Когда очнулся, то сквозь темную, слепую пелену различил Кита, сидящего на корме, с худым плоским лицом, с висюльками лохм, прилипшими к ушам. — Сколек времени там накачало? — надсадно морщась, выдавил из себя Кит. В другой раз Варвара, конечно бы, поправила его, сказав, что положено говорить не «сколек времени» и даже не «сколько...», а «который час». Кит, естественно, не среагировал бы, но, тем не менее, Варвара лишний раз показала бы свою филологическую образованность. — Четверть первого, — тихо ответила она. — Не то, — поморщился Кит, — сколек времени прошло... — Он имел в виду, сколько времени Мазин сидит в трюме. Варвара снова взглянула на часы, потом медленно опустила их в сумку. Было слышно, как они звякнули о что-то металлическое. На лице Варварином уже не было прежнего суматошного испуга, мертвенной серости в подглазьях, лицо ее закаменело, будто вырезанное из хорошей твердой породы — скарна, гранита, мрамора, хотя из скарна, кажется, ничего не режут, это то ли вольфрамовая, то ли молибденовая руда, Лящук забыл, какая именно руда, — такое расчетливое спокойствие всегда настораживает, оно опасное, оскользающее, могильное. — Более пятнадцати минут, — ответила Варвара. — Все! — прокатал дробь Кит, сглотнул, — Лехе мы уже ничем не поможем. Воздух у него на исходе, чуток осталось, а чтоб нам сюда пригнать катер с краном, понадобится часа три, не менее.
6
Ну почему так спокойно море, горы, почему солнце светит по-прежнему равнодушно, хотя и замаранно как-то, окутанное сизью, словно костерным дымом, ну почему все так тихо, почему? Тихо почесываются под днищем челнока волны, где-то тихо, хотя и с подвизгом, словно немазаная телега, покрикивает чайка, тих воздух, тихо море, пароход тихо бредет по горизонту, лишь под виднеющимся вдалеке выступом, напоминающим то ли гроб, то ли сундук, то ли футляр для скрипки, кто-то будто специально запалил костер, и тот чадит черным лезвистым смрадом, взрезает воздух ножом, он как сигнал бедствия, как крик о помощи, как потайной знак кому-то, более сильному, чем мы.
7
Раздавленные, осунувшиеся, остолбеневшие от горя, они сидели в челноке, тесно прижавшись друг к другу. У Лящука кровь перестала идти: видно, на глубине у него лопнул какой-то сосуд, а сейчас жилу залепило спекшимся комком, затычкой, вот и перестало течь. Ни один из троих не среагировал на странную буркотню, раздавшуюся под челноком, будто на глубине лопнул шар, и катыши воздуха, обгоняя друг друга, понеслись наверх, на волю, приплющиваясь к днищу лодки, давясь, исходя на нет. Потом словно фонтан взвился — над водой показалась... над водой показалась мазинская голова с синюшными кругами подглазий, хорошо видимыми сквозь стеклянный овал щитка. — Мазин! — тихо, в себя, булькающим шепотом проговорила Варвара. — Г‑господи, Мазин! — Притиснула кулаки к вискам, заплакала неожиданно тоненько, беспомощно. — М‑ма‑а‑азин... Лящук, реагируя на шепот, открыл глаза, невидяще обвел ими небо, а Кит сжал свои бирюзинки в острые опасноватые щелочки, нагнул голову круто, на шее даже вспухли, взбугрились неровные витые жилы, долбанул кулаком по бортовине челнока, из-под удара во все стороны полетела мокрая гниль, прелые остья, ошмотья дерева. — С-сука, — незнакомым голосом проговорил Кит, — сколек из-за него... С-сука! А мы-то... Мы-то чуть не поседели... Лящук шевельнулся, сглотнул мокрушный, пополам с сукровицей ком, уперся руками в ребровину дна, сел. Посмотрел на подплывающего Мазина, облизал деревянным языком губы. Подумал неожиданно ясно, спокойно: «Все хорошо, что хорошо кончается. Но кончается ли? Может, только начинается. Может, Кит прав, может, Мазину надо надавать по морде? А за что, собственно? Вспомни, ведь ты же сам хотел, чтобы Мазин испугался и не полез в этот трюм, и, если бы он не залез, ты бы навсегда запрезирал его, и в воду вторым конечно же полез бы Кит, и тогда бы он обязательно оказался захлопнутым в трюме, в мрачной темноте, и весь кавардак вертелся бы тогда вокруг него, а не вокруг Мазина. Бить не за что. Правильно, не за что. А потом, камарад Лящук, добрее надо быть, добрее... Почаще улыбаться надо. Эх, Сазоныча бы сейчас сюда, он сразу бы разобрался в том, кто виноват и кто прав, и тогда бы все стало на свои места. Но Сазоныч будет только двадцатого, и наверное, не днем, а вечером — значит, почти что двадцать первого, — так что до Сазоныча далеко, как до самого бога...» Мазин подплыл к челноку и, «стоя» в воде на ластах, показал, гордо держа перед собой, две здоровенные, конопатые, усеянные морской гречкой и желудями ракушки, донельзя облипшие, все в грязной донной поросли, положил их к Варвариным ногам, стянул с лица маску, бросил на дно, потом сдернул с плеч железные бидоны акваланга, стригнул ногами, отталкиваясь от воды, влез в челнок. Он, видать, ничего не знал, он совершенно ничего не знал, он, ей-богу, выплывал не сквозь трюмную прорезь, а через торпедную пробоину в борту («торпедой стрельнули и уложили на грунт» — так ведь, кажется, сказал рыбак), на щеках Мазина рдели здоровяческие яблоки, глаза посверкивали лучиками: ведь вон какие две ракушки извлек со дна морского, из трюма, из ничего, из небытия, — герой! — хорошую памятку о юге, о коктебельском море и горах заполучил. Мазин еще ничего не успел сказать — он оттягивал тронную речь, ждал, когда все насладятся его триумфом, в полную меру разглядят королевскую добычу, как Кит вдруг коротко, снизу, сипло крякнув, ударил Мазина под ложечку, а потом наотмашь, но уже несильно, треснул его тыльной стороной ладони по губам. Мазин грузно громыхнулся на дно челнока и, зажав пальцами нос, из которого не замедлила брызнуть юшка, остро и недоуменно, с неосознанной болью взглянул на Кита. Кит поболтал кулаком в воде, обмывая, отер его о грудь. — Это в честь спасенья твоего, — сказал он, — чтоб знал, с кем живешь, паря, чтоб ценил люд не менее себя. Понял? Мазин молчал. И все тоже молчали. — Теперь глянь за борт, — приказал Кит. Мазин застонал, перемещаясь по дну челнока — видно, первый удар Кита был больным, — подбородком зацепился за борт, подтянулся, как паралитик, вгляделся в воду. Глаза у него побелели, словно выварились, подернулись слепой белесой пленкой. Он еще долго не мог прийти в себя, долго ничего не мог произнести. В заключение прошептал машинальное, бесконтрольно слезшее с языка: — Мамочки!
8
А ракушки те оказались удивительными. Когда их очистили от грязи, от всякой налипшей ерунды, от окаменелых бактерий, гречки, накипи, водорослей, то оказалось, что это вовсе не ракушки... Как вы думаете, что? Две старые бутылки коньяка, которые пролежали на дне с тысяча девятьсот сорок второго года.
9
Двадцатого, вечером, приехал Сазоныч. Шумный, радостный, он с гусиным гоготом обнял всех, расцеловал, за ужином удивился, откуда у «гавриков» коньяк, но никто ему ничего не сказал, а настаивать Сазоныч не стал. Не в его было правилах. Это была одна из черт, за которую, кстати, подчиненные любили своего руководителя. Коньяк оказался вкусным, и его растянули на целых три дня. Вскоре они снялись всей командой с насиженного берега и укатили из Коктебеля в Мисхор. О шхуне больше не вспоминали. Только Варвара изредка очень сердито и очень серьезно смотрела на Мазина, потом сожалеюще оглядывала Лящука, и оба они съеживались от взгляда, вбирали головы в плечи. Шансов на Варвару ни у того, ни у другого не было никаких, так как Варвара по-настоящему и, видно, надолго влюбилась в Кита. А Кит был по-прежнему равнодушен и молчалив. Кит был «вещью в себе». Но это уже другая история...
ИМЕНИНЫ
Давно с ним такого не было: за что ни возьмется — все из рук валится, ничего не получается, даже заказное стихотворение для школяра-первоклашки — то, что раньше всегда получалось, сейчас написать никак не может — выпадает перо из некрепких пальцев, и все тут. А ведь считается хорошим, даже более — первоклассным поэтом. Эх, Балаков, Балаков... Нет, определенно фортуна к вам, товарищ Балаков, не тем местом повернулась, определенно. А тут еще сын Тимка начал фокусы выкидывать, выводить из себя — здоровый парень вымахал, лоб под потолок, в институте учится кое-как, «удами» пробавляется, хотя мог бы запросто быть круглым отличником, — косматый, обросший, в джинсах, вытертых до глянцевого блеска, до кордовой нитки, больше смахивающих своей тканью на лысую автомобильную покрышку, а не на штаны, срамотно в таких портках ходить, а он ничего себе, ходит с блаженным видом, — ох и Тимка! Балаков смутно, как-то еще неосознанно чувствовал, что в один из периодов Тимкиного взросления он упустил его, не доглядел, не вмешался в естественный процесс становления сына — и в этом его, отцовская, вина. Но с другой стороны, понимал, что сын обязательно должен пройти через эту стадию бесшабашности (или как ее называть?) и что в будущем он будет, в общем-то, неплохим парнем, будет двигать вперед дело, которому сейчас учится, будет строить, как говорится, завтрашний день. Но пока все происходящее с Тимкой вызывало неприятное ощущение, сродни тихой зубной боли, и тем более это было неприятно, что Балаков ощущал неизбежность всего происходящего и собственную вину: заработался, мало обращал внимания на сына, упустил... Конечно, в этом можно было винить кого угодно, и в первую очередь самого Тимку, но у Балакова натура была не из тех, что способна собственные заботы и вину перекладывать на другого, он привык все брать на себя. И отвечать за все в полную меру. В Доме литераторов Балаков бывает раз в месяц, от силы два, Тимка же — трижды на день; на входе Балакова долго теребит какая-нибудь бабуля с колючим взглядом, и так и этак крутит кожаную писательскую книжицу, бросает недоверчивые взгляды и наконец, удостоверившись, что Балаков есть Балаков, впускает его; Тимке же контролерши начинают улыбаться еще с улицы, дверь перед ним распахивают во всю ширь, коврик перед порогом поправляют. Как-то пришел Балаков в Дом литераторов, а там «пивной день», и в нижнем буфете, что рядом с бильярдной, столы уже накрытые стоят, огромные блюда с распаренными вкусно пахнущими раками придавили хрусткие от крахмала скатерти, на отдельных подставках выстроились бутылки пива: коричневые и черные, желтые и впрозелень темные, витые жгутом и пузастенькие, с короткими, будто обрубленными, горлышками, высокие и низкие, граненобокие и гладкие, толстые и тонкие, дышать на них боязно, — словом, разных сортов, разного вкуса и цвета. И что главное — народу никого, официантка по ту сторону стола скучает. Балаков подошел, поклонился, как и принято вежливому человеку: — Можно ли пива и раков? Официантка разлепила губы, сложенные довольно затейливым бантиком, посмотрела скучно в стену, наморщила лоб, отрезала громко, с горловым аханьем, словно артиллерийское орудие: — Нет. Балаков несколько опешил: от раков так вкусно пахло и были они такие зазывные, яркие, пожарного цвета, что в общем-то... Хотя и знал он, что нельзя вступать в конфликт с непробиваемыми работниками прилавка, нельзя, как говорит молодой поэт Венечка, состоящий на комсомольском учете в Доме литераторов, «качать права», — Балаков все же вступил и задал несколько наивный вопрос: — Простите, а почему нет? — Вы же, надеюсь, среднюю школу кончали? — все так же глядя в сторону, спросила официантка. — Грамоту знаете?.. На объявлении русским же языком написано — продажа начнется с шести часов. Над ее головой действительно висело объявление: продажа будет иметь место с такого-то часа и по такой-то... — А сейчас сколько? — неловко пробормотал Балаков, отвернул рукав пиджака, взглянул на выпуклый, с блестками делений циферблат. До шести еще минут сорок надо было тянуть. — Извините, пожалуйста, — смущенно наморщил лоб Балаков и хотел уже было ретироваться, как услышал за спиной знакомый голос: — Матюсенька, привет! Официантка расплылась в довольной улыбке, будто ей отвалили чаевые, на которые можно, по меньшей мере, костюм купить, или подарили драгоценный камень. — Салют, Тимочка! — сказала она. — Та-ак, мать, — деловито начал Тимка, окинув опытным взглядом пивные редуты, обольстительные рачьи горы, — сделай-ка мне килограмма два этих вот креветок... Да покрупнее. — Ну уж, Тимочка, и креветки! Обижаешь. — Покрупней выбирай, Матюсенька, покрупнее. Та‑ак. Теперь пива «Праздрой» три бутылки, «Пилзеня» тоже три, «Будвара» три и «Сенатора» столько же, да еще дай бутылок шесть жигулевского. Свежее жигулевское-то? — Свежее, свежее, Тимочка. — Тогда десять. А то народу у нас много. Сколько там натекло, подсчитай, — и, пока официантка подсчитывала, Тимка начал осматриваться по сторонам и увидел отца. Что-то сочувственное, покровительственно-обнадеживающее появилось у него на лице, а в глазах, в самой их глуби, промелькнули бесоватые тени, вначале одна, потом другая, он растянул полные и чуть блестящие, будто смазанные маслом либо вазелином, губы, поднял руку в небрежном и каком-то неохотном приветствии, пошевелил пальцами медленно, словно, иззябший, грел их над огнем. — Здоров, батя! — Здравствуй, Тимофей. — Ты чего тут? — Да вот... Пива хотел было, раков... — Что, Матюсенька не дает? — Тимка вывернул голову, посмотрел на официантку, у которой вмиг в подглазьях появилась серая усталая тень, рот приоткрылся обиженно и растерянно. — Что же это ты, Матюсенька, а? Это же мой отец. — Василий Игоревич? — пролепетала официантка испуганно, и у Балакова где-то в глубине, в тайнике души зашевелилось нечто удовлетворенное, тщеславное, но он унял это шевеленье — не любил подобное, посмотрел на официантку хмуро. — Что же вы не сказали, что вы Василий Игоревич? А я, дуреха, не узнала, столько раз видела вас по телевизору и не узнала. Не думала, что вы такой молодой... Я ваши стихи очень люблю. — Вот вишь, батя, — сказал Тимка и, подняв блюдо с дымящимися раками, подержал его немного на вытянутых руках, понес в угол, где уже шумели юнцы и девицы — Тимкино окружение, — щебетали о чем-то умном, попыхивали американскими сигаретами, рассаживались на низких мягкобоких стульях поудобнее. — Кто этот вяхирь? — спросил один из Тимкиных, высокий, с резковато очерченным спокойным лицом, — парень красивый, избалованный собственной привлекательностью, потому и уверенный в себе, пренебрежительный. — Тс-с-с, — приостановился Тимка, тряхнул головой, ссыпая длинные волосы с ушей. — Это мой отец. Ты что, никогда его не видел? Он же столько по телику, по ящику выступает. Эх ты! Сам ты вяхирь! У парня немного пообвисла челюсть, он тихим, жестковатым, с хорошо очерченным «с» голосом прочитал несколько строк из популярного балаковского стихотворения. — Правильно, — кивнул Тимка, и вся его компания начала с откровенным интересом рассматривать Балакова. — Какого пива вам, Василий Игоревич? Выбирайте, — суетилась тем временем официантка. Балаков стоял, опустив голову, и перед глазами у него мелькали одни только официанткины руки — чуть вяловатые, с нежным абрисом, с припухлостями у разъема пальцев, было в них что-то холеное. — Есть несколько бутылок особо холодного, со слезой. Ставишь это пиво на стол, а по бутылке капли бегут. Как слезы, такие чистые. Знаете, как это вкусно — холодное пиво с горячими раками? Хотите? А? — Хочу, — отозвался Балаков, выходя, а вернее выплывая из глубины своего собственного естества, посмотрел печально и отчужденно на пивные редуты. — Сколько вам, Василий Игорич? — выгнулась над столом официантка. — И какого? Марки какой? — Жигулевского. Бутылки две. Того, со слезой... — Правильно, — согласилась с его выбором официантка. — Жигулевское — это самое лучшее пиво. Вкуснее нет. Счас достану из холодильника. Рядом загремел бутылками Тимка, сгреб в одну кучу штук восемь, стиснул ладонями. — Вишь, как она заплясала, а? — шепнул он Балакову на ухо. — Вот что значит быть знаменитым. — Ты думаешь, поэтому? Нет, братец, нет. Только потому, что я твой отец. Скоро и контролерши Дома литераторов меня будут пропускать только потому, что я буду сообщать им: я Тимкин отец, пропустите меня, пожалуйста. Современная трагедия. — Не дури, батя, — Тимка хитро и несколько сердито сощурил глаза и стал походить на избалованного сынка, и Балакову почудилось в сыновьем шепотке превосходство, холодное упрямство, некая рассудительная чопорность. — Ты к нам сядешь? — Нет. — Ну, не дури. Моя компания от тебя без ума. Стихи твои читают вслух. — Знаешь, если говорить честно — меня это мало трогает. — Ну, пап! — просительно, теряя лоск, выгнулся Тимка, в глазах у него появилось что-то хорошее, близкое, родное. — А, пап? — Все. Разговор окончен. У Тимки вид мгновенно сделался побитым, сирым, и Балакову на минуту стало жаль его, но только на минуту, не больше. И тут он вдруг подумал: а не бросить ли здешнюю жизнь ко всем чертям хотя бы на месяц-другой, не сменить ли обстановку, не смотаться ли на юг, тем более что пора для этого подходящая наступает — апрель, весна, все в цвету, в белых и сиреневых дымах, земля в розовину с голубым, ласковая, нежная, теплая, желанная до слез, и охватывает тебя истома, и хочется плакать, глядя на всю эту красу, на пробуждение трав, злаков, деревьев, птиц, на то, как оттаивают облепленные снегом недалекие горные вершины и черные отметины пиков прорезаются сквозь серые ноздреватые нашлепины, будто зубы, спешат поскорее к теплу, к солнцу; через несколько дней томящее чувство проходит, от сладкой тоски и пустоты очищения остаются одни только позывы, следы, тень и наступает хорошее ровное состояние, когда стихи идут одно за другим, слово становится звучным, осязаемым, плотным, его можно подержать на руке, потетешкать, как кусочек приятной тяжести, оно как дробина, как пуля, как свинцовый скол. Балаков сел за стол, выпил пива, которое было приятно холодным, пузырчатым, от него приятно немело нёбо, язык делался подвижным и мягким, исчезло ощущение, будто горло обсыпано пылью, — все смыла горьковатая нежная влага. Раки были в меру солеными, в меру отдавали перцем, лавровым листом, гвоздикой, укропом — словом, как говорит молодой поэт Венечка, состоящий на комсомольском учете в Доме литераторов, «то, что доктор Коган прописал». Из-за Тимкиного стола поднялась девушка — естественно, хорошенькая, у Тимки других быть не может, в свитерочке с продольными разрезами — «лапшой», по-иному, — высокая и гибкая, как большая кошка, приблизилась к Балакову, вытянула откуда-то из-за спины книжку в блесткой, так называемой целлофанированной (ох, и казенное же слово!) обложке, где по красному фону небрежными броскими буквами была выведена балаковская подпись (последняя книжка, только что изданная, огромный шестизначный тираж ее разошелся буквально в два часа, сам Балаков едва-едва достал двадцать экземпляров в Книготорге, да плюс десять экземпляров авторских, которые ему выделило издательство, — вот все, чем он располагал, — книжка эта, право, получилась очень неплохой, в нее вошло все лучшее, что он написал, за что был удостоен Государственной премии), — пока в голове у Балакова происходила некая мыслительная работа, из глубины всплывали на поверхность сравнения, эпитеты, определения — все, что относилось к этому красивому существу из Тимкиной компании... Девушка тем временем что-то проговорила, но вот что? — Балаков не услышал, он только разглядел в расплывчатом уютном полумраке, как зашевелились ее губы, углубились трогательные детские ямочки на щеках, потом все это перечеркнул мах рукой. — Что? — спросил он глухо, наморщил лоб, стараясь освободиться от внезапно навалившейся на него мучительной и стыдной слабости, приложил пальцы к виску, растер плоскую, слегка угловатую ложбину. — Можно автограф попросить у вас, Василий Игоревич? — Можно, — сказал он, достал из пиджачного кармана фломастер с тонюсеньким нейлоновым зерёнышком, отогнул обложку на книге, подумал, что надо бы спросить имя у этой девушки, неудобно надписывать книгу просто так, безымянно... Но удобно ли это будет — имя, фамилия? Так можно и до отпечатков пальцев дойти. В вопросе насчет имени-фамилии есть что-то интимное, обязывающее, что может быть воспринято неловко — все-таки девушка из Тимкиного окружения, и он не знает, в каких отношениях находится с ней сын. Мало ли... Балаков ощутил в себе что-то сумеречное, поугрюмел, подумал, что любые расспросы будут сейчас не очень тактичны и вообще, действительно, есть какая-то обязывающая неловкость в словах: Люде или Тане такой-то от усталого человека, написавшего сию книгу... «Нет, лучше все-таки безымянно, лучше все-таки просто автограф», — решил он и широко, с нажимом расписался. Девушка поблагодарила его, даже сделала книксен, трогательно согнув одну ногу и выставив круглую, туго обтянутую чулком коленку, но Балаков уже не смотрел на нее, он вновь погрузился в свои мысли, будто утонул в них, накрылся с головой. Вообще-то он мало, очень мало внимания уделял последние два года Тимке — проморгал, проворонил момент, когда тот покидал родительское гнездо, когда захотел обрести психологическую самостоятельность, и вот, нате вам, — результат. В нынешнем Тимкином состоянии гораздо больше виноват сам он, чем Тимка: ведь он, Балаков, старше, умнее, опытнее, образованнее сына, мог бы и увидеть неладное, мягко, неназойливо подправить, да не получилось. Сам виноват — проморгал-проворонил, — проморгал-проворонил... Что же теперь делать? Лишить Тимку карманных денег? Метод чрезвычайно примитивный, он только обозлит сына и отдалит его от Балакова. Наверное, остается одно — выждать немного, пусть он насытится вдосталь мнимой своей весомостью, популярностью, что ли, и тогда все станет на свои места... А если не станет? «Тогда придется завернуть гайки, придется действовать круто, — подумал он, — но сейчас, как бы там ни было, вмешиваться пока рано. Не настал черед». А потом, и самому надо войти в колею, забраться в свою тарелку, из которой его выкинуло, даже сам не заметил как. Да еще два издательских договора подгоняют — надо работать... Работать! Словом, нужно переменить обстановку и уехать. Это подействует, как лекарство, все поставит на свои места. Когда он поднялся из-за стола, решение было принято: да, нужно уехать. В Дом творчества. Новые люди, новое окружение, новая обстановка... День ушел на разные хлопоты, на формальности — на приобретение путевки в Литфонде — там всегда придерживали резерв, на добычу билетов, на упаковку чемоданов и прочая, прочая, прочая, прочая... Утром следующего дня он сел на самолет, подремал полтора часа на высоте девяти тысяч метров и очутился в Симферополе. Тут уже была весна. Где-то Балаков вычитал, что весна движется со средней скоростью пятьдесят километров в сутки. Простенькая цифра — пятьдесят километров — как в учебнике по арифметике, и никакой тебе романтики, никакого торжества тепла, цветения, пробуждения земли, все обыденно, сухо, даже скучно. От такого отношения к весне, простите, скулы сводит и глаза горят, будто в них сыпанули перцем. Но несмотря на весну, симферопольская погода ему не понравилась: из редких лохматых тучек, как из прорвы какой, пылило мелкой влагой, деревья, где из почек еще только начали вылущиваться листочки, были мокры и грязны, обочины дорог, там, где за кромкой асфальта рыжеет земляная канва, — разбиты колесами тяжелых грузовиков, — словом, во всей природе, в ее настрое было что-то гнетущее, мутное, по-другому и не определишь. Балаков насупился, внезапно обиженный несостоявшимися надеждами, оскорбительно-унылой погодой, молча сглотнул слюну, забрался в такси. Шофер, поймав его мрачный взгляд, подмигнул ободряюще: — Погодь, друг, счас мы попутчиков найдем, веселее будет. Попутчиков он нашел довольно быстро. Хотя Балаков и ожидал увидеть какую-нибудь необхватную бабу-мешочницу, направляющуюся в Ялту на рыночный промысел, но, странное дело, — нет, не баба предстала перед ним, шофер выдернул из привокзальной толпы двух вполне интеллигентных людей в одинаковых очках — на переносицах и ушах соломенным золотом блестели тоненькие дужки, — усадил их на заднее сиденье, критическим оком оглядел всех троих: — Та-ак, теперь бы нам еще и слабого полу, чтоб полный комплект был. — Зачем? — поинтересовался один из очкастых. Попутчики были разительно похожи друг на друга — ну просто братья-близнецы, выструганы из одного дерева, отлиты по одной форме, или, как это там называется, опоке? — в технике Балаков был слаб — и родились конечно же в очках — тоже в одинаковой, штампованной жестяной оправе. И с одинаково интеллигентными лицами. — Чтоб веселее было, — ухмыльнулся шофер, обнажив широкие и длинные, древесные от курева зубы. Глухое тяжелое раздражение шевельнулось в Балакове, он, поерзав кадыком, взял себя в руки, промолчал, подумал о чем-то тоскливом, своем, одиноком, посмотрел в окно на суетную площадь, на людей, на очередь, сгрудившуюся у междугородной троллейбусной остановки, на огрузшие, ленивые, бесформенно набухшим тряпьем волокущиеся над самыми деревьями облака, и ему стало еще более одиноко и тяжко, щемящий обжим сдавил шею, стало трудно дышать. Он кашлянул в кулак, шофер этот кашель воспринял как одобрение, метнулся к толпе, выхватил из нее молодую, худющую, как веревка, женщину с короткой, цвета ржави, прической и мелкими конопушинами, обсыпавшими нос, втиснул ее рядом с очкастыми на сиденье, проворно взял руль, крикнул: — Поехали! Когда поднялись на перевал, откуда уже была видна голубая, нежная и неожиданно чистая, праздничная полоска моря, обжим вокруг горла ослаб и Балакову сделалось легче. Водяная пыль прекратилась, облачные лохмы остались по ту сторону гор. Им не хватало мощи, «лошадиных сил», легкости, чтобы преодолеть перевальные кряжи. А спустились с перевала и вовсе попали в чистый, незастойный воздух, полный света и невесомого сухого тепла, и Балакову стало неожиданно стыдно, до мучительных слез неловко перед собой за раздражение и обиду, не отпускавшие его в последние дни, за натуженность, внутреннюю взъерошенность, неприбранность. Он обернулся к спутникам, улыбнулся робко, даже заискивающе, интеллигенты дружно стрельнули в него очками, конопатая подбадривающе раздвинула губы. В Доме творчества ему была уже приготовлена хорошая комната, кровать застелена крахмальными простынями, с балкона открывался ослепительный вид на море, совсем рядом, как бы подпирая балкон, раскачивались гибкие, обсыпанные мелкими шишками кипарисы, чуть поодаль высилась крымская сосна, в густоте которой шебуршилась ловкая, цвета дыма белка, расправлялась с орешками. А ниже, за сосной, по спуску, броскими розовыми всплесками, очень похожими на взрывы, цвело «иудино дерево», колченогое, скорченное от муки и позора, с узловатыми, в болевых наростах, ветками. На черных ветках этих листвы совсем не было, набухали какие-то козюльки, смахивающие на почки, но ничего общего с листьями эти пупырышки не имели, а вот цвет гнездился сплошной, он облепил сучки, как пена, свешивался гроздьями вниз. Говорят, что Иуда повесился не на осине — в пустыне, где все это происходило, осина не растет, — повесился Иуда на этом вот скрюченном дереве. Если в Симферополе падала с небес водяная пыль, жидкая мука, то здесь непогодой и не пахло, здесь был свой климат и, подчиняясь законам этого местного климата, светило солнце, цвели деревья, земля кряхтела под напором прущих из глуби трав, злаков, прорастающих, продирающихся наверх семян деревьев и кустарников; в природе ощущалось то устойчивое напряжение, что способствует нарождению нового, очищает горло, легкие, душу, наполняет жизньнашу, все порывы и поступки особым обновленным смыслом. Балаков долго стоял недвижно, щурясь на морскую синь, на белые, смахивающие на мыльницы коробки судов, наряженные в многоцветье флажков, в утопающие в солнечном дыме кряжи, на карачках сползающие к морю. Народу в Доме творчества было не ахти как много — сезон еще не наступил, но присутствие брата писателя чувствовалось и слева и справа; сухо трещали машинки, стук доносился и снизу — только там машинка была либо слишком древней, либо слишком новой, она бухала, как станковый пулемет, а когда хозяин разворачивал каретку, приводя ее в исходное положение, то мощная стена здания тряслась, словно рядом проезжал трамвайный вагон. На следующее утро Балаков проснулся, когда солнце еще только поднималось над горными отвалами. Было рано и сыро, не истаял еще пот ночной. Балаков покрутил головой, поерзал виском по подушке, соображая, что же его разбудило — вроде бы сон был глубоким, ничто не проникало в него извне, но тут раздался тяжелый пулеметный стук, какой-то неестественный, с подвизгом, пронзительный, на высокой ноте, потом стук прервался и был сменен тряским скрежетом. «Неужто брат письменник в четыре утра начал вставать? И сразу за работу, а?» — завистливо восхитился Балаков, поднял голову и вдруг сквозь стекло балкона увидел, что буквально напротив на вершине кипариса раскачивается здоровенный крапчатый скворец-желтоклюв, прочно вцепившийся лапками в ветку; вот он распахнул зев, напряг горло, взъерошил оперенье, будто петух перед дракой, и в стекла вновь застучал пулеметный грохот машинки — той самой, на которой трудился сосед, что снизу. Балаков рассмеялся: ишь прохиндей-скворец, чему обучился, а? — передразниванию. Окно снизу тем временем раздвинулось, владелец «станкового пулемета» швырнул в скворца хлебной коркой, тот плутовато покосился, сощурил глаз, улыбнулся чему-то своему, птичьему, перемахнул на соседний кипарис, дал очередь оттуда. — Кота хорошего на тебя нет, — проворчал владелец «станкового пулемета». Вообще, надо заметить, что дом был полон своих мелких тайн, обычаев, примет, явлений, жизнь в нем протекала многослойно, — как говорится, сразу на нескольких ярусах, и «коты хорошие» тоже обитали в нем, тут не прав был владелец «станкового пулемета». Насчет котов. Главным среди них был Интеллигент — серый, в едва приметную полоску, с умными недоверчивыми глазами. Он объявлялся в дни, когда в зальчике, расположенном рядом со столовой, а вернее под ней, на первом этаже (столовая была на втором), крутили кино. Интеллигент мягкой, неслышной походкой входил в зальчик за две минуты до начала фильма — не позже и не раньше. Внимательно рассматривал присутствующих, потом вспрыгивал в одно из кресел первого ряда и спокойно ждал, когда погаснет свет. Если фильм был хорошим, он смотрел его до конца, если же так себе, средним или плохим, то минут через десять спрыгивал с кресла и удалялся. И уж коли Интеллигент покидал зал, фильм можно было дальше не смотреть — вкус у кота был почище, чем у иного кинокритика, безошибочный был вкус. Балаков, увидев серого умника, вспомнил о другом коте — совершеннейшем антиподе Интеллигента, ершистом, нечесаном, с вечно пьяным взглядом и таким хриплым голосом кабацкого кутилы, что казалось, будто он родился в пивнушке и провел под столом, среди винной посуды и опивков, всю свою жизнь. Кот этот поселился в балаковском подъезде в начале зимы, обжил место под, батареей, орал хрипло по ночам, будя людей; бегал за жильцами по лестницам, кусая за отвороты брюк, просил мясо либо колбасу и, если угощенье ему не выносили, мог своими острыми, как бритва, когтями располосовать обшивку на двери. В общем, спасу не было от этого разбойного кота. Некоторые сердобольные старушки пробовали его приручить, для этого заманивали в квартиру; кот, необычно вежливо щурясь и подергивая обкусанными усами, поддавался на заманивание, входил в дом, выпивал молоко, съедал рыбу и мясо, которые ему давали, укладывался спать в отведенном месте, но посередь ночи вдруг начинал орать своим страшным хрипатым голосом, проситься на улицу и, если его не выпускали, сдирал лапами обои со стен, мочился на полированную мебель и, вскочив на стол, ударом хвоста сбрасывал с него посуду — так кот выражал протест против заточения, требовал свободы. Коты, как и люди, они разные бывают, у каждого свое неповторимое «я», свой характер. Интеллигента с тем хрипатым, например, ни за что не сравнишь. Еще в Доме творчества жил старый мудрый пес Мухтар с седой мордой и тоскующим взглядом. Был он знаменит тем, что никогда не лаял на членов Союза писателей — другого облает ни за что ни про что, обматерит на своем собачьем языке, как говорится, со всех сторон. Как он их распознавал, уму непостижимо — по запаху, что ли? Может, по отрешенным глазам или особой манере ходить? Такие существа, как Интеллигент и Мухтар, были симпатичны Балакову, они нравились, как может нравиться все умное, мыслящее, по-доброму смешное (упаси бог, смех злой — не надо его), способное отличаться от другого, себе подобного. Соседями по столовой оказались люди тихие — старичок из Донбасса, давным-давно, еще в тридцатых годах создавший одну книжку (ныне же о нем никто, кроме него самого, не знал, что он писатель), его жена-старушка, до мелочей похожая на своего мужа — то же округлое спокойное лицо с припухлостями в подглазьях, коротенький, чуть встопорщенный кругляшик носа, челочка, косо свисающая над лбом, глаза, блесткие и живые, смахивающие на арбузные зерёнышки. Балаков слышал, что домашние животные бывают похожи внешностью и норовом на своих хозяев, но вот чтобы такое происходило с женами — никогда. Ели соседи молча, аккуратно, осторожно. А пообедав, быстро поднимались и уходили из столовой. Еще за одним столом с ним сидел славный парень Георгий Сергеевич, геолог, писатель, сын тайги, но, несмотря на это, донельзя застенчивый человек. Представляясь, он почему-то отчество свое произнес с тремя «е» — «Сергееевич», смутился, налился стыдливой буротой, опустил глаза книзу, будто первоклассник, схлопотавший двойку. Георгий Сергеевич очень живо и интересно рассказывал (каждый рассказ его являл собою готовую новеллу, как у Ираклия Андроникова) про свою тещу — славную женщину, которая опасно заболела, но не умерла, потому что нельзя было умирать (нельзя и некогда: то огород, то детишки малые, то стариков надо обиходить, то сено скосить, то капустный засол на зиму сделать, — постояла-постояла костлявая на пороге, ожидаючи, да и потопала обратно, не стала трогать обремененную заботами женщину), про встречи с Михайлой Косолапым, нос к носу в тайге, в зарослях ягод, про коллег-геологов, — и эти рассказы Балаков слушал с удовольствием. На глазах у Балакова к Георгию Сергеевичу привязался бродячий кобель, ткнулся грушиной носа в руку, вмиг распознав в геологе хорошего человека; Георгий Сергеевич привел кабысдоха к себе в комнату, вымыл его под краном, потом начал вытирать — вначале полотонцами, а когда полотенцев не хватило — рубашками. Все до единой использовал, даже в столовую пришел в мокрой сорочке: шерсть-то у бродячего кобеля была сродни медвежьей в пору зимней спячки — густой, проволочно негнущейся, такую не сразу высушишь, не сразу вытрешь. Хороший был человек Георгий Сергеевич. Однажды над Крымом посередь дня попасмурнело — случилось солнечное затмение, и в полуденном мраке предметы начали зловеще светиться, отбрасывать длинные, в изломах, тени, и все вокруг таинственно и жутко притихло, сама жизнь истаяла, умолкли птицы, травы, деревья, горные кряжи, лишь мертво и мерно, словно метроном, долбило море о берег, и все с оцепенелыми лицами считали удары, а кое-кто уже начал судорожно метаться в поисках закопченного стекла, чтобы убедиться, что солнце еще живо, что оно всего на каких-то четверть часа прикрыто лунным шариком, но стекла, как на грех, не находилось, так Георгий Сергеевич сбегал к себе в номер, вынес бутылку хорошего темного вина «Джалита», налил в стакан, поднял его над головой, глянул в кругляш донья на светило, улыбнулся широко и смущенно: — Товарищи, очень даже хорошо можно солнце наблюдать. Подходите. Только со своими стаканами. Всем налью. Бутылку пустили по кругу, все успокоились, утихомирились, а когда солнце очистилось от тени, тучи посветлели и попрозрачнели, то устроили небольшой пир вокруг «Джалиты», совсем позабыв про ее владельца. Словом, с «обеденной компанией» у Балакова тоже было все в порядке («нормалёк», как выразился бы сын Тимка. Находясь у себя дома, Балаков вспоминал выражения только Венечкины — поэта, состоящего на комсомольском учете в Доме литераторов; находясь же в отъезде — только Тимкины и больше ничьи). Он много бродил по городу, всем интересовался, старался дышать полной грудью, чтоб побольше захватывать света и воздуха, чтоб поскорее освободиться от беспомощного состояния «не пишется», прийти в себя. А стихи пока не шли: пробовал браться — не получалось. Очень часто во время прогулок он слышал за своей спиной проволглый от сдерживаемого восторга шепоток: — Глянь-ка, Балаков пошел! Но на работу эти шепотки никакого влияния не оказывали. Однажды он забрел в небольшой прохладный винный подвальчик, заточенный в боковине крохотной горбатой улочки, выплескивающей свои обкатанные, хорошо подогнанные булыжины на набережную, взял немного «Джалиты» — от Георгия Сергеевича он уже знал, что Джалита — древнее название то ли Крыма, то ли Ялты, в общем места достойного, — долго сидел в темном и приятно прохладном углу, смакуя вино, беря на кончик языка капельку и прижимая эту капельку к небу, ощущая сразу все вкусы, все составные «Джалиты», все запахи, весь нектар, думая о чем-то необязательном, вспоминая недавнее, еще свежее в памяти, и давнее, уже ушедшее и начавшее забываться. Напротив него пристроился на резном дубовом табурете худощавый, с выпирающими из-под тенниски ключицами человек, с россыпью волос по обе стороны головы, улыбчивым и спокойным взглядом, с хорошо выбритыми, буквально до загорелой розовины выскобленными подскульями. Перед собой он поставил три стаканчика с вином, в одном было налито «Бастардо», в другом — «Джалита», в третьем — «Магарач» — вина темные, с рубиновой рябью искор, слабо вспыхивающих в ночной колобродной глуби, звонкие от солнца, напитавшего эту жидкость, от небесной тверди, сильные силой земли, откуда и пророс ягодный корень, сильные духом своим и веселостью. Человек посмотрел на Балакова печально и мудро, смешно шевельнул ушами, еще больше выпятил ключицы, засветился светло и виновато. — Вот хочу проверить, насколько подвальное вино отличается от заводского. Или же не отличается вовсе... Не добавляют ли чего? — А бывает? — Все бывает. — Скажите, «Бастардо» — что это обозначает? — В переводе, — «незаконнорожденный», еще «байстрюк», как говорим мы, хохлы. Случайно получилось это вино... Изобрели его случайно, потому и незаконнорожденное. Никто его не ожидал. Но вкусное. А? И даже очень, — он отхлебнул из стаканчика немного «Бастардо», почмокал губами, прислушался к чему-то потайному, спрятанному вовнутрь, нагнул голову, шевельнул ушами и снова улыбнулся, будто уловил, различил то, что надо было уловить, что надо было различить, какие-то особые вкусовые тонкости. — Вполне. Вполне... — Вы дегустатор? — В некотором роде. Больше контролер. А вас я знаю, — дегустатор тряхнул головой, волосы взметнулись двумя птичьими крыльями, опали. Балаков приподнял кончики плеч. — Вы — Василий Игоревич Балаков, поэт, лауреат Государственной премии. У меня все ваши книги есть. Вы сюда в Дом творчества приехали? — Вроде бы. — Как чувствуете себя? Хорошо пишется? — Пока нет. — Застопорило? Бывает. В нашем деле тоже так... В общем, бывает. В разговоре Балаков понял, что этот человек не так-то прост, как кажется с первого взгляда, он многослоен, и те незначительные фразы, которыми он перебросился с Балаковым, практически еще никак его не характеризуют. Собеседник его тем временем говорил о чем-то, но слова обтекали Балакова, как течение обтекает пловца, собирались стайками в подвальном рассыпчатом мраке и, будто крошево какое, оседали вниз, под ноги. Вот по ним пробрел человек, пересекший подвальчик по косой, слова захрустели жалобно под подошвами, обращаясь в пыль, в ничто. Потом Балаков увидел, что дегустатор поднялся из-за стола, отхлебнул немного вина из оставшихся двух стакашков, губы его удовлетворенно шевельнулись, — кажется, и с «Магарачом», и с «Джалитой» было все в порядке, произнес несколько слов, но Балаков опять их не услышал, он еще не выплыл из глубины самого себя, не пришел в сознание. Дегустатор повторил сказанное, и тут словно прорвало, будто кто ватные тампоны выковырнул из ушей. — Давайте я вам нашу «Массандру», головное предприятие, покажу. А, Василий Игоревич? Балаков подумал неожиданно, что самое высоко благодеяние, преподнесенное человеку природой, — это общение. Прав был Экзюпери, сказав об этом... Что бы делал человек без общения? Наверное, захлебнулся бы в собственной тоске, в немощи и мощи, в мыслях и печали, в невыплеснутой хуле, черноте, в затирухе мыслей — утонул бы человек, ей-богу. Он кивнул согласно, наморщил лоб, ругая себя и одновременно извиняясь пересел дегустатором за собственное невнимание, за то, что до сих пор не удосужился узнать его имя-отчество, за внезапную глухоту и немость. — Как зовут-то вас? — спросил он, стараясь изгнать из голоса сердитость, сделать его приятным, мягким. — Несложно зовут, — отозвался дегустатор, улыбнулся в ответ тихо и несуетно. — Виктор Владимирович. А фамилия — Косаренко. Балаков поднялся, одернул пиджак, выпрямился во весь рост. Он был высок и длиннорук, с вытянутым, немного излишне обуженным книзу лицом. — С удовольствием принимаю ваше предложение, Виктор Владимирович. Несколько раз бывал Балаков в Крыму, бывал и на предприятиях — самых разных, но вот на винном заводе — увы — ни разу. Не пришлось, не довелось. У Виктора Владимировича был и транспорт свой — в проулке стоял новенький, пахнущий заводским духом, сложной замесью масла, свежего железа, резины и пластмассы «рафик». Шофер, молоденький, с голым шишкастым затылком, недавно остриженный (видно, скоро в армию), с места взял космическую скорость, под колесами туго завизжал асфальт, дома начали косо заваливаться назад, оскользать под свистящим напором воздуха. Прошло несколько минут, и вот уже мелькнуло последнее городское зданьице с осиненными, крашеными известкой стенами, и замелькали кусты и деревья, невысокие кипарисы, которым здесь, на просторе, чего-то не хватало, каких-то солей или вод, а возможно, их просто безжалостно сжигало солнце, и они, перегретые, имели столь малоразвитую, хворую стать, затем на полном ходу, под вонзающийся в уши скрип тормозов сделали поворот налево (сын Тимка сказал бы: «Сверток налево»), потом — еще немного визга, свиста и охлестов воздуха, и «рафик» остановился у чистенькой остекленной проходной, за которой начинался ровный, облитый асфальтом двор. По правую руку, во дворе, стоял длинный, смахивающий на конюшни и на крепость одновременно домишко. — Вот она, наша «Массандра», — тихо и нежно проговорил Косаренко, провел перед собой рукой. — Раньше сюда с экскурсией можно было устроиться запросто, а сейчас — увы. Много желающих, мешают работать, пришлось прикрыть это дело, — он замолчал, улыбнулся чему-то своему, далекому, давно познанному, привычному. Место выбирал сам князь Лев Сергеевич Голицын, главный винодел удельных имений Крыма. — Почему же именно здесь, в предгории? Вроде бы ничего примечательного тут нет... — Есть, Василий Игоревич, есть. Здесь из-под горы бьет чистый источник, большой, река настоящая... А для виноделия хорошая вода — это, можно сказать, основа основ, главный компонент. — Кто здание строил-то? — Татары и турки, им было заказано. Пойдемте-ка, Василий Игоревич... Потом, уже много позже, перебирая в памяти детали этого похода, Балаков не мог вспомнить, как они очутились на слабо освещенном, похожем на предбанник пятаке, обнесенном металлическими перильцами. Где-то высоко, оплетенная металлической сеткой, незряче посверкивала маломощная лампочка, от которой было проку не больше, чем от петуха сливочного масла (Тимкино выражение, оно всплыло тогда в памяти), Косаренко оставил его здесь на недолго, а сам пошел «утепляться». В подвалах, куда они собрались пойти, было довольно холодно, всего четырнадцать градусов тепла — температура постоянная и летом и зимой. Балаков постоял немного у доски, привинченной к грубой, сложенной из нетесаных бугристых камней стенке, — доска, медная, тяжелая, кажется, специального заказного литья, была установлена в честь Голицына. Другая доска, только уже не медная, а серебристая, с переливом, с черными выбоинами — следами чеканки, венчала стенку лицевую, также несильно освещенную, из необработанного камня, шипастую, холодную. На этой второй доске были выбиты слова Горького, побывавшего когда-то на заводе: «В вине больше всего солнца... Да здравствуют люди, которые умеют делать вино и через него вносить солнечную силу в души людей». «А что? Правильные, хорошие слова. Сделать хорошее вино — это же большое искусство, это же радость людям приносит. Правда, невольно возникает мысль об алкоголиках, но... — Балаков переступил с ноги на ногу, — интересно, откуда эти слова? Из статьи? Или из рассказа?» Что-то он не припомнит этих слов. Откуда же они? Он сунул руки в карманы пиджака, стиснул пальцы, которые были холодными, вялыми, немного чужими, непослушными. Оглянулся на звук, по легкости шагов понял — возвращается Косаренко. — Виктор Владимирович, откуда горьковские слова? — Из книги записей. Балаков задумчиво улыбнулся, ощутил под лопатками какую-то незнакомую закаменелость, холодок — вот и к жизни бессмертных прикоснулся, рядом постоял, подышал одним воздухом. — Пробыл Горький тогда у нас недолго, — продолжил тем временем Косаренко, — меньше часа. А уходя, к приписанному сделал еще и добавление: «Ушел относительно трезвый из-за недостатка времени». — Книга эта цела? — К сожалению, нет. В войну, когда Крым был занят немцами, на завод приехал гестаповец. Здоровенный, как лошадь, в коже, на автомобиле длиной с корабль. «Опель-адмирал» тот автомобиль. Побыл час, забрал документы, в том числе и книгу записей. К нему подошел наш старый винодел Новичков. Павел Алексеевич. Попросил Новичков, чтоб немец оставил книгу, да не тут-то было... Гестаповец довольно красноречиво пощелкал пальцами по кобуре пистолета, потом сделал: «Пух-пух!» — хорошо, что голосом попугал, а не из пистолета пульнул — и укатил. Так книга и пропала. — Жалко, — тихо проговорил Балаков. Величина заводских подвалов поразила его — подвалы были огромны, как олимпийские стадионы, полны простора и особой подземной сухости, тишины. Здесь можно было устраивать автомобильные гонки, подвалы могли вобрать в себя все ялтинское городское движение. С троллейбусами и такси, с грузовиками, автобусами, легковушками, пикапами, поливалками — со всеми механизмами, приспособленными к движению. На бокастых, поставленных в определенной, хорошо продуманной череде бочках были наклеены серые квадратины паспортов, где о будущем вине известно досконально все: и когда бочка была загружена, и какой сорт винограда из какого совхоза был использован, и количество ягоды, и купаж, и крепость, и сахаристость, и кислость — все, все, все! Балаков даже не подозревал, что хорошее вино так сложно изготавливать, что у него такая мудрая технология, что так много колдовства и умения надобно человеку, чтобы заковать, полонить солнце, превратить его во вкусно пахнущую, чуть вязковатую от сладости и горечи жижку. Отдельные бочки были так велики, что бедняга Диоген, поселись в такой махине, должен был бы заиметь, по крайней мере, велосипед, чтобы объехать свое жилье, осмотреть его. В чоповое, что снизу, отверстие, заткнутое массивной, сработанной из чурака пробкой, могла свободно пролезть человеческая голова — вот какие это были бочки! Пахло сухим буком, дубом, давленой ягодой, ключевой водой, хлебом, разгоряченной землей, еще чем-то хорошим, добрым, славным. — Вот эту бочку мы сегодня пустим на оклейку, — Косаренко огладил рукой лишенный зазубрин бок — металлически-твердый, естественной пепельной окраски, с вороновой просиныю от старости, огромный. — Что это за крокодил такой — оклейка? — поинтересовался Балаков, которого все происходящее начало понемногу выводить из состояния заторможенности, душевной худости, вялости. Он физически остро, беспокойно, до головокружения радостно и слезно ощущал, что к нему возвращается жизнь. — Оклейка — это, чтоб очистить вино от грубости, от механических примесей, сора, мы добавляем в бочки рыбий клей. Либо желатин. Вино после оклейки становится самим собой. Чистым, мягким — словом, хорошим вином. А сейчас, Василий Игоревич, я вам святая святых покажу — библиотеку вин, иль, иначе говоря, энотеку. Энотека — это от слова «энос», от вина, значит... Греческое, — Косаренко остановился у простенькой, сплетенной из металлических полос двери, разъял сцепку замка, отодвинул тихо взвизгнувшую половину в сторону. — Прошу! Вдоль стен были установлены стеллажи, похожие на библиотечные. На стеллажах головками к стене лежали бутылки самых разных цветов и форм, покрытые пылью и паутиной, — бутылки здесь не трогают десятилетиями, это запрещено, можно испортить хорошее старое вино. — В нашей энотеке в основном десертные и крепленые вина. А вот вин сухих... Энотека их находится в Молдавии. Еще в Грузии есть. А крепленые — это наша библиотека вин. Когда несколько лет назад в Тбилиси проходил конкурс виноделов, то открыли одну бутылку хереса из нашей коллекции... Херес 1775 года рождения. Попробовали его знаменитые виноделы, почмокали губами, ничего не сказали. Когда же репортеры кинулись к ним: «Ну, как вино? Сохранилось ли?» — самый старый винодел окоротил их, бросил одну-единственную фразу: «Желаю, чтоб люди так долго жили, как живет это вино». — Косаренко обернулся, стукнул костяшками пальцев по раме стеллажа. — Вот царские портвейны: «Ливадия», портвейн красный 1894 года, вот белый, тоже «Ливадия», 1892 года, вот «Массандра» 1900 года, вот «Слезы Христа» — вино, которое любил Николай Второй. Когда он приезжал в Крым, то останавливался у подвалов и, не дожидаясь, пока ему нальют, окунал пальцы в бочку и обсасывал их — таким сладкоежкой был царь российский. А вот вино «Седьмое небо» 1880 года — это дело рук самого князя Голицына. Как-то он искал новый сорт вина, и у него долго ничего не получалось — то смесь слишком терпкой была, то слишком сладкой, то горькой, то крепкой, то еще какой-нибудь. Когда все было испробовано и никаких шансов на открытие нового вина уже не осталось, он приказал слить все в один чан и прекратить поиски. Через несколько дней увидел случайно, что к чану подошел рабочий, зачерпнул кружкой вина, выпил. Заинтересовался князь, взял и сам попробовал вино. И воскликнул: «Это то, что надо!» Случайно полученное вино назвал «Седьмым небом». Оно такое же, как и «Бастардо», случайное... — Любопытный человек был тот князь... — Несомненно. Все свое состояние, состояние жены он вложил в виноградники. Видел он в водке зло, старался у людей привить вкус к хорошему вину, которое не во вред, а на пользу идет. В Москве у него был даже специальный магазин, где за низкую цену продавалось настоящее крымское вино. А потом рассказывали, он однажды даже революционных студентов у себя укрыл. Вот какой это был князь Лев Сергеевич... А здесь, смотрите, на стеллаже херес де ля Фронтера 1775 года, который виноделы в Тбилиси-то пробовали. Семь бутылок осталось. Здесь — «Шато Дискур»... — Сколько же стоит вся библиотека вин? — А нет ей цены, — просто, даже слишком просто, обыденно ответил Косаренко, — коллекция бесценная. Как картины в Лувре. Приезжал тут к нам один миллиардер, походил вдоль стеллажей, вытащил из кармана чековую книжку. «Пишите сумму, — потребовал, — сколько миллионов она стоит, пишите. Я плачу. Деньги ваши — коллекция моя!» — Сделка не состоялась? — Не состоялась. Между бутылками белели какие-то кубики, наподобие тех, что вырезают из пенопласта, наверное, реле какие-нибудь, сигнализация — вина охранялись так же тщательно, как охраняют, к примеру, золото и драгоценные камни. Балаков подумал о сыне: Тимку бы сюда, чтоб посмотрел, подивился всей этой сказочной редкости, богатству, напиткам, несущим в себе радость... А вообще, интересно, какой бы была его реакция — пренебрежительной или же удивленной, как бы сын повел себя? Балаков машинально растянул губы в полуулыбке-полуусмешке. — Раз в пятнадцать — двадцать лет мы в бутылках меняем пробки, заливаем заново сургучом, — продолжал рассказ Косаренко. — Не выдерживает пробка, преет она, — Косаренко оглядел напоследок хозяйство, все ли на месте, ничего ли не тронуто. — И вообще, непонятно, почему мы считаем, что боги на древнем Олимпе пили именно нектар... Ничего подобного! Они пили не нектар, а старое, выдержанное вино. Да. Даже более, наши лучшие вина, коллекционные — они, пожалуй, повкуснее нектара будут. Их у нас немного, но зато все знаменитые. Воспитывать их очень и очень трудно. — Воспитывать? — Да. Хорошее вино воспитывают, как и человека. Это истина, — Косаренко был увлеченным человеком, когда он говорил о виноделии, движения его становились пластичными, округлыми, худоба исчезала, ключицы делались плоскими и убирались в грудную клетку, в манере вести речь появлялось что-то от профессионального оратора, и вообще, весь он преображался, становился красивым, самобытным, или, как говорят актеры, характерным. — Например, мадеру мы воспитываем целых пять лет, в открытых емкостях, на солнце. Если ставим бочку в триста литров, то получаем двести... Сто литров — это сор, примеси, дурные манеры, нехороший налет. И вообще, если признаться, странная у нас вещь получается — мы боимся говорить о винах. Почему? Да потому, что отождествляем их с пьянством, и совершенно напрасно. Человек, если он алкоголик, не только вином, но и зубным порошком вдребезги напиться может. И коллекционным нектаром, о котором мы только что говорили, тоже, конечно, набраться можно. Случается такое иногда. Случается, что тяжелый труд одним махом псу под хвост уходит. Но, ей-богу, очень обидно становится, когда вино ординарное и вино марочное, коллекционное на одну полку ставят. В Италии я был, так там разница в цене между простым и марочным вином в сто, в двести, даже в триста раз существует, вот сколько. На новое вино надо в газетах рецензии давать, как на спектакли иль на книги, чтобы человек знал, что за вино увидело свет. Надо рассказывать о каждой новой марке... И-эх! — Косаренко махнул рукой и замолчал. Он шел впереди Балакова по цементному, с гладко обмазанными стенами коридору, опустив голову и устало шаркая подошвами, словно старик. Чувствовалось, что все, о чем он говорит, накипело в душе, в сердце, это боль его, его забота, мысль, плач, смех, радость, испуг, восторг, это все, чем живо его существо, суть человеческая. — Простите, заморочил я вам голову, — пробормотал он тихо и виновато. — Больше не буду. Дегустационный зал оказался довольно просторной, обшитой лакированными планками комнатой, с высоким потолком и картинами на стенах. Видно, Косаренко успел предупредить кого-то, и на столе уже наготове стояли пузатые, толстого зеленоватого стекла графинчики, на горлышки были надеты бумажные колпачки с названием вина. Косаренко сел на лавку, похмыкал в кулак, словно артист перед выступлением, посмотрел перед собой отгоревшими, с исчезнувшей болью глазами, скусил с ободранного пальца завертыш кожи. — Простите меня... — Господи, да за что? Но Косаренко не ответил на это «господи, да за что?», подтянул к себе ближний графинчик, налил немного вина Балакову, придвинул. — Это мадера. Обратите внимание, какой у нее вкус. Сложный, горьковатый, прозрачный. Потянулись какие-то сладостные, полные хорошего, здорового упоения минуты; было такое ощущение, словно присутствуешь на органном концерте, музыка вливается в тебя, наполняет каждую мышцу, каждую жилку восторгом, силой, бодростью. Тихие слова Косаренко проникали в мозг откуда-то извне. — А вот портвейн. Все боятся этого названия, шарахаются от него, потому что напиток этот стал нарицательным из-за знаменитого массового портвейна, которым забиты все магазинные полки. А портвейн — это благородное сложное вино, тут много ягодных тонов, тут и вишенная косточка, и грушевая ость, тут замес из добрых десяти ингредиентов. Действительно, коллекционный массандровский портвейн был отменным. — А вот токай — вино, рожденнсе в Венгрии. В старости токай бывает даже лучше муската. Тут и айвовые тона, и поджаренная корочка хлеба. Когда пробуешь хорошее вино, очень важно прислушиваться к самому себе, важно ощущать все вкусовые перемены, улавливать все нюансы, говор, игру, танец, песню напитка, туг очень важен не вкус, а послевкусие. А вот — «Черный доктор». Так мы называем вино по сорту ягоды «Эким-кара». По преданию, этот виноград посадил какой-то врач, обликом черный, вот отсюда-то все и пошло. Это — аборигенное крымское вино с шоколадными, кофейными тонами... Чувствуете их, Василий Игоревич? На смену «Черному доктору» пришло вино, без преувеличения, королевское — такое Николаю Второму, наверное, и не снилось — мускат белый Красного камня. Не «Красный камень», а именно «Красного камня» — по названию местечка, где растет винная ягода — кизил-таш. — Лучше у нас нет ничего, — издалека донесся голос Косаренко, — об этом вине трудно рассказывать, его надо попробовать, посмаковать, прикоснуться к нему. Четырнадцать золотых медалей, два кубка гран-при — вот какой его нынешний счет. Все происходящее являло для Балакова некую сказку, таинство, шаманский процесс, обряд, полный колдовства, неизведанной истомы, щенячьей теплоты, чего-то сложного, многомерного, чему и определения нет. Он вдруг засмеялся по-ребячьи беспечно и легко, подумал, что есть, наверное, на свете бог, раз он послал Виктора Владимировича, послал сегодняшний день, Крым и Массандру, небо, солнце, вино, горы, женщин, море, траву, птиц — все, чем жив, чем крепок человек. Они долго еще бродили с Косаренко по заводскому двору, подставляя солнечным уколам лицо, щурили глаза от прямых попаданий, много говорили о Бальмонте и Волошине, Кара-Даге и Золотой тропе, о шахматном чемпионате и археологе Бернштаме, об Ольстере и Мексике, о новом полпреде республики Бурунди в Советском Союзе и музыке Глазунова, о Байкале и Черном море, о коричневых шабашах в Гамбурге и трагедии итальянского городка Севезо, — говорили и никак не могли наговориться, словно два добрых, давно не видевшихся, но вот наконец-то встретившихся друга. На прощанье Косаренко подарил Балакову две узкогорлые, расплющенные книзу, очень похожие на колбы бутылки, опечатанные золотой фольгой, с красной опояской. В бутылках плескалась чуть вязковатая, отстойная влага бронзово-древесного цвета, от взгляда на которую и от воспоминаний о только что совершенной дегустации у Балакова даже защемило горло, щекотно онемели зубы, нёбо, язык — мускат белый Красного камня. — Спасибо, — неловко пробормотал Балаков, пожал руку Косаренко. — Не за что. — Косаренко задержал руку Балакова в своей. — А что вы сегодня вечером делаете? — Собственно... ничего! Может, в кино пойду, у нас сегодня фильм дают. — Василий Игоревич, есть предложение. У моей жены сегодня именины, гости собираются. Я хотел бы вас пригласить. — Неудобно как-то. — Все удобно. Жена моя в редакции работает, соберется пишущая публика, ее друзья. Меня они старательно не замечают, черной костью считают, хотя моим вином и не брезгуют... Пойдемте, а? Меня хоть поддержите. — Удобно ли? — Ей-ей, удобно. Я был бы вам очень признателен. А? — Хорошо. Только вот что, Виктор Владимирович, не говорите, кто я, не представляйте, а то будут держать меня в фокусе, и тогда я замкнусь. Как в электричестве — плюс на минус. А если уйду в себя — неловко получится. Ладно? — Хорошо, Василий Игоревич. Я вас представлю... Ну, скажу, что вы инженер с комбината, а? Тогда вы такой же черной костью, что и я, будете. Идет? — Договорились. Балаков появился в доме, когда веселье уже набрало силу. На улице за окнами пронзительно синел чистый вечер, стояла некурортная, непуганая какая-то тишина, от которой перехватывало дух и уши закладывало тычками; а в комнате, где был накрыт стол, трепетала сумеречь. Света тут не зажигали, вместо него шипели, потрескивали пламеньком три свечушки размером не больше мизинца, прозрачные, тощенькие, слабосильные, с витыми пеньковыми канатиками, неровно запрятанными в тулова, а вокруг свечушек плоскими сизыми слоями плавал дым, перемещаясь из глуби комнаты к окну, к высасывающей воздушный мусор форточке. Косаренко представил Балакова как инженера с комбината, и на него мало обратили внимания — застолье продолжало жить своей жизнью. Балаков пробрался в затененный угол, где его совсем не было видно, растворился в полутьме. Косаренко сел рядом и, нагнувшись к балаковскому уху, в нескольких словах охарактеризовал каждого из присутствующих. В противоположном углу, как раз напротив Балакова, сидел молодой человек по имени Кока — высоченный, с хорошо развитыми плечами и неистребимо уверенной улыбкой на лице. Настоящее имя его было Коля, но всем он представлялся как Кока. Работал он в редакции на самой младшей штатной должности и писал стихи. По обе руки от Коки сидели две девушки, довольно модненькие, с легкими чистыми волосами, закрывающими узенькие, трогательные в своей птичьей хрупкости плечи. Кока постоянно наклонялся к ним и «требовал ласки», — он так и говорил: «Требую ласки!» Здесь же находился и Кокин поэтический покровитель — пухлый, с розовыми, налитыми молоком щеками, с певческим тенорком человек, одетый в черную пару. Под самым горлом у него, в распахе высокого, деревянной крепости воротника свободным слабым узлом была завязана креповая бабочка. Звали этого человека Симон («Может быть, Семен или Серафим?» — подумал Балаков); движения у него были властными и вместе с тем безразличными; он свободно влезал в любой разговор, высказывал свое суждение, сыпал налево-направо поэтическими строками, и все внимательно прислушивались к нему, даже Кока прерывал любовный бормот и, полуприкрыв глаза, слушал речи патрона. Был еще худой длинноволосый актер, небрежно одетый, с тяжелыми, сонными веками, ухаживающий за женой Косаренко Инной, и это ухаживание сразу же начало причинять Балакову боль, неудобство, он страдал за Косаренко и встревоженно горбился, втыкаясь острыми костистыми локтями в колени. — Вон тот поэтический дуэт, Кока с Симоном, мне всю плешь переели, — пожаловался шепотом Косаренко. — Зачем же вы их приглашаете? — Жена приглашает. Ей это, видите ли, для общего развития необходимо. Тут присутствующие зааплодировали, призывая к тишине и вниманию, и действительно, установилась тишина, в которой был слышен сальный трест свечушек да еще одинокие шаги, опечатывающие тротуар под окнами дома. Кока поднялся, покрутил головой азартно и самозабвенно, прикрыл глаза и начал читать стихи — еще совсем детские, всюду в рифму, альбомные, в них были и любовь, и «сердце, пронзенное стрелою амура», Балаков сразу понял, что к чему, перестал на Кокины стихи обращать внимание, да и незачем было обращать внимание на школярские потуги, каких полным-полно в каждом классе, в каждой семье, — несерьезно это, он склонился к Косаренко, завел было речь о «Массандре», но Кока в это время закончил читать, его стихи, судя по всему, понравились окружающим, все стали хлопать, и Балаков поморщился, будто скусил зубом бок у дичка и ядовитая кислость ошпарила рот, выбила слезы из глаз. — Еще, Кока! — попросили девчонки. (Тимка сказал бы: «Девчушки». А впрочем, Тимка твой, уважаемый Василий Игоревич, мало чем отличается от Коки, такой же инфантильный потребитель и малолетний бабник, извините за выражение, обломыш! Когда еще из него толк выйдет? Напрасно успокоился ты, решил переждать... И может, по формуле «толк выйдет, бестолочь останется» — и вовсе ничего из Тимки не получится, а?) Кока улыбался отрешенно, словно буддийский монах после удачной молитвы, устало посверкивал сквозь полусжим век зрачками. Читать он больше не стал, тогда застолье переключилось на Симона, тот, излучая розовый свет, выставил перед собой крепкие, как молодая брюква, припухлые ладошки, защищаясь. Из его объяснения Балаков понял, что Симон чуть ли не в один день с Балаковым прибыл в этот город — только не на самолете, а на поезде, что он знаком со многими известными поэтами и актерами, давно и, так сказать, плодотворно с ними дружит. — Си-мон! Си-мон! Си-мон! — начало скандировать застолье. — Ладно, сдаюсь, сдаюсь, сдаюсь, — Симон сгустил тенор, нагоняя в него бронзовую тяжесть. — Обо всем расскажу, все расскажу... По порядку. — Просим, Симон! — томно произнес Кока. — Этому Симону я с удовольствием набил бы морду, — тихо просипел сквозь зубы Косаренко, — уж больно сиропный весь он, посмотришь — во рту сладко становится, чай без сахара пить можно. — Встречался я почти что со всеми знаменитыми поэтами — все-таки друзья, а с друзьями надо ведь поддерживать профессиональные контакты. И с Робкой Рождественским, и с Женей Евтушенко, и с Васькой Балаковым, и с Андрюшей Вознесенским — словом, со всеми! Балаков даже вздрогнул, когда Симон произнес его фамилию, посмотрел сквозь розовые отблески на лицо этого человека. Видел ли он когда-нибудь в жизни эти припухлые щеки, узенький, оплывший развал глаз, яркий, будто обмазанный земляникой, рот, над которым капроновой мякотью шерстились ровненькие, трикотажные какие-то усики, — видел или не видел? А то ведь конфуз может получиться — давнего знакомого встретил и не узнал, и тогда ему вправе будут упрек бросить: «Зазнался ты, Балаков, зазнался, вот ведь как...» Видел или не видел? Нет, не видел. Он почувствовал, как его локоть сжал Косаренко. — Ни слова, Василий Игоревич. Прошу вас. Симон тем временем распространялся о всяких деталях, подробностях жизни своих «друзей» — знаменитых поэтов, застолье шумно испускало вздохи: рассказ Симона был всем интересен. Балаков сглотнул судорожно и растерянно, затих, вдавился локтями в колени. Подумал о Тимке, мгновенно провел параллель: неужели и Тимка так же может изгаляться, врать, быть никчемностью? На него даже пахнуло горьким духом печали, слабость, он вдруг ощутил надвигающуюся беду — не понимал только, откуда конкретно она идет. Так хорошо прошел день, таким роскошно сказочным было сегодняшнее посещение подвалов и рассказ Косаренко, и вдруг — нате вам... Он вспомнил и до деталей прокрутил в мозгу последний Тимкин визит в Дом литераторов, подумал, что надо будет переговорить с директором, попросить, чтобы сына больше не пускали туда, устроить скандал, в конце концов... Потом решил, что это не мера, это всего лишь полумера, нужно что-то другое, нужно немедленно бросить все к черту и мчаться домой, спасать сына. Неужели и Тимка так может, как этот, розоволикий, похожий на объевшуюся женщину... Балаков вдруг ощутил приступ острой брезгливости. — А больше всего с кем довелось видеться? — тем временем дружно любопытствовали девочки из Кокиной свиты. — Больше всего с Балаковым, — шумно выпустил из себя воздух Симон, — мы с ним с восемнадцати лет знакомы, с восемнадцати лет на «ты». Он тогда в институте еще учился, щенком был. Ох, Васенька, Васька, — Симон усмехнулся, дунул в усики. — Он мне как-то откровенно сказал, что завидует всему, что я пишу, в Дом литераторов каждый день водил, водкой угощал, стихи читал. — Что больше всего ему нравилось? — Что? Конечно же «Сон». Стихотворение блоковского уровня, так определил его мой друг Василий Балаков. Балаков сглотнул сухой, шершавый ком, возникший, в горле, потянулся за кофейной чашкой. «Как же это мы с ним с восемнадцати лет на «ты»? — тупо и напряженно, с пчелиным гудом в ушах думал он. — Не может этого быть. Он же лет на десять моложе меня, я уже институт заканчивал, а он еще в школе алгебраические азы осваивал. Хотя — Балаков угрюмо скривил рот, вздернул вверх одну его сторону, уголок, — портретец у вас, Василий Игоревич, слишком молодой, вот этот Симон и ошибается, промашечку дает, в ровесники записывает. Комплимент здесь имеет место, комплимент насчет возраста... Но ты же не баба, Балаков, чтоб комплиментам радоваться. А потом, «комплимент» по-латыни, говорят, — «то, чего нет». Куда ты попал, Балаков, зачем тебе все это? И как только уживается со всей этой странной компанией прекрасный человек Косаренко? Немыслимая вещь. Неужто такое возможно? Не сон ли это? Не сон. Дурная явь...» — Прочитай, Симон, «Сон». Ну, пожалуйста... Прочитай! — раздалось сразу несколько голосов. — Потом. Позже, — пообещал Симон, взял со стола сигарету, прикурил ее от «ронсона» («Естественно, у каждого крупного поэта обязательно «ронсон» должен быть»), затянулся, пыхнул сизым кольцом. — Так вот, о Балакове. Дня за три до отъезда встречает он меня и говорит: «Теперь, Симочка, мы должны по девочкам сходить. Выбирай, куда пойдем: к дикторшам телевидения или в цыганский театр?» — У-у-у, — раздалось за столом протяжное, полное какой-то нездоровой истомы, Косаренко еще крепче сжал локоть Балакова, притиснул к себе: спокойно, Василий Игоревич, спокойно... Это еще цветочки, семечки с ягодками дальше пойдут. — Я конечно же выбираю цыганский театр. Все-таки удаль, гитары, знойные голоса... Опять же отзвуки прошлого, заснеженная Москва, «Конфетки-бараночки», топот конских копыт, ветер в ушах. Вася мне и говорит: «Правильно, Симочка, что цыган выбрал, я давно у них не бывал, пора ревизию провести. Сели мы в мотор, прикатили в театр в конце третьего действия — под занавес, значит, и сразу же за кулисы. А там девчушки — одна краше другой! — Балакова вдруг больно и остро, словно ножом, кольнуло знакомое «девчушки», и свечной свет будто весь вытек наружу, стало темно и душно. Симон затянулся сигаретой, рукою разогнал дым. — Балаков есть Балаков, не каждый день он в театр приходит, поэтому загрузились мы в машину — и в ресторан! «Господи, боже мой, что же это происходит? Неужто и Тимка мой... — Балаков мучительно сморщился. — Что же это происходит, а? Неужто и Тимка, а? А потом... Потом, столько раз благополучно избегал пошлости, всегда удавалось, всегда уходил, а тут на тебе — вляпался, как муха в липучку, ни за что ни про что. Тьфу! Неужто и ты так, а, Тимка?» — Ни слова, Василий Игоревич! — чуждо и холодно прошептал Косаренко. — Я же ему по лицу сейчас... По лицу его надо отхлестать. Это же подонок! — Не надо,прошу вас. Я сам. — Потом мы перебрались в аэропорт — там ресторан до утра работает, — Симон провел пальцем по губам, шевельнул короткой щеткой своих аккуратных, будто искусственных, сработанных на предприятии бытового обслуживания, усов, — неплохо, в общем, время с моим другом Василием Балаковым провели. Дочка у него подрастает... — Сын, — машинально, не чувствуя, что говорит, едва слышным сипом поправил Балаков. Ощутил, как у него леденеют виски, подкожные вдавлины, выемки костей, боль крепким сцепом окольцовывает затылок. На сип его никто не обратил внимания, только Кока поднял голову и, потусторонне улыбаясь, млеющим взглядом посмотрел сквозь Балакова на стену, словно через стеклянную дверь, — Балаков для него был «черной костью», как выразился Косаренко. Инженером с комбината, никем. — Года через три ничего чувичка сформируется, — продолжал Симон, — приударить за такой — одно удовольствие. Да еще такой знаменитый папа имеется... Но я не буду за ней приударять, не буду, — Симон оглянулся на обвядшего, ушедшего вместе с девочками в тень Коку, показал пальцем в овальную бледноту его лица. — Мы это чудо Коке переадресуем, пусть наслаждается. Может быть, женится... Какие-то округленные тени задвигались на стенах в блеклом мареве свечушек, глаза давно ушедших, но таких знакомых Балакову людей начали возникать в этих тенях, дружеские, успокаивающие. Вот твердо и холодно посмотрел на него отец — сейчас батя уже старик, добродушный дедушка, из которого, как говорит молодой хам Тимка, песок сыплется и за ним надо с совком ходить, а здесь, в теневой галлюцинации, — глаза молодые, неуступчивые: ведь столько раз в войну его отец водил батальон в атаку вместо того, чтобы сидеть на КП и оттуда командовать боем; вон школьный друг, мальчишкой ушедший в сорок пятом на войну и погибший в день победы, сощурился смешливо и трезво; вон однокашник по институту Коля Соропеев, писатель-моряк, годами пропадающий в бегах, в плаванье, обмотавший земной шарик нитями своих дорог, словно арбуз, и так и этак, в разных направлениях; вон еще кто-то знакомый... Стало трудно дышать, боль в затылке обострилась, сделалась сильнее, Балаков помассировал кожу пальцами, но боль, неуступчивая, не хотела отпускать, пилила и пилила, проклятущая. Он чувствовал сейчас себя невыносимо сиротливо и слабо, понимал, что вся работа, налаженное с таким трудом спокойствие летят в преисподнюю, в никуда, что не будет больше равновесия, света и тепла, что надо все бросать и немедленно возвращаться к себе домой, вытряхивать из Тимки все его барственные замашки, всю гниль, что скопилась в нем, — только так его можно спасти, только так... Он силился подняться и не мог. Тогда он постарался взять себя в руки, взглянуть на все происходящее со стороны, утишить боль и изгнать слабость, все холодно и спокойно взвесить. Балаков не знает как, но это ему удалось, и он с отчетливой, какой-то тревожно-яркой, пугающей ясностью увидел все происходящее в ином свете, понял, что не‑ет, Тимка у него еще не такой, не дорос еще Тимка до такого, но обязательно дорастет, не вмешайся сейчас он, Балаков, в сыновью жизнь, не подправь ее. А не подправь — тогда Тимка заматереет и вылепить из него что-либо путное Балаков вряд ли сможет, вот ведь как — сделается Тимка никчемностью, нулем, таким вот розоволицым любителем приврать. Симон, закруглив рассказ о совместных «похождениях» с Балаковым, начал читать «Сон» — стихотворение, что так «понравилось» Балакову, «блоковского уровня». Если говорить честно, Симоновы стихи мало чем отличались от Кокиных — такие же гимназические, старательно написанные, сладкие — сиропом разбавленные — тут уж сказалась натура Симона. Но, надо отдать должное, Симон читал их более умело, чем Кока, — с пафосом и подвывом, разрубая воздух кулаком, четко выговаривая слова, обозначая строки. К Косаренко подошла жена, немного вальяжная и раскрасневшаяся от ухаживаний актера, Виктор Владимирович что-то сказал ей на ухо, она стремительно прошла на кухню, выглянула оттуда, долгим растерянным взглядом посмотрела на Балакова, и крылись в этом взгляде испуг, недоумение, обида, жалость, стыд. Симон той порой кончил читать свой «Сон» и с замлевшим, мокрым от поэтической изнури лицом потянулся к бокалу, в котором было налито то самое, бронзово-рыжеватое, взбуркивающее искорьем, четырнадцатью медалями и двумя кубками отмеченное — мускат белый Красного камня. — За тебя, за твои стихи, Симон! — прокричал Кока, дернулся с бокалом, подпрыгнул. — Даром, что ль, их Балаков хвалил, — сказал актер и потянулся за яблоком. Балаков понял, как надо защищаться, чем укрывать себя от подобной напасти — надо выставлять деревянный щит равнодушия, не принимать происходящее близко к сердцу, относиться ко всему как бы со стороны, только тогда можно будет сохранить ровный настрой, спокойствие. Но не‑е‑ет. Он усмехнулся, наливаясь какой-то недоброй расчетливой силой, точностью ударов, которые он собирался наносить, холодной, как лед, злость! — Одну минуточку, — властно и твердо произнес он. — Пусть тост инженерия произнесет, правильно, — поддержала одна из Кокиных спутниц, спрямила плечики. — Дорогу технарям! Симон разогнулся, чиркнул пальцем по начесу усов, а Балаков почувствовал, как между лопатками медленной обжигающей струйкой потек пот, отчего-то смерзлись глаза, охолодали подскулья. Он неприязненно и тяжело покривился лицом, выплюнул из груди тычок, мешавший говорить, прокашлялся. — Извини, что на «ты» буду тебя называть, — сказал он Симону, — ведь ты же сам сказал, что с восемнадцати лет со мною на «ты». Так ведь? Еще с института, хотя я старше тебя лет на десять и наши дороги никогда не пересекались и никак не могли пересечься. Особо в те годы, когда ты еще букварь штудировал, а я уже в институте учился и, чтобы лишний рубль к стипендии приплюсовать, разгружал вагоны на станции... Тишина установилась такая страшная, что в ней было слышно, как по ту сторону Черного моря, где-то в стамбульском порту, переговариваются грузчики, а звук часиков, крошечной капелюшкой блестевших на руке у одной из спутниц Коки, раздается так оглушающе громко, что втыкается гвоздями в уши. — Начну со стихов, чтобы поставить точку над i и чтоб ты перестал спекулировать моим именем. — Балаков качнулся, взглянул на чуть живой свечечный огонек, трепетавший напротив, над Кокиной головой, обузился лицом, перевел взгляд на сплющенного, сахарной белости Симона, усмехнулся. — Такие стихи, как «Сон», томные гимназисточки еще в прошлом веке писали. Самое большее, на что они годятся — в альбомчик возлюбленной. В них еще хорошо бутерброды завертывать, извини, конечно... И если уж «Сон» — лучшее из всего написанного, то что же остальное? У Симона был вид раздавленного человека, вот-вот у него должна была потечь кровь из губ, рта, носа, глаз; щеки, уши, веки были выедены, на коже вздулись черные обожженные язвочки. Балаков отпил немного кофе, брякнул чашкой о блюдце. — Что же касается твоих россказней насчет цыганского театра и дикторш телевидения, то за такое, сударь, бьют лицо. И я бы сделал это сейчас, если б не был гостем в этом доме. Вон, даже пообещал хозяину не бить, — Балаков скосил взгляд на Виктора Владимировича, стряхнул пот со лба. Он сейчас расстреливал Симона, как врага, как человека, который для него, Балакова, неожиданно оказался причиной Тимкиного полета вниз, всего щемяще-неспокойного, недоброго, что сопровождало Балакова в последние дни, что выбило его из колен, лишило привычной жизни, внутренней непотревоженности, душевного равновесия. — И вот еще что: извинись за вранье перед всеми. — Балаков помолчал, потом выдохнул страшноватым хриплым шепотом: — П‑подонок. Тишина сгустилась еще сильнее, она была материально осязаемой, как ткань, ее можно было пощупать пальцами, разрубить, ножом разрезать на куски, она вымораживала кровь, мозг, в ней вязло дыханье, истаивала мысль. Симон вдруг вскинулся, лицо его обрело человеческие черты, он обмахнулся рукой, сделал неровный, спотыкающийся шаг, другой, третий, бросился к Балакову с ошарашивающим высоким воплем: «Вася-я!» — сжал Балакова за плечи цепко и одуряюще, дохнул в ноздри вином, табаком, еще чем-то теплым, противно пахучим, нащупал взглядом сего глаза, заглянул в них собачьи преданно, о чем-то прося, унижаясь и сводя себя на нет. Балаков промолчал, тогда Симон отпустил его, медленно, через плечо, развернулся и вышел из комнаты. Косаренко кинулся вслед, тут же в коридоре что-то тяжело и тупо прогрохотало, хлопнула дверь, заскрипели ступени, за окном послышался скулеж, плаксивое бормотанье распластавшегося на земле человека. Балаков медленно поднялся, кривясь лицом. Услышал в мертвой одуряющей тишине скрип пружин — это, кажется, встал актер, собираясь уходить. — Василий Игоревич, — проговорил вошедший в комнату Косаренко, — а, Василий Игоревич... Не уходите. Останьтесь, а. Сейчас чай будем пить. — Нет-нет, спасибо, — хрипловато и напряженно проговорил Балаков. — Я должен уехать, — тут же повысил голос, словно опасался, что его будут отговаривать, — домой должен ехать. У меня сын таким вот, — он повел головой в сторону двери, — таким вот может... — Помолчал немного, потом произнес вдруг совсем неожиданное: — Впрочем, не знаю, надо иль уже не надо ехать. Вдруг уже поздно? — подвигал челюстью, перетирая застрявшие на зубах крупинки кофе. — Посмотрим. — Стер пальцами накипь с лица, неприятную, как паутина. — Жаль только, работа сорвалась. Теперь уж надолго. Он так и не остался на именинах, сколько его ни упрашивали, — не мог, не было сил, ему надо было выкарабкаться из самого себя, выплыть из давящей глубины, вытравить все, что в нем было, забыть обо всем, сделать сегодняшний день днем прошлым. Только тогда он сможет прийти Тимке на помощь. А впрочем, сможет ли? Усмехнулся в пустоту ночи, втянул ноздрями горький и острый запах близкого моря — он знал свои сильные и слабые места, знал, что сможет сделать, а чего не сможет... Он брел по изъеденным дождями плитам тротуара, спотыкался на выбоинах, временами останавливаясь и прислушиваясь к далекому горному грому, перебивающему шум моря, — звук был такой, будто в доме, на верхнем этаже, передвигали громоздкую мебель, — далекий, тяжелый, убойный, бурчащий. В голове было пусто и звонко, в ушах тонко попискивал-потрескивал какой-то неугомонный сверчок, сверлил мозг, было худо. Придя в Дом творчества, Балаков забрался в свой номер и лег, не раздеваясь. Уже к утру он сквозь сон услышал, как тяжело, одышливо, с астматическими захлебами вскипело, захрипело море — где-то у берегов Турции поднялся ветер, погнал волны на наш берег, те, завидя песчаную кромку, издали начинали дыбиться, гулко и трудно шлепались о берег, давили его, утюжили с больным хрипом и, сломавшись, отползали назад, подставляя спину волнам очередным. Сквозь пелену забытья Балакову казалось, что это не море атакует берег, а кто-то бесцеремонно громко, бесстыдно давится в храпе в соседней комнате, и он болезненно морщил лоб, а потом, в следующий уже миг, ему начало чудиться, будто он сидит в танке, и тот громыхает траками по целине-проселку, и шум от этого движения стоит несусветный, и скорость бешеная, и нельзя выпрыгнуть из железной тяжести, и боль тискает шею, виски, ключицы, плечи, и ничего тут не поделаешь, и усиливал самого себя против этого грохота, бега, движения, боли, стараясь выдержать натиск.
БАБЬЕ ЛЕТО
С той поры, когда они пересекли границу на огромном, похожем на железнодорожный вагон, страшноватом в своем блеске «Икарусе», Исаченкова не покидало ощущение открытия, познания чего-то нового, потайного, неизведанного, очень серьезного. И не поездка была тому причиной, хотя за границу он, как ни странно, выезжал в первый раз, не дивные чешские пейзажи, оглаженные, прибранные, аккуратные, как театральная декорация, — нет, не поездка, не пейзажи были тому причиной... Тут что-то другое. Их туристская группа была не очень многочисленной, но очень разной по составу. Тут были и рабочие, и инженеры, и учителя, и кандидаты наук, и даже один писатель затесался, но, как это всегда случается в поездках, все как-то сразу, вмиг, словно сговорившись, объединились, у всех появились общие интересы, ощущение единого целого. В Остраве, куда «Икарус» пришел уже поздним вечером, к группе присоединился переводчик Вацлав — худенький, как мальчишка, в замшевой куртчонке, с потертой автомобильной сумкой в руках, белобрысый, с тонкими, ладно приклеенными к темени прядками волос, быстрый, смешливый, со светлыми пивными глазами. Переводчик быстро расселил всех по номерам отеля и исчез. Острава жила своей жизнью — скрежетал на поворотах трамвай (Исаченков вспомнил, как Вацлав давал им «трамвайные наставления», растянул губы в улыбке — переводчик говорил по-русски хотя и бегло, но довольно коряво, смешно: «Трамваи здесь ходят всю ночь, правда, с большими перерывами — в сорок — пятьдесят минут. Плата за проезд в дневное время — одна крона, в ночное, после двадцати трех ноль-ноль, — две кроны. И такси в ночное время тоже удваивает оплату. Входят в Чехословакии в трамвай с передней площадки, выходят — с задней»), голубым и красным посверкивали ресторанные рекламы. — Ну что, молодой-интересный, давай хлопнем по бокальчику за приезд, — к Исаченкову подошел Гриня Шишкин, рослый, накачанный, из щек помидорный сок брызжет, о таких у Исаченкова на службе говорят: «Здоровьяк!» «Здоровьяк» извлек из чемодана бутылку вина. — А? Давай? — Не хочется что-то, — тихо отозвался Исаченков. — Молодой-интересный, а чудной какой-то, — с сожалением произнес Гриня. Исаченков оглядел номер. В дверь была врезана аккуратная тонюсенькая ледышка-глазок, который, если приложиться к нему, охватывал весь коридор, над дверью висело яблоко звонка, в номере было два телефона — один связывал с портье, другой с городом, умывальная комната была тесной, до потолка обложенной голубым кафелем, в центре пола серела маленькая пластмассовая дощечка с дырочками — сток для воды, а душ являл собою некое подобие крана с длинной резиновой кишкой, выпрастывающейся из раковины... Исаченков не досмотрел номер до конца, как дрябло прохрипел звонок, Гриня, жуя на ходу кусок твердой колбасы, метнулся к двери, расплылся в улыбке: — Наше вашим, давай спляшем, молодая-интересная. На пороге стояла девушка из их группы, прибранная, в модном платьице. Исаченков не помнил точно имени, кажется, ее звали Жанной. — Мальчики, я за вами, — сказала Жанна. — Мы в номере собираемся. Немного посидим, потанцуем, веселые истории друг другу расскажем. — Музыка у вас есть? — спросил Гриня. — Репродуктор. Сейчас вечер, танцевальные программы одна за одной... — Танцы под скрип собственных сапог, — громко хохотнул Гриня. — Ждем вас в девятнадцатом номере. В девятнадцатом номере, когда они пришли, находилась чуть ли не вся их группа, было тесно и душно, раздавались тихие смешки, чоканье посуды, полушепот-полуговор, свет был погашен, и номер освещался частым миганием рекламного щита, установленного на крыше здания, что через дорогу. От духоты, от влажной тяжести воздуха у Исаченкова почему-то заложило уши, под ложечкой, в самом раздвиге грудной клетки, если взять чуть выше, зло и остро шевельнулась боль, и Исаченков, взяв стопку, прошел на балкон. Едва облокотился о бетонный, отдающий дневным теплом срез перил, как увидел, что на балконе он не один — рядом кто-то шевельнулся, он скосил глаза, увидел ладно подобранную фигуру, четко прорисованный профиль с крупными, по-негритянски вывернутыми губами, придававшими лицу независимый, даже немного дерзкий вид, скулы же были мягкие, спокойные, и, когда на лицо падал рекламный отсвет, они по-детски розовели. Глаза в темноте были глубокими, почти черными, без блеска. Исаченков, который собирался забраться в душевный подпол, в самого себя, вдруг почувствовал тягу к разговору. — Скучаете? — невпопад, лишь бы что-нибудь сказать, спросил он и сморщился, как от горького. — Нет, — спокойно и коротко прозвучал ответ, и Исаченкову почудилась в ее голосе насмешливость, уверенная сила, какая-то ясность, вдруг вызвавшая в нем непонятную истому, тоску человека по человеку, по дому, по очагу и уюту. — Вы первый раз в Чехословакии? — продолжал он, стараясь сохранить ровный тон. — Нет, — ответ по-прежнему был односложен. — В какой же? — В третий. — Рассказали бы, — осторожно, внутренне чувствуя, что сейчас нарвется на отказ и поэтому морщась, попросил Исаченков. Она немного помолчала, и тогда Исаченков решил, что все, плохой из него гусар-сердцеед, не умеет он знакомиться с женщинами, нравиться не умеет, пора спрятаться за непрочный щит холодного равнодушия. Он нырнул в самого себя, как в аквариум, но тут же ему пришлось возвращаться обратно, всплывать наверх. — Первое, что делают, когда приезжают в Чехословакию, — переводят стрелки на два часа, — услышал он, — здесь среднеевропейское время, два часа разницы с Москвой. Он поковырял в темноте, стараясь подцепить пальцами колесико завода, передвинул стрелки, произнес тихо: — Перевел. — Ну что Чехословакия? Много замков, дворцов, зелени, прибранности, много садов, плантаций хмеля, много слив и яблонь — особенно вдоль дорог... Много чистых, ухоженных деревенек, в которых мостовые моют, как полы, много пивных баров с черным и светлым пивом, много музеев. — Музеи я люблю, — тихо произнес Исаченков, и она откликнулась, начала рассказывать о музеях. — У чехов пристрастие к устройству музеев. По любому частному поводу они могут изобрести экспозицию, подобрать все тонко, со вкусом, и главное — интересно. Например, я была в музее шляп... Очень маленький, уютный музей, помещается всего не то в двух, не то в трех комнатах в старом каменном доме. Собраны шляпы всех времен и народов, начиная с романского периода... Это примерно десятый век... С романского периода до наших дней. Чего там только нет! И головные уборы епископов, и русских митрополитов, и турецкие фески, и женские чепцы, и даже шляпа австрийского служащего, сделанная из петушиных перьев, и шапки гренадеров — бараньи, лохматые, и головные уборы великих граждан Чехословакии — чего там только нет! Казалось бы, что для человечества история шляп? А ведь это история развития общества. Нигде социальное неравенство не проглядывалось так ярко, как в костюме... В той же шляпе, если хотите... — Вы учительница? — спросил Исаченков, рассмеялся тихо и благодарно за то, что исчезла боль, улеглась истома, стало спокойно и тепло на душе. — Нет, я не учительница, — качнула она головой. — Я инженером работаю. На хлебозаводе. А еще я — неосвобожденный комсомольский работник. Секретарь комсомольской организации. «Даже не верится, — подумал Исаченков, — такой романтичный рассказ о шляпах и вдруг — проза! Хлебозавод...» — Как вас зовут? — Анна. Он посмотрел полуприкрытыми глазами на рекламу, втянул в себя маслянистый застойный городской воздух. — Теплынь какая. — Бабье лето, вот и теплынь. Что-то забытое, тревожное снова проснулось в нем, какое-то сложное чувство охватило сего, и Исаченкову стало непривычно знобко, будто он заплыл далеко в море, откуда нитка берега не видна, и собрался уже повернуть обратно, как бешено замолотило сердце, он понял, что на обратнуго дорогу у него не хватит сил, и кожа при этой мысли враз покрылась гусиными точками, укусами холода, и губы посинели, съежились, подернулись морщинами, и ему захотелось стать на что-нибудь твердое, но ногам не на что было опереться — под ногами бездна... Тут их позвали в комнату, где начались танцы, и Исаченков, пользуясь общей сутолокой, тихо ретировался к себе в номер, разделся, улегся спать и быстро уснул, он даже не услышал, как довольно скоро вернулся чем-то раздосадованный Гриня, бормоча про себя ругань и повторяя через раз: «Молодая-интересная, кочевряжится...» У Грини были свои принципы. Исаченков получил подтверждение словам Анны насчет того, что вдоль дорог в Чехословакии — сады, растут яблоки и сливы, на следующий же день, когда «Икарус» вез их к польской границе. И по ту, и по эту стороны бетонки, впритык одно к другому, очень часто, были посажены яблоневые деревья. Яблоки лежали и у корней деревьев, густой притягающей россыпью, так и хотелось остановить автобус, кинуться под стволы и, будто в детстве, набить карманы крепкими плодами. Исаченков поднялся со своего кресла и, нетрезво взмахивая руками — «Икарус» шел ходко, и на повороте его заваливало то в одну, то в другую сторону, — пробрался вперед, где сидела Анна, остановился, крепко держась за поручень, нагнувшись, взглянул на дорогу. Потом посмотрел на Анну, отметил, что глаза у нее сегодня не как вчера — не черные и не глубокие, а какого-то веселого темно-орехового тона с крупными, зауженными книзу зрачками, обмахренные загибами ресниц, и вообще Анна... Тут Исаченков решил, что не будет применять избитые, затертые определения, они излишни, и так все понятно. Анна раздвинула пухлые, круто выпяченные губы в улыбке. — Скажите, Анна, — кашлянул Исаченков. — А яблоки эти можно рвать? — Можно, но не нужно, — усмехнулась Анна. — Любой водитель запишет номер нашего «Икаруса», и тогда нам пришлют счет на десять килограммов. На десять, учтите! Даже если вы сорвете всего-навсего одно яблоко. — Понятно, — проговорил Исаченков, — что ничего непонятно. Они же все равно пропадут, сгниют. — Вовсе необязательно. Эти деревья принадлежат дорожным участкам, и те командуют урожаем. Продают, наверное. А вон направо, посмотрите, плантация хмеля... Хмелевая плантация была похожа на виноградник — такие же деревянные стояки, винтовочными стволами глядящие в небо, такие же веретенообразные зеленые стебли. — Больше всего хмеля растет на севере, это предмет экспорта. Чешский хмель — он самый лучший для пива. Убирают его здесь комбайнами. А когда наступает горячая пора, то сорок пять тысяч школьников выходят на подмогу. Вы смотрели фильм «Старики на уборке хмеля»? — Нет. Не смотрел. А вы много знаете. Как преподаватель младших классов. Тот обязан знать все — и арифметику, и язык, и еще кучу других предметов. Сколько же вам лет? Анна наклонила голову, усмехнулась. — Ну, вы не в том еще возрасте, чтобы скрывать его. — Мне ровно двадцать пять. И возраста своего я не скрываю. Что еще? Где родилась, какой институт окончила, семейное положение, адрес, телефон, участие в войне, владею или не владею иностранными языками? — она неожиданно начала отхлестывать Исаченкова словами, как ударами кнута, методично, насмешливо, безжалостно. А он только краснел и крутил головой: сам виноват, сам подставился. — Ладно, — сказала она. — Готовьте какую-нибудь польскую песенку — мы к границе подъезжаем. Когда Исаченков после экзекуции возвращался на свое место, его остановил Гриня, подмигнул, помидорно светя щеками: — Ну как? Закадрил, а? Ничего молодая-интересная? Э-э... Не закадрил, значит... И меня она вчера отшила. «Икарус» свернул на пыльный проселок и вскоре остановился у негустых, уже обвядших и готовящихся отходить ко сну лозняковых кустов. — Вот и граница! — объявил Вацлав. Исаченков ожидал увидеть колючую проволоку, вспаханную нейтралку, высоченных, способных загрызть корову псов, но ничего этого не было. Просто проселок уходил дальше, вскарабкивался на покатую лысину поля и сваливался на центральную площадь небольшой островерхой деревушки, посредине которой краснела хорошо прокаленным старым кирпичом кирха. Прошло еще два дня, и группа их как-то самостихийно, сама по себе разбилась на пары, на тройки, на четверки — так было удобнее и по городам ходить, и в магазины заглядывать, и даже пиво пить, которое здесь было знатнее знатного — с копчеными колбасками, поджаренными на горячем дыму, пива этого можно было выпить сколько угодно. И, подчиняясь общему закону, Исаченков теперь много времени проводил с Анной, много разговаривал — на темы самые разные, говорили о Чехословакии и о Москве, о средневековой живописи и о замке Карлштейн, о кукольной фабрике в Седльчанах и о бабьем лете, — говорили обо всем, что хоть мало-мальски интересовало их. — Слушайте, Анна, у меня такое впечатление, что я к вам привязываюсь все больше, а? Все больше и больше, — сказал как-то Исаченков. — Напрасно, — спокойно отозвалась Анна. — У меня дома муж и сын. ...В Прагу въехали утром. Город был каким-то торжественным, парадно ярким; сквозь сметанные сгустки облаков бронзово просвечивал кругляк солнца: хорошо выспавшийся, пышущий инопланетным здоровьем, молодой, он плавал в воздушной сметане, ровно кусок масла, желтый, свеженький, только края малость подгорели, лучились оранжевым. Крыши домов, мокрые от утреннего пота, были броскими, цветастыми, одна ярче другой — тут были и карминные в густую коричневу, и зеркально-серые, и ореховые с сизым налетом, и розовые с примесью нежного белого тона, крыши черепичные и железные, тесовые и из керамических пластин, с высокими горделивыми стояками труб, с большими, нараспашку, похожими на гигантские уши слуховыми окнами, с острыми неустойчивыми ребровинами стесов, крутые и плоские, четырехугольные, как у замков эпохи Ренессанса и острые, почти отвесно сваливающиеся вниз — о пражских крышах можно стихи складывать, песни петь. А узкие, немного мрачные в своей тесноте улочки еще были темны, они дышали ночью и прохладой, солнце еще не добралось до них. Прага встретила их возбужденным утренним шумом, сытым бурчаньем застоявшихся машин, шарканьем подошв, дымом — где-то неподалеку сжигали дряхлое деревянное строение, а старый маневренный паровоз, пускающий блеклые полупрозрачные кольца из латаной, похожей одновременно на сапог и воронку трубы, приветствовал «Икарус» поросячьим визгом — паровоз этот толкал перед собой длинную цепочку тележек, груженных песком, чуть ли не к самому центру города. — Это они, молодые-интересные, метро тут себе строят, песок — это оттуда, — пояснил Гриня Шишкин, нагнав на лоб кожные складки, что придало его лицу многозначительный вид. Группу разместили в отеле второго класса «Унион», более подходящего отеля для туристов, к сожалению, не нашлось, мест не было — в Праге проводился какой-то очень широкий многотысячный конгресс, он-то и съел все гостиницы, все места. — Наш «Унион» — не самый плохой отель, — пояснила Анна Исаченкову, — тут, в городе, отели пяти разрядов. Высший — это «люкс», потом идут разряды А, Бе, Це, и еще есть разряд четвертый, самый последний... После обеда они пошли побродить по Праге. Утренние контрасты света и тени исчезли, воздух попрозрачнел, сделался блестким и шипучим, как газировка, — в нем лопались невидимые пузырьки и источался тихий, немного грустный звон, от которого становилось как-то беззащитно на душе. Они шли молча, и по сосредоточенным лицам их можно было угадать, что им здесь все интересно, все оставляет след в благодарной памяти. И прохожие — уверенные в себе коренные пражане — чувствовали это, приостанавливали шаг, будто удивляясь занятности, деловому любопытству Исаченкова и Анны. Он осторожно взял ее под руку, прижал к своему боку локоть, покорный, теплый, и чуть не задохнулся от какого-то яростного прилива нежности и тоски, от сложного, неожиданного нового ощущения, охватившего его. Каменные мостовые мокро блестели от полулетнего-полуосеннего жара, видно, последнего в этом году. Судя по сметанной наволочи, обметавшей небо поутру, скоро зарядят дожди, безысходные, серые, слепые, и тогда уж осень точно станет полноправной хозяйкой в городе. Под ноги шлепались крупные красноватые листья, мягко потрескивали под каблуками, оставались лежать неподвижно, мертво — мятые, давленые, навевающие печаль. — Куда мы идем? — тихо спросил он. — Не знаю, — отозвалась она, — может, отправимся в Пражский кремль? — Почему бы и нет! Они долго шли тесными уютными улочками, мимо каменных полуподвалов, откуда доносилась едва различимая музыка, нежно и горьковато пахло пивом, копотью и сальным духом хорошо прожаренных шпикачек, потом, миновав низко посаженные гранитные ворота, вышли к мосту, сложенному из старого обелесевшего камня, натужно выгнувшему свою горбину; под горбиной, дробясь о толстые быки, о крепкие, склепанные из дуба ледоломы, несла свои тихие воды Влтава. В прозрачной неглубокой ряби бесшумно плескались крупные непугливые утки, их было у моста, как сизарей на иной московской площади, у того же Манежа например, — несколько сотен. Изредка кто-нибудь с моста кидал в воду хлебную корку или кусок булки, и тогда утки, дружно шлепая лапами по воде и помогая себе крыльями, кидались к этой корке, беззлобно дрались, вырывая еду друг у друга. — Это знаменитый Карлов мост, — проговорила Анна. По обе стороны моста, у толстотелых, неровно обструганных парапетов, сидели художники — все, как один, в джинсах, в ярких шотландках, с платками, выглядывающими из распаха рубах, чуть отрешенные, безразличные к толпе гуляющих. Тут же были выставлены холсты с видами Праги — уже в рамах, застекленные, готовые к продаже, около холстов толпился оживленный люд, в основном иностранные туристы, слышалась английская, немецкая, греческая речь, восклицания, щелкали блицы. — А кремль, он по ту сторону реки, за мостом, — сказала Анна, потянула Исаченкова вперед, — вон, на холме... Да не заглядывайтесь же на эти картины, все равно денег на них не хватит... — Как в Париже, — пробормотал Исаченков, — все доспехи наружу... Тихими каменными проулками, вдоль глухих, без выбоин стен, от которых цоканье каблуков отлетало, как горох от металла, — звук действительно горохом ссыпался на мостовую — они поднялись наверх, и то, что увидели, вызвало минутное остолбенение, было слепящим, таинственно притягательным... Целый город лежал внизу, в сизом слоистом пару, который плоскими струями поднимался к облачной навеси, под ногами было много зелени, еще свежей, лишь местами тронутой коричневой осенней прелью, далекие взлобки, похожие на морские волны, с полянами и перелесками, исчезали, растворялись в прозрачной густоте, сливались с небом — зрелище это было захватывающим, ну просто чертовски красивым. — Вот это да! — незнакомым шепотом произнесла Анна. — Ох, какое диво! Исаченков улыбнулся и подумал, что слово «диво» могут произносить только женщины. Потом они пошли в кремль, который здесь называли градом. Пражским градом. Собор святого Витта, украшенный знакомой по сотням фотографий готической розеткой и химерами, высился строго и мрачно, царапал острыми шпилями небо, и откуда-то с высоты, из небесной глуби, опускались на землю резковатые, гортанные, печальные звуки органа. — Собор святого Витта считается вершиной готики, — сухо, по-ученому складно и ровно произнесла Анна, Исаченков машинально кивнул в ответ. — Иногда тут собор называют костелом... Строили его без малого тысячу лет, заложив в основание руку святого Витта. Они долго ходили по Пражскому кремлю, постояли во Владиславском зале королевского дворца, прислушиваясь к странному сыпучему шороху, раздававшемуся под старым гулким полом, всматриваясь в стены, где из-под штукатурки проглядывала древняя кладка. — Здесь проходят заседания национального собрания, здесь выбирают президента, здесь раньше проводили коронации, — пояснила Анна. Потом они долго любовались лестницей всадников, по которой во Владиславский зал въезжали рыцари. Ступени лестницы были приспособлены к шагу тяжеловесных скакунов. Анна много рассказывала, и Исаченков с растроганным вниманием вслушивался в ее голос, ловил всплески восторга, любую перемену в интонации, в окраске, в психологическом настрое ее речи. Ему за прошедшие дни стала очень близка и очень дорога эта молодая женщина, загадочная, добрая, близкая и далекая одновременно, тактичная, умная, коварная, способная изменить и в ту же пору быть беспредельно преданной, он чувствовал, что теряет ориентацию, ровно летчик в тумане, он готов был совершить безумство, проступок ради нее и напряженно вытягивался в стойке, бессильно сжимал пальцы в кулаки, сжимал и разжимал, сжимал и разжимал. — Давным-давно чешский князь Вацлав был убит своим братом, — рассказывала Анна, — на гробнице князя и поставлен костел... А вот еще... Идите сюда, идите... Видите? — она показала на толстенную кованую дверь с проржавевшими петлями, мрачную, словно из корабельной брони склепанную. — Здесь государственная сокровищница, здесь корона, жезл и... — она запнулась на секунду, — ну, золотое яблоко с крестиком наверху, его еще на игральных картах изображают... — Скипетр? — Да нет... Скипетр — это посох, жезл. В общем, забыла, как называется... Исаченков виновато улыбнулся, потер пальцами подскулье, жалея, что по профессии своей далек от знаков королевской власти, от сокровищ, он конечно же знает, как называется это яблоко с крестиком, не раз слышал и читал о нем, да запамятовал... Что ж, и на старуху бывает проруха... — Сокровищница, — продолжала Анна, — имеет семь запоров... Семь замков и семь ключей. Один ключ раньше находился у короля, другой — у архиепископа, три ключа — у высших чиновников церкви и так далее... И открыть сокровищницу можно было, только когда все семеро сходились вместе. Сейчас эти семь ключей находятся у других людей — у президента республики, у председателя национального собрания, у главы федерального правительства, у мэра Праги... Цена всех трех предметов королевской власти равна цене всего собора, представляете? Со всем его золотом, с серебряной гробницей, с дорогими камнями... — Целый роман написать можно. — Можно, — согласилась Анна. Когда шли обратно, молчаливые, еще во власти впечатления от увиденного, а груз впечатления был ощутим, тверд (Исаченков совершенно материально чувствовал: твердый он, груз, точно, твердый; эта психологическая краска осталась, наверное, от твердины и неприступности церквей Пражского града, от тяжелой мощи огромной двери, ведущей в сокровищницу, от мрачной веселости химер, повисших на здании собора, от стылой гулкости полов, по которым было страшновато ходить, от спрессованности веков, один за другим промелькнувших перед ними), Анна неожиданно остановилась, строго и ясно посмотрела на Исаченкова, и он от этого взгляда вдруг почувствовал усталость, ощутил полную изъезженность, истрепанность своего тела, сердца своего, опустил голову, глядя в черные, совсем не изношенные плиты мостовой. — Слышите? — спросила она. Он полуприкрыл глаза, и ему вдруг захотелось спать, но он переборол в себе вязкую одурь сна, прислушался. Откуда-то из-под земли доносилась музыка, негромкая и медленная, полная щемящего шума дождя, шороха листьев, которые ветер гнал по пустынному асфальту; были слышны далекие, едва различимые голоса, да еще знакомо пахло пивом, дымной прогорклостью, шпикачками, перцем, хорошим табаком, жилым духом домов. Он повернул голову, открыл глаза, увидел витрину комиссионного магазина, в которой было выставлено старинное оружие. Черные, с боевыми иззубринами шпаги, мечи с бронзовыми рукоятками, короткие стилеты с гранеными наконечниками и перламутровыми, отдающими сиреневой игрой ножнами, гнутые, со сплющенными концами сабли, испещренные арабской вязью, среднеазиатские ножи-п’чаки с золотой насечкой у корня, вытащенные из мягких шевровых кобурок, расшитых цветной кожей. Можно часами стоять у подобной витрины и любоваться. Изъеденные дождем, в шрамах-выковыринах каменные ступени вели вниз, в полутемный подвальчик, где за столами сидели люди, потягивали из высоких, в искрящихся сверкушках кружек пиво — черное, густое, когда подают — наверху громоздится высокая, древесного цвета шапка пены, шевелится, как живая. — Этот пивной ресторанчик называется «у Малвазе», он самый старый в Праге, ему лет пятьсот, если не больше. Малвазе — это, говорят, был такой владелец пивного завода... Еще Флек был... От него в Праге тоже остался пивной ресторан, «У Флека», там светлое пиво подают. А «У Малвазе», тут пиво черное. Зайдем? — Зайдем — согласно кивнул Исаченков. Ресторанчик был совсем крохотным, такое впечатление, что он насильно втиснут в угрюмые каменные своды, на его теле защелкнуты кандалы, он опоясан, зажат оковами, и это заставляет волноваться — кажется, вот-вот рухнут своды, вдребезги раскрошат столы, навсегда вышибут из помещения хмельную негу, дух еды и питья. Они около часа сидели в ресторанчике, медленно потягивали пиво, довольно дешевое, всего две кроны кружка, но такое вкусное, что в уголках глаз даже вспухали слезы, — пиво и горчило, и было сладковатым, дразняще щекотало нёбо, обдавало вязкостью, сложным замесом хорошо проваренного хмеля и ячменя — в общем, пиво было что надо. Под конец в дымной светлоте ресторанчика неожиданно появился Гриня — крутые оглаженные плечи обтягивала полосатая безрукавка, на лице — лихая пиратская ухмылка. Следом — Жанна. Гриня подтолкнул ее под лопатки: — Топай вон к тем двум, молодым-интересным. Подсаживайся, а я пару пива закажу! Охланимся-от... — Через полминуты он вернулся с двумя кружками в руках, плюхнулся на скамью, сунул нос в пену, шумно отхлебнул. — Нич-чего. С таким пивом жить можно. Хотя пить вообще-то... того! — Что того? — спросила Жанна. — Пить бросать надо. Давно бате обещал. — Ну и что? — поинтересовалась Жанна. — Однажды поддался — завязал. А потом снова раскололся. Батя тут как тут, ко мне: ты же, говорит, Гриня, завязал. А я и отвечаю: завязать-то завязал, да еще не затянул. Жанна рассмеялась: — С умом ответил. Сам придумал? Не врешь? — Чего врать? Не веришь? Наступила некая не очень-то ловкая пауза, и Исаченков понял, что надо чем-то заполнить ее, что-то сказать. Он ополоснул горло пивом, откашлялся. — Насчет «веришь — не веришь» есть одна побасенка. Охотницкая. Знаете? Собрались как-то братцы-охотнички на свое вече посоревноваться, кто лучше соврать сумеет. Причем договорились, что выигрывает тот, на чей рассказ присутствующие единодушно заявят: «Такого не бывает!» Ну вот, начал первый охотник загибать про то, как он на тигра с молотком и фанеркой ходил... — Как это? — поинтересовалась Жанна. — А так. Идет охотник на тигра, фанерку перед собой держит. Когда тигр бросается, он выставляет фанерку перед собой, тигр когтями пробивает ее, охотник молотком загибает эти когти, и все тут. Страшный зверь оказывается пришпиленным к фанерке. Остается погрузить его на машину и — в зоопарк. — Ну и как это вранье братцы-охотнички оценили? — спросила Анна. — Дружно заявили: «Бывает». Другой, значит, рассказал о том, как медведь его сонного съел, а потом выплюнул. Так он, съеденный, вскочил на ноги, схватил ружье, скомандовал косолапому: «Руки вверх!» — и погнал мишу своим ходом в город. На этот рассказ охотники тоже ответили: «Бывает!» Третий начал талдычить о том, как он одной дробиной двадцать два зайца уложил, четвертый — как охотился на страусов на Северном полюсе, пятый еще о чем-то диковинном, но на все следовал один ответ: «Ничего удивительного. Бывает». А потом поднял руку какой-то замухрышка, которого никто и в счет не принимал. Ну, дали, значит, ему слово. Замухрышка и говорит: «Пошли мы однажды втроем на охоту. Для сугрева взяли с собой бутылку водки. Сели перекусить, а штопора не оказалось. Так и принесли эту водку обратно домой, женам отдали». Тут все охотники дружно взвопили: «Такого не бывает»... — Га-га-гы-гы-га, — могуче загрохотал Гриня Шишкин, дымные клубы задвигались, потянулись к выходу, зашевелились, как живые, толпясь и протискиваясь в проем. Откликнулась тоненьким сыпучим смешком и Жанна. ...Много было интересных мест в Праге, и все они оставили след в памяти. И Вышеград, у подножия которого находился отель «Унион», и Староместская ратуша с диковинными курантами — двумя огромными блюдами, впаянными в каменный бок здания, и Пороховая башня, откуда открывался дивный вид на Прагу, и Петршинская наблюдательная вышка, и церковь святого Николая, построенная в русском стиле, и золотая улочка, заставленная низенькими, очень похожими на игрушечные, лавками, и Ледебурский сад с тысячеступенными розовыми лестницами, и мрачная Вифлеемская часовня, и торжественный костел святого Якуба, где находится лучший в городе орган... Исаченков потом долго вспоминал задымленную осеннюю Прагу, радующуюся последним теплым дням, потный асфальт мостовых, тихую Влтаву, зеленые холмы, сваливающиеся за горизонт. С Анной у него установились ровные, ни к чему не обязывающие отношения, но ровность... для Исаченкова все это было только внешне, он боялся переступить черту, разделяющую его и ее, боялся, что совершит непоправимое, и молча страдал, загонял боль вовнутрь, в самого себя. Исаченков, кажется, влюбился в Анну. И вот наступили последние дни поездки. По существу, это были дни отдыха — их разместили в деревянной гостинице «Бьёрнсон», расположенной под Хопоком (Хопок, как сказано в туристской карте, — одна из наиболее значительных гор Низких Татр, вторая по «мощности»), программы не было никакой: броди по малиновым кустам, зарослям смородины и можжевельника, дыши полной грудью, набирайся сил — ведь горный воздух, он тут особый, можно закупоривать в консервные банки и отправлять в смрадные промышленные города. Во всяком случае, так охарактеризовал лекарственные свойства местного воздуха переводчик Вацлав. Исаченков осторожно, чтобы не поломать пустотелых стеблей, забирался в малинник, легкими пальцами срывал перезрелые, лопающиеся от сладости ягоды, машинально ел, озабоченно вслушивался в голос Анны, обращенный к нему, взбегал на вершину, любовался окружающими видами... Он утвердился в мысли, что эти дни — самые лучшие и самые грустные в его жизни. Скоро они вернутся в Москву, там Анну ждут муж и ребенок, а его никто — пустая квартира, старый телевизор с почернелым экраном, к которому он уже привык и нет никакой охоты менять его на новый, современный, письменный стол, заваленный работой, посуда, которую надо мыть, а этот процесс всегда вызывал у него мучительный озноб, и все будет постыло, тускло, и станет жаль уходящее время, которого осталось не так-то уж и много в жизни. И что-то томящее рождалось у него в груди, он прижимал пальцы к ключице, ловил низом ладони сердце, его бой... Как-то они пошли в Деменовы пещеры, это совсем недалеко от Хопока, примерно в часе ходьбы. Бабье лето уже пошло на спад, но погода еще стояла тихая и теплая, в прозрачном глубоком воздухе почти неподвижно висела паутина, прилипала к одежде, к рукам, к лицу, серебрила, птицы закатывали концерты в хвойной густоте, деревья перекликались друг с другом то звонко, то глухо, какие-то зверюшки раза два выскакивали на тропу, но, завидя людей, тут же исчезали. — В Москву не тянет? — спросил Исаченков, подсек палкой крапивный куст,свесившийся с земляного откоса. — Трудно сказать. И да и нет. — В Москве вроде бы погода не ахти... — Может быть, может быть, — она вдруг улыбнулась с понимающей насмешкой. — Когда не о чем говорить, всегда заводят речь о погоде. Так, кажется? — Не знаю, — пожал плечами Исаченков, смутился, пробормотал: — Это машинально вышло, ей-ей. — Да я не ради придирки. Просто так, к слову. Деменовы пещеры — это огромное глубинное царство со своим настроем и жизнью, со своей справедливостью и честью, тщетностью и запретами, призраками и климатом, со своей явью и сном, это гора, выбранная изнутри, это высохшая корка, прихлопнутая к земле, морщинистая, тусклобокая. Лаз в пещеру — маленький, двигаешься скорчившись, такое ощущение, будто в подвал втискиваешься, а осилишь небольшой земляной коридорчик — И такая пустота взметывается над тобой, что просто страшно становится. Анна ухватилась за Исаченкова, прислушалась к бормотанью экскурсовода — длинноносого, очкастого парня, во что-то тыкающего ледорубом. В свете лампочки мерцали каменные грибы, светились мутно. — Говорят, один кубический миллиметр сталактитов, да и любого другого пещерного вещества растет десять — пятнадцать лет, — быстро и складно, словно по книжке, проговорила Анна. — Это тоже из категории разговоров про погоду. — Попрошу без придирок, — засмеялась Анна. Сталактиты, сталагмиты — запутаться можно. Одни растут из земли сикось-накось, ровно заячьи уши, другие свешиваются с потолка и похожи на толстые, пупырчатые от наростов морковки. И названия необычные, слишком много в них от сказки, от воздуха, если хотите, от «дыма романтики» (от «тумана» — как высказался побывавший в тот же день в пещерах Гриня Шишкин): Каменный водопад, Вечный дождь, Ива, Красная девица, Старый лес. Хотя попадалось и гастрономическое: Брынза, Сушеная курица, Творожное озеро... Исаченков записал на ходу несколько названий, сунул клочок бумаги в карман: сгодится для памяти. Они остановились на берегу черной мелкой речки, протекавшей по дну громадного сырого зала. Берег был обрывистым, круто стесанным, в боковину врыты хлипкие металлические перильца. Экскурсовод замолчал, и стало слышно, как внизу простудно хлюпает вода, полощется брюхом о камни. Вдруг погас свет, темнота навалилась на людей тяжело, удушливо, она была такой опасной, каменной, холодной, что Анна даже прижалась к Исаченкову, он почувствовал, как дрожат ее плечи, притянул к себе, и гулкий вал ударил в уши, он зажмурился, едва удерживаясь на ногах. Томящая слепая боль снова распрямилась в груди, обожгла изнутри ребра, грудную клетку. Он молча потряс головой, высек из глаз брызги, роем сыпанувшие в темноту, успокоился. А тут и свет включили, и группа снова двинулась дальше, вверх по утрамбованным до чугунной плотности земляным ступенькам, мимо выплескивающихся из-под камней мутноватых, глиняного цвета грибов. Анна, словно исправляя ошибку, старалась держаться теперь несколько в стороне, вела себя отчужденно, чуточку сиротски. Исаченков решил, что с Анной надо объясниться, обязательно объясниться, — пусть боль истает, улетучится, может, наступит облегчение. Надо поставить точки над i — или, или... Вечером неподалеку от отеля, в земляной выбоине, поросшей не по-осеннему мягкой травой, был разложен прощальный костер. Сухие дрова горели споро, без искр, тонкое жаркое пламя взметывалось выше голов, освещало деревья, густо вставшие по бокам выбоины. Пришли немецкие туристы, жившие неподалеку, подсели к костру, пришли словаки-горноспасатели, их привел Ян Майда, сопровождавший советскую группу в горы, — черноволосый, плотный, спортивного типа парень, при виде которого прекрасные мира сего начинали протяжно вздыхать — Ян был, действительно, парень что надо, альпинист и автогонщик, пришли венгры-студенты, все, как один, в модных потертых джинсах, рубашки в обтяжечку, из бород сигаретки торчат — в общем, народу около костра собралось порядочно. Много говорили, смеялись и пели, прыгали через пламя и считали звезды в сажевом небе, выкликали малоразговорчивых ночных птиц и танцевали под губную гармошку. На высоко срубленный пень с ровной, хорошо оструганной макушкой поставили фанерный щит с прибитым к нему подсвечником, зажгли пять свечушек, тонюсеньких, прозрачных, хлипких, рядом нагромоздили десятка полтора консервных банок, оранжево заполыхавших блесткими боками. Исаченков пошел узнать, что это... Оказалось, консервированное пиво, на экспорт идет — в Австрию, Голландию, Швецию, как объяснили ему две молоденькие продавщицы, аккуратные, будто куколки, в льняных расшитых передничках, похожие друг на друга, ровно двойняшки. Исаченков взял одну банку, на которой было выведено по косой броское: «Золотой фазан», подцепил пальцем колечко, плоско прижатое к крышке, вырвал жестяной треугольничек, и в ноздри ему ударило терпким хлебным духом. Он отпил немного, понес банку к Анне, молча отдал, сел рядом, бездумно поглядел в хвосты пламени, в дымные завитушки, окутавшие свежие полешки, подброшенные в костер, вздохнул. О чем он думал сейчас — понять было трудно. О доме и о поездке, о горах и о пещерах, о женщине, работающей на хлебозаводе, и о самом себе, о том, что завтра предстоит дорога назад, и о сегодняшнем вечере, о теплых днях, уже сходящих на нет, и о новых знакомствах, о тишине здешних мест и о напряженной городской жизни, о форели, плещущейся в мелких бурчливых речушках, и о токе крови, остро бьющей в подреберье... Он медленно повернул голову, увидел лицо Анны, щеку, освещенную пламенем, припухлые негритянские губы, глаза — костерный отблеск вольно плавал в зрачках, — вздохнул, сглатывая твердый катыш, остановившийся в горле и мешавший дышать. — Анна, — тихо произнес Исаченков, поглядел куда-то вверх, на сосновые острые лапы, — знаешь что... Она не отозвалась. Ни вздохом, ни движением. Был слышен только костерный щелк и торопливый говор у щита с пивом. — Я хочу тебя видеть в Москве, — стараясь унять дрожь, проговорил Исаченков. — Можно? Анна молча поглядела на него, в глазах, в бездони зрачков ширился испуг, костерные отблески исчезли куда-то, вместо них возникло зеленое озерцо, какое-то колдовское, из сказки, наполненное теплом и светом. А потом он увидел боль — ту самую боль, которую ощущал и в себе самом. Анна протянула ему банку с пивом, он взял, притиснулся ртом к треугольничку выреза, почувствовал вкус помады, оставшейся на жести, сморщился загнанно. Плохо стало Исаченкову — слишком долго не отвечала Анна. — Можно? — повторил он тихо, удерживая ровность в голосе. — У меня же муж и ребенок... — Ну и что?.. Что муж и ребенок? — ожесточившись, он повысил голос. — Ребенка ты заберешь и переедешь ко мне. А? Анна! — для него сейчас перестали существовать и костер, и люди, тесно сидевшие на скатах выбоины, существовал лишь один-единственный человек — Анна. — Нет, — произнесла она шепотом. — Ну почему же? — зло проговорил он и умолк: пламя вдруг запузырилось перед ним радужной мокротой, заплясало, как пьяное, запласталось по земле, стелясь блескучей тряпкой у самых ног. — Не знаю, — ответила Анна. Исаченков собрался с силами и выкрикнул: — Нет, знаешь! Ты мне нужна! — И тут же проговорил тише, больным и враз севшим голосом: — Понимаешь? Нужна! — Гвозданул кулаком по земле: — Ты это понимаешь? Анна молчала, и Исаченков, неожиданно протрезвев, понял, что ничего не получится у него с этой женщиной, все покатится под гору, останутся боль, обида, недоумение. Он отшвырнул от себя банку с пивом, цепляясь за траву и макушки кустов, вскарабкался наверх, разгреб перед собою темноту. Вдруг услышал за спиной дыхание. Не оборачиваясь, понял: Анна. — Не обижайся на меня, — она в первый раз обратилась к нему на «ты». — Пожалуйста. Ты хороший, преданный друг. Друг... Но большему быть не дано, пойми! Я просто права не имею. Пойми меня. Пожалуйста. Откуда-то издалека накатился сильный стонущий гул, будто с гор сорвался вал воды и покатился вниз, кромсая все на своем пути. — Что это? — испуганным шепотом спросила она. Исаченков не ответил — он не знал, что это... Может, действительно, где-нибудь вода прорвалась. Сильный ветер хлестнул по макушкам сосен, накрыл деревья разом и, придавливая и ломая их, полетел дальше. Исаченков первый раз в жизни слышал, чтобы звук у ветра был таким страшным. «Вот и конец бабьему лету», — с глухой тоской подумал он. Назавтра пошел дождь. Уезжали поутру, едва полоска зари выцветила горы синеватой бледнотой. Дождь был мелким, нудным, липким, словно мокрая пыль. «Икарус» уже взревывал мотором во дворе отеля. Завтрак получили сухим пайком — огромные, в две ладони, бутерброды с острой, обсыпанной перцем и толченым чесноком ветчиной. Когда автобус заскользил вниз по асфальтовой нити, переброшенной поперек склона, Исаченков вдруг увидел, как из росных, охолодавших за ночь кустов выскочила комолая олениха с тонконогим олененком, испуганно посмотрела на огромное голосистое чудище — этот автобус, отступила назад, в водянистую листву. Дождевые капли, будто ртутные шарики, резво скользили, перечеркивали стекло, след тут же обволакивала туманная пыль, которую снова прорезал очередной ртутный катыш. Анна сидела рядом с Исаченковым, молчаливая, напряженная, невыспавшаяся, с темными пятнами под глазами. Он думал, что она пересядет на другое место — «Икарус» мог запросто вместить две туристские группы, было много пустых кресел, — но Анна осталась на старом месте. Когда выехали на трассу и дождь припустил еще сильнее, свинцовым горохом начал барабанить по крыше автобуса, Анна вдруг проговорила шепотом: — Слушай!.. Запиши номер моего московского телефона. Исаченков шевельнулся, распрямляя затекшие ноги, облизал языком губы, на которых выступил пот, ответил глухо: — Не надо, — уткнулся лбом в стекло, глядя, как из-под колес выплескивается на обочину чистая дождевая вода. На развилке остановились — переводчик Вацлав покидал группу, его здесь должна была подобрать машина, и, прежде чем нырнуть под железный козырек бсседки, около которой тормозили автобусы, подбирая пассажиров, он взял микрофон в руки, вежливо попрощался, потом, посмотрев на огромный, величиной с тарелку, спидометр, произнес незапрограммированное: — Всего мы проехали по Чехословакии три тысячи восемьсот пятьдесят восемь километров. Автобус двинулся дальше, дождь стал молотить по бокам и крыше еще сильнее, грохот стоял барабанный, от него звенело в ушах. Внутри, под изгибом грудной клетки — там, говорят, святая святых каждого человека таится, душа как будто, — было пусто, выжжено, ровно кто бензина плеснул, обмочил им бугры и изгибины, потом святотатственно чиркнул спичкой и — пых! — только запах горелого остался, да пепел, да что-то бездвижное, мертвое. И еще застойное, прогорклое — это уже чуть повыше, под ключицами. И нелегко было Исаченкову, и одиноко. «Бабье лето, где же ты? — он вгляделся в темную, облитую мокрым зелень обочины, почувствовал себя идущим к недостижимой цели — идет и идет такой человек, спешит, падает, сбивает в кровь локти, колени, мякоть ладоней, рассекает лоб, нос и подбородок, а цель хоть бы хны, ни на грамм не приближается. Ну хоть бы на птичий скок, ан нет! Нет и нет. — Куда же ты подевалось, бабье лето?» Но вот закон природы — не было Исаченкову ответа. И от этого еще более тяжелело, наливалось свинцовым настоем тело. Он понимал, что больше никогда не встретит Анну, что всему скоро... конец всему скоро, вот. И если он возьмет телефон и вздумает повидаться с ней в Москве, то это будет безжалостно, причинит боль — ей прежде всего, ей, а не себе, себе уж потом, и будет она метаться между двумя огнями и чувствовать себя подбитой птицей, и будет от этого щемяще тяжело, больно. Исаченков понимал, что надо перебороть себя, перебороть именно сейчас, потому что, может быть, даже часа через полтора будет поздно — поздно будет это сделать, и он подрубал в себе под корень всякую надежду, всякое дыханье. Одновременно он понимал и другое, что снова остается один и снова не будет рядом человека, которому он мог бы доверить вся и все, все самое потайное, касающееся только его. Его одного и больше никого. Он вдруг услышал какой-то тонкий и трогательный звук, почувствовал легкий прогорклый запах дыма, чего-то домашнего, теплого, близкого, но потом наваждение истаяло, и он понял, что это был последний звук, последний запах бабьего лета. Это было прощанием. А за окном все шел и шел дождь, бился о стекло то мелко, то крупно, в картечь, и казалось, не будет ему конца.
ДОЖДЬ НАД ГОРОДОМ
Он долго сидел неподвижно, обхватив голову руками, и со стороны поза его, эта стылая задумчивость вызывали ощущение непокоя, даже слабости — но не той, что привычна и приходит к нам вместе с усталостью, а слабости незнакомой, похожей на удар, вроде бы даже опаленной боем, схваткой, временем. Он думал о своем отце. В последнее время Берчанов-старший стал заметно стареть, и, хотя на спор он, поднатужившись, еще мог приподнять пустой грузовик (были у него в жизни подобные «подвиги»), и плечи еще такие, что не хватит рук измерить их ширину, и ходит он, не горбясь, Берчанов-младший уже нутром, сердцем чуял, что недолго осталось старику жить — все равно скосит костлявая, все равно свое возьмет. И тоскливо, неуютно, пусто как-то становилось на душе, когда он думал об отце, когда приезжал к нему в гости. Иногда Берчанов-младший подкатывал на служебной черной «Волге», приземистой, стремительной, торжественной, и отец топорщил усы, крутил в воздухе пальцем: никак не мог батя привыкнуть к тому, что сын выбился в начальство, стал главным инженером сплавной конторы. С другой стороны, Берчанов не раз замечал, что отец доволен нынешним его положением: видать, соседи обрабатывают старика, поют-напевают, какой-де у него сын и тому подобное, вот старик от соседской молвы и раскисает, теряет привычную свою презрительность, мягчеет душой. Ну да не об этом речь. А о том, что еще недавно Федор Лукьянович мог запросто на спор взвалить на спину полтора центнера груза и сойти с ношей по трапу баржи на берег, только трап жалобно скулил, даром что железный. Деревянных не ставили вовсе — боялись, что не выдержат, переломятся. Постарел батя, сдал, в землю начал врастать, вот о чем мысль, вот о чем речь. Смутная боль тупо шевельнулась в груди у Берчанова-младшего, оплела липучей мокротой сердце, он прислушался к самому себе: не проснется ли тревожный позыв, что сопутствует последнему часу? Тогда на думы уже не останется времени. Тогда надо будет действовать. А впрочем, что он сможет сделать, если отца окончательно сразит старость? Где-то далеко-далеко в горной выси ему неожиданно почудился звук, печальный, щемящий и светлый, словно затянули свою трубную песнь отлетающие журавли, и к горлу подступила горячая, крутого замеса, слеза. Он вытянулся за столом, вслушиваясь, повторится звук или нет. Но звук больше не возник, да и не было его вовсе. Да и какие тут журавли, в их суровой местности? Зимой морозы, случается, под шестьдесят ухают, запросто градусник разрывают, а мохнатые, специальной «холодоустойчивой» породы воробьи, и те, случается, обрезают полет, на землю мертвыми камешками падают, а летом, бывает, и злой иней белым пухом обмахрит землю. Хотя все равно через два часа пух этот словно языком слизывает бешеный тропический жар — при таких сумасшедших перепадах никаким журавлям, нежным созданиям, не выдюжить. Берчанов машинально приложился кулаком к крышке стола, снова задумался. Однажды Берчанов-старший крошечным, в пол-ладони всего величиной, топориком сумел совладать с медведем-шатуном. Этот случай сын хорошо запомнил: пацаном тогда был — если не изменяет память, десять в ту пору стукнуло. Случилось это зимой, на амурском берегу. В пади, примыкающей к самому льду, Берчанов-старший рубил березовый прут для чалки. Работал в полную отдачу — лишь пар стекленел над спиной и звонким хрустальным крошевом ссылался вниз. В полдень присел на связку прута перекурить, только забрался в карман за табаком, как вдруг из-под кедровой корчаги вылез медведь, с четверенек поднялся на задние лапы и молча пошел на Федора Лукьяныча. Тот ухватил топорик за скользкий черенок, ударил — как о камень; острие соскользнуло, только шатуна обозлил. А тут еще при взмахе выкинул левую руку вперед, кулак и угодил медведю в пасть. Тот сжал челюсти — ни просунуть руку дальше в горло, ни назад вытащить. Перед глазами овалы цветастые поплыли, хотя к боли Берчанов был привычный: видно, медведь клыками нерв прихватил. Но все-таки изловчился, ударил: топориком по хребтине. Топор соскочил с черенка и утонул в снегу. Вспомнил о ноже-складне, стал скрести пальцами по правому карману — оказалось, что складень, как на грех, в телогрейке слева лежит. Чувствует Берчанов, что шансы уже исчерпаны, на помощь никто не придет, и сознание уже мутнеет — как сквозь марлю, видит медвежью морду, — на последнем дыхании ухватил шатуна правой рукой за нос, пальцами под клыки, потащил вверх, а левой стал давить вниз. Так и разжал челюсти, разорвал рот. Медведь бросил Берчанова, шатаясь, закосолапил в сторону, ткнулся лобастой головой в свежий березовый комель и начал когтями древесный атлас чистить. Берчанов, теряя силы, хватая сухой, заскорузлый от мороза снег ртом, пополз домой. Ничего, дополз. Оклемался. Только рука покусанной осталась, хотя и лечили ее особыми таежными средствами, которые, по словам знахарок, куда сильнее фабричных лекарств. Но до конца так и не долечили. На ладони осталась неровно стесанной мякоть, а чуть повыше, на запястье, затянулись тонкой кожей рваные укусы, похожие на штыковые следы, имели они мертвенный, иссиза-свеклушный цвет. Да еще пальцы плохо шевелились, а в остальном ничего. Словом, как был Берчанов-старший самым настоящим слоном, так после схватки с лютым зверем им и продолжал оставаться. Берчанов-младший в отца пошел, тоже здоров донельзя — силу на четверых разделить можно, и каждый из четырех в обиде не останется, но такими подвигами, что под стать отцу, не занимался. В голову не приходило, да и норов другой, и неудобно — все-таки главный инженер, огромная сплавконтора на плечах. Тут своих медведей полно, и схватки случаются потяжелее, чем стычка с голодным, проснувшимся в неподходящую зимнюю пору зверем. Главный инженер незряче взглянул в окно, где накапливалась сырая удушливая тяжесть, набухало вязкой свинцовой густотой небо, деревья настороженно притихли, прислушиваясь к чему-то важному и опасному для себя, и птицы, те тоже притихли, куда-то подевались, попрятались — ни писка, ни чириканья, истаял гомон. Стены берчановского кабинета впитали в себя краску неба, эту непривычную жирную серость, покрылись пепловым налетом. Он прислушался к далекому, осипшему в дороге гудку одинокого парохода, одолевающего зейскую стремнину. Привычно потеребил себя за подбородок, пробуя пальцами кожу — как утром гладко ни бреешься, к вечеру все равно колючим становишься: прорастает буйный волос. Вздохнул беспричинно, будто удивляясь чему-то, посмотрел в рукав, на часы — диковинные, дисковые, в Голландии подарили, где он побывал в командировке, — по таким часам не сразу время определишь: циферблат черный, с вороновым отливом, диски тоже черные, цифры блеклые... И вообще, чтоб таким механизмом пользоваться, надо специальное обучение пройти, месячные курсы окончить. Часы Берчанову поначалу не понравились, и он забросил их было в ящик письменного стола, но Ирина, жена, извлекла их оттуда, заставила вновь надеть на руку. Сказала, что дисковые часы — это очень модно. Берчанов жене перечить не стал, подчинился, хотя и с неохотой. Решил — и правильно решил, — что если не соглашаться со второй половиной, так уж по-крупному, а в мелочах, когда ему почти безразлично, какие часы у него тикают на запястье, дисковые или старенькая, с вытертым до желтизны корпусом «Победа», — пусть уж тут Ирина верх берет. Он вздохнул, затянулся воздухом, и в ноздри вошла кисловатая острая вонь пороха, будто только что ударил дуплетом по пролетным гусям, да промазал, и от огорчения все чувства у него обострились, глаза стали зоркими, как у кобчика, а нюх — словно у сеттера, который каждый оттенок на зубок берет, любой полутон чувствует. Запах пороха — это, верно, запах собирающейся грозы. Закрыл папку с личным делом отца, сверху на приколотом скрепкой листке приказа о выдаче «тринадцатой зарплаты» старейшему работнику сплавконторы, бывшему старшине катера «Сопка» Берчанову Ф. Л.» крупно, тяжело давя пальцем перо, расписался. «Тринадцатую зарплату» как премию сплавконтора выдавала всем старым рабочим, ушедшим на пенсию. Нельзя было обижать стариков, столько ведь лет на Зее проработали, столько леса из верховьев доставили на буксирах, одолевая все капризы реки-злюки, все хляби, непогодья. Заслуженные эти денежки. Берчанов нажал кнопку звонка, вызывая секретаршу, и, прежде чем отворилась дверь, подумал, что приказ на отца лучше было бы подписать директору сплавконторы — так честнее и самозащищеннее, объективнее, что ли, будет. Хотя люди здесь все свои, и пересуды не пойдут, и никто не станет порицать его, но... Иногда все-таки случается такое, что не только на горячее молоко дуть приходится, но и на простую воду. А впрочем, всем так всем, почему на других пенсионеров должен приказ он подписывать, а на отца — директор. Гнилая какая-то этика на поверку выходит. — И ей-ей, гнилая. Даже пуговицы такой ниткой не пришьешь, — тихо, прислушиваясь к собственному голосу и удивляясь его сиплости, проговорил он, усмехнулся, постучал пальцами по жесткому корешку папки, ощутил несильную зажатость под горлом, снова взглянул в окно: что-то тревожно и худо на душе, видно, перепад давления на него так действует. Хотя еще рано поддаваться разным хворям, давлениям, неладностям, вот когда на пенсию выйдет, тогда и будет к собственному организму прислушиваться, ко всем его стенаниям и вздохам. На порог ступила Зиночка — седеющая румянощекая женщина лет шестидесяти пяти, полустарушка-полудевчонка, существо величиной с голубя — крохотное и нарядное. Зиночке на пенсию давно пора, а ее ни разу на памяти Берчанова никто по отчеству и не величал: все Зиночка да Зиночка — Зиночка, пойди, Зиночка, принеси, Зиночка, отпечатай, Зиночка, доложи начальству... — Как зовут этого чудака? Ну Федосова! Слесаря, — Берчанов потерся тыльной стороной ладони о ребро стола, стараясь унять «чес», — что-то он сегодня никуда свои руки деть не может, какой-то нервный, вздрюченный, расстроенный, что-то в его выносливом, грубовато сколоченном механизме надломилось, увяло. «Нет, все это не от давления, а от усталости», — подумал он с тихой устойчивой грустью, поглядел на Зиночку, тощенькую, плоскогрудую, с голубыми буклями, из-под которых, как камни из морской пены, проступали хрящеватые твердые уши, мужские, добротно склепанные. — Изобретателя? — усмехнулась Зиночка, и это не укрылось от Берчанова. — Гавриилом Лаврентьевичем, — секретарша качнулась на пороге. — Давно не слышал такого имени-отчества. В наше время Гавриилы с Лаврентиями — ого, какая редкость! Совсем перевелись, — улыбнулся. — В этом кроется что-то ископаемое. А впрочем, — он помедлил, пощелкал пальцами, — мое имя, оно тоже ископаемое, архаика, прошлый век. Верно? Ладно, пригласите-ка Гавриила Лаврентьевича ко мне. — Будет сделано, Федр Федрович, — Зиночка кивнула, качнулась на пороге и исчезла за дверью. Хорошее дело предложил этот чудаковатый слесарь (Федосов действительно был чудаковатым, на полном серьезе доказывал, что постиг тайну вечного двигателя, открыл его закон — в укор всем физикам-химикам, разным докторам да кандидатам наук вывел формулу вечности), рабочие, те, кто проволочный такелаж готовит, в ноги этому Федосову поклониться должны. Изобрел слесарь станок — неказистый, бесхитростный, совсем простенький, но дельный и, кажется, людей от большой мороки избавил. Берчанов выбрал из кучи папок, громоздившихся на столе, одну, зеленую, в лягушачьих пупырышках, подержал ее на ладони, будто на вес определяя, насколько ценна она, потом раскрыл, стал разглядывать вычерченный обычной шариковой ручкой чертеж, затем восхищенно хмыкнул — действительно, сколько людей поуродовало руки на проволоке, а никто до этого Федосова не смог решить уравнение с одним неизвестным. А оказывается, все так просто. Талантливое всегда просто. Он еще раз просмотрел чертеж — такое мог родить только мозг, не обремененный высшей математикой, длинными уравнениями, степенями, корнями, иксами, игреками и зетами, излишним грузом вещей, заложенных институтом и никогда не применяемых на практике, такое мог родить только мозг практика, человека, больше имеющего дело с металлом, с психологией железа и гаечного ключа, чем с алгебраическими теориями, мудреными буквицами, с прочими высшими материями. — Молодец, всем нам перо вставил. Вот так Гавриил, сын Лаврентия! — похвалил Берчанов. Да, изобрести такую «механизму», как выражается начальник сплава Хохлаткин — человек, сомневающийся буквально во всем, — не то что спутник или лунник соорудить, но извилин много нужно; нужны сноровка, смекалка, смелость, азарт, тяга к новому и... что там еще подходит под ранг изобретательства? Когда Берчанов оторвался от папки, то увидел, что в дверях, подперев плечом косяк, стоит лысый потный человек с внимательным, вполуприщур, взглядом. Как он умудрился войти бесшумно, когда дверь скрипит, словно немазаная телега, Берчанов даже предположить не мог. Но тем не менее факт оставался фактом — в дверях стоял слесарь Федосов, которого Зиночка довольно небрежно окрестила изобретателем, и подкладкой кепки стирал со лба мокрые блестины, растягивая рот в напряженной улыбке. — Гавриил Лаврентьевич? — на всякий случай осведомился Берчанов, про себя же чертыхнулся: чинуша, мог бы своих рабочих и в лицо знать. — Так точно! Гавлиил Лавлентьевич, — охотно отозвался слесарь и, вытерев кепкой лоб в последний раз, сунул ее в карман. «Р» он произносил совершенно неотличимо от «л», один к одному, даже намека на что-нибудь рычащее, рокочущее не было. И это выглядело немного смешно, в этом крылось нечто детское, беспомощное. Берчанов поспешно вытащил из кармана платок, приложил его к лицу, будто собирался чихнуть. На самом же деле он боялся рассмеяться. Потом вгляделся в лицо Федосова, в котором было что-то располагающее, открытое, доброе и близкое, робкое и упрямое, отметил сложный набор, или, иначе говоря (вот и красивые словеса на языке запрыгали, прилипчивые — не отвязаться), гамму черт, примет характера этого человека, подумал, что ему с Федосовым будет просто и легко разговаривать, с ним не надо искать внутренние психологические контакты. А то ведь порою приходит человек, стучит себя извозюканным в смазке кулаком в грудь, дышит воблой и пивом и требует: «Выслушай, начальник, работягу». Берчанов в таких случаях морщился, злился, но брал себя в руки и старался нащупать эти вот капризные внутренние контакты, опереться на них... А потом, не выслушай он этого горе-работягу, крикуна, пошли его к чертовой бабушке, враз назавтра заговорят: «Берчанов-то наш забыл, как солью-по́том плоты орошал да уху лаптем из бригадного котла хлебал. Выбился в начальники — и нос к потолку? Зазнался, значит?» Очень уж не хотелось Берчанову этих разговоров-пересудов. — Проходите, Гавриил Лаврентьевич. Садитесь. В ногах ведь, как говорят, правды-то нет? — Нету, — согласился Федосов и, гулко бухая ботинками по полу, прошел к столу. Сел напротив, вытряхнул из кармана кепчонку, натянул ее на колено. Берчанов посмотрел на него, хотел что-то сказать бодрое, бравурное, пропитанное медью, но произнес неожиданно тихо, с медлительной задумчивостью: — Спасибо вам... Федосов взглянул на него исподлобья и, как показалось, чуть испуганно, но тут же под глазами у него собралась смешливая плетенка, отразились, завспыхивали в зрачках крохотные задиристые крапины, рот растянулся чуть наискосок, добро и иронично, и слесарь пожал плечами, приподняв их так высоко, что голова, казалось, совсем вошла в туловище, одни только глаза поблескивали на воле. А Берчанов тем временем посуровел, спросил по-казенному сухо, будто сбросил с себя некое наваждение: — Трудности имеются? Федосов откликнулся, как эхо: — Имеются. — Какие? Скажите, пожалуйста... — Дак, — Федосов скосил глаза на нос, поскреб его пальцем, — механик, будь он неладен, места не дает. Это главная моя трудность. — Как механик места не дает? — не понял Берчанов, подумал вдруг о том непредвиденном, что может случиться в жизни неподконтрольно, за его, главинженерской, спиной, и что-то телесно-обиженное охватило его, он покраснел натужно, озляясь, но сдержался. — Станок я уже соорудил, детали кой-какие подогнал — вроде бы все в норме, можно ставить и запускать в работу, а механик окорачивает меня. Не мудри, говорит, лыковый изобретатель, и комбинацию из трех пальцев перед собой вертит. Того гляди, в нос эту фигуру сунет. Вот и-и... — Федосов замолчал, разгладил кепку на колене. — Насчет калашного ряда еще намекает. Берчанов вспомнил молодого, интеллигентного, очень тихого — слова на техсовете не выдавишь — механика. Не поверил: — Стрюков, что ли? — А кто ж еще? — Ну и ну-у — Берчанов поморщился и, резко повернувшись, крутнул несколько раз пальцем диск телефона, стоявшего на высоком приставном столике, похожем на этажерку. В ответ раздалось хрипяще-басовитое, на весь кабинет — та‑а, та‑а. Потом послышался дребезжащий, далекий — будто Стрюков на Северном полюсе сидел, а не в трехстах метрах от управленческого здания — голос. — Александр Аркадьевич, кажется? — спросил Берчанов. — Я. Было в этом дребезжащем ответе что-то уверенное, исполненное достоинства и настолько прочное, несмятое, что его вообще невозможно было смять. Поэтому Берчанов с ходу повел атаку. — Скажите, Александр Аркадьевич, вы член партии? — спросил он. — Кандидат. А что? — А почему не по-партийному поступаете? — тихо, с напряжением, чувствуя, что вот-вот сорвется и накричит на цехового механика, задал вопрос Берчанов. Стрюков затих на том конце провода, будто в окоп спрятался, потом, успокоившись, выглянул из-за бруствера, поинтересовался ровным голосом: — А в чем, собственно, дело? Благодаря этой ровности, прочности Берчанов окончательно убедился, как обманчивы бывают поверхностные впечатления. Скромность Стрюкова на заседаниях зиждется, выходит, не на тихости характера, тут дело много сложнее. Он, этот Стрюков, судя по всему, слишком защищенный, закованный в броню человек, чтобы размениваться по мелочам, расходовать ум и высказывать свои суждения по всяким малоприметным вопросам, он готовит себя для дел крупных, значительных. «А ты, дорогой главный, хотел его... — Берчанов устало растер пальцами шею, затылок, оживляя застоявшуюся кровь, — а ты хотел его за «просто так» взять, на вопрос, как на крючок, насадить. Не‑ет». Он обвис, осел на стуле, пытаясь вспомнить лицо Стрюкова. Общий рисунок помнил, а вот детали, те — нет, не помнил. — Федосова почему зажимаете? — громко и напористо бросил он в трубку, тут же осудил себя — не имеет он права при Федосове так резко говорить со Стрюковым: нельзя ведь подрывать авторитет руководителя, дипломированного инженера. Потом махнул рукой: а‑а, будь что будет, Стрюков — гусь еще тот, с ним только так и надо разговаривать. — Федосова? Зажимаю? Так Федосов же — безграмотный волюнтарист, полуизобретатель-полубогзнаетчто... Какой-то слесарный агрегат сколотил, носится с ним, как дьячок с писаной торбой. Лучше бы дома сидел, макароны продувал. Самоучка вальяжный! — Какой-какой? — не поняв, перебил Берчанов. — Валь-яж-ный, — по слогам произнес Стрюков. Что-то нервное и быстрое, словно выстрел, ослепительными красными брызгами взорвалось перед глазами Берчанова. Острым уколом пробило грудь. Он взмок в какую-то секунду и, не отвечая, медленно положил трубку на рычаг. Подумал, что в поведении его, во взаимоотношениях с подчиненными есть много неудобного, плохого. Федосов, судя по всему, слышал оскорбительные слова, произнесенные в его адрес Стрюковым, — телефон-то хоть и хрипун, с дребезжащим звуком, но услышать кое-что можно. Неприятная, липкая ситуация. — Вот что, Гавриил Лаврентьевич... Сколько дней вам надо на установку станка? — Дней? — Федосов расправил худые, стесанные книзу плечи, привычно взглянул вполуприщур. — Смены одной хватит, — приложил ладонь к горлу, — вот так хватит, даже кой-что останется. Часа полтора лишние будут. — Завтра с утра начните ставить, а послезавтра в девять я приду к вам, посмотрим, как станок работать будет. — Добро, — ответил Федосов. Берчанов поднялся, слесарь, сдернув кепчонку с колена, — тоже. — До свидания, — главный инженер перегнулся через стол, протягивая ладонь. Федосов нерешительно посмотрел на свои побитые пальцы, испачканные керосином и солидолом, заусенчатые, с неровными ногтями, но руку все-таки протянул. Когда он ушел, Берчанов надавил на кнопку звонка, вызывая Зиночку. Та вспорхнула на порог, светлея сединой, замерла выжидательно. — Будьте добры, заготовьте приказ о срочной установке опытного станка в такелажном цехе. Это первый пункт. А второй — о строгом выговоре механику Стрюкову. Два раза «А» его инициалы. — Формулировка во втором пункте какая, Федр Федрович? — Формулировка? За бездушие. Зиночка посмотрела на него удивленно и кротко, зачем-то поднялась на цыпочки, будто хотела разглядеть главного инженера получше. — Приказ такой я сейчас заготовлю. Еще что-нибудь будет? — Больше ничего. Секретарша что-то пискнула, но Берчанов не разобрал, что же именно, заскрипела дверью, исчезла за ней. Вскоре до него донесся булькающий, будто из глубины, из водной толщи, звук пишущей машинки. Оставшись один, он вновь подумал об отце, о далеком своем, детском еще восприятии этого родного человека. Например, он никогда не видел отца плачущим. А вот ему, главному инженеру, человеку, облеченному властью, что-то очень хочется сейчас расплакаться, — видно, нервы, усталость, вечная затурканность берут все-таки свое. Действительно, плакал ли когда-либо отец? На память пришло такое: как-то, сразу же после войны, отец взял Федьку на охоту. И вот однажды, проверяя собольи ловушки, батя отмахал километров пятнадцать по сорокоградусному морозу и еле-еле дотянул до зимовья. Ввалился в хорошо прогретое бревенчатое нутро и застыл посреди комнаты с отставленными в стороны неразгибающимися, затвердевшими от холода руками. Когда стал оттаивать, когда начали отходить прихваченные морозом ладони, ступни, то по всему отцовскому лицу, из-под малахая, с лысины, покатились крупные мутные капли, переливаясь скупыми огоньками в свете коптюшки, и сам отец, огромный, в неснятой дошке, босой, стоял посреди зимовья и жмурился от боли. Ему было очень больно, очень. Но плакал ли он в тот момент? Плакал ли? Берчанов, забывшись, шмыгнул носом, переживая это ясное детское видение, потом настороженно огляделся по сторонам — вдруг увидел кто, как он шмыгает, хлюпает ноздрями, сдерживая слезу. Конечно, если бы кто увидел, то посмеялся бы... И это вот «хе-хе-хе», смех этот — самое неприятное, самое обидное, даже плохое, из всего, что может быть. Берчанову еще со школьного возраста запомнились слова какого-то крупного писателя-классика (кажется, Белинского) о том, что человек, став смешным, проигрывает любое дело, даже самое серьезное. Вот оно как. Дело, дело, дело... Что сейчас главное в его, берчановской, работе? Главное — обеспечить сырьем участки деревообработки. Звучит сухо и казенно; если хотите, даже как фраза из экономической брошюры, — но, увы. Для этого дела, для обеспечения участков сырьем надо полностью выкатывать лес из реки — весь, который застрял в воде, скопился за долгие месяцы, весь до последнего бревна. А как его выкатить весь, когда листвяковые бревна, скользкие, набухшие, тяжелы настолько, что, ткни в лесину пальцем, она в воду метров на пять уходит, до дна достает, каждое третье бревно, вместо того чтобы лечь на ленту, уходит под хобот транспортера. Надо ставить башенный кран и поднимать листвяки пучками. Но где заполучить этот самый башенный кран? Нигде не заполучишь — их и для строителей не хватает. Даже если и удастся добыть такой кран, смолотят, съедят ведь потом, центнер бумаги изведешь на объяснительные записки в народный контроль. Есть еще способ — брать дерево из воды автомобильными кранами. Но много ли ими наработаешь? Вот задача-то. А если поставить кабельный кран? Двухопорный ряж надо будет рубить под такой кран. Это влетит в копеечку, тысяч пятьдесят будет стоить как минимум. Да. Но зато не будет утопов дерева и можно работать независимо от уровня воды. Зея-то капризуля: то едва полощется в берегах, по собственному дну пузом скребется, то вдруг вспузырится, вздуется, словно на дрожжах, и давай все крушить-ломать на пути-дороге. Все время уровень меняется... Да, неплохо бы кабельный кран заполучить. Но и у него есть недостаток — маломаневренный он. Лучше, значит, башенный. Башенный, башенный, башенный ... Тихо зазуммерил телефон — плоский, с гнутым легким туловом аппаратик. Местное ВеЧе. Берчанов кашлянул в кулак, приходя в себя, неторопливо приложил к уху черную, блестящую и сильно пахнущую заводской химией трубку. — Берчанов, что за самодеятельность ты там разводишь, а? Цеха какие-то строишь? — Звонил начальник сплавуправления Горюнов из Благовещенска. Сам звонил, не ленился. — Трифонов тут из Москвы прилетел разбираться. Специально, учти. Что скажешь в ответ на мой вопрос? А? — «Трифонов из Москвы» — это заместитель начальника отраслевого главка, человек деловой, шумный и резковатый. — Я почему ничего не знаю про твои новшества, а? — Вы же не захотели знать, Александр Александрович. Я вам докладывал. — Как так не захотел? Берчанов! Я те что, зять, дядюшка родный, чтоб со мной так разговаривать? Не забывайся! — Горюнов вскипел, слова вылетали из него, как горох из сухих стручков, но Берчанов уже держал трубку в вытянутой руке — далеко от уха и, усмехаясь, смотрел в окно. В трубке что-то клекотало, пищало, ухало, трещало, щелкало, сипело, зудело, басило, свистело, скрипело, ахало, шипело, охало, — да, Горюнов выдавал очередную нотацию темпераментно, с нажимом, с громом и молниями. Когда громы стихли, спокойный Берчанов вновь приложил трубку к уху. Горюнов шумно дышал, слышались какие-то хлюпающие глуховатые звуки — видно, пил воду из стакана. Отдышавшись, начальник сплавуправления предупредил: — Ну смотри, Берчанов! Допрыгаешься, достроишься! Переведем тебя из главных в начальники сплава. Тем более у тебя начсплава некрепкий какой-то... Ну смотри, Берчанов! — Я понимаю ваше справедливое возмущение, Александр Александрович, — бесстрастно и очень уж деревянными словами начал Берчанов. Это у него была своеобразная защитная реакция — выставлять заслон из деревянных слов. — Да, я допустил некоторую партизанщину в своих действиях. Но наверное, вы на моем месте поступили бы точно так же. Горюнов слушал, не перебивая: в эти минуты Горюнову предстояло, что называется, определиться — защищать Берчанова перед «Трифоновым из Москвы» или не защищать. — Мне же нужны теплые цеха. У меня ж из холодных цехов половина народа на завод высоковольтной аппаратуры ушла. Там ведь заработки не хуже, чем у нас. — Это я знаю, — примирительным тоном бросил Горюнов, — об этом мне не рассказывай. — Поэтому и начали мы строить два утепленных цеха. — Кирпич где взяли? — Совхоз один, он тут неподалеку располагается, имеет свой кирпичный завод. Простенький, примитивный, но все-таки завод. Договорились с руководством, сырье и производство совхозные, люди — наши. Кирпич — пятьдесят на пятьдесят. — Пополам, значит? — Пополам. — Выговор получить хочешь? — Пусть будет выговор. Лишь бы теплые цеха... — В горкоме партии советовался? — Да. — Ну и как? — Поддерживают. — Что ж ты сразу не сказал? «Ну вот, — расслабляясь, с сырой тяжестью подумал Берчанов, — теперь будет давать советы, как и что лучше сделать». Он опять отвел трубку в сторону. Нельзя сказать, чтобы Берчанов не любил своего высокого начальника, нет. Он часто расценивал поступки Горюнова как правильные — наверное, он и сам во многих пиковых ситуациях поступал бы так же, как поступает Горюнов. Но было и другое: Горюнов не знал сплава, не нюхал его; он видел, как толкачи ведут плоты, только из каюты своего «адмиральского» катера. Там, где надо было подбодрить, поддержать людей, даже если они проигрывали бой с рекой и упускали, допустим, плот, Горюнов устраивал разносы. Хотя прекрасно понимал в те минуты, что разносами делу не поможешь, не спасешь древесину. Разносы надо устраивать позже. А потом, что за необузданное, дурное правило — кричать на подчиненных? Кричать, если уж на то пошло, можно на начальника, на подчиненных же... Это табу, запрет. Берчанов вдруг вспомнил свой разговор с механиком Стрюковым, усмехнулся с холодной жесткостью: на Стрюкова он, еще бы немного, еще бы чуть-чуть, и тоже прикрикнул... «Ладно, Стрюков Стрюковым, а вот твой начальничек-то, Горюнов-то, не любит сплав, не любит. И должность он занял по инерции: пришел армейский отставник, попросил в обкоме дать дело; было свободное кресло — посадили. Оказывается, не на место посадили. С таким же успехом он мог возглавить школу кулинаров, родильный дом, мастерскую по штопке белья, овощную палатку, лодочную станцию, секцию юннатов в городском Дворце пионеров — что ему б ни дали, то бы он и взял». Берчанов вновь притиснул трубку к уху. И вовремя. — Ты меня понял? — спросил Горюнов. — Понял, — ответил главный инженер. — Поступай, как я сказал, и будь готов. Завтра приедем. — Я готов. До встречи, — сказал Берчанов. Аппарат зазвенел сухо, отключаясь, и кабинет вновь заполнила тишина, тяжелая, густая, серьезная и немного тягостная в этой своей серьезности. Берчанов разогнул сведенную от долгого сидения ногу, покрутил головой от слеповатых нерезких проколов, пытавшихся поразить мякоть мышц, начал думать об утеплении цехов, за которое люди ему спасибо скажут. Тут все ясно как божий день — пока он не построит теплых цехов, от него будет уходить народ. В деревянных, насквозь промораживаемых зимней стужей помещениях много не наработаешь, а если и наработаешь, то потом ревматизмами, костными болями до конца дней своих расплачиваться придется. Ведь все время на открытом воздухе, на морозе, на ветру, в непросыхаемой, негнущейся одежде... Ой как нужны теплые цеха! Скрипнула дверь, в проеме показалась Зиночка. — Федр Федрович! — Да, — тихо отозвался Берчанов. — Хочу напомнить, что вы на пять часов Евтухова, тракториста,вызывали. Сейчас уже начало шестого. Берчанов отвернул рукав пиджака, сощурился: сколько там показывают его сверхмодные? Диски поблескивали чернотой; но вот что показывали — сразу не разобрать, а когда разобрал, то поморщился недовольно — семь минут шестого! Уже семь минут человек ждет в приемной. — Он здесь? — Здесь. Попросить? — Давайте, — Берчанов снял пиджак, повесил на спинку стула, стоявшего рядом; концы длинных рукавов, улегшихся на полу, подобрал и крест-накрест сложил на дырчатом круглом сиденье. — Можно? — спросил с порога Евтухов. Берчанов молча кивнул, уселся поудобнее. На улице стало парить еще сильнее, и по душной густоте воздуха, от которой ладони становились липкими, словно их в сахарной пудре вымазали, чувствовалось, что вот-вот природа разразится, вот-вот грянет гром. Евтухов, молодой, мягкий, ярко-рыжий, с конопушинами редкой величины — с гривенник, не меньше, — отчего лицо казалось обрызганным звучной, издали видной краской, сел на стул, стоявший напротив, и с вольным несмущающимся видом начал оглядываться по сторонам. Это главному инженеру понравилось, ему всегда нравилась смелость — а рыжий Евтухов явно был парнем без робости, — а то, бывает, сидит перед тобою пожилой человек, трудом своим, биографией снискавший большое уважение, и таким чужаком себя чувствует, что стоит ему только заговорить, как хочется одернуть его, сказать, чтобы вообще не говорил: неприятно ведь видеть, как человек смущается, потеет, мямлит, пугается всего, словно школяр, которому грозит двойка. — Владимир... — начал Берчанов, потер пальцем зачесавшуюся переносицу. Евтухов блеснул белками светлых, почти прозрачных глаз, собрал вежливые складочки на лбу, растянул губы в улыбке. Зубы у него были редкие, косо посаженные, сикось-накось, как любили говорить в берчановском детстве, с неровным нижним обрезом, смешные какие-то. Не‑ет, что ни говори, такие зубы в мальчишестве хорошо иметь, Федька Берчанов в свое время отчаянно завидовал редкозубикам — они дальше всех цыкали слюной. И еще редкозубики были самыми смелыми и бесшабашными вралями. — Семеныч, — подсказал Евтухов. — У меня есть к вам предложение, Владимир Семенович, — тихо и скучно сказал Берчанов. — Хотим послать вас учиться в техникум. Вы ведь в этом году школу закончили? — В этом. Вечернюю. — Тройки есть? — Одна. — Эх, тройки, тройки... Самая демократичная отметка — тройка, — улыбнулся Берчанов, и лицо его будто разморозилось, жестковатые усталые складки, в которых прятались углы рта, обвяли, что-то пацанье, из лихого детства, прорезалось в размягченном лике главного. — Тройка, трюнька, трешка, как мы ее только не прозывали. Раз десять классов за плечами — значит, сразу на третий курс... Стипендию будем платить. Семьдесят пять рублей. Как, согласен? — Надо подумать, — быстро проговорил Евтухов, резко покрутил рыжей головой, словно подсолнух шляпой. «Ишь ты, быстрый какой. Ртуть, — подумал Берчанов. — Реакция хорошая. Такие вот рыжастые да скорые бывают хорошими боксерами. Правда, только в легком весе. Стоит им перейти в полусредний или средний вес, где кроме быстроты важна еще и масса, и бугры мышц, как чемпионство их кончается». — Говоря откровенно, мне жаль вас вот так отпускать... Жаль на три года от производства отрывать. Тракторист вы хороший, а хорошие трактористы нам позарез нужны. Ну а грамотные, прочно стоящие на ногах люди — вдвойне. Техники новой много нынче приходит, машины все сложные, интересные. С каждым годом будет прибывать все больше и больше. Пора такая наступила. Вернетесь с дипломом, мастером поставим. Лады? — Жалко на три года работу бросать. — Работа никуда не уйдет. Договорились? Евтухов коротко наклонил голову, рыжий чуб рассыпался, съехал на лоб. Макушек у Евтухова было две. Двухмакушечные, они счастливые, двухмакушечным всегда везет. — До свиданья, Федор Федорович! — До свиданья. Приказ о командировке в Благовещенск на сдачу экзаменов мы подготовим. Завтра можете получить деньги и ехать. Ни пуха вам... — К черту, — ничуть не запнувшись, с армейской четкостью отбарабанил Евтухов и закрыл за собой дверь. Некоторое время он потоптался в предбаннике, о чем-то говоря с Зиночкой, — было слышно, как скрипит старый, рассохшийся пол под его ногами, потом гулко хлопнула дверь приемной. Берчанов встал, подошел к окну. Огромная и странная в своей огромности, набрякшая ночной чернотой туча загромоздила небо, заняв почти все светлое пространство, край ее уходил за стертый предгрозовой темнотой горизонт, сливался с ним. Длинная и тонкая, страшновато острая молния ударила в Зею где-то за Кренделем — крутым колтыжистым островом, на котором в любое время дня и даже ночи, в любую погоду стыли согбенные фигуры рыбаков. Молния вошла в воду плоско, оплавив ее золотом, и на волнах заплясали, оживая, бурунчики — от молнии, как от гранаты, сыпануло осколками. Раздался грохот, от которого у Берчанова мгновенно заломило в висках, а потом в наступившей после удара тишине стало слышно, как дробно колотится пугливое сердце: уши заполнил басовитый шмелиный гуд. За первой молнией небесную чернь расколола вторая, ветвистая, словно дерево, гнутая. Распрямляясь над Зеей, она сделала скачок в сторону, просвистела над городом и ударила в край сопки. Тут же на землю рухнул водяной шквал. Это был настоящий поток — дождь шел так плотно, что плакат, стоящий в трех метрах от окна, враз утонул в темной, отвесно падающей воде. Хрястнул задавленный дождем гром. Берчанов закрыл окно, подумал, что тяжело сейчас тем, кто ведет по Зее плоты. Створов не видно, берега сокрыты, в этой полуночной мгле проще простого посадить плот на мелкое дно, на приглубый остров. Кто же из капитанов сейчас находится в пути? Он взял в руки разграфленную химическим карандашом оперативку. Та-ак... Капитан Иноков на толкаче «Прошва». Подошел к телефону, набрал номер. Начсплава Хохлаткин отозвался сразу. — Сергей Кириллыч, «Прошва» в пути? — спросил его Берчанов. — В пути. — Связь есть? — Полчаса назад была. Мы предупредили Инокова, что гроза, предложили причалить. — Согласился? — Иноков — капитан осторожный. Куда же ему деваться? — Добре, — сказал Берчанов. — Будете связываться еше — позвоните мне. На всякий случай держите пару катеров наготове. Если посадит плот или упустит, здесь всякое может случиться, тогда подмогу пошлем. — Будет сделано, — сипловатым простудным голосом пробормотал начсплава. Вновь вспыхнула молния — рогатая, жаркая, тут же коротко, преодолевая задавленность, ухнул гром. Молния ударила близко — скорее всего, в длинный, заросший лебедой пустырь, разделяющий сплавконтору — с ее цехами, складами, затонами, свалкой, полной преющей коры, лиственных комельев, рейдами, причалами — и аккуратно обрезанную белобокую кайму города, его окраину. А может, молния ударила в самую окраину, а может, следующий удар придется по сплавконторским складам?.. Берчанов забеспокоился, хотел было соединиться с начальником пожарной части, но остановил себя — не нужен этот лишний контроль, он часто не на пользу идет, инициативу глушит. Пожарным «промыслом» заведует человек хваткий, головастый, знает, когда надо быть начеку, а когда лишний часок соснуть... Дождь грохотал так, что казалось, будто неподалеку бьют из пушки, выстрел за выстрелом, не прерываясь, удар за ударом, раз за разом, и тяжелое, отдающее войной и бедой «бах-бах-бах-бах» остро прокалывало уши и становилось от этого цепкого недоброго звука бесприютно, сиро на душе, жизнь лишалась естественности, привлекательности, в ней прозрачнели, белесели, гасли все краски. Чтобы хоть как-то отвлечься, уйти в сторону от яростной пальбы дождя и грома, Берчанов начал думать о Евтухове. Парень хваткий, этот Евтухов, быстрый, сообразительный, из такого может выйти толковый мастер, начальник участка, даже цеха. Это закон. Когда окончит техникум, надо будет помочь ему в институт определиться. Впрочем, что заранее загадывать? Три года отучится, ребячество с него сойдет, все наносное отшелушится, там видно будет. А потом, самому еще надо будет за эти три года на месте удержаться — не то ведь в один прекрасный момент Горюнов не выдержит и действительно снимет с работы, переведет в начальники сплава. «Тем более у тебя начсплава некрепкий какой-то», — вспомнил он слова Горюнова, и так отчетливо и ясно, что каждая буковка была окрашена в свой колер, так материально прозвучали эти слова у него в ушах, выплыв из грохота дождя, что Берчанов даже поглядел на дверь: уж не в предбаннике ли Горюнов? Галлюцинация какая-то. Но нет, дверь кабинета плотно прикрыта и никого, кроме секретарши, похоже, нет в приемной, за стенами же здания стоит такой нутряной гром, что его не перекричать: там, на воле, ливень мордует землю, там куражится водяной поток, заливает, запрессовывает земляные поры, закидывает плоты на берег, чистит топи и протоки. Изомнет злая вода землю, истопчет, извредит, исцарапает, и кажется, уже конец свету, планете, земле конец — такая она смятая и мертвая, тихая, полная беды и тревоги, задавленная, — но стоит выглянуть солнышку, как начинают двигаться, расправляясь и оживая, недвижные травы, закостеневший песок — темнеть разломами, а под обезображенным, сплошь в выворотнях, глиняным одеялом возобновит свой ток, свой нервный бег густая планетная кровь. Словом, на солнышке оживает, оживает, оживает землица, рождает ответное тепло, ответную любовь. Берчанов вновь подумал о Евтухове — не так уж давно он сам был таким же, моложе молодости, легким на подъем, быстрым на решения. До четырнадцати лет прожил с батей на участке в тайге, ходил с мелкашкой белковать, утей бил мастерски — прямо на воде, не поднимая с волны. Никто, кроме него, не умел так лихо и проворно расправляться с кряквами, с боровой дичью, с копалухами и палюшками. А однажды Федька даже на хозяина тайги с одноствольным бердачом попер. Уложил. Сам. Никто из взрослых не помогал, не стоял на «спасе», не подстраховывал. После десятого класса Федька поступил, как он говорил, в «ремеслуху», благополучно окончил, выучился на столяра. До армии успел в конторе поработать, шестой разряд получил, потом три года, день в день, отслужил на западной границе, вернулся на Дальний Восток, поступил в техникум, а затем и малость повыше поднялся — сдал экзамены в институт... Тут в дверь заглянула Зипочка. Она уже была обута в низкие, широкие в распахе боты «прощай, молодость», скрипучие, новенькие, с большими блестящими пуговками по бокам; ноги, тонкие, в нитяных, сурового цвета чулках, смешно вырастали из обуви, — секретарша, судя по всему, собралась отправиться домой. — Федр Федрович, вам жена звонит, — привычно истончив голос, проговорила она. — Спасибо, — поблагодарил Берчанов и, подождав, когда Зиночка закроет дверь, — он всегда смущался, если кто-либо присутствовал при его разговорах с женой, — взял в руку телефонную трубку. — Здравствуй, Ирина. — Домой думаешь сегодня? Или ночевать в конторе останешься? Рабочий день-то кончился. — Дождь идет, Ирин, — несколько виновато, с тяжелой тихостью в голосе произнес главный инженер. — Так хлещет, что нос за порог высунуть нельзя. Слышь, палит? — он оттянул спиральку телефонного провода, поднес трубку к форточке, подержал несколько секунд, глядя, как дождяные осколки мокрят руку. — Слышишь, что тут у нас творится? Светопреставленье. А у вас в городе как? Тоже небось водопад? — Ты на дождь, Федор, не ссылайся. Школьная это уловка, Федор, детская. Садись в машину и домой. Чтоб через двадцать минут был. Это приказ. Ясно? — Угу, — сказал Берчанов, сощурился, словно от сильного щипка, он любил свою жену и до сих пор не научился переносить такие вот, излишне прямые, немного даже грубоватые, без ласки, без нежности разговоры; каждый раз он переживал и каждый раз — вот странное дело — во рту у него оставался осадок горечи, перемешанной с кислиной, будто зеленых дичков испробовал или микстуры выпил. Надо бы найти что-нибудь защитное от таких уколов, и тогда не будет возникать ощущение странного холода, грусти, бесприютности, болезненной зависимости от других, скоротечной и совершенно неожиданной тоски по жене, по ее дыханию, смеху, теплу, чистому запаху, и к грубости ее тогда он сможет относиться спокойно, принимать без обиды. Да, многому еще он не научился — к слову, до сих пор не нащупал, где кончаются производственные дела и где начинаются домашние заботы, все у него сливается воедино, одно является продолжением другого. Дома ему, например, постоянно снятся технические сны — про работу, про прошлое и настоящее, про сплавщиков, откатчиков, механиков, пилорезов. — Не-ет, через двадцать минут рано. Через час, ну, через полтора, в худшем случае, двинусь, — сказал Берчанов, — у меня тут кой-какие дела скопились, надо разгрести. — Тяжело жить с тобой, Федор. Ты жену на бревно готов променять, если этого бревна не хватает для выполнения плана. — Не надо меня так. За что? Как крапивой... А? — он умолк, прислушался к шебуршанью в телефонной трубке с каким-то знакомо усталым, загнанно-грустным чувством, вздохнул. — Что молчишь? Вдруг услышал в ответ тихий смех, и что-то ласковое, теплое, бодрящее родилось у него в груди, от этого даже увлажнились глаза и в висках заломило. — Ну не молчи, — попросил он. — Я очень, очень прошу тебя, приезжай сейчас же, — послышалось в ответ. — Ну, пожалуйста. Мы в кино с тобой сходим, а? Французский фильм, Луи де Фюнес в главной роли, все хвалят. Ведь давно мы с тобой не были в кино? — Давно, — согласился, приходя в себя, Берчанов. Покосился на кучу папок, лежавших справа от него, — вон сколько еще непросмотренных, просмотренные он кладет слева от себя, покосился на зеленые, в грубых остинах корки скоросшивателей, в которых находились неподписанные документы. Чтобы перелопатить эту гору, ему часа три потребуется. Если не больше. — Ну приезжай! Ну пожалуйста, — попросила Ирина. — Хорошо, — громко сказал Берчанов, — уговорила, Ирин. Брошу все и сейчас прикачу. И шут с ним, с дождем. — Все-все бросишь? — Все-все. — К черту и к чертовой бабушке? — спросила Ирина капризным, требующим продолжения тоном. «Детство какое-то», — подумал Берчанов. Произнес: — К черту и к чертовой бабушке тоже. — Я люблю тебя. И жду. — И я люблю тебя, — шепотом сказал Берчанов. Около уха, лихорадочно частя, остро затенькали гудки отбоя. Берчанов положил трубку на рычажки, отрешенно взглянул на скоросшиватели с приказами, придвинул к себе. В кабинете было душно. Не вставая из-за стола, он потянулся, линейкой толкнул переплет рамы. Окно раскрылось. Дождь еще бесновался, но уже не с прежней лихостью. Где-то на востоке, в задымленной боевой черноте, проклевывался свет — значит, скоро гроза пройдет, покатит дальше, пока не растранжирит силы свои, не угаснет, не обовьется где-нибудь в тайге вокруг вековухи-пихты или не разобьет себе лоб о каменную шляпу сопки. Громыхнул гром, но уже не было в нем прежней силы — истаяла, в землицу вся мощь ушла, осталось только воспоминание да ощущение настороженной смятенности, мудрой печали, обузы ненастья, изморенности. Берчанов поймал себя на том, что знакомо-сладкое томление подползает к горлу, от него становится тоскливо и уютно, тепло, как-то особо чисто, он улыбнулся кротко, стараясь понять, что же такое творится там, в глубине души, в жаркой ее теми, потайном и заветном, рождающем истому и нечто такое, с чем трудно бороться, покрутил головой, изгоняя из себя хмельную одурь, пробормотал: — Вот что, Ирин... Прости меня. Насчет того, что одна нога здесь, а другая дома, не выходит пока. Вот какое дело... Взглянул на телефон — Зиночки, секретарши, нет и никто уже больше не прорвется к нему из города. Если только по внутреннему, но внутренний — производственный и выхода в город не имеет. Он вздохнул, освобождаясь от слабости, придвинул скоросшиватели еще ближе, взялся за очередную бумагу. Простите, товарищ женушка, дорогой человек, но... Пока он не перелопатит всю эту чертову гору, никуда не уйдет. Блеклый, немощный свет пробрался в кабинет из распахнутого окна, замер, будто хотел согреться, высветил Берчанова, его гнутую колесом спину, затылок с отросшими лохмушками волос, попробовал было заиграть с ним, но главный инженер не обратил на эту милую шалость внимания — он погрузился в работу с головой, он как в воду вошел, и ничто, кроме работы, для него сейчас не существовало. Даже жизнь текла в эти минуты за пределами его сознания, вне его. И это было естественно, это было рождено самой жизнью, ее вековечным движением. После дождя в эту летнюю пору на свидание к людям всегда спешит солнце: надо же взбодрить народ, обсушить природу, вылизать землю теплым своим языком, помочь распрямиться травам, обласкать зверушек, крылатых и бескрылых насекомых, справить вековечную свою службу. Выглянуло солнце и сейчас, но Берчанов и его не заметил — не до того было, не среагировал он. А вот на грузный, сильный шаг, раздавшийся в приемной, голову поднял — что-то забытое, давнее, трогательное, как позыв детства, почудилось ему. И он встревоженно, отгоняя красноватый прилипчивый туман от глаз, вскинулся, словно на охоте, потянул ноздрями воздух. Ощутил совершенно неожиданно запах талого, пропитанного весенним соком снега, травяной прели, лопающихся почек, горького, настоянного на прошлогодней полыни ветра, и у него чем-то туго и сильно перетянуло сердце, будто кто поймал его корявой мозолистой ладонью и сдавил, словно воробья. Открылась дверь, и на порог взгромоздился Берчанов-старший, в шелковой, струистой, как речная вода, тенниске, обтягивающей литую чугунную грудь, с плащом-брезентовиком, переброшенным через руку. Лицо костистое, утяжеленное книзу, с неровно обритым срезом челюсти — торопился, видно, батя, небрежным на бритье под старость стал, под скулами — запады, втянулась кожа вовнутрь, собралась в морщинистую плетенку, из-под бровей черные бусины блестят («утячьи у меня глаза, ей-богу, — сказал как-то отец, изумленно глядя на себя в зеркало, — сколько утей я ни бил, каждый раз мне одни черноглазики попадались, и каждый раз жалко их становилось, а заодно и собственную особу — ровно в себя стрелял, вот ведь как»). Уловил главный инженер в блеске бусин недоброту, озабоченность, подумал: зачем же это отец пожаловал? Случилось что? Отец прошел к столу, мокрый брезентовик аккуратным комком положил на пол, сел. — Ты вот что, Федя, — начал он, побарабанил кончиками пальцев ло столу, оставляя на лаке потные отметины, — есть, конечно, пословица «работа — не волк, в лес не убежит», и верная она, эта пословица... Работа, действительно, в лес не убежит, а вот жена может убежать. Ты ж обещал дома быть, в кино с Иркой пойти... Так что ж? Баба все жданки прождала, а его нет и нет. Берчанов-младший молчал, справляясь со своим сердцем, с тугими скобами, прочно обжавшими его тело, и думал о том, что почему же, несмотря на слабость, не уходит, не покидает его ощущение весны, открытия, чего-то нового, радостного, трогательного и печального одновременно? И это ощущение такое прочное, что, кажется, закрой глаза, нагнись, пошарь рукой под ногами — и к ладони прилипнет мокрый снег, сосновые остья, кожура, а потом нащупаешь и проталину с клочками мягкой прошлогодней травы, катыши наледи и среди них — хрупкие твердоватые стебли подснежников... Он кивнул, не вставая, натянул на себя пиджак, излишне спокойно глянул в окно, мутновато-блесткое от предвечернего солнца, потом поднялся и, не отвечая отцу, шагнул к выходу. Федор Лукьянович — следом, но тут же вернулся, цепкими короткими пальцами ухватил плащ и, тяжело подминая ногами пол, пошел за сыном, как командир за подопечным, как часовой за конвоируемым, остро буравя ему утячьими бусинами спину. День был еще в силе, но уже по сизоватой прозрачности далей, по успокоенности листвы на тополях, по сложной и таинственной игре света и тени чувствовалось, что дело пошло на исход, к черте — еще немного, и солнце усохшим караваем свалится за горизонт, ухнет, как в воду, и тогда на землю опустится ночь. Ночь сменится днем, день — ночью, и так до бесконечности, до той черты, где царит тишина, тлен. Но все это не страшно, не страшны тишина и тлен, пока рядом есть дорогой человек; все можно перебороть, осилить, одолеть, когда ощущаешь локоть друга, его плечо, и — тут отец прав — не надо обижать его, не надо отдалять этого человека от себя. Ведь так хорошо, когда на пороге дома тебя ждет женщина, близкая до крика и плача, до опьянения... Это надо хранить. До самой последней черты, до точки. Он сел рядом с шофером, сзади, давя скрипучую кожу своей тяжестью, в машину втиснулся отец. — Домой, — сказал Берчанов-младший. Когда под колеса «Волги» пошла пластаться каменно-тусклая лента бетонки с выщербинами и неровностями, он снова начал думать о работе, но тут же изловил себя, улыбнулся тихо и примирительно, даже печально. Откинулся назад, поймал в подвесном овальном зеркальце свой взгляд и в расширенности зрачков вдруг увидел маленькую размокшую полянку, сероватый, ноздристый снег, плоские, с полегшей травой пролежни, посреди которых на длинных некрепких стеблях раскачивались синие ледышки. И так захотелось ему войти в эту весну, добраться до поляны и нарвать подснежников, что просто спасу никакого не стало…
ОСЕННЯЯ ПЕСНЯ
Майор Стругов вел вертолет почти впритык к водной ряби. Стругов делал контрольный облет лимана. Наклоняя голову, он видел в форточку-бустер густую синь — по осени вода в лиманах наливается зимним льдистым холодом, становится неприкрыто яркой; кроме ряби видел еще разлапистую, похожую на саранчу, тень Ми‑4, кудлатые камышовые куртины, островки высохшей резики. Было раннее утро — заспанное солнце только что вылезло из-за далекой, чуть вогнутой кромки моря. Стругов не мог никак освободиться от странной тяжести, застрявшей в грудной клетке, в самой глубине ее, под сердцем, от усталости, оставшейся после скомканной тревожной ночи, от цепкого ощущения тревоги, безотвязно охватывающей его в последнее время. — Смотри, майор, — кабан! — начальник райотдела милиции Пермяков поднялся на дюралевую лесенку, вцепился крупными красными руками в потолочные скобы. — Ну и кабан! С корову, не менее, а? Из двух стволов только снять можно. Как считаешь, майор? Стругов поморщился, словно на зуб ему попал голяш ракушечника, оттянул половинку бустера. Воздух был наполнен остывшими кислыми испарениями, запахом гниющего камыша, водная синь казалась ему недоброй, предательской. На крохотном, плоско поднявшемся над водой островке крутился огромный палевый кабан; задрав сильно вытянутую волосатую морду, он часто поддевал пятаком воздух, в тусклых глазах его застыли страх и животная скорбь — Стругов с его острым зрением разглядел то, чего не мог увидеть Пермяков. Длинные, почти прямые клыки кабана были в крови. Убегать зверю некуда — кругом волнистая рябь, плавни, все сухие куртины и гривы затопило по самый верх, и пока не спадет вода — сидеть кабану на островке. — Дай круг. Всего один круг, — Пермяков пристукнул кулаком по резиновому настилу. — К кабану вернемся. — Не надо. Пусть живет, — хмуро сказал Стругов. — Господь с тобой, — вскинулся Пермяков, — что я, из пистолета разве палить буду? Тулки ж со мной нет. Посмотреть еще раз хочу, майор. Какой экземпляр! Стругов все же не отозвался на призыв Пермякова — он сидел сосредоточенный, грузно впаявшийся в кресло; начальнику райотдела была видна лишь щека майора, прикрытая отворотом шлема, да остро приподнятый, с узкими крыльями нос. — Алексей, как курс? — спросил Стругов у штурмана с непонятной, не русской и не украинской фамилией Гупало. Тот поправил тоненькую планшетку, лежавшую на коленях, ткнул пальцем в голубизну карты, засунутой под целлулоид, потом привстал, глянул вниз, в камышовый бурелом, где настороженно блестели темные прогалы воды. — Через семь минут будем на месте — объявил он простуженным, с сипотцой, басом. Был Гупало неповоротливым толстеющим молодым человеком с сонно опущенными глазами и густыми рыжими волосами, крупными, как проволока, и, как проволока, жесткими, растущими вкривь и вкось; ни одна расческа с ними не справлялась. — Через семь минут всего, — повторил Гупало. Вскоре по курсу показался длинный остров, окаймленный густой, но уже сохлой растительностью, — Охотничий Став. Стругову раньше приходилось бывать на острове, бить жирующих уток да беспардонно горластых и на удивление наивных гусей, не умеющих прятаться от охотников. Помнил Стругов и безудержно бесшабашный клев в плавнях: брала рыба — севрюжка, лещи, пухлые от нагульного жира, да и белужата не отставали, накидывались на наживу, будто с голода; он поискал глазами деревянный приют-домик, сколоченный из финских панелей, на восемь человек, но не нашел. «Забыл, где стоит, — подумал он, но тут же сказал себе — нет, не забыл. Дом стоял на берегу заросшей камышом и кугой поймы, от дверей до воды по деревянной сходенке два шага, не больше. — Пойма-то... Пойма, вот она... А дом? Где же дом, прозванный охотниками приютом?» Дома не было. Дом снесло ночным наводнением. Стругов уже знал, как разыгралась трагедия, рассказали в штабе. Более суток над Азовом дула низовка — турецкий ветер. Облака он гонит так низко, что те задевают за трубы одноэтажных домов, иногда бывает, что до облака рукой дотянуться можно, — этот ветер нагнал в лиманы морской воды, затопил плавни, а потом, ночью, уже в одиннадцатом часу, после десятиминутного затишья, на побережье обрушился майстра — ветер-европеец огромной силы, вздыбивший в западных водах огромный морской вал. Вал шел к берегу, переворачивая в запанях сейнеры, ломая, как спички, бетонные пасынки, поднимая со дна тяжелые рыбацкие байды, затопленные еще в прошлом веке. В Охотничьем Ставе он снес приют, в котором расположились на ночлег не чуявшие беды охотники, прибывшие на два выходных дня — субботу и воскресенье — в угодья пострелять птицу, порыбачить... Сюда, на остров в плавнях, уже дважды прилетали ребята на Ми‑4, надеясь найти что-нибудь и кого-нибудь, но, увы, оба раза возвращались ни с чем — людей на острове не было. Сегодняшний прилет экипажа Стругова был контрольным, на всякий случай: а вдруг удастся найти хоть какие-то следы? Стругов посадил вертолет на берег поймы, почти впритык к воде. В иллюминатор была видна спокойная и чистая глубина. Сухая кромка очень светлого и легкого, пропеченного солнцем ракушечника, обметанного волокнистой губчатой тиной, небрежно рассыпанной по всей длине, находилась под брюхом вертолета; одной «ногой» машина стояла в воде. В трюме громыхнул дверью бортмеханик Меньшов. Лопасти, сделав последний мах, застыли. На ракушечник спрыгнул Пермяков, затопал сапогами, разминаясь. Стругов поглядел на него сквозь выгнутое стекло бустера, поморщился: что же это, выходит, местные условия и безбедная жизнь сделали Пермякова нечувствительным к чужой беде? Ведь, возможно, охотников, ночевавших здесь, и в живых уже нет, а у него лицо довольное и сытое — не дело это, не дело... Местные условия, понятно — работящая жена, корова, хорошо налаженное подсобное хозяйство, спокойный быт. Хотя не поймешь сразу, в чем дело... Когда Стругов, досадуя на слабость в теле и звон в ушах, выбрался из вертолета, то увидел, что офицеры сбились в круг и молча рассматривают что-то. Майор подошел, заглянул через плечо штурмана, увидел худую мокроглазую собаку с жалобной мордой, узким — углом — крестцом, непрочной грудью. Пятнистые нечесаные бока собаки с прилипшими к шерсти водорослями мелко дрожали, кривоватые тонкие лапы подгибались от страха и усталости, от отчаяния, от осознания собственной беспомощности. — Странно, как она тут очутилась и почему в прежние два прилета мужики ее не обнаружили, а? Странно, странно... Но факт есть факт. Вот она все знает. Где хозяин, знает, где остальные... Знает, да сказать не может, — проговорил Гупало, ломая пальцами планшетку. — А глаза-то, о! Человечьи почти что. С тоской. И в слезах глаза-то! Посмотрите, товарищи! Видите, какие слезы на глазах у собаки? — Гупало еще сильнее начал ломать руками планшетку, голос у него сделался нервным, высоким, в нем появилась какая-то режущая звонкость, надрыв — штурману было жаль собаку. — Сеттер. Пятнистый сеттер, — сказал Меньшов. — Тоскует. Надо же, а? Словно человек, — голос у Гупало был по-прежнему высоким и звонким, будто его кто обидел. — Тоскует. — По хозяину, — отозвался Меньшов. Стругов протиснулся в круг; присев на корточки, протянул руку к собаке: та настороженно откинула назад голову, сверкнули вывернутые густо-кровавые белки глаз, но потом, поняв, что человек не замышляет ничего худого, успокоившись, потянулась носом к ладони, запрядала ноздрями. — Хозяина ищет, — сказал Меньшов. — А где хозяин? То ли жив, то ли мертв, одному богу ведомо. — Скоро узнаем, — бодро сказал Пермяков, притопнул сапогами; Стругов, услышав эти слова, покрутил болезненно головой. — Обыщем Охотничий Став? — не то предложил, не то приказал майор. Поднялся, вытер одну руку о другую, стянул с головы шлем. — Глядишь, и найдем что... Тут иногда клок газеты подсказать может, где люди. — Можно обыскать, — помедлив, согласился Пермяков, хотя и собрал на лбу недовольные морщины. Право приказывать он считал, судя по всему, единоличным. — Как пойдем? Все вместе, гуртом? Или цепочкой, а? — спросил Пермяков и тут же умным знающим голосом предложил: — Лучше цепью, с интервалом в пять метров. Нас тут сколько? Четыре человека... Вот полоса захвата и составит двадцать метров. Самый аккурат. Двинулись! Стругову досталось крайнее к воде место; он, разгребая носками сапог завалы резики, сделал несколько шагов, осмотрелся, потом раздвинул камышовый стланик — скрипучий хруст сухих трубок вызвал у него нытье на зубах, — вошел. Справа из камыша выглядывала огняная, как цветок, голова штурмана с полузакрытыми, привычно опущенными вниз глазами. За штурманом, следующим по цепи, шел Меньшов; замыкал линию Пермяков, с суетными округлыми движениями, надсадным, слышным даже здесь дыханием. «Сердце у него — того... Надломано. Иначе бы он так не дышал», — подумал Стругов подавляя в себе неприязнь, загоняя ее вовнутрь, отвернулся, рассматривая открывшуюся в прощелине незамутненную ширь лимана. В камышиннике почва была вязкой, возникло ощущение, что она намазана, как повидло, на корку тверди. Продираться сквозь камышинник было трудно. Сердце разбухло в грудной клетке, снизу его подпирали ребра, и Стругову казалось, что кренится в сторону островок, голова штурмана катится куда-то вниз, под ноги; он втянул в себя воздух, с присвистом выдохнул; давно ему не было так тяжело и плохо. Впрочем, тут же майор забыл о хвори, выйдя на примятый пятачок — вдавлину, он увидел мертвого дельфина. Небольшой, примерно полуметровой длины, дельфин-ребенок неизвестно почему погиб. Длинным тупым носом он вспорол землю, зарылся в нее. По ввалившемуся сморщенному глазу ползала большая, отогревшаяся на солнце муха. Было неприятно и больно смотреть на это, словно муха своим ползаньем уничтожала живую ткань, плоть. От дельфина исходил едкий запах, и Стругов понял, что он лежит здесь уже несколько дней и погиб еще до майстры. Это успокоило майора. Взглянув на изящное, легкое тело, Стругов двинулся дальше, ежеминутно останавливаясь, нагибаясь, подбирая ошмотья земли, водоросли, разглядывая их. Потом Стругову попалась суковатая палка, отороченная прелой, превратившейся в лохмотья кожурой. Поднял, оборвал лохмы: палкой было удобно поддевать сухие шапки куги; он, не надеясь, впрочем, что-либо обнаружить, добросовестно проверял свой участок. И ненапрасно: под одной из шапок он нашел старый ружейный приклад с вытертой до блеска плечевой пластиной. Стругов, кряхтя, нагнулся, вытащил приклад из-под куги, подержал его несколько секунд в руках, пробуя на тяжесть. Приклад был переломлен у курков. Скорбно-озабоченное выражение сковало лицо Стругова; трудно было понять, о чем он сейчас думает — то ли о возможной трагедии, разыгравшейся здесь, на маленьком уютном островке, то ли вспоминает фронт, бои и атаки, в которых ему, молодому пехотинцу, довелось участвовать, и оружие, к которому когда-то прикасались его руки. Гупало оглянулся на Стругова, увидел приклад и позвал тихо: — Товарищ Пермяков! Начальник райотдела, гикнув, рысцой припустил к ним через камышинник, придерживая хлопающий по боку пистолет. — Ну-ка, ну-ка, — закричал он, — следопыты, следователи, археологи... — Где уж нам, — хмуро поддел примчавшийся следом Меньшов. — Это уж по вашей детективной части. — Дай-ка, майор. Та-ак... — Пермяков провел ладонью по прикладу, ощупывая царапины, зазубрины, потом вскинул его к плечу, зачмокал губами. — Та‑ак. Судя но длине приклада, охотник был невысокого роста и некрепкий физически. В милицию работать я бы его не взял. Ей-ей. Сам Пермяков, прочно сколоченный, грудастый, грубый и плечистый, любил все тяжелое, громоздкое, даже топорное, соответствующее собственной комплекции. И людей Пермяков ценил по своим меркам. — Что приладился? — спросил у него Стругов. — Подходит или не подходит? Этих ребят приклад или давно уже здесь валяется? — Разберемся, — туманно ответил Пермяков. — Где уж разбираться, — Стругов досадливо швыркнул свернутым вдвое шлемом о колено. — Пошли дальше. Собака продиралась сквозь камыши следом, низко опущенной мордой раздвигая стебли; когда Стругов обернулся, то увидел ее шею, длинную, лоснистую, в мокрых розовых проплешинах. Что знает эта собака, того не знают люди и не узнают. Черт побери, на Луне побывали, луноход, управляемый по радио, построили, о Марсе мечтаем, а вот язык друзей-животных понимать не научились, и неизвестно еще, когда научимся. Вот ведь... Словно почувствовав что-то, собака остановилась и, потянув носом воздух, заскулила длинно, тонко, с тоской. Тут же, в ответ, в другом конце Охотничьего Става, в куговых зарослях, послышался сиплый лай, затем мягкий перебор лап по ракушечнику, сверху было видно — в камышинник словно торпеда вошла, тупо застучали друг о друга мшистые головки початков, раздался треск, короткий звериный рык, нутряное аханье ударившегося обо что-то тела, и на людей выскочила собака — тоже сеттер, только кирпично-пегий, с широколобой головой, угольно-красными, светящимися, как у кролика, глазами и блестящим от клейкой влаги носом. Одно ухо сеттера было надорвано точно посредине, ровно — будто ножом надрезано. Собака выскочила на Стругова, майор остановился, услышав за спиной дыхание, совсем невпопад подумал, что если бы он отважился заиметь собаку, то купил бы именно сеттера, статного, честного, умного, преданного. Но ни разу еще Стругов, человек одинокий (жена у него умерла), не рискнул поселить в своей квартире живое существо — ни кота, ни пса, ни рыбок — мешали частые командировки. Иногда он отсутствовал и по месяцу, и по полтора. А такое одиночество, голодовку только верблюд вытерпеть может. И с какой тяжелой душой приходилось бы уезжать Стругову в командировки — мысль об оставленном в квартире псе, голодном и необогретом, спешно гнала бы его обратно, он мучился бы, переживал, не спал по ночам. Не‑ет, живность — для оседлых людей, тех, из чьего существования изъято правило «одна нога здесь — другая там». — Иди сюда, — шепотом позвал он собаку. — Сюда иди! Джек! Бекас! Дан, Джой! Юм, Бой, Флинт!.. Чик, Моль, Кронид, — майор скороговоркой выпалил все известные ему «дворянские» собачьи имена, но сеттер как застыл в трех шагах от него, так и не сдвинулся с места, только вильнул косматым, в свалявшихся катанцах хвостом н напряженно вытянул голову в ожидании. Стругов понял, почему собака не подходит, не обнюхивает, не ищет хозяина — сеттер находился с подветренной стороны и хорошо чувствовал запах каждого из них, давно уже разобрался во всем и уяснил, что хозяина среди прилетевших нет, потому и не стремился даваться в руки. — Кронька, Чикуля, Флинтарь, Юмаша, — Стругов переиначил несколько имен в ласкательные, но собака не сдвинулась с места, лишь еще напряженнее вытянула голову, а глаза потемнели, став враждебными, настороженными. Стругов похлопал ладонью по колену, приглашая. Он ощутил, как свежеет и теплеет у него внутри от сочувствия к этому беспокойному и преданному животному, нагнулся, узрев краем глаза замысловатую, скрученную в спиралеобразную трубу ракушку, но не успел рукой дотянуться до диковинки, как сеттер, издав короткий приглушенный звук, в гигантском прыжке метнулся в сторону и, раздвоив грудью стенку камышинника, исчез. — Вот так пе‑ес. М‑да, — Меньшов, находившийся рядом, цыкнул слюной, отер рот тыльной стороной ладони. Стругов не понял, одобряет ли Меньшов поведение пса или же, напротив, порицает, и он хотел было спросить, но Меньшов сам поставил точки на i, заключил: — Хозяину чрезвычайно преданный. Кроме хозяина, больше никого не признаёт. И не признает. Приручать такого пса целую жизнь надо. Почти невозможно... Одичает, в плавни уйдет, а с чужим человеком жить не будет. Мд‑да. Этот пес — однолюб, вот какая его порода. Стругов посмотрел на Меньшова недоверчиво, но ничего не сказал в ответ, лишь махнул растревоженно рукой и, забыв про ракушку, прошел к хрустко расправляющемуся провалу, оставленному в камышиннике телом собаки. — Эх, псина, псина, — произнес он в печальной раздумчивости, — куда же ты сбежал? Зачем тебе это? И где же люди, а? Постоял несколько секунд молча, неподвижно опустив тяжелые, заросшие седеющим пухом руки с набухшими хребтами вен, грузный и несколько неуместный среди вызывающе ломкого, непрочного затишья. — Неужели погибли люди, а? И где их теперь искать? Хотя бы то, что осталось... Они обшарили весь Охотничий Став, но ничего, кроме давешнего обломка ружья, не нашли; вывод был следующим: то ли охотники успели ночью эвакуироваться на лодке и лодку унесло в море, то ли всех их смыло накатившимся валом. ...Собрались у вертолета, запаренно дыша после поисков, каждый выбрал место в тени, лишь Гупало расположился в стороне; с беспечным, праздным видом он подставил под лучи шелушащееся, обветренное лицо, медленно завращал головой — вначале одной щекой к солнцу, потом другой. Через несколько минут он вытащил из планшетки командирскую книжку-дневник, оторвал разлинованный листок и, послюнявив его, приклеил к носу. «Совсем еще пацан», — подумал Стругов, глядя на блаженный лик лейтенанта, спросил тихо: — Ну, что будем делать, товарищи? Никто не отозвался, и, когда молчание грозило затянуться, Стругов спросил громче, отчетливо выговаривая каждую букву, словно школьник, читающий по слогам: — Что делать-то, а? Меньшов отогнул рукав куртки, постучал ногтем по стеклу часов: — Для начала надо, наверное, перекусить, товарищ майор. Время обеда. За едой и обсудим. — Но время же дорого... Каждая минута на счету, — поморщившись, возразил Стругов. — Может, от этих минут жизнь людская зависит, может, она на волоске уже... — Десять минут на еду надо, а заодно и на обдумывание. Необдуманных поступков нам нельзя совершать, товарищ майор. — Ты, Меньшов, складно говоришь. Словно «Блокнот агитатора» вслух читаешь. А людям как? — спросил Стругов, потом махнул ладонью, соглашаясь: — Ладно. И собак заодно покормим. Все разом посмотрели в конец длинного, прямого, как луковая стрела, хвоста вертолета — пятнистый сеттер сидел там и, тонко взвизгивая, зализывал побитую грудь. — Давай-ка, Алексей, харчевую сумку сюда. — Сиди-сиди, — Меньшов остановил поднявшегося было Гупало. И куда только его обычная сонливость делась — вон как быстро вскочил, когда речь зашла о еде. — Загорай, пока время есть. Я схожу... — А я не загораю, я обдумываю, — Гупало пожал плечами и вопросительно посмотрел на майора — Стругов не любил, когда не выполнялись его приказы, — на этот раз майор лишь устало кивнул, потер пальцами плохо выбритый, с редкими кустиками седой щетины подбородок. Гупало отвел глаза — ему вдруг стало жаль этого немолодого, столько видевшего и перенесшего в жизни человека, чей вид так контрастно противоречил цветущему виду бортмеханика Меньшова и его собственному виду и сытому, раздобревшему лентяйству пожилого Пермякова, струговского одногодка. Меньшов беззвучно появился в притеми вертолетной кабины, ловко спрыгнул на ракушечник, потянул за прочный брезентовый ремень бокастую сумку. На ходу он вытащил из сумки цветистую, но уже до тканой основы вытертую клеенку. Быстро присев, расстелил ее на ракушечнике. Тут же чертыхнулся с хмурой досадой: стремительно пронесшийся ветер резко завернул угол клеенки, сложил. пополам, швырнул горсть крупного колкого песка сверху. — Привет от старых штиблет, — басом прокомментировал Гупало. — Наше вашим, давай спляшем, — он подполз на четвереньках, приподнял клеенку, ссыпал песок под ноги. — Скатерть-самобранка: и в огне не горит, и в луже не тонет... Посмотрел на майора. Стругов молчал, он очерчивал прутиком собственные сапоги, вдавленные в песок по самые запяточники. — Собак чем будем кормить? — спросил Меньшов. Стругов поднял голову, потянулся к кругу колбасы, торчащему из сумки, вытащил, разломал его пополам. — Колбасой вот и покормим. Буковинская называется... А сами докторской обойдемся. Как? За? Меньшов хмыкнул и, подняв руку, проголосовал «за». — Я тоже за, — сказал Гупало и посмотрел на Пермякова, Пермяков с деланно безучастным видом сунул руку в потайной запазушный карман, поерзал там пальцамн, извлек плоскую стеклянную флягу, по самую пробку наполненную прозрачной жидкостью. На дне фляги шевелились крупные катыши перца, майор предупредительно поднял палец, погрозил Пермякову: — Сам пей, а ребятам в рот ни-ни... И вообще заруби, Пермяков, что пьянство — один из элементов сумасшествия. Это врачи так говорят. Понял? — А зачем мне твоих ребят поить? Не хотят — не надо. Силком заставлять не буду. Точка, майор! Не буду... Пермяков взболтал флягу, приложился к ней крепким ртом, шумно глотнул, кося на Стругова хитрым глазом. — Боишься, совращу? Не боись, не бои-ись... Стругов поглядел на камышинник, на заросли куги, среди которой блеклой зеленью расцвела сныть, чья кашица в летнюю пору пахнет медом и стеклянно звонка от пчелиного гуда, а сейчас мертвенна и по осени бесплодна, и у него даже горло защемило — скоро пойдет снег, наступит унылая пора, а с нею и тоска заползет в грудь, застынет болезненным комом под сердцем и растает, лишь когда снег окрепнет, зима упрочит свои права и полностью войдет в силу. — А второго-то пса нету. Простыл след, — проговорил Меньшов, проследив за взглядом майора. — Времени нуль, ждать не будем. — Да вон он, ваш пес! Жрать захотелось — живо прискакал. — Пермяков, запрокинув голову, вновь приложился к фляжке. Со спиныпо мокрой береговой кромке к ним заходил кирпичный сеттер. Стругов резко повернулся, вытянув губы, тонким цыком подозвал собаку. Пес остановился на секунду, поджал под себя одну лапу, видно ушибленную, потом все же подошел, кривобокий, диковатый; осторожно, словно под ним были гвозди, опустился телом на ракушечник, положил голову на лапы. — Умница. С высшим образованием, — тихо похвалил его Стругов. Порывшись в боковом кармане сумки, он достал фольговое ребристое блюдце, положил на него половинку колбасного круга. — Держи, старина. Может, разрезать, а? Пермяков тяжело рассмеялся. — Не смейся. Мы не в шапито... — Ты, майор, с собакой, как с любимым ребенком обращаешься. Ты ему еще слюнявчик на грудь приспособь. — Если надо — приспособлю, — майор поднял воротник куртки. С лимана опять подул холодный ветер. Пермяков в очередной раз взболтал флягу, но прикладываться к ней не стал, а налил водки в крышку-стаканчик, залпом выпил, притиснул рукав к носу, шумно затянулся. Затем, крякнув, выдохнул: — Мануфактура — лучшая закуска. — Не лучше корки хлеба, Пермяков, — сказал майор. — По мне — так пахучая поджаренная ржаная корка куда лучше. — Может быть, может быть... Кобель или сука, а? — Пермяков завернул крышкой флягу, вдавил ее плоское тело в ракушечник, сделал широкий жест, показывая — кто хочет, может приложиться. — Посмотри, Стругов, какого пола сенбернар твой... Мужчина или женщина? — Не суть важно. А потом он сеттер, а не сенбернар, — поправил Стругов. — Грамотей! Еще в МВД работаешь... — Я только в дворнягах хорошо разбираюсь. Они по моей части, а те, у кого хвост не кренделем, для меня на одно лицо. — Самец, — интеллигентно кашлянул в кулак Гупало, а когда Пермяков недоуменно вскинулся, штурман пояснил осторожно, ткнув пальцем в сторону собаки: — Собака, я говорю, самец. — Называй вещи своими именами! Не самец, а кобель, не самка, а сука... — Эх, маркиз... Зачем же рыбу-то ножом резать, а? — сказал Стругов. Это было неожиданно, не похоже на майора, слишком жеманными были слова: больше подходили для кого-либо другого. — Алексей, — обратился он к лейтенанту, — соединись-ка по рации с городом, узнай, как дела? И что они нам посоветуют, спроси... — Слушаюсь, товарищ майор! — отозвался Гупало. Поднявшись, подергал руками, стряхивая приставшие к отпотевшим ладоням песчины. — Тише, ты! — грубо крикнул Пермяков, вскинул глаза. — Привык с песком обедать... — Простите, — извинился Гупало, в малоподвижных зрачках его отразилась неприязнь. Он забрался по лесенке в вертолет, и вскоре из пилотского отсека послышался монотонный, лишенный окраски голос: — Алло, «Тринадцатый»! Ответьте! Алло, «Тринадцатый»... — Ну и позывные у вас, — усмехнулся Пермяков. — Чертова дюжина, несчастное число. — Посмотрим, — туманно сказал Стругов, — счастливое это число или несчастливое. — Это слепой-то сказал: посмотрим? — коротко хохотнул Пермяков, взял с бумаги розовый кругляш колбасы. — Ну-ну... Посмотрим. — Алло, «Тринадцатый»... «Тринадцатый»?! — Связался наконец, — отметил Меньшов. Гупало щелкнул бустером, отгораживаясь от посторонних шумов, от разговора. Лицо его закаменело от напряжения, стало плоским. — Хотите, я вам историю расскажу? — спросил Меньшов, обращаясь непосредственно к Стругову. Надкусил ломтик колбасы. — Про собак, я когда-то собаками специально занимался, кое-что знаю о них. — Хотим! Валяй, — бодро разрешил Пермяков. — Погоди! — остановил Стругов. — Пусть Алексей переговорит сначала... Узнаем, что город скажет. Да. Может, лететь сейчас придется. Немедля. Все разом оглянулись на штурмана, чье лицо будто вырезанным из картона силуэтом вырисовывалось за стеклом бустера. Гупало кивнул несколько раз, соглашаясь с кем-то, потом, круто вывернув голову, посмотрел на сеттера, съевшего колбасу и замершего в удобной для бегства позе, кивнул еще раз. — Судя по выражению лица нашего Гупалы — полетов над лиманом не предвидится, — сказал Меньшов. — Посмотрим. Гупало медленно стянул с головы обруч с наушниками, положил его на сиденье. — Вот тетеря, — пробормотал Пермяков, — люди ждут, а он еле шевелится. Гупало неторопко поднялся, прогромыхал ступеньками узкого трапа, ведущего из кабины в трюм, возник в проеме. — Ну что? — спросил у него Стругов. — Приказано еще раз обследовать остров. Лиманы обшаривают другие, четыре машины в поиске. — Ясно, — сказал Стругов, подивился нездоровой глухоте своего голоса — неужели он заболевает, или просто устал, или же следы чужой трагедии, оставшиеся на этом островке, в одночасье повергли его в хворь? — Я собаками много занимался, — сказал Меньшов, — даже литературу изучал по поводу лаек, псовых, борзых, гончих... Пород всего... четыреста, кажется. Вот чем, к примеру, отличается молодой доберман-пинчер от старой короткошерстной легавой, а? Только ушами и хвостом. У добермана уши торчком, с загибом и хвост по самую репку оттяпан, а у легавой уши книзу и хвост как сарделька. Пистолетом торчит. А так похожи друг на друга... — Ну? — Гупало спрыгнул на ракушечник, подошел ближе, засунув руки в карманы. Узкие галифе лопнули у него на левой икре, по шву, в прогале была видна незагорелая розоватая кожа. — Доберман крупнее. — Еще один собачий знаток, — сказал Пермяков. Стругов устало подумал — разве можно так? Прилетели на беду, не нашли людей и успокоились. А лицо Меньшова тем временем сделалось малоподвижным и печальным, его словно пронзила далекая, уже теряющая силу боль. — Как-то отец мой, — проговорил Меньшов, — будучи еще в соку и в силе, крепким деревенским мужиком, поехал на лошади на базар в Елец. И меня взял с собой. А до золотоглавого Ельца от нашей деревеньки — ни дать ни взять километров тридцать пять — сорок будет. Поехали мы, чтобы телятину сбыть — как раз телка тогда зарезали, — да еще обнову домашним купить — ну, в общем, крестьянские дела надо было справить. Выехали затемно, на небе еще Млечный Путь огнем полыхал — у нас, на Орловщине, называют его красиво, Весь Жар, — и не заметили в темноте, что за телегой увязалась брюхатая дворняга. По кличке... Репой мы ее звали. Спохватились, когда деревня уже осталась за ста буграми. Домой же не прогонишь... Да и не уйдет собака, хозяев не бросит. Так и приехали в город — мы на телеге, Репа пешком. Пока батя торговал телком да ходил по лавкам, тряпье подбирал, Репа ощенилась под телегой. Посмотрел мой родитель на скулящее мокрое потомство Репино и хвать за голову — щенков пять штук, все слепыши — загнутся в дороге, если везти, да и не повезешь это богатство домой — все равно топить в реке. И Репу оставлять со щенками жалко. Поскреб батя затылок, махнул — пропади ты пропадом, проще другого сторожа во двор привести, чем Репу с елецкого базара эвакуировать. Словом, уехали мы домой. Прибыли уже ночью, часов в двенадцать. Я в дороге уснул, меня сонного с телеги сняли, в избу перенесли. А утром, выйдя на крыльцо по малому делу, мой батя увидел, что Репа как ни в чем не бывало сидит на дворе у будки и облизывает пятерых щенят. Батя так и бухнулся на колени перед собакой. А что ему оставалось делать? Мать выходит корову доить, а батя в кальсонах стоит перед собакой и слезы льет. И смех и грех. Так как же Репа смогла за одну ночь, да и то неполную, перетащить из незнакомого города, за целых сорок километров расположенного, пятерых щенят? Как, скажите? — Как? — задумчиво переспросил Стругов и вдруг надсадно, вязко закашлял: гха-гха! — глаза его налились слезами, вобранная в плечи голова затряслась мелко, и весь он сделался неуклюжим, неудобным, покорным. Откашлявшись, он тяжело, одними ноздрями, втянул в себя воздух, выдохнул — видно, это принесло майору облегчение, он быстро вытер слезы, а вот нездоровая краснота сходила с лица долго. — В‑вот, черт те... Хоть в госпиталь ложись. — У тебя пневмония, майор, — лениво произнес Пермяков. — А ты летаешь. Если в дороге закашляешься — грохнуться можем. — Не грохнемся. Алексей вон доведет. Он и штурман и пилот. А что касается собаки, Репы этой, как она щенят перенесла, то я как-то наблюдал... Возьмет мать одного щенка зубами за шею, оттащит метров на четыреста, возвратится за другим. Щенята маленькие, сопливые, глухие, незрячие, пищат, словно комары. Смотреть больно... Стругов замолчал. Слышно было, как мелкая лиманская волна с вкрадчивым шорохом бьет в бок островка. Даже Пермяков погрустнел. — Может, поедем, майор? — шепотом спросил он. — Говорят, что многие матери бросают своих детей, — Стругов поднес к лицу руки, вывернул их ладонями вверх, мозолистые бугры были костяными от рукояти шаг-газа. Пошевелил пальцами. — Мерзнут. Как обморозился я в сорок первом, под Москвой, так с тех пор и мерзнут. И зимой и летом, — он прикусил губу редкими верхними зубами. — Вот так. А вообще, закругляя разговор, — многие матери бросают своих детенышей. Да. Матери-волчицы, медведицы, барсучихи, кошки, лисицы, кабанья отродь, все бросают. А собаки — никогда! Он прикрякнул, поднялся. Стряхнул с колен песок. Обе собаки вскочили следом. — Не удался у нас обед. Колбасу оставим для собак. Завтра, когда вернемся, еще привезем. — Может, собак забрать с собой? Вдруг новый вал? Жалко. Пропадут, — из-под толстых бледных век штурмана выплеснулись на Стругова заинтересованность и любопытство. — Вала больше не будет, — сказал майор. — Метеорологи точно предсказали. А что касается собак, то не пойдут они с нами. Так мне кажется. — Как это так, не пойдут? — вскинулся Пермяков. — Повязать их по лапам и в вертолет. — Нельзя, — возразил Меньшов с обычной своей мягкостью. — Правильно. Захотят псы — возьмем с собой, не захотят — пусть остаются. — Стругов отвернул рукав куртки: — Время-то — того... Обшарить каждую камышинку! Алексей, ты рядом со мной пойдешь, потом Меньшов... А ты, Пермяков, как захочешь. — Надо ли обшаривать еще? — спросил Пермяков. — И так все прочесали. — Надо. Таков приказ. А мы, люди военные, приказы привыкли исполнять. — Камень в мой огород, — пробурчал Пермяков, — я, что ль, не военный? — Не будем ссориться, — тон Стругова был примирительным, — пошли-ка обследование делать. День тем временем разошелся, солнце набрало высоту, и, если бы не пронзительная, шепелявая ветряность, было бы жарко; пресытившиеся ленивые чайки косо летали над водой, гулко шлепались в камыши, но не было слышно привычных их криков — нелегко, видать, после буйного пиршества кричать. Вторичный осмотр Охотничьсго Става ничего не дал — остров был пуст, лишь Меньшов нашел в ракушечнике пуговицу от плаща, но она была старой, растрескавшейся, года два пролежала в песке, не меньше, и к исчезнувшим охотникам никакого отношения не имела. Вернулись к вертолету. — Ну что? В обратную дорогу? — А как же с собаками, товарищ майор? — жалобно спросил штурман. — Может, заберем? — Гупало подошел к пятнистому сеттеру — собаке спокойной, покладистого нрава. — Этот симпатяга полетит, не будет упрямиться, а кирпичный, тот дикий, не пойдет он, останется на острове. — Не надо бы оставлять, — сказал Стругов. — А что с ним делать, если он не хочет? Гупало забрался в трюм Ми‑4, поманил пальцами собаку. Пятнистый сеттер прыгнул с места и, остро скребнув когтями по металлическим пластинам пола, приземлился в трюме. — Хозяина сейчас искать полетим, — сказал ему штурман, — может, он уже давно в городе и в ус не дует, не подозревает, что такая умная, красивая собака слезы льет по нему, дожидается. «Умная, красивая собака» шевельнула хвостом. — Жалко второго пса оставлять, — сказал Меньшов, заглядывая в трюм. — Второй не пойдет. Характер у него видишь какой? Не тот. Сложный характер. — Однолюб! — уточнил Меньшов. — Сейчас как мотор запустим, так живо твой «сложный характер» в вертолет заскокнет. А иначе он сдохнет с голоду, — Пермяков, забираясь в трюм, налился яркой натуженной краской. — Да он не понимает ничего. Животное все-таки. — Он все, Алексей, понимает. Он только и отличается от нас тем, что говорить не умеет. — Стругов пролез в пилотскуто кабину, неторопливо уселся в кресло, сцепил пальцы на толстой рубчатой резине шаг-газа. — А может, действительно, второй пес возжелает, а? Тяжело качнулась лопасть, проехала над самой землей, чуть не зацепив кирпичного сеттера, тот не отскочил в сторону с испуганным видом, как этого ожидали летчики, а притиснулся к ракушечнику, вдавив морду в распластанные лапы. — Закупоривай каюту, Меньшов! — скомандовал Пермяков. Бортмеханик покосился, светлые глаза его посветлели еще больше, выделялись своей неестественной прозрачностью на огрубелом от загара лице, сделали облик Меньшова злым, неспокойным. Меньшов присел на корточки, потрепал сидящую в вертолете собаку за холку, обвел пальцами проседь на крупном черном пятне, начинавшемся в центре темени и достающем почти до середины спины. — Не боишься? Не бойся... Пес беспокойно посверкивал глазами, следя за бортмехаником. Сверху выглянул штурман. — А? Видать, уже летал в вертолетах! Не боится. Пермяков покрутил головой и, низко, почти на самый нос, надвинув лаковый козырек форменной фуражки, отвернулся к иллюминатору. — Через двадцать пять минут будем на месте, — сказал Гупало. Пермяков беззвучно пошевелил губами, словно высчитывая что; Меньшову стало интересно, он привстал и тоже заглянул в слюдяной кругляш, но ничего выдающегося не увидел — ничего, кроме пенящейся под ветром воды, мрачных сохлых плавней и недвижных бокастых чаек, застрявших в небе, — в глазах Меньшова промелькнуло сердитое разочарование, потом что-то смешливое, потом — огорчение, потом глаза подернулись холодом. Бортмеханик задвинул дверь, нацепив на ручку кольцо пружинного фиксатора; вертолет тяжело взревел, приподнял над землей туловище и, напористо набирая скорость и высоту, понесся над плавнями. В последний миг Меньшов увидел, что вскочивший со своего места сеттер тревожно задрал голову, из-под вывернутых обслюнявленных губ обнажились короткие резцы, и осенней тоской, сухой печалью повеяло на Меньшова от этого собачьего одиночества. Вскоре в сизой размытой дымке показался далекий городок; в самой сердцевине его, в толкотне домов, зеленел пятак стадиона. Городской стадион после налета майстры был превращен в нечто похожее на аэродром: у самых трибун, почти впритык к рядам низких облупленных скамеек, стояли вертолеты-крохотули, похожие на стрекоз и головастиков одновременно, — гражданские Ми‑1 из сочинского аэропорта — в ветер на таких мухах летать опасно, может завалить машину, бросить в штопор, вниз винтом, а вывести вертолет из страшной вертикали невозможно, еще никто не выводил, поэтому в ветер куда спокойнее ходить на тяжелых и более надежных Ми‑4. Ми‑4 стояли в центре футбольного поля; как почетным гостям, им отвели красное место, а с той и с другой стороны, у ворот с мокрыми, тяжело провисшими сетками, техники из БАО установили палатки, чтобы летчикам в дождяную хмарь было где схорониться, обогреться, испить чашку чая или кофе. Стругов посадил вертолет впритирку к машине своего заместителя по эскадрилье майора Холева — винт к винту, с метровым зазором, заглушил двигатель и грузно осел на сиденье, откинулся на спинку, вслушиваясь, как свистят, слабея, лопасти и поток ветра, вытеснивший лужу из вмятины футбольного поля, сработанной крепкими ногами спортсменов, перестает прибивать траву к земле. — Причалили. Точка, — Стругов переместился всем телом, привалился к бустеру, глядя, как слева садится еще один вертолет, мокрый, словно только что из дождя, с цифрой 16, выведенной белой краской на покатом боку. Вертолет приземлился неуклюже, впившись широко расставленными колесами в непрочную твердь поля, разбрызгав вязкую грязь. — За такие посадки в летучилище курсантам «гусей» в книжку ставят. А я бы и того хуже — на губу бы сажал. Да. Стругов тут же выругал себя — вот, не удержался, чтобы не прочитать мораль. Это же не самое лучшее — читать мораль, считал он, нет, не самое... От собственного брюзжания ему вдруг сделалось еще неуютнее: неужели стареем? Ведь брюзжание — верный признак старости? Или нет? Стругов крякнул с досады, вытащил из заднего кармана брюк носовой платок и, крепко вдавливая ткань в кожу, вытер лицо, шею. Потом рывком поднялся, быстро спустился по узким ступенькам на поле. Внизу в вольной позе стоял Пермяков и, держа Гупало за клапан куртки, бормотал ни к селу ни к городу: — Что Гупало, что пропало. Что Гупало, то пропало... Следом за Струговым из трюма выпрыгнул сеттер и крупными, стелющимися прыжками понесся к кольцевой ограде стадиона, вдоль которой стояли люди — ожидали вестей с дальних рыбацких станов, с охотничьих заимок, переживали: ведь на станах была родня, были друзья, были просто добрые знакомые. У ограды пес остановился — его испугало обилие народа, он повел носом из стороны в сторону, настораживаясь. Стругов увидел, как выгнулась, напрягаясь, его худая нечесаная спина — пес был не только испуган, но и растерян... Действительно, столько людей, тут и человек бы растерялся. Майор достал из кармана кожаный портсигар — в нем он держал мелко накрошенный трубочный табак и время от времени, вспоминая старые свои, еще фронтовые привычки, крутил козью ногу, запаливал и, обалдело хлопая мокрыми от едкой горечи ресницами, «блажничал». «Блажничать» — это его собственное выражение. Он затянулся, выпустил густую струю терпкого дыма, отвел руку, стараясь держать самокрутку подальше от глаз, стал следить за псом — что же тот будет делать? Пес, низко опустив голову, шел вдоль ограды, спотыкался, оглядываясь, прижимаясь к земле, он обнюхивал сапоги-кирзачи, рыбацкие ботфорты, галоши, туфли, боты, бурки, ботинки; задерживался на мгновение у чьих-нибудь ног, потом, все так же не поднимая головы, брел дальше. — И тут хозяина ищет, — тихо произнес подошедший Гупало. — Ищет, — отозвался Стругов, скосил глаза на штурмана. — Что там к тебе Пермяков пристал? — Так. Выпил стакан, наговорил с ведро. — Вот ведь. Погонят его с работы. Да. Ты, Алексей, далеко не уходи. Через пять минут полетим в полк, на заправку. — Есть не уходить! — Гупало неторопливо прислонился пальцами к шлему. Сеттер тем временем обошел всех стоящих у ограды, длинными стелющимися прыжками пересек по косой футбольное поле, безошибочно нашел их вертолет и, опустившись на пожухлую мокрую траву у струговских сапог, беспомощно вильнул хвостом. — Нет, значит, хозяина? — спросил майор. Пес вытянул морду, всхрапнул, с клыков, вдавившихся в нижнюю губу, свесились тонкие клейкие нити. Стругов затянулся. Дым самокрутки был кислым и жестким, он ошпаривал ноздри, гнал из легких мокроту, горло горело от крутой чадной вони, но Стругов докурил козью ногу до конца и, когда в пальцах оставался небольшой, величиной с малокалиберный патрон, огарок, загасил его о каблук сапога. — Что-то старым я почувствовал себя сегодня, — сказал неожиданно Стругов. — Пожалуй, первый раз в жизни... Да. Вот так остро, вот так... неотвязно. И собака эта... — он посмотрел на сеттера и вдруг позавидовал ему, сам не зная, почему позавидовал. — Дизель сказал однажды, что, чем старше человек становится, тем меньше у него разочарований. Это потому, что приходится отвыкать от надежд, от иллюзий, от прочего... Гупало замолчал, подыскивая продолжение для «прочего», но не нашел, лишь вяло покрутил рукою в воздухе. — Ладно. Пора лететь. Собаку техникам оставим. Они присмотрят, пока нас не будет, покормят... Но едва запустили мотор, едва низко провисшие лопасти прочертили над землей первый круг, как Стругов увидел, что по полю от технарской палатки к ним мчится сеттер, шарахаясь от машины, от людей, делая отчаянные скачки в сторону. Трюм был еще не задраен, пес с размаха прыгнул в вертолет. Стругов услышал, как внизу радостно ойкнул Меньшов, да коротко, всем нутром ахнул сеттер, ударившись туловищем о стенку. — Надо его назад, на Охотничий Став, отвезти... Там ведь он видел хозяина в последний раз, — Гупало пристегнулся ремнем к сиденью. — А потом, он, наверное, думает, что мы на остров полетим... — Не знаю, не знаю, — Стругов дал газ, вздохнул, со странным равнодушием ощутив дрожь тяжелой машины; вот начала трясуном ходить обшивка, а нос Ми‑4 — заваливаться вперед, но Стругов остался равнодушным, хотя именно эти мгновения взлета он любил больше всего. Что-то слишком переменчиво у него сегодня настроение! Словно его жизнь втянулась в некий переходный период, когда человек перестает управлять собственным организмом. А в общем, несмотря на короткие облегчения, похожие на передышки, ему, Стругову, что-то особенно тяжело и плохо ныне. Очень плохо. Когда в кабине под самым его локтем появилась морда пса — собаку снизу из трюма подсадил в пилотскую Меньшов, — Стругов повел вертолет одной рукой, другой он полуобнял пса за голову, прижал к ноге, и пес, благодарный, обслюнявил ему всю штанину. И Стругов не возражал против этого... Три дня летал майор со своим экипажем на Охотничий Став — кормить оставленную собаку. Красный сеттер уже охотно подходил к людям, брал из рук хлеб, колбасу, но «эвакуировать» его с острова так и не удалось — убегал в густую кугу, а потом часами носился кругами по острову, пятная грязными лапами ракушечник, — все искал хозяина. Искал, но не находил... На четвертые сутки в далеком проливе, за полторы сотни километров от Охотничьего Става, была обнаружена рыбацкая байда. Шестеро людей спали на дне лодки, тесно прижавшись друг к другу и накрывшись брезентовой плащ-палаткой, а седьмой сидел у руля на кормовой скамейке, свесив на грудь голову и крепко вцепившись посинелыми руками в черенок весла-правила. Это были охотники. ...Когда летчики возвращали пятнистого сеттера хозяину, немолодому измученному охотнику, — как оказалось, доценту педагогического института из Краснодара — и пес вьюном носился вокруг него, тонко взлаивая, подпрыгивая, все норовя дотянуться до хозяйского лица, Стругов позавидовал хорошей здоровой завистью этому незнакомому и чужому для него человеку, позавидовал, что тот имеет такого доброго преданного друга. Добрый преданный друг... Он усмехнулся этим затертым, много раз писаным-переписаным, но верным словам, вертевшимся в мозгу. В голове у него шумело, на языке, на самом кончике, появилась горечь, словно он раздавил несъедобную ягоду, горечь быстро обметала нёбо, сделалась нестерпимо едкой, и он ощутил, что в глазах его вот-вот вспухнут слезы. Стругов молча пожал охотнику руку, круто, на одном каблуке, повернулся и, не оглядываясь, пошел к вертолету, с болью чувствуя, что под ним сегодня слишком неустойчива земля, колышется, старая, из стороны в сторону, подпрыгивает, уходит из-под ног. Но затем, странное дело, ему стало легче, много легче. Что же касается кирпичного сеттера, то и его хозяин нашелся и, несмотря на усталость и хворь, слетал со струговским экипажем на Охотничий Став, забрал оттуда собаку.
НА МОРЕ ВИДИМОСТЬ — НОЛЬ
Странное дело — последние десять дней, пока они шли в порт, Володька Сергунин, засыпая вечером, каждый раз чувствовал на своем лице прохладную ласковую ладонь — Галкину ладонь — и приятно, счастливо вздрагивал от легкого прикосновения и открывал глаза, надеясь на невероятное, надеясь увидеть ее рядом. Но невероятного не было. А был темный кубрик, басовитый храп Вени Фалева, говоруна, заики (в легком весе, как сам он определял собственное заикание), ругателя и мастера играть на гитаре — вон сколько достоинств; были узенькие койки в два яруса, понизу и поверху, вдоль стенок — все было, но только не Галка. И Володька, засыпая вновь, жмурился от вязкого щемящего чувства, и ему становилось одиноко и неспокойно, и во рту появлялся вкус горького, будто сжевал метелку полыни. Но судно шло домой, шло в порт приписки, и всем им, морякам теплохода «Нева», предстояла встреча с землей, на которой они жили, которая родила их и вскормила, — и это было главное, и отметались, отставлялись в сторону все чувства, все сантименты, кроме одного — чувства встречи с Родиной. И все равно вечером, намотавшись за долгий нудный день, Володька, когда закрывал глаза и погружался в полусон-полузабытье, чувствовал Галкину руку на своем лице. Рука ее была гладкой, мягкой, от нее пахло чистотой, хорошим мылом, пальцы, едва прикасаясь, гладили его глаза. И Володька, медленно смежая и размежая губы, целовал эту руку чуть пониже запястья, та м, где бились-вздрагивали плоские, едва заметные жилки. И еще ощущал запах собственной сигареты, которую он курил в последний раз при встрече с Галей, — «Золотое руно», таких ни у кого в их команде не было, из Москвы привез, там покупал. Он тогда ночью, лежа в постели, решил закурить — и закурил, затянулся два раза, потом положил сигарету на узкий срез кованой металлической пепельницы, концом вниз, а мундштуком вверх, к стенке, а Галка извлекла эту сигарету и докурила, легко втягивая в себя дым и выпуская его поверх Володькиного лица. Руки ее тогда пахли «Золотым руном». Сигареты давно уже кончились, а дух их, горький и нежный, сохранился... И вон ведь как — возникал вновь. С последней их встречи ой-ой сколько воды утекло, целых пять месяцев прошло, побывал за это время матрос первого класса Владимир Сергунин в Африке, в Австралии, в Шри-Ланка, в Гонконге, и шел теперь их «карапь» домой, в порт, на родину Камчатку, в Петропавловск. И остались уже за бортом Япония с ее оконечным северным островом Хоккайдо, синевато-папиросным, дрожащим в бледном угарном дне, и наши Курилы с Кунаширом, увенчанным двумя вулканами — Тятя и имени Менделеева, — правда, Володька не знал, на Кунашире эти вулканы расположены либо за ним, на каком-нибудь другом курильском острове, — читать-то про вулканы он читал, а на Кунашире так ни разу и не был. Не довелось. И уже тянулась вдоль борта северокурильская гряда. Сквозь сон до него доносилось мерное глуховатое постукивание машины — огромного, вышиной с трехэтажный дом, дизеля, тугой, будто резиновый, плеск воды, которую «карапь» их давил своим тяжелым разношенным старым телом, редкие охриплые гудки — перекличка с судами встречными; доносился и запах здешнего моря — он был иной, отличимый от других, свой, домашний, от него щемяще сладко обжимало виски, обрывалось сердце, уносилось вверх, подступало к самому горлу, колотилось там обрадованно... Еще немного, еще совсем чуть-чуть, и «карапь» их придет домой, в Петропавловск. Днем море было иссиня-бирюзовым, бездонным, с шипящей, пузырчатой, словно газировка, водой, морозным — чувствовалось, что с севера надвигается холод, плывут никогда не тающие льдины, вокруг крутились суетливые драчуны чайки, ныряли в пенный след, выхватывали из воды мелкую рыбешку, поднятую наверх винтом. Когда в кубрике никого не было, Володька доставал свой желтый скрипучий, с роскошными бронзовыми замками чемодан, приоткрывал крышку и пальцами мял белую струистую ткань платья, лежащего в чемодане сверху, и на лице его, круглом, молодом, с брызгами конопушнн по крыльям носа и в подглазьях, возникала выжидающая неспокойная улыбка: это белое платье — для Галины, французское, от самого Ива Сен-Лорана, в Австралии купил, собрав все деньги, что у него скопились за рейс, и вложив их в покупку. И туфельки модненькие, тоже белые, — они также для Галки, и клипсы (хотел купить сережки, но их ни в одном закордонном магазине не продавали, не было их, и вообще, кажется, женщины за границей сережек не носили), и два перстенька, один с бирюзой, яркой, как купоросное ядрышко, другой — с куском янтаря, большим, тугого медового цвета, в котором застыла какая-то древняя крохотная мошка с коротенькими лапками. Бирюза — это то, что Галина любит, это должно прийтись ей по вкусу. Говорят, что камень этот (или минерал, как там правильно будет?) светлеет и даже становится прозрачным и чистым, когда попадает в руки человека хорошего, доброго, преданного, и наоборот — темнеет он, наливается дождевой тяжестью, хмуростью, если оказывается у женщины злой, бранчливой, завистливой. Вон какая хитрость в простом голубеньком камне заложена, что хотела бы иная дама скрыть свое лицо, да не скроешь, не дано — бирюза все расскажет. Вчера поутру за этим занятием, за разглядываньем, его чуть не застали. Раздался топот, в кубрик, быстро давя ботинками ступени лесенки, скатился Веня Фалев, долговязый, с большими смешливыми глазами, чуть прикрытыми спокойными, какими-то ленивыми веками, хлопнул себя ладонью по животу: — Ч-что, Володечка, к Петропавловску г-готовишься, чемоданчику ревизию п-проводишь? Володька щелкнул бронзовыми замками, задвинул чемодан под койку. — Да вот... — И смущаться н-нечего, правильно делаешь, — Веня потянулся, закинул руки за затылок, зевнул протяжно, округлив обветренные губы: «Иэ‑э‑э», почмокал сладко, будто во рту у него была шоколадная карамелька. — Поспать бы с‑сейчас. Минуточек так ш‑шестьсот. А п‑проснувшись, увидеть прямо по к‑курсу «братьев», а? «Братья» — это две торчащие из морской глуби скалы у самого входа в длинную, как мешок, Петропавловскую бухту. А от «братьев» до портовых причалов рукой подать — всего час ходу. Всего час... Фалев завалился на койку, свесил на пол длинные, слабо гнущиеся в коленях ноги и басисто, прямо лев африканский, пригревшийся на жарком солнцепеке, захрапел. Петропавловск, хоть его и ждали, появился неожиданно. В темноте, когда в небе еще играли, переливались, словно новогодние сверкушки, звезды, прошли «братьсв», а когда горбушины каменных гряд и видные издали головы двух вулканов — Авачи и Корякского — осветились слабенько, розово, будто сукровицей окрасились, «карапь» на малом ходу оставил справа по борту полузатопленный ржавый остов парохода «Теодор Нетте» — того самого, о котором писал Маяковский (пароходик этот был небольшой, одышливый, тихоходный, с маленькими квадратными оконцами кают), низко осевшего в воду, его сейчас использовали вместо причала (а имя погибшего дипломатического курьера ныне носит современный океанский красавец, на который ржавый пароходик похож не больше, чем завалившаяся военная землянка на девятиэтажный дом), за остовом — зеленые и голубые дощаники — избы прибрежного поселка, и в прохладных сухих сумерках утра вошел в порт. У Володьки даже скулы туго обтянуло от какой-то неуступчивой щемящей боли, от тревоги ожидания, от чего-то, вдруг ушедшего и не собирающегося возвратиться, он зажмурился, стряхнул пальцами крупную теплую слезу, выкатившуюся из глаза, вгляделся в дома города, в низкую бетонную стенку причала, где стояли сухогрузы и большие морозильные траулеры, крохотули сейнеры и две огромные, пугающие своей величиной плавбазы, дизель-электроход, к которому прилаживался буксир-толкач, собирающийся вывести судно из портовой толчеи. Многочисленные краны ворочали своими длинными шеями, неугомонные и суетливые, они выхватывали из корабельных трюмов тюки, ящики, контейнеры, все, что было доставлено в порт по морю. — М-мандражируешь перед берегом? — спросил очутившийся позади Фалев. — М-мандражирую, — в тон ответил Сергунин. — П-пройдет, — сказал Фалеев, — после первого п‑поцелуя. А причал все ближе и ближе, вот на борт уже надвигается низенький каменный парапет с неглубокими, почерневшими от постоянного полоскания водой выбоинами, раковинами, трещинами. И люди на парапете, все в нарядных одеждах. Кто-то пришел с транзистором, и воздухе тает, растворяется тягуче-призывная, немного печальная вечерняя музыка (в Москве в этот час еще вечер, поэтому московская станция — «Маяк», кажется, — передает вечернюю музыку), и Володьке от этой музыки становится совсем плохо, совсем грустно. Хотя, казалось бы, чего грустить, радоваться надо — прибыли ведь не к нелюбимой «теще в гости», а домой. К себе домой, в Петропавловск. Володька шарит глазами по толпе, ищет своих — находит мать, и вся печаль, весь холодный, знобкий неуют одиночества сваливается с него, будто непомерно большая одежда, не имеющая пуговиц, он улыбается во весь рот и кричит счастливо, безудержно: — Ма-ма! — но мать то ли не слышит крика, то ли не различает его голос среди других голосов. — Ма‑ма! Володька ищет рядом с матерью Галку — ну, где же она? И досадует на себя оттого, что не видит ее, — кажется, зацепился один раз взглядом и тут же потерял. А не должен был терять — Галка ведь куда выше и приметнее издали, чем мать, и ярче — материнские краски уже поблекли от времени, выгорели в военном и послевоенном жаре, обелесели, по всей голове седина, будто снег выпал, и мать, не желая покоряться ей, красится хной, хотя и утверждает, что хну употребляет не для окраски, а от «падежа» волос, осекания и вообще от этого порошка, от хны, голова все время особо чистой бывает. — Ма-ма! — еще раз кричит Володька, намереваясь спросить, где же Галина, но мать снова то ли не слышит, то ли не узнает его голоса. Не узнает... А?! Что же это происходит, что же это делается? И Володьке вновь становится тревожно, сиро, простудно на душе, он вдруг начинает понимать, что произошло нечто непоправимое, а вот что — не может пока определить. Лишь краешком сознания подспудно чувствует — в Галке причина, в Галине... Почему нет ее? Неужели заболела, в больницу попала? Что у нее? Воспаление легких, ангина, корь — тут Володька дергает головой, зачем-то сплевывает за борт, это машинальное, нервное: корь-то ведь детская болезнь, взрослой Галке просто не суждено ею заболеть, — а может, она под машину угодила и теперь, вся переломанная, изувеченная, лежит в реанимации? ...Сейнеры, плавбазы, длинношеие краны стремительно уносятся ввысь, прилипают к небу, потом с сокрушительной страшной высоты падают вниз, в глубокую спокойную воду залива, и странное дело — почему-то не слышно ударов падения, будто их тяжелые тела ничего не весят и нет взметывающихся вверх удушливо-грузных водяных столбов. — «В-ваше благородие, госпожа п‑победа, значит, моя п‑песенка до конца не спета, перестаньте, ч‑черти, клясться на крови», — запел за спиной у Володьки Веня Фалев, споткнулся, набрал воздуха, выдохнул, закончил тихо, с выражением непонятно каким — то ли радостным, то ли печальным: — «Н‑не везет мне в смерти, п‑повезет в любви». — Вздохнул, помолчал, проговорил по-прежнему тихо, что было совершенно нехарактерно для шумного Фалева: — Вот и землица н‑наша. Салют из б‑береговых пушек и грохот оркестровой м‑меди. — Снова запел: — «В‑ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а к‑кому иначе, девять граммов в сердце, п‑постой, не зови, н‑не везет мне в смерти, п‑повезет в любви», — ударил ладонью по крашеному поручню, ударил сильно, зло. — П‑похоже, моя разлюбезная не п‑приехала в‑встречать. Пора точку ставить и освобождать п‑паспорт от лишних записей, — повернулся, зашаркал подошвами по рифленым пластинам перехода, к себе в кубрик пошел. Он, похоже, ждал какого-то чуда, а чуда не произошло. На материке, совсем недалеко от Петропавловска, у Вени Фалева находилась жена (впрочем, какая уже это жена, раз она не живет с Веней, одна формальность, факт в прошедшем времени, и только), и каждый раз, приплывая в порт, Веня ждал, надеялся, что она все-таки приедет встречать его, как это принято (радиограммы он давал), но жена, видно, ушла от него окончательно, бесповоротно, и у Фалева каждый раз было такое ощущение, словно он один на один столкнулся с бедой, с горем, с чем-то таким, что мешает человеку жить, быть счастливым и нужным на земле. — «В-ваше благородие, госпожа чужбина, жарко обнимала, да только не л‑любила, в ласковые сети п‑постой, не лови, н‑не везет мне в смерти, п‑повезет в любви», — издали донеслось до Володьки. Так с этой песней Фалев и ушел к себе, не мила ему была земля, где любимая изменила, предала его, пошла за другим. И Володька Сергунин прекрасно понимал Фалева. На причале, расталкивая незнакомых кричащих людей, он протиснулся к матери, обхватил ее голову, прижал к себе и несколько мгновений стоял неподвижно, не в силах что-либо выговорить: слова пропали, истаяли, речи не было, будто язык отсох. Вот, черт возьми, ни вдохнуть, ни выдохнуть, так проняло. Он сглотнул сухую, твердым комком напластовавшуюся слюну, закашлялся болезненно, затяжно. Мать резко отстранилась от него, глаза покрылись испуганным туманом, стали влажными. — Ой, сыночка, да ты никак простыл? — Мама, а где Галя? — наконец спросил Володька. — Ой, сыночка, — мать достала из-за рукава кружевнистый платочек, промакнула на глаза. — Не думай об Гале, сыночка, — сказала она. — Не надо об этом. — Мама, что с Галей? — тихо, из себя спросил Сергунин. — Что? Мать опять промакнула платочком глаза. — Не думай об ней, сыночка, — снова повторила она. Замолчала. Всхлипнула. — Ушла она от тебя, сыночка. Познакомилась со студентом медицинского института... Игорем его зовут, во Владивостоке учится... У него там родители, квартира... Машина, говорят, есть... В общем, не ровня ты ему, вот Галинка и переметнулась. И учиться во Владивосток перевелась, так-то, сыночка. — Мама, что же это делается? — сквозь зубы промычал потрясенный Володька, до слепящей боли зажмурил веки, покрутил головой, отказываясь верить тому, что услышал. — Неужто это правда, мама? — Правда, сыночка, — снова всхлипнув, ответила мать, страдая и за него, и за себя, и за непутевую Галку, и за всех них вместе, слезно сочувствуя сыну, переживая. Володька приоткрыл глаза, замутненные слезой, неверяще заскользил взглядом по толпе, все еще отказываясь понять захмелевшим тяжелым мозгом случившееся, поднял руку, словно заслоняясь ею от удара, медленно закрыл ладонью лицо. И вот какое дело — он почувствовал вдруг, что это не его ладонь, это были Галкины пальцы, длинные, нежные, легкие, и даже запах чистоты, рождающий в мозгу удивление, жаркую радость, был ее запахом, вот ведь как. Не сдержавшись, Володька снова замычал, глухо и тоскливо, задавленный этим ощущением, услышал свое болезненное «м‑м‑мхх» как бы со стороны, превозмог готовые вырваться слезы — превозмог это, но сорвался в другом — ухнул в какую-то бездонь, в пустоту. И далекая мудрая улыбка появилась у него на лице, собрала старческую плетенку морщин у глаз, остро сузила зрачки. Он долго стоял, не двигаясь, находясь в самом себе, в изоляции, в пустоте, не реагируя ни на смех, ни на выкрики, ни на плач, ни на рявканье гармошки — на все эти приметы долгожданной встречи, радостного общения людей, долго не видевших друг друга, — ни на что и ни на кого не реагируя. Поглядел поверх голов — увидел в дымновато-рассеянном утреннем воздухе вулканы. Вековечные атрибуты Петропавловска — два вулкана, Авача и Корякский, находились на своем месте. А куда им деваться? Вулкан Авача — огромный, с темным низом и ярко-коричневой, лаково поблескивающей на солнце макушкой, косо срезанной, с иззубренными краями, похожей на отбитое от пивной бутылки горлышко. Как-то в прошлом году Володька напросился к своему приятелю, бортмеханику на Ми‑4, в пассажиры во время облета петропавловских вулканов. В вертолетном салоне находились вулканологи, от них-то Володька и узнал, что Авачинский вулкан, он живой, дышит, теплый он, потому на его макушке никогда, даже в самую лютую зиму, не бывает снега, вулкан же Корякский — мертвый, он не то чтобы весь в старом, никогда не тающем снегу, он, похоже, в вечный мрамор уже оделся, белый, с черными прожилками, и ни за что не сковырнуть эту оболочку, не лишить вулкан его одеяния. Кратер Авачи сверху напоминал огромную бомбовую воронку, из которой валил пар, видны были желтые проплешины — это выделялась сера, застывала янтарными подтеками, слой на слой, бугрилась неровно, кое-где появлялись, перебегали с места на место неяркие, холодного брусничного цвета язычки пламени. У подножия вулкана была раскинута брезентовая, с тяжело обвисшими краями палатка, около которой топтались четыре тонюсенькие фигурки — вулканологи-полевики. Им Ми‑4 сбросил послание, закупоренное в полиэтиленовый пенал. Потом полетели назад в Петропавловск. С воздуха вулканы, несмотря на огромные воронки, отвалы пемзы, не казались огромными, они почти ничем не отличались своим рисунком от рисунка земли — земля и земля, а вот снизу, если посмотреть на них со стороны бухты, вулканы были преогромными, громоздкими набухшими нарывами. По осени вулканы всегда спокойные, мирные — кажется, ничто их не заботит, не тревожит. А впрочем, какое сейчас дело ему, мужику-брошенке, матросу первого класса Владимиру Сергунину, до вулканов? Есть они или нет их — ему теперь все едино. Он резко выплыл из забытья, из одури, из пустоты, подвигал кадыком, сглатывая что-то соленое — кажется, слезы. — Пошли, мама, домой, — сказал он. — Пошли, сыночка, — покорно отозвалась мать. Но и дома Володьке Сергунину не было покоя — в груди пекло, будто его ударили ножом, во рту было сухо и горько, словно он наелся злого зеленого перца, и совсем не проходило, не отпускало ощущение слезной обиды, и, хотя Володька и понимал, что он должен быть, просто обязан быть мужественным, стойким, он никак не мог справиться с собой. Желтый кожаный чемодан он даже раскрывать не стал, отдал матери. — На, разберись там сама с подарками. Что не нужно будет, снеси в комиссионку. Что делать, что делать, что делать? Острое чувство надлома, униженности, скорби пекло его, он не находил себе места, ему хотелось покоя, а покоя не было. Будто и не существовало его вовсе на белом свете. И словно черное рядно кто накидывал на Володьку, и пыльно, душно, смертельно одиноко было ему под этим рядном, и вдобавок ко всему пронизывало его насквозь секущим ветром, неизвестно откуда берущимся и неизвестно куда пропадающим. Он многое знал в своей, еще короткой, жизни, многое умел: и как из просмоленного каната в период голода наваристый борщ сварить, и как на необитаемом острове действующий телефон-автомат отыскать, и как костер запалить трением ладони о ладонь, и как корабельную течь одной нижней рубашкой заделать, даже как боцмана превращать из злющего тигра в Ласковый цветочек — и это знал, но вот одного не ведал: каким снадобьем можно замазать, залечить сырой рубец на сердце? И мучился от этого незнания. Целых два дня после прибытия в порт он пролежал, нераздетый, в ботинках и в форменке, на койке, щурясь болезненно, щупая глазами потолок, заглядывая в трещинки, раковины, черные узкие норы, проеденные древесным жучком, дышал тяжело и хрипло, будто простудный больной. Неожиданно на улице хлопнула дверь машины, потом заскрипела калитка, и спустя какие-то миги на пороге Володькиной избы появился Веня Фалев с гитарой в руках, бренькнул пальцами по струнам один раз, другой, подмигнул Сергунину, запел: — «В‑ваше благородие, госпожа п‑победа, значит, моя песенка до конца не спета, п‑перестаньте, черти, клясться на крови, н‑не везет мне в смерти, п‑повезет в...» — вдруг оборвал пение, хлопнул ладонью погитаре, та отозвалась каким-то странным утробным звуком. — К‑кончай, парень, в прятки с самим собою играть. Б‑бери шинель, пошли... за з‑зарплатой. Володька помедлил немного, потом послушно поднялся, сбросил с себя мятую форменку, сменил на новую, стиранную, хорошо отглаженную матерью, почистил ботинки. Делал он все это машинально, по привычке, прислушиваясь к самому себе, к внутренней своей боли, к холоду, тугим обручем обжимающему грудь, к движению липкого комка, спекшегося внутри, пониже ребер. Да не нужна ему эта чертова зарплата, эти деньги, которые он намеревался истратить на свадьбу — все истратить, все, что он заработал в последнем рейсе. На что теперь ему деньги, когда в дом пришел холод, когда он обманут, предан, — на что они, зачем? Веня Фалев сидел на табуретке, широко расставив ноги, побренькивал на гитаре и говорил поучительно: — На п‑прекрасных мира сего ты, Володька, — н‑нуль внимания... Вот т‑так себя держи. И тогда они н‑на тебя будут вешаться, словно м‑мухи на липучку. Гирляндою. Проверенный р‑рецепт, классиками всемирной л‑литературы п‑подсказан. А ежели одна м‑муха и сорвалась с липучки, так и лях с нею, ничего в этом с‑страшного нет. Бери пример с м‑меня, — Веня с грустью, которую он не смог сдержать, подкрутил несуществующие усы, — от меня жена ушла, а я и не п‑печалюсь. Вчера на развод подал, а сам гоголем хожу, в ус не дую, с‑сыт, пьян и нос в табаке. И т‑тебе советую — не журись. Венины слова не доходили до Володькиных ушей, они словно ударялись о какую-то запруду, и их, будто сор, уносило в сторону, в водоворот. А Володька ощущал себя сейчас тонущим кораблем, попавшим в страшный Бермудский треугольник где-нибудь у островов Пуэрто-Рико в Атлантике, где, как Володька читал, гибнут и суда, и самолеты исчезают, как гласит молва, совершенно бесследно, и каждая гибель отдается тревожным погребальным звоном колокола. В Англии, например, в конторе Ллойдовской компании, по каждому погибшему кораблю бьет колокол. Веня Фалев, всезнающий человек, даже называл имена судов, либо погибших в Бермудском треугольнике, либо ставших «летучими голландцами» — обезлюдевшими, одинокими и страшными, с работающими машинами, плывущими по океану. За такими судами, как пенная полоса за кормой, идет недобрая слава, ощущение тлена, холода, вечного молчания, тишины. — Вообще-то, п‑правы т‑те, у кого в к‑каждом порту подружка есть. Т‑такого везде примут, накормят и обогреют, — талдычил тем временем Веня Фалев, пощипывал струны пальцами, будто перо из утки дергал. Когда вышли из дому, Володька Сергунин заметил (только сейчас): какая же все-таки глубокая осень уже стоит в Петропавловске. Хотя погода и держится в самый раз, и тихо-тихо кругом, ни ветерка, ни движения воздуха, и темно-медные листья еще висят на деревьях, еще не оборвал их ветер — в природе уже чувствуется перелом, приближение зимы, длинных морозных ночей, воя пурги и нездорового гудения заметаемых проводов, хриплого дыхания собачьих упряжей, на которых в Петропавловск приезжают с севера коряки, — да‑а, скоро золотому осеннему покою наступит конец: еще совсем немного времени, нешумливого, умиротворяющего — и придется рвать финишную ленточку. В душе в такие мгновения рождается щемящая, очень острая и трудноодолимая грусть, ощущение недалекого снега — первого, самого печального, вызывающего озноб, что ляжет на мокрую, тяжело вздыхающую землю, снег этот вряд ли стает, и тогда потянется долгая, полная чуждого и враждебного, очень прочная зима. Они всегда вызывают горечь и грусть, эти последние дни осени. И вообще, непонятно даже, какие это дни, как их охарактеризовать — то они летние, то осенние, то зимние, они пахнут яблоками, которые здесь, на Камчатке, бывают только привозные, грибами, хвоей, ключевой водой, морской солью — чем-то очень хорошим и печальным, рождающим ответные позывы в груди, ответную печаль, — и одновременно пахнут снегом, мукой, тленом, бывшестью. Небо сегодня синее-синее, как на юге, где Володька Сергунин однажды бывал, отдыхал в Коктебеле, снимая комнатушку в хате, прилепившейся к боковине горбатой, неряшливо омертвевшей, неприбранной горы. Но коктебельское синее небо — теплое, ласковое, от него ощущение добра исходит, а здешнее небо, несмотря на всю свою внешнюю красу, на лоск и глубокую синь, — холодное, завтра же оно вовсе может стать хмурым, недобрым, пороховым налетом покрыться. Сергунин медленно обвел глазами горизонт, дома, далекие деревья, сощурился от блеска небесной тверди. — П‑прошу! — Веня Фалев картинно повел рукой, распахивая дверь такси, ударил пальцами по струнам: — «Ваше б‑благородие, госпожа удача, для кого ты д‑добрая, а кому иначе...» — Володька Сергунин поморщился: что-то надоела ему Венина песня, и Фалев это заметил, оборвал гитарный звон, проговорил спокойно: — Мы с тобой двое п‑подранков из всей команды, остальные т‑тридцать восемь счастливы, и дай-то им бог... Когда получили деньги, Володька прошел к капитану, стукнул пальцами в лакированную обшивку двери. Капитан, Семен Семенович, был на месте. Дел у него сейчас по горло — идет разгрузка судна, команда собирается в отпуск, «карапь» капитан сдает на руки деду — старшему механику, тот целый месяц будет командовать ремонтом, с ним остается вся его служба (БЧ‑5 — так по старой военно-морской привычке величал службу стармеха бывший капитан второго ранга Семен Семенович), среди остающихся — ропот: как это так, «верхняя вахта» отдыхать собирается, а они кукуй тут, наводи глянец, ослабшие гайки завинчивай... В общем, приходилось капитану каждого второго «бунтовщика» на ковер вызывать, душещипательные беседы вести. — Что тебе, Сергунин? — Семен Семенович, помните, я с вашего разрешения радиограмму на берег посылал? — Насчет ресторана, что ль? — Да. Я «Заячьи уши» на сегодняшний вечер под свадьбу снял. Вместе с оркестром. — Ого, значит, подарок надо готовить? — Подарка не надо. — Как это? — Не надо, Семен Семеныч. — Ну, как знаешь... — капитан посмотрел в лицо Сергунину — что-то оно ему не нравилось, блеклое, болезненное, угрюмое, с глубокими затенями под глазами. «Видимо, что-то случилось у парня», — подумал Семен Семенович, но потом решил, что это Сергунина перед свадьбой волнение скрутило, это с непривычки, это проходящее, и ничего не сказал. Вечером вся команда сергунинского судна собралась в «Заячьих ушах» — так в Петропавловске прозвали новомодный ресторан, примыкающий к гостинице «Авача». Крыша у этого ресторана сделана сплошь из треугольных пластмассовых торосов, очень похожих на уши. Эти уши по вечерам освещаются изнутри и видны издали; а вообще-то на заячьи они похожи гораздо меньше, чем на волчьи, лисьи или, скажем, на собачьи. Но тем не менее прозвище прочно прилепилось к ресторану и избавляться от него, даже если вообще у ресторана снимут крышу или поменяют ее на соломенную либо дранковую, трудно. Почти невозможно. — А где же невеста? — поинтересовался капитан. — С‑семен Семеныч, — жалобно протянул Веня Фалев, окорачивая его. — Невесты нет, капитан, — твердо и тихо произнес Володька Сергунин, — и не будет. Променяла меня на студента медицинского института и укатила с ним во Владик. Капитан потемнел лицом. — Прости, Сергунин, — сказал он. — Ничего, Семен Семеныч. Случается и хуже. Вечером на ресторанных столах чего только не было: и икорка местная, красная, лососевая, и привозная, черная, давленая — паюсная, и рыбка в разных соусах и заливках, и мясо, и ветчинка, и огурцы с помидорами — производство Паратунского тепличного комбината, и куропатки с зеленью — глаза у всех, после скромных морских завтраков-ужинов, от такого обилия еды буквально разбежались. Едва расселись, как громыхнул оркестр, ударник зашаркал тарелками, возя их одну по другой, саксофонист взял свою кривую дудку, хрипло повел мелодию, и уютно, по-домашнему спокойно и мило сделалось в «Заячьих ушах», зашумели ребята, зазвенели стеклом бокалов и бутылок, застучали посудой. А поскольку многие из судовых пригласили с собой женщин — жен, сестер, подруг, то сразу же возникли танцы и стало тесно и жарко на деревянном пятачке около оркестра. — Слушай, Сергунин, этот ужин больших денег стоит, — к Володьке придвинулся капитан с тарелкой в руке, подцепил ломтик ветчины, разрубил его вилкой на три части. — Деньги я для сегодняшнего вечера специально припасал, на сегодняшний вечер они и пойдут. Все до рубля будут истрачены. — А матери что останется? — Сберкнижка на ее имя. Там почти две тысячи. В прошлом плаванье заработал. Капитан покачал головой, подумал, что у этой «свадьбы» есть одна положительная сторона — застолье, сегодняшнее общение прочнее сдружит ребят, завтра хоть не будет распрей между «верхней вахтой», которая уезжает на материк, и «службой его величества деда», которой надлежит остаться для ремонта судна, и за это превеликое спасибо Володе Сергунину. Капитан вздохнул затяжно, прислушался к грохоту оркестра и шарканью подошв, улыбнулся чему-то загадочно, чуть издалека — может быть, свой дом и свою семью вспомнил, а может быть, молодость, золотую пору встреч, надежд, расставаний, все ушедшее в бывшесть, в туман, в розовую дымку прожитого. А у Володьки горло стиснуло, да так, что захрустели позвонки и заскрипела хрящевина, язык чужим сделался, налился чугуном — зябко Сергунину было на этом веселье. Повел натуженным взглядом налево, увидел родные привычные лики ребят своих, друзей, чей локоть, чью поддержку не раз ощущал, когда плыл с ними по Тихонычу (так матросы зовут самый спокойный и миролюбивый океан на планете Земля), когда без сна и отдыха стоял на вахте в горячих, как топка, ночах экватора, робея от манящих, шамански призывных звезд Южного Креста, когда штормило, и «карапь» их клало на бок так круто, что в трубу были видны гривастые тяжелые волны, каждая из которых, казалось, могла располовинить судно, ровно слабокожий орех фундук: хряп — и одни скорлупки остались... Поглядел Володька Сергунин на ребят своих — с каждым из них его что-то связывало, — и отлегло немного. Покашлял, проверяя, есть ли голос или нет. Голос был. — Семен Семеныч, — позвал он. Капитан поднял грузную голову, тень уходящих воспоминаний проскользнула у него по лицу, отозвалась в глазах бронзовым гаснущим светом. — Да, Сергунин. — Семен Семеныч, вот какое дело, — Володька покрутил головой, вывинчивая шею из жесткого воротника рубашки. — Я в море хочу уйти. Завтра же. — Как завтра? — не понял капитан. — Мы же в отпуск на месяц отбываем. А в море потом. — Значит, я с парохода расчет возьму. И мне надо устроиться на другой. Чтоб тут же, немедля, уйти в море... — Володька споткнулся на секунду, потом проговорил просяще: — Помогите мне на другой корабль устроиться, а? Не то я сдохну тут совсем. Мне же работа нужна, работа, чтоб клин клином выбить. — Понимаю, Володя... Больно тебе. Все понимаю, — капитан отодвинул от себя тарелку, хлопнул твердыми, сильными ладонями по коленям. — Жаль мне отпускать тебя, Сергунин. Матрос ты хороший. — Так не последний же день живем, Семен Семеныч... — Тьфу, тьфу, тьфу, — капитан сердито смежил брови в одну длинную лохматую линию, постучал пальцами по нижней, изнаночной части стола, там, где было чистое, необработанное дерево. — Ладно, Сергунин. Ладно, — сказал капитан в последний раз и умолк. Он вообще не мастак был говорить, Семен Семенович, — не мастак и не любитель. — Спасибо, Семен Семеныч, — произнес Володька, поглядел в круг, где танцевали люди, и что-то усыпляющее, жалостливое, теплое опять возникло в груди, и опять совершенно пропало в нем желание жить и сопротивляться — то ли от водки, которую он только что выпил одним духом, чокнувшись с капитаном, то ли щемящая печаль, неустроенность одиночества, тоска по Галине все-таки добивали его — только увидел он нечто удивительное. В круг, под самый оркестр, расталкивая кавалеров, выскочила тонехонькая девчонка — кра‑асивая чухонка — и будто солнечный свет в ночи возродила, зарю над собой разожгла, и тихо зазвенел воздух от того, как она зацокала каблучками по дереву пятачка, и круто поплыли куда-то в сторону стены, разламываясь на ломти, словно были сделаны они из мокрого картона. И смотрела девчоночка призывно и любяще на Володьку Сергунина, и танцевала для него лишь одного, едва касаясь легкими длинными ногами пола, нашептывала про себя какие-то нежные горячие слова, и шепот у нее выходил тихий, послушный, добрый — говорила, наверное, о чем-то красивом. Как и сама она, таком красивом. Володька встал, обошел стол кругом, касаясь руками людских спин, приблизился к пятачку. А чухоночка улыбнулась послушно и тепло, отодвинулась от него в глубину пятачка, в мешанину танцующих, в толчею. Володька снова приблизился, его теперь толкали со всех сторон, что-то кричали ему, смеялись, а он в грохоте музыки ничего не слышал. Он шел к девчоночке, она же звала его, звала, отодвигаясь все дальше и дальше. Сергунин снова пробрался немного вперед, а девчоночка опять попятилась от него, выходя на границу танцевального круга. И едва Володька достиг этой границы, как чухоночка пропала совсем. Растворилась. Истаяла. Будто и не было ее вовсе. А ее и действительно не было — померещилось красивое видение, ткнуло ножом в сердце, потом видение, обман этот исчез, а боль, жестокая, затяжная, вышибающая слезы из глаз, осталась. Все понял Володька Сергунин в эту минуту. Даже то понял, что пить он не умеет. Не складывается у него жизнь, неудачник он, вот кто. Казалось бы, сейчас самая пора раскиснуть, заплакать, признать мучительную бесплодность своих исканий, а получаться начало совсем наоборот, словно затвердело в нем что-то, и хмель разом улетучился, в мозгу прояснело, забились какие-то мстительные мысли-молоточки, оживляющие в организме умершие клетки, настраивающие все Володькино естество на агрессивный лад. Но он и этот позыв подавил в себе — миролюбивая, славная и добрая натура была у Володи Сергунина. Ему бы сейчас быстроходную обувь Гермеса, котурны с крыльями, он бы живо слетал во Владивосток и потаенно, одним глазом, взглянул бы на Галку. И с этого одного взгляда он понял бы все — действительно ли Галка влюбилась в своего медика, или это только минутное увлечение, которое сегодня есть, а завтра нет. И если бы он почуял второе, он отбил бы Галку, обязательно бы отбил. Но нет крылатых сандалий, и встреча с Галкой ему не светит. Да и не нужна она. «Не ну‑ужна», — чуть не повторил он вслух, еще раз поискал глазами, куда же делась чухоночка, не нашел. А потом, как найти мираж, видение? Капитана, когда Володька вернулся на свое место, рядом не было, он переселился в другой край стола, где сидела мрачновато-оттаивающая «служба его величества деда» — судовая технократия, и что-то объяснял им. А к Володьке подсел Веня Фалев, нескладный, длинный, от выпитого, от напряжения вечера начавший еще больше заикаться. — Я п‑понимао тебя, Володя. Т‑тебе тяжело. Но ты будь, как к‑казак, которому на роду написано с‑стать атаманом, ты терпи. Умение ж‑ждать — это, как говорили д‑древние, з‑залог успеха. Я в‑вот о чем думаю, вот о к‑какой философии... Человек ныне ж‑живет уж больно расточительно, будто у н‑него, кроме одной жизни, есть еще и вторая ж‑жизнь, и третья, и даже четвертая. И расходует ее на всякие м‑мелочи. И счастье потому у него бывает м‑маленькое: купил участок з‑земли под дачу — и уже счастлив, машину купил — т‑тоже счастлив, просто хорошо поел — д‑даже тут он выглядит счастливым. Почему это? П‑почему мы так мельчим? В‑ведь счастье совсем в ином, не в жене с садовым участком, и н‑не в «Запорожце» с огородной лейкой. А, В‑Володя? — усмехнулся понимающе. — Л‑ладно, старик, заморочил я т‑тебе голову. Б‑больше не буду. Просто мы с тобой к‑коллеги: т‑ты лишился жены будущей, а я б‑бывшей. Вот и т‑тянет пообщаться, чтоб тяжесть не н‑носить в себе. Утром с моря на Петропавловск надвинулся туман, густой, мокрый, липкий, ткни рукой, а он на пальцы, словно вата, наматывается, наворачивается клейкими комками. Машины с улицы словно ветром сдуло, все на прикол встали, а если и пройдет редкая — то с включенными фарами, с тревожным сиплым гудком, слышным шагов за пятнадцать. Когда на море наваливается такой туман, то суда плывут вслепую, с работающими ревунами, либо вообще не плывут, ложатся в дрейф, — опасная эта погода, ох и опасная. Дома на петропавловских улицах были неслышны и невидимы, они гнездились совсем рядом с тротуаром, рукой подать, но ощутить их можно было только по малоприметному теплу, идущему от прогретых поутру стен, а там, где между домами был прогал, тянуло холодом, пронзительным и злым, как разбойный посвист, и пробивал этот холод насквозь, до судорог. Вверху, над головой, время от времени что-то высветлялось, прозрачнело — это ветер пробовал растащить глыбы тумана в разные стороны, прорваться вниз, к земной тверди, но туман оказывался сильнее, каждый раз совладал с ветром, скручивал ему руки, выдворял из своих владений, и вновь становилось непроглядно мутно, темно, сиро, холодно, невнятно — никаких проблесков. Сергунин побывал на судне, получил расчет, попрощался с ребятами и с капитаном и (Семен Семенович сдержал слово, помог) уже оформился плавать на лесовоз «Шадринск», который до конца навигации будет совершать рейсы в Певек, из Певека во Владивосток, а оттуда в Японию и снова в Певек. Но вот какое дело — раз на море выпала «видимость ноль» (или «полная невидимость», как еще иногда говорят), то, значит, «Шадринск» намертво припаялся одним бортом к причалу. На‑мертво. И сколько дней так простоит — одной лишь небесной канцелярии и известно. Даже капитан «Шадринска» товарищ Озеров ничего про это не знает, вот ведь как. У Володьки этот распроклятый туман душу из тела выдернул, и не было у него уже внутри места живого, боль огнем пекла и в подгрудье, и со спины, и под ключицами, а сильнее, звероватее всего — чуть ниже левой ключицы — тут так припекало, что хоть холодный ослабляющий компресс прикладывай. Он медленной шаркающей походкой брел по тротуару, остановился у какого-то мостика, который раньше не видел, разгреб рукою ватные лохмотья, сдвинул их в одну сторону, вгляделся в выемку — где-то здесь рядом должна быть Сопка любви, крутобокая, кучерявая от деревьев и кустарника, густо растущих по склонам, темная от мокрой, в пролежнях, травы, но не видно горы, не видно — растворилась сопка в тумане, будто кусок сахара в стакане с вскипяченным молоком. Исчезла, сошла на нет. И это снова добавило боли, бесцеремонной, жадной до живого, и Володька Сергунин уже начал ощущать неотвратимость новой беды. Чтобы хоть как-то отвлечься, он зашел в музей. Но и музей нанес ему сильнейший удар из прошлого, он здесь был как-то с Галкой, и каждая вещь, каждый предмет, напоминали ему про то, что было. Он вдруг снова, как тогда, в последние ночи плаванья, ощутил на своем лице ее прохладную ладонь и пошевелил беспомощно губами, смаргивая соленую мокроту с глаз. Все тут напоминало ему о Галке. И этот крест с могилы знаменитого мореплавателя, и медная плита, на которой зубилом выбито: «Могила Витуса Беринга умершего 8 декабря 1741 года Крест восстановлен экспедицией Военного совета ТОФ 25 августа 1944 года» — без единого знака препинания, с якорьками по углам плиты, и огромная плавающая мина, пугающе круглая, надраенная, как адмиральский катер перед военными учениями, с чертенячьими рожками, похожими на большие бутылочные пробки, и мина донная неконтактная, смахивающая на длинную толстотелую сигару, которую курит заокеанский дядюшка Сэм на карикатурах (только сигару такую дядюшке Сэму в зубах не удержать, вес мины больше тонны — 1200 кэгэ), — словом, в какой угол Володька ни глядел, все ему тут до слезной истерики, до крика напоминало о Галине, о Галке. Даже страшные орудия уничтожения, от которых суда разваливаются, словно прелые арбузные корки, и те напоминали о Галке. Когда он вышел из музея, то увидел, что над головой в тумане посверкивают-мелькают серебристые рыбки, будто молодая навага в весенней шуге туда-сюда носится, подпрыгивает над теком бесшумно, без всплесков, окунается в густоту вновь, исчезает, чтобы снова возникнуть, снова вспарить, высветиться серебром. Неужто развиднеется, неужто сегодня в море? Володька, подтянув ремень, ощутив, как пряжка плотно вошла в раздвиг грудной клетки, пугаясь чего-то непознанного, но естественного и неотвратимого, что было духу понесся в порт, сталкиваясь на бегу с людьми, пропуская мимо ушей их чертыханья. На «Шадринск» он примчался чуть живой, мокрый от пота, хоть форменку выжимай. Хрипя, свалился на скамейку рядом с вахтенным. — Что?.. От‑тч‑чаливаем? Вахтенный так широко раскупорил глаза, что они у него чуть на нос, ровно два влажных скользких шарика, не выкатились. — Сдурел? Туман-то все густеет да густеет. В таком молоке выйдешь и у «братьев» на дно ляжешь. Ай да корешок к нашему пароходу пришвартовался. Уменьшился телом Сергунин, будто воздух кто из него выпустил, медленно одеревенел лицом, костистые кривые скобочки образовались у него возле уголков рта. — Прости, вахта, — сказал он тихо, в себя, — это мне почудилось, что посудина с прикола снимается. Не отошел «Шадринск» от петропавловских причалов ни на следующий день, ни два дня спустя, ни три дня — туман плотно лежал на море, на земле, на вулканах и на домах, на каменистых кряжах и в долах, он будто окаменел, туман этот, хоть топором его руби, пилой режь, взрывом рви. И все эти дни не мог прийти в себя Володька, как ни уговаривала его мать, буквально через каждое слово вставляя в речь ласковое, теплое «сыночка». Всякий раз, когда Сергунин приходил на причал, ему сообщали: «На море видимость — ноль, все суда стоят в порту», и эти сообщения обескровливали, лишали сил его душу, изматывали тело, и он чувствовал себя беспомощным, печально одиноким, обделенным, чужим для вся и всех. Ему хотелось забыть свое прошлое, забыть все, что произошло, ускользнуть, уйти в будущее, вдаль, но прошлое цепко держало его, не хотело отпускать, не желало обращаться в прах, в тлен, и Володька страдал от бесплодности собственных усилий, и вскакивал посреди ночи, когда видел во сне из ничего встающее перед ним любимое лицо, призрачное и прекрасное, и изо всех сил удерживал зубами готовый вырваться сип «Галка!», и падал навзничь, оглушенный, измотавшийся, переставший понимать, где сон, где явь, а где больная одурь. Так уж устроен человек — прошлое не исчезает в нем бесследно, и тем более сразу. Не дано. Надо помучиться, расплатиться болью и сединой в голове за просчет собственный или чей-то чужой, прошлое держится за человека до последнего мига, до тех пор, пока человек не онемеет, не освободится от старой кожуры, словно мудрая змея в пору линьки от кожи, не обретет второе дыхание и не возродится вновь. Не для других, для самого себя возродится. Понимал это Володька Сергунин и вместе с тем не понимал. Когда душит боль, ведь трудно быть самим собой, трудно разглядеть себя со стороны, отделиться от собственного естества, стать сторонним наблюдателем. В такие минуты прошлое имеет только один цвет — черный. Беспробудно черный цвет. И даже забываются, угасают такие яркие картины, как розовые дали детства; вкус и щемящий, вызывающий теплые слезы благодарности запах хлебной ковриги, вынутой из горячего печного зева; и таежные цветы ургуйки, синехонькие, будто перышки, очень похожие на беглянок — столь странно они, незащищенные, слабые, нежные, смотрятся среди жестких весенних проталин, окруженные грязными краюхами снега; и плотный могучий ход лососевых, вползающих из морской губы в тесное речное устье, на глазах превращающихся из кипенно-алых, насквозь светящихся, брызжущих огнем, в тугобрюхих, темноватых, ничем не примечательных рыбин, которых мужики в пору Володькиного детства добывали из воды вилами — входили на мелкотье и вилами накладывали полную телегу рыбы; и тихий тревожный говор трав под ветром, и веселые игры птиц в листве, и многое другое, что радостно, что заставляет человека верить, жить и чувствовать. Все заглушает, забивает внутренняя боль, жестокая смятенность, тоска, му́ка, потерянность. Есть один исцелитель этой затяжной вязкой боли — время. Только время, и других врачей не существует. Не дано просто. Пройдут недели, месяцы, и раны застынут, подернутся корочкой, а потом и вовсе зарубцуются. Но оно, время это, великий врачеватель, ползло-тянулось так медленно, такими микроскопическими шажками, что конца не было видно. Вот и сегодня вахтенный сообщил привычно-ненавистное, набившее оскомину, выбивающее муторную дрожь на коже, тягучее, как зубная резь: «На море видимость — ноль, все суда стоят в порту», и Володька Сергунин долго сидел на каком-то низком длинном ящике, оставленном на причальной стенке, думал про себя и про Галку, про все, что с ними произошло, про мать и про их неказистый домик, косо прилепившийся к горе, про мордатого студента-медика с прической давно не мывшегося хиппи и про окаменевший туман, про плеск ласковых штилевых волн и про зеленый берег Африки с лениво прогуливающимися вдоль океанской кромки розовыми птицами. А потом, трезвея, спросил себя: «Когда же все это кончится?» Услышал далекую успокоительную мелодию, будто в нем самом затренькал какой-то сладостный колокольчик, подобрался, словно почувствовал, что и завтра ему скажут: «На море видимость — ноль, выход из порта закрыт», и послезавтра скажут, и послепослсезавтра, и так до бесконечности, — а значит, надо брать себя в руки, надо успокоиться, войти в нормальную колею, осознать, что за одной потерей последуют другие, — осознать и приготовиться к этому, ибо из потерь (как и из приобретений, из побед) и состоит матушка-жизнь. И ни на минуту, ни на один миг не надо исключать себя из нее.
ТРАССА (повесть)
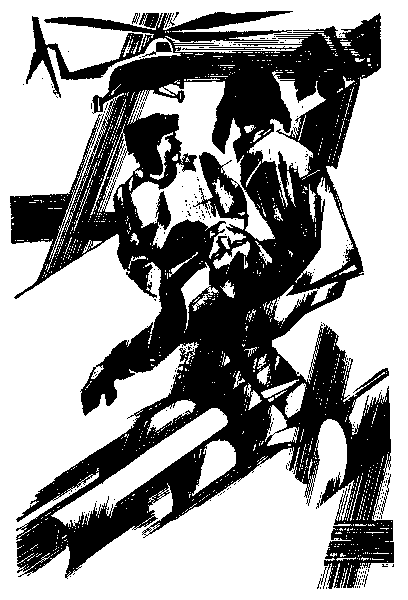
1
Сто́ит только по северным засечкам перевалить через Урал, с его липкой осенней изморосью и грузными облачными шапками, обметавшими затупленные каменные макушки, как начинается сибирское болотное царство. Болота тут огромные, заполненные иссиня-проржавелой водой, с кирпичными кочками резики и бездонными плешинами топей. Бывает, нет-нет, среди болот и встретится сухая, поросшая кривобоким леском куртина. На куртине, часто случается, стоит буровая вышка. Загонит вышка щуп в болотную мякоть и месяцами ищет подземный нефтяной мешок. Найдет — снимется, переберется в зимнюю пору, когда затвердеет болото, на другую куртину, дальше начнет искать. На месте пробуренной скважины остается белобокий рукастый стоячок — нефтяная колонка. Руки стоячка спеленуты ниткой — тонюсенькой, в серебристость, прочной. Хлебнет нитка нефти и бежит прочь от стоячка. Ныряет среди болотных кочек, то под воду уходя, то поднимаясь над ней, через много километров выберется на сушу и по ней уже стелется на юг, туда, где проходит нефтепровод. У каждого нефтепровода таких ниток не сосчитать, как соберутся все ручейки в один, так и получается черная маслянистая река, которую надо перебросить через Уральский хребет на запад. Проложить нефтепровод, иначе говоря, трассу, в тайге да в болотах, которых на юге чуть меньше, чем в Приполярье, но все равно больше чем достаточно, — задача сверхтрудная, можно сказать, стратегическая. Чтобы решить ее, нужен и ум, и талант, и воля, и храбрость, и мастерство. Решить ее — все равно что выиграть сражение. Большое сражение. Из тех, что входят в историю. Тянут трассу люди мужественные, влюбленные в свою работу, в землю, по которой они идут. Дело их очень тяжелое, опасное. Бывает, правда, попадет к трассовикам человек случайный, любитель отведать сезонного заработка, но такие люди долго не задерживаются. Проходит время, и перед ними встает выбор: или — или... Большинство возвращается назад, откуда и пришло, но случается, что среди этих пришлых попадает кремешок хорошей породы, исправляется и трассовики принимают его в свой коллектив уже навсегда. На всю жизнь. Рассекла трасса тайгу на ломти, располовинила болота. Идет трасса на запад, и заметен ее шаг.
2
Костылев приехал в эти края в сентябре, когда в России, как здесь, в Сибири, называют центральную часть страны — Орловскую, Тульскую, Липецкую, Воронежскую и прочие области, еще было тепло, в воздухе летала длинная невесомая паутина, дни стояли тихие и покойные. В такие дни в голову приходят мысли о вечности, о непреходящем, о прочности природы, о том, что означает бытие. В «России» было тепло, а здесь, на севере, снег уже густо облепил землю, лишь кое-где сквозь белесое стылое одеяло пробивались наружу обмороженные остины травы. Костылев прильнул к вогнутому кругляшу иллюминатора, увидел черное озерцо, в котором качались огни стоявшего у берега чумазого катерка; низкие деревянные строения, покрытые дранкой, мутно светлевшей в угасающем дне; кубики тракторов; удлиненные прямоугольнички машин, запрудивших площадь у пристани. Он беспомощно оглянулся на сидевшего рядом парня, смуглого, с густой, ровно обрубленной бородой. Похоже, цыган. Парень был олицетворением спокойствия. Спокойные глаза, спокойное лицо, руки спокойные, поза расслабленная. — Никак, зима? А? В сентябре-то, а? — Зима, — однозначно отозвался парень, а у Костылева сердце пошло на сбой работать — оттого, что не увидит он больше теплой подмосковной осени, не пройдется по палой листве, покрывшей улицы рано затихающего в сентябрьские вечера подмосковного поселка Ново-Иерусалима. В этом поселке у него с бабкой Лукерьей Федоровной, доброй, вдумчивой старухой, был домик, укрытый в густом вишенье, как в лесу. Самолет, запрокинув крыло, очертил крутой вираж и пошел на посадку. Колеса глухо стукнулись о бетон взлетной дорожки, тут же яростно взревели двигатели, сотрясая округу. Потом грохот опал и сделалось тихо. — Граждане пассажиры! Прошу всех оставаться на своих местах! — объявила бортпроводница — конопатая пичуга ростом чуть повыше кресла. — Ить ты, от горшка два вершка, а держится, как директор. Элементарно, — пробормотал Костылев. — На работу? — спросил он у цыгана. — Нет, в отпуск. Загорать на песчаных обских берегах. Солнце вишь как прижаривает, — цыган показал из-под бороды крупные, белые, хоть для рекламы, зубы. Увидев, что Костылев обиделся, добавил: — На работу, куда ж еще. — Нефть? — Не совсем. Нефтепровод. Тут нитку кладут. — Трубы? — М-угу. Нефть, ее надо не только взять, но и перебросить в города, к Москве поближе. А это не фунт изюма в обед смолотить. — Бывал здесь раньше? — Бывал. До армии в техникуме учился, тут практику проходил. Потом, после армии, на инженерной должности работал. Почти что местным стал. Хантом, манси... — Значит, техни‑ик, — Костылев потянулся в кресле. — А какой техник? По диплому, так сказать. Есть ведь техник-строитель, есть техник-механик, а есть, что на счетах щелкает, техник-экономист, или как он там? — Сварщик. — Газо иль электро? С газом или с электром дело приходится иметь? — И с тем, и с другим. — А я, когда служил, с газом все более. Днища кораблей обстругивал, ниткой заштопывал, заплаты клал. Затем все это мне надоело, я рапорт командиру на стол, и деру дал. В танковые части. Вначале рычаги на себя да от себя дергал, потом за бублик сел. — За что, за что? — За баранку, говорю. Тут на них зашикали — пора было выходить. По гремящей, непрочной лестнице-приставке спустились вниз. Из проволглого, насыщенного запахами одеколона и сапожной ваксы самолетного тепла попали в сухой холод, от которого заслезились глаза. За ярко оконтуренной светом стекляшкой аэропорта рваной кустистой линией темнела тайга. У края прозрачно-черного, обсыпанного редкими звездами неба трепетало густое рыжее пламя. Костылев поежился, натягивая на уши воротник легкого, «подбитого ветром» плаща, побрел в темноту вслед за спутником, спотыкаясь на неровностях плит, шаркая подошвами. — Слышь, друг, — он тронул цыгана за плечо, тот попридержал шаг, обернулся: — Ну? — Это чего горит? Северное сияние? — На всякий пожарный — моя фамилия Старенков. — Костылев, — Иван нащупал в темноте ладонь цыгана, тряхнул ее. — Поручкались. Нет, это не северное сияние. Это газ сжигают. Попутно с нефтью газ из земли выходит. Девать продукт некуда, и, чтоб он не засорял воздух, его сжигают. — Богатеи. — М-угу. Не нашлось еще умной головы, чтобы эти миллионы в дело пустить. — Слышь! — Костылев умолк. Старенков остановился, и в темноте Иван увидел совсем близко его лицо, большое, плоское, словно увеличенное сквозь линзу. — Слышь! — повторил он. — Ты это... На работу будешь устраиваться иль уже здесь работаешь, а? — Работаю, — ответил Старенков, лицо его отодвинулось от Костылева, стушевалось. Костылев даже присел, чтобы увидеть цыгана на фоне зарева. Оказывается, стоит совсем рядом, рукой дотянуться можно, а вот не виден. Странное какое-то зарево. В деревне если ночью заполыхает, то становится видно, как днем, а тут, сколько ни напрягай зрение, все равно как близорукий без очков. — Что? Шнурки посеял? — произнес из темноты Старенков. — А семья у тебя где? Здесь? — пропустив вопрос насчет шнурков, спросил Костылев. — В Тюмени семья. Жена и дочуня. — Сбежал? — Зачем же? С семьей все в порядке. — Разве в Тюмени нельзя работу найти, раз с семьей все в порядке? — Можно. Но я эту работу люблю. — А кем ты работаешь? — Бригадиром. — По-нашему, бугром. — Костылев помолчал, натянул на нос шапку, ощутил, как остро пахнет старый, посеченный молью мех, подумал, что на лето (бабке Лукерье надо будет написать) вещи нужно пересыпать не вонючим невыветриваемым нафталином, а махоркой. Действует не хуже, и запах человеческий все-таки сохраняется. — Мы бригадиров буграми у себя на работе зовем. — Здесь тоже так зовут. — Слышь, — проговорил Костылев в темноту. — А мне не поможешь устроиться?.. Костылев еще что-то говорил, даже не вникая в свою речь, в слова, которые вылетали из него, как семечки из подсолнуха. Потом, враз остановленный каким-то жестким внутренним тормозом, замолчал. Улыбнулся жалобно в темноту. — Какая у тебя специальность? Что-то я не понял, — спросил Старенков. — Ну... По нынешней специальности я — одна нога здесь, другая там. Шофер. В передней лапе баранка, задняя на педаль давит, спидометр километры накручивает. Элементарно. — Смотри-ка. А ты, оказывается, через раз юмористом бываешь. — Приходится, хотя деньги за это не платят. — Подзаработать приехал? — Что, нельзя? — Ребята узнают — морду набьют. Здесь ой-ой как не любят ходоков за длинным рублем. — У меня бабка старая, и дом под Москвой разваливается. Надо же на какие-то шиши все это поддерживать. — Я тебя предупредил, а дальше — как знаешь. Костылев покрутил головой: важна житейская суть человека, вернее, сам человек с его сердцебиением и кровообращением, с колготной мыслью, а не то, что о нем думают. Повода для ярлыка, что он — ходок за сторублевыми кредитками, не даст.
3
Гостиницу НГДУ — нефтегазодобывающего управления — жители поселка звали канадским домиком. Собранная из деревянных пластин, опрятная, погруженная в сосновое редколесье, гостиница была, действительно, построена для какой-то привередливой канадской делегации, приезжавшей посмотреть, как в сибирских болотах добывают «земляное масло». Костылеву и Старенкову неслыханно повезло — в канадском домике оказались свободные места. Даже не места (места — это не то слово), а свободный номер: две с армейской тщательностью заправленные верблюжьими одеялами кровати с лакированными, красного дерева спинками, ковер на полу и ковер на стене, гардероб, огромный, как кузов грузовика, стол, стулья, графин с чуть примутненной от болотного осадка водой. — Чин чинарем, — произнес Костылев с довольным видом, поднял вверх большой палец. — Сегодня суббота, — сказал Старенков, — уик энд... — Чего-чего? — Конец недели, — спокойно сказал Старенков, глаза его оттаяли после холода улицы, стали жаркими. — На работу сегодня не ходить. Можно в ресторан. — В такой обуви? — Костылев оглядел свои измазанные грязью ботинки. Чистить все равно бесполезно, стоит только ступить за порог, как они опять по колено влезут в размытую, огрузшую под мокрым снегом дорогу, клейкую от глины и торфа. — Может, лучше здесь останемся? Выпьем и закусим, а? В. магазине продукт возьмем. Элементарно. А? — Костылев красноречиво брякнул мелочью в кармане. — Не боись, парень. Я плачу. — Старенков помолчал немного, потом потянулся с мечтательным видом. — Ресторан — это запах шашлыка, графин со слезой на крутых боках, танцы-шманцы под квартет, дамы в белых платьях, как из-под венца. Когда они пришли, ресторан был еще пуст. На улице хоть и царила темень ночная, а час ресторанный еще не наступил. Время для ресторанных посещений, как принято говорить, было еще детским. Танцевальная площадка начищена до блеска, каждая паркетина сияла, чеканка на стенах тоже сияла, кадка с фикусом протерта, ударник задумчиво бухал колотушкой в барабанный бок. Потом ресторан начал понемногу заполняться. Приходили в основном мужчины — группами, все до единого в темных парадных костюмах, коричневых либо синих, сахарно-белых импортных рубашках — видно, одного завоза, — при плетеных синтетических галстуках; на ногах охотничьи резиновые сапоги, собранные в колбасы и спущенные под колено, — в другой обуви по поселку не пройти. Ударник забухал колотушкой сильнее, ударам вторил гомон голосов. Неожиданно на Костылева нахлынуло забытое ощущение вокзала с его суетой, ожиданием дороги, энергией напряженных и усталых людей, с боями около касс. В послевоенные годы пассажиры брали переполненные поезда на абордаж, как вражеские высоты. Такие баталии устраивали, что... — Слушай, а ты по национальности случайно не цыган? — спросил Костылев. — Нет‚— Старенков усмехнулся. — Угадыватель большой. Академик, можно сказать. В ресторане появилась первая женщина, с высоко взбитой прической, посыпанной сверкушками, в белом платье без рукавов, с матерчатой розой на груди, в охотничьих сапогах, голенища которых, как и у многих мужчин, тяжелыми, собранными в кольца раструбами подпирали колени. Да, тут другой обуви не признают. Туфелькам от Кристиана Диора, Нины Риччи или Пьера Кардена здесь не место. Лучшая обувка — мокроступы-вездеходы с высокими, по пояс, голенищами. Оркестр ожил совсем. Появление женщины словно послужило сигналом. Мужчины подтянулись, помолодели, закрутили головами. — С прекрасной половиной человечества тут негусто, — сказал Старенков, — так что... — Вижу, — кивнул Костылев. — И оркестр тут не очень. Приезжий, не из местных. Пристал к здешнему берегу подработать. Другого нет. Ансамбль писка и тряски, — Старенков улыбнулся, настороженность, сковывавшая его лицо, исчезла. Появилась еще одна женщина — высокого роста, опять же в белом, с немного подвернутым, из боязни испачкать, подолом платья, с той же розой, что и первая, будто этот матерчатый цветок был знаком какого-то ордена, в петровских сапогах-ботфортах с подрагивающими на ходу прорезиненными ушками. — Уже две дамы. Скоро будут танцы, — объявил Старенков. — Вижу, — кивнул Костылев. Ударник поднялся со своего винтового сиденьица-пятачка и, бросив взгляд в зал, проговорил тонко, дыша в микрофон: — Соловьев-Седой. «Подмосковные вечера». Оркестр заиграл, но что-то в нем не ладилось, словно у музыкантов не было начальства, способного все это рявканье, рыки, тиликанье собрать воедино. Костылев усмехнулся. — Я знал одного человека, который зарабатывал на жизнь еще более худшим способом — он держал на носу кипящий самовар. Элементарно. — Шутка вербованного человека, — сказал Старенков. — Вольного, — Костылев малость обиделся, но улыбка с его лика не сошла. — Как я тебе уже заявил, без оргнабора обошлось, без подъемных и командировочных. — Выписался хоть из своего Ново-Иерусалима? — Зачем выписываться-то? — Значит, скоро сбежишь. Костылев пожал плечами. — Кто знает, — ответил он неопределенно и, обхватив рукою стул, оглядел танцевальную площадку. Вон высокий, седой, с лунным сиянием, обволокшим голову, бородач осторожно, шажками, приблизился к одной из женщин и склонил перед нею голову — откинутые назад, за спину, ладони были потными, пальцы заметно приплясывали: а вдруг женщина откажет ему на виду у всего зала? Женщина посмотрела на него любопытным взглядом, в глазах зажглись, затрепетали плоские свечечки. Потом свечечки потухли, и она тихо, но решительно произнесла: «Нет». Бородач, еще не веря, встряхнул головой, словно глаза ему забило пылью, сжал пальцы в кулаки, незряче помахал ими перед собою, потом бочком отошел к пустому стулу, стоявшему за столом женщины, коротко склонил голову, пробормотал: «Благодарю вас» — и, подцепив стул «под микитки», вышел в центр танцевальной площадки. Жарким протестующим костром вспыхнули его уши, когда он встал в исходную позицию, откинул далеко от себя ногу, поклонился еще раз стулу, затем, подняв его на уровень груди, согнул голову и, меланхолично прикрыв глаза, положил подбородок на спинку. Сделал четыре быстрых шага вперед, потом столько же назад, потом, с треском задевая сапожными раструбами друг о друга, совершил резкий поворот, сделал четыре шага в сторону. — Танго тридцатых годов, — хмыкнул Старенков. — Ишь ты, выкаблучивает. Артист Большого театра, — поковырял ногтем сохлое пятно на скатерти, поднял лицо. В глазах его промелькнула недобрая длинная тень. — Семидесятилетний романтик. — Неужто ему семьдесят? — За сорок недавно переехало. Поголубел рано волосом, потому и кажется старым. Прикатил он вот... — Старенков споткнулся, смежил губы, раздумывая, потом снизу поддел бороду рукой, — деньгу большую заколотить. Работал же не на полную катушку. Хлопцы поняли, что к чему, выперли из бригады. И никакая другая бригада к себе не взяла. Бичует, а назад не едет. Эвон, каблукастый. Распотешник! На паркетинах танцплощадки оставались грязные следы. Когда бородач повернулся к ним, Костылев разглядел, что лицо его длинно и плоско, нос вытянут утиным клювом и посредине разделен ложбинкой, похожей на колодезный водосток. Музыка кончилась. Бородач сделал последнее па, завершил его немыслимым кульбитом, взвился вверх, по-козлиному взбрыкнул ногами и тяжело приземлился. Потом поставил стул, согнул шею в поклоне, похлопал ладонью по сиденью: — Благодарю вас! Вы очень мило танцевали. Повернулся и исчез во мраке зала. — Лучше нету дыма, чем от сигареты марки «Прима». Исчез как дым, — проговорил Старенков. — Под откос парень пошел. А если свяжется с какой-нибудь, не приведи господь, компанией, то пиши пропало. Погляди-ка направо. Костылевповернулся. Около кадки с фикусом стояла девушка в серой летной форме. Все в ней было в порядке: пиджачок, юбка, чулочки, туфельки, прическа, фигурка, — зал будто поперхнулся, увидев эту непринужденную праздную молодость, мужики перестали гомонить, и оркестр притих, перестраиваясь. — Ей здесь не очень, — сказал Старенков. — Обидеть никто, кроме того голубого дурака, не обидит, но чувствует она себя здесь неуютно. Пойти пригласить за наш стол? Неудобно как-то. Эх, яблочко на голубом блюдечке! — Главное, как говорил мой школьный учитель, не пошлить. — Т-точно. Мне отец, он тоже был учителем и тоже насчет этого подобное высказыванье имел: «Не опошляй идею». — Старенков усмехнулся грустно. — Видела б моя жена, она надавала б мне. Дым бы коромыслом пошел. В притеми глаз девушки они вдруг разом увидели себя — всего какую-то долю секунды из зрачков на них смотрели два маленьких неприкаянных человечка. Как из дворцового оконца. Потом оконце захлопнулось. Недаром говорят, что людей окружают магнитные поля, существуют биотоки... Что-то изменилось в ресторане, в прогорклой дымной его атмосфере с вяжущим запахом подгоревшего сала и крутого спиртного духа. Девушка в летной форме направилась к их столу, осторожно и твердо ступая между комьями грязи, оставленными голубоволосым, придерживая на ходу юбку кончиками пальцев. Крылась в ее походке какая-то беспомощность, обиженность. — У вас свободно? — спросила она тихим усталым голосом. Костылев смущенно потер под столом ботинком о ботинок, счищая грязь. Старенков клюнул носом неверяще, запустил пальцы в бороду. Голос его, дотоле звучавший громко и легко, вдруг враз озяб. Костылев заметил, что бригадир оробел, подрастерял смелость перед женским полом, даже в объеме как-то уменьшился. Это придало Костылеву немного бодрости, он выпрямился за столом, спросил о чем-то одними губами. Старенков незряче посмотрел на него, ничего не понял. А что тут понимать — просто Костылев изгонял из себя остатки слабости. — Пожалуйста. Свободно. Девушка села, потянула к себе скатерть за бахрому, сплела из тонких и плоских, как лапша, концов короткую косицу, располовинила ее острым ногтем. — Вы в канадском домике поселились, — сказала она. — Я видела, как вы паспорта администраторше сдавали. — Да, — пробормотал Старенков. — В канадском домике. Оркестр снова ожил, ударник подтащил к себе микрофон за тощее тело стойки. — Композитор... Костылев подумал, что Старенков сейчас сострит, но тот сидел молчаливый, в непонятной задумчивости, с неожиданной мальчишеской улыбкой, которую не могла скрыть борода. Девушка подняла глаза, и опять в притеми глаз распахнулось оконце, в оконце сидели на пару Старенков с Костылевым — махонькие, в наперсток оба вместятся и еще место для двоих останется. Почувствовав сзади вялые шаги, Костылев обернулся — к их столу заплетающейся походкой подходил, сияя сединой, бородач; нос у него бурел, как георгин. — Разрешите приветствовать вас! — седой вздернул брови и отер лицо ладонью. По медлительности жестов это походило на некий ритуал. Протянул пальцы к девушке. Кожа на руке у него была дряблой, с белыми выжженными пятнами пигментации, с крупными, мерцающими по́том порами. — Я не танцую. — Благодарю вас! — нисколько не удивился бородач, поглядел на Костылева холодным взглядом совершенно трезвого человека, пробурчал что-то. Увидел нетанцующую даму, сидящую за одним столом с худеньким одышливым пареньком, направился к ней. — П-позвольте! — сквозь говор, шарканье, чоканье рюмок и звук трубы вновь услышал Костылев его голос. Дама оказалась совсем еще школьницей, круглощекой, с испуганными глазами, слезно влажными от густого дыма; она закрутила головой, хлопая себя по лицу косичками. Паренек покраснел, щеки у него сделались будто малиной натертые. — Благодарю вас, — привычно выдавил бородач, — всежки со стулом, но сцанцую. — Последнее слово он не выговорил, получилось «сцанцую». — Сцанцуй, сцанцуй. Приключений паренек ищет, — раздался хмурый, чуть настороже, голос за соседним столом. — Найдет. — Смешной человек, — сказала девушка. — Наверное, когда трезв, он добрым бывает. — Да? — Старенков вдруг резко откинулся на спинку стула. — Посмотрите на его лицо. Нарочно не придумаешь. Человек с таким лицом не может быть добрым. Кто-то из великих сказал однажды, что у подлеца не может быть лика поэта. — Возможно. Костылеву вдруг показалось, что тело его перестало хранить тепло, лопаткам, спине, плечам стало зябко, он поежился, удивляясь на минуту, как же это он очутился здесь, в этом диковинном, далеком от подмосковной сини ресторане, в холоде этом — вон на улице уже белые мухи порхают... Так как же? Он вспомнил прошлое, в том числе и самое недалекое, рукой дотянуться можно, вспомнил универмаговскую продавщицу Клавку Озолину, ее независимый хохот и слова, сказанные ею в собственный адрес: «Первый парень на деревне — это я». Она действительно была парнем в юбке, красивой и бесшабашной, как муромский разбойник, этакой амазонкой, женщиной-воительницей, о которых Костылев читал в школьные годы в книжке и с тех пор запомнил. Как-то, когда ему надоело болтаться, шастать тридцатилетним бобылем среди своих женатых и уже успевших обзавестись потомством сверстников, они предложил Клавке: «Выходи за меня замуж». Та посмотрела на него в упор, по-новому, будто увидела впервые, пыхнула сигаретной сизостью, рассмеялась: «За тебя? А сколько ты получаешь, адский водитель?» «Адским водителем» новоиерусалимцы прозвали шофера Костылева за лихость. «Сто пятьдесят плюс прогрессивка. Почти что двести». — «Вот накопи тысяч пять, покажи мне сберкнижку, тогда я подумаю о твоем предложении всерьез. — Клавка рассмеялась звонко, обдала Костылева жаром. Знала, зараза, что красивая была. — Только не состарься, женишок. Песок за тобой подгребать — не самое лучшее занятие». Костылев передернул плечами, освобождаясь от зябкости, и Клавкино точеное лицо, так ясно вставшее перед ним, вдруг угасло, исчезло. — Вы летаете? — услышал он голос Старенкова. — Да. Стюардессой. На линии. — Сюда как же? Семь тысяч метров под крылом? — Семь тысяч... — Что будете есть? — Что-нибудь горячее. Бифштекс. Незнакомку звали Людмилой. Людмилой Бородиной. Когда Костылев пригласил ее на танец, то видел с одной стороны свинцовый взгляд бородача, с другой — неподвижное лицо Старенкова, видел другие лица, еще лица, и глаза, глаза, глаза, устремленные к ним. Надо отдать должное: Людмила пользовалась успехом. — Людмила... Это как? Люда иль Мила? Как сокращенно? — Можно и так и этак. Они еще час просидели в ресторане, наблюдая, как куролесили поселковые. Не хотелось покидать уютное тепло, суматошную привлекательную круговерть. Даже ударник, этот нелепый парень, нацепивший под конец на нос проволочные «добролюбовские» очки, и тот стал им симпатичен. Поселок встретил холодом, ветром и ночной мглой. Редкие лампочки светили тускло, мигали. Ноги утопали в жирной грязи по щиколотку. Перед глазами, еще не привыкшими к темноте, плавали оранжевые кольца. — Как же вы в туфельках? Тут по пояс. Может... Может, помочь? — Старенков нерешительно согнул руки, потетешкал. — Нет уж, спасибо. Против грязи у меня есть средство. Старенков увидел, что поверх изящных, с блесткими пуговками туфелек Людмила натянула целлофановые носки. Типа сапожков. Хитрая штука. И когда она только успела? Вроде бы вместе одевались, он ей пальто подавал, тут же, не мешкая, вышли на улицу, ан глядь — она уже в новой обувке. Диковинно. Старенков огладил воздух перед собой ладонью, будто по боковине дома провел, улыбнулся широко. Налетел резкий, холодно-колючий ветер, Старенков наклонился, лег всем туловищем на ветер, заметелил руками, удерживаясь. — Вы на работу сюда или в командировку? — прокричала Людмила, но ветер отнес ее голос в сторону, до Костылева долетел только обрывок: «...овку?» Старенков же расслышал, ответил: — На работу. Тут трассу тянут. — Читала в газетах. — Ну и ночь! Холод! Только радикулит зарабатывать, — Костылев повернулся спиной к ветру. — Обычная погода. Иногда месяцами так бывает, — ответил Старенков. — Вы здесь родились? — спросил он у Людмилы. — Нет. Я в Харькове родилась. Живу в Тюмени. А здесь часто бываю. — Не оступитесь. Канава, — предупредил Старенков. Костылев поотстал, он плелся следом, изредка отрывая глаза от серой, плывущей под ногами земли, и, оглядывая идущих впереди, задерживал взгляд на женской фигуре. Брел дальше, спотыкаясь, увязая в глубоких торфяных вымоинах, чувствуя усталость. Слишком много впечатлений для одного дня. А Старенков-то, Старенков... Работает вовсю, состязаться с ним — дело дохлое. Вдруг кто-то сильной рукой ухватил его за плечо, повернул к себе, дохнул в лицо кислым — смесью вина и табака. — Постой, парень! На широкой бетонной площадке, в которую были впаяны железные воротца канадского домика, их, оказывается, поджидали. Четверо. — Эти? — спросил низенький, коренастый, поперек себя шире человек. Долговязый, стоявший рядом с ним, качнулся. Костылев по голубизне волос узнал в нем ресторанного бородача. — Они. — Вот так-то, голубчики, — сказал коренастый жутковатым, ни единой краски, голосом. — Ваша королева отказала вон ему, — он равнодушно цыкнул в сторону бородача, а у нас это так не проходит. Он на нее глаз положил, а вы поперек встали. Нелады. Костылев услышал, как громко усмехнулся Старенков, а затем, без паузы, глухой удар. Тот, что поперек себя шире, охнул, складываясь пополам, а Старенков, оттянув назад ногу, ударил его коленом в подбородок. Коренастый вяло всплеснул руками, перелетел через воротца, зацепился за ребровину верхней перекладины задниками ботинок. Старенков метнулся к воротцам, ухватился руками за оголившиеся лодыжки, приподнял. Коренастый не издал ни звука. — Не надо! — взрезал темноту женский крик. — Вы убьете его. — Надо будет — убью! — жестко отозвался Старенков. — Блатная падаль. Кулаками живет. Он перетащил коренастого через воротца, опустил на снег. Тот сложился кулем. Старенков повернулся к трем оставшимся: — Кто еще? Те даже не пошевельнулись. — Бон мин а мове же![1] Адье, джентльмены, — сказал Старенков. — Изучайте французский. Если хотите, можем встретиться еще. Он вынул железный торчок из засова калитки, открыл, пропустил Людмилу, потом Костылева, прошел сам и аккуратно втиснул торчок обратно. — Извините за компанию, — произнес он у крыльца нелепую, смешную именно своей нелепицей фразу. Костылев перегнулся через морозно заскрипевшие перила, подставил под ветер лицо, тот скользнул по щекам, лбу, подбородку, остудил их, щекотно дунул в нос. — Заходите завтра в гости. Номер тридцатый, этаж второй, — пригласил Старенков Людмилу. — Вы не убили его? — Нет. Парень тяжелый, как сейф, он от собственного веса больше пострадал. Минут через десять оклемается. Но когда очнется, ему невесело будет. Сам виноват — чего хотел, того добился. — Завтра я не могу к вам в гости. Улетаю. — Рейс? Жаль. На следующий день они проснулись поздно. Под дверями лежал квадратик бумаги, вырванный из ученической тетради «для арифметики». Клетка была яркой, зеленушного цвета и по размерам чуть мельче обычной, бумага же — лощеной, с хрустом. — Видать, не наша, — Старенков пошуршал бумагой. — Закордонная. За границей девушка бывала. Костылеву неожиданно стало неловко, он даже не понял, почему у него погорячели щеки. Подумалось — как бы не заметили. Отвернулся к стенке, провел пальцем по колюче-шерстистому ковру. — «Извините, забыла отдать деньги за бифштекс и кофе», — прочитал Старенков. Хмыкнул. — Трешка! М-да. Деньги — это по твоей части. Костылев поморщился. Старенков бросил трешку и записку на стол, подошел к окну и в почти беззвучном прыжке легким движением распахнул форточку. За окном шел снег, сухой, мелкий, злой. Старенков поймал его в руку, растер. — Перхоть, а не снег. Ну а насчет работы... Значит, так! Ко мне пойдешь! В бригаду.
4
Народ на строительстве нефтепровода был нужен позарез, поэтому всего двадцать минут понадобилось Костылеву, чтобы пройти все кадровые формальности. Кадровик, дородная, молчаливая, с пухлым лицом, с огромными, нараспашку, глазами и комсомольским значком на кофте, задала ему несколько незначительных вопросов, потом мягко гнущимися пальцами-колбасками выписала направление на рыхлой, похожей на селедочную обертку бумаге и кивком дала понять, что аудиенция окончена. Костылев взял в руки бумагу с растекшимися чернилами, подумал, что этот оберточный клочок обязательно должен пахнуть рыбой, едва сдержался, чтобы не понюхать его. Он печально и всепонимающе улыбнулся, толкнул коленом легкую фанерную дверцу. — Дюймовочка в настроении? — над ним навис двухметровый Илья Муромец, в телогрейке и ватных брюках, заправленных в высокие толстокожие ботинки. — Какая дюймовочка? — чуть растерянно спросил Костылев. — Ну Люда, начкадр. У Костылева перед глазами мелькнули пальчики-колбаски, подумалось, что все-таки смешно называть представительную даму по-домашнему Людой, к ней, как к скульптуре, на «вы» надо обращаться. Поди ж ты — тоже Люда. Как и стюардесса. — В настроении. Илья Муромец достал из кармана телогрейки большую, с обмороженными до черноты, облохмаченными краями астру и, дохнув на нее клубом пара, тихонько приотворил дверцу. Обернувшись, Костылев увидел в зазоре двери, что начкадр даже головы не подняла. Сравнил ее в мыслях с Людмилой Бородиной. С Клавкой Озолиной. Нет, в сравнение не идет. Это все равно что поставить рядом балерину и Клавкиного начальника, мясистого человека-гору дядю Гришу. Клавка — статная и стройная, а дядя Гриша... у него плечи в облаках плавают, сплошная бесформенность. Костылев вспомнил Клавкино замечание насчет денег, в горле сразу сделалось сухо. — Вот те бабушка и серенький козлик, — произнес он негромко, уловил в собственном голосе сострадание, потом подумал, что надо бы спросить у Дюймовочки, сколько платить будут, но поворачивать, мешать парню не решился. — Взял направление? Хрумкая снегом, к нему приблизился Старенков. Борода ярко чернела на старенковском лице. — Взял. Вот досада только — не спросил... — Костылев запнулся, сглотнул комок. — Чего не спросил? — Да как добираться. — До пикета-то? Со мной вместе. Вертолетом. Пошли на площадку — летуны вот-вот тарантас подадут. Метеорологи с самого утра грозятся летной погодой. Костылев вдруг остро позавидовал Старенкову, его легкости, веселости, умению в пять минут сблизиться с человеком, ему показалось, что такой человек, как правило, не горюет о потерях и во всю ширь радуется победам. У Костылева этого не было — чем не наградил бог, тем не наградил, он подумал о собственной внутренней неуклюжести, о приступах меланхолии, нападающих внезапно, исподтишка, и у него потяжелело на душе. Летная площадка находилась на окраине города, у двух обелесевших от времени изб, густо обсаженных рябиновыми деревьями. «Рябиновые гроздья-то какие красные! Что твои выстрелы, — подумал Костылев. — Ей-ей, выстрелы. Красным хлещут, как огнем из винтовочного ствола. Другого слова не подберешь. Ага». Под навесом, устроенным рядом с вертолетом, сидя на рюкзаках, курили люди. — Здравия желаю! — по-армейски рявкнул низенький, щуплый парень в солдатском ватнике, шедший следом за Костылевым, подмигнул шальным глазом. И откуда только взялся богатырский голос в таком щуплом теле. — Из СУ‑4? — спросил парень. — Так точно, ваше благородие, — с придушенным хохотком отозвался кто-то. — Квитанция у меня в СУ‑4 адресована. Чернильными чернилами по бумажной бумаге, — парень помахал клочком. — Что такие смурные, джентльмены? С похмелья? Иль надежду на светлое будущее похоронили? — Небо закрыто. Вот ведь как: метеорологи пообещали погоду, но уже двенадцать дня, а погоды нет и нет — откуда-то из небесных прорех, не переставая, сыплет похожая на манку снежная крупа, с тихим вкрадчивым шорохом ложится на землю, обжигая лица, руки, забивая ноздри, мешая дышать. Старенков вмиг перезнакомил Костылева со всеми, и Костылев лишний раз удивился тому, какой же все-таки легкий человек его нынешний начальник. И жизнь его, наверное, была довольно легкой. Не знал Костылев, что за жизнь была у Старенкова, не знал.
После окончания техникума Старенков работал мастером. Но не по специальности — сварочной, а начальником НПС — нефтеперекачивающей станции. Тут и зарплата посолиднее, и должность выше — инженерная, все время на виду, в сводках фигурирует. Случилась у Старенкова на нефтепроводе беда — на сто двадцатом километре лопнул тройник. Как потом оказалось, был заводской брак, шов не выдержал — пятидесятипроцентный непровар. Старенков как раз собирался в тот день уезжать в Пицунду — ему подписали заявление об отпуске, и он уже грезил южным солнцем, теплым морем, горячим пляжем и шашлычною под пальмою, когда прибежала лаборантка, сообщила, что на манометрах упало давление. «Неужели нефтепровод пробило?» — мелькнуло в голове. Старенков выскочил во двор, прыгнул в кабину ГТТ — гусеничного тягача-вездехода, растолкал водителя — красного с похмелья, бурчливого, заставил завести мотор, помчался вдоль нитки по пробитой в лесу просеке. Время от времени он просил водителя остановиться, высовывался, ловил ноздрями запах нефтяного газа. Газ гулял над тайгой, воздух им пропитался мгновенно, пахнул остро, щекотно. В полукилометре от пробоя они увидели в траве, в лесных выбоинах, черные блестящие лужицы. Это текла нефть. Вездеход на полном ходу врезался в одну, стекло враз заляпало черным мазутом. Вдруг, перегнувшись через ребровину полудверцы, Старенков увидел, что из-под гусениц выплескиваются короткие плоские хвосты пламени — от искры, вылетевшей из выхлопной трубы, нефть загорелась. — Назад! — прокричал он водителю. А тот, дурак, взглянул на Старенкова прозрачно-безумными глазами и на ходу выпрыгнул из вездехода. Угодил прямо в огонь. Опалился. Несильно, но ожоги были, три недели в бинтах проходил. И хоть водитель сам был виноват, специальная комиссия по технике безопасности, разбиравшая этот случай, вынесла решение об освобождении Старенкова от занимаемой должности. Так он вернулся в «лоно своей профессии», стал бригадирить. Когда его расспрашивали о прошлом, он, понятное дело, либо отмалчивался, либо старался ответить короткими, незначительными фразами. Вот что случилось однажды в жизни Старенкова.
После двенадцати дня пришли вертолетчики — молодые, улыбчивые ребята, в одинаковых кожаных куртках. Улыбаясь, звонкими голосами поругали небесную канцелярию, гуськом обошли свой бокастый вертолет, чернее черного от пороха выхлопов, по очереди дружно, но довольно небрежно попинали унтами скаты, потом направились в свой персональный балок — уютный, склепанный из металла, смахивающий на железнодорожный вагон домик, поставленный на санные полозья. — Братцы штурманы, когда летим? — прокричал Старенков. — Погода когда? — Запрос в небеса сделали. Да вот с ответом задержка! — В «фиму» небось идете резаться? — В нее. — Что это за штуковина «фима»? — Костылев придвинулся к Старенкову, тронул его за плечо, упругое и круглое, будто из резины литое. — Есть такая азартная картежная игра, я ей еще в техникуме обучился. За полчаса можно не только зарплату продуть, но и штаны с пиджаком, и дом со всем имуществом, и даже собственную жену. Хотя вертолетчики, они странный народ — играют в эту игру без всякого материального интереса. В лучшем случае на щелчки по носу либо по ушам, на конфеты или спички. Так что азарта тут ноль целых ноль десятых. Костылев оглянулся на жесткий, стекольный визг снега — так снег мог давить только тяжелотелый человек: под навес, согнув голову настолько, что она уперлась подбородком в грудь, входил гигант — тот, что с робким видом доставал цветок из кармана у клетушки отдела кадров. — Как, Уно, твоя Дюймовочка? — На пушечный выстрел подпускает, а дальше — нет. Костылев понял только сейчас, чему он поразился при первой встрече с Уно — не двухметровому баскетбольному росту, не тому, что тот, как волшебник, в мороз умудряется добывать нежные южные цветы, — акценту поразился. Не так уж приметному, но придающему голосу какое-то неподдельное добродушие, успокоенность. Под широким навесом стало тесно. — Не принимает она тебя всерьез, Уно. — Намерения у меня самые серьезные, — грустно сказал Уно, тряхнул плечами, сбивая с них морось. Лицо его, широкое, крупно очерченное, с коротким носом, твердыми щеками и длинным, до розовины выбритым подбородком, было жестким и одновременно беспомощным. — Уно, познакомься, — Старенков приблизился к Илье Муромцу, сделал жест в сторону Костылева. — Мой новый подопечный. В бригаду к себе взял. В самолете вместе летели. Глядишь, толк выйдет... — А бестолочь останется, — улыбнулся Костылев, потер рукою ухо — щипало его, однако, на морозе. — Видишь, он даже юморист. Одним юмористом в полку больше стало. Уно подошел к Костылеву, внимательно, придирчиво осмотрел его. Глаза у Уно были светлыми и вязкими, медового цвета. — Познакомимся, — он протянул Костылеву руку, огромную и жесткую, пальцы будто выпиленные из дерева. — Уно Тильк. Бригадир. Вот с ним соревнуюсь, — кивнул в сторону Старенкова. — С его бригадой. — У нас бригадиров столько, что и пальцев обеих рук не хватит, чтоб пересчитать. Четыре комплексных — это сварщики объединены с шоферами плетевозов, еще шесть — изолировщики, да еще землеройщики, да укладчики, да монтажники. А Уно — бригадир особый! Он у нас, эники-беники, газовый бог! — Конопатый ушастый человек выпалил эти слова единым духом, будто кружку пива осушил. Тараторя, он одновременно шмыгал носом, и хрипатый негромкий голосок его сопровождался посвистыванием. С этим человеком Костылева еще не познакомили. — Ксенофонт Вдовин, лучший работник здешней земли и прилегающей к ней областей, — представил его Уно. — На все руки мастак. Норму на двести — двести пятьдесят выполняет. — На меньшее просто не соглашается, — добавил кто-то из-за спины Уно Тилька. Под навесом раздался дружный хохот. — Неча тут кашу по стенке размазывать, — Вдовин с силой потянул носом. — Ишь, хохотуны! Костылев понял, что этот Вдовин с патриархальным именем Ксенофонт едва вытягивает положенное, не говоря уж о перевыполнении. — Для удобства и приятности мы его КВ называем, — Уно сощурил медовые глаза, почесал нос плоским светлым ногтем. — Приятные буквицы КВ. С чем угодно сочетается. Коньяк выдержанный. Конский возбудитель. Клеймо водяное... Что на деньгах ставится. — Контий Вилат, — сказал кто-то. — Понтий Пилат, или Контий Вилат — тоже все едино, — сказал Уно. — У меня в Эстонии сосед был. На тебя, Ксенофонт, похожий. Нет у тебя в Эстонии родственников? А? Пожарником работает, по сорок восемь часов в сутки спит. Откуда-то из-за домика, рявкая мотором со снятыми глушителями, вынырнул «рафик», по самые колеса покрытый инеем. — Земляк мне этот «рафик», — кивнул Уно, — в Латвии, по соседству, машину делают. — Не люблю я этот мациклет, — неожиданно насупился Вдовин, — кувыркнуться может, как гимнаст на турнике. С подножки «рафика» спрыгнул человек. Нескладный, с длинными ногами, обутыми в кирзовые сапоги, у которых были широченные — еще две ноги войдет — голенища; бурча, человек стащил сапог, вытряхнул из него снежную манку и, вяло помотав ступней в шерстяном магазинном носке, сунул обратно. — И как ему в сапогах не холодно? — В теплом «рафике» сидеть не холодно. — Это Кретов, инженер по авиации, — сказал Уно. — Ну что, лейтенант? Будет небо или не будет? — Я тебе покажу «лейтенант», — Кретов сложил рукавицу в кулак. — Остряк-самоучка! Но Уно, видать, человек назойливый, прилипнет и не отстанет, еще кличку какую новую выдумает, — Кретов знал это и, опасаясь, буркнул неприязненно: — До двенадцати по Москве закрыто. Двенадцать по Москве — это значит четырнадцать по местному времени. Разница с Москвой составляет два часа. Выходит, мерзнуть им и мерзнуть, а там, глядишь, и вовсе не удастся улететь на трассу — в четырнадцать тридцать по Москве все вылеты прекращаются. В четырнадцать тридцать кончается светлое время. — Пора тебя, лейтенант, разжаловать. Понизить в ефрейторы, что ль? — сказал Уно, но Кретов уже не слышал его. Стоя у летного балка, он старательно скоблил подошвы сапог о чугунную решетку, брошенную на землю около лесенки. У вертолетчиков чистота была идеальной, и чистоту эту надо было поддерживать. Высоко подбрасывая ступни и выворачивая в стороны колени, будто упражнялся в езде на детском велосипеде, «инженер по авиации» поднялся по лесенке и скрылся в балке. — У тяжелого Уно рука легкая, — сказал Вдовин Костылеву. — Как кличку приклеит, так, считай, мертво. Не отлепишь. Вон и этому, Кретову. Каждый раз новое званье. Ежели есть, к примеру, погода и вертолеты есть, то Кретова уважительно и почетно зовет фельдмаршалом. Иль главнокомандующим. Это как захочется. Ежели есть небо, но вертолетов не несколько, а один, то Кретова в звании — фьють вниз. В генералы его либо в полковники. Ежели есть вертолет, но погода не благоприятствует, то у нас Кретов — лейтенант. Ежели не улыбается ни то, ни другое — ефрейтор. Вот почему Кретов неприязненным тоном разговаривал с Уно. А Тильку эта неприязнь безразлична: с Кретовым детей ему не крестить. Ожидание становилось тягостным, накладным, манка, валившая и валившая с неба, у всех уже в горле сидела. — Слушай! — Костылев толкнул локтем Вдовина, притулившегося спиной к сосновой, опоясанной гуттаперчевым слоем смолы тесине-опоре. Вдовин в ответ сонно поморгал махровыми ресницами, спекшимися от мороза. — И так каждый раз? Каждый раз в жданки играете? Вдовин стянул с головы шапку, отер лицо, череп его был похож на большой грецкий орех — ни единого волоса. — Болота затвердеют — зимник проложим, на машинах будем ездить... — Це‑це‑це‑це, — Костылев поцокал языком и, высунувшись из-под навеса, стрельнул глазом в слоистое, пригнувшееся к земле небо. — Все жданки тут прождем. Время попусту гробим. А время — деньги. — Разве что, — пробормотал Вдовин. Костылев присел на корточки. Хорошо, что еще ветра нет, был бы ветер, выдул бы последнее тепло. Сомкнул глаза и вдруг ясно, с отчужденной тоской увидел дождь. От тонких напористых струй рябило лужи, вода беззвучно вливалась в воду, взвихряя фонтанчики, и Костылеву вдруг гнетуще остро захотелось сейчас попасть под дождь. В Ново-Иерусалиме стоит бабье лето, температура под двадцать, один за другим идут теплые грибные ливни. Он закусил губу, забылся на несколько минут. Очнулся оттого, что стояла тишина. Вкрадчивый крупяной шорох, похожий на звук дождя и так обманувший его, прекратился, будто какую нить обрезали, и снежная манка рухнула всей грудой на землю. День начал очищаться, облака поползли вверх, в небесную твердь. Первым из-под навеса выбрался, конечно, Вдовин и бегал теперь кругами, давя снежную крупу. — Звук-тоть... Будто огурцы ешь. Хоть закусывай. — Похоже, улетим, — сказал Уно. Вдовин кивнул в знак согласия. У пилотного балка уже раздались шаги — это механики шли расчехлять вертолет; впереди них двигался Кретов. — Встать! — сурово и властно рявкнул Уно. — Равнение на их величество главнокомандующего! Кретов стянул рукавицу и, ухватив ее за конец, пустил в Уно. Тот увернулся от кувырком летящей рукавицы, потом ловко накрыл ее носком сапога. — Так и убить можно. А за убийство — пятнадцать лет, — сказал он. Когда Кретов подошел ближе, Уно подвинулся в сторону, освобождая рукавицу, пробормотал дурашливо-вежливо: — Простите меня, пожалуйста... — Кругом расхохотались. — Есть такая интеллигентная форма обращения. Простите меня, пожалуйста, извините меня, пожалуйста, но кто-то из нас двоих украл у меня часы. А? Учитесь вежливости, дорогой Кретов, пока я жив. Не то умру, и никто вас не обучит таким тонкостям. Кретов поднял с земли рукавицу, хлопнул ею о колено. — Через двадцать минут вылет. Всего четыре слова произнес и двинулся к длинному ребристому предмету, накрытому несколькими большими кусками брезента. Чтобы обрез брезента не поднимался, не хлопал о землю, края его были прижаты кирпичами — заботливо был укутан новенький, еще пахнущий заводом сварочный автомат. Два «Ми‑десятых» должны были давно уже закинуть его на трассу, но вот погода... Кретов подошел к автомату, резким движением вырвал угол брезента из-под кирпича и нагнулся — вся поза его, сгорбившаяся спина и узенький костистый зад, с которого почти что слезли штаны и обнажилась голубая полоска кальсон, более чем красноречиво выражала предельную степень занятости. Кретов всем своим видом сообщал ожидавшим чистого неба трассовикам, что собственную задачу выполнил, небо открыл; вертолет готов к путешествию — заправлен и опробован, а теперь ему не до них — вон какой тяжелый и мудрый механизм надо закинуть в тайгу... Хлопнула дверь пилотского балка, и из распаренного нутра его гуськом вышли вертолетчики, натягивая перчатки. Костылев поднялся, освобождаясь от дремотного забытья, от стянувшей тело холодной грузноты. — Никогда не спи в мороз‚— предупредил его Старенков. — В свой Ново-Иерусалим потянуло? А? — Был момент. — Отвыкай. Закашлял двигатель, лопасти взметнулись вверх, будто подброшенные ветром, в лицо Костылева брызнуло песком, жгучим, холодным, стеклянные кристаллики заскрипели на зубах. Костылев разжевал их, сплюнул. Вертолетный винт все бил и бил в него песком и снегом, будто не хотел пускать.
5
Первый раз полет показался Людмиле таким долгим, потом настал момент, которого она ожидала с неким глухим страхом: колеса их маленького полупустого самолета коснулись, высекая брызги искр, посадочной бетонки, вязко заревели двигатели, заставляя небо осесть на землю. Приземлились. Тюмень. В Тюмени она и живет: здесь квартира, семья, муж, пустой холодильник, нестираное белье, заботы, заботы, заботы... Следующий вылет был через шесть часов. — Поедешь в город? — спросил ее диспетчер. — Или в профилакторий направление дать? — В город. — Такси вызвать? — Нет, возьму на стоянке. — На вылет не опаздывай! Она прошла по коридору, ощущая непонятную неловкость, сковавшую ноги, посмотрела на туфли, словно причина крылась в них, усмехнулась. Во рту было сухо. Точно так же сушило рот, когда она в детстве болела корью. В ночь перед кризисом она лежала с закрытыми глазами, серыми щеками и все время спрашивала у своей матери Елизаветы Петровны: — Мама, а почему в доме кто-то в бом бьет? Бом-бом! От этих вопросов у Елизаветы Петровны, не переставая, катились слезы. Она вспомнила какой-то детский рассказ, где маленький мальчик тоже задавал вопрос насчет колокольного боя, раздававшегося в опустелом доме. — Это специальное било. Специальный человек нанят, чтобы мы слышали звон... — А на каком этаже он бьет? — прорываясь сквозь больное забытье, перебивала Людка. — Каждый раз на разном. — На нашем тоже бьет? — И на нашем. На самом деле дом был погружен в сон, стояла такая тишина, что был слышен ток крови в висках. От этого далекого детского воспоминания во рту стало еще суше. Людмила не понимала, что с ней происходит. Она попробовала найти причину, но ничего на ум не приходило. Тогда она решила, что все это от усталости. Домой идти не хотелось, с мужем она в ссоре. И кажется, на этот раз надолго. Кто-то из великих сказал, что если жена, проснувшись однажды утром, замечает прыщеватые худосочные ноги мужа и несвежую рубашку на его теле, а муж в свою очередь — вялые, вислые груди жены и нездоровый цвет лица, то это конец! Это разрыв! В ее отношениях с мужем не было, правда, ни «прыщеватых худосочных ног», ни, слава богу, «вялых, вислых грудей». И все-таки она перестала понимать мужа. А однажды имел место даже всплеск ненависти. По пустяковому поводу. Приступ был минутным, а неприятный полынный осадок остался и довольно долго напоминал о себе. Людмила села в такси. Шофер, молодой, белобрысый, сдвинул форменную фуражку с раздавленным козырьком на бровь, оголив стриженый шишкастый затылок. Рванул с места, лишь потом спросил, обернувшись: — Куда прикажете? По сладкой, спокойной интонации она поняла, что шофер из говорунов. А Людмиле меньше всего хотелось в эти минуты разговаривать с кем бы то ни было. Сейчас потянет этого рубаху-парня в россказни, понесет он всякую муть... Шофер гнал машину по пустынному до дальней просини шоссе со скоростью сто, повернув голову и не глядя на дорогу; в глазах наглинка — видно, нравилась ему пассажирка с летными птичками на рукавах пальто. — Пардон, мадам! Задумались! Куда прикажете? Надеюсь, в город? — К «Золотому ключику». — Бу сде... — ответил шофер. Раскрыл рот, чтобы заговорить снова, но вдруг почувствовал что-то не то, запал его враз иссяк, тогда он предпринял тактический ход. И вот уже третий километр мчался, не смотря в ветровое стекло, — он глядел только на Людмилу, гибко выгнув шею с пухлыми мягкими венами, ожидая, что она попросит его обратить внимание на дорогу, а то ведь неровен час и в кювете можно очутиться, или попросит о чем-нибудь еще, в этаком же духе. Но Людмила равнодушно отвернулась, следя за косо ускользающими, будто в полете, березками на обочине, в которые буруном врезалось мелкое дорожное крошево, отбрасываемое скатами, и шофер отказался от своей затеи. «Золотой ключик» — серый, чуть мрачноватый дом, прозванный так за конфетный магазин, занимающий весь первый этаж. В «Золотом ключике» Людмила и жила. Дома было холодно — форточки открыты на кухне и в комнате, сквозняк разгуливал по всей квартире. Муж, вытянув длинные ноги в стоптанных тапках, лежал на диване, курил дешевую сигаретку — он любил крепкий табак, а крепкими были только сигареты «Памир», которые многие друзья Бородиных в шутку называли не иначе как «Помер». Действительно, от терпкого крутого дыма этих сигарет помереть можно было. — Как ты тут, Игорь? — спросила Людмила тихо, зная, что мужа надо обязательно о чем-нибудь спросить — о чем угодно, лишь бы спросить, иначе он незамедлительно начнет грубить, насмехаться. — Как в сказке, — медленно проговорил тот, провел рукой по недлинным жестким волосам, затрещавшим под ладонью. — Чем дальше, тем страшней. Она обвела глазами комнату. Кругом разбросаны книжки; пепельница, стоявшая на полу подле дивана, набита окурками, серая табачная зола рассыпана, гнездится кучками на выщербленных, пропитанных воском паркетинах. В каретку пишущей машинки заложена чистая страница. Людмила, не снимая пальто, села в кресло, поставленное в самом уютном углу, который гости прозвали красным — по таким углам в старину развешивали иконы, — посмотрела на мужа. Тот ответил ей насмешливым, вполуприщур, взглядом, глубоко затянулся сигаретой, выпустил клубок густого дыма. — Вот... На север слетала, — сказала она. Игорь не ответил. Под смуглотой несильного загара лицо ее истончилось, кожа побледнела, обтянула скулы. — Когда же это началось, когда? — спросила она себя чуть слышно. — Господи, сколько времени прошло. Сколько времени! Давно это было. Давно началось... Вместе с Игорем она училась в Харькове, в одной школе, за одной партой сидели, были неразлучными, и злоязыкие школяры дразнили их «тили-тили тесто, жених и невеста...». И в этом была доля истины. Потом Игорь поступил в университет, на филологическое отделение, она, не желая отставать, — следом. Хотя, честно говоря, не очень-то любила литературу и все, что с ней связано. — Людмила была человеком скорее технического склада. Но, как говорят, куда иголка, туда и нитка... После окончания университета они, счастливые молодожены, получили назначение в Тюмень, в газету. Она — в отдел писем, он — специальным корреспондентом в секретариат, где стал, что называется, штатным командированным. Много писал, его материалы хвалили, часто вывешивали на доску лучших. А потом... Потом жизнь сделала зигзаг. Ведь что греха таить — каждый журналист мнит себя немного писателем. Хорошо, если человек относится к этому с иронией... А если на полном серьезе? У Игоря же было так. Он написал небольшую повесть о своей командировке в тайгу, была эта повесть нова, ее «населяли» свежие люди, были свежие краски, была сокрыта сама жизнь, ее биение, бег, звуки, запах, — и повесть напечатали. Но говорят, писатель — тот, который выдает на-гора не первое произведение, а второе. Второй повести Игорь выдать не смог — не получалось со второй повестью, хоть раскатайся в блин, как говорили у них в газете. А ведь успех-то был, ведь держал же Игорь птицу-удачу в руке, держал. Неужели и дальше удержать не удастся? Игорь в это не верил, он начал сочинять так называемые бытовые повести, посвященные семейным дрязгам, скандалам («Жизнь сложна, — говорил он, — в ней меньше праздников, больше будней. А что такое будни? Работа и быт. Так вот писатель, он все равно что зеркало — он должен отражать эти будни. Быт должен отражать.»). Повести эти состояли сплошь из диалогов, были одинаково грустны и полны многоточий, и них нигде не печатали. Вначале над увлечением Игоря в редакции по-доброму посмеивались — ведь каждый способный человек должен свою «чудинку» иметь, но, когда он перестал выдавать журналистскую продукцию, призадумались: как же быть дальше? Дали как-то задание — ответственное, в номер, — завалил. И хорошо бы, если б признал «прокол», так нет, заявил: писать статейки — удел рядовых газетных лошадок, он же предпочитает писать повести. Хотите — печатайте! В общем, Игорю пришлось уйти из газеты. Занялся литературным делом, но дальше собственного стола его сочинительство не двигалось: и журналы и издательства отказывались публиковать его повести. Игорь их переплетал и клал на собственную книжную полку. Иногда ему хотелось плюнуть на всю эту литературу, на бесплодность собственных занятий, но что-то жестокое, твердое, властное осаживало его, он на минуту цепенел, потом приходил в себя, гасил порыв, садился писать очередную повесть. И опять издательства отвергали ее, вот ведь как. Хоть плачь. Он чувствовал: где-то глубоко внутри, будто болезнь какая, начали копиться в нем недоброта, зависть, ощущение обойденности, несправедливости, наказанности зазря, начали копиться мрачные мысли, злость, и он мучился от всего этого. И вместе с тем раздражался, говорил, что в издательствах засели толстокожие бегемоты, нелюди — такие утопающему и соломины не протянут, и не понимают они Игоря — нет, не понимают. А жаль, очень жаль. Придет ведь время — локти грызть будут: новое имя проморгали, упустили... А жизнь шла дальше. Нужно было во что-то одеваться, кормить сына, кормить мужа, в конце концов... Не бросать же его. В отделе писем зарплата не бог весть какая, семью на нее не продержишь, поэтому Людмила перешла работать в Аэрофлот. Тут к зарплате много всяких надбавок начисляется: и северные, и командировочные, и за километраж, и за полеты в ночных условиях — в общем, получается ничего, жить можно. Она верила в Игоря — как товарищ, как жена, как мать его сына, считала уход из газеты не напрасным, делала все, чтобы поддержать мужа, дать возможность развиться ему, создавала, как говорили ее подруги, тепличные условия. Но... Вот в этом-то «но» и кроется загвоздка. Игорь все дальше и дальше уходил от Людмилы и от жизни, от сегодняшнего дня, питался в основном выдуманными ситуациями, сюжетами, почерпнутыми из пальца или из чужих книг, начал терять чувство меры, увлекся красивостями в письме... Когда же Людмила пробовала говорить ему об этом, доказывать, что взгляд на написанное «со стороны» куда вернее и точнее «взгляда из себя» и поэтому он должен прислушаться к ее замечаниям, Игорь приходил в раздражение. Если же она начинала рассказывать о полетах, о том новом, что ей удалось увидеть, подметить, он вздрагивал, отводил глаза в сторону: — Зачем мне все это? Мне это неинтересно. И она, обиженная, умолкала. Разрывы случались все чаще и чаще... Людмила спрашивала себя: «Можно ли так жить дальше?» — давала ответ: «Нет», но тут же чтото мучительное, сосущее, острое, словно свежая боль, окорачивало ее, заставляло сомневаться, и она решала: надо подождать. Может, все еще вернется на «круги своя», может, Игорь напечатает повесть. Ведь писатель обязательно должен печататься. Она жалела Игоря. Хотя и знала, что жалость унижает человека. Она понимала, почему все это происходит, откуда ее сомнения, хорошо понимала... Она еще продолжала любить Игоря, не нынешнего, грубого и, странное дело, обленившегося оттого, что он загнан в угол, потерявшего мужскую волю, способность ориентироваться, а того, сохранившегося с детской поры, трогательного в своей нежности, преданного. Продолжала любить воспоминание. — Где Андрюшка? — спросила она по-прежнему тихо. Игорь погасил сигарету о боковину пепельницы, выдохнул дым. — В детском саду. Посмотрел на потолок, собрал у глаз плетенку морщин, пристально вгляделся в какую-то известковую неровность, потом переместил взгляд на жену. Глаза у него были тяжелыми, крылся в них дождевой блеск, что-то такое, что больно бьет. У нее даже сухая кислина во рту появилась, она хотела сказать Игорю резкость, но сдержалась. Повернулась к книжным полкам, где стояли папки с надписями на корешках. Все написанное мужем. Уже три года, как он нигде не работает, живет только на то, что она приносит в дом, на ее деньги. А все хорошее, что было, медленно удаляется в прошлое, покрывается дымкой забвения, сын Андрюшка растет, уже, можно сказать, большим стал и, вот какое дело, не видит ни отца, ни матери. Матери он не видит понятно почему — полеты, полеты, полеты. Игорю же ребенок постепенно начал становиться посторонним. Вот тут Людмила знала твердо одно: пока Игоря будет связывать с сыном незримая нить, психологическая сцепка, она не уйдет от него, но как только эта нить порвется, она будет вынуждена уйти от мужа. Без всяких сомнений. Хотя, впрочем, все не так примитивно, не так просто, как кажется на первый взгляд, — тут имеет место высшая математика с множеством мудреных формул. И куда все уплыло, куда делась весна с ее зелеными полянами и пением птиц? Молча прошла на кухню, постояла, прислушиваясь к вкрадчивому шороху снега за окном; достала из холодильника кусок докторской колбасы, отрезала кружок. Посмотрела в стекло на белых снеговых птенцов, прилипших с той стороны к окну, на мутную, почти осязаемую тяжесть воздуха. Куда же ты ушла, весна, с рябиновыми зорями детства, с мокрыми каменными мостовыми, облитыми первым дождем, с тихой печалью и буйной радостью, сопушками, пышущими одуванчиковым жаром, в который было боязно окунуться — а вдруг обожжешься? — с проснувшимся, звонким от внутреннего гуда лесом, с березовым соком и белыми облаками над городом Харьковом? Она вышла в прихожую, медленно натянула на себя форменное летное пальто. — Ты куда? — спросил муж из комнаты. — Надо забежать к Андрюшке в садик, а потом в магазин — у нас же ничего нет. Она спускалась по лестнице и думала о том, что, к несчастьо, никогда, наверное, не сможет оставить этого человека. Сил не хватит, чтобы оставить его. Не хватит душевного огня, смелости, чтобы пойти на разрыв. У каждого — свой крест, и каждый носит его по-своему: один в петлице, другой на спине. Она свой крест тащит на спине. Как же свести концы с концами? «Плюнь ты на своего благоверного, пусть сам с собственною писаниной разбирается. Найди себе хорошего парня, сильного и преданного, и все встанет на свои места», — советовали ей аэрофлотские подруги, но она в ответ упрямо крутила головой: у ее Андрюшки должен быть отец... Отец, понимаете! «Ну и дуреха! — жалея, говорили аэрофлотские подруги. — Уходи, пока не поздно». Им легко, им все‑е ле‑егко... Перед глазами мелькали какие-то зеленые звезды, одуванчиковая пороша, будто из весны детства, что-то ошеломляющее, от чего было беспокойно: легко бывает до поры до времени, пока жареный петух не клюнет... Что же делать? Она остановилась на ступеньке, отерла пальцами глаза. — Трусиха, — горьким шепотом произнесла она, прислушалась к звуку голоса. — Жалкая трусиха! И дура. Неси свой крест, — с беспощадным злорадством проговорила она о себе как о совершенно посторонней, — сама выбрала, сама и неси. На спине неси!
6
Под брюхом вертолета мельтешил снег, проползали темные сосновые проплешины. Костылев глядел в кругляш иллюминатора и думал о том, что все происшедшее вчера и сегодня с ним, с бригадиром Старенковым — и дымный ресторан, и знакомство со стюардессой, и ночная драка — все это чрезвычайно нереальное, но такое известное, ведомое ему. Все это было, было, было! То ли с ним самим, то ли еще с кем, то ли он об этом читал, то ли... В общем, было. Костылев нахмурился, сгоняя с себя ощущение неуютной невесомости, какую-то похмельную дрожь. К нему подсел Уно Тильк. Скамеечки в вертолетном чреве были низенькими, поэтому колени Уно касались подбородка, он свободно клал на них голову, добродушно щурился. Эстонец достал из кармана красно-синюю газету чуть ли не карманного формата, в четвертушку обычной газеты, протянул Костылеву, задышал горячо в ухо: — На! Прочитай! Специально для трассовиков выпускается. Костылев взял, развернул. Вертолет трясло, четвертушка прыгала в руках, дергалась, как живая. — Читай, читай! — Сегодня в выпуске. Двоеточие. Ваши задачи, строители, — Костылев закашлялся, постучал кулаком по груди. — Тебе одевку и обувку теплые надо, — сказал Уно. — Простудился ты. Но ничего. На трассе тебе все выдадут, полярным медведем станешь. — Та-ак... Тут еще «В выпуске» есть. «Горячис точки трассы». «Объективный фотообъектив». — Хм-м... — усмехнулся Уно. — Ишь ты, подишь ты, стилисты какие! «Объективный фотообъектив». Фотяшки самые обычные. Трасса сзади, спереди, сверху, сбоку — и вся любовь! — Подлетаем, — предупредил Старенков. Вертолет накренился, застучал мотором. Прошло еще несколько минут, и долгий знойно-жестяный грохот лопастей сменился неожиданной тишиной, полой, обтянувшей Костылева материальной стылой оболочкой, совсем лишенной окраски. Он вышел из вертолета, серьезный и ослабевший от дороги, от собственной, если хотите, несостоятельности. Но назад пути не было, он это знал твердо — надо было осваивать, обживать эту стылость и безмолвие. Воздух, густой, сизый, был до твердости пропитан морозом, сосенки, вразноброс, вкривь и вкось понатыканные в землю, были худосочными, болезненными, из вертолетной форточки-бустера они казались куда крупнее, горделивей. Подъедала сосенки снизу ржавая болотная отрава, обгнивали прежде времени корни, облетала с отсохших сучков игла, и становилось дерево мертвым. На вогнутой, с рвано приподнятыми краями площадке были собраны в длинные лесистые штабеля трубы огромного диаметра. Землеройка — приземистый, выкрашенный в блесткий яркий цвет агрегат — лениво вгрызалась в твердь, накрытую снегом. Выбрасываемая наверх, на боковину ствола, земля слабо дымилась, снег шипел под ней, истаивая, будто вода под куском карбида. Звук был резким, недобрым, гусиным, но Костылев не слышал его, он отрешенно крутил головой, пытаясь разобраться в себе самом, в сложных властных чувствах, охвативших его. — Чего скапустился? — спросил его Старенков. Звук голоса не сразу дошел до Костылева, а когда дошел, то Костылев как-то странно и непонимающе посмотрел на Старенкова, вернее, даже не на него, а сквозь него. — А ты, паренек, немного чокнутый, — захохотал Старенков. — Вот ведь, нерадивые, оркестра для твоей встречи не могли организовать, — проговорил он. — Человек, можно сказать, собой пожертвовал, приехал без подъемных, без авансов, а они... А? Он выплюнул полусжеванную папироску, тряхнул головой. Подошел Вдовин. Предложил: — Может, песенку спеть иль на губах сыграть? Какое-нибудь труль-ля-ля на мелодию «Гоп со смыком», а? Я, к примеру, все свои песни пою на три мотива. На «Гоп со смыком», «Мурку» и еще... — Вдовин закашлялся, погрузился в клуб пара. Костылев удивленно взглянул на него. — Ну, пришел в себя? Пошли‑сь, — Старенков обхватил Костылева за плечи, — в нашу гостиницу. Счас нам номер «люкс» с ванной, роялем и велосипедом отведут. Спроси, спроси у меня, зачем велосипед? Отвечу! Чтобы от одной койки к другой ездить. Костылев послушно двинулся следом, к темнеющим невдалеке железным коробкам. — Номер «люкс» здесь, в балке, знаешь, что это? — пропыхтел Вдовин, догоняя. — Четыре квадратных метра на четырех человек. — Слушай, Контий Вилат, знаешь, какое блюдо на белом свете самое остроумное, а? — спросил Старенков совсем неожиданное, не имеющее к происходящему никакого отношения. — Не знаешь? Глушь ты неэлектрифицированная. А как геноссе Костылев? Тоже не знаешь? Костылев с рассеянным вниманием слушал Старенкова, слова до него доходили стертыми, смазанными, нечеткими, но суть рассказа он уловил, хотя поначалу и не понимал, зачем все это бригадир рассказывает. Какое им дело до самого остроумного блюда? Но потом он прокрутил в себе рассказанное и вдруг тихо, с хрипотцой рассмеялся. — Вот те раз! — вздохнул Старенков. — Я думал, у тебя кожа, как у бегемота. Извини, конечно... Оказалось, нет, у тя она чуть потоньше будет — крокодилья. А? Шутка. — Он раздвинул свою черную бороду в улыбке. Мелькнули зубы. Хотел еще что-то добавить, но сдержался. У Костылева же снова в ушах зазвучал чей-то голос... но позвольте, позвольте: какое отношение имеет самое остроумное блюдо в мире к сибирской тайге, отвалам снега, черной жиже, именуемой «земляным маслом», к спрятанным в угасающем дне балкам? Да никакого. Это же просто-напросто психологическое отступление, отвлекающий маневр. Костылев шел, прислушиваясь к хрусту снега под подошвами, к негромкому старенковскому голосу. Существует у восточных народов любопытное и редкое блюдо: «фаршированный питон». Приготавливается этот питон весьма оригинальным образом. Охотник за змеями (а такие добытчики есть) приносит к хозяину торговой лавки живого питона. «Хотите приобрести?» Лавочник, естественно, не отказывается, приобретает и помещает питона в погреб со льдом, где тот и засыпает. У лавочника, как и у всякого хозяина торговой точки, есть своя постоянная клиентура, вот им-то лавочник и предлагает в первую очередь отведать лакомство. Приходит господин Лу, лавочник спрашивает у него: «Господин Лу, вы не желаете купить кусочек питона?» Господин Лу, естественно, не против. Хозяин отмеряет кусок питона на выбор и помечает пищевой тушью «Господин Лу». Приходит господин Му. «Господин Му, как вы насчет того, чтоб отведать фаршированного лакомства?» Господин Му тоже не отказывается. Таким образом питон продается по мелким долям. Затем в один из погожих дней хозяин лавки созывает клиентов на ужин. Посреди двора разжигается костер со слабым огнем. На костер ставится чан с теплой водой. Из погреба выносят неподвижного и ничего не подозревающего сонного питона, опускают в чан. Проходит некоторое время. Проснувшись, питон начинает нервно елозить в воде: после спячки ему очень хочется есть. Тогда в чан бросают сало — питон тут же глотает сало, потом бросают рис — питон глотает и рис, затем в чан кидают куски мяса. Таким образом питон проглатывает всю начинку. А потом в костер суют побольше дров, вода в чане закипает, и через пятнадцать минут фаршированный питон готов, остается только разрезать его по меткам... Теперь Костылев понял, зачем Старенков все это рассказывал, откуда льдистая тусклая жесткость в его голосе, откуда наигранное лихое веселье, все понял. Это он хотел развлечь Костылева, помочь ему справиться с неизвестностью будущего, со всем тем, что ожидает его, с предстоящей злыдней-студью, с туберкулезной тайгой, со всем потайным, что сокрыто, что еще только готовит ему жизнь. И подумал Костылев, что он должен быть благодарен Старенкову за предупреждение, за неуязвимость, которой тот сам обладает не в полной мере, но старается вдохнуть ее в Костылева; за способность сопротивляться и жажду борьбы. Он коротко улыбнулся. — Насчет питона, которого живьем набили, как колбасу, начинкой, это ты хорошо. Не анекдот? — Нет. Балок был тесным и жарким. Но в тесноте, говорят, не в обиде, а жар, он костей не ломит. Хуже было бы, если бы стенки балка изнутри изморозь сковала. Койки в балке располагались, как в матросском кубрике — в два этажа, одна поверх другой. Старенков расположился внизу, Костылеву предложил полезть на Эльбрус, на второй коечный ярус. Костылев согласно кивнул. — А сидеть будем на моей койке, — произнес Старенков. Дверь балка распахнулась, в нагретое нутро влетел тугой клуб холода, задымил комнатенку, потом над клубом вспарил высокий человек, повел длинным крапчатым носом, будто принюхиваясь к чему. — Вот и гостек, — бодро сказал Старенков. — Заходи, Рогов. Познакомься со своим сменщиком, с Костылевым. Тоже водитель первого класса. Рогов растянул рот, одарил Костылева улыбкой, блеснув из-под синевы обмерзших губ чистотой нержавеющей стали. — Мороз силу берет. К пятидесяти топает, — сказал он. — Пятьдесят — это еще семечки, — проговорил Старенков, — хуже, когда шестьдесят. — Шестьдесят — бр‑р‑р! — сгорбился Рогов. — В шестьдесят бьешь топором по дереву, а топор даже метки не оставляет, — Старенков сделал мах ладонью. — Из рук швырк и отлетает в сторону. Каждая чурка будто из резины отлитая. — Вообще-то, сегодня шестьдесят обещали, — Рогов потер под носом толстым пальцем, сколупнул что-то с самого кончика, с раздвоины, Костылев пригляделся — льдистую скрапину. — Значит, это ты на самоходе будешь баранку вертеть? — Рогов улыбнулся, ослепил Костылева ярким сверком стали, будто прожекторным лучом полоснул. Костылев поежился, хотя тон Рогова был исполнен благожелательности, — дело не в этом. Просто, чтобы принять машину, надо было снова вылезать на улицу, в крапивный холод, чего не очень-то хотелось Костылеву. — Все зубы теряешь? — спросил Старенков у Рогова. — Кажется, еще больше чужих стало. Железяк понапихал в рот... — Зубы у меня от роду были такие, что бетонный пасынок перекусить мог, а сейчас — вишь? Потрескались зубы. — Хошь, фокус с картошкой покажу? — предложил Рогов. — Мне-то зачем? Я этот фокус знаю, — проговорил Старенков. — Вон его удиви, ему такая экзотика после дачной жизни в новинку. Рогов медленным, каким-то округлым движением взял картофелину, подбросил ее. Картофелина с мягким шлепом опустилась в подставленную ладонь. — Пошли, — пробормотал он Костылеву и, устремив красноватые, подернутые усталостью глаза в потолок, вяло шагнул к выходу, приоткрыл дверь. Приоткрыв, тут же был проглочен клубом шипучего стылого пара. На улице он положил картофелину под ноги, посмотрел на нее внимательно и долго, а когда Костылев приблизился, остановил его: — Отойди. Зацепить может. Костылев не понял, что же может его зацепить, но на всякий случай отступил на шаг назад, взглянул на картофелину, поразился тому, как буквально на глазах синеет ее гладкая, хорошо отмытая кожица, покрывается пленкой инея. Поежился — ему вдруг стало не по себе... Каково же вот так, с голой кожицей, да на остро жгучем снегу... Он вздрогнул, стремясь прогнать неприятное ощущение, посмотрел в сторону, на облупленный, с пузырями вздувшейся краски балок. Из-под краски проглядывала замороженная ржавь... Подумал, что балок надо ремонтировать. Картофелина тем временем начала расползаться на снегу, как блин на сковородке, выгибаясь и ежась боками. Вдруг пистолетное «ах!» заставило Костылева вздрогнуть, а с ближнего чахлого кедришки, где в скорбном ожидании стыли несколько попрошаек-галок, косивших голодными глазами на людей, вихрем слетела снежная одежка. Из нее с пьяными от возмущения воплями, отряхиваясь на лету и размочаливая хвосты, выпорхнули галки. Картофелины, которая только что синела на снегу, не было. Костылев увидел, что Рогов, задрав голову, смотрит куда-то вверх, под обрезь облаков. Тоже вскинул взгляд и сразу же угодил взглядом в пепельную твердую точку, ядрышком удаляющуюся в небеса. В небеса-то в небеса, но не совсем. На несколько секунд точка застопорила свое движение, пребывая в раздумчивости, потом начала увеличиваться, притянутая землей. И только когда она была уже совсем близко, Костылев понял, что это картофелина. Картофелина, издав мокрый чавкающий звук, шмякнулась у самых ног. Рогов подкопнул ее носком унта, она была деревянно-твердой, словно выструганной из кедровой чурки, лохматой, растерзанной, с молочным, искряным от льдистых снежинок нутром. — Видал? — проговорил Рогов, глядя на воспрянувшего духом и приподнявшего свои облегченные ветки кедришку. — Разорвало как... А? Фокус-мокус этот в цирке только показывать. Голос у Рогова — Костылев только сейчас обратил внимание — был надтреснутым, простуженным. — Закон физики, — произнес Костылев, ощутив потребность что-то сказать, не быть молчальником. — Силой взрыва картошка отталкивается от земли и подлетает вверх. — Скучно, батя. Слишком правильно. Нет поэзии. Сразу в физику попер. Пошли плетевоз смотреть. — Какими машинами плети возите? — спросил Костылев. — КрАЗами. — Тяжелая, стерьвь. Не машина, а настоящий троглодит. На ногу наступит, ноги не будет. — А ты ногу не подставляй. Походка у Рогова была немного странной, крестцами в стороны, колени у него не гнулись, и ему приходилось выворачивать ступни, отчего боковины унтов у него были круто стесаны — совсем как у инженера по авиации Кретова. Очень похоже. На такие конечности, как роговские ноги, обуви не напасешься. — И-эх! — непонятно к чему выкрикнул Рогов. — Спеть ба. Поёшь? — Где уж. Медведь на ухо наступил. Рогов издал губами осторожный гитарный звук, цыкнул, потом пропел куплет:
Костылев поморщился. — Рифма не ахти, но зато... — роговский голос окрасился теплом, что-то доброе, даже смешливое прозвучало в его тоне.
Рогов осекся, отер ладонью нос. Нос был сухим. Отвернул лицо вбок, вперился взглядом в длинные бурые штабеля огромных труб, потом набрал побольше воздуха, выпустил его с шипом, как самовар, и закончил тихо, почти шепотом:
Закончив петь, Рогов вздохнул: — Студенческая песенка. Я, когда учился, перед отбоем в общежитии любил ее петь. А вообще, дурацкая песня. — Дурацкая, — согласился Костылев. В институте учился? Иль в техникуме? — В техникуме. Два месяца. — Выгнали? — Нет. Сам уехал. За туманом потянуло. За запахом тайги. — Не жалеешь? — А что жалеть-то? Как пели в тридцатые годы: молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почет. Рогов растянул лицо в улыбке, а оно, странное дело, обузилось и обвисло, из-под тонких потрескавшихся губ обнажился стальной сверк. Когда Рогов сдвинул на затылок ушанку, то на обветренный, узкий, с хорошо натянутой кожей лоб упала серая от примеси седых волос прядь. — Грибы собирать любишь? — вдруг спросил он. Не дожидаясь ответа, заключил: — Грибов здесь тьма. Костылеву в эту страшную стужу, сопровождаемую мертвым стеклянным щелканьем, не поверилось, что здесь могут стоять теплые дни, что здесь бывает солнце, ему казалось, что здесь царил, царит и будет царить только холод, только мороз. Снег и мороз. — Пропасть сколько грибов! — продолжил разговор Рогов. — Самые разные водятся, ага. Белые — боровики, — подберезовики, сыроеги, млечники, опята, свинухи. И все без червей. Нет червя — мороз зимой его выбивает, а пока тепло стоит, он не успевает завестись. Рогов свернул на заснеженную тропку, ведущую к длинному, покрытому серебристым толем бараку. — Что за гриб млечник? Никогда не слышал. — Есть такой. Сапожного цвета. Чумаз, как негр. Шляпка выпуклая, как линза-увеличилка, ботиночным колером покрыта, ножка тоже ботиночная. А когда обломишь, идет молоко. Белое-пребелое. — Ягоды тоже есть? — Море разливанное. Голубика, брусника, клюква, черника, морошка, шикса. Всего до хрена. Стоп, паря! Пришли. Рогов потопал ногами у барака, отогнул полог, тяжко провисший и надутый, как парус, протиснулся под него, Костылев — следом, погружаясь в вязкую темень, не сразу привыкая к ней, а потом, приспособившись, осмотрелся, увидел длинный ряд большелобых глазастых машин, широкие скаты, дутыми баранками выглядывающие из-под крыльев, заостренные ребристые носы моторов, тяжелые, почти паровозные бамперы. Около одной из машин стоял колченогий столик с голубым пластмассовым верхом — таких столиков полным-полно в любой столовой, на столе — коптюшка, сделанная из алюминиевой кружки. На бортовины кружки были наброшены усики проволочной перекладины, в колечко-пружинку продет круглый нитяной фитиль. За столиком сидел дедок, с огромным, круто врастающим в темя лбом, с густыми, врастопыр, бровями, из-под которых трезво и спокойно поглядывали чистенькие небесные глазки. Пристроив на шишкастом носу очки, дедок читал книгу, медленно водя заскорузлым ногтем по странице. Книгу он придвинул впритык к самой коптюшке, чтобы лучше было видно. — Свет почему не зажигаешь? — спросил Рогов. — Ослепнешь, Дедусик, тогда бабка тебя назад не возьмет. Дедок снял с носа очки, с костяным стуком сложил вместе дужки. — Это с моими-то деньгами не возьмет? Да я ее, шестидесяти годов от роду, разменяю на трех двадцатилетних. Будет знать, как не брать. — Правильно, — кивнул Рогов. — Чего читаешь? — И без перехода: — Учись, учись! Ученье — свет, а неученых — тьма. Читай, читай, Дедусик, к девяноста годам доцентом станешь. — А что? Мне б десятка два лет назад передвинуть, я бы в институт поступил. Выгодное это дело. Дедусик поднялся из-за стола, распахнул полог тулупа, косматого с изнанки, сажево-черного. Обнажился рубчиковый бумажный пиджачок с мятыми лацканами. На пиджачке Костылев увидел вытертую до лоска медаль — какую, не разобрать. — Познакомься, орденоносец, — сказал Рогов. — Это наш новый шофер. Дедусик приблизился, протянул теплую, мягкую, как пирожок, ладошку. — Все зовут меня Дедусиком, а по паспорту как будет, уже и не помню. — Так уж и не помнишь? — усмехнулся Рогов. — Не помню, — безмятежным тоном подтвердил Дедусик. Был он ростом мал, чуть повыше стола, и тощ, легок, словно птица; казалось, взмахни он сейчас руками — и вспарит под облака. Невесомым, неоткормленным было Дедусиково тело. — Мой напарник, — добавил Рогов, по привычке глядя в сторону. — Машину я забираю, Дедусик. Пробную ездку делать будем. — Нужное дело, — согласился Дедусик. — Распишись вот тут, у бумаге, — он ткнул пальцем в вощистую гладкую бумагу, разлинованную поперек ровным типографским пунктиром. Рогов склонился над столиком, Костылев с возникшей вдруг жалостью поглядел на его нечесаный, с неровными, мерзлыми, а теперь оттаивающими кудельками волос, прилипшими к незагорелой пористой шее, затылок, на сутулые, с непрочными костями плечи, подумал, что жизнь у этого человека неспокойная, несложившаяся. Неприкаянный он, этот Рогов. — Садись в машину. Вон та, с выбитой фарой, наша, — сказал Рогов, не разгибаясь. Они выехали из барака, вырулили на прикатанный колесами расплюснутый зимник. Рогов сделал перегазовку, потом, резко надавив на тормоз, остановил КрАЗ. — Переползай к рулю. Посмотрим. Костылев пролез к рулю, сел в теплую глубокую вдавлину на водительском месте, примерился ногами к педалям сцепления, газа, тормоза, стартера, ощутив при этом некоторую непривычность, неловкость, которая проявляется при знакомстве с новой, неведомой ранее машиной, ощутил также радость, а наряду с ней страдание и боль, будто из него выдрали лоскут плоти, веру в чудо, в то счастливое, главное, что еще ожидает его в жизни. Тоскливо было ему. Рогов не торопил Костылева, он вяло нахохлился, вобрав голову в плечи и упрямо вперив взор в боковину кабины, в исчерченное рисунком мороза стекло. Рисунок был красив и сложен — мороз разбросал по всему полю папоротниковые лапы, брусничные треугольнички, колокольцы иван-да-марьи, поролоновые обрывки мха-ягеля, морошковую завязь, кое-где украсил все это пятилистными точечками цветка земляники. Рогов выпростал руку из кармана, приложил большой палец к папоротниковой лапе, подул на него, грея, проделал пятак-подглядыш, глянул в него. Пятак был мутным, непрозрачным, тогда водитель еще немного покрутил подушечкой пальца. Он был занят собой, Рогов, и совсем не обращал внимания на своего напарника, но, как Костылев чувствовал, одновременно довольно придирчиво следил за всем, что делал человек, сидящий рядом с ним, — ничего не пропускал, следил жестко, обостренно. Костылев выжал сцепление, потянул торчок скорости на себя, прислушался к тому, как под полом кабины легко сдвинулись хорошо смазанные громоздкие шестерни, упрятанные в коробку, потом мягко надавил на педаль газа. КрАЗ взревел, отталкиваясь, и неуклюже поплыл по земле, над землей, под облаками и над облаками, под звездами, а потом и над самыми звездами; Костылев забыл про Рогова, словно тот, переместившись в другое измерение, перестал для него существовать, он начал чувствовать в себе распирающий счастливый азарт, сопровождающий особо удачные мероприятия.
7
Бригада Старенкова тянула нитку лупинга — отводного, или, иначе говоря, бокового, отрезка нефтепровода. Лупинг всегда прокладывается рядом с основной ниткой, если на пути встречаются реки, болота, непролазные топкие прогалы в земной тверди. Прокладывается, как правило, на случай аварии: если что стрясется с основной трассой, то нефть в несколько секунд перекроют задвижками и погонят по лупингу. На равнине в степи или в сухой тайге отводов не делают, они ни к чему. Летом и весной у трассовиков-трубопроводчиков мертвая пора: кругом бездонные трясины, комарье. А чуть солнце подсушит землю, начинаются пожары. Огонь идет и низом и верхом, и нет от него спасения. Летом по рекам, речкам и речушкам бредут баржи, везут трубы, изоляционные материалы, обвязку, автомобили, траншеекопатели, трубогибы, вспомогательные механизмы — летом трассовики пополняют свой парк техникой. Навигация есть навигация. В тайгу летом можно выбираться только по лежневке и то лишь недалеко, держась песчаных грив-пятачков, где сосредоточивают свои стоянки трассовые бригады. Летом трассовые проходки равны нулю, вся работа — зимой, в пятидесятиградусный мороз. Когда твердеют окованные броней болота, только тогда кладут нитки нефтепровода. Трубы, которые баржи доставляют в навигацию, имеют стандартную длину — двенадцать метров. Три трубы соединяются так называемой поворотной сваркой в одну, получается плеть. КрАЗы с длинными хвостами-прицепами вывозят эти плети на трассу. Там их сваривают в общую нить, но в траншею не опускают, следом за сварщиками идут изоляционники, целая рота, они обмазывают трубы расплавленным битумом, потом обматывают стеклохолстом, потом шесть трубоукладчиков бережно поднимают нить и аккуратно, любовно, с неспешной нежностью опускают в траншею. И только потом в бой вступают бульдозеры; посверкивая ножами-застругами, они идут в атаку на траншею, засыпают, заравнивают ее. В тайге работа трассовиков узнается издали, она видна даже с самолета, с большой высоты: стоит из пятикилометровой бездны глянуть в иллюминатор, увидеть ровную, будто по линейке проведенную, строчку в таежном однообразии, как в груди сразу теплеет — внизу проходит нефтяная трасса. Со многим познакомился в первый месяц работы водитель плетевоза Иван Костылев. Научился разбираться в течении таежной жизни, в перипетиях быта, в специфическом своеобразии строительных колонн, отличать монтажника от сварщика по тому, как на нем сидит шапка и какие рукавицы торчат из карманов полушубка-дубленки. Поначалу, правда, путался, но потом все встало на свои места. Дедусик оказался соседом Старенкова и Костылева по балку, он занимал левую половину, называя ее комнатью: комнать да комнать! Старик приехал на трассу в раннее предзимье, навел у себя в половине жилой порядок, понавесил ситцевых, расписанных под павлиньи перья занавесок, из обрезка «тыщовки» (тыщовками на трассе называют трубы тысячемиллиметрового диаметра) соорудил печушку-жандарма, приварил к ней толстенный броневой поддон, вырезал поддувало, проложил колосники и нагонял в свою «комнать» такого жара, что все трассовики повадились ходить к нему греться, парить кости. Жара в «комнати» стояла банная, как в парилке на верхней полке. ...Надо сказать, что Дедусик привязался к Костылеву; каждый вечер наведывался в его половину или приглашал в свою, в «комнать», — посудачить, испить чаю из бачка; приходил он в неизменном рубчиковом пиджаке, с медалью, усаживался за стол, наливал себе чаю, ржавого от крепости, и, устремив зрачки в блюдце, вытягивал губы, схлебывал кипяток. — Наработаю тыщ пять, — бормотал Дедусик в минуту откровения, — и айда обратного ходу, к старухе под бок. Делал паузу, шумно ворочал языком, остужая чай во рту, потом гнал жижку в себя. Он казался многозначным, мудрым. Старенков не обращал на Дедусиково бормотание внимания, Костылев же прислушивался, дельные советы брал на вооружение, безделицу отметал. Однажды Костылев заглянул к Дедусику в его «комнать», увидел, как старик подбивает баланс в своей сложной бухгалтерии, исписывает страницы столбиками цифр, похожими на поваленные набок стопки, бормочет что-то, шевеля губами. Увидев Костылева, Дедусик обдал его лазурным светом. — Ну, молодежь, как дела? — спросил си, делая ударение на первый слог: мо́лодежь. — Идут дела. Две с половиной сотни получки отправил бабке Лукерье по почте. Пусть начнет дом починять. — Доброе дело, — похвалил старик, а Костылеву вдруг сделалось не то чтобы неприятно, а неловко от этой похвалы. — Так держать, как говорят в морском военном уфлоте. С уфлотом я когда-то дело имел, — Дедусик очень смешно произносил слово «флот», добавлял к нему «у», а когда Костылев поправил, отмахнулся от замечания, как от комарьего зуденья. — Имел дело с уфлотом... Он обнажил десны в улыбке, но тут в предбаниике кто-то затопал ногами, дверца «комнати» распахнулась, и на пороге возник Старенков. — Здорово, вечеряльщики! — сунул рукавицы в карман полушубка. — Ну, господа банкиры, о чем речь ведете? Мировой доход подсчитываете? — постучал ногтем по столбикам цифири. Помолчал. — Где уж нам... Где уж... — засмущался Дедусик. — А ты не красней, как нетронутая девица перед свадебной ночью. Вот что, мужики. Скинуться нужно. Рогову на подарок. У него день рождения, вот и надо вручить ему что-нибудь дельное. — У Рогова зарплата едва в карман влезает, а ты — скинуться, — недовольно проговорил Дедусик, — зачем ему подарок? — Для душевного приятства, старик. Не жмись. — Не жмусь, — сощурился Дедусик. Поковырявшись в кармане пиджака, достал оттуда поржавелую двухгривенную монету, пришлепнул ее о ладонь бригадира. — Вот мой членский взнос. — Маловато, — сказал Старенков. — Рокфеллер подаяния побольше делает. — Никак нет, — заявил Дедусик, — не больше. Я об этом в журнале читал. А потом, дареному коню в зубы не смотрят. Ага. И вот еще что... Если надоть Рогову на день его ангела водки принести, колбасы, сбегать куда-нибудь — пожалуйста! Я сбегаю. Ослобонить вас от забот — это тоже мой подарок. — А ты? — Старенков посмотрел на Костылева. Костылев достал десятку, протянул бригадиру, потом к десятке добавил трешку. — Чертова дюжина, — сказал бригадир, усмехнулся едва приметно в бороду, молча вышел из «комнати». — Так все денежки профукаешь. Дурень ты, — заявил Дедусик Костылеву. — Не-е... Тя надо на экономические курсы послать учиться, чтоб ты вопросы, так сказать, хозяйствованья одолел. — День-то рождения один раз в году бывает. — На трассе вон сколько человек работает. Если каждому на день ангела по тринадцать рублев выделить, на эти деньги не то чтобы дом отремонтировать — на них новый областной город построить можно. Костылев прошел на свою половину, улегся на нижнем, старенковском ярусе, заложил руки за голову. Что-то ему было не по себе. Первое время его вот точно так же, как и сейчас, охватывала щемяще-острая неуступчивая тоска. Особенно по вечерам, когда сумерки были затяжными, как унылая песня, опускались на землю долго и плавно, делая снег зябким, пугающим, деревья сиротски бесприютными, и Костылев, если бывал на работе, особенно пристально начинал вглядываться в синюю, трескучую, будто рвущаяся материя, дорогу, стелющуюся под колеса КрАЗа, тихо сглатывал твердые слюнные катыши, сторожко тянул шею, чтобы видеть дальше, побольше захватывать морозной сини взглядом. Перед ним, словно наяву, вставала подмосковная деревенька, бревенчатый рассохшийся домик о три окна, каждое привечает вечернего путника, каждое манит желтым; а вдоль всей деревни — нетронутые дымы, с ледяным волшебством поднимающиеся над трубами, слышно даже, как они звенят, светятся, они как напоминание о летнем тепле! В далекой высоте, в вечернем бездонье дымы растворялись, истаивали, и, если бы не крепнущий холод, если бы не стеклянная ломкость воздуха, можно было бы часами смотреть на предночное колдовство. Синь густела, будто в воздух, как в воду, подсыпали чего-то химического, и это «чего-то» добавляло вечеру вязкости, дорога приподнималась, становилась ближе к глазам, а может, КрАЗ проседал, зарываясь в снег; колесные вдавлины зимника делались сажевыми, перекаленными, подвально глубокими. Как только эта чернота пробивалась сквозь ледяную глазурь, сумерки шли на убыль, обесцвечивались, от этого становилось особенно печально и слезно на душе, в ушах звенела тишина, даже перестук мотора уходил в небытие. Костылев стискивал зубы, процеживал сквозь них: — Наверняка в сумерках умирать буду. Ей-ей, в сумерках. Иначе почему так за горло берет? Предчувствия, что ли? И замолкал. В ранней ночи он возвращался в балочное стойбище, загонял КрАЗ в барак, хрумкал катанками к своему домику, смотрел на часы. Времени оставалось только на чай, на пару конов в подкидного, причем каждый раз при «выяснении отношений» Дедусик его объегоривал, оставлял, что называется, в накладе и спать Костылев ложился недовольным. Трасса уходила все дальше и дальше, в болотные размывы, скованные зимней стужей, льдом. Нитка трубопровода удлинялась, целясь острием на уральские отроги. О Людмиле Костылев начал забывать (раньше вспоминал чаще) — тяжелое повседневье, работа, стремление каждого трассовика продвинуться как можно дальше от балочного городка, прорезать безмолвную стылость тайги и болот, как можно быстрее достичь горного хребта отодвигали на второй план житейские заботы, обыденность. Хотя временами, когда Костылев оставался один, смутный женский образ возникал перед ним, всплывая из ничего, из ночной притеми и ухающего гуда печушки, и тогда он расслабленно, с хорошей, сладкой до томления тоской вспоминал Людмилу, ладную ее фигуру, глаза, крепкую шею, доверчивость ее улыбки, житейскую незащищенность. Но приходил Старенков, и образ исчезал. Старенков задумал у себя на участке рационализацию, это оттеснило у него все на задний план. — Чертова стужа, — бормотал он, прилепляя иссиза-красные руки к раскаленному боку печушки, тряс пальцами, на которых проступали белые с черным, похожим на типографский оттиск, рисунком пятна спаленной кожи. — В Африку бы, а? Бедуином каким-нибудь. А мы тут строим черт те что, холодом сыты по горло. Костылев, ловя в словах Старенкова, в дребезжании его обесцвеченного морозом голоса что-то опасное для себя, не возражал бригадиру, но и не поддакивал. — Правильно поступаешь, — подмечал Старенков, — начальству слова поперек не говори. И вообще... Слишком сладким будешь — проглотят, слишком горьким — выплюнут. Есть такая пословица. — Что за рационализацию-то хоть придумал? Дельную? — Дельную. Чай поставил? Говорят, ведро воды заменяет двести грамм масла. — Говорят, что кур доят. — Костылев поднялся, взял обколупленный тусклобокий чайник с дужкой, для крепости и удобства обкрученной проволокой, налил из бачка воды, поставил на плоскую тяжелую макушку печушки. — Проведу рационализацию, будь она неладна, вдвое быстрее плети варить будем. Побыстрее пошлепаем на запад. До слуха донесся тихий, деликатный стук. — Входи, Уно, — выкрикнул Старенков. Костылев поразился: как же это он угадал, кто за дверью? — Добрый вечер, — сказал Уно Тильк. — Добрый. — Я без предисловий, — начал Уно, — сразу о деле. — Давай! — Старенков неожиданно рассмеялся, загнал желваки под самые скулы. — Нет бы, как в Средней Азин, вначале о здоровье хозяина расспросить, потом о здоровье его родителей, жены, детей, потом... — Не могу с предисловиями, — устало сказал Уно, голос у него был сникшим, тихим и от этого немного дряблым. — У нас беда стряслась. — Что за беда? — В Зеренове. У действующей скважины головку обломило. Нужно срочно посылать туда людей, давить аварию. — Посылай. — Нет у меня людей. Нет! Слушай, не мог бы дать человек трех-четырех? Недели на две. А? А я добром тебе отплачу. Не последний же день мы живем на белом свете. — Не последний. — Не откажи, борода! — Тяжелый случай. Мне ж самому люди нужны, Уно. Я того... Реконструкцию затеял, новшества разные ввожу. — Ребятам по повышенной ставке заплачу — Уно сгорбился, в глазах его застыло сложное выражение; тут было все — и собственная слабость, а вернее, ощущение ее, и жалость, и беспощадность, и злость, как, впрочем, и великодушие. Плечи у Уно были огромными, чуть вдавленными в середине, будто он нагрузил на них что-то тяжелое, распирали ватник. — Может, мне? Помочь смогу. А, Павел? — спросил Костылев. — Ему сварщики нужны, а ты шофер. Рулевой круг там крутить не требуется, там с газовым резаком управляться надо. — Я сварку знаю. Я же тебе говорил. В армии. Подводной сваркой занимался. И кроме того, в автошколе это дело проходил. — Ла-адно, — протяжно и сильно, горлово произнес Старенков. — Ладно! — он рубанул ладонью воздух, как мечом. — Могу Дедусика еще в подмогу дать. — Дедусика не надо, — сказал Уно Тильк. — Дедусик не выдержит, загнется еще, а жмурики, сам знаешь, нам не нужны. — Типун тебе на язык, — Костылев повернулся к Старенкову. — Отпускаешь? — Как приятеля не отпустить? Отпускаю. — Спасибо, — Уно поднялся. — Одного мало. Еще бы... — Можешь Вдовина забрать. — Рогова не отдашь? — Рогов его вон сменщик, — Старенков повел головой, взглянул на Костылева, шофер различил в темных цыганских зрачках бригадира печаль и силу, увидел, как в глубокой черноте глаз серпиком вспыхнул огонек, понял, что Старенков злится на него. И понятно: людей и так нехватка, каждый человек на счету, а тут беда, стрясшаяся у черта на куличках, еще более ослабляет его бригаду. — Ну ладно. Спасибо и на том. Значит, Иван Костылев да Вдовин. Беру! — Уно напялил на голову треух, захлопнул дверь балка. Бригадир прислонился к оконцу, подышал на него, стаивая белую вспушенность изморози. — Вот о чем я хочу с тобой потолковать, — сказал он, не отрываясь от оконца. — Помнишь наш с тобой разговор в самолете? Помнишь? Это хорошо. Я тебе тогда посоветовал не увлекаться особенно-то заработком. Было? Ну и как? Вместе с Уно уходишь — не длинный ли рубль тому причина? — А ты хочешь, чтоб я вообще от денег отказался? — Ну смотри! Ребята если пронюхают — спуску не дадут. Это куда хуже, чем моя критика. Смотри! Человека ведь по растопыру пальцев иногда определить можно, по одному жесту, по одному поступку, что он за фрукт, хороший или плохой. — Знаю не хуже тебя. Разговор ушел в сторону, Старенков рассказал, что у него когда-то на насосной станции был один оборотистый парень, тоже из породы «экономистов», так ребята взяли его однажды в оборот и высадили с работы. Жаль, что он, Старенков, не заступился за него. Парня, как ему сейчас кажется, можно было бы спасти, сделать нормальным человеком... — А вообще, знаешь, я тебе завидую, — вдруг проговорил он. — Поедешь в Зереново. Там аэропорт. Не понял еще, в чем дело? Нет, не в том, что Уно заплатит по тройной ставке. Деньги, будем считать, — это морс. Сегодня есть, завтра нет. Чем больше их, тем слаще во рту. Ты Людмилу, дурачок, увидишь. Напиши ей письмо, сообщи, что ты в Зеренове. Она же летает, рейсы в Зереново есть. Напишешь — прилетит. Точно говорю. — Прилетит? — неуверенно скосил глаза Костылев. — А адрес? Я адреса не знаю. — Адрес простой. Областной центр, наша столица, так сказать. Аэропорт. Фамилия ее — Бородина. Могу поспорить, что прилетит. На коньяк. Хошь? Если прилетит — ты мне выставляешь, если нет — я тебе. А? Костылев задумчиво покрутил головой. — Не жмись. Сколько тебе можно повторять? Только письмо под мою диктовку напиши. Тогда уж точно прилетит. У Костылева где-то в висках, в пугающей глуби, под черепной коробкой, возникла сладкая боль. Издалека, совсем из далекого далека донесся до него голос бригадира: — Я знаю, как писать хорошие письма. Костылев чужими, вялыми, противными самому себе шагами подошел к столику, вытянул вставной ящичек, извлек из него пачку неисписанных бланков, оторвал два. — Держи перо, — Старенков кинул на стол нарядную, по косой опоясанную оранжевыми точечками заводских букв авторучку. Костылев взял ручку, на обороте бланка написал: «Людмила, мы без Вас не можем. Мы — это два охламона, с которыми Вы познакомились два с половиной месяца назад в «Орионе». Прилетайте в Зереново, один из нас будет там на ликвидации газовой аварии. Буду я, а именно Костылев. Помните мрачного, неразговорчивого человека, который, когда шли из ресторана, плелся сзади и все молчал и молчал? Прилетайте! Ладно? Старенков Павел и Костылев Иван». Старенков подошел, прочитал, по-птичьи притянул голову к плечу. — Дурак, — грустно сказал он. — Мог бы понежнее. И подлиньше. Длинным письмам всегда больше верят.
8
Световой день на севере короткий, с воробьиный скок. Из балочного становья вылетели на стареньком, со стучащими лопастями Ми‑4 поутру, едва поднялось солнце, блеклое, холодное, пустое; в Игриме пересели на Ан‑2, промороженный до скрипучести. Холод пробрал самолет до железных потрохов. Летчики в одинаковых долгополых шубах молча протиснулись в свою крохотную заиндевелую кабинку, запустили двигатель, и через десять минут под стрекозьими плоскостями уже колыхалась, плыла сонная заснеженная земля. В Зереново прилетели, когда солнце, прочертив над кромкой далеких лесов короткую низкую линию, свалилось за плоский обрез. Едва приземлились, как с небес, из-под примчавшихся вслед за самолетом лохматых сухих облаков, выхлестнул железный мерзлый ветер, поднял столб снега, нещадно растрепал, бросил на дома, вмиг утонувшие в густой мути. Костылев, подняв воротник полушубка-дубленки, двигался впритык к Вдовину, цепляясь краем глаза за его тщедушную фигуру, в сторону тусклого желтого пятна. Это был свет аэропортовского домика. — Во, черт! Ну и лупит! — прохрипел идущий сзади пилот. — До мозгов прочесывает. — Это еще... цветики, — тонко врезался в свист ветра Вдовин, — орехи будут, когда до домика сил не хватит дойти. Тупая, безудержная, какая-то странная сила толкала Костылева в грудь, в живот, пронизывала с острым жжением тело, протыкала его насквозь. Казалось, раскинь он руки — и повиснет на упругой простыни ветра, ветер не даст ему свалиться на землю. С таким ветром Костылев еще не сталкивался. Желтое пятно меркло в мути, оно уже пробивалось едва-едва, полминуты-минута — и исчезнет совсем, и тогда они заблудятся в сотне метров от жилья, у них не хватит сил докарабкаться до людей. Сознание обреченности, смутной досады, бессилия человеческого естества перед мрачной колдовской мощью природы слабило ноги, выворачивало ступни. Костылев вдруг с ясной жутью понял, что они не дойдут до домика, а если чудом доберутся, то это будет подачкой судьбы. Растворился в снежном клубе идущий перед ним Вдовин, и Костылев остался один, совсем одинешенек! Жалость к самому себе так остро полоснула его по сердцу, что он закричал, но ветер загнал крик обратно в глотку, опалил нёбо и горло, и пузырчатая слюна, нездорово обметавшая боковины языка, враз превратилась в лед. Он притиснул к лицу рукавицу, закашлялся, сплюнул лед. В это время на него сзади налетел летчик, врезал кулаком между лопаток. — Не... оста... навливайся! — донеслось до Костылева. Он шагнул вперед, но до Вдовина не дотянулся. Тот находился где-то рядом — рывок ветра донес до него хриплый коченеющий голос, швырнул звук в лицо и тут же потащил куда-то дальше. Потом перед Костылевым вспыхнуло что-то сияющее, жаркое, нежное, он шагнул в этот мираж, выкинув перед собой руки, вонзился в твердый, режущий запястья наст. И, только ощутив боль, понял, что упал. А ураган времени не терял, вздыбился над распластанным человеком, опрокинул на него сугроб снега. Костылев, наверное, и замерз бы, если бы не летчик, шедший следом. Он раскопал завал, вытянул оттуда Костылева, доволок до аэропортовской избушки. Костылев очнулся оттого, что нависший над ним Уно с незнакомымвыражением лица, в щелки сощуривший остановившиеся глаза, шлепал его ладонью по щекам, пока шофер не размежил веки. — Отошел, — вздохнул кто-то с удивленным сочувствием. Костылев узнал: Вдовин, Ксенофонт. — Р-работничек, — пробормотал из пустоты Уно Тильк. — Если ты и дальше будешь от ветра в обморок бухаться, нам с аварией в жизнь не совладать. Костылев покрутил головой, оперся руками о крестовину скамейки, на которой лежал. — Он не виноват, — хрипло возразил летчик. — На него пласт снега рухнул. Все равно что лавина. — Хуже, чем лавина, — окутался паром Вдовин. Голос у него в этот момент был величественным, как гудок трансатлантического лайнера: Контий Вилат хоть один раз в жизни, а все же оказался сильнее кого-то, кто находился с ним рядом. — Довольно с этим. Значит, так, — проговорил Уно, ухватился ладонью за костистый, с глубокой раздвоиной подбородок. — Положение такое. Поселок не смог переключиться на отопление соляркой, дома разморозились. Все до единого... Даже детский сад. На улице — минус полста, в домах тоже — минус полста. В поселке запрещено курить, потому что ветер гонит газ на дома. Каждую минуту может рвануть. Жители в панике. Надо спешить. Будем работать при фонарях спецмашины. Полчаса передыха, и к скважине. Все. Вопросы есть? — Е, — выпустив очередной клуб пара, шевельнулся Вдовин. — Что со скважиной? — Пока не знаю. Будет ясно на месте. Дверь домика с треском распахнулась, в световой круг втиснулся маленький кривоногий человек в огняном пушистом малахае, глазки его — крохотные вороньи бусины — радостно посверкивали, и по остывшему лицу его с негнущимися деревянными складками у рта медленно проползла печальная тень. — Баушкин, — назвался он. Голос у него был медленным, тонким. — Председатель поселкового Совета. Хорошо, что прибыли. Очень хорошо. Мы уже ребят поморозили, в газу задохлись. — Как произошла авария? — распрямился Уно, голова его притиснулась к почернелым перекладинам потолка. — Очень просто, — сказал Баушкин, и тень опять заскользила по его лицу. Он посмотрел вверх, на Уно, с уважением: как и всякий человек маленького роста, он завистливо относился к гигантам. — Недалеко от газовой колонны стояла буровая вышка. Старая вышка, ржа уже всю съела. Геологи были, пробы брали — смотрели, что там, в земле, они и оставили. Сказали, что вернутся, потому мы им и разрешили оставить. А тут, как на грех, ураган налетами к нам зачастил. Никогда такого не было. Сегодня вы как раз попали в такое светопреставленье, — Баушкин говорил, тщательно вылепливая каждую буковку, каждое мелкое словцо, он наполнял своей речью жизнь, сознание только что прилетевшей аварийной бригады новым смыслом. — У вышки от ветра ослабла одна оттяжка, вот, ослабшая, она и упала. Когда падала, салазками зацепила шлейф, а там — понятное дело... Врезала по скуле арматуре. И вся недолга. — Это я с вами по рации из самолета говорил? — спросил Уно. — Со мной. — Только сейчас я голос ваш признал. Теперь картина ясная. Надо бы геологов, сукиных детей, на ликвидацию бросить, чтоб знали, как хвосты после себя оставлять. — Геологам мы по акту счет представим. — Спецмашина имеется? — Имеется. — Чтоб ни искорки, не то давить аварию на том свете придется. — Машина новая, только с завода. Проверенная. — Всежки. Костылев с усталым равнодушием подивился осведомленности Уно Тилька насчет аварии. Удивленность тут же сменилась досадным безразличием. «Ведь ничего удивительного, ничего сверхъестественного. Поговорил бригадир в воздухе с предпоссовета, кой-чего узнал, а ты удивляешься... Чему удивляешься, дурак?» Он выпрямился на скамейке, оперся непослушными обескровленными ногами о неровный тесовый пол. — Поморозился? — спросил Баушкин. — Может, врача надо? — Не надо. Ураган его малость подшиб. Вроде контузии. Пройдет. — Ясно, — сказал Баушкин. — Ясно, что отставить врача. Вовремя вы, ребята, прискакали. В общем, спасайте! Христом-богом молю. От всех жителей. — Ты же, Баушкин, хант, — серьезно заметил Уно Тильк. — Ты же язычник. Ханты — язычники испокон веков. При чем тут бог? — Я — крещеный язычник. — Не померзнем мы на скважине? — Прикажу тулупы привезти. — Тогда двинулись. — Это далеко, на том краю поселка. — Знаю. У Сосьвы. — Собачками поедем, — Баушкин похлопал руками по бокам меховушки, опустил голову и сделался еще ниже. Надвинул малахай на лоб, прикрыл мехом глаза. — Один секунд — и там! Они кучно вывалились на улицу; цепляясь друг за друга руками, попадали на сани. Костылев провалился во что-то мягкое, потрескивающее электричеством, отдающее былым теплом, натянул меховую накидку на себя, укутался по самый подбородок, перед ним заплясали темные, похожие на дым космы, что с тупым ревом вонзались в бок домика, в тонко дзенькающие стекла, рассыпались и с тихим, почему-то слышимым в этом адовом вое шорохом стекали вниз. Погонщик присвистнул, сани, просевшие под тяжелым костылевским телом, рванулись, он перевернулся на бок, с трудом удерживаясь на ребровинах опояски, снег стеклянно заскрипел под полозьями. Подумал, что сегодняшняя его поездка — не что иное, как следствие какого-то незнакомого, неумолимо развивающегося процесса. Выла вьюга, скрипел снег, тяжело дышали собаки в упряжке, потом до Костылева донесся едва слышимый крик: «Приехали!» Но он не реагировал на этот крик до тех пор, пока снег не перестал скрипеть под нартами. Свесил с саней замерзающие ноги, пошевелил пальцами в унтах, подумал о Дедусиковом балке, где всегда стояла тропическая жара. — Станция Березай, кому надо — вылезай! — раздалось совсем рядом. Костылев встал, покачнулся под напором ветра, услышал, как где-то внутри, в разъеме грудной клетки, тупо и однообразно забухтело сердце, гоня кровь в жилы. Принюхался. Резко пахло газом, будто кто вывернул вхолостую горелки. Костылев уткнулся носом в собственное плечо, притиснул ноздри к воротнику, подумал: «Как же в таком газу работать? Дуба дать можно!» — Счас ветер повернет! — прокричал Уно совсем рядом. — Газ уйдет в другую сторону. Не дрейфь, ребята! Где-то вдалеке полоснуло северное сияние, осветило все вокруг слабым огнем. А тут еще сверху, с плоского, обдутого ураганом обрыва выплеснулся, врезался в воющие снежные космы лезвистый, тонкий, как бритва, луч; кто-то совсем недалеко гаркнул «Ура!». От этого крика сделалось веселее. Костылев сделал мелкий шаг к лучу, остановился, подумал об Уно Тильке, о Ксенофонте Вдовине, дурманящая теплая нежность подперла у него снизу горло. — Спасибо, ребята. Сгибнуть не дали. Спасибо! Рядом очутился Баушкин, прокричал, загораживаясь от ветра бортовиной малахая: — С вашим поселком по рации говорил. Там тоже ураган. Но никаких аварий, все путем. Все обошлось. Работу только приостановили. — Предпоссовета шагнул в сторону, под луч, и растворился в густом, как вата, газовом клубе. Костылев повернулся, увидел впаянные в лед остронизые суденышки с мертво поблескивающими стеклами рубок, придавленными тупыми макушками труб и срезанными мачтами, подумал: «Плохо судам зимовать на открытом месте. Холодно...» Чуть правее он увидел что-то бесформенное, ребристое, поваленное наземь, понял, что перед ним останки буровой вышки. Из этой беспомощной рукастой бесформенности выхлестывал снежный султан. Донесся высокий, с присвистом и зубовным скрежетом визг. Аварийная скважина! Костылев вгляделся в газовый клуб, сглотнул подсушенную холодную слюну, — его обдало нефтяным смрадом, сладкой вонью…
9
Муж все более и более уходил в себя, это вызывало у Людмилы жалость. Острое, до слез, чувство охватывало ее. Если бы не Андрюшка, она после этих слов совсем бы перестала появляться дома, определив себе такой график, при котором не оставалось бы интервалов для отдыха и встреч с мужем. Но и бросить мужа она не могла — страшилась будущего, того дня, когда подросший сын спросит у нее: «А где мой папа? Кто он? Почему мы не вместе?» И ей нечего будет ответить. Сегодня, когда к ней подошла Зинка Щеголева, культорг, смешливая девочка, почти подросток, угловатая и нескладешная, похожая на мальчишку и плоская, как мальчишка, с короткой ребячьей прической на пробор, твердыми сучками косичек, перетянутых красным репсом. Зинка совершенно не стеснялась своей непритязательной внешности, ей, похоже, было все равно, как она выглядит, — всех парней она отбривала острым находчивым словом. К своим же подругам, особенно неудачливым — на ее взгляд, неудачливым! — относилась с участием и, как могла, утешала их. — Людка, у тебя опять что-то не так? — спросила она, ввалившись в отдел перевозок. — Не так. — Опять муж? — Как тебе сказать... — Ну, Дед Мороз, коричневые зенки! Он дождется, мы его на комсомольское бюро вызовем. Мы ему лысину в обратном направлении расчешем. — Не надо, Зинка. И лысины у него нет. — Будет! — возмущенная Зинка всплеснула руками, косички приподнялись, распрямились воинственно, стали походить на рожки. — Как не надо? Скажешь еще... А если он тебя бить начнет? Нет, этого писаря-писателя надо пропылесосить. Чтоб не думал, что ему все можно. — Зинуля, — осадила ее Людмила. — Отойди от зла и сотвори добро. — М-да? Охотно мы дарим, что нам ненадобно самим, — уверенно, с радостной нераскаянностью выпалила Зинка пришедшее на ум бродячее выражение, и такое стремление к душевному реваншу проглянуло в ее голосе, такая непримиримость к существованию Людмилиного мужа, этого Бармалея, злого духа, Кащея Бессмертного, и такая звонкая боль выбила слезы из ее глаз, что все, кто был в отделе перевозок, заулыбались, а начальник отдела, толстеющий добряк с бледным морщинистым лбом, оторвался от кипы бумаг, рассеянно окинул Зинку взором, потом осмотрел Людмилу, успокаивающе повертел в воздухе пухлой ладошкой: — Э, новгородское вече! Поменьше эмоций. — Людк, знаешь что? — затараторила Зинка. — У нас сегодня экскурсия. На судостроительный завод. Все, кто свободен от полетов, идут. Пошли и мы, а? Людмила вдруг почувствовала, что, если она сейчас откажется, Зинка расплачется. И вот уже опять начал суроветь, набухать слезами взгляд, кончик носа покраснел, задвигался с обиженным недоумением из стороны в сторону и сама Зинка стала еще более некрасивой, размокшей, в чем-то сродни попавшей под дождь сороке. — А? — повторила Зинка. — Пошли, — согласилась Людмила. В ней вдруг вспыхнула ненависть, совершенно безадресная, ни к кому не обращенная. Ненависть эту сменило недовольство. Недовольство собой, бытом, работой, мужем, городом, подругами. Она вдруг подумала о давней, но незабытой встрече с двумя крепкими парнями, дымный неухоженный ресторан, неумелый оркестр, улыбнулась машинально, и на душе у нее оттаяло. — Я сейчас, — заторопилась Зинка. — Надену пальто. А ты спускайся вниз. Все уже внизу. Она по-парнишечьи, с маху, толкнула плечом дверь, вылетела в коридор, застучала по полу, врезаясь в паркет подкованными каблуками. Людмила медленно спустилась в вестибюль, сверху, похоже на перилах, за ней скатилась Зинка, дохнула в шею, за воротник: — Пляши! — Зачем? — не оборачиваясь, спросила Людмила. — Тебе письмо. Только что пришло. Пляши! — Может, конфетой обойдусь? — За конфету не отдам. Конфета — это мало. Людмила притопнула ногой, с дерзким вызовом вскинула голову, потом, расправив руки, провела ими по воздуху, будто ощупывая, пробуя на прочность, отбила давно забытое плясовое коленце, виртуозное, короткое, лихое. Зинка, светясь, чмокнула ее в щеку. Прямо как телушка, нежной стала. И губы телушечьи. — Держи! Людмила взяла письмо в руки: потертый на изгибах конверт, облохмаченные уголки — в кармане долго носили, почерк подпрыгивающий, неспокойный, одна буква больше, другая меньше. Раскрыв сумочку, она втиснула в матерчатое отделение конверт. — Важное что-нибудь? — В Зинкиных глазах мелькнула надежда. Людмила кивнула головой. — Почему не распечатываешь? — Позже. Судостроительный завод поразил ее своей огромностью, силой своей, длиной цеховых пролетов, мощными корпусами кораблей-«полуфабрикатов», обилием народа. Она раньше даже не представляла, что в их городе, далеком от великих рек и морей, могут строиться корабли. Правда, проходя по скрипучему рассыхающемуся мосту через Туру — спокойную неряшливую речушку с черной густой водой, видела, как у причалов бултыхаются светлотрубые толкачи, но никогда не думала, что эти толкачи выпускает шумный громила-завод. — Во сила! — восхитилась Зинка, увидев плавучую электростанцию. Плавучая электростанция была, действительно, необычным судном, и, хотя еще представляла собой просто большой кусок железа, от нее уже исходило что-то жаркое, сверкающее. В Зинкиных глазах вдруг заиграло море, вздыбились пузырчатые соленые волны, небо сомкнулось с водой и в черной неровной прослоине, родившейся на линии соприкосновения, спокойно и уверенно засветился плавучий огонек. Зипка была увлекающейся натурой, непоседой. Завидное качество. Людмиле захотелось стать вровень с Зинкой, сбросить с плеч все неладности, заботы, покориться жизни, судьбе и — будь что будет! — проявить в конце концов характер, расстаться с мужем. Она скупо улыбнулась: попробуй! Никогда она этого не сделает. Наверное, не сделает. Не сможет. По многим причинам. Из-за Андрюшки. Экскурсовод, плотный, в порванном в проймах халате, с грудью борца и бетонной нижней челюстью, имел неплохо подвешенный язык. Голос же его был не в пример внешности — пронзительно высоким, с подвизгом. Глаза с ласковым блеском чаще других задерживались на Людмиле. — И этот туда же, — усекла Зинка, крутнула головой. — Скоро электростанцию мы сбросим на воду, — в произнесенном «сбросим» вместо «спустим» было сокрыто пренебрежение, лихость, рисовка перед хорошенькими экскурсантками. — Сброс проходит традиционно. Избирается крестная мать судна — самая красивая девушка завода. Такая, как вы, — экскурсовод поклонился Людмиле, стукнулся бетонной челюстью о твердую грудь. — Крестная мать разбивает бутылку о борт корабля, а горлышко отдает команде. Команда хранит это горлышко, переписывается с крестной матерью, — экскурсовод снова посмотрел на Людмилу. «После экскурсии телефон попросит», — поняла она с безнадежной усталостью, выбралась из толпы слушателей, пошла к выходу — широким, в две створки, окрашенным суриком воротам, ощущая на себе сожалеющий взгляд. Зинка, топоча каблуками, догнала ее. — Люд, ты куда? Экскурсия еще не кончилась. — Что-то чувствую себя не очень, Зина. — Я с тобой. А экскурсовод-то, а? — Она изменила голос, добавив в него пронзительных тонов, высокости, передразнила: — «Знаете, как делается пушка? Берется длинная дырка, обмазывается горячим железом, получается ствол...» Людмила рассмеялась. Улица встретила их морозной свежестью, яблоневым духом, запахом разломленного арбуза, которым отдавал снег. Людмила вспомнила, как она где-то читала, что молодой, поутру выпавший снежок обязательно пахнет антоновкой либо дарами бахчей — арбузами. Так же пахнет и принесенное с мороза белье, и стылый круг молока с желтой нашлепкой поднявшихся наверх сливок, и сосновая, отделенная от ствола кожура. — Знаешь, мне отец рассказывал, что на месте этого завода еще десять лет назад был пшик. Болотный берег, поросший камышом. Отец ходил сюда бить уток. А сейчас — и-и! — Сколько тебе лет, Зинка? — Много. Старуха уже. — Ты еще не в том возрасте, чтобы не отвечать на этот вопрос. — Двадцать один. — Завидки берут. — Слушай, Люд, а что было в письме? Людмила раскрыла сумочку, извлекла конверт, оторвала от края полоску. Письмо было коротким, короче не бывает. — Чего там? — любопытничала Зинка. — Так, человек один... приехать просит. Зинка взглянула на черный пятак штемпеля. — С севера прислано? Людмила кивнула. — Так поезжай! — Зереново это. — В Зеренове небо закрыто. Ураган. Хороший человек-то хоть? А? — Ничего. Ладно, Зинуль. Домой поеду, посмотрю, как там мой Андрюшка. — Ой, Людк! — Зинка вдруг вцепилась руками в ее пальто, прижалась щекой к плечу, высверкнула одним глазом, другой прикрыла плетью волос; какая-то горестная обида, желание лучшей участи отразились в Зинкином взоре, и Людмила отвернулась от нее. Когда она была дома, коротко затренькал телефон. Людмила подняла тяжелую влажную трубку, притиснула ее вначале к виску, потом сдвинула к уху. — Люд! — услышала она недалекое Зинкино дыхание. — Зереново открыли. Я заявила тебя в экипаж. Давай скорее! — Хорошо, Зинка! Я сейчас! — проговорила Людмила в колосничок трубки, внезапно поняв в этот миг, что созданный за многие годы мир, с его привычками, устоями, неблагополучием во имя Андрюшкиного благополучия, рушится, земля распахивается, принимая ее в свои теснины.
10
Уно Тильк с топаньем ввалился в домик, где остановилась аварийная бригада. Огромный, красноглазый с мороза, сел на лавку, отколупнул от подбородка льдышку, из раздвоины вылущил целую сосульку, поморщился от боли. — Дела, мужики, хреновые. — Говори яснее, — потребовал Вдовин. — Где уж яснее, — Уно дохнул паром. — Скважину нам в короткий срок не задавить. Сложно. И поселок дальше морозить нельзя, за это нас по голове не погладят. — А если погладят, то так, что зубы выскочат. — В двух километрах от аварийной скважины есть еще одна. На консервации стоит. Ее надо срочно освоить, перебросить в поселок шлейф, пустить газ. Иначе детишек из Зеренова эвакуировать придется. — Уно, как быть, если на поселок опять газ с аварийной скважины пойдет? — Предусмотрено и это. В аэропорту возьмем реактивную установку, будем отгонять газ. А потом, скважина за ночь немного поутихла. Гидратная пробка образовалась. Как селедочный хвост в глотке. — Па-анятно. — Но... Скважина сильная, в устье давление около ста атмосфер. Пробку как дважды два выплюнуть может. — Сбитую колонну совсем срезать будем? Или поднимем и хомут на пробой поставим, а? — не унимался Вдовин. — Ах, Контий Вилат, Контий Вилат, Коньячок ты наш. — Уно потер озябшие руки. — Значит, хомут твой как пластырь на порез? Хомут уже готовят. Все, мужики! К скважине! Выскочили из избенки под всполошный вой ветра, гнавшего по снегу колкую поземку, небо было чистым, облака утянуло кверху. У скважины толпилось довольно много незнакомого люда — наверное, местные, поселковцы. — Как, братва? — издали закричал Вдовин. — Хомутино готов? Кто-то — не разглядеть кто, ветер высекал искры из глаз, обволакивал слезами — отозвался хмуро: — Готов, поперек ему в дышло. — В дышло не принимается. — Посидишь неделю на мерзлых консервах — не так заговоришь. — Пробку не вышибло? — Не. Сидит тычок. — А кто шлейф от запаски тянуть будет? — Вдовин подбежал к Уно, нырнул ему под локоть, стараясь заглянуть в лицо. — Они или мы? — Местные будут тянуть. Нам надо эту скважину на ноги ставить. — Ясно-ть. — Осторожно, мужики, — предупредил Уно, — кабы скважина не плюнула! Давление-то сотня! На такой струе стоять можно. — Фонтанирует, сука, — угрюмо пробасил один из поселковцев, мужик с колючими проволочными усами, похожий на таракана. — Бульдозер прислали? — Я с бульдозера. Здесь машина, — отозвался угрюмый, — за будкой стоит. — Движка что-то не слышу. — Ветер из ушей звук выдувает, вот и не слышишь. — Искрогасители на выхлопе стоят? — Стоят. — Движок задраен? — Запакован. — Значит, так. Надо вышку в сторону оттащить. Подцепишь канатом и отволокешь. — Ну. А далее? — Дальше скважину очищать будем. Поваленную вышку зацепили удавкой троса, накинули другой конец на бульдозерный крюк, сам бульдозер, понемногу газуя и пыхая разреженным дымком, сполз на лед Сосьвы, трос натянулся, запел, раскручиваясь и пружиня, гнутые переплетины вышки затрещали, но сама вышка не стронулась ни на миллиметр. — Примерзла, собака, — сплюнул Уно. — А потом, этот деятель по газам вдарить боится, думает, что в воздух взлетит. Да не взлетишь ты, не дрейфь! — проорал он угрюмому. — Газуй! Угрюмый, похоже, услышал, трос заскрипел, задзенькал тоненько, но вышка с места не сдвинулась, она намертво вмерзла в снег. Казалось, не было такой силы, которая могла бы отодрать ее от земли. — Неужто одной машиной не совладаем? Быть того не может. Второго трактора ждать долго. Время идет... Идет время! Каждая минута на счету! — в запале выкрикнул Уно, хрястнул кулаком по поле тулупа. Взвыл ветер, шибанул в лицо мерзлым и колким, как стекло, снежным крошевом. Все разом подняли воротники. — Вот гад, счас повернет, опять погонит газ на поселок, — проговорил Вдовин. — Сейчас не страшно, скважина молчит. Хуже, когда она заговорит. Тогда — да-а. — Газуй! — прокричал Уно. — Слушай, Уно, — притиснулся к нему Костылев, — трусит он, бульдозерист этот. Баба небось, детишки. Ничего у него не выйдет. Дай я! Уно посмотрел на Костылева, прикрывшись от ветра лохматым, со свалявшейся в кудельки шерстью воротником, что-то горестное и обиженное почудилось Костылеву в его взгляде. А может, не почудилось, может, так оно и было на самом деле? Еще он уловил жалость и ободрение. Неожиданно холод ожег Костылева изнутри. Он сглотнул слюну. Неужели Уно боится за него? Боится потому, что не верит? Ему, Ивану Костылеву? Был грех — в аэропорту слабаком оказался, снегом чуть не засыпало. Поиграл желваками. Нет, он не слабак, он еще докажет, что не из робкого десятка. — Чего молчишь? — спросил Костылев. — Не веришь мне, что ли? А? Ну это... После случая в аэропорту? Осечка тогда произошла. С кем осечек не бывает? Прокол на десять минут. Как у шофера в водительских правах. Бывает ведь, а? Уно разлепил белые покусанные губы: — Ладно, Ваня. Давай! А то в поселке, действительно, детишек эвакуировать начнут. Нам позорно будет, если дело так обернется. Костылев, круша крепкий, как фанера, наст, ринулся вниз. Вспрыгнул в пробитую бульдозером колею, по мягкому снегу ему было бежать легче — ноги хоть и глубоко, за щиколотку, утопали в крупяной пороше, но сопротивляемость все же была слабой. Вот только сразу дал знать тулуп — он сдавил тисками плечи, пригибая тело к земле, и Костылев вмиг ослаб, задышал часто, горячечно. На бегу он слышал, как Уно давал кому-то поручение, чтобы разыскали Баушкина, — ветер приносил слова с пригорка, сыпал ему прямо в затылок, и они, замороженные, застревали за воротником, в выбоинах швов, в мехе. Потом донесся крик: — Ваня, будешь тянуть — правь нос бульдозера на пароходы. Костылев вскинул голову — впаянные в сосьвинский лед кораблики розовели кровью, пьяно приплясывали, раскачивались из стороны в сторону, словно вот так, шеренгой, были подвешены к чему-то пляшущему. Внизу газовая вонь ощущалась сильнее, она ела ноздри, от нее мокрели глаза, першило в горле. Костылеву пришлось выпрыгнуть из колеи: натянутый струной трос мог зашибить, а если лопнет, то и вовсе перерубить пополам, как топором. Он побежал по целине, кромсая наст, снеговую мякоть, раздвигая крошево коленями. Бульдозер дрожал, словно в падучей, силясь сдвинуть поваленную буровую, но та срослась своей тяжестью с тяжестью земли. Угрюмый, приплюснув свое бледное, нездоровое лицо к заднему стеклу, растерянно хлопал глазами. Костылев засемафорил ему рукой, угрюмый сбросил газ, растворил дверку. — Чего те? Костылев, не отвечая, забрался на гусеницу, втиснулся в кабину. — Уступи рычаги. Угрюмый подвинулся в угол обвешанной серебром инея кабины, Костылев сел, вытянул ногу, надавил ею тормоз, потом, передвинув торчок скорости на третью, толкнул рукоять газа на всю и тут же сбросил тормоз. Бульдозер рванулся, но вышка не пустила, мотор беспомощно закашлял. — Заглохнет! — завопил угрюмый. — Вижу, — сквозь зубы отозвался Костылев, нажал на рубчатую брикетину тормоза, мотор заработал ровнее. — Ты что? Хошь, чтоб мы на воздух взлетели? — Не нюнь, — жестко, с глухой злостью оборвал его Костылев. — А ну слезай с мого места! Не твой бульдозер... — Пошел вон отсюда! — тихо проговорил Костылев. — Не ты отвечаешь за машину! — угрюмый даже не пошевелился, он приледенел спиной к углу кабины. Костылев вновь отпустил тормоз, бульдозер подпрыгнул; сзади, у клешнины прицепа, что-то затрещало, запело тонко. Костылев прижался к дверце, ожидая, что трос вот-вот расплетется, рубанет по стеклу. Но трос выдюжил, и Костылев вновь притиснул педаль тормоза к полу кабины. — Взлетим ведь! — отчаянно выкрикнул угрюмый. — Брысь! — не глядя на него, пробормотал Костылев. С третьего рывка бульдозер по сантиметрам, по малым крохам пополз вниз, ко льду, к четким угольничкам сонных судов, к толстому ледовому припаю. — Поползла, — сиплым от неверия голосом проговорил угрюмый. — Волокем вышечку, волокем... Можно было прибавить скорость, но Костылев, глядя в заднее стекло, неотрывно следил за людьми, скучившимися на взгорке, — не подаст ли кто сигнал. Он боялся, как бы вышка закорюченными салазками — своим основанием, ногами, ступнями, иначе говоря, — не зацепила аварийную арматуру. Но на горке никто руками не взмахивал, и тогда Костылев развернул нос бульдозера к суденышкам, прибавил скорости. Мотор стал работать тише, спокойнее, без гриппозной дрожи. — Тошнит меня чего-то, — пожаловался угрюмый. — От газа. — Не нюнь, — разлепил губы Костылев. — Жив останешься. — Я бы этим геологам ноги повыдирал, — сипел угрюмый. — А главного — за решетку, чтоб другим неповадно было. — На нервы действуешь!.. — Костылев остановил бульдозер, отработал задний, ослабляя буксир. — Иди, сними трос. И в кабину не возвращайся. Топай назад. — А ты что за начальник? — встопорщил усы угрюмый. — Голова два уха, от земли не видно. — Сказал тебе, на нервы действуешь, — обрезал Костылев. — Закончим ремонт — бульдозер твой назад возвернем. С собой не угоним. Угрюмый выматерился, сплюнул на дно кабины, шаркнул войлочной подошвой унта, растирая плевок. — За самоуправство свое ответишь. — Отвечу! Угрюмый распахнул дверцу, с горловым ахом вывалился на снег, Костылев развернулся и, обогнув угрюмого, по пояс утонувшего в снегу, прогнал машину на взгорок. — Молодец! — Уно Тильк поднял руки над головой, сцепил варежки, потряс ими. Костылев в эти минуты почувствовал себя самим собой. Все, что было ранее, являлось каким-то сном. Да, все, что было раньше, — сон. С реальными, правда, картинами и реальными действующими лицами. А вот сейчас он как бы проснулся и понял, что жизнь вошла в свою обычную колею, что сам он — человек с мускулами, головой, волей, желаниями, что он далеко не мямля, каким показал себя на аэропортовском поле. — Того дурня, бульдозериста, я ссадил с машины, — заявил он. — Ссадил так ссадил, — Уно похмыкал в кулак. — Сейчас придет Баушкин, и мы это дело утвердим. А ты молоток, вышке лапы приделал по первому разряду. Скоро арматуру подымать будем. Готовься. Только сейчас, когда рядом со скважиной не громоздилась поваленная вышка, Костылев заметил, какой странный снег вокруг, ноздреватый, с сальным блеском, древесно-пеплового цвета. Спаленный жоркими газовыми струями, снег был проеден до самой земли — то здесь, то там виднелись глубокие сусличьи норы. Слом — рваная щель, подсекшая основание газовой колонки, толстостенная, присыпанная махрой вымерзшего газа — зиял жадно, как ненасытный рот фантастического животного, был щемяще-пугающим, таил в себе опасность. Опасность чувствовалась и по глухому нутряному бормотанию, раздававшемуся в глуби рта. В любую минуту слом мог рыгнуть секущей газовой струей, выбить глаза, содрать кожу с лица. Надо было спешно поднимать арматуру, крепить ее проволочными оттяжками, как иногда крепят с землей телефонные столбы, стоящие вдоль сельских проселков, щель же — окольцовывать хомутом. Хомут — это две полукруглые тридцатикилограммовые железяки, сцепляющиеся мощными, в руку толщиной, болтами. Сверху, с горы, с сухим шелестом свалилась упряжка. Маленький ловкий Баушкин соскочил с нарт, еще не сбавивших бег, подкатился к Уно. — Товарищ Баушкин! А, товарищ Баушкин! — всхлипнул завершивший свое горное восхождение угрюмый. — Меня с бульдозера ссадили. За что? — Не нужен ты нам, — сказал Уно. — У нас свой бульдозерист есть. Работа рисковая, тут свой человек необходим. — Свой так свой, — согласился Баушкин. Маленькие вороньи глазки его ничего не выражали, лицо тоже было непроницаемым. — Вышку к воде оттащили — это хорошо. Бульдозериста я забираю, машину оставляю. Это раз. Агрегат для задавки сегодня доставит вертолет. Это два. Народу сколько хотите — столько дам! Со всех работ сниму — вам отдам. Только одно надо — пустите газ в поселок. Иначе поселок вымерзнет. Баушкин замолчал, копнул разукрашенным цветными фетровыми полосками пимом снег, поддел смерзшуюся глутку, ловко отбил в сторону. — А, товарищ Баушкин? — вновь заговорил угрюмый. — Будешь под ногами путаться — вовсе машины лишу, — предупредил Баушкин. — Понял? Арматуру подцепили проволочными вожжами, Костылев тихими, крабьими рывками подогнал бульдозер, концы накинули на клешнину прицепа, и Костылев, правя бульдозер то вправо, то влево, начал поднимать рукастую, украшенную штурваликами вентилей арматуру. Он взмок в несколько минут, пот густой изморозью выступил на лбу. Заледенев, изморозь обжигала кожу. Костылев морщился, играл желваками оттого, что не может отнять рук от деревянных катушек рычагов, содрать ледяную корку со лба и щек. — Сто-о-оп! — донесся до него крик, и Костылев всем телом надавил на педаль тормоза, потом поднес дрожащие руки к лицу, отерся. — Де-ержи мертво! Не отпускай, — послышался вопль Уно. — Чтоб арматура ни на сантиметр! Иначе вся малина проки-и-иснет! — Добро, — тихо отозвался Костылев, вывернул голову, глядя, как Вдовин, с помощью незнакомого Костылеву низенького человека, натягивает на устье скважины толстобокий хомут, а рядом с ними, выгнув острый, как у кузнечика, хребет и раскинув тонкие, чего даже не смогли скрыть ватные штаны, ноги, ждал на подхвате парень в барашковой шапке-кожанке с болтом в одной руке и гайкой в другой. Когда Вдовин и низенький смежили половины хомута, парень кинулся к ним под ноги, быстро заработал руками, высоко отрывая от тела локти. Из-под хомута вдруг с пронзительным вязким шипением вырвалась густая ореховая струя, окутала людей тяжелыми лохмами тумана, из которого тут же вывалился верткий Баушкин, начал тыкать рукою воздух. Костылев увидел, что на крутобоком холме, из-под которого, как яйцо из-под курицы, выкатывался их взгорок, стоит странная, похожая на торпеду машина, выкрашенная в салатовый военный цвет. Машина пустила кучерявый дымный столб. Костылев различил, что машина эта — обыкновенный грузовик, у которого вместо кузова на мост поставлен старый самолетный мотор. Реактивный. Свое отлетавший, но в дело еще пригодный. С помощью таких моторов чистят взлетные полосы, оголяя бетон от ледяных наростов. Водитель высунул из кабины свое слизанное расстоянием лицо, и тут же из-под кормовой приплюснутости торпеды выхлестнула длинная струя. Вверх, как от взрыва, полетели какие-то обугленные деревяшки, комки снега, облако выгнулось парусом и, раскромсанное, раздерганное, покатилось по наклонной на сосьвинский лед. До Костылева донеслись какие-то крики, какие — не разобрать, сплошное многоголосье, в прогалине расступившихся людей он увидел лежащего ничком худосочного парня, потом ожесточенное лицо Уно, зажавшего в зубах угол воротника и делающего быстрые резкие движения. Костылев понял, что Уно заворачивает хомут. Вскрикнул — боль, тупая, оглушающая, колом вошла в него, он закашлялся, тычась ноздрями в борт полушубка, втягивая в себя кислый ворванный запах, но боль не оставляла его, наоборот, она росла, распирая грудную клетку, давя на позвоночник. Костылеву стало нечем дышать, в мозгу билась мысль, что надо выдержать, надо переждать, удушье должно схлынуть — ведь газ-то уходит. Боль застряла где-то у горла, словно наткнулась на преграду, и разом опала. Костылев увидел, что худосочного парня уложили на нарты и каюр, замахнувшись на собак длинной, похожей на острогу палкой, погнал упряжку вверх. Попав под струю, выхлестывающую из-под реактивного грузовика, упряжка сбилась с ритма, две или три собаки с безмолвным визгом кувыркнулись, подминаемые соседками, оленьи шкуры, постеленные на нарты, задрались, переворачивая упряжку, но в следующую секунду собаки вынырнули из струи и наметом пошли в гору. Струя проходила над головами людей, они пригибались, спасаясь от тугой волны. Арматура тряслась, дрожала, грозя завалиться под напором, но ее из последних сил держали люди, держали оттяжки, бульдозер. Уно Тильк поднялся с земли, не выпуская из рук ключа, отер варежкой лицо. Все, поставили хомут! Но скважина продолжала сифонить, выхлестывать из-под хомута. Правда, слабо. Уно открутил штурвалики вентилей, освобождая струю, пропуская ее вверх, через концевину арматуры. Костылев понял, что одного хомута недостаточно, нужно будет ставить второй. Увязая в снегу, дымно окутывая себя дыханием, прибрел Вдовин, забрался с хриплым кряхтением в кабину бульдозера, привычно подул в нос. — Атмосфер двадцать пять токо держит, одного хомута маловато. Счас еще один привезут. — А с этим щуплястым что? — С болтом который? — Вдовин подергал плечом. — В обморок хлобыснулся. Струей его подшибло, газов немного хлебнул. И мы хлебнули ба, если б не ветродуй с горы. Он и спас. А я к тебе погреться пришел, — доверчиво сообщил он. — Хоть и холодно у тебя, как и снаружи, но все железом от ветра защищенный. Да и мотор работает, теплит... — Давай, грейся. У меня тоже не сахар тут, тоже газу хлебнул, чуть шары под шапку не уползли, еле сдержал. — Быстер он, газ. Как ртуть, быстер, — подумав, сказал Вдовин. — Чуть проворонишь, глядь, ты уже отравленный. — Воронить меньше надо. С горы спустилась упряжка, резко затормозила у скважины. Вожак, пригнув голову, не рассчитал и снарядом вошел в снег, скрылся в его мякоти. Подбежавший каюр, такой же, как и Баушкин, маленький, верткий, в мохнатой одежде, помог псу выбраться из снегового плена. — Во, новый хомут притаранили. Побегу. — Вдовин распахнул дверцу, неуклюже раскрылатившись, спрыгнул в снег, смешно подпрыгивая, побежал к скважине. Через несколько минут поставили второй хомут, но арматура продолжала сифонить, газ кудристыми струями высвистывал из-под обоих хомутов, держа людей на расстоянии. — Вот Геббельс, будь ты неладен! — ругнулся Костылев. Уно махнул ему, приказывая ослабить натяг, Костылев подал бульдозер назад, заглушил мотор. Было слышно, как ревет на горе реактивный грузовик, сгоняя вниз, в речную пойму, газ, да соперничает с ним поднимающаяся поземка, с пронзительным тоскующим подвывом бросая в стекла кабины пригоршни снега, скребет по дну машины, нагнетая в душу одиночество. — Ну и гадина! — Костылев вылез из кабины и, разгребая руками снежные смерчи, прикрываясь от болезненных укусов поземки, притащился к скважине. — Мотор заглушил? — прокричал ему Уно. — Элементарно. — Что так? — Перегрелся. Пусть охланется. — Лады. Пошли военный совет держать. — Случилось что? — Хомуты газ пропускают. Надо другую конструкцию придумать. Заодно перекусим. — Мерзлыми консервами? — Больше нечем. Еще сухари есть.
11
— Слушай, голова, — Уно выскреб со дна банки, из углублений швов, мясные катыши, отер нож о ноздристый съеженный сухарь. Баушкин взглянул на него, в бусинках глаз отразилось что-то тревожное, печальное. — Ты мне? — спросил он, качнулся из стороны в сторону. Предпоссовета сейчас был похож на мудрого древнего божка — коричневыми лакированными щеками, кругло выпирающими скулами, нежной немужской кожей. — Плохо дело, голова, — сказал Уно. — Вижу. — Ничего на подмен хомутам придумать не можем. Хреновые наши котелки, варят не того, вполпровара. — Что делать? — Хо, мужики! — вдруг подскочил Уно. — Голь на выдумки хитра. Идея есть. А что, если хомуты окольцевать? Ну... Двумя полугрушами! Когда стянем — не груша, а грыжа получится. Вроде болевого нароста на ветке, а? Хомуты и будут подстрахованы этой грыжей. Идея или нет? — Идея — засопел Вдовин. — Спасибо, Ксенофонт, ты же Контий Вилат, ты же КВ, желанный коньячок. А как Ваня к грыже относится? — Положительно, — отозвался Костылев. Стали думать, где же можно добыть готовую грыжу. — Надо прикинуть, — Баушкин склонил голову, волосы смоляно блеснули в дневной тусклоте. — Некогда прикидки делать, — встряхнул его Тильк. — Сам говоришь, вот-вот ребятят эвакуируешь... Да? Значит, времени нет. — У геологов склад имеется. Только на замке склад этот. — Собьем замок. Ксенофонт! — зыркнул глазами Уно. Вдовин вскочил, пришлепнул ладонь к уху: — Слушаю, ваше величество! — Бог в твоем рождении виноват, — произнес Уно. Вдовин подул в нос, звук получился печальным и музыкально чистым — Ксенофонту бы в оркестре вместо саксофона выступать. — Естественно, бог, — отозвался он. — Вот только был конец смены и бог заспешил... Результат перед вами — получился не человек, а что-то непонятное. Ксенофонт Вдовин, словом. Шебутной. — Шебутной, верно, — согласился Вдовин. — Но... В общем, местами живу ничего. — Вот-вот, нюх тебя никогда не подводил. Возьми ломик и двигай с головой на склад. Две полугруши нужны, ты представляешь какие? Чтобы на хомуты налезли. За стенкой домика заскрипел снег, в запорошенном морозом оконце ничего не было видно, только мелькнули серые неясные тени, отразились, как на экране, и все исчезло. — А нам передых, — Уно достал из кармана сложенную вдвое тощую книжицу, развернул ее. — Хорошая книжка. Летом у буков купил. — У кого? — спросил Костылев. — У букинистов. Начал читать, да все недосуг до последней корки, до обложки добраться. Уно вздохнул, лицо его ослабло, словно обрезали какую-то нить. — Хочешь, чтоб от скуки не сдохнуть, расскажу о русских орденах? Эта книжка об орденах, — он хрястнул пальцами по затрепанной обложке. — Интересно. Знаешь какой первый орден счеканили на Руси? А? Еще при Петре Великом? — Неа, — шевельнулся Костылев. — Орден Андрея Первозванного. А давался орденок вот за что... — Тильк перевернул несколько страниц. — «В воздаяние и награждение одним за верность, храбрость и разные нам и отечеству оказанные заслуги, а другим для ободрения ко всяким благородным и геройским добродетелям, ибо ничто столько не поощряет и не воспламеняет человеческого любочестия и славолюбия, как явственные знаки и видимое за добродетель воздаяние». Каково? — Высокий штиль. — Петр Первый, вишь, скупцом оказался. Орден учредил, а за всю жизнь только сорок штук вручил. Сам получил, например, лишь через пять лет после учреждения. А вот еще... Бабий орден был. Орден Святой Екатерины назывался. Катькин орденок. Получали его придворные дамы. Один только раз получил его мужчина — сын Меншикова. Александр. Фамилия, между прочим, со здешними местами связана. За застенчивость почти что женскую — вон за что парень орден получил. Вот какой у парня характер был! — Уно восхитился и даже подпрыгнул на скрипучей скамье. — У меня дед «Георгия» за русско-японскую имел. Про «Георгия» что написано? — Георгиевский крест... Та‑ак. Четыре степени. Вначале вручали четвертую степень, потом все подряд до первой, а потом банты давали. С бантами ты считался полным георгиевским кавалером ив баню мог ходить бесплатно. Был такой солдат Аввакум Волков, так он пять «Георгиев» имел. Единственный человек в России. Четыре креста получил, что и твой предок, в японскую, а когда началась война девятьсот четырнадцатого года, он в первом же бого захватил немецкое знамя и получил еще один крест, пятый. Золотой. Это, значит, крест первой степени. — Еще какие были ордена? — Царских — ого-го! Целый воз и маленькая тележка. Кроме крестов были звезды. Например, царева звезда Александра Невского. Еще ордена святого Владимира, Анны... — На шее? — Ага. — У Толстого читал, — Костылев увидел, как Уно поднял голову, насторожился. — Не у Толстого, а у Чехова, во-первых. Грамотей! А во-вторых, кто-то идет к нам. КВ с Баушкиным? Вроде бы рано. И визг под подошвами больно легкий. Похож на женский. — Откуда здесь быть женщине? — Костылев вдруг ощутил, как лицо его наполняется жаром. Он прикрыл глаза, вздохнул — почудилось, что в их промерзлой избенке душно, она насквозь, до пакли, вконопаченной в пазы, прокурена, пропахла потом, старой щекотной пылью, здесь ни жить, ни обедать, ни принимать гостей нельзя. Живущий в такой хижине должен сторониться самого себя. Он размежил веки, и серпик света высветил ему глазницы. На пороге избенки стояла Людмила Бородина, в узкой, в талию, шубке, с мохеровым шарфом, подпирающим подбородок, такая далекая и такая близкая одновременно, так необходимая Костылеву, ну просто как спасение необходимая... Уно, разом обомлев, прервал свое бормотание про ордена, захлопал глазами, не зная, что сказать. — Здравствуйте! — проговорила Людмила. Костылев, зажмурившись до ломоты в подскульях, вдруг поймал себя на мысли, что, встреться они в городе на улице, он не узнал бы Людмилу — ничего общего с той беззаботной, царственной женщиной, которую он видел осенью. Эта Людмила была лучше, ближе, роднее той, осенней, от которой остался только вздох сожаления. — Я смотрю, что ты, потомок георгиевского кавалера, не рад гостям. Насупился. — К-как не рад? — произнес, освобождаясь от забытья, Костылев. — Девушка, у нас авария. На скважине, — сказал виновато Уно. — Так что все мы немного чокнутые. Во всем поселке теплого места не сыскать. — Вижу, — голос у Людмилы был низким, без чистоты. Да и не нужен Костылеву голос с чистотой. Вода дистиллированная. — Ваня, даю тебе два часа свободного сроку. — Встретив вопросительный взгляд, Уно пояснил: — Все равно раньше мы полугруши не достанем. А если достанем, то их еще сваривать надо. В поселке сваривать нельзя — если газовый сброс, то рванет. Надо выезжать в тундру, на открытое место. Костылев с ужасом подумал, что на улице мороз трескучий за минус тридцать (хотя сегодня немного отпустило), он же заморозит ее! А с другой стороны — в избушке так же холодно, как и на улице. Что там заморозит, что тут... Эх, как хотелось ему сейчас тепла. Он понял, что время обрело для него новую ценность, и за это переосмысление настоящего он в первую очередь обязан Людмиле. Он взял ее за руку, оглядел избенку, находя в ней неведомые доселе приметы. Сейчас и прокопченный, в молниях трещин потолок, прогибающийся под тяжестью наваленной с чердака земли, стал одушевленным, и скудная утварь — старый стол с постеленной на нем дырчатой желтой газетой да несколько топорно сработанных скамеек — все это роднило его сЛюдмилой. — Прости, мы тебя даже чаем угостить не можем, — Костылев обратился к ней на «ты», но она даже не удивилась этому. — Кипятку нет... Электричество отключено. Взрыва боимся. — Как на войне, — тихо, с прощающей улыбкой проговорила она. Костылев первым вышел на улицу, крепкий морозный воздух спер ему дыхание. Особым, прочищенным взглядом он разглядел зереновские окрестности. Поселок расположился вдоль круто взмывшего берега, высоко поднятого над рекой. Самой реки, тока воды не чувствовалось, стянул трехметровый лед. И если бы не спичечные коробки вмерзших в припай суденышек, которые, впрочем, больше были похожи на маленькие комфортабельные домики, чем на «боевые единицы» рыбацкой флотилии, — рубки украшали островерхие снеговые наросты, на палубах сугробы — словом, если бы не суда, тоже бы ни за что не угадать, что под Зереновом протекает могучая северная река, широко известная своей рыбой — мягкой сельдью-тугуном, подававшейся когда-то к царскому столу и умилявшей своим отменным вкусом светский Петербург, нежным, тающим во рту муксуном, сырком, сигом. За Сосьвой тянулась унылая долгая равнина — сорные луга с множеством мелких глаз-озерец. Весной эти луга становятся дном моря разливанного, вода спадает лишь летом. Луга эти далеко-далеко, у черта на куличках. Отгорожены они от прочей части земли низеньким сизым леском. Зереновские избы, крепкобокие, прочно пустившие корни, каждая в снеговой выбоине, как птенец в гнезде, были сплошь деревянными, хотя некоторые по последней моде были обиты шиферными пластинами, пластины эти заколерованы яркой, весенней свежести краской, отчего домики имели радостный, как пасхальные куличи, вид. На берегу, сваливая шапки вниз, росли тяжелые мрачные сосны. На околице же Зеренова, как и в самом поселке, никакой растительности не было, вымерзала каждый раз, когда сажали, — люди говорили, что здесь к жилому пласту земли примыкает ледяной слой. Они молча шли по твердой, отутюженной морозом тропке, ведущей на береговой сбой, под сосны. Людмила — впереди, Костылев, защищая ее тулупом от несильного, но злого, пробирающего до костей ветра, — сзади. Сосны недобро зашумели, когда они стали искать у толстых шелушистых стволов приюта, хвоя на деревьях была ржаво-черной, плесневелой. Не хвоя, а мох какой-то. Веяло от сосен чем-то могильным, устрашающим, древним. — Дико как, — проговорила Людмила. Она замерзла, лицо побелело. Костылев боялся пригласить ее к себе под тулуп, потом догадался, стянул с плеч, накинул на спутницу, сам остался в телогрейке. Она молча запахнула полы. Тулупом можно было обвить ее три или четыре раза. Ослабленный морозом и расстоянием, до них доносился пещерный рев ветродуя. Костылев, откинув ухо ушанки, прислушался к реву. — Долго не протянет. На перегрев работает. — Как определил? Еще одно «ты» — теперь уже с другой стороны. И тоже незамеченное. Как само собою разумеющееся. — Высоким голосом рычит. Мандолинные звуки появились. — Дико как, — повторила Людмила. — И мертво. — На ночь мы часового выставляем у своего дома. И поселок выставляет... С деревянным молотком у лемеха. Чтоб чуть что — тревогу забить. — Почему с деревянным? — А искра? Железо об железо искру дает. — Эге-а, вот вы где? — раздался сзади голос, Костылев оглянулся, увидел, что, ловко перебирая ногами тропку, к ним катится Баушкин, лицо в улыбке, бусинки радостно распахнуты. — Достали полугруши. Были на складе, ваш старшой замок сбил. — Он остановился отдышаться, окутался белым паром, словно паровоз. У Костылева даже душа погорячела от одного его присутствия. — В-вот, — Баушкин ступил в сторону, сгреб узким, штанинным отворотом пима снежную пыль. На тропе, словно возникший по мановению волшебной палочки, стоял каюр-провожатый с невозмутимым лицом, крепко притиснув к себе тугой, в лохмах, ком. — Тулуп еще один принес, — пояснил Баушкин. — Чтоб не замерзли. — Спасибо, — Костылев поймал брошенный каюром ком, расправил, натянул тулуп на плечи. — А я экскурсию вам преподам, пока ребята грыжу варят. — Прямо в поселке варят? — Нет, в тундру покатили. Людмила улыбнулась: там, на сибирском юге, в городе Тюмени, была экскурсия, и здесь, в Зеренове, тоже экскурсия. — В наших местах когда-то отбывал ссылку Меншиков, это вы знаете, — сказал Баушкин. — У меня сродственник есть, тоже Баушкин, сухой, сивый, как ягель, и очень подвижный мужик. Он долгое время работал у нас в конторе связи, бабкам пенсии разносил. Бывает, принесет бабке деньгу, та его — за стол, на чай с морошковым вареньем. Каждая вторая про Меншикова да про прочих ссыльных царедворцев рассказывала. Интересно ведь. Дом, где жил Александра Данилыч, никто уж, конечно‑ть, не помнит, а вот могила — та в помине существует. Баушкин протопал вниз, к облупленной кирпичной часовенке с низко опиленным шлемом, от которого падала серая, в сумеречь, тень, дряблая и беспокойная. — Вот здесь чуремухи раньше росли. Вот тут, подле церковки, а у чуремух могила была с чугунной плитой индивидуального литья. Под плитой и лежал Александра Данилыч. — Где же сейчас плита? — словно из забытья, спросила Людмила. — Где могила? — Одному богу известно, — отозвался Баушкин. — Внизу Сосьва течет, речка с норовом, буйная. Она и подмыла яр, где была могила Меншикова, унесла с собой. Одна бабка сказывала моему сродственнику, что видела вещий сон, будто из часовенки вышел человек и прямо по Сосьве, по воде пошел вдаль, в синеву, в сорные луга, в пространство. И растворился в этом самом пространстве. А потом здесь — он вышел из этой вот церковки — выросли сосны. И Костылев и Людмила одновременно подняли головы — в мрачном шуме им почудились тихие шаги знаменитого своей неуемностью старца, потом на них хитро глянул, прикрытый редкими длинными ресницами, серый глаз. Сосны донесли до них звук кашля, щелканье лопавшихся пузырьков слюны в углах ухмыляющегося рта, щеточный шорох усов, грузное, придавленное болезнью дыхание — все это было так материально, что сразу свело на нет радостные ощущения, оставшиеся после встречи. Эх, сосны, сосны колдовские. Они посмотрели на вымоину, напоминавшую след гигантской подошвы, похоже сапога. След был углублен там, где должен быть каблук. И как только сосьвинская водная круторядь взобралась на такую вышину? Неужто она лизала закраину огромного обрыва, неужто? Какая же прорва воды заключена в этой незлобной реке? — Миноискателем плиту не пробовали нащупать? — спросил Костылев. — Она ведь здесь, в земле, ржавеет. — Нет. А зачем? — Для истории. — Еще неизвестно, как историки к Меншикову относятся, — мудрым голосом произнес Баушкин. — Но в историю он же вошел. — Ну и что? С одной стороны, политический деятель, сподвижник Петра, военачальник, с другой — кутила, бабник, это всем известно. — Все равно плиту извлечь надо бы. Это же принадлежность могилы. Если покопаться тщательней, то и кости можно найти. — Можно. Все можно. — Установили бы плиту. С русской вязью «Александр Данилович Меншиков». Знаете, как туристы к вам потянулись бы? Из-за кордона приезжали б. — Э-э! — отмахнулся Баушкин. — А вот и не «э», — вмешалась Людмила. — Это же деньги для Зеренова. Статья дохода. — Помедлила. — Жаль все-таки Меншикова. — В тридцатых годах раскулаченные переселенцы строили на берегу ледник, — выбрав из голоса звонкость, заговорил Баушкин, — и выкопали из земли плиту. На плите было начертано «Александр Данилович Меншиков». Но никакого значения ей не придали и заложили плиту в фундамент... По прямой, внизу, как раз напротив похожей на след вымоины, горбился едва приметно ледничок — небольшой склад, в каких обычно хранят рыбу до сдачи на морозильные баржи. Что он таил в себе, ледничок, какие еще тайны скрывал? Неужто Меншиков, фаворит Петра Первого, вояка и кутила, симпатяга, так хорошо знакомый по роману Толстого, кончил свои дни здесь, в этом мрачном, дрожь выбивающем месте? Нынешний люд, историки, краеведы, прочие разные знатоки пытались и пытаются отыскать хотя бы следы меншиковской могилы, но не находят, ибо от могилы остались только рассказы, похожие на небыль, да памятки в старушечьих головах. Поди проверь, что верно, а что неверно. — В прошлом году ребятята игрались в песке, — Баушкин широко расставил ноги, покачался с пятки на носок, с носка на пятку, — пещеру себе рыли и выкопали белую-пребелую косу в полуистлевших лентах и в золотых монетах. Косу принесли в школу к историку, тот в область, в музей дал знать. Приехал из области ученый муж, сказал что эта коса — Марии Меншиковой, Александры Даниловича дочки. — А сколько у Меншикова детей было? — спросила Людмила. Костылев подумал, что он свои вопросы часто с «а» начинает и, вон какое совпадение, Людмила свои вопросы тоже любит начинать с «а». — Трое. Две дочери, Мария и Александра, и сын Александр. Костылев вспомнил о бабьем ордене, о том, что один мужчина был награжден этим орденом — за застенчивость — меншиковский сын Александр. — Мария умерла здесь, не вынесла ссылки. Как и отец. А дочь и сын, Александра и Александр, вернулись в Петербург. Да. А вообще, приезжайте к нам летом, — добавил Баушкин без всякой связи. — Летом у нас красиво. Ночи светлые, как дни, все зелено, до самого утра люди по поселку ходят, счет времени теряют. В саду оркестр до восхода солнца играет. Танцы... Костылев представил себе спокойный речной берег, явственно услышал зуд комаров, далекий голос оркестра, по-свойски, родственно вписывающийся в тишину, в музыку летней природы. Отсчет нового дня здесь начинается в леске за сорными лугами, чудом удерживающемся на гриве, всплывшей из болотной бездони. До этого леска бог знает сколько сини, в день не одолеешь. Костылев почувствовал, что он начинает обретать складность речи, к нему приходят красивые слова, уже слышит их шум, возню в груди, в горле, под языком. Пропадает скованность, робость. — Я пошел, — сказал Баушкин, — вам каюра оставляю, если что, мигом доставит. А вообще, приезжайте, девушка, летом. Вам понравится. Честное слово. — Мне ведь тоже пора, — тихо сказала Людмила, повернулась к Костылеву, и он с ужасом ощутил, каким же дудаком, глупой птицей был, он ведь ей ничего не сказал — ничего из того, что должен был сказать... — Через двадцать минут — в обратный полет. Рейс по расписанию. — Так сразу? — спросил Баушкин. — Опаздывать нельзя. «Вот и закончился этот дивный день», — с грустью подумал Костылев. Усмехнулся: ну и слова же всплыли в памяти — «дивный день»! Девятнадцатый век. — До свиданья, Костылев Иван. Было очень приятно видеть... — Людмила, — Костылев перебил ее, сглотнул, горло запорошило чем-то горчившим, пылью, мелом, врачебным снадобьем, он сглотнул еще раз, проталкивая в себя тугой застойный ком. — Прилетишь еще? Сюда, в Зереново, или туда, на трассу, а? — Не знаю, — она повернулась, пошла по тропке к нартам, обрамленная белесым морозным сиянием, погруженная в себя, в свои заботы и радости. Не знал Костылев, что ей в эту минуту хотелось плакать. Снег хрустел, как старый крахмал, под подошвами, повизгивал злобно, торжествующе, полы тулупа чистили тропку за Людмилой, вздыбая столбики-кудряши, а мороз был такой плотный, что сквозь него надо было продираться. Где-то внизу на сосьвинском льду ветер крутил зигзаги, хохотал нечисто, выл, ухал трубно, а здесь было тихо. Людмила села на нарты, подогнула под себя полы тулупа. Костылев понимал, что теряет ее, но не мог сделать и шага — куда только подевалось успешно родившееся красноречие, которое, он чувствовал, подоспело и вот-вот готово было выплеснуться, и вдобавок ко всему почему-то исчезла сила, его мужицкая мускульная сила, физическая мощь. Жизнь ослабла в нем, затихла, он понимал, что являет собою смешное и жалкое, нечто ненормальное. А ведь сделай сейчас Костылев хотя бы один шаг, ринься к ней, она пошла бы ему навстречу. Сама же сотворить этот шаг она не могла. Каюр вскинул острогу, гортанно взрезал воздух криком, замерзшие собаки с места взяли вторую космическую, только пороша взметнулась снопом, накрыла упряжку, брызнула стеклом на Костылева, он схватился за лицо руками, а когда раскрыл глаза, упряжки уже не было. Только издалека, из низины, донеслось скраденное морозом, горькое: — ...а-а-ай-мм! — Прощай, — шевельнул он в ответ деревянными губами, подбрел к сосне, с силой ахнул кулаком по ее толстому железному стволу, сверху донеслось беличье хихиканье, он поднял сухие, жаждущие расправы глаза, но на сосне никого не было, лишь ржавая кудель хвои трясинно шевелилась. Костылев поплелся по тропке к избенке, где, одинокий, молчаливый, сгорбившийся, в позе лилипута, сидел Баушкин. — Ребята еще не вернулись, — сообщил он. — Жду. А ты чего так рано? Проводил даму? — Уехала. — То-то, смотрю, потерянный. Говорят, небесная дама? — Летает. — Я с ней летел однажды. Обходительная, не злыдня, человека понимает. На тебя она хорошо смотрела. Поссорились? Жена? — Нет, не поссорились. И не жена. — У нее печаль на лице. Неприятности у нее. Похоже, домашние, а вот когда к тебе повертывалась, печаль сразу пропадала. У меня глаз верный. Пылинку на луне разглядеть могет. Белку за сто метров в зрачок бью. Из мелкашки. Нащупаю гвоздиком головку — и хлоп пулю! Белочья душа комочком, как птица, под облако упархивает. Когда план по пушнине не выполняли, я вместе со всеми охотниками на промысел ходил. — Про Меншикова вы хорошо рассказывали. — Рассказ как рассказ, ничего нового, ничего старого. Вода. — А мне показалось — правда. — Это и есть правда. Тут многие похоронены, не только Меншиков. До сих пор скелеты в золотых эполетах, с орденами на ребрах выкапываем. А вот кого выкапываем — не знаем. Сосланные в немилость, бывшие царевы правые руки. Костылев услышал снежное хрумканье, поднял голову, стараясь разглядеть в залепленном инеем оконце, кто идет — Уно или не Уно? Уже пора бы ребятам вернуться. — Это каюр, — сказал Баушкин. Дверь отворилась, в прогал с тихим шипением втиснулся холод, расстелился на полу. — Ишь, мороз как аккуратно вполз. Как собака. На улице ему несладко, в избе все-таки теплее, чем снаружи. — Слушай, каюр... — Его Василием зовут. Василь Васильевичем. Каюр молча посмотрел на Костылева, потом покосился на заветренное снежное оконце. — П‑пря‑мо в с‑са‑мо‑лет п‑по‑садил, — сказал он медленно, с растяжкой, заикаясь. Чувствовалось, что этот человек говорит мало, больше делает. И Костылев, если бы был в таких неладах с речью, тоже бы мало говорил. — Спасибо, — Костылев заморгал благодарно, чувствуя, как у него теплеют руки, влажнеет лицо. Что-то с ним происходит, что-то все время он оказывается не в своей тарелке. — А братва наша все не возвращается и не возвращается, — сказал он, лишь бы что-то сказать. — Нет и нет. Каюр прислушался, вытянул голову. — Уже едут, — произнес он медленно. — М‑и‑нут ч‑через де‑сять б‑буду‑ут здесь. Т‑три в‑вер‑сты до н‑них. — Вот это слух! — восхитился Баушкин.
12
Грыжу ставили уже в темноте, в прожекторном ослеплении, когда тени кажутся сажевыми и в них ничего, даже собственных рук, не разглядеть, а на свету каждый предмет больно бьет бликами, врубается в глаза, вышибает слезу. Слеза тут же смерзается, не дает разлепиться векам, и каждый матерится. Все мешают друг другу, нет слаженности. Пришлось снова подтягивать хомуты, один не выдержал и дал течь. Хорошо, что дыра хоть была не больше игольного укола. Она возникла внезапно, совершенно неслышная в хрипе ветродуя, шлющего им с крутизны холма спасительную струю, в вое ветра, в промозглом кряканье поземки. Только вдруг из-под железной обвязки выпросталась острая, как ножевое лезвие, струя, саданула по фетровому голенищу чьей-то бурки. Владелец обувки незряче вскинул голову, завопил благим матом. — Молчать! — что было силы заорал Уно. — Глинопорошок сюда! Костылев метнулся, услышал, как за спиной взвизгнул Вдовин: «Вань, погодь! Я подмогу», от груды мешков с глинопорошком отодрал один, потяжелее, плотный, с металлопрокладкой, подтянул к животу и, шатаясь, пострашневший, со съехавшей на затылок и зацепившейся завязками за горло шапкой, заковылял к скважине, совершенно не чувствуя тяжести ноши. В мешке было более центнера веса — точнее, сто двадцать килограммов. — Ванька! Давай я подмогу! — прыгал около него Вдовин, смешно потрясывая головой. — Пу-усти! — выдохнул Костылев, чувствуя, что кровь вот-вот брызнет из носа. — Пр‑рочь! Вдовин, раскрылатив руки, сверчком скакнул в сторону. Костылев подковылял к скважине и, прицелившись налитыми натугой глазами к едкой вихрастой струе, с коротким облегчающим кряканьем припечатал боковину мешка к арматуре. Мешок задергался, зашевелился, как живой, у него в руках, забился, будто поросенок, которого собрались прирезать, и тогда Костылев, не думая ни о чем, навалился на мешок всей тяжестью тела, вцепился руками в крестовины арматуры, притянул к себе, замер, боясь пошевелиться. — Затя-ягивай хомут! — услышал он крик Уно, сосредоточил внимание на струе, на беспокойном шевелении мешка, подумал, что худо будет, если струя разрежет металлическую оплетку, пробьет глину, доберется до живого тела. Тогда беды не миновать... — Ваня-я! — плясал сбоку Вдовин, его оттянула за полушубок рука с зажатым в пальцах гаечным ключом, поддела похожей на рачью клешнину раздвоиной под хлястик, и Ксенофонт исчез. На скважину, на усталых людей обрушился снеговой охлест, больно запорошил лица. Костылеву стало совсем туго — кожу, щеки, лоб больно саднило, обмороженные уши одеревенели. Он начал думать о постороннем, вспоминать смешное. Совсем некстати пришла картинка из детства. Ново-иерусалимские окрестности, добрые говорливые ели на опушке леса, иссиня-белая лыжня, по косой перерезающая поле. Шли школьные соревнования, лыжная гонка на десять километров. Каждым овладел азарт, воинственное желание победить, выделиться, чтоб было чем похвастаться перед девчонками их класса. В горячке бега каждый забыл про мороз. Когда пересекали финишную линию, обозначенную двумя воткнутыми в снег прутами, то девчонки встречали лыжников воплем досады, боли, сожаления, а потом и смехом: у каждого второго уши распухли, превратились в багряные оладьи. Как раз в канун школьных соревнований в сельмаг закинули спортивные шапчонки, очень красивые, броские, идущие к лицу, и все понакупили эти шапчонки. Вот только наушники у шапчонок оказались слишком короткими — их натягиваешь на голову, а они, как резиновые, уползают вверх, обнажают мочки, ушную хрящевину. Ребята и поморозились, совсем не заметив этого в азарте бега. Костылев покрутил головой, сплюнул на снег. Тело его начало ныть, чем дальше, тем хуже: руки выворачивала судорога, мышцы залубенели, сделались негнущимися, долгое напряжение было болезненным, острым, и не виделось никакого продыха, где-то за пределами сознания, он ощущал, происходила ожесточенная работа, возня с аварийным хомутом, удары деревянным молотком, грохот газового ключа-разводника, потом Костылев почувствовал, что кто-то трясет его. Он вывернул голову, зажмурился, ослепленный прожекторной резью. Уно Тильк. — Вставай! Хомут починили! У эстонца было черное лицо, глаза запали, совсем вобрались в черепную коробку, брови нависли над впадинами — вид смертельно уставшего человека, у которого совсем не остается сил для жизни. — Полусферы сейчас стянем, — зашевелил Уно губами, — и хана! Спать, мужики. Завтра подправим шлейф, пустим газ в поселок. Н‑никакой те эвакуации. — Он отер рукавицей лицо. Пожаловался: — Звон в ушах. Колокольцы лупят. Трясу, трясу головой, а вытряхнуть не могу. Вот проклятье, обрыдлый звук — динь бом да динь бом. А ты, старый, молодец! С тобой в атаку бы ходить, в атаке нужна такая реакция... Как у пули. Она у тебя есть. Он опустился на снег рядом с Костылевым, расставил ноги, колени Уно взметнулись на уровень плеч. Костылев зачерпнул грязными негнущимися пальцами пороши, поднес щепоть ко рту. — Брось, — прохрипел Уно. — Отрава. — Под отраву хорошо селедочка идет. Стопка отравы, потом рукавом занюхать и селедочный хвостик на вилочке. Оба они находились в состоянии какого-то беспамятства. Уно завалился на бок, уперся локтем в наст. — Не поболтаешь — не проскочишь, — Тильк неожиданно засмеялся. Костылев подумал опасливо, не сходит ли тот с ума. — Как думаешь — чем можно ловить ворон? — Уно подставил ладонь под прожекторное солнце, пальцы оплавились смолистым золотом, сделались желтыми. — С помощью конфетного кулька. Берешь кулек, на дно кидаешь куски булки, края кулька обмазываешь клеем. К донцу привязываешь веревку — и в кусты. В засаду. Ворона подойдет, сунет голову в кулек и приклеится. Тут ты ее, голубу, и подтаскиваешь к себе. Он вновь потряс головой. — А колокольный звук из ушей не выходит. С кряхтеньем поднялся, распрямился, враз превращаясь в памятник, на голову выше всех поселковцев, не из металла лишь... — Вставай, Ваня! Легкие на снегу оставишь. Костылев со слезной горечью ощутил, что у него трясутся колени, подгибаются ноги, проседает тело, а крестец-то, крестец! Он такой тяжелый, будто камнями набит. Костылев даже охнул. — Справились мы с аварией. Пусть поселковские ящик коньяка выставляют. — Уно подвигал небритой челюстью. — Тебя, Иван, хочу дважды к премии. Два раза ты геройство совершил. «Сейчас это уже все равно: один раз будет премия или два раза, — бессильно подумал Костылев. — Куда больше значат эти вот ребята, с которыми приходится делить все сладкое и все горькое, что выпадает на долю. А доля-то, она у нас общая. Каждому по кусочку. Деньги, деньги, деньги. Обойдется без них бабка Лукерья Федоровна. Проживем как-нибудь на обычную зарплату». Мысль оборвалась. Уно Тильк тянул Костылева за воротник вверх, стараясь поднять на ноги. Костылев поднялся, постоял, шатаясь на ослабевших ногах. Облизнул губы, потом, чтобы мороз не оледенил их, потерся ртом о воротник. Да, вместе с этими ребятами он делит все неурядицы, свет, тепло, последнюю горбушку хлеба, щепоть соли, последнюю луковицу, картофелину, последний жар костра. Бог с ними, с деньгами, с премиями. Куда главнее денег — не застояться, не ослабить напряжения жизни, или, как говорят электрики, вольтажа. — Слушай, Иван, — Уно дышал с трудом, запаренно, упорствуя усталости. — Все хочу спросить у тебя, да как-то не получается. Что у тебя с девушкой? Ну, которая приезжала? Поссорились? — Нет. — Она тебе кто, жена? — Нет. — Невеста? — Нет. — Походно-полевая жена? — Я тебе сейчас по открытке врежу. — Не надо. Я хотел сказать, что она мне понравилась, эта твоя знакомая. Славная она. Мне не хотелось бы, чтоб вы ссорились, — сказал Уно тихо. — Никто она мне, чтобы ссориться. — Все равно не хотелось бы. ...Через полдня, в десять утра, когда солнце только-только приподняло тяжесть тела-блюдца над горизонтом, в зереновские дома пошел газ. Нитку от неразработанной скважины так и не пришлось тянуть. А в вечерних сумерках, уже почти в ночи, аварийная бригада вернулась на трассу.
13
Вот он, теплый, до сухого щелканья протопленный балок, Дедусикова Африка, «комнать» с ситцевыми оборками на оконцах-слепунах, неказистый, простенький уют! Дедусик за эти дни огладился лицом, порозовел еще больше. Восторженный, источая летнюю лазурь из глаз, он воробьем прыгал вокруг прибывших, вскидывал руки. Старенков же встретил чуть суховато: еще бы — и так каждый человек на счету, а тут пришлось двоих на сторону отдавать. Да в такое время! Буря ведь и по трассе прошлась, она и тут дел натворила. Старенков похудел, виски и щеки запали, борода распушилась, в глазах появился злой огонек. Когда он отлучился из балка — позвали в гараж, где заваривали трещину в мосту одного из плетевозов, — Дедусик, поправив медаль на пиджаке, осинил воздух «комнати» светом глаз. — Ну, парень, сколько наработал? — Грамоту вот дали. Почетную. — А в денежном выражении? А? Молчишь, голубая душа, ясные глаза? Эт‑то хорошо. Не надо говорить никому про свои деньги. Копейка, она‑от не только счет любит, но счета боится. Костылев молчал. Скрипнула дверь, в балок ввалился Вдовин. — Ваня, на всех парах — в столовку! Обедать. Что, дедок, пристаешь к герою? — Огось! К герою? — А ты думал. Эстонец во всеуслышанье заявил: Костылев — дважды герой. Если бы не он, мы с этой скважиной знаешь сколько бы проколупались? Ого, го‑го! — А в денежном выражении это как? — Двойная премия. — Ого, го‑го! — восторженно, по-вдовински повторил Дедусик, а Ксенофонт рассмеялся, пощелкал пальцами: — Не воруй, Дедусик, чужие словечки. На трассе обычно не пьют, а в пору авралов и вовсе сухой закон. Но в обед Уно Тильк приказал выдать старенковской бригаде спирта из своего НЗ. Нарушение, конечно, но повод есть повод — не одолжи Старенков двух опытных рабочих, Уно не скоро бы с аварией совладал. Бригада у него новая, молодняк, только что прибывший из армии, — в общем, таких рано еще в пекло посылать. Хотя и Костылев для трассы тоже молодняк, но ему все-таки уже тридцать. Да и опыт кое-какой имеется за плечами. А в столовой — обновка. В глаза бросается. Из пахучих сосновых досок бригадные умельцы сколотили новый стол, да такой, что не хуже городских, ресторанных. Костылев провел ладонью по ласково-скользкой поверхности, ощутил под пальцами тепло дерева, еще недавно бывшего живым. — Работка — перший сорт, — похвалил Вдовин. — Кто делал? — А вон! Его продукция, — бригадир кивнул на дверь, где в клубах пара старательно топал ногами Дедусик. — У-умелец, — восхитился Ксенофонт Вдовин. — Когда захочет, Дедусик все сумеет сделать, — согласился Старенков. Взял со стола стакан компота, отпил половину, замочив бороду. — Правда, сверхурочные потребовал в табель занести, но зато и стол отгрохал на славу. — Хоть в Москву на ВДНХ, — согласился Вдовин. — В павильон, где художественное творчество трудящихся масс показывают. Костылев внимательно оглядывал каждого, кто появлялся в бригадной столовой, — поотвык он за эти несколько дней, поотвык, каждое лицо кажется новым. Вот ведь натура человеческая — стоило переменить обстановку, как начал забывать... Химическая реакция какая-то. — Чего стоишь? Нечего торчать посреди столовки! Не Останкинская башня, — Старенков привел его в себя обычным своим насмешливым тоном. — Телевидения у нас в тайге нет. — Первым сел за стол, придвинул к себе поцарапанную миску. — Выбирай самый лучший алюминиевый хрусталь, наполняй щами. Пришел Уно Тильк, принес обещанное. Столовая сразу наполнилась шумом. Старенков сидел рядом с Костылевым и почему-то мрачнел и мрачнел, этот процесс, казалось, нельзя было остановить. Суровым свинцом наливался его взгляд, борода начала придавать лицу особо грозный обличительный вид. Костылев поедал пахучие лесные щи, исподлобья посматривая на бригадира. Положил ложку. — Слушай, дома у тебя все путем? — Не жалуюсь, — однозначно ответил Старенков. — А чего пасмурный? — Так. Узнаешь. — Настроение у тебя чересчур изменчивым стало... Что ни час, то новое. — Работа такая. Когда отобедали, Старенков громыхнул ладонью по столу. Звук хлопка, острый, скользкий, ударился о стену, заставил задзенькать оконца. Крепка была рука у бригадира. — Кончай из ружья палить, людей пугать, — пробормотал Вдовин. — Слушайте все сюда! — попросил Старенков. — Дело, ребята, есть. Зеленого цвета. — Значит, не очень приятное. — Не очень. Потому и хочу обсудить. В общем, нам предлагают с сотого по сто шестой километр два лупинга вместо одного тянуть. — Так мы ж уже на сотом километре стоим. — Вот с этого километра и надо начинать. Но есть закавыка... Второй лупинг проектом не предусмотрен. На него даже деньги не отведены. — Деньги — это, известное дело, Дедусикова профессия, — снова встрял Вдовин. Дедусик поднял голову. — Чья ошибка-то насчет лупинга? — спросил Рогов. — Проектировщиков. — Вот их бы, сукиных детей, и заставить в пятидесятиградусный трескотун тащить нитку-катушку. — Заставить — не в наших силах. Не дано, — сказал Старенков зло, сгорбился, наваливаясь грудью на стол. Повел ноздрями. — От черт, как сосна хорошо пахнет! Даже голова кружится. — Экономия по трубам у нас большая? — поинтерсовался Рогов. — Как раз на лупинг хватит, — Старенков коснулся лбом стола, выпрямился. — Или чуть-чуть не дотягивает... В общем, надо посчитать. — Если это «чуть-чуть» три километра составляет, то... — Какого черта ты, Рогов, поперед батьки... — Старенков глубоко, будто затягиваясь хорошим сигаретным дымом, вздохнул. Словно легкая волна прошла по столовой, всколыхнула людей. Все подняли головы — в голосе бригадира, кажется, прозвучало нечто такое, что заставило взметнуться землю за хлипкими оконцами балка, заколыхаться деревья и кусты. Костылев глянул на улицу — приземистая крючковатая сосна, самая ближняя к балку, прядая черными лапами, уходила куда-то вниз, под снежный покров. Тяжестью заныло сердце, словно у солдата перед атакой, в которой должен погибнуть либо он сам, либо кто-то из его товарищей. — Во сколько рубликов обходится километр лупинга? — спросил тем временем Рогов. — Дорого. — Вот проектировщиков и заставить бы... — Нельзя. Если мы сейчас заставим их пересчитывать, на это месяц уйдет, трасса остановится. У Костылева вдруг вмиг онемело нёбо, язык стал непослушным и грузным, будто у пьяного. Такое ощущение появлялось, когда он на охоте одним зарядом сваливал двух уток сразу — либо тяжелых плотнотелых чирков-трескунков, отъевшихся за лето — их мясо бабка Лукерья Федоровна умела особенно аппетитно готовить, либо пугливых нежных свиязей, либо весело-задумчивых нырков-шушпанов. — Ладно, ругайся не ругайся — будем тянуть, — сказал тем временем Рогов, провел ложкой по бортовине алюминиевого «хрусталя», счищая остатки мясной тушенки, снова превращаясь из жестковатого, расчетливого бодрячка в обычно-покорного, заунывного человека. Будто в нем какой пузырь лопнул. — А это... Это... Пусть нам выплатят по паре окладов за дополнительный лупинг, — медленно, разжевывая в словах каждую буквицу, проговорил Костылев. Дедусик погрузил его в ласковую мягкость взгляда, обволок незабудковой тканью, нежной, как пух. Перед Костылевым вдруг разорвалась, распахнулась нематериальная завеса, завспыхивали бесчисленными огнями цветы, цветы, цветы, много цветов, тут были и такие, которых Костылев никогда не видел. Среди всей это цветочной несмети стояла Кланька Озолина, одной рукой протягивала Костылеву кружку с холоднющим пузырчатым пивом, другой — кусок копченой осетрины, истекающей вязким золотистым жирком. Костылев сглотнул слюну, потянулся к пиву, но остановился, глядя на собственные пальцы, подрагивающие от усталости, с темными узлами суставов. Он будто старался вспомнить о чем-то важном, но... Силился вспомнить и не мог. А Клавка, ой как похорошевшая, притягивающая своей неземной лаской, старалась прильнуть к нему, заглянуть своими незамутненными глазами-окошками в его глаза. Потянись он еще чуть-чуть, и достанет ее... — Откуда и как? Шутишь, Иван? — тихим голосом спросил Рогов. — А чего? — сказал Вдовин. — В каждой шутке есть доля правды. — Нет, я без шуток, — отозвался Костылев машинально, глядя в прогал, где до муравьиных уже размеров уменьшилась Клавкина фигурка, и пивом перестало пахнуть, и копченой осетриной... — Закосел, — добродушно покивал головой Вдовин. — Спиртяги шарахнул, а это как деревянным молотком по темени. Так бьет, что не сразу в себя и более здоровые мужики приходят. Не две, а шесть зарплат за один удар молотком по гвоздю требуют. А? Старенков не отзывался, молчал. — Вот я и говорю, — с непоколебимым убеждением продолжил Вдовин, оглаживая не прикрытый волосами морщинистый череп. — И бригадир меня поддерживает. — А на хрена ж, скажите, задарма надрываться? — проговорил Костылев. — Хребтину ломать на хрена? Она и для других целей сгодится. Опять хлобыстнул ружейный залп, и из-под снежного полога выпросталась черная колченогая сосна, встала на свое место. И земля выровнялась. — Кончай баланду травить, — с угрюмой недобротой потребовал Старенков. — Споры-дебаты отменяются. Тянем лупинг. Точка! А зарплата, она у нас, как у министров. Посчитайте сами! Оклад да плюс пол-оклада полевых, плюс пол-оклада северных, плюс пол-оклада коэффициента. При заработке двести по пятьсот рублей получаем. Куда больше, а? — выкрикнул бригадир. — Куда? То-то же! Некуда. Костылев поворочал языком во рту, перебрал весь разговор с начала до конца, и ему сделалось неловко, огненно-рыжий багрянец наполз на его щеки, покрыл лоб, заставил двумя гигантскими рубинами заполыхать уши. Он слабо покрутил головой, чувствуя тяжесть сказанного. Перед ним ездил влево-вправо стол, густо уставленный алюминиевыми мисками, стаканами с прилипшими ко дну комочками сливовых косточек и яблочной кожурой. — Освобождай помещенье, — потребовал Старенков, — пусть повара балок приберут да за ужин примутся. Костылев шел к своему балку, морщась от резкого визга снега под унтами, у него болела голова, внутри было гулко, пусто, и визг отдавался во всем его теле тупым жжением. Его догнал Дедусик, хлопнул рукавицей по плечу: — Вот сегодня ты уформенным молодцом был... — Форменным дурачком. — Отстаивал свои законные права на большой! На все, так сказать, начальством и богом положенные проценты. С перевыполнением. — Пошел бы ты!.. — Но-но-но! — отскочил от него Дедусик, опасливо зыркнул глазами. Смягчился: — Ладно‑ть. Я не обижаюсь. С кем в запале не случается. Вторую нитку лупинга конечно же протянули; прошло еще некоторое время, и скоро все забыли о неприятном разговоре. Хотя у самого Костылева еще долго сохранялся вяжущий, прочно пропитавший все его тело осадок. — А чего ты стесняешься? — как-то спросил его Вдовин. — Не кукожься. Поговорил в открытую, и ладно. Все мы человеки, всем нам деньги нужны. Хлеб в магазине пока бесплатно не дают? Нет. Другое дело, когда ты рубли в чулок заталкиваешь, копишь их, — за это дело, за длинные, у нас по носам бьют. Костылев отвел глаза в сторону. — Я не баба, чтобы за деньги рисковать. Посмотрел на Вдовина, увидел — не верит, хотя только что говорил обратное. Когда не верят — это плохо. Просто никуда не годно...
14
Потекли дни, один за другим, полные борьбы с тайгой, с морозом, болотами, заносами, пургой; дни, каждый из которых и геройский, и одновременно обычный рядовой день, ибо, с точки зрения людей, живущих в городах, на ухоженной земле, работа трассовиков — это геройство, отвага, смекалка, риск. С точки же зрения самих трассовиков — обычное повседневье. Случалось, выходили из строя машины, ломалась техника, на смену им поступало новое оборудование, но и новое не выдерживало, потому что сталь в пятидесятиградусный мороз крошится, как жмых. Не выдерживает металл, нет. Выдерживают только люди. Трасса продвигалась дальше на запад. Было трудно всем, но особенно — водителям плетевозов. На тяжелых КрАЗах, «Уралах» они торили дорогу — тут, в краю гибельных болот, много мест, куда вообще не ступала нога человека, — ездили колонной в четыре-пять автомобилей, у каждой машины — двадцатиметровый роспуск, на котором уложена плеть. Только КрАЗ везет две плети сразу, а «Урал» — лишь одну, больше не осиливает. Если у одной машины случалась поломка, останавливалась вся колонна. В пятидесятиградусный мороз руки припекались к металлу, отодрать пальцы от липучего железа можно только с кожей, но ремонт всегда делали на ходу. У Костылева во время ездок сгорело четыре муфты сцепления, у Рогова шесть — Рогов теперь работал на «Урале», — почему-то быстрее всего летели именно муфты... Тяжело было. Прибудешь на острие трассы, сбросишь плеть, потом надо вручную смотать трос роспуска, а он, колючий, протыкает насквозь брезентовые рукавицы, и общий вес его почти полцентнера. Потом еще надо подтянуть прицеп, и все почти вручную, без особой механизации. Обратную дорогу нужно преодолеть как можно быстрее, чтобы вновь уйти на острие трассы. За день так навозишься, что с ног падаешь. Плетевозы создавали фронт работ для сварщиков. Случалось, что с роспуска машины сваливалась плеть, на двадцати-тридцатикилометровых отрезках трассы лежит, как правило, десять — пятнадцать плетей, но их не поднимают, пока не закончат работу. А когда закончат, тогда на дорогу направляют трубоукладчик, он грузит плети на КрАЗы, те увозят падалицу дальше. Потом наступает момент, когда сварщики заваривают последний стык, и трассовики, подцепив к крюкам тракторов и плетевозов передвижной балочный городок, перебираются на новое место, на новую делянку, где для них еще летом, после прихода барж, заготовлены штабеля «тыщовок». Так и движется трасса вперед червяком. За зиму каждый шофер плетевоза перебрасывает на острие трассы примерно четыреста километров труб, вот сколько! Обратно, когда едут, хотя встречное дыхание воздуха и высекает слезу, а все же высовываются водители из кабин и поглядывают на обочину пробитого зимника — вдоль колесных маршей, горло к горлу, лежат трубы, тысячи труб. Летом здесь ни за что не пройти — топи, топи, топи, — только зимой. А летом... бездонные нефтяные болота! Раньше трассу пробовали тянуть летом, но теперь отказались от этого. На коротких перегонах Костылев просил исключать его из колонн и ездил один. Один он оборачивался куда быстрее. Многие не понимали такого риска, считая его неоправданным. Так и тянулись один за другим трудные дни.
15
Костылев затормозил у балка и заглушил мотор «троглодита» — пусть поостынет. Мороз хоть и за пятьдесят, а мотор раскалился так, что плюнь на него, шипит, как змей. Пока шофер обогреется, мотор охладится — баш на баш получится. Тряхнул шапкой, сбивая с меховых ушей снежную седину, в один прием одолел лесенку, опущенную на снег перед дверью балка, в котором размещалась бригадная каптерка. Из балка пахнуло жаром. — По принципу Дедусиковой «комнати» — лучше маленький Ташкент, чем большая Сибирь, да? — Костылев стянул рукавицы. — Ну-к, тезка, подвинься. Иван Рогов освободил краешек скамьи. — А еще лучше Сочи. Там море, — сказал Старенков. — Допекает мороз их благородие сварщиков? — Допекает. Но все равно мороз лучше, чем грязь, — Старенков усмехнулся чему-то своему, в густых зарослях бороды белым высверкнули зубы. Посмотрел на Костылева. — Помнишь, как летели мы сюда, а здесь... На лайнере — обслуга по высшему сорту, девочки-стюардесски туфельками по дорожкам топочут, под крылом проплывают картинные леса, а здесь... — Здесь холод и грязюка по уши. — Костылев достал из кармана горсть каленых кедровых орешков, протянул Рогову: — На‑к поклюй сибирских семечек. Дед Мороз подарил. — Жди, подарит, — уныло проговорил Рогов. Он сидел неподвижно на скамье и косил глаза на кончик носа. На кончике, оттаяв, дрожала капля. — В чем упражняетесь, Иван Иванович? — спросил его Старенков. — Об чем мысля? Закон притяжения открыть собираетесь? — В том-то и дело, что не притягивает. — сказал Рогов и, высвободив из рукавицы тяжелую шершавую лапу, отер ею лицо. — А здесь холод и грязюка по уши, да, — повторил Старенков. — Помнишь, Костыль, как мы с тобой обедать в ресторан ходили? — Ужинать, — поправил Костылев, тронул рукою бок буржуйки, резко отдернул, ожегшись. Потом подул на кончики пальцев. — Вона, паленым запахло. — Устроились в гостинице, пошли в знаменитый ресторан «Орион»... — Было дело, — Костылев поднялся, щелкнул орешком, скорлупу аккуратно отправил в поддувало печушки. — Ну, я поехал на трассу. — Не забудь вернуться. Костылев нахлобучил на голову ушанку, вышел. На улице он обошел плетевоз кругом, постучал обшитым носком унта по баллонам — те гулко ухнули в ответ. Резина новая, ей ходить да ходить, носиться — не снашиваться, но проверить никогда не мешает: плеть весит двенадцать тонн да сама машина — двенадцать. Что будет, если в дороге скат полетит? Горя не оберешься, авария может произойти непоправимая. Потом проверил щеки вертлюга, в которые упирался торец плети. Осмотрел, хорошо ли зашплинтован палец, крепки ли тросы, обжимающие туловища труб. Уселся за руль, завел мотор, включил скорости, первую, за ней вторую, и потянулись по обеим сторонам кабины низкорослые кривые сосны. Когда сидишь за баранкой, а путь вот так однообразен, притупляется бдительность, несмотря на то что знаешь дорогу, как поп библию, а тут еще сзади двенадцать тонн каждую минуту готовы боднуть в спину. И все-таки воспоминания именно за баранкой приходят. Самые разные. То дом с бабкой Лукерьей, то армия, то какое-нибудь знакомство, то последнее объяснение с Клавкой Озолиной. Костылев опустил вниз окошко кабины. Привстав за рулем, на ходу протер ветровое стекло полотенцем. Поморщился — жалко полотенце-то, завтра собственное лицо грязным вытирать придется. И не протирать стекло нельзя, сейчас пойдет опасный уклон, самый опасный на двадцатикилометровом пути, глядеть надо в оба. Он нарисовал в воздухе колечко, ткнул в него пальцем, сказал вслух: — В десятку попал. Костылев загадал: если угодит в центр колечка, рейс пройдет нормально, не попадет — либо трос лопнет, либо коньки на прицепе разворотит, либо муфта сгорит. Все может стрястись. Он вспомнил, как в начале сезона, зимник едва стал, один шофер, Иваньков его фамилия, поспешил в Тюмень по срочной надобности. В дороге лопнул скат — рвануло с такой силой, что даже бывалые шоферы потом затылки чесали — лохмотья на двадцать метров разбросало. Иваньков домкратом поддел мост, снял колесо, а в это время машину повело вперед, ось сползла с пятки домкрата и врезалась шоферу в руку. Всю кисть размозжила, пригвоздила к земле. Иваньков вытянул из кармана нож-складень, зубами раскрыл его и, теряя сознание, отпилил кисть. Потом обмотал обрубок рубахой и забрался в кабину. Все ждал — не появится ли какая машина на зимнике? Два часа прождал и умер от потери крови. Костылев поморщился, он вдруг всем телом ощутил, как больно было шоферу Иванькову, будто огнем опалило спину, грудь, живот... — Не подведи меня, троглодит, — похлопал рукой по баранке, облизнул вмиг погорячевшие губы. «Троглодит» отозвался в ответ нежным, как у певицы, голосом-сигналом. — Меццо-сопрано, — сказал Костылев. Он вгляделся в край тайги, редкой и чахлой, словно туберкулезом отболевшей. На болотах иной и не бывает, только такая дохлятина и растет. Хоть бы ворона где попалась. Но ворон в этих краях можно по пальцам пересчитать, их раз в пять меньше, чем глухарей. Одиноко на зимнике. Костылев надавил на газ. — Не страшен черт, пока он разрисованный. Цепи, которыми были обмотаны колеса КрАЗа,гремели, как танковые траки. Костылев щелкнул ручкой транзистора, висевшего на крюке зеркальца, изловил далекую мелодию, произнес задумчиво: — Мороз за полтинник ползет. К ночи жди шестьдесят... Дорога пошла под уклон, и Костылев забыл обо всем на свете, вцепился обеими руками в скользкий круг руля, переставил ногу с педали газа на тормоз. Каждый камень, каждую льдышку и бугорок, попадавшиеся под колеса, он ощущал сейчас так, будто своими ладонями дорогу ощупывал. И выдумал же господь чудо природы — это вот Покатое болото, как только летом из него жижа не выплеснется. Комары здесь выводятся знаменитые — двухмоторные. Жало в полпальца, телогрейку насквозь прокусывает. Дорога пошла вниз еще круче, Костылев переключил скорость на первую, повел машину совсем тихо. Плетевоз теперь съезжал на рябистую, неровно прикрытую снегом поверхность болота буквально на заду — словно одёр с горы. Сквозь бормотание мотора Костылев слышал, как скрипит снег под колесами. Цепи заухали еще громче. — Все останется позади, все прахом будет. Элементарно. — Костылев потянул отсыревшим носом, увидев, как под колесо машины подлезает кусок брошенной кем-то рессоры, чуть повернул руль влево. Сзади затрещали коньки прицепа, завизжал застывший на морозе вертлюг. Идущую следом маленькую выбоину Костылев воспринял как зубную боль, на ледяной ком, попавший под скат, посмотрел как на личного врага — ком сухо хрустнул, раскрошенный тяжелым колесом. Музыка, громкая и назойливая, льющаяся из транзистора, удалилась, заглохла, перестала существовать для Костылева — он уже не слышал ее. Застыла природа, умерли деревья, окаймляющие Покатое болото, перестал скрежетать жесткий, как битое стекло, снег — все вокруг погрузилось в мертвую тишину, лишь ноги ощущали живое подрагивание педалей да под руками трясся круг руля. Правое колесо медленно опустилось вниз, попав в глубокую, присыпанную снегом яму. Как же ее не заметил, не разглядел Костылев, как же? Он сморщился, будто хватил чего горького и неприятного, выжал газ — плетевоз дернулся, выбираясь из ямы, но не дотянул до конца, стал сползать назад. А сзади надавила, навалилась огромная плеть — жалобно завыл скручиваемый тяжестью металл, затрещала рама прицепа. Костылев мгновенно вспотел, весь вспотел, от пяток до корней волос, даже губы стали влажными и сладкими. Молча облизал их. Мелькнула мысль о том, что на сильном морозе металл слабеет, как бы не лопнули крючки. Нельзя дать «троглодиту» сползти в яму. Костылев вновь надавил ногой на педаль газа — машина дернулась, словно подстегнутая, рванулась вперед. Запрыгала, заплясала перед глазами Ивана Костылева болотная рябь, вспотел Иван еще больше, пот дождем полил с лица — плетевоз накренился, окончательно утопая правым колесом в рытвине. — Эхма, тварь какая, — шепотом пробормотал Костылев, не опуская унта с педали газа. Не сдержали ослабшие крючки тридцатишестиметровой плети, лопнули с тонким стеклянным звуком, будто ножку у старого хрустального бокала обломили, пулями щелкнули о защитную спинку кабины, высекая огонь, с жужжанием вонзились в снег. Костылев ахнул почти беззвучно, рванул вниз рукоять двери, саму дверь с маху ударил ногой и все же опоздал — сверху на него уже падала, зияя сквозь заднее стекло кабины черным отверстием, как пушечным жерлом, плеть. Костылев выгнулся, устремляясь всем телом к маленькому мутному пятнышку солнца. Багровое, наполненное прилившей кровью лицо шофера оставалось спокойным, испуг не успел исказить его гримасой, но в тот же миг сильно высветлилась кожа под глазами. Костылев упал плашмя в снег и, не ощущая еще боли, подогнул под себя голову, сделал кувырок, от которого у него затрещали кости... Плеть, задев боковиной спинку кабины, срезала ее как бритвой. Кабина хлопнулась оземь, мягким всплеском разлетелось ветровое стекло, и покатилась шоферская будка, громыхая, как пустая консервная коробка. Неестественно жалко и страшно глянул в небо столб руля с погнутой, покрытой черными трещинами, оставшимися от выколотой пластмассы, баранкой. Спинка новенького сиденья была разрезана, и из прорехи лапшой вылезли лохмотья серо-желтого поролона. Костылев, придавив боком кочку, перевернулся на спину. Шапка, слетев с головы, клубком откатилась в сторону. В то же мгновение он закричал от боли, выстрелом пробившей его тело, забился, словно рыба, выброшенная на берег, оглушенный резью, от которой у него почернело в глазах, заскреб пальцами по снегу, подгребая к себе жесткое сухое крошево. Потом обессиленно запрокинул голову на снег. Из глаз крупными каплями выкатывались слезы, замерзали на подбородке, след от них оставался льдистый, через всю щеку. Лицо в минуту покрылось прочной, как скорлупа, коркой. Он шевельнул головой, но волосы, прочно попав в капкан, за несколько секунд вмерзли в снег. Ноги прострелило болью: плеть придавила ему обе голени. Костылев захрипел, проглатывая стон. Потом открыл глаза — серая наволочь неба прогнулась, она касалась теперь его лица. Маленькая, не больше пятака, точка солнца уже не светила, утонуло солнце в морозной мути. Неожиданно сквозь плотную вязкую ткань тишины прорвалась мелодия, чистая и легкая, неземная. Тяжело дыша, теряя сознание, Костылев скосил глаза, увидел, что на подножке «троглодита», зацепившись своим тонким лаковым ремешком за заусенец, висел транзистор. И словно что-то взорвалось перед Костылевым, словно он вошел в яркий осенний лес, полный грибного духа и теплой, обильно пропитанной дождями земли, давленой голубики, папоротников, валерьяны и ландышевых метелок. Каждое дерево обрело свою краску, больше всего было огняного, лисьего цвета. И листва была такой мертвенной, жестяно хрустящей, сухой, что дыхание Костылева, сдавленное глухой, беспросветной осенней печалью, остановилось. Он уже не ощущал ни боли, ни холода. Ничего не ощущал. Ни жалости, ни обиды на нелепый случай, на самого себя. Закричал и провалился в черноту, а очнувшись, услышал далекий танковый гул, словно колонна «тридцатьчетверок» разворачивалась в цепь, и гудела под тяжелыми гусеницами земля, вздрагивало небо. «Нельзя помирать раньше отведенного срока, — подумал Костылев, — раньше смерти. Жить надо. А при чем тут танки? Танки при чем? Я же давно демобилизовался из армии...» До слуха донесся скользкий скрипящий звук — похоже, механик танка надавил на тормоза, чей-то медвежий топот, далекий, едва слышимый голос: — Домкраты сюда! Срочно домкраты! И костер! Кто-нибудь разведите костер! Лес, по которому шел сейчас Костылев на окостеневше прочных ногах, пахнул прелью, скипидаром, облезшей древесной корой, липовым лыком, незлой осенней крапивой, сладким терном, мокрым валежником, жирными ошметьями торфа, нежной, мягкой муравой, растущей на срезах тележных вдавлин, пометом алчных до еды дроздов, гречишным зерном, молодыми побегами лозины, завязывающимися на тонких, облитых дождем прутиках смородиновыми почками, на которых мать его любила настаивать водку, жженым порохом, сопровождавшим охотничьи удачи Костылева в ново-иерусалимских лесах, трухлявой плотью гнилушек, пугающих в темноте людей и зверье своим свечением, — лес пахнул сразу всеми запахами, которые были только известны человечеству. Потом Костылев ощутил, что его тело оторвалось от земли — он уже не доставал до снега ногами, — зависло над толстым сухотьем опавшей листвы, легко поплыло, задевая за верхушки кустов, с которых дробью опадали ягоды. — Почему ногами вперед? — силился спросить Костылев. — Я же еще не мертвый. Почему ногами вперед?
16
Рогов гнал освобожденный от прицепа «Урал» обратно, матерясь сквозь зубы и боясь взглянуть на дно кабины, где лужицей собралась кровь, натекающая из распоротых унтов Костылева; он вздрагивал от острого запаха крови, этого запаха беды, цепенел до паралича и давил, давил унтом на педаль газа, выжимая из «Урала» все возможное. Старенков, сидя рядом, держал на коленях голову раненого, оберегая ее от тряски, хотя оберегать надо было не голову, а ноги. Лицо Старенкова было бумажно-прозрачным, под кожей светились жилки, волокница мышц, лоб обметала испарина, пот странного розового цвета стекал в височные впадины, скатывался на щеки, тек к подбородку. Далеко впереди, над жидким, болезным леском, окаймлявшим лысину песчаной выпуклости, что-то шевельнулось. Будто в белой выси растворился кристаллик снадобья, небо расчистилось, и показалась смуглая точка, превращаясь в голенастое насекомое — не то в кузнечика, не то в стрекозу. — Бригадир! Вертолет! — Рогов поморщился, похоже, что его вот-вот должно вырвать всем теплым, остолбенелым, пережитым, что в нем было. — Верто-о-олет, — вновь пробормотал он. — Тормози! — выкрикнул Старенков, вглядываясь в ветровое стекло. Рогов мягко, упершись спиной в скрипучее пружинное сиденье, затормозил. Под скатами завизжал снег. «Урал» остановился. — Счас мы тебя... Счас мы тебя... — зачастил Старенков, не отрывая глаз от ветрового стекла. — Держи, Рогов, Ванину голову, я вертолет приземлять буду. Он выскочил из машины на белую, как неисписанный лощеный лист, нетронутую моторным выхлопом болотную равнину, хрипя и отплевываясь, словно в драке, стянул с себя ватный бушлат. Рванул его снизу, с разреза пол, но крепкая ткань не подалась. Тогда он, нашарив в кармане стеганых штанов охотничий складень, отщелкнул лезвие и длинным движением отхватил правый борт вместе с рукавом, потом от спинки отделил левую половину, быстро раскинул растерзанный бушлат на снегу. Рогов, приподнялся, ахнул: Старенков выложил низвечный, знакомый по многим книгам: что знает и стар и млад, летный «кирпич», посадочное Т. Бушлат был пятнистым от мазута, плохо просматривался, издали вообще казалось — комки грязи, брошенные на обочину. Старенков в три маха достиг машины, вспрыгнул на выступ бампера. Клацнув оттяжками запоров, откинул крышку капота. — Пустая банка есть у тебя? — прокричал он, ежась от холода. — В кабине, — засипел Рогов, боясь шевельнуться, потревожить Костылева. — Вот тут, у меня под ногами! Старенков рванул дверь, на резиновом коврике нащупал консервную жестянку, донце ее было в густой клейкой жидкости, чернеющие вязкие капли посыпались с ребровины на свитер Старенкова, он задом, ноги врозь, отступил от кабины, взлетел на бампер, вскрикнул, всадившись коленями в радиатор, отвернул краник подсоса, подставил жестянку под бензиновый ручеек. — Э-эх, опоздаем, черт подери! — застонал он. — Опо-оздаем. Улетит стрекозун. Спрыгнул с бампера. Высоко вздергивая ноги в унтах, помчался к раскромсанному бушлату, обрызгал его из жестянки; выхватил из кармана спичечную коробку, сжал щепотью сразу несколько спичек, чиркнул и, в шатком порыве подавшись спиной к дороге, швырнул запаленный огонь в тряпье. Банка была невелика, и вошло в нее бензина, конечно, с гулькин нос, но бушлат вспыхнул таким высоким пламенем, что Старенков схватился за голову — ему подпалило волосы. Отпрыгнул назад, споткнувшись унтом о ледяной комок, упал. Тут же выбарахтался, откатился назад. Пламя медленно осело, бушлат заполыхал ровно, ярко, приметно. Старенков скрестил руки над головой. — Ээ-ге-ге-ге-е-е! — закричал он отчаянно, забивая все звуки вокруг. И вой ветра, и приблизившийся вертолетный клекот. — Ээ-ге-ге-ге-гей! Рогов, удлинив лицо, забормотал что-то невнятное. Костылев открыл глаза, выплыл из тяжкого, отравленного забытья, глубокого и жаркого, как домна. Почему-то у него возникла ассоциация с домной. Не ощущая боли, почти ничего не чувствуя, даже веса собственного тела, подумал, не спит ли он, но тут, услышав бессвязное роговское бормотание, спросил себя, не рехнулся ли его бывший сменщик, шевельнулся, распрямляя отсиженную, как ему показалось, ногу и не успел вскрикнуть, как сокрушительный, начиненный огнем молот боли обрушился на него. Костылев дернулся и сник. — Эге-ге-ге-гей! — громыхал Старенков. Вертолет уже проплывал почти над ними. Был хорошо виден его стрекозий живот, изукрашенный стылыми масляными подпалинами, ровненький квадратик заслонки, прикрывающей мудреные машинные внутренности, раскоряченные пуговки колес, задиристо напряженный хвост тарантула. Рогов увидел, как зачернел распахнутый бустер — форточка пилотской кабины, к нему прилипло блеклое пятно лица с хорошо различимыми точечками глаз. — Эге-ге-гей! — замахал руками Старенков, делая движения сверху вниз и одновременно приседая. Потом он, продавив наст и глубоко утонув в снегу, набрав унтами крошева, замер, незащищенный, мерзнущий в дырчатом старом свитере. Столько горестного, непрощающего, сурового таилось в его фигуре, в беспокойно согбенной спине, что один только взгляд, брошенный на него, заставил бы встревожиться любого. Это было куда красноречивее всех махов, мельтешни. Но различима ли эта тревога из птичьей выси, в которой бредет вертолет? Видят ли пилоты, что люди в беде? Видят ли? — Эге-ге-гей! — кричал Старенков на последнем дыхании. Вертолет, заваливаясь на бок, начал входить в вираж, показал покатую сытую спину с дренькавшим вдоль нее тросом — то ли антенны, то ли управления, — сбавил хлопотливый, проволглый стук. — На посадку идет, на посадку! — забормотал Рогов, чувствуя, что у него слабеют глаза, из-под ресниц, из-под боковин век вытекает горькая жижка, все предметы перед ним расплываются, руль двоится, ветровое стекло обретает сразу несколько очертаний, сумрак кабины ширится и мрачнеет. Соскользнув по косой, вертолет сбросил высоту и прострекотал над самой машиной — по железному верху кабины прошелся тугой воздушный выхлоп. — Сю-юда! — заорал Старенков. Вздыбился снег, зашипело пламя, догладывающее ватник. Вертолет всасывал жесткую морозную пыль, вбирая ее в себя. Вот он вонзился колесами в метельные космы, окутался снегом по самый верх, и Рогов, глотая слезы, благодарно затряс головой, чувствуя прилив теплой неги, человеческой привязанности к пилотам, разобравшим, что к чему, и пришедшим на помощь. Он никак не мог справиться с собой, хлюпал носом, с трудом сдерживая рвущиеся из глубины груди рыдания, ощущая жалость к покалечившемуся Костылеву. Хороший водитель этот Костылев, ему ни дороги, ни морозы, ни черти сибирские не страшны. Одновременно Рогов ощущал жалость и к самому себе, понимал, что несчастье могло стрястись и с ним — поди узнай, что может сотворить дорога, машина, плохо управляемая многотонная плеть. Вертолет сел рядом с потухшим, наполовину снесенным ветром Т, из распахнутого нутра выскочил человек в засаленной шубе, с приплюснутым к голове матерчатым танковым шлемом. — Слушай, парень, ты знаешь, во сколько обходится государству посадка по твоей милости? — прорычал он. В пору роговского детства на экранах показывали индийский фильм «Бродяга». Один из героев фильма был бандитский предводитель, злодей Джагга — пузыреобразный человек со страшным, рябым, огромным, как луна, лицом, болотными куделями курчавых волос, выпуклыми глазами, которые, будто земляные шары, вращались в глазницах. Все самые страшные герои детства, эти Кащеи Бессмертные, Бармалеи, Соловьи-Разбойники, были просто симпатичными, безобидными ребятами в сравнении с Джаггой. Но перед вертолетчиком, выскочившим на снег, сам Джагга был, право, просто симпатягой-парнем, — дал же бог такое лицо. Старенков стиснул кулаки: — У нас человек умирает. А если бы ты не сел, я б номер твоего стрекотуна записал и первому секретарю обкома партии на стол. Па‑анятно? — Ага, — сразу успокоился вертолетчик. — А то мне начальство голову отвернет за эту посадку. Последнее предупреждение уже получил. — Ничего. Если что — трасса возьмет тебя на поруки. — Нужна мне твоя защита, как петуху костыль, — отмахнулся вертолетчик. — Где раненый? — В машине. — Бегом! — потребовал вертолетчик. — Световой день на исходе. Если засветло не успеем, куковать в поле будем. Рот у вертолетчика был щербатым, улыбчивым. Старенков сорвался с места, помчался к зимнику, вертолетчик следом, цепляясь руками за воздух, ахая и стеная от напряжения. Старенков добрался до «Урала», повис на рукоятке дверцы, загнанно сипя, схватывая ртом морозный воздух. Борода и волосы его были седыми от инея. — Д-давай, Рогов. Осторожно только. Больно ведь! Костылева понесли головой вперед, кряхтя от натуги, — неуправляемое, беспамятное тело шофера было тяжелым, к тому же Рогов, как оказалось, панически боялся крови. — Ноги не заденьте за что-нибудь, ноги! — закричал Старенков. — Поднимай ноги! — Не поморозился бы, — поморщился вертолетчик, — пока до вертолета донесем, обмерзнуть может. — Под трубу он попал, видишь? Шофер это, Костылев. Плеть, зараза, срубила крючки упора и врезала по кабине, когда он ехал. А потом на ноги рухнула. — Несчастливая звезда у парня. — Это мы еще посмотрим, счастливая или несчастная, — проговорил Старенков, ожесточаясь. — Главное, кости были б целы, а мясо нарастет. — Крови вон сколько. — Кровь оттого, что сердце здоровое. Потому и много. Они шли по пробитому следу, цепко держа на руках неподвижное тело водителя, бултыхаясь из одной снеговой промоины в другую, матерясь и сопя. Вертолетчик на ходу поторапливал: — Скорее, ребята, скорее! Световое время на пределе, ребята. Скорее! — Слушай, пилот, — Старенков выгнул голову, потерся подбородком о дырку в плече. — Где ближайшая больница? — В Зеренове. Туда закинем. Там заночевать придется. — Насчет оплаты не сомневайся. Трасса и ночевку оплатит. — Ненужно, — просто отозвался вертолетчик. — А Зереново — эт‑то хорошо! Он, — Старенков помедлил, посмотрел на бескровное лицо Костылева с утончившимися пергаментными ноздрями, восковостью лба, густыми тенями в глазницах. Рот с выбеленным болью языком, на котором пузырилась то ли слюна, то ли намерзь, был приоткрыт. — Он был недавно в Зеренове, газовую аварию ликвидировал. — Да? — оживился вертолетчик. — Про то я знаю. В областной газете заметка была. Я читал. — До нас не дошла еще газета. — Старенков закряхтел, выбираясь из выбоины. — Хорошо сработали ребята. Грыжу какую-то изобрели, впервые в практике ликвидации аварий. Вертолетный бок навис над ними, холодный, трясущийся от моторной дрожи, нутряной провал трюма был чужим, эта враждебность покоробила Рогова, он зажмурил глаза, словно перед ним возникло наваждение. — Осторожно, ребята, — предупредил вертолетчик. В проеме показался еще один пилот, спокойный седой человек; присел на корточки, вытянул руки, подхватил Костылева под мышки, помог втянуть в трюм. — Я с вами! — выкрикнул Старенков, словно предупреждая возражения пилотов, но возражать никто не собирался, наоборот, седой как-то удивленно, даже странно посмотрел на него, потом холодно усмехнулся. Рогов засуетился, обрывая пуговицы на своем тулупе. — Подожди, бригадир! Одежку вот возьми, — он наконец распахнул свой ушитый в талии модный тулупец с тусклым замшевым верхом. В таком и на трассу можно ездить, и в городе не стыдно показаться. Швырнул тулупец в трюм, вскинул руку с плотно сведенными в кулак пальцами — приветствие времен войны с франкистами в Испании. Старенков отмахнулся, скрылся в глуби трюма, где на извлеченных из хвоста носилках лежал беспамятный Костылев. Вертолет взметелил снег, Рогов вобрал голову в плечи, на уши натянул воротник свитера, руки по самый локоть загнал в глубокие карманы, но с пятака не уходил, ждал до последнего, провожая машину. Вертолет взревел, оторвал колеса от снега, уперся в пятак вонью бензинового смрада, неподвижно огрузнув в воздухе. Потом, задрав одно колесо, резко, косо ушел в морозную белесость, врубился в облако и скрылся в нем. Через минуту превратился в капельнуо точку. — Все! — прошептал Рогов, оголяя сталь зубов. — Отъездил Костылев свое. Повернулся и, опустив и без того вислые плечи, побрел к машине — мрачной, тяжелой громаде, покорно ждущей его. Но Рогов этой покорности не ощущал, не чувствовал любви машины к себе, он прищурившимися набрякшими глазами выбирал ровные места в снегу, чтобы не зацепиться унтом за болотную кочку, не растянуться. Подрагивая от холода, машинально издавал тонкие горловые звуки. Нет, о машине он не думал. И вообще ко всем машинам мира никаких чувств, кроме ненависти, он сейчас не питал. И не мог питать.
17
После полета в Зереново у Людмилы Бородиной на целых два месяца наступило состояние душевного равновесия — и работалось в охотку, и мир, кажется, обрел свои цвета, стал состоять не только из серых и черных тонов, и собственное существование начало казаться ей не просто существованием, а жизнью, настоящей полнокровной жизнью, где все интересно, все в новинку, один день не повторяет другой. На хлопоты Зинки Щеголевой она смотрела с улыбкой. Более того — у нее возникало ощущение нерастраченной душевной щедрости, которую обязательно надо было растратить, и она выплескивала этот запас на Зинку, то доставая для нее дорогую модную помаду, то мохеровую кофту, то еще что-нибудь, стоящее денег. Зинка Щеголева только шалела от этой заботы. Большую радость доставлял Людмиле Андрюшка, хорошим рос парнишка. Но однажды ей вдруг показалось, что запас приобретенной прочности истощился, и она вошла в некую переломную зону. Зинка Щеголева не переставала удивляться переменчивости своей подруги. И вот очередной рейс в Зереново. Когда покидали собственный аэродром, небо над областным центром было чистым, как вода в стакане, ни единой замутненности, и в Зеренове погода стояла — только летать да летать, но когда начали сброс высоты — земля сообщила, что закрывает взлетно-посадочную полосу. Оказалось, с востока наползала низкая тучевая гряда, тяжелая, вязкая, уже цепляла за самые коньки домов. Пробить ее — значило бы просто плюхнуться наземь, тогда костей не собрать, и командир Ан‑24 Куренков, чертыхаясь, грозил уйти на пенсию, переквалифицироваться в водителя автобуса, в мороженщика, в контролера кинотеатра, в поливальщика городского катка, в лаборанта вытрезвителя, подкрепляя угрозы тем, что машина его старая, бог один знает, как они еще не совершили вынужденную где-нибудь в таежной глухомани... Так, несолоно хлебавши, развернулись над невидимым Зереновом и полетели обратно. И тут Людмила ощутила в себе какое-то опустошающее состояние, что возникает после разлуки с человеком, чьим вниманием дорожишь, за чью преданность борешься. Сидя на заднем креслице-откидушке, обычно оставляемом про запас, она думала, что мир устроен так же странно, как и человек. У многих жизненных законов — принцип бутерброда, падающего маслом вниз: когда хочешь что-то сделать, судьба, ее течение выставляет перед тобой барьер, преодолел его — ставит другой, а там и третий, пока не споткнешься и не откажешься от задуманного. Хотела вот вновь повидать засыпанный снегом северный поселок, побродить по нему хотя бы с полчаса, подышать историей, — вон сколько рассказывал в прошлый раз умный хант! — словом, провести беззаботный, лишенный тягот час, да увы... Она вспомнила рослого парня со стеснительной улыбкой, правильное лицо, голубоватую стылость снега... Механически улыбнулась. Все это в прошлом. Говорят, несчастлив тот, кто пытается соединить прошлое с настоящим, а тем более с будущим, мосты не выдерживают напряжения, рушатся, и человек остается у пепелища. Посмотрела в иллюминатор — внизу, в дымке глубины, проплывало снеговое однообразие, тайга, пугающая своей далекостью, отчужденностью, забытостью. Она почувствовала себя птицей, срезанной на лету «нулем» — крупной волчьей дробью. Опять глянула в иллюминатор, позавидовала — до самой земли чистое небо, никакого тучевого пласта, прикинула, сколько же метров до низа, усмехнулась — много. Задернула кругляш занавеской, постаралась ни о чем больше не думать. Игорь встретил ее, по обыкновению, хмуро. Неспокойный, нервный, он ходил из комнаты в комнату, засунув руки в карманы брюк. Квартира была хорошо проветрена, крепкий табачный дух исчез. Увидев недоумение на Людмилином лице, пояснил: — Бросил курить! Точка. — У врача, что ли, был? — Вовсе нет. Говорят же ведь, что лучше выпить бутылку водки, чем выкурить одну сигарету. Одна сигарета вредней для организма, чем пятьсот грамм сорокоградусной. Хм‑м. Странно, забыл, как «удивление» пишется? Через «е» или через «и»? — Через «и». Она неожиданно поразилась — вон до чего дело дошло. И это называется писатель! Жестко и трезво спросила себя: а что ты сделала, чтобы помочь ему выкарабкаться из этой трясины? Так же жестко и твердо ответила: все! Игорь, похоже, почувствовал эту мгновенную перемену. — Людка, — несколько неуверенно проговорил он. Людмила со спокойной, рассчитанной до миллиметров холодностью осадила себя, загнала в безвоздушное пространство. А там, известно, отсутствуют резкость, назойливость, мания, тягота. Даже искренность отсутствует. Игорь тоже уловил переход от холодной жесткости к какой-то неискренней мягкости, но счел это проявлением обычной покорности. Обычная насмешливость возникла в его глазах. Людмила же увидела вдруг, что глаза у мужа необычно круглые, в красных кольцах. Игорь показался сей разительно схож с голубем, откормленным, потерявшим интерес ко всему, кроме очередной порции еды... Она вспомнила эпизод из детства, когда в крысиный капкан, выставленный в окошке кладовки, угодил голубь. Бордовую крючковатую лапу птицы напрочь перерубила иззубренная скоба. Голубь был худой, ершистый, с колючим рыбьим пером. Было жаль этого заморыша, но делать нечего, переломленная нога висела как плеть, и ее пришлось отрезать ножницами. Людка-Похлебка, такая у нее была кличка, вылечила безногого голубя, ребята сделали ему клюшку-костылик, этакое подобие инвалидного протеза, пернатый долго привыкал к своей новой конечности, потом привык и начал летать, садиться и вспархивать не хуже других своих сородичей, и по земле довольно бодро постукивал протезом. Тот далекий детский голубь стремился к жизни, он выжил благодаря людской помощи и собственной жажде выжить. Как в том голубе нет ничего общего с нынешними сытыми птицами, тучами оседающими на городских площадях, равнодушными ко всему на свете! И как муж ее не похож на того человека, с которым она связывала свою судьбу четырнадцать лет назад, — то был костлявый, романтический паренек с чистым лицом и жадным, неукротимым прямо-таки стремлением работать, творить что-нибудь полезное. Вот во что превратился романтический мальчик с чистым лицом... Она усмехнулась: «И хором бабушки твердят — как наши годы-то летят». Зинкина присказка. Боже мой, она так любила этого человека, готова была пойти за ним хоть на Северный полюс! Но едва она подумала о прошлом, как тут же где-то под ребрами возникло вязкое сосущее томление, очень похожее на приглушенную боль. Она беспомощно посмотрела на Игоря, в зрачках ее заплясали искорки испуга, сострадания к ушедшему времени, к Игорю — к тому Игорю, который удалился в прошлое, которого она знала издавна и продолжала любить, — к тому, а не к нынешнему. — Опять что-нибудь насчет скважин хочешь рассказать? Новость, значит, в клюве принесла? — Игорь насмешливо блеснул глазами. — Ну‑с? Давай, агитируй меня за Советскую власть! Он толкнул ногой приотворенную створку двери, разрезал серый расплывчатый полумрак, подошел к письменному столу, где стояла плоская, поблескивающая никелированными рычажками машинка, сел на подлокотник кресла и, настороженно выгнув спину, клацнул концом ногтя по клавише. Обернулся. — Знаешь, Людка, — произнес он размеренно и спокойно. — Когда-то я тебя очень и очень любил... Замолчал. Он словно что почувствовал, словно прочитал ее мысли. Да, прочитал. Потому и произнес эти слова. Она хотела спросить: «А сейчас?» — но не спросила, потому что обида хмельной тяжестью навалилась на плечи, придавила к земле. Слава богу, что хоть не надолго — Людмила через минуту справилась с собой, сочла бессмысленным продолжать разговор. Холодно и равнодушно подумала о том, сколько сил, труда вложила она, чтобы тянуть за двоих, работать за себя и за мужа, обувать, одевать, кормить семью. Она поднялась, произнесла размеренно: — Я за Андрюшкой в детсад. — Пора, — Игорь повернул к себе запястье с часами, поднес их близко к глазам. — Скоро совсем стемнеет. — Склонился над машинкой, застучал клавишами. Она оглядела комнату, машинально отметила появившуюся на потолке, в самом углу, длинную ломкую трещину, едва видимую. Трещина была не шире паутинной нитки. Не было ни зла, ни горечи. Будто что отрубилось. Сколько лет она прожила в этой квартире? Много, но не всю жизнь. Людмила ощущала сейчас себя путником, который не знает, куда идет, помнит и не помнит дорогу, не замечает запыленных путевых примет, деревьев, растущих за отвалами обочин, кустов, в которых переговариваются пичуги, не следит за течением солнца и полетом звезд. В ушах зашумело, она стиснула зубы, и все звуки вокруг замерли. Впрочем, не все — время от времени сквозь забытье пробивался медленный ленивый постук машинки. Равнодушие овладело ею, она поняла, что Игорь для нее сейчас совершенно безразличен и далек, как всякий другой чуждый человек, и она ничего больше не испытывает к нему — ни привязанности, ни нежности. Какой-то негустой, но едкий туман прихлынул к глазам, она поморщилась, выпрямилась. Болела шея, плечи, она ощущала непрочность своего тела и боялась этой непрочности, боялась, что вдруг хлопнется оземь, на жесткий холодный пол. Позавидовала сильным людям, которые, как говорят, умеют легко владеть собой. Впилась пальцами в колени. Боль отрезвила ее. Несколько шагов по комнате, и все стало на свои места, только противная липкая тошнота обволокла все внутри, начала давить на горло, и от этого ей очень хотелось плакать. Она вышла в прихожу, постояла несколько минут в сомнении, не решаясь сделать последний шаг, потом побросала в старый расползающийся чемодан джерсовый, устаревшей моды костюм, расческу, длинные, по локоть, «дворянские» лайковые перчатки, ненужную ей кофту крупной вязки, которую надевала всего один раз, потертые джинсы. Затем на клочке бумаги написала крупными неровными буквами: «Нам надо пожить порознь. А чтобы ты не голодал — хочешь, я тебе алименты буду платить?» Положила записку на видное, бросающееся в глаза место. Беззвучно прикрыла за собой дверь, снизу, из автомата, позвонила Зинке Щеголевой, задала лишь один вопрос, может ли та приютить на неделю, это минимальный срок, пока Людмила не снимет квартиру, услышала в ответ удивленное и одновременно растерянное «да», повесила трубку на раздвоину рычага. Вот ведь как получается: другие ищут мужа, днем с огнем найти не могут, потому что нехватка на мужей, дефицит еще с войны, вон уже сколько лет дефицит, а она, наоборот, старалась уйти от мужа, забыть, что он существует. Остановилась в раздумье: а не проще ли пойти по другому пути — принимать мужа таким, какой он есть, без прикрас и аквариумного увеличения, когда каждая рыбешка находится словно под микроскопом, и делать то, что хочется? Ведь можно, например, крутить напропалую, налево и направо, с уверенными крепкими летчиками, как делают многие ее подруги, да еще посмеиваются: «Аэрофлот все спишет», и мужья ничего, ничегошеньки не знают. Но для этого надо было сделать внутренний надлом, надпил, начать вторую жизнь, проложить ей рельсы с жизнью уже существующей, надо было раздвоиться. Вот этого она никогда не сможет сделать. Не тот душевный запал. Она стояла на бровке тротуара, беспомощная, с глазами, пухлыми от слез, тянула руку в варежке, стараясь остановить машину — надо было заехать в детсад, взять Андрюшку, по дороге обдумать ответы на возможные вопросы сына. Что ему сказать, что? Надо было взять себя в руки, определить, запрограммировать дальнейшую жизнь, которая таила так много неизвестного, — и все сейчас, сейчас, сейчас. Еще надо убрать слезы, которые все-таки выплеснулись из глаз, не удержались, привести в порядок лицо, чтобы ни Андрюшка, ни Зинка Щеголева не догадались о ее душевном потрясении. Она едва держалась на обледенелом тротуаре, даже не посыпанном солью или песком, чтобы не скатиться под колеса машины, — внутри, там, где сердце, легкие, где все самые важные жизненные органы, словно кто пожар зажег. Когда к бровке прижалась, скрипуче тормознув, «Волга», с кошачьим огоньком, стреляющим из-за стекла, машина эта показалась ей кораблем, что навсегда уходит из гавани с охвостьем обрубленных канатов, свисающих с кормы, а берег молчит в настороженной оторопелости, не салютует, — не знает берег, что корабль никогда не вернется назад. Через неделю муж появился в аэропорту, с погасшими глазами, наткнулся на Зинку, та, отведя взгляд в сторону, буравя световое табло с тусклыми огоньками, обозначавшими номер рейса, на который шла посадка, объяснила, что Бородиной нет, улетела ночным «илом» в Москву. В детсаде он не смог узнать, где Андрюшка: Людмила забрала ребенка, не сообщив, куда его переводит. Муж стал появляться в аэропорту каждый день, как на работе. На исходе второй недели он написал Людмиле письмо, попросил девчат передать по адресу, хмурым сиплым шепотом сообщил, что в завтрашней газете они могут прочитать похоронку. О нем похоронку. Письмо было написано на нескольких четвертушках прыгающим, взбудораженным почерком, содержало тихую угрозу, бешенство, мольбу. Напиши Игорь это письмо по-человечески, она бы не выдержала, вернулась. Без промедлений. А тут застопорило. Да еще этот провокационный шепоток насчет самоубийства. Хотя что-то озабоченное, далекое, рожденное добром, потревоженностью души, стиснуло ей грудь, и она, сидя за чужим столом, кажется старшей бортпроводницы, неспокойным коротким движением рванула на себя срединный ящик, зная, что в девчоночьих столах всегда можно собрать целый аптечный ларек. Ей так надо было сейчас выпить какую-нибудь таблетку — от гриппа, от насморка, от головной боли — все равно какую, важно было психологическое воздействие на организм, на мозг, — она знала, что именно таблетка обманет бдительность и принесет успокоение. Вспомнилось все лучшее, что было связано с мужем, его подарки, сделанные в день свадьбы, недорогие, но необходимые в быту вещи, инкрустированная индийская шкатулка для бумаг, которую он вручил ей в день двадцатипятилетия, — безделушка конечно же, но приятная... Потом эта шкатулка куда-то задевалась, ушла с глаз, как уходят предметы, не приносящие пользы; вспомнилась поездка на пог, в теплый санаторный Мисхор, шелковица-падалица, сладкая, вяжущая язык, которую они покупали у старухи хозяйки, некрасивой, угрюмой, но чрезвычайно честной, такие внакладе остаются от собственной торговли; деревянные нары пляжа, врубленные в камни, фиалковая свежесть воды с непугаными усатыми креветками, морскими тараканами, неунывающими голопузыми крабиками, вспомнились другие детали того далекого южного отдыха... Кто-то тронул ее за плечо, она опасливо повернулась, в ее зрачках еще сохранялась фиолетовая рябь вечернего моря, теплый уют уходящего на сон дня, красная горбушка солнца, осклизлые, поросшие нежной тиной камни, высовывавшие свои головы из кружевных воротничков прибойной пены. — Люд! Брось! Не переживай, — Зинка Щеголева глядела просяще, ласково. — Не бойся. Никогда он не покончит с собой. С собой кончают люди сильные, для этого волю надо иметь, а у него внутри тесто, хоть он и жестковат на вид. — Хорошо, — Людмила поднялась, провела рукой по воздуху, оглаживая что-то невидимое, может прогоняя наваждение. — Хорошо. Не буду, — вскинула голову, но в этом движении, в излишней его резкости Зинка уловила нарочитость, желание обмануть ее проницательность, протестующе тряхнула колбасками косичек. За окном сквозь рваную белесую наволочь проглянуло солнце, несмелое, сонное, и папки, лежавшие на подоконнике, осветились сиреневым. Было в этом огне что-то радостное и горестное одновременно, завспыхивали в нем серебряные искры, будто следы пуль. А может, не пуль — может, звезд. Потянуло холодом и неуютом. Людмила понимала, что жизненный кров над ее головой зыбок, он все равно что охотничий шалашик, сооруженный на пару дней в птичьих угодьях, среди болотного сита. Вдруг ей померещилось, что она видит ухмылку Меншикова, этого удалого старца, и в несколько секунд перед нею отчетливо, во всех своих красочных деталях предстал поход на сосьвинский крутояр, недобрые сосны, зереновские дома, обитые ради архитектурного кокетства шифером. Холод проник в грудь, от него заныло сердце, будто нехорошее предчувствие заползло в тело и теперь холодило жилы, замедляло бег крови. — Что с тобой, Людк? — встревожилась Зинка. — Может, воды? — Нет, — отказалась Людмила, потерла виски пальцами. Видение разлетелось перед ней снежными хлопьями, без следа растворилось в воздухе. — Приблазнилось бог знает что. — Устала ты, Людк. Отдохнуть тебе надо. Людмила машинально улыбнулась, сделала короткий мах рукой. Игорь, понятное дело, отрезанный ломоть. Но из прошлого его не выкинешь. А прошлое, оно пока еще обладает огромной силой. Теперь о настоящем... Настоящее — это понятно, это нынешнее ее положение. Как оно называется? Положение соломенной вдовы. Теперь о будущем. Какое оно? Таит в себе неизвестность. Другого ответа нет. Может, будущее сокрыто в том парне с трассы? Она усмехнулась: а не холодное ли арифметическое «действо» — сложение-вычитание — заложено в таком раскладе? Опять перед ней заструились снежные хлопья, истончаясь, дробясь в крошево. Что-то недоброе сулило это хаотичное движение. Какое-то ощущение беды безотвязно следовало за ней, и не было никаких сил отгородиться от него. Что случилось, что? Неужели муж? Муж конечно же ничего с собой не сделал — тут Зинка была права, и Людмила тоже так считала — для такой страшной вещи, как самоубийство, нужна звериная воля, душевная твердость и одновременно полная потеря равновесия, а Игорь был довольно уравновешенным малым. Такие к концу жизни мякишами становятся. Получила она в тот день еще одно письмо. Короткое. «Людмила, если помнишь меня, я — Костылев. Иван Костылев. Обращаюсь потому, что попал в аварию и покалечил ноги. Лежу в Зереновской больнице. Хотелось бы повидаться. Если, конечио, можно».
18
Костылев долго и сложно приходил в себя, а приходя, тяжело, дотошно разбирался в собственных ощущениях, вспоминая и морозную, в дымке, дорогу, на которую его вышвырнула взбесившаяся плеть, и хряск вертолетных лопастей, похожий на рвущуюся ткань, и заросшее черным лицо пикового короля, склоненное к носилкам, которое он так и не узнал, и вышибающую кожные мурашки белизну приемной палаты с марлевой прореженной занавеской, пропускающей свет, но не пропускающей взгляд, и белохалатный взвод консилиума, и дурманящее око лампы над операционным столом, и гортанные слова латыни, проникавшие в его сознание из преисподней. Потом он пришел в себя окончательно, удивился своему небритому подбородку, — когда провел им по крахмальной натертости простыни, подбородок затрещал электричеством. Его как током пробило — боль уколола ноги, самые ступни, он враз, в ошеломляющей четкости, последовательно вспомнил все, что с ним произошло, и болезненная бледность наполнила его лицо — Костылев читал где-то, что люди с ампутированными ногами еще очень долго чувствуют конечности, пальцы, ступни, боль, чувствуют каждый порез, тугие обжимы ботинок, от которых тупо цепенеют стопы, простудную ломоту и ревматические приступы, — ему показалось, что страшная толстотелая труба-«тыщовка» снова обрушилась ему на ноги. Он застонал. В палату, словно что почувствовав, вбежала сестра, пожилая, крутобокая, с узенькими, почти в полоску сомкнутыми глазами, вытянулась в тревожной птичьей стойке. Костылев, встретившись с ней глазами, прикусил до кровяных капель нижнюю губу. Потом растерянно, с мольбой, исказившей его лицо, поднял голову и медленно, толчками, каким-то пунктиром, морзянкой перевел взгляд в конец койки, на полотняный конвертик, огибающий краевину одеяла. Там, где были ноги, одеяло, как и положено, бугрилось. — С-сестра, — позвал он с сипепьем, пробившимся сквозь мокроту горла. — Сестра, ноги у меня есть? — Есть, мёдочка. Куда им деться, — ответила та прямодушно, с обнадеживающей грубоватостью. — Мне плеть ноги перерубила, — Костылев облизал губы пухлым, малоувертливым языком. — Не перерубила. Миловала. — Как же так? — с идиотским неверием спросил он. Сестра понимала, что это тупое упрямство идет от желания больного до конца поверить в то, что с ним ничего страшного не случилось, что все на месте, налицо все атрибуты, дающие человеку человеческий облик. — А вот так, — ответила она, не меняя своего грубоватого тона. — Не знаю, как это было, место происшествия не исследовала, но сказывают, когда падала плеть, ноги твои в машинный след попали. Он и спас. Ходули твои спас. — А операция? — прошептал он. — Что операция? Подстругали тебя немножко, заштопали, пару кожных лохмотов пришили. Кости не раздроблены, а вот трещины, тут врать не буду, есть. Так что полежишь у нас. Пока не надоест. — А почему оброс так? — задал он вопрос совсем уж идиотский. Человеку голову с трудом сохранили, а он спрашивает, почему помяли прическу. — Долго без сознания был. — А п-почему? — По кочану да по кочерыжке, — обрезала сестра, которой разговор этот начал надоедать. — Болевой шок был. Знаешь, что такое болевой шок? — Читал. — То-то. Раньше читал, а теперь на себе испробовал. Спи пока. Не то до срока выпишем. — Хотелось ба. — «Хотелось ба», «хотелось ба», — она передразнила Костылева, покачала головой, как опрокинутым вверх ногами маятником, от плеча к плечу. В представлении Костылева больничные няни, сестры, сиделки, санитарки, прочая обслуга должны быть седенькими добродушными полнушками, с милостью в глазах, к имени которых, называя, непременно надо приставлять слово «тетя»: тетя Таня, тетя Маша, тетя Настена, тетя Нюра и так далее. Каждая из них должна иметь русый облик, а эта сестра из хантов, и имя у нее, наверное, сложное, в три колена, что сразу и не выговоришь, национальное. — Как вас зовут? — спросил он. — Тетя Таня, — ответила сестра и, прошуршав плотным, до жестяной ломкости накрахмаленным халатом, оставила Костылева в одиночестве. Он улыбнулся. Испуг, чуть не лишивший его сознания, прошел. Значит, с ногами все в порядке, если, конечно, перебинтованные, заточенные в гипс ходули (он вспомнил интонацию, с которой тетя Таня произнесла слово «ходули», смешную картавость речи — дефект, на который не сразу обратил внимание) можно назвать «порядком». Закрыл глаза и недолго сопротивлялся сну — сон был легким, из тех, что вспоминаешь с улыбкой. Потянулись дни, похожие друг на друга.Вначале больничное томление переносилось в охотку, без душевной натуги, потом Костылев начал скучать. Утром — приход врача; внимательные, ничего, кроме причастности к болезни, не выражающие глаза; кормежка, после которой сил прибавлялось ровно настолько, чтобы два раза провести руками по воздуху, сотворить жалкое подобие зарядки; потом тоскливое однообразное лежание в кровати; стыдливое оправление, не отходя, что называется, от кассы; постненький обед диетика, сбрасывающего жирок; прием лекарств — однотипных, горьких; долгое предвечернее одиночество, через раз скрашиваемое сном; ужин; ночные бдения, когда от тычка в бок разлепляются глаза, сами, бесконтрольно, и потом долго приходится искать способ, чтобы их слепить снова. Все однообразно. ...Он еще не начал вставать, когда однажды в палате появилась тетя Таня; застегивая халат на графиноподобном теле и с радостной умелостью поблескивая глазками — наверное, тоже профессиональное — прокартавила важно: — Ну, Костылев, пляши! К тебе гости. Костылев вытянул голову, тревожно взглянул на тетю Таню, зыркнул на эмалированный, ведерного размера судок, выглядывающий из-под койки. Тетя Таня вскинула руку, как оратор на трибуне, пришлепнула ею воздух. — Все поняла, Костылев. Можешь не стесняться, мёдочка. Счас накрою газеткой твой персональный унитаз. Не было в ее словах, в тоне, в психологической окраске голоса чего-то унизительного, неприязненного, был грубоватый, плоский юмор, какого вдоволь в провинции, где грузным, неуклюжим, как полено, словом не брезгуют ни мужчины, ни женщины, все пользуются. — Кто приехал, тетя Тань? — спросил он, успокаиваясь. — Доложу, если спасибо скажешь, — сестра залезла в карман халата, извлекла оттуда плоский разлинованный блокнотик с прицепленным к корешку карандашиком, с медвежьей медлительностью добыла из другого кармана очки, навесила их на маленький носик-кнопочку. — Тэ-эк-с, — произнесла с профессорским многозначьем, подцепляя пальцем листики блокнота, просматривая их и с лица и с изнанки, а Костылев все тянул и тянул голову, морщась: вот, тетеря, не могла где-нибудь поближе записать. — Ну? — произнес он нетерпеливо. — Не нукай, мёдочка, — окоротила тетя Таня. — Не на Луну летим. Вот, — она прижала пальцем-подушечкой вощеный листик, пошевелила губами, будто заучивая текст, потом прочитала быстро и звучно, как артист с эстрады. — Товарищ Рогов. Товарищ Баушкин, — взглянула на Костылева исподлобья, поверх очков, — это наш поселковский председатель Президиума Верховного Совета... — Знаю, — перебил Костылев. — Уж не нажаловался ль ты? Может, плохо кормим? — Плохо. Но это никакого отношения к Баушкину не имеет. — Ладно. И-и... Товарищ Старенков. С цветами и подарками. Хватит? — Хватит. — Тогда впускаю. Первым в палате возник бригадир, с дороги не чесанный, блеснул здоровой голубоватостью белков, словно молнию в стенку над костылевской головой вогнал, улыбнулся, раздвигая бороду. Из дремучих зарослей чисто проглянули зубы. — Старенков, — задавленно пробормотал Костылев. — Он самый! — проорал бригадир, в один гигантский — только рекорды мира по прыжкам в длину побивать — скок пересек палату, обдал Костылева морозом, папиросным ароматом, крепостью водки, раскинул мозолеватые, фанерно-твердые ладони, спохватившись, убрал их, опустился на колени рядом с кроватью, прижался щекой к мятому простынному боку, засмеялся тоненько, визгливо, как девчонка, которую пощекотали. — Ваанька! Жив, курилка, рыбья голова, капроновые уши! Обормот ты двулапый! Двулапый спереди, двулапый сзади! — пристукнул кулаком по прогнутой кроватной слеге. Под Костылевым тихо дзенькнули панцирные пружины. Распрямился, откуда-то из-под ремня выудил страшноватую, черного стекла бутылку с иностранной наклейкой, махом водрузил на тумбочку. — «Камю», — улыбнулся Костылев. — У-у-у. Лучший в мире коньяк. Французский. — Т-точно, — раздвоил бороду Старенков. — Камю на Руси жить хорошо? Камю? А? — Нам! — Костылев улыбнулся шире: на пороге палаты стоял Рогов, долговязый, как телефонная опора, потный и густо обсыпанный конопушной гречкой, потому что дело уже шло к весне. На бывшем костылевском сменщике был черный, с лунной металлической полоской костюм, еще была слепяще-холодная, какой-то каменной, мраморной или кварцевой белизны рубашка с длинными негнущимися концами воротника, имелся и галстук. В разводах. Из-под роговского локтя выглядывал Баушкин. Он ничуть не изменился, все такой же, полный достоинства, веселый, с глазами-бусинами, по-вороньи зоркими, мудрыми, опытными. — Здравствуй, Иван, — промямлил Рогов, звонко переступнул с ноги на ногу, словно подкованная лошадь перед прогулкой; Костылев взглянул вниз, на его ноги, и ахнул: мать моя, роговские копыта никак не менее сорок седьмого размера. Ничего себе лапы отрастил! Когда унты да сапоги носил — незаметно было, а в туфлях сразу бросилось в глаза. — Пить больному можно? — спросил Баушкин. — Можно, — махнул рукой Старенков, — если пить не будет, в сто лет не вылечится. Проверено. — А как с этим... Ну, насчет борьбы с пьянством? — спросил Рогов, не покидая своего поста в проеме двери. — Разве это пьянство? — удивился Старенков. — У нас повод. — Какой? — поинтересовался Костылев. — Сейчас узнаешь, — он сделал хитрое, загадочное лицо. Рогов звонко клацнул подкованными штиблетами, посторонился. В двери показался смущенный, краснолицый и этой своей здоровой багровостью смахивавший на альбиноса Уно Тильк, его волосы обелесели совсем, в глазах застыла торжественность, словно у адмирала перед спуском крейсера на воду. Одет он был, как и Рогов, также подобранно, элегантно, словно собирался на дипломатический прием в посольство: модный костюм из такой же, как и у Рогова, ткани — видно было, что покупали в одном магазине, — только искр поменьше, та же кипень рубашечного полотна, галстук в павлиньих размывах — картинка из журнала этот Уно. Только брюки были коротковаты — попробуй на такого гиганта найти штаны, чтобы они были впору. Все подряд, сколько он ни примеривал, сидели на нем как шортики. Обшлага брюк набухли и отвердели от влаги, на ногах были лаковые, с округлыми, яйцеподобными носами туфли. — Вы, ребята, что? Фотографироваться в полный рост нарядились? — Костылев поерзал на кровати, чувствуя себя неудобно перед писаными красавцами — неловко даже находиться с ними в одной комнате, выступать в непрезентабельном одеянии, в рубашке с треугольным вырезом, из которого выглядывает незагорелая, с выступающими кулачками ключиц грудь, с мятым, бледным от больничной озабоченности лицом. Он подтянул одеяло к подбородку, выпростал одну руку. — На доску Почета? Иль вас французский посол на коктейль пригласил? — Не спеши, — обрезал его Старенков, согнул два пальца в кольцо, подул в них как в горловину трубы — новый жест появился, Костылев раньше не замечал. — Знаешь, есть такая присказка: «Поспешишь — людей насмешишь»? Спешка нужна при ловле насекомых и ухаживании за девушками. А? Уно прошел вперед, вытянул руку, и на пороге появилось нечто белое, огромное, речной утес, закованный в тяжелую сахарную ткань, струями спускающимися книзу. «Дюймовочка!» — узнал Костылев. Дюймовочка в свадебном наряде — пухлотелый «начкадр» со строгими, безжалостными глазами, с неизменным комсомольским значком, приколотым прямо к подвенечному платью. Дюймовочка, заставившая столько страдать бедного Уно. Правда, тот и вида не подавал, что страдает, но, если присмотреться, это было заметно. Костылев натянул одеяло еще выше, на самые уши. Дюймовочка улыбнулась широко, приветливо. Костылев только сейчас разглядел, какая у нее тонкая, нежная кожа и глаза вовсе не строгие, нет в них привычной хмурой серости, есть два синих, нараспах, оконца, глубоких безмятежных омутца. — Мы поженились, Ваня, — простым, будничным голосом, будто он женится в который уже раз, дело это для него так же привычно, как и прокладка труб на трассе, произнес Уно Тильк. — Не слышу радости в голосе! — Дюймовочка тряхнула Уно за рукав. — Вот, уже начинаются козни эмансипированной женщины, — пожаловался Уно. — Потеря суверенитета. В зависимость впадаю. Скоро нас, мужиков, эмансипировать придется. Как когда-то их, прекрасных мира сего... — Всем бы такую зависимость, — сказала Дюймовочка и еще раз тряхнула Уно. — Точно, точно, — раздвинул бороду Старенков, проговорил жестко: — Вся трасса этому счастливцу завидует, а он нос в складки собирает, будто кислого яблока кусил. — Так его! Так его, женатика! — подал голос Рогов. — Молчи, несчастный одиночка, — окоротил его Старенков. — Кустарь! — Двумя пальцами взял бутылку за горлышко, подержал на весу, будто проверяя, на что она потянет, спросил, ни к кому не обращаясь: — Куда Дедусик запропастился? — И Дедусик здесь? — Костылев подвигал головой по подушке. — А куда этот Рокфеллер без нас? В поссовете свидетелем со стороны невесты выступал. — Выдумываешь? — усомнился Костылев. — Со стороны невесты женский пол должен выступать. Дедусик что — женского пола? Первый раз слышу. — Это ты спроси у Дедусика, — посоветовал Старенков. — Еще у Уно Тилька. И вообще, пусть он тебе о женитьбе расскажет. Расскажи, расскажи, гигант мысли, отец демократии! Не тянешь? Тогда я сам расскажу. Приехала бедная девчонка к нам на трассу, — он, жалостливо наморщив Лоб, взглянул на Дюймовочку, — инспектировать, как мы работаем, правильно ли табеля заполняются. Так этот африканский слон подослал разведку, узнал, что к чему и на сколько глубокоуважаемая инспекторша прикатила в наши пенаты, потом, не долго думая, выкрал ее. В промтоварном ларьке купил ткани, за ночь поварихи соорудили платье, а там — на вертолет и в Зереново, в поссовет расписываться, благо головой в этой справедливой организации дружок работает. Словом, неожиданно для себя наша инспекторша оказалась окольцованной. Так-то, Ваня! Учись. Очередь за тобой. — Только после Рогова. — Меня ты не дождешься, — пошевелился Рогов. — Что? Железобетонный? — Выдержанной крепости. — Где Дедусик с закусью? Послали черепаху в магазин. Себе на голову, — громыхнул Старенков. — Здесь я! — послышался голос. Дедусик, прижимая к груди банки, склянки, кульки, коробки, еще что-то, завернутое в бумагу, пахнущее ванилью, перцем, копченой остротой, вспрыгнул на порог и, вскрикнув: «Посторонись!», вымахнул на середину палаты. — Вот она, закусь! Старенков, переставив с тумбочки на подоконник графин и пару пузырьков с лекарством, передвинул тумбочку в центр палаты. — Закуска пришла, стол есть, напиток согрелся. Прошу, паньства! — Знаешь, Иван, кто еще должен прийти? — Рогов спустился наконец с порожка, перестал маячить в проеме. — Вертолетчик, который тебя в Зереново вез. — Хороший парень. Страшный, правда, во сне увидишь — плохо будет, но хороший. Одинец его фамилия, — сказал Старенков. — Его вертолет случайно на нас набрел, когда на тебя плеть наехала. Дедусик с маху опустил закуску на тумбочку и с ловкостью столичного официанта разложил колбасу, сыр, сардинки по картонным тарелочкам, ногтем вспорол обертку коробки с печеньем, распахнул ее, наломал шоколада. — Пожалуйте-с, — он выпрямился, осветил больничную палату лысиной, по углам, в смыке стен с потолком, заплясали отраженные блики. Одет Дедусик был в свой прежний заношенный костюмчик с медалью на лацкане. Вскоре пришел Одинец, бригадир разлил коньяк по стопкам, произнес первый тост. Это было самое необычное свадебное застолье, которое когда-либо знало Зереново, застолье в больничной палате у хворого товарища. Хотя и говорят, что больным волноваться вредно, Костылев поволновался вначале за трассовиков, опасаясь, как бы их не выперла из палаты тетя Таня, но та глаза закрыла, узнав, что у ее подопечного — люди с трассы. Потом пожаловал главный врач, но и тот неожиданно сделал особое медицинское заключение, а вернее — исключение, сказав, что больной находится в том состоянии, когда ему как воздух, как вода и пища необходима встряска, — словом, и тут обошлось. Вот одно только было плохо — поджимало «светлое» время. Одинец, подняв руку со старыми серебряными часами, притороченными ремешком за тоненькие дужки к запястью, звонко подолбал пальцем по стеклу. — Дамы и господа! — провозгласил он. — Пора в воздух! — Но перед тем — посошок! — решительно произнес Старенков, сквозь крепкую буроватую обветренность его лица проступила бледнота. Борода стала совсем смоляной, даже немного в синеву начала ударять. Дедусик с любопытством, чуть вкривь, посмотрел на Костылева, мягко приблизился. За его спиной стоял гомон, разливали последний коньяк, и поэтому на старика никто не обращал внимания. Дедусик потеребил пальцами простыню, выбившуюся из-под одеяла, спросил жалостливо: — Больно, Ваня? — Раньше было больнее. — А сейчас? — Сейчас заживает, — ответил Костылев, добавил: — Элементарно. — Ты, Ваня, это-ть, — Дедусик шмыгнул носом, голубые глаза потускнели от сочувствия. — Это-ть. Не прогадай. За увечье тебе сто процентов должны платить по бюллетню. Вот. Да еще премию должны выдать. Тут ты поторгуйся, если не выдадут, смело сажай строительного начальника в тюрьму. Выгоду поимей! Дедусик замолчал. Слова его до Костылева еще не дошли, их смысл Иван понял позже. — Ну, я пошел, — сказал Дедусик. — День на уроне, через час солнце в постель уляжется. Он повернулся к Костылеву спиной. Со спины Дедусик выглядел плотным, крепеньким мужичком, много моложе своих лет. У Костылева в груди, как раз под сердцем, шевельнулось что-то твердое, громоздкое — похоже, просыпалась боль. Он поморщился. — Вона, крестника мы совсем уморили, — проговорил Одинец. Поторопил: — Пора. Прощания, поцелуи — и Костылев вновь остался один. В палате будто никого и не было — и тумбочка стоит на прежнем месте, и графин, и пузырьки с зельем, на полу ни крошек, ни бумажек, никакого мусора, остающегося, как правило, после всех застолий. Только в воздухе еще плавал, истаивая, запах сигаретного дыма, разговоров и тостов, хороший мужской дух. И так Костылеву захотелось назад в тайгу, таким одиноким и несчастным он почувствовал себя, такой истинной человеческой ценностью для него обладало все, связанное с трассой, что возвращение представилось ему самым дорогим даром. Он отдал бы все, чтобы очутиться сейчас в затопленном вечерним мраком балке, слушать торопливое квохтанье жаркой печушки, тенорок Дедусика, болтающего о чепухе — пусть даже о деньгах, господь с ним, — дышать одним воздухом с трассовиками, жить одною с ними жизнью. Он сжал зубы, втянул сквозь них воздух, вытиснул его назад, втянул снова и так до тех пор, пока слезный приступ не прошел. На следующий день после завтрака в палате появилась тетя Таня, оглядела Костылева критическим оком. По ее лицу было непонятно, одобряет ли она больничные хоромы и их владельца или нет. Оправила простыню на кровати, ногою задвинула судок в глубину. — Теть Тань, — спросил Костылев, — когда меня выпишут? — Это ты, мёдочка, у главного врача спроси. Пусть он тебе отчет даст. — Теть Тань, почему я в отдельной палате лежу? Почему меня в общую не переведут? — К-как почему? — не поняла тетя Таня, зыркнула на него искоса, через плечо. — Ты ж один в нашем госпитале, больше больных нет. Оди‑ин! — Один? — не поверил Костылев. — Один, — подтвердила тетя Таня. — Значит, так, мёдочка, палата у тебя в удовлетворительном состоянии, на три балла. Больше и не надо. — Грамотная ты. — Угу. С кем поведешься, от того и наберешься. А потом, ты не гляди, что я старая, я медицинское училище окончила. Диплом о среднем специальном образовании имею. — Вот я и говорю — грамотная. — Значит, так. В жилище твоем гостей принимать можно. — Ко мне опять гости? — Вчера свадьба закатилась, чужая невеста с женихом побывала, сегодня невеста собственная погостить приехала. — Какая такая собственная? — Моднячая дивчинка, в шубейке. Все ладно, все подогнанно, в сапожках, личико справное. Все на месте: два глаза, два уха, нос, ресницы, рот, бровки — все чин чином. Да не полыхай ты, не полыхай! Больницу подожгешь! Густая огняность наполнила его лицо, затопила каждую клетку, из каждой порины проступила жаркая кровь. Тетя Таня — нет бы не заметить костылевского смятения — взяла да подлила еще масла в огонь. Костылев заполыхал еще гуще, заворочался в тесной гладкой койке, потрясенный известием. Медсестра оглядела его в последний раз, качнула головой: мол, не дрейфь, парень, и не в таких переделках бывали, и вообще, дай бог, чтобы эта передряга была последней, если, конечно, приход любимой девушки можно назвать передрягой. Костылев отчетливо, до мелочей вспомнил тяжелые дни, когда ему было совсем худо — подскочила температура (не от ран, нет — от простуды), палата наполнилась сизым удушьем беспамятства, сквозь которое изредка проступало блеклое, смазанное пятно — это у постели дежурила тетя Таня или кто-нибудь из сестер. Приходили врачи, щупали его запястье, туго давя пальцами на жилку пульса, заглядывали в зубы, а ему все хотелось закричать: «Почему же вы смотрите мне в зубы, я не лошадь!» Но сквозь сплотненные синюшные губы пробивались наружу какие-то однозначные звуки, сипенье проколотого велосипедного колеса, врачи недоуменно поглядывали друг на друга, пожимали плечами, решая, устанавливать в палате реанимационную аппаратуру или не устанавливать. Потом ему дали зажать зубами резиновую соску кислородной подушки, после чего Костылеву стало немного легче, но, когда подушку убрали, опять потяжелело. Он чувствовал, как кто-то брал его руку, легонько тискал пальцы. У умирающего в первую очередь холодеют кончики пальцев, вот их и тискают... Затем полегчало, над его головой подвесили кислородную подушку, теперь уже постоянно, капитально, на крюк, ко рту провели длинный змеистый шланг. Однажды ночью он пришел в себя, беспамятство рассеялось, организм, здоровый, сильный, молодой, вытянул его из беды, остался только церковный звон в ушах вперемешку с острым ножевым попискиваньем, будто резали живую плоть, — это сигналил мозг, предупреждая об опасности. Когда он поднимал руку, чтобы забраться в тумбочку, казалось, что пальцы налиты свинцом, рука была тяжелой, непослушной, чужой, камнево-холодной. А потом он окончательно пришел в себя. Тетя Таня спала, запрокинув голову на спинку легкого плетеного кресла. Кое-как справившись со слабостью, Костылев залез в выдвижной ящичек тумбочки, достал лист бумаги, карандаш; слабея и проваливаясь в жаркую темноту, с трудом выплывая из ее аквариумной толщи, царапал букву за буквой, стараясь сохранять одну высоту, дабы в строчках не было больного прыганья, аритмии. Он не знал, зачем это делает. Измучив себя вконец, преодолевая тошнотную слабость, продираясь сквозь вязкие обволакивающие звуки, добил все-таки записку, нашел конверт, вложил, заклеил, облизав языком казеиновый срез бумажного клапана. Справился с этим и ушел снова в забытье — слишком много сил отняло письмо. Очнулся только вечером следующего дня, через восемнадцать часов. Тетю Таню сменила другая сиделка, бойкая востроликая девчушка, ей Костылев и отдал послание, попросил опустить в почтовый ящик. И вот результат — приехала Людмила. — Можно? — услышал он голос. Огняность немного отхлынула от щек, лба, шеи, на лице возникла некая — вот уж совсем ни к чему! — маска обиженности, непереносимости. Хорошо, что голова находилась в притеми стены, Людмила не все могла рассмотреть. — Можно, — произнес он тихо. — Спасибо, что приехали. Простите меня. Простите. А? — За что? Заладил — простите да простите... Во множественном числе. — Садись, — пригласил Костылев. — Спасибо. Как чувствуешь себя? — Ничего. Раньше было хуже. Она села в кресло, оставшееся после ночного бдения, здоровенную пузатую сумку из клетчатой прозрачной ткани водрузила на подоконник. — Это дары областного города. Он улыбнулся, промолчал. — А ваша больница, — Людмила стянула перчатки, сунула их в карман шубы, — ваша больница уникальная. Разве нет? Единственная в области, где посетителям не дают белых халатов. — Это еще что! Больница хороша не только этим: я в ней единственный больной. Один-одинешенек. — То-то заботы, наверное. С избытком. — Даже персональный повар есть. Как в ресторане. Готовит заказные блюда, по заявкам болезного. Рябчики в сметанном соусе, мозги на поджаренных сухариках, свежие шампиньоны в тарталетках. — Красиво говоришь, — улыбнулась она. — Не объедайся только. Туристы, те, например, считают, что лучше недоесть... — Э-э, туристы! Эти выпьют стакан, наговорят с ведро. — Что с тобой случилось? — спросила Людмила. Поправилась, взглянув на Костылева виновато: — Как это случилось? — Очень просто. В рейсе. Думал, без ног останусь — под двенадцатитонную плеть попал. Хорошо, ребята подоспели, а то насмерть замерз бы под трубой. Дальше — на вертолет и сюда. Здесь — операция. Врачи думали, что антонов огонь вспыхнет, но обошлось. — Антонов огонь? — Так в старину называли заражение крови. Это я от бабушки почерпнул, она у меня любительница древних выражений. — У тебя есть бабушка? — Разве я не рассказывал? Под Москвой живет. — Ты ничего о себе не рассказывал. — Прости. Проклятая скрытность, — улыбнулся он. — Видишь, сколько недостатков? — И все в одном человеке, — подхватила она. — Ага. А насчет вот того, — показал пальцем на окно, где гнездилась раздобревшая сумка, — напрасно. У меня все есть. Вчера ребята были, даже «Камю» с собой привозили. Предпоссовета тоже заглядывал. Помнишь, он в прошлый раз о Меншикове глаголил? — Занятный человек. — Хант. Из Люлюкар. Есть такая деревня, по реке, за Игримом. Ныне, говорят, уже брошенная. Людей переселили в другое место, а там, в Люлюкарах, только дома да кладбище остались. Он чувствовал, что, несмотря на гладкость разговора, нанизанность ответа на вопрос, на общую ласковость жестов, увы, нет той психологической сцепки, которая даже коряво произнесенное слово делает необычайно убедительным, желанным. Он никак не может преодолеть настороженности этой женщины. В ней, в Людмиле, что-то произошло, что-то изменилось, внешне это незаметно, это проглядывает изнутри, когда наблюдаешь исподволь. И не поверхностно наблюдаешь, а глубоко. Спокойный взгляд, розовая окрашенность щек, проступающая из-под кожи, виски со слабыми впадинами, где устало бьются жилки, — все то же... Все то, желанное. Но вот что же изменилось в ней, что? Он молчал, и Людмила молчала — словно сговорились. Эта пауза не была надуманной, нет. Вот что в Людмиле изменилось, вот! — наконец-то понял Костылев — появилась мужественность, душевная храбрость. И это отразилось в линии губ, в мелких треугольных точечках, обозначивших углы рта, в манере сидеть. В паузе начала проглядывать пустота. Тогда он заговорил, стараясь, чтобы речь его была умной, слаженной, доходчивой: — Баушкин — мужик интересный, это факт. О Меншикове рассказывал так, что мне, например, на всю жизнь запомнилось. Людмила с любопытством взглянула на Костылева. В этом любопытстве прорезалось еще что-то новое, ободряющее и милое, что подстегнуло его. Тут он неожиданно вспомнил свой давний разговор с одним ученым старичком, снимавшим у них дачу. Любопытный был старичок... Вот чем он сможет ее увлечь, вот чем. Он перевел дух, неловко зашевелился под одеялом, боясь оголить ногу или грудь, потом заговорил несколько неуверенно, тихо: — Как-то я беседовал с одним человеком. Поинтереснее Баушкина будет. Разговор шел насчет человеческих деяний. Раньше, к примеру, считалось, что древние животные вымерли. А на деле — ничего подобного! Оказывается, виноват человек. Он хуже атомной бомбы. Вначале истребил животный мир. Под корешок. Потом принялся за растительность. Те густые леса, непроходимые дебри, что дошли до нас, — это жалкие остатки прошлого. Вот. Реки взбунтовались. Из-за выкорчевки деревьев. Сладил, значит, парень, и с растительностью. А потом, до последнего времени считалось, что самое незыблемое — это погода, климат. Докричались. Сегодня же оказывается, что планета начала греться. Почему? А огромная промышленность, ой-ой какая выработка электроэнергии, пылевые заносы в атмосфере! В общем, старушка земля начала на утюг смахивать. Такая жаркая стала, что хоть штаны гладь. Каждый год температура повышается. Равновесие в климате, как пишут, удерживают полюса — Северный и Южный. Антарктиду растопить трудно, она толстобокая. А вот Северный полюс, где лед тонкий, всего несколько метров, — очень даже нетрудно. Растопится — в Находке зимой прямо на улицах будут цвести магнолии — астры — одуванчики. Скажете, что это, мол, прекрасно. Прекрасно. Но ведь и пустыня передвинется. Куда? На север. Она наступит на пятки живым городам, засыпет их песком. Вот какие пироги! — Костылев замолчал, уставший от того, что произносил длинную и совершенно необычную для себя речь. С испуга, можно сказать, одолел ее... — А вот... Трасса... Ты ведь трассу тянешь, да? — прервала Людмила молчание. — Это тоже ведь нарушение природного равновесия, это ведь тоже человечеству боком обойдется. Что на этот счет говорил ученый дед? Костылев беспокойно заерзал головой, сделал вид, что чешется щекой о жесткую, шероховатую ткань наволочки. Потом понял, что молчать нельзя. В голосе его прорезалось сомнение. — Газ, нефть, оно... На севере вон начали было строить электростанцию, но потом поняли, что тайга топнет в болоте, берега превращаются в кисель — перестали строить. Как начали, так и закончили. А трасса... Ну что трасса? Что мы оставляем после себя? Разрушения? Нет. Трубы наши лежат в земле, в глуби, в болотах. Земля от наших дел не изменяется. — А вырубки? — Вырубки — это капля в море. Сибирь со времен царя Гороха лесом жила. Тут еще Чингисхан дерево валил. Много дорог есть у разговора, десятки и сотни, но надо избрать одну, что скорее приведет к цели. Нестойкость, неподготовленность тут не проходят. Костылев, вяло шевеля губами, ругал себя за то, что избрал неверный путь в разговоре. Ученым решил себя показать, пыль в глаза пустить. Он замолчал, ощущая состояние какой-то сладкой, томной враждебности к собственному естеству. Все произнесенное им — словесная шелуха, мякина, ничего не значащая. Людмила молчала, и он молчал. Не находили они общий язык. Он был где-то рядом, чувствовался, и зацепить его, казалось, ничего не стоило, и тогда разговор потек бы сам собой, но нет, не мог попасть Костылев в струю. Не прерывая затяжной немоты, он молча задал себе вопрос: что же все-таки заставляет откликаться Людмилу на его жалкие писульки — и в прошлый раз, и в этот? Что же все-таки заставляет ее тревожиться, приезжать, даже подкормку привозить? Что, а? На этот вопрос и Людмила не могла ответить, просто ей было хорошо с этим парнем. Она ощущала свое превосходство перед ним, он был подчинен ее воле, ее желаниям, и вместе с тем она чувствовала, что в этом парне были собраны сила и нежность, стремление находиться на гребне жизни. В конце концов, вон какую речугу он закатил! Взглянула на часы. Встала. — Мне пора. — Улыбнулась. — Пора лететь обратно. — Эх, как бы мне тоже хотелось вернуться обратно. На трассу, — вдруг с такой полоснувшей по сердцу тоской, с болью, поворачивающей вспять любой жестокий бег времени, прошептал Костылев. — Скорее бы выбраться отсюда. Знаешь, я больше не могу. Не могу болеть, знаешь, валяться здесь не могу. — Выберешься, Иван, — она в первый раз назвала его по имени, он ответил взглядом, в котором, ей показалось, кроме печали, ничего не было. Печаль, печаль, печаль. — Выберешься. Я к тебе еще приеду. Ладно? — Ладно, — он повернул голову к стене, болезненная синева наползла на его щеки, жилы на шее вытемнились, и Людмиле неожиданно стало страшно за жизнь этого, в общем-то, малознакомого ей человека. Она напряглась, проверяя, откуда пришел этот страх, где его истоки, поняла, потом почти неслышно подошла к постели, поцеловала Костылева в худой холодный висок и, туго сомкнув губы, отшатнулась, пересекла палату почти бегом. С грохотом закрыла за собой дверь. Костылев продолжал лежать неподвижно, лицом к стене, цепляясь взглядом за ровные длинные порезы в окраске, за натекший, похожий на булавочную головку, ровный кругляш, стараясь все это держать в фокусе зрения. Костылеву было плохо.
19
Из больницы он вышел уже весной, когда с крыш посыпалась на снег капель, солнце набрало силу и бег светила стал неспешным, долгим, почтительным. Уже стоя на пороге, он увидел, что тетя Таня натягивает на себя коротенькое, с обвисшими карманами пальтецо, вначале не сообразил, зачем же это она одевается, ведь дежурство еще не кончилось, самый разгар, потом, поняв, замахал руками: — Теть Тань, ты что? Ошалела? — Нет, мёдочка. Провожу тебя. — Такого здорового дылду? — Господи-и! Дылда-а... Да ты выйдешь на улицу и в обморок хлопнешься. Свежий воздух тебе сейчас хуже водки, враз с ног сшибет. — Теть Тань, до аэропорта я доберусь сам. — Молчи! Са-ам. Мне главный врач приказал тебя проводить. Ослушаюсь — с работы сымет. По‑онял? Разбойная солнечная яркость ослепила его, заставила зашататься — тут тетя Таня была права. Он осторожно ступил ногами в рыхлый, обсосанный теплом снег, сделал один шаг, другой, без больничной клюшечки, оглянулся — в окно, что справа от двери, как бы невзначай, скучающе поглядывал главный врач, за ним виднелось еще несколько косынок и шапочек, в окне слева тоже мелькали лица. Тетя Таня неотступно следовала за Костылевым, как телохранитель за президентом. Без больничной клюшечки было непривычно ступать, опасливая настороженность сковывала каждый шаг, он не верил в способность собственных конечностей передвигаться, путался в движениях, раздумывая, какой ноге очередь ступать — левой или правой. — Может, костылик с собой возьмешь? — подала голос тетя Таня. — Нет. С костылем мне на трассу нельзя. — Упрям ты, как... — она поджала губы, напряженно заблистала глазами-пуговками, подыскивая нужное слово. — Действительно нельзя, теть Тань, с костылем меня посадят на работу не бей лежачего; до обеда чертить кружочки в одну сторону, после обеда — в другую. — Упрям ты, как козел на пасху. — Почему на пасху? — Костылев ширкнул носом; из-за угла больничного сруба садануло ледяным порывом, это ветер-северняк, с самого полюса примчался. — По кочану да по кочерыжке. Шагай, инвалид! Он выбрался на пропитанную чернотой, стоптанную до земли тропку, вспомнил, как зимой, на ликвидации аварии, скакал вниз с бугра на сосьвинский берег, по бульдозерному следу — вот уж действительно козел на пасху, прыжки по метру делал, не меньше. Ничего, отойдут, оттают, оживут конечности, еще послужат, еще будут метровые прыжки, еще поработает он на трассе. Когда тропка вывела их на дорогу, он увидел совсем близко аэропортовский домик — бревенчатую каланчу с усами антенн на крыше, этакого таракана, изготовившегося к прыжку в небо; огромные, с каланчой вровень, грузовые Ми‑6, вяло покачивающие на ветру лопастями, без этих мощных вертолетов немыслима сегодня жизнь в тайге — они забрасывают тяжелое оборудование, продовольствие, людей; дальше шел рядок вертолетов-карликов, приземистых, глазастых, яркобоких Ми‑2, эти машины — главная сила в борьбе с лесными пожарами. Когда наступит жаркая летняя пора, тайга пойдет полыхать — от окурка, спички, выхлопа вездехода, а то и просто от бутылочного осколка — без этих вертолетов как без рук. Костылев остановился. Врубаясь толстыми комбайновыми колесами в снеговой накат, мимо прогромыхал здоровенный тягач «ураган». Здесь, в Сибири, тягачи на важной службе — перетаскивают с места на место буровое оборудование, глину-бетонит, без которой невозможно бурить землю, свечи-трубы, обсадные колонны — словом, все то громоздкое, многотонное, с чем простой машине не справиться. Один знакомый шофер как-то обозвал «ураган» дурмашиной. «Почему дурмашина?» — спросил Костылев. «Здоровая, а бегает быстро, как дурная, — пояснил шофер. — Ей бы пешей ползти, а она, того гляди, в кювет кого-нибудь загонит». Костылев проводил тягач глазами, подождал, когда стихнет натуженный рык, потом сунул руку в карман, достал оклеенную бархатной бумагой коробку. — Теть Тань! — Чего тебе? — медсестра, колыхнув боками, недовольно уставилась на коробку. — Подарок. Может, понравится? — Рехнулся, мёдочка? Костылев подцепил твердым лопатистым ногтем крышку коробки, изнутри, с плюшевой подушечки-думки, пальнул слепой синий лучик, от которого в глазах зарябило, забегали дымные огняные кольца, потом мельтешенье улеглось, будто опало, и ровный в своей мягкости, ликующий и одновременно печальный свет начал излучаться с поверхности думки. — Серьги тебе в подарок, теть Тань. — Ой, мёдочка! Да я ж, окаянная, старуха. Куда мне этакая маета? Да с такими сережками только в президиуме сидеть. — Вовсе не обязательно. Бери, — Костылев закрыл коробку, вложил ее в жесткую, холодно-сохлую тети Танину руку. Нащупав концы пальцев, заставил их обхватить бархатную оклейку. — Ты не в своем уме. — В своем, в своем! Откажешься, теть Тань, — обидишь. — Какой там откажешься? Первый раз в руках такое диво держу. — Вот и бери. — Нет, ты все-тки чокнутый. — Может быть, теть Тань. Спасибо тебе — дальше я сам. В обморок постараюсь не грохнуться. — Не, — тетя Таня маятниково покачала головой, — пока в вертолет не подпихну, не увижу, что ты на сиденье пристроен, оставить не могу. Нет. — Главврача боишься? — Главврача? Нет, не боюсь. Боюсь, как бы ты вновь в нашу богадельню не угодил. А это тебе нужно, как зайцу домашние тапочки. — Или как щуке запах полевых цветов, да? — он засмеялся, покрутил головой, щуря глаза и выжимая из-под век слезы. Одна слезка, веселая легкая капелюшка, сорвалась на выпуклость скулы, соскользнула с нее, словно по лыжне. — Мёдочка! Тебе очки черные нужны. Глаза с непривычки опалишь. — Как-нибудь, теть Тань, постараюсь не опалить. — За подарок — спасибо. Хотела отказаться, да ты прав — обидеть боюсь. Трассовики, вы такие: обидишь — так обиду сто лет в кармане будете носить! Костылев, неспешно выбирая более или менее сносные для инвалидной ходьбы участки, твердо ставя ступни, уже не удивляясь собственной слабости, неприспособленности, продвигался к усатой каланче. Тетя Таня, не отставая, следом. Уже были на подходе, когда из пистолетно щелкнувшей пружинами двери вывалился страшноватый, издали смахивающий на краба человек, завопил оглашенно: — А-а! Крестничек! С выздоровленьицем! Одинец! Вертолетчик. Ничуть не изменился, все такой же красавец, сколько ни приходил в больницу, ни на йоту не похорошел, хотя выпрашивал у врачей какие-то кремы, порошки, таблетки. — Ты, крестничек, смотрю, вовсе не спешишь. А я из-за тебя вертолет держу, нападки начальства отбиваю. Знаешь, что такое служебные простои? — Быстрее ходилки не ходят. — Хорошо, что хоть целые. А быстро ходить — этому научишься! — Оно ведь как... Поспешишь — людей насмешишь, — назидательно вставила тетя Таня. В своем старом, обвисшем по форме тела пальтеце, с мятым, задирающимся воротником, с оттопыренными, словно резиновыми, карманами, она была похожа на наседку-клушу, заботливую, трогательную, неуклюжую; что-то куриное было и в ее походке, в жестах, во всем облике. И вот наступил момент, когда вертолет, вздыбив снег и разом очистив бетонные плиты причала, въехал в низкое, на пролете, облако с влажными лоскутными краями. Костылев подивился быстроте, с какой он набрал высоту, выглянул в бустер, увидел, что внизу уже осталась точка, клякса-человечек, взмахивающая варежками, совсем исчезнувшая из выдавлины окошечка, когда вертолет шагнул вперед, замер на мгновение, словно примериваясь, и понесся на предельной скорости, разметывая сырую весеннюю наволочь. Поселок скрылся из виду, а с ним ушло назад, в прошлое, все, что было связано с Зереновом, с больницей, с тяжелой увечной зимой, с ночными бдениями, когда не шел сон, с жарко-красным беспамятством, с тревожным стуком сердца. Зереново окольцовывал редкий, полуповаленный лесок — из вертолета были видны опрокинутые кедры, тонкостволые задохшиеся сосенки, изъязвленные березки, рвавшиеся из чащобной середки на край, к воздуху, но не добежавшие до простора. Потом потянулась череда болот с просевшим снегом, из-под которого кудлатыми нечесаными париками выпрастывались остья прошлогодней растительности, сохлые метелки камыша, иван-чая, резики; болота сменялись лесистой сушью, полной кривоногих деревьев, сушь опять уступала место болоту, все это было настолько однообразным, что потянуло в сон. Под рокот вертолетного мотора Костылев уснул, а когда проснулся, оказалось, что они уже прилетели на трассу. Трасса была все той же! Те же балки на деревянных полозьях, тот же длинный, крытый толем барак-гараж — ведомство Дедусика и его подчиненного — нудного колчелапого пса. Вот и салют — алмазный плеск электросварки, а вместе с плеском — громыханье дизелей, поросячий визг генератора, суетня плетевозов. На вертолетной площадке толпился разный люд — среди всех Костылев сразу различил Старенкова. Ни у кого нет такой смоли на лице — ему только цыган в кино играть, рядом с ним знакомый телеграфный столб подпирает небо — это Рогов, еще суетится оживленный Вдовин, неугомонный нестареющий человече, занятный, как дитя. Вертолет сел, и, едва Костылев выкарабкался на лесенку-приставку, как Рогов и Старенков подскочили к нему, ухватили под руки, подняли, поволокли к балку. — Куда? — взмолился Костылев. — Молчи! — обрезал Старенков. — Пока на себе везем, не трепыхайся! А то бросим. Из-за тебя целых два часа никого к столу не подпускаем, рация все питание слопала, пока переговаривались с Зереновом. А ваше величество в ус не дуло, прохлаждалось. Не будь ты калекой, давно бы головой в сугроб. Ноги болят? — Да отпусти же! Не болят. — Не отпущу. Терпи, боярин. — По какому поводу стол? Неужто по моему? — Нужен ты! Сзади с воплем к процессии присоединился Вдовин. Открыв дверь балка, дружно втянули Костылева в пропеченное нутро таежного жилья, поставили на ноги, все втроем, проводя пальцами по губам, грянули туш: та-та-ра-ра-та-та, та-тара-та-та-там! — Вот, Дедусик, с доставкой на дом. Дедусик был торжественным и грустным одновременно, лысина его почему-то не сияла, глаза оковали цепкие гусиные лапки, лоб в мелкой изрези морщин, а вот пиджак был новеньким, с полочки, даже магазинные складки сохранились, засаленную колодку медали он засунул под бортовину, из-под нее выглядывал серебряный надраенный кружок. — С возвращеньем, Иван! Ванятка ты наш! — провозгласил Дедусик. — Обо что торжество, Дедусик? — поинтересовался Костылев. — День рождения? Иль золотую свадьбу с бабкой справляете? Она в твоем Полесье, ты — здесь. — Ни то, ни другое, — Дедусик развел понизу руки, исполосованные черным переплетением линий, изуродованные ревматизмом, с вывернутыми пальцами. — Назад, в Беларусь, возвертываюсь. Кустюм вот себе справил. Вишь, в пыпырышек! Буклет называется. А насчет бабки ты угадал — к ней возвертываюсь. Весна уже, земля ждет. Она уходу, ласки требует. И тянеть. Знаешь, как тянеть — спасу нет. По ночам даже не сплю, ворочаюсь, а засыпаю — яблоневый цвет вижу. На весну и лето к земле подаюсь. А осенью, живы будем, спишемся. Не найдете на мою вакансию человека — снова приеду. Деньги мне и впредь нужонны будут. Весной и летом все равно трасса станет — грузы по воде будут закидывать, складать на вашей дороге, а как только морозы подоспеют и трасса двинется далее — я тут как тут. — Денег-то хоть много заработал, Дедусик? — Все, что заработал, везу с собой. Я ж не Рокфеллер, чтоб десятирублевые хрустики в чулок складывать да процент под них получать. — У Рокфеллера — не чулок, у Рокфеллера — банки. — Я и говорю, — кивнул Дедусик, — не чулок, так кубышка! Все засмеялись. — Скоро к реке выйдем, — сказал Старенков громко, сел на расшатанную толстоногую скамейку. — Полтысьянка называется. По весне она разливается не хуже моря и уровень свой до осени держит. Вот у нее какая особина. Поэтому, чем скорее на нее выйдем и чем скорее дюкер протащим, тем лучше для нас. На том берегу соединимся со встречной ниткой, и полтыщи километров трубопровода у государства в кармане будет. Так что ты, Дедусик, напрасно уезжаешь. На кого нас покидаешь? — Вот, — Дедусик немощно заморгал припухлыми, в багровой оплетке веками, в подглазьях, в ручейках морщин затускнела сырость, — жалко, но не могу. К земле тянеть. — Сильнее десятирублевых? — не выдержал Старенков. — Хлебушка нам белорусского пришли, — попросил Вдовин. — Я после войны там в плотницкой бригаде служил, восстановление делал, пшеничные караваи на всю жизнь запомнил. — Пришлю, пришлю, — засуетился Дедусик, — обязательно пришлю — белорусский хлебушко что колбаса, такой же питательный, раз к разу. В его движениях, в глазах, в опущенных плечах сквозила усталость от скитальческой жизни, которую он вел зимой, все время двигаясь с трассой на запад, серьезность утки, стремящейся из-за тридевяти земель вернуться к родному обиталищу, увядшесть старого человека, видевшего столько, что об этом книгу можно писать. Он повернул свое расстроенное лицо к Костылеву, растянул рот в трудной улыбке: — А у тебя, сказывають, красуля завелась? Из области прилетает. — У него? Завелась, Дедусик, завелась, — подтвердил Старенков, подбросил в печушку соснового смолья, буржуйка ухнула с готовностью паровоза, сухо взыграла пламенем. — Смотри, кабы сердце твое не съела. — Не съест, Дедусик, не съест, — Старенков прихлопнул печушку заслонкой, вертанул рычажок-огурчик, распрямился. — Раз не съест, тады к столу, — провозгласил Дедусик. — К шампани! ...Утром Костылев, собираясь в первый свой рейс после двухмесячного перерыва, заглянул в Дедусиков закуток — тот посапывал-посвистывал на неразобранной кровати, вытянувшись в неказистый свой рост на одеяле, на ноги, хлипкие, любящие тепло, были надеты валенки — так, в валенках, в «кустюме» с медалью Дедусик и досматривал в предутренней тиши свои полесские сны. Бороденка задралась галочьим хвостом, была она редкой, с розовыми проплешинами, от нее исходило ощущение немощи. Отработал старик свое, на покой, на пенсию бы пора, ан нет — заело старика накопительство, погнало в неведомое, за реки-моря. — Пока, Дедусик. Бог даст — свидимся, — сказал Костылев, закрыл за собой дверь. Не знал он еще, что Дедусик, уехав, помается некоторое время в Полесье, а потом не вытерпит и пришлет письмо, в котором будет проситься назад, обращаясь к каждому поименно, будет рассказывать о своей тоске по сибирской вольности, о сердечной привязанности к нефтяномукраю, о болезнях, обрушившихся на него после того, как он «сдал свой трудовой пост», о том, что и земля, ухоженная, доверчивая, сдобренная его по́том, его томленьем, тоже не радует; «землю обрабытывают тракторами техники уйма землю можно только в руке подержать полюлюшкать остальное механизьмы делают. Опять-таки и деньгов нет бабка отобрала», — писал Дедусик вполне сносным стилем. Правда, без единой запятой и допуская ошибки. Письмо пришло, когда трассовики протаскивали через Полтысьянку дюкер, пора была горячая, не до писем, ответили Дедусику через три недели, когда уже соединились со встречной ниткой. Ответ поразил бригаду как удар грома, он был жестоким: не вынеся томленья, Дедусик умер. Старенков минут пятнадцать сидел молча, без движения, зажав в руке тетрадный листок, пришедший из Белоруссии; с лица его сползла обычная жесткость, глаза истекали му́кой. Бригадир никогда не относился к Дедусику серьезно. Впрочем, как и остальные — все те, кто знал о скаредности старика, его жизненных целях. Не думал никто, что Дедусика может поразить такой недуг, как тоска по людям, с которыми он вместе работал, делил хлеб-соль. Да и сам Дедусик, наверное, об этом не думал. А оторвался от трассы и усох. Есть вещи, куда более сильные, чем деньги. Старенков поднял голову, посмотрел на Костылева незряче, пожевал губами, прошептал что-то чуть слышно, а Костылев понял все, о чем тот шептал, все-все, хотел что-то сказать, но у него не хватило силы. ...Костылев вышел из балка, по привычке посмотрел вверх: как небо? По небу день виден как на ладони, сразу понятно, каким он будет: ясным, или захлебнется в буране, или мороз зажмет трассу, или же оттянет трескотун и оттепель высветлит тайгу — все рассказывает небо. Звезды были мелкими, неровно сколотыми, но яркими, с игрой. Значит, день будет морозным. В такие дни работать весело. Он вывел плетевоз из-под навеса — кабина была та же, новую не стали ставить, верх только чужой, стежок газосварки еще не закрашен, под ногами — скрипучий новенький коврик. Эх, «троглодит», «троглодит»... Костылев погладил рукою руль, замер, пытаясь понять, какие же чувства он испытывает к машине, чуть не погубившей его, — если зло, боязнь, если нутро дрожит от сердечного колотья, то за баранку лучше не садиться, лучше уступить место другому, а самому пойти в подмогу к электросварщикам. Во рту была странная сухость, но на нее Костылев не обратил внимания — это оттого, что соскучился по ребятам, по трассе, по всем машинам вообще и по «троглодиту» в частности. Сухость сухостью а внутри, в глубине груди, была радостная приподнятость. Он поерзал пальцами ног в унтах — слушаются ли? Пальцы слушались. Включил первую скорость и, подсвечивая подфарниками, поехал на сварочную площадку, где слепил тайгу яростный сверк, где, натуженно пыхтя, трубоподъемники укладывали плети тыщовок на тросовые роспуски машин.
20
К Полтысьянке вышли в полдень, когда солнце вызолотило природу, оплавило верхушки деревьев, когда снег сглатывал тени, вернее, их попросту не было, и лес, по которому была пробита отверденная толстой наледью дорога, прозрачнел, будто выцвеченный; далеко просматривались крохотные, ноге ступить негде, полянки, не забитые буреломом. Костылев остановил КрАЗ, слабо охнув, выпрыгнул из кабины. Было тихо. Чуть слышно, сонно и пусто шевелили лапами ближние сосны. Тех, что подальше, слышно не было. Из-под снега, прямо под радиатором, грибом-мухомором выглядывал толстотелый столбик, окрасненный суриком, с табличкой наподобие грибной шляпки, прибитой к торцевине. Костылев нагнулся рассмотреть, что там такое написано. Буквы свеженькие, будто вчера начертанные, рдеют клюквенно. Всего два слова: «Выход траншеи». И дата. Сзади зарявкал «Урал». Не оборачиваясь, Костылез определил — роговский, воет с радостно-неукротимым поросячьим подвизгом; веселая натура у машины, не то что у мрачного «троглодита» — этот же только и ждет, чтобы подлянку сотворить. Захряпал снег. Послышался голос Старенкова: — Первым к реке выбрался? Костылев, помедлив, отозвался тихо: — Как видишь. — Вижу. Это створ. Старенков похлопал рукою по карману: — Книжку для записулек забыл. Нелады. — Зачем записулька-то? — Радиограмму в управление надо дать. К реке всежки вырулили. — Еще успеешь. Что это за столбец? А? «Выход траншеи». — Осенью тут три месяца земснаряд работал, трехметровый ров вымывал. Дно здесь твердое, камень да глина, вначале взрывчаткой поднимали, потом земснаряд дело довершал. Через пару недель встречная нитка подойдет, мы дюкер протащим, а там... Там последний шов, стрельба в воздух, брызги шампанского, отпуск — и айда дальше. Новой осенью опять трасса, — Старенков стал задумчивым, взгляд его косо соскользнул книзу. — Как протяг зимой начнется, так из Коми, из Башкирии жди притока старичков. По двадцать — тридцать лет мужики работают, кончат трассу в одном месте, идут в другое. Бродяга, он и есть бродяга, закваска такая. Не могут без трассы жить. — А сам-то как? Давно на трассе? — Я-то? Я на нефти давно. Старичок. А на трассе нет. — Он повернулся, пощипал пальцами бороду, вдруг вскинул голову. — Мать честная! Я-то думаю, кто на меня так внимательно смотрит. Ан, оказывается, кедр! Ого! Зеренных шишек сколько! Он выдернул из снеговой обочины сукастый обрубок, торчащий как лаптовая бита, коротким махом зашвырнул обрубок в зеленый полог. Оттуда ссыпалось несколько ершистых, роняющих орехи шишек. Рогов слазил в снег, достал. — Кедр, он сейчас твердый и не особо вкусный. А вот в августе бывает хорош. Орех молочный, нежный, как сливочное масло. Липкий только, вся шишка в смоле. Орешки надо зубами выдирать, так извозюкаешься, три дня потом неумытым ходишь, к твоей физиономии все подряд клеится. Палец к носу поднесешь — отдирать надо плоскогубцами. Ага. Правда, есть способ борьбы со смолой. Бросишь шишку в костер, смола, она выгорает, орех парным становится, в пазах — чистенькие зернышки. Такие — вай-вай! Пальчики оближешь! Объеденье, деликатес высшего сорта. А эти орехи каляные, — Рогов выплюнул на дорогу скорлупу — зиму пережили. Как их только белка не слопала? К вечеру весь балковый городок переехал на берег Полтысьянки. Трассовики занялись изготовлением дюкера. Дюкер через Полтысьянку — это четырехсот-, с гаком, метровая труба, которую надо вначале собрать в общую нить, соединить глубокими корневыми швами, потом покрыть нитроизоляцией — специальной защитной коркой, чтоб ржавь не подобралась к телу дюкера, обмазать битумной мастикой, обмотать стеклохолстом или бризолем, сверху обшить досками, чтобы создать предохранительный каркас, а в торце, дабы вода не забралась вовнутрь, поставить специальную заглушку, пулей называется, и только тогда протягивать. Да еще надо грузы к обшивке прикрепить, чтобы дюкер, грешным делом, не всплыл. Вся трассовая техника сгрудилась на небольшом, в полкилометра, отрезке. Водители, оставшиеся без работы, поступили в распоряжение сварщиков, битумщиков, водолазов. Полтысьянка была еще скована полутораметровым льдом, но под этой толщью уже чувствовался ровный тяжелый бег просыпающейся реки, надо было спешить, не ждать, когда лед начнет бугриться, соловеть, растрескиваться на неровные ломины. Дни стояли один к одному, как жаркие чеканные пятаки, о такой погоде можно только мечтать. Уно Тильк жалел, что с ними нет Дюймовочки: ой как хотелось жене увидеть, как через реку будут протаскивать дюкер, не верила она, что огромное толстое тело трубопровода может гнуться, словно нитка (недаром ведь трассу еще и нитью зовут!), покорной змеей ляжет на водное дно и конец, заткнутый пулей, лебедка вытянет уже на том берегу. Дюймовочку месяц назад отправили в Тюмень на какие-то мудреные курсы. А Вдовин, тот жалел, что с ними Дедусика нет. — В радость это было бы дедку. Для него такое зрелище как орден к медали под пиджачный отворот. Иль как лишняя сотня на сберкнижку. — Дедусику не до тебя, Контий Вилат. Небось хлеб сеет, кости после сибирской зимы отпаривает. — А что? Огреб деньгу — и был таков. — Видели бы вы, как он плакал перед отъездом. — Ага. Цельную бутылку, ноль семьдесят пять из-под шампанского, слезами наполнил. — Выпить бы! — Пока не протянем дюкер — сухой закон! — предупредил Старенков. — Знаешь, чего бы мне сейчас хотелось? — Уно мечтательно потянулся, с острым хрустом раздвигая, расслаивая позвоночник, в глазах у него завспыхивало, замерцало что-то жадное, желанное, светлое. — Хотелось бы, да не дано нашему теляти волка схряпать. — Уно, где ты научился так чисто по-русски говорить? — спросил Старенков. — В Эстонии. — Прости, перебил, — сказал Старенков. — Ничего. А хотел бы выпить кофе. И не простого, хотя простого тоже так хочется, что даже зубы ломит, — а кофе по-дьявольски. Есть такой, рецепт с Кубы вывезен. Знаете, как готовится? О-о... Колдовской процесс. В чашку кладется половина чайной ложки корицы, три зернышка поджаренного кофе, одна фиговинка — иль как ее там назвать, бутончик, что ли? — гвоздики, еще чайная ложка сахара да плюс две чайные ложки рома. Кубинского, конечно. Все это заливается готовым черным кофе — кипящим, чтоб пузырьки взбулькивали, накрывается блюдечком и настаивается пять минут. Ни больше ни меньше — ровно пять! Получается кофе такой, что... А, что там говорить! Знаете, у Наполеона был министр иностранных дел. Талейран. Так этот умняга Талейран сказал однажды про какой-то мудреный напиток: «Горячий, как ад, черный, как дьявол, чистый, как ангел, и сладкий, как любовь». Так этот кофе таким вот и получается. Кто хоть раз попробовал, навсегда запомнит. Да. — Уно, больно заковыристо ты говорить начал, — покрутил головой Вдовин. — Дюймовочка виновата? Э? — Она. Читать заставляет, мозги раскручивает, накачку им дает. Иначе, говорит, от себя на пушечном выстреле держать будет. Как и до замужества. Ксенофонт Вдовин захохотал. — А по-моему, такой кофей — чепуха на постном масле. — Старенков повернул к свету лицо, что-то разбойное проглядывало в его кочевной красе: борода горелая, щеки утомленно полышут, глаза резкие, с белками в прожилках, в нездоровой натуженной опайке век. — По-моему, это аристократическое сюсюканье. — Как знать, как знать. — Уно выгнул ноги, подтянул колени к подбородку. Вдруг каждый из них почувствовал в этот момент неожиданную тревогу, словно столкнулся с опасностью. И каждый из трассовиков воспринял это предостережение души по-своему. Уно почему-то подумал, что, не дай бог, вертолет, который везет сейчас для них обмазку, может грохнуться в тайге, но тут же успокоил себя и даже посмеялся, вспомнив, как сам он в июле летел на Ми‑8, горючего в баках ни капли, и они кое-как дотянули до деревянного вертолетного помоста подбазы, расположившейся у берега черной глубокой Конды — речки, знаменитой могучими бревноподобными осетрами. Пока от вкопанных в болотистую куртину цистерн тянули шланги к бакам, Уно показали на парня, шагавшего по слегам к вертолету. Парень был огромен, плечи по километру, голова маленькая, макушку венчала кепочка-восьмиклинка с пуговкой наверху и крохотным, всего в полтора пальца шириной, козырьком. Увидев, что на него смотрят, парень натянул кепочку на нос. Уно рассказали, что этот парень угодил год назад под вертолетный винт, лопасть врезала ему по голове, посреди лба — лбу хоть бы хны, а лопасть, кувыркаясь, отлетела на добрую сотню метров в сторону. С тех пор парень стал знаменитостью. Уно рассмеялся — анекдот! Попробовали ему доказать, что правда, — не поверил. Тогда поспорили, может такое быть или не может. Уно подошел к парню, спросил напрямик: «Выдумка вертолетная история или не выдумка?» Парень ответил коротко: «Было!» Вертолетчики этому парню «Запорожец» вскладчину купили — он им жизнь спас: ведь лопасть держалась на честном слове и должна была обломиться в воздухе. А перед Старенковым прыгали в эту минуту золотые обрезки пламени, шипела кипящая нефть, черный чадный дым ел глаза, увидел он и самого себя, со стороны увидел — испачканного, с грязным лицом, с рассеченной надвое губой, перед ним, как кадры в кино, заново прокручивались самые острые моменты его жизни. Ксенофонт Вдовин в минуту тревоги подумал о доме, у него, как недавно узнали трассовики, подрастала озорная молодь — десяти- и двенадцатилетний сорванцы. Как и положено, сорванцы пропускали школу, доводили до слез молоденьких учительниц — словом, беспокойство приносили немалое. Жена замаялась с ними. Ведь парни не девки — на уме охотничьи пистоны да желание заложить их под ножки учительского стула, чтобы испугать какую-нибудь математичку или немку, еще ножи, чтобы на крышках парт выцарапывать свои имена, игра монетой о пристенок, футбол, драки. Девчонки — те полегче в воспитании, попокладистей, и горя с ними меньше. Каждый думал в эту минуту о своем. — Вот что, — произнес, выплывая из раздумий, Старенков. — Мы должны спасательную станцию оборудовать. — На хрена она нужна? — По технике безопасности спасстанция предписана. Только вот оснастки нет. Да и как ее заиметь? — Что в оснастку-то входит? — Э-э, Контий Вилат, входит столько, что и не спрашивай. Голову потерять можно. — Ты бригадир, тебе и терять. Старенков достал бумажку и, поглядывая в нее, начал один за другим загибать пальцы. — Шлюпка на пять человек — одна, весла — три пары, уключины — три штуки... Или пары, черт их знает. Нагрудников спасательных — три, концов Александрова с двадцатиметровой веревкой — два, спасательных кругов — два, фонарей «летучая мышь» — один, досок толщиной не менее сорока миллиметров — две, санитарная сумка с набором медикаментов — одна. — Не хвост собачий, — вздохнул Вдовин. — Много всего. Сразу не добудешь. — Про спасателя вот только забыли. Слона и не приметили. — Спасателем — любой из нас, — сказал Старенков. — Ты, я, он, он. — А еще бы пост ГАИ на Луне установить, — мечтательно потянулся Уно. — Иль мимо сада городского на велосипеде проехать. — Спишь, что ль? — спросил кто-то невнятно. — Ага, — сказал Уно. ...Утром весь городок поднялся на ноги, не было ни одного человека, который бы остался в балке. Солнце еще не проснулось, предутренний туман плотным пологом сел на землю, нужно было ловкое умение ветра, чтобы поднять его, перебросить в сторону от трассы. Но ветра не было, загулял где-то, а может, еще не проснулся. В береговом отпае вырубили квадрат, линию прохода отметили поверху, по льду, тонкими неошкуренными слегами, положенными одна к одной. Вдоль слег, по ту и другую сторону, сделали несколько квадратных колодцев — для водолазов, в каждый опустили по веревке. Мощная трехсоттонная лебедка, установленная на противоположном берегу, была не видна, ее скрывал туман, из проруби выпрастывались обледенелые тросы, каждый в руку толщиной. Концы тросов были заякорены за пулю, вернее, за два тяжелых стальных языка, приваренных к пуле — этой заглушке, похожей на огромный танковый люк. Вдоль дюкера мрачными портовыми громадами проступали сквозь туман трубоукладчики — машины, вообще-то не обладающие приметным ростом, но туман увеличивал предметы, рассеивал контуры, раздувал их до невероятных размеров. С того берега прибрел Ксенофонт Вдовин. От обычной его суетливости и следа не осталось — был он торжественный, как новобранец перед присягой, даже выбрит, что на него непохоже — не в характере КВ каждый день бриться, трасса его и небритым принимает. Свои большие хрящеватые, наподобие лопухов, уши он подобрал, подсунул под шапку, голос его, хоть и хрипатый, наполнился достоинством. Он, обтирая ладонью заветренное свекольное лицо, разыскал Старенкова, мазнул пальцами по козырьку шапки, вроде бы отдал честь: — Бригадир! На том берегу готовность полная. Ждут команды. — Туман проклятый, собственного носа не видно. — Точно, — согласился вдруг Вдовин, — только коней красть. В старину так и делали. — Валяй на тот берег, скажи — через пятнадцать минут начинаем. Сигнал зеленой ракетой подам. Надо бы красной, красная виднее, да нету, на складе были только зеленые. Красные другие профукали. Вдовин повернулся на одной ноге и хотел уже было раствориться в тумане, как Старенков окликнул его: — Постой! Сколько там на твоих кремлевских? Ксенофонт отогнул рукав, заглянул под него — жилистое костлявое запястье окольцовывал тонюсенький, не толще шпагата, ремешок дамских часиков, купленных в Зеренове. Капелюшка циферблата поблескивала из темноты. — Двадцать минут восьмого. — «Двадцать минут восьмого!» — передразнил Старенков. — С получки денег тебе дам, купишь новые часы. На десять минут отстают. Подведи! Вдовин, пыхтя, подцепил неуклюжими, огрубелыми пальцами колесико завода, передвинул стрелку вперед. — Теперь иди! По ракете начинаем! — Понял! — Вдовин отступил назад, все еще вглядываясь в крохотный вырез дамских часиков, с пыхтением задирая пальцами обшлаг. — Через пятнадцать минут, как у генералов в кино, начнем атаку. — Он, подпрыгнув, рывком развернулся, с топотом потрусил в туман, оскользаясь на наледях, всхрипывая и отплевываясь. Старенков двинулся к дощатой натопленной будке, поставленной у самой реки, — там расположилось управленческое и областное начальство, прибывшее на проводку дюкера. Главным среди всех был Елистрат Иванович, начотдела, седой огромный старик с орлиным носом, жгучими, калеными, как антрацит, глазами и длинной белой шевелюрой. — Все готово, — доложил ему Старенков. — Через пятнадцать минут начинаем, Елистрат Иванович. Начальство, пошарив в кармане просторного пиджака, побрякало ключами, спичками, медью, извлекло оттуда платок, книжицу троллейбусных билетов, обтрепанный пропуск, затем столбик «Холодка» — мятных таблеток. Елистрат Иванович расколупнул таблетки ногтем. — Хотите? — Нет, — напряженно отказался Старенков. Он уже начал злиться: время идет, а начальство и не торопится, «Холодок» кушает. — Знаете первую и главную заповедь? — спокойно спросил Елистрат Иванович, взгляд у него был пытливым, медлительным, проникающим вовнутрь, в нем крылось что-то хмурое и веселое одновременно. Когда он ощупывал кого-либо глазами, возникало чувство, будто под рентген попал. — Не знаете первую заповедь? Не суетиться. Поняли? Все готово? — Все. — Тогда с богом, — просто и даже несколько скучно сказал Елистрат Иванович. Старенков выбрался наружу, туман по-прежнему не проходил, наоборот, он даже погустел еще больше, но густей не густей, не отменять же из-за него сегодняшнюю протяжку. Дорог каждый час, каждая минута. Туман имел странный рыжеватый оттенок, и эта непривычная окрашенность была неприятной для Старенкова, он сощурил глаза, посмотрел на восток, где занималось солнце, и, стряхивая с себя мрачность оцепенения, подумал, что это от солнца, это его лучи так недобро меднят туман... Около пули, пробуя ногами тросы, уходящие в зелено-сажевую, подернутую тонким чистым ледком глубь, толпился народ. Старенков ощутил непривычную зыбкость тела, легкий звон в ушах, будто рядом жужжал мокрец, слабосильный, когда в одиночку, и способный, если в куче, обглодать человека до костей. Напряженный суетной говорок стих, когда Старенков приблизился к этому новгородскому вече. — Что, старшой, не пора ли нам пора? — спросил кто-то из-за спины Уно Тилька. Кто же именно — Старенков не разглядел, не до того. — Туман-то, а? И уползать не думает, — глухо, с суровой озабоченностью проговорил он, поднял руку. — Тому, кто под водой, все едино... Когда дюкер нырнет в Полтысьянку, да под лед, ему туман, как папе римскому гавайская гитара. — Остряки! Хоть по пятаку плати за слово. Он поглядел в сторону небольшой открытой будки, где в рост стояли водолазы, облаченные в непромокаемые балахоны. Эти тоже, кажется, готовы. Он подал им знак: сейчас начинаем. «Водолазный бог», низенький колченогий человек, махнул рукой, показывая, что все в порядке. Старенков забрался рукой под бортовину полушубка, выдернул из-за брючного ремня старую оскребанную ракетницу с деревянной вытертой ручкой, разломил ее. Нащупав в карманах дубленки тяжелый картонный столбик патрона, загнал в ствол, оглянулся на застывшие громады трубоукладчиков, которые слабо посвечивали фарами сквозь туман. — Давай, старшой! Кивнул, посмотрел на крепкий лед Полтысьянки, еще раз кивнул и, медленно согнув руку в локте, выпалил в воздух. Ракета едва видимо озеленила высь. — Да-авай! — запел кто-то тонко и чисто. — Ава-а-ай! — отшлепнулся звук от сосновых стволов, промчался над головами людей. Трос, обледенелый, обросший короткими бородавчатыми сосульками, неторопко двинулся в воду. К колодцам тут же зашагали «куриной иноходью» водолазы, таща за собой трубчатые хвосты, медноголовые тусклые шлемы они несли в руках. «Рано, — подумал Старенков, — им работа только через час, а то и через полтора будет, не раньше. Им, водолазам, наблюдать, как пойдет дюкер по донной траншее, хорошо ли будет ложиться, не надо ли подвигать его куда-нибудь, влево или вправо. А сейчас, если нырнут в глубину, то через полчаса выскочат назад, стуча зубами от холода. Замерзнут ребята». — Ра-ано! — прокричал он водолазам. — Рано под лед торопитесь! Те услышали, замедлили иноходь. Свинцовые бляхи на их скафандрах выглядели как боевые доспехи древних дружинников. — Слушай, КВ! — не оборачиваясь, позвал бригадир. — Вдовин, мать честная! — Он на том берегу, ты сам его послал, — послышался чей-то голос, кажется, того, что спрашивал: «Не пора ли нам пора?» — Слушай, друг, — попросил его Старенков, — возьми еще одного человека, разведи два костра, один вон там, — он показал на водолазный дощаник, — другой по эту сторону дюкера. И нарубите лапника, сучьев, греться будем. Теперь, пока дюкер не подтянем, нам останова не видать как собственных ушей. Вскоре и слева и справа заполыхали костры, пахучий дым смолья поплыл над полтысьянским льдом, поедая туман, изгоняя его, отблески огней отражались на лицах людей, делали их строгими, настороженными; что-то военное, фронтовое чудилось во всем, что происходило сейчас на берегу безвестной таежной речушки. Танками ревели трубоукладчики, подхватывая и подавая дюкер в воду, тоскливо и пусто светили в тумане их полуслепые фары, опоясанные радужными обводами. Толстая уродливая затычка дюкера покорно ползла за тросами, вспарывая снег, землю, подрубая древесные корни, толчками подбираясь к воде. Вот вывернула из земляной пепельно-гнойной неглуби камень-голяк, весь в бурых железистых подпалинах, подцепила, уволакивая в сторону, под ноги людей, столпившихся у края наледи, ломанула тонко захряпавший стеклянный ледок, развела полеву-поправу осколки, медленно, неуклюже скрипя и мутя воду, забурлившую, как под струей монитора, червячьей переступью поползла под лед. — Все, пошла рыбку ловить! — Не говори гоп, пока не перепрыгнешь... — А что? — То! Бывает, в дюкере свищ обнаружится, шов пробьет, тогда всю волынку назад приходится вытягивать. — Зачем его тогда на берегу испытывали? — На берегу — одно, в воде — другое! В одном разе — божий дар, в другом — яишня. Дюкер жа ползет на излом, все время под нагрузкой под изгибом, вот и может какой-нибудь шов занервничать, течь дать. Вздыбилась, сломалась ребровина проруби, дюкер, плохо гнущийся, топорно прямой, огромный, как железнодорожный состав, зацепил «спиной» за лед, толстые метровые глыбины хрусталя посыпались в речную глубину, вздымая высокие, как при взрывах, водяные столбы. Столбы с тяжелым ухающим шлепаньем опускались вниз, в полтысьянскую черноту. Край ребровины согнулся бугром, с обшивки соскочили лопнувшие болванки груза, не выдержал болт, скреплявший их, кто-то выругался досадно и с болью, оглянулся в сторону высокого тревожного костра, кромсающего пламенем своим, рубящего вязкую липкую плоть на огромные куски. — От черт! Все груза посрывает. — Не любит он кольчужку, вишь, как не любит. — Не посрывает, — почти не размыкая губ, обронил Старенков. — Счас в траншею ляжет. Немного осталось. А там как по маслу поползет. Надсадно выли дизели, скрипела деревянная оплетка дюкера, все вокруг насторожилось, даже сама природа поутихла, не смея перечить тяжкому рабочему грохоту машин. Как же все-таки ляжет в траншею дюкер, не подцепит ли носом какой-нибудь центнерный донный валун? Хуже, если этот валун угодит под тулово дюкера — тут уж беда! Но не должно быть никаких валунов, водолазы все обследовали, подчистили траншею. Вообще-то Полтысьянка — река опрятная, и дно и берега в порядке держит, грязи не допускает... Дюкер, слабо крякнув, погрузился в воду, со дна взлетели на взбудораженную рябь огромные пузыри, лопнули с пистонным щелком, подбросив вверх султаны воды. На лед выбросило несколько мелких рыбешек. Две, заплясав бешено, как на раскаленной сковороде, спрыгнули назад, одна, менее расторопная, прилипла мокрым боком ко льду. Уно Тильк, как ребенок, помчался к рыбешке, оторвал ее, вялую, широко раскрылатившую жаберные крышки, с обкровяненным полупрозрачным ротиком. — Плотичка. Самец. С молоком, — показал ладонь, в которой густела розовая слизь, опустил рыбешку в воду, но та всплыла вверх брюшком. — Отплавал свое твой самец. — Давай-ка на шампур и в пламя — будет что на обед. — На обед и без того будет. Начальство прибыло — кормежка предстоит по высшему сорту. С северным коэффициентом. Костылев находился все это время рядом со Старенковым, даже к начальству ходил вместе с ним. Правда, бригадир, озабоченный, с обвисшим замороченным лицом, с жесткими неприязненными глазами, напружиненный, готовый каждую минуту к неожиданности, вот уже три или четыре часа подряд не расслабляющийся, не замечал своего товарища, даже не узнавал, когда сталкивались нос к носу. Вот, что называется, человек ушел в себя. — Долго тащить этого угря будем? — Если все хорошо пойдет, дня три. Вскоре пришла весть и со дна. Из колодца выбрался водолаз, синея замерзшим лицом и выстукивая зубами дятловую дробь, доложил, что дюкер лег на дно, идет по траншее нормально. Потом водолаз, выбравшись из негнущегося костюма и прыгая на льду, высоко задирая локти, добавил, что рыбы в реке много, вся проснулась, видать, весна на подходе. Из-под дюкера такой осетр выскользнул, промахнул мимо смотрового стекла, что чуть с ног не сбил, пожаловался водолаз. Страшно стало — корова, а не осетр, в полтора центнера весом. Все вдруг заулыбались, в каждом ведь живет охотничья или рыбацкая страстишка, жилка добытчика. Предками дадена — далекими предками, что жили только охотой, мамонтов били, так сказать, на котлеты, ящеров — на антрекоты. Набежали рассказчики, у каждого своя история, и напряжение спало, всем веселее сделалось. — А у одного типа как-то, это на Конде было, ощенилась сука. Он одного щенка себе оставил, остальных, когда пошел рыбалить, забрал с собой. Благополучно утопил их, сел рыбу удить. Вдруг одна удочка у него хряп! — чуть ли не пополам, еле успел за конец ухватить. Полчаса боролся с рыбиной, взмок весь, обессилел, вытащил все-таки на берег. Оказалось, сом. Килограмм на тридцать. Стал он чистить сома, а там щенки потопленные. Всех сом проглотил! Ну и ругался же рыбак! — Надо полагать. — Не топи щенков, не топи! — Собака, она друг человека. — Очень свежая мысль. — Вот бог и наказал. — А ханты, те рыбой оленей кормят. Особенно зимой рыбка хорошо идет — отсыпет олешке рыбы из мешка, тот и грызет ее, как морковку. — Да, ханты — великие спецы по рыбе. Рыбой и живут. — Ты видел их дома? Настоящие хантские дома? На воде стоят. На сваях. Строятся вроде бы вверх дном — к небу дома ширше, к фундаменту уже, я видел. — Это чтоб дождь не тревожил, в дом не затекал. — А как они птицу ловят! Ого-го! Хитроумные ловушки. Слопцы называются. — К нам в балок как-то зимой ханты пришли. Пешком, без оленей, прогуливались вроде бы. Двое, оба веселые, улыбки шесть на девять. «Далеко живете?» — спрашиваем. «Нет, недалеко», — отвечают. «Когда вышли?» — «Вчера утром». Это значит, сотню километров отмахали, чтоб людей повидать. — Ничего себе прогулка. Старенков стоял на берегу Полтысьянки, прочно и широко вогнав унты в снег, время от времени оглядываясь, не подают ли сигналы от трубачей, как они называли трубоукладчики, правильно ли идет дюкер, не ломается ли обшивка. Нет, все шло нормально, все вроде бы нормально. Тьфу-тьфу-тьфу, сотню раз надо через плечо сплюнуть, сотню раз костяшками по дереву постучать. Подумалось: вот и зима на исходе, остались какие-то жалкие крохи, всего ничего. За спиной поднялось солнце, сквозь туманную рядь проступила длинная темная полоска противоположного берега, точечки под белым обрывом — это люди, наверху же, на самом обрыве, светлеют сосновые стволы. А вон и приземистая тушка лебедки, от которой, как нитки из катушки, исходят тросы, опускаясь в дымную полынью, вызванивают свою бурлацкую песню. В работе перестало ощущаться время, его бег, люди забыли, что существует такая вещь, как время, забыли про завтраки и про обеды, про солнце и звезды. Сюда, на берег Полтысьянки, уже в вечерней мгле Старенкову доставили гнутую алюминиевую посудину, придавленную сверху крышкой от кастрюли. Открыл, а в посудине — распаренная рассыпчатая каша с дымящимися буграми мяса, комком масла, вплавленным в макушку пахучей фудзиямы. — А вот те орудие труда, — Ксенофонт Вдовин, который принес посудину, достал из кармана алюминиевую ложку, торжественно вручил бригадиру. Старенков расчистил рукавицей место на поваленном корневище пихтача, устроился на нем, стал есть кашу, поглядывая в замутненную, бурчащую воздухом полынью, куда уходило тулово дюкера, и одновременно на противоположный берег. — Что, Павло? — подошел Костылев, сел рядом. — Сил набираешься? — Грустно чего-то. Тоска в голову шибает. Не пойму, что со мной творится. — Конец работы, оно и неспокойно. Начало нового дела только в ноябре предвидится. Это когда еще будет? За горами еще. А сейчас что... Еще несколько деньков, и зимник поплывет. В отпуска пойдем. В общем, уже не до работы. Когда с чем-то прощаешься, обязательно грустно становится. Закон природы. Душевная физика. — Гмм. Хошь, кашей поделюсь? Нет? Ну нет так нет. Костылев подумал, что странность старенковская оттого, что большую ответственность за протяг дюкера ощущает, она и придавила бригадира, как коршун воробья, вот и тяжко ему, и на душе сумеречно. Дюкер тащили весь день и всю ночь без перерыва. Утро началось с беды. К Старенкову прибежал вездесуй Вдовин, без шапки, нараспашку, голая грудь на мороз выставлена. — Бригадир! Дюкер трещину дал! Старенков даже в лице изменился, глаза вызеленились злым огнем. — Чего мелешь? — Не мелю. При прогибе, видать, это стряслось. Один из швов, кажись, треснул. И это еще до испытания дюкера под водой! Что будет, когда ему нагрузку в полтора раза выше нормы дадут! Располощет нагрузка дюкер на рваные куски, разнесет по частям. Надо срочно посылать к трещине водолазов, срывать обортовку, снимать груз, соскабливать изоляцию и варить на глубине, заделывать свищ. Доложили начальству. — А может, лучше дюкер назад вытащить? — спросил Елистрат Иванович, невозмутимо погладывая «Холодок». — Здесь, на берегу, разобрать и новый шов сделать. — Время! Время упустим, Елистрат Иваныч! Если река тронется, то дюкер до зимы сохнуть будет. Вы не глядите, что лед толстый. Река вот-вот пойдет. А потом, вытаскивая, мы еще больше поломать его можем. — Значит, решили под водой свищ заделывать? — Под водой. — Учтите только, что водолазы, как водится, сварщики никудышные. Водолазное дело они знают на ять с плюсом, а сварку — спустя рукава. На двойку с минусом. — Это я знаю. — Наклепают такое, что не рады будете. — Попробую своих сварщиков под воду спустить. Елистрат Иванович даже поперхнулся «Холодком». — Под воду? А если кессонка? — Здесь глубина воробью по колено. Никакой кессонкой и не пахнет. А водолазы, они будут страховать. — Предупреждаю — на спуск специальное врачебное разрешение нужно. — Ответственность, если кто согласится в воду пойти, я возьму на себя. — Как хотите. Мое дело предупредить. Но если можно все-таки водолаза послать на это дело — посылайте водолаза. — Добро. Я узнаю... Старенков вышел из командирской будки, шагнул в снег, увидел Вдовина, его напряженное потное лицо, поморщился. — Чего, бригадир? — пробормотал Ксенофонт вопросительно. — Ничего. В древние времена гонцам, принесшим плохую весть, головы рубили. — Так то в древние. Что делать будем? — Собирай бригаду! И водолазов зови. Бригаду не надо было собирать, она в полном составе находилась на полтысьянском берегу. Когда пришли водолазы, Старенков откашлялся, неловко потеребил руками бороду, глубоко вздохнул, прогоняя подступившую к горлу сухость. — Ребята, дело вот какое образовалось. Дюкер на глубине неожиданно пузырить начал. Свищ. Свищ этот надо заделать под водой. Только под водой. Назад вытягивать дюкер нельзя. Не успеем справиться. Полтысьянка должна вот-вот стронуться. Не глядите, что лед толстый, — помолчал, прислушиваясь к плеску воды в полынье. — Лед, он в полдня тонким, как папирус, станет. Или будем все-таки назад вытаскивать, а? — Нет, — раздалось сразу несколько голосов. — Теперь вопрос к водолазам. Кто из вас может варить на глубине? Было слышно, как пошумливает ветер в сосновых шапках, играет лапами, выдергивает ржавые отсохшие иголки, роняет вниз и те падают с сухим невесомым треском. Где-то сонно каркала ворона. — Понятно, — тихо произнес Старенков, присел на корточки, — никто не умеет. Тогда дело наше, ребята, дохлое. Насчет Полтысьянки я ведь не шучу. Она снимется в один присест, это предсказано. Я сегодня с метеорологами разговаривал — те предупредили. Как только снимется, так вода сразу на подъем попрет, все затопит. И до осени не сойдет. — Он скатал пальцами снежок, выжал из него творожную влагу. — А нас на том берегу уже ждут. Встречная нитка. Не видно ее еще, но вот-вот завиднеется. Выступил вперед старший водолаз — невысокий крепыш с пристыженным лицом, развел перед собой красные жилистые руки. — Дело это ответственное. По мелочам мы можем, а тут штука крупная. Срезаться несложно. Не беремся. Старенков сплюнул, поглядел тоскливо поверх голов, огладил рукой борт полушубка, там, где сердце. — Чувствовал я беду эту, черт возьми. Видит бог, чувствовал. М‑да. А как бригада? Варить в воде, братцы, придется. Может кто-нибудь? В глубине, в холоде. Над головою лед, под ногами — рыба. А? Бригада сидела молча, никто даже не шевельнулся, каждый обдумывал предложенное. Прав водолаз: дюкер заделывать под водой — вещь нешуточная. Вода такая, что пробкой через пятнадцать минут наружу выскочишь, а тут работы часа на три. Такую простуду-лихоманку можно получить, что вся зарплата на лекарства уйдет. Не-ет, ремонтировать дюкер на полтысьянском дне — дело серьезное. — Тогда тянем назад. Другого выхода нет. — Старенков расслабил пальцы, тяжелый проволглый снежок выскользнул, тупо шмякнулся в обелесенный, пропитанный мокротой носок унта. Костылев сунул руки в карманы дубленки — не заметил, как застыли, бугры ладоней вздулись, побелели. Сощурился. Перед ним возникла, замерещилась чья-то фигура. Сощурился сильнее — женская фигура-то, ладная какая! Клавка Озолина! Глаза посверкивают плутовато, в них — затаенная страсть игрока. Достала из лаковой сумки несколько красненьких бумажек. — Пошла к черту! — беззвучно прошептал Костылев, сопротивляясь жаркому, зовущему томлению. — Вспоминать даже не хочу. Потер виски пальцами, вспомнил Дедусика, его неприкрытый интерес, когда задавал вопрос в больнице, намекал на премию, и вдруг так обидно ему стало, что хоть кричи. Бабке Лукерье Федоровне денег на старость он заработал, на ремонт домишка хватит, зачем же ему еще? Не в этом главное. Бригада чуть было не приняла его за рвача, вон до сих пор он встречает неверящие глаза. Старенков тяжело хлопнул ладонью по колену: — Тогда другого выхода нет. Будем выбирать дюкер обратно. Точка. — Погоди, бригадир, — Костылев поднялся, лицо у него было бледного липового цвета, в желтизну — еще не заветрел после больницы, у всей бригады портреты в коричневу, шелушатся, сплошь темные краски, а Костылев по-прежнему бледен. — Я тебе рассказывал, что в армии водолазом служил. Всякое мне приходилось делать — и якоря со дна бухт поднимать, и минные поля рвать, и старые торпеды обезвреживать. Всякое. Чинили корабли на плаву, варили, клепали обшивку. Так что я хоть и не сварщик вроде бы, а работу эту сделаю. — Сиди ты! Недавно ведь с больничного. — Об этом прошу не вспоминать, — проговорил Костылев твердо. — Нет, так нет... Водолазы тоже вроде бы сварщики. Якобы, как будто бы, вроде бы, — Старенков усмехнулся жестко. — Только никудышние. Если твое «вроде бы» такое же никудышное, то лучше не надо. Закашлялся, недобро посмотрел на водолазов. — Хочешь, вот что сделаем, — предложил Костылев. — Я покажу, как я варю, Контий Вилат покажет, как он варит, пусть водолаз свое ремесло тоже продемонстрирует. Если я общелкаю всех — иду под воду. Уступлю хоть одному — греюсь на воздухе. — Контия тебе не обскакать. Он палец к носу медью приварить может — носу не больно и оторвать нельзя, — сказал Старенков. — Потому и в бригаде держим. — Контий — мастер на большой, — заявил Вдовин самодовольно, похлопал себя кулаком по груди. — Слушай, Иван, тебе что? Одной болячки мало? Чуть без ног не остался... А? Хочешь вторую хворь заработать? — Старенков яростно поддел носком унта льдышку, та, прожужжав в воздухе, плюхнулась в водную чернь. Резок, нетерпим что-то стал в последнее время Старенков. Видно, устал. На отдых, видно, пора. — Хочу или не хочу — это мое дело. Главное — дюкер. — Правда твоя. Время идет. Оно не то что золотое, оно — брильянтовое. Тащи, ребят, сюда маску и сварочную вилку с электродами. Уно, ты к генератору, держи его на «полном вперед!». На площадку выкатили несколько колбасин — обрезков труб-«тыщовок», притащили ящик из-под макарон, сколоченный из хлипких досочек, а в общем целый, чтобы экзаменуемому было на что сесть и легче справляться с заданием, притащили рогульку с толстой, обмотанной изоляцией ручкой. Костылев выглядел мрачным, на лице проступило огорчение — в общем, ни к чему, конечно, это театральное представление. Но хода назад нет. Он понимал, что может опростоволоситься перед тем же Вдовиным. КВ — профессионал, обойти его дело трудное, он варит, словно поет. Усмехнулся, на минуту представив, какую песню может изобразить Вдовин своим хрипатым голосом... Старенков достал три спички, две надломил, одну больше, другую меньше, зажал их двумя пальцами, кончики упрятал в кулак. — Кто вытянет самую короткую — первым варит, среднюю — вторым, длинную — последним. Самая короткая выпала водолазу — усатому малому со сведенными, как у рака, к переносице глазами; средняя — Костылеву, Вдовину, как всегда, подфартило. Водолаз варил резкими короткими всплесками, суетно, часто отрывая электрод от шва и щуря глаза на тускнеющую красноту. Шов у него получался неровным, кочкастым, в наплавлениях металла. — Хватит, — сказал ему Старенков недовольно. В лучшем случае тебя через два месяца учеником сварщика можно ставить. Сварщик, обиженный, что-то пробурчал под нос и отошел. На макаронный ящик уселся Костылев, выдернул из рогульки электрод, которым варил водолаз, откинул в наст. Из снежной норки, куда вошел разгоряченный прут, шипя, вытекло облачко пара. Выбрав новый электрод, с ровной красной обмазкой, обмедненным, похожим на лезвие рапиры острием, вогнал в усы держателя. — Варить тебе самый чуток, — сказал Старенков, — вот столько, — отмерил двумя пальцами кусок стыка в пол-ладони длиной. На флоте Костылеву приходилось варить куда больше в воде, чем в обычных условиях, — в воде ему, честно говоря, было проще варить, чем на суше, хотя теорию и практику «сухопутной» сварки он тоже проходил. И даже в большем объеме, чем проходят нынешние ученики, готовясь сдать на разряд: армия есть армия, бог Марс точной работы требует. Разогрел стык, держа рогульку под наклоном, оплавил ровным длинным канальчиком, сверху залил металлом. Закончил варить, когда в усах остался короткий, с приплюснутым пятачком обмягченного металла штырек. — Все! — сказал он, поднялся с ящика. Шов, он у всякого творца свой рисунок имеет. Каждый варит, будто ручкой пишет. И каждый по-разному: один строчку кляксами украшает, другой чистенький почерк имеет, один накладывает металл слева, другой — справа, третий — сверху. Костылевский шов был спокойным, с хорошим проваром. — Вот те раз! — воскликнул кто-то не без удивления. Пришаркал Вдовин, почесал полуголый, с редкими кудельками растительности затылок, поглядел на Костылева вприщур, и тот уловил в его быстром трезвом взгляде что-то причастное к обману и одновременно нежное, неожиданно мягкое, полное надежды. — Не-а, — подув в нос, сказал Вдовин, сдвинул шапку на нос, зыркнул лукаво. — Я лучше не сумею. Старенков запустил руку в бороду, ожесточенно потрепал ее. Смятение, потерянность, жалость крылись в этом ожесточении. — Па-анятно. Слушай, Вань, а техбез ты знаешь? — Технику безопасности? — Ее, грешную. — Спрашивай. — Что должен сделать подводный сварщик перед началом работ? — Должен детально изучить место, вернее, кусок реки, где ему придется варить. Если скорость течения больше одного метра в секунду, то это место надо оградить щитами. — М-да. Вот тебе и се лави. Точно. Давай-ка пункт второй. Что делает сварщик, если на поверхности воды разлит бензин, керосин, нефть? Словом, что-нибудь этакое, что от одной спички пыхнуть может? — Побойся бога, сейчас же лед. — Твое дело — отвечать. — Нечего делать. Должен нырнуть в воду, перекрестившись, а резак зажигать только под водой, на глубине. — Ладно. Готовьсь! — проговорил Старенков, направился к дощатому командирскому сарайчику, напрямую, в обход тропки. Плечи его были опущены, спина трудно напряжена, ноги оскользались в вязком сочащемся снегу. Дважды он чуть не упал, но продолжал упрямо продираться по крутизне, не оглядываясь, двигаясь медленно и тяжело.
21
Костылев ступил на мокрую, размочаленную обшивку дюкера, боком сдвинулся по ней, волоча за собой шланги, всхлипывая и морщась от дрожи в ногах, ощущая неприятную запотелость груди под толстым колючим свитером, сковывающую тяжесть водолазного комбинезона, прилипшую к животу огрузность свинцовых медалей — специальных утяжелителей, без которых водолаз всплывет наверх, как яичная скорлупка. Он посмотрел сквозь туманно отмокревшее стекло шлема на берег, на длинную шеренгу людей, безмолвно жестикулирующую,открывающую рты, и его неприятно поразила замороженность звуков — до него не доходило ничто, кроме хрипа собственного дыхания. Медноносым ботинком, в котором отразился свет скатывающегося к горизонту солнца, он проломил ледок, сковавший полынью, подтянул к себе упрямые, мускульно сопротивляющиеся шланги, неуклюже нащупал свинцовой подошвой сучок на бортовине дюкера, нашел, постоял, примеряясь сделать следующий шаг, увидел деревянную пластинку лестницы, привязанную к двум веревкам, обрадовался ей. Зная, что в воде ему двигаться будет куда легче, шагнул смелее, глядя, как шевелятся угрями выползающие из черной полупрозрачной воды шланги водолаза — того, с глазами, сведенными к переносице, ушедшего первым. Зацепился носком бахила за пластину, оперся на нее. Сдул с верхней, обметанной потом губы соленые едкие капли, пошевелил головой, ткнул затылком в кнопку стравливателя. Нажал, услышал шипение. Работает. Держась руками за бортовину дюкера, спустился на вторую ступеньку, потом на третью. Погрузился в воду, пустив долгую бурлящую струю, проверил, хорошо ли подается воздух. Хорошо. Ему показалось, что он даже чувствует, языком, небом ощущает запах вечерних сосен, хвои, опадающей в снег, смолы, напластовывавшейся в иззубринах стволов, в грибовидных кряжинах, чует костерный щелк, дым. А костры на берегу как зажгли, так и не тушили. Снег вокруг них вытаял, даже прошлогодние зеленые ростки клюквы начали распрямляться, обманутые костерным теплом. Клюковку заметили, накрыли стаканом, чтобы не затоптал кто нечаянно. — Иван, как настроение? — услышал он совсем рядом оглушающе громкий, совершенно неискаженный голос Старенкова. Вздрогнул, ответил не сразу. Это насторожило бригадира. — Может, тебе вернуться? А? Слышишь меня? Что за черт! — Настроение на большой, как говорит моя бабушка, — ответил Костылев медленно. — Все в порядке, иду ко дну... — Не шути. — Не буду, — пообещал Костылев. Под водой он огляделся — длинное, обитое далеко видимыми светлыми досками тулово дюкера неуклюже уходило в глубину, напоминая гигантское страшноватое тело доисторического животного. Того гляди, животное оживет, взбрыкнет хвостом, одним ударом сдерет ледовое одеяло с Полтысьянки, и забурлит тогда вода, застонут берега. Но животное молчало. Лед приподнимался куполом в центровине над тёком реки; там, где он был толще, темнели напластования, будто пыль сгустилась, где тоньше, можно было даже нащупать глазами блеклую расплывающуюся точку солнца. Сурово, мрачно было под водой. Далеко впереди пускал белые пузыри водолаз, ушедший первым, стравливал воздух. Костылев нащупал негнущимися, закованными в толстую броню пальцами кнопку фонаря, висевшего над медалью-грузом, надавил на нее. Собранный в снопик луч неуверенно втесался в темноту, разогнал мутные, похожие на дым клубы, проник сквозь них, и Костылев разглядел, что клубы — это собранная в облако рыбья молодь. Проснулась рыбешка! Потом снопик уперся в шипастый, защищенный латами бок осетра, медно заблиставший в свете. Рыбина, непуганая, незнакомая с человеком, с неопасливым любопытством разглядывавшая воздушную буркотню, оставляемую водолазом, по-поросячьи вывернула голову в сторону Костылева, оглядела его с непритворным изумлением, в смугляном сверке ее зрачков отразились сложные чувства, какая-то борьба. Потом центнерный гигант, считая свою силу неоспоримой, не допуская даже возможности покушения на собственную особу, шевельнул плавниками и со скоростью торпедного катера подлетел к Костылеву. У осетра глазки были маленькими, свинячьими, жаберные крышки, как печные заслонки, торчали воинственно в стороны. Потом взгляд рыбины охладел, в нем заметались враждебные блески. — Пошел вон! — крикнул на осетра Костылев, как на собаку. — Т-ты чего? — встревожился на берегу Старенков. — Осетр подплыл, обнюхивает. Старенков булькающе засмеялся: — Хлеба просит? — Фиг его знает! Может, ему медали мои понравились. А может, под дельфина ладится, — проговорил, напрягаясь, Костылев, стараясь, чтобы его настороженность, плохо сокрытая равнодушно выговоренными словами, не передалась наверх, чтобы на берегу не усекли что-нибудь недоброго. Он, засопев и стравив побольше воздуха, поднес руку к осетриной морде, твердой и острой, как керновая часть бомбы, уперся, со страхом ожидая, что осетр сейчас вильнет головой и цапнет зубами за руку, спросил себя: «Есть ли у осетра зубы? Есть или нет? Он же не хищный...» — и с силой надавил на рыбий нос. Осетр круто выгнул толстое ловкое тело, потом, враз вспузырив воду, испуганно метнулся наверх, к потолку льда, перед Костылевым промелькнуло пятно упругого хвоста. Чуть не задел его осетр, а если б задел, наверняка бы смотровое стекло вдребезги. Под куполом, впоровшись в ядрышко солнца, осетр распрямился, растаял в глубине. Костылев вздохнул облегченно. Все остальные рыбины, всякие сороги, окуни, сырки, щуки, попадавшиеся далее, казались ему добродушными котятами по сравнению с гигантом осетром. Дно Полтысьянки было каменистым. Много обросших черной тинкой валунов, пугающих своей бесприютностью, много ям с берложьей темью — в таких воронках, сказывают, черти водятся. Много глубинных выдавлин и бугров; кое-где попадались мертвые, тяжелые, как чугун, лесины, не одну уже сотню лет пролежавшие на дне. Под косо прогнутым телом дюкера чернела траншея. В нее дюкер войдет, как патрон в ствол, когда торцевина трубопровода будет уже сохнуть на противоположном берегу. Хотя подо льдом и было теплее, чем снаружи, холод все же довольно быстро забрался под резиновую тяжесть костюма, под толщу шерстяной одежды, и Костылев стал выстукивать зубами чечетку, с придыхом всасывая в себя воздух. — Замерз? — услышал он голос Старенкова. Бригадир не дремал. Бодрствовал на «стреме». — Может, назад? — Нет. — Как дюкер? — На змея похож. Как дракон, изогнулся. — Па-анятно. Из темноты высверкнул огонек. Это спутник-водолаз поджидал Костылева. Когда тот приблизился, водолаз показал рукой на обшивку дюкера. Из-под сучковатой, плотного распила доски выпростался толстый бокастый пузырь, подержался секунду, шевелясь, увеличиваясь в объеме, потом мягко, неприметно оторвался и, набирая скорость, унесся вверх. Сменяя его, из расщелины высунулся другой пузырь. Здесь течь, понял Костылев. Он забрал у водолаза ломик, гаечный ключ. Первым делом надо было отвинтить груз, сбросить его, потом — расшить оплетку. Костылев, вяло работая ногами, приблизился к обшивке, взглянул вниз, в круто уходящую черноту траншеи, где застыла торцевина дюкера. Торцевина была далеко. Костылев стравил воздух, накинул ключ на грубо опиленную гайку болта. — Чего сопишь? — спросил Старенков. — Свищ нашли. Подкапываться начали. — Сильно пузырит? — Не очень. Но дюкер удачно застопорили. Метрах в трех он уже в траншею проваливается. Не то подымать бы его пришлось. — Ясно, — задумчиво произнес Старенков. Костылев напрягся, отворачивая гайку, та уперлась, не подаваясь, тогда он притиснул конец ключа к свинцовой блямбе, насел всем телом. Хрипло вздохнул. Гайка неохотно, туго подалась. — А-а-а! — забормотал он, забыв, что голос его слышен наверху, каждый дох, каждый шорох там как на ладони, в посвист ветра врезается. — А‑а, скотобаза! — Чего у тебя? — встревоженно заорал Старенков. — Ничего, — очнувшись, грубо ответил Костылев. — Это я с гайкой воюю. И вообще, — он повысил голос, задохнулся, стравил воздух, — не действуй мне тут на нервы своими вопросами. Молчи, пока сам не вызову. Всхрипнул, раздосадованный собственной яростью, открутил гайку, растерянно похлопал себя по бокам в поисках карманов, но карманы на водолазной одежде не положены. Положил гайку на потолок дюкера. Снял лемех. Постоял несколько секунд без движения, прокричал по связи наверх: — Слышь, бригадир! — Ну, — отозвался Старенков: — Груза как? Сохранить иль выкинуть можно? — Хотелось бы назад навесить. — Если бы, да кабы, да росли во рту грибы... — Ладно, выкидывай! Мы место со свищом засыпем получше. Щебня навалим, он заменит груз. Костылев острием лома выбил штырь; второй груз, невидимый, с той стороны, беззвучно плюхнулся на дно. Костылев сглотнул слюну, откашлялся, с досадой отметив, что брызги слюны обдали стекло, смотреть стало труднее. Сделал несколько бесцельных движений, разогреваясь. Холод сковал тело, потянуло в сон, в глотке собралась щекотная слизь. — Тебе плохо? — сострадающим голосом спросил Старенков. — Иди ты! — обозлился Костылев, подцепил ломом доску, рванул на себя. Как и положено, доска не подалась — ребята работали на совесть, оплетку сколачивали на века. Он хакнул горлом, со спины к нему подплыл водолаз, тоже вцепился руками в лом, вдвоем они навалились на торчок, доска, сверкнув гнутыми гвоздями, обнажила блестко-серый слой бризоля. Вторая доска подалась легче, они сделали в оплетке окно, потом с двух сторон начали срезать широкими штыковыми ножами изоляцию. Хорошо, что бризоль поддается легче, чем стеклохолст, тот вообще надо топором брать, застывает до металлической твердости. Делая судорожные движения плечами, стараясь освободиться от цепкого холода, Костылев всаживал нож в битумную мякоть, отковыривал комок, покрытый плотной картонной кожицей, счищая его с ножа. Потом заносил руку для нового удара, вновь погружал лезвие в вязкую, вызывающую озлобление плоть, делал несколько рывков руками, отколупывал очередной комок. Работа затяжная, муторная, а холод уже подбирается к сердцу, стремится хватануть его грубой колючей лапой. В разъеме грудной клетки начало остро и часто покалывать, Костылев облизнул языком синие замороженные губы, часто подышал в шлем, нагоняя тепла, стравил воздух. Холод проник и под шерстяные штаны, болезненные муравьи облепили ноги, от них обессилели мышцы, сделались дряблыми, непослушными, чужими. Костылев выругался, не заботясь о том, как его поймут наверху, поглядел сквозь неясное стекло на напарника. Тот, мрачно поблескивая глазами и открыв сухой, обезвоженный рот, отковыривал кусок бризоля, косо вогнав в изоляцию широкую лопатку ножа. Костылев с мучительной ознобной тревогой подумал о том, что они не выдюжат, не осилят свищ в один прием, надо будет выходить наверх, на обогрев, на отдых. «Нет», — решительно сказал он себе, стиснул зубы, прислушался к тонкому комариному звону, заполнившему уши, звучавшему как предостережение, как сигнал об опасности. Водолаз оторвался от оплетки, выпрямился, оставив в битумной корке нож, беззвучно зашевелил губами. — Слушай! — сразу же встревожился бригадир, оглушил Костылева. Верно говорят, что нет худа без добра. После старенковского рявканья комарий гуд пропал, — Ну! — Твой напарник сообщил, что он почти околел от холода, просится на берег. — Пусть идет! — зло проговорил Костылев, окинул взглядом фигуру напарника. — А ты? — Я нет! — Сдурел, Иван! — прокричал Старенков. — Не ори! Пока не заварю свищ, наверх не выйду. Старенков досадно, беспокойно задышал. Он не понимал упрямства Костылева. — Не дури, Иван! — с надеждой и одновременно униженно попросил Старенков. — Оставаться опасно. Никакой залатанный шов, никакой самый распрекрасный дюкер не стоит риска. Ей-богу! Костылев подумал, что конечно же риск ни к чему, но если он поднимется сейчас наверх, то что о нем подумают ребята? Нет, пока он не справится со свищом, подъем отставить. Он почувствовал себя дремотно, зыбко. Желая погасить это противное ощущение, выпалил зло: — Ничего со мной не случится! Пусть водолаз топает на берег, пусть греется. Мне сменщика пришлите. Всё. Конец связи! Точка! Костылев, стуча зубами, чувствуя, как кожа на его лице больно обтягивает кости, и вместе с тем с какой-то радостной искоркой, которую он ощущал внутри себя, — потом он понял, что именно эта искорка, этот позыв надежды не дали ему сойти на нет и свалиться в траншею, — все-таки закончил очистку изоляции. Пузыри воздуха теперь безостановочно вымахивали перед самым его лицом, вспархивая, как голуби, и он не отшатывался от них. Пришла смена. Второй водолаз был попроворнее и посметливее, с улыбчивым лицом, бледнеющим за смотровым стеклом. Работать стало веселее. Свищ был небольшим — порина чуть больше игольного ушка. Но когда по трубе под большим, сокрушающим напором пошла бы нефть, она разворотила бы это игольное ушко до размеров человеческой головы. Машинально Костылев запалил резак, разогрел свищ, загоняя пузыри назад, в огромную полость дюкера, залил дырку металлом, обработал пробку со всех сторон плоскими пятаковыми нашлепинами, потом сверху еще напластовал стальную страховку. — Все, — слабо прохрипел он в микрофон, только сейчас ощутив, как тревожатся за него люди на берегу, как жадно ловят каждое слово, переданное из речной глуби. — Слышишь, что народ тут в твой адрес кричит? — прогромыхал Старенков. — А? Иван, ты слышишь? Сквозь перханье и шорохи переговорки Костылев разобрал вначале далеко, а потом быстро приблизившееся «Ура!». Это кричали сварщики, дизелисты, шоферы, изолировщики — весь трассовый люд, вместе с которым он провел тяжелую зиму и, несмотря на все тяжести, проложил-таки нефтяную артерию. Осталось совсем немного, еще чуть-чуть, и произойдет стыковка со встречной магистралью. Черная толща воды вдруг стала зеленой, бутылочной окраски, в ней носились мрачные вихлявые призраки, загорались и гасли тусклые осенние сполохи, паслись золотобокие рыбы — речная глубина вдруг стала цветастой, пестрой. Утратив осмотрительность, замерзший, теряющий силы Костылев вяло помогал водолазу накладывать бризоль на тело трубы, затем заколачивать досками окно. Когда работа была закончена, тупо сел на закраину траншеи, отпихнул бахилом шланги от себя. Усталость, грузная, обволакивающая, вызывающая тошноту, навалилась на него студенистой липкой безобразью, он вяло подумал, что это наносное, быстро проходящее, воспринял это и всерьез и невсерьез. Но когда перед ним заметались беленькие призрачные строчки, будто на экране неисправного телевизора, он обессиленно сглотнул слюну, сопротивляясь страшной физической немощи, попробовал стиснуть зубы, а когда это не получилось, разлепил рот в жалкой и неудобной улыбке. «Вот и проиграл ты битву, Костылев, — подумал он, — продул сражение. Амба. Закрывай кавычки». Из бутылочной толщи выдвинулся, а вернее, как-то неясно проступил водолаз, подгреб под себя воду руками, встревоженно склонился над Костылевым. «Что?» — беззвучно спросили его губы. Тут же над самым ухом Костылева раздалось громовое рявканье, будто на футбольном поле любимая команда забила гол и стадион поднялся разом, взревел. Потом в одурманенную явь его сознания проникло другое. Крик, стоны, шум ветра, отблеск далекой битвы. — Ива-а-ан! — срываясь на сипенье, звал его Старенков. Костылев неожиданно ощутил себя ракетой, летящей в неведомое далеко, к незнакомым звездам, в прекрасный мир, где всегда тепло, светит солнце, гуляют павлины и растет виноград величиной в кулак. Перед ним замаячил острый и маленький, как кошачий глаз, огонек, потом эта кроха разгорелась и заполыхала не на шутку, на смену ознобу пришло ощущение легкой прохлады, словно он из жаркого, пекущего дня вошел в затененную дачную комнату. Костылев с мгновенной готовностью, без размышлений, отдался этой целебной прохладе, ее неге и тиши, и в последнюю секунду перед тем, как уснуть, он услышал визгливый крик: — Воздух страви-и! Во-оздух! Приоткрыв глаза, машинально надавил затылком на клапан, увидел перед собой осетра в смешном резиновом балахоне, разлепил синие губы. Осетр закачался перед ним, взмахивая рукавами, тыкая ему в нос чем-то твердым, но тычки до лица не доходили, хотя голову жестко и тупо встряхивало. — Во-оздух! Он опять прижался затылком к клапану, не понимая, зачем это делает. И вообще, чего от него хотят? К чему этот крик? Подумал безразлично, что нужно терпение, больше ничего, и эти требовательные вопли увянут. Перед ним замаячило усталое прекрасное лицо с широко открытыми и почему-то обиженными глазами, от лица исходило неземное сияние, он оттянул уголки рта книзу, узнавая: Лю‑юдми-ила! Женщина чужая и близкая ему, всегда озабоченная и спешащая, оставшаяся тайной и всегда желанная. Он подумал, что неудобно сидеть перед женщиной, надо подняться, но вот странное дело — ноги, разбухшие толстопятые столбы, не слушаются. Нет, это ему не нравится, он человек упрямый, он все-таки встанет, выпрямится, покажет, что у него есть рост и осанка. Ноги подгибались, подворачивались в ступнях и в коленях. Костылев, цепляясь за стояки перил, напрягаясь всем непослушным телом, справился с немощью, дотянулся своим лицом до ее лица, улыбаясь опасливо, заглянул в ее глаза. — Во-оздух! Поморщившись, он стравил воздух, стал искать, где же Людмила. Ведь только что была рядом, вот тут стояла, тут! — Во-о-оздух! Он, злясь, покрутил головою: перестаньте мною командовать, я теперь речной житель! Увидел рядом натуженное лицо водолаза, тот, ухватив его под мышки, тащил по круто уходящему вверх речному дну. Костылев сделал шаг, споткнулся о покрытый ржавью камень, из-под которого мышонком вымелькнула какая-то мелкая рыбешка, еще раз попробовал понять, куда же делась любимая женщина? И тут все стало на свои места. Перед смотровым стеклом болталась перекладина веревочного трапа. Костылев вцепился в нее. Застонав, подтянулся. Сзади его подтолкнул водолаз. Костылев завис на перекладине, кривясь от изматывающей рези, помотался на лесенке беспомощно, отдыхая, потом подтащил к животу одну ногу, правую, нащупал бахилом вторую досочку, оперся на нее, подтянул левую. После третьей ступеньки шлем его пробил темноту, он увидел огромное медное блюдо, обварившее горизонт пламенем, сизую дымку вечера, снеговую равнину в рыжастых вечерних тенях, еще что-то, показавшееся смешным и глупым, — кажется, одинокую, ворчливо разевающую рот ворону, фланирующую над Полтысьянкой в поисках пищи. Чьи-то сильные руки подхватили его под балахон, вытащили на лед. Вокруг огрузшего, беспамятного Костылева возникла тревожная хлопотня — одни свинчивали шлем, другие снимали медали с груди, третьи сдирали с него подводную одежку, четвертые подгоняли сани с заранее подогретыми тулупами. Костылева завернули в горячую овчину, бережно уложили на сани, и люди молча, сменяя друг друга в тревожном беге, доставили его в жарко натопленный балок. Там терли спиртом до тех пор, пока Костылев не размежил бессмысленные, подернутые далекой болью глаза. И только тогда уложили спать, установив дежурство. ...Он проснулся лишь на третьи сутки, вялый, отекший, с черно выделявшимися обмороженными пятнами на лице, без жизни в глазах. На зов дежурного примчался Старенков, сел на приземистую треногую табуретку, подпер кулаками подбородок. Лицо его было нетерпеливым, жестким, подбористым, щеки глубоко ввалились, это было заметно даже сквозь пышность бороды. Печально-напряженными глазами он поймал взгляд Костылева, улыбнулся вполсилы, вложив в эту улыбку все лучшее, что было в нем, всю свою доброту и нежность. — Это ты-ы? — узнавая, прошептал Костылев. — Ты‑ы? — Так точно, — раздвинул бороду Старенков, — я это, Иван. Собственной персоной. — Что-то я не то под водой делал. А? Перепугал народ? Незачем это было. — За свои подводные чудачества ты у меня еще промеж ушей получишь. Поскольку я демократ, то выбирай заранее — промеж ушей спереди или промеж ушей сзади? — Уж больно ты грозен, как я погляжу. — Еще бы. Половину трассовиков чуть кондратий не хватил, пока ты под водой телепался. Громыхалка всё передавала, ничего не скрывала. Такая толпа собралась, что меня чуть на сосне не вздернули. Считали, что я во всем виноват. — Прости! — Ла-адно, — протянул Старенков. — Все уже ушло в плюсквамперфект, в прошедшее время. — Как дюкер? — На том берегу. Состыковались. — Здорово. — Теперь-от команда последовала: по домам! На сорок восемь рабочих дней. Плюс воскресенья. — Указ об отпуске вышел? — О нем самом. Костылев вяло подвигал кадыком, сглотнул слюну. Старенков понял, что он думает о чем-то своем, важном, и, чтобы не мешать, отвернулся к окну, посмотрел в неплотную сизь леса, в солнце, которое теперь жарило без устали, в темнющую прозрачность полтысьянских далей, достал из кармана курево, хотел было подымить, но передумал. Повернулся к Костылеву, спросил: — Ты, Иван, как? Вернешься после отпуска на трассу или... — Помолчал, запустил пальцы в бороду. — Будешь домик подправлять, ставни резные навешивать, палисадник городить? Костылев отвечать не стал. Сил не было — слишком много выпало на его долю за последние полгода. Звезда его, выходит, такая. Вон сколько испытаний! Началось все в Зеренове, на ликвидации газовой аварии, потом на трассе нод плеть угодил, а сейчас вот полтысьянская история стряслась. Много для одного человека. Он пошевелил губами, произнес отчетливо и тихо: — Есть и другие невыполненные дела. Одно из них вообще со всех сторон обстругать надо. Недаром же под водой мерещилось... — Кто мерещился? — твердым голосом спросил Старенков, кашлянул надсадно, будто крепкого дыма хлебнул. — Русалка, — спокойно и отрешенно отозвался Костылев. — Какая еще такая русалка? Но Костылев и на этот вопрос отвечать не стал. У него было ощущение, какое случается на охоте, когда бьешь утку в далекий лет: выстрелишь, и на сотые доли секунды тебя охватывает томящий озноб — попал или не попал? Такое ощущение было у него и сейчас: будто выстрелил по цели и еще не знает, попал или промахнулся...
22
День выдался пасмурный, мелко и холодно дождило, когда Костылев появился в аэропорту. Расспросив шустрых длинноногих девушек, где может находиться Бородина, — в бортпроводницкой, а где бортпроводницкая? — поднялся по темному служебному ходу на третий этаж. Торцовые части коридора имели всего по одному окну. Мощи этих окон, распахнутости их не хватало, чтобы осветить длинную мрачную штольню. В сумраке подземелья двигались, плавали какие-то фигуры, заглядывали в двери, открывали их, и тогда лица окрашивал серый тусклый, не по весне слепой свет. Походило это на какую-то очень занятную игру. Костылев остановился у окна, чтобы унять стук в груди — сердце колотилось так, что готово было вот-вот сорваться с места, вымахнуть наружу. Посмотрел в окно — дождь припустил, край крыши запузырился кипятком. Однако дождяной этот всплеск был кратковременным. Мелькнула мысль, что в дождь самолеты не должны ходить и у него еще есть время обдумать свое житье-бытье, но за стенкой здания так пушечно загрохотал реактивный двигатель, что стало ясно — дождь современной технике такая же помеха, как слону паутина. А сердце, сердце-то... Оно и не думало умерять свой пыл, лупило и лупило молотком в висок. Костылев растопырил пальцы, критически посмотрел на них — дрожат, окаянные! Словно пьяные, дрожат. Несколько раз подряд захватил губами липкого дождливого воздуха, глотку будто вазелином обмазало, но мандраж так и не прошел. Сердце строчило, словно из автомата. Он тихо, докучно, про себя, выругался и медленными шагами двинулся по коридору, на ходу читая таблички. Вот она, бортпроводницкая. Небось набита стюардессами, как огурец семечками. Прислушался — не слышно ли гомона за дверью, а то попадешь сейчас, как кур во щи, языкастым девчонкам на зуб... Он опасливо и нервно поглядел на крашеные разводы, портящие дверь, приложил настороженное ухо к косяку, ловя каждый скрип и шорох, уверился, что в бортпроводницкой — ничего опасного, тишина, стукнул костяшкой указательного пальца в фанерную твердь. Не дожидаясь ответа, толкнул дверь вперед, сокрушил крепость и очутился в тихой просторной комнате с окном во всю стену. Несмотря на огромное окно, здесь тоже света не хватает, отметил он. Хоть удавись, такая несимпатичная темноликая погода царит на улице. У окна одиноко стояла женщина в форменном летном пиджачке. Женщина повернулась, и у Костылева больно и сладко заныла грудь, дыхание перетянуло, и он не сдержался, закашлялся. — Ты? А я-то думала, кто это к нам скребется? — Я. Провинциал смятенный, — пробормотал он заранее заготовленную фразу. Она кротко и загадочно улыбнулась: — Ого. Ничего себе фраза. Из книжки, что ли? Костылев, ощущая собственную неуклюжесть и поэтому краснея, потоптался, пошаркал каблуками ботинок, грязь вроде бы с них стер. Посмотрел вниз — чистые. — А ты постарел, — сказала она. Он подумал секунду, ответил, неловко раздвинув губы: — Старость и молодость — два края одной веревки. Один край — начало жизни, другой — конец. Говорят, что старость от молодости отличается тем, что в молодости за один и тот же промежуток времени мы успеваем сделать куда больше дел, чем в старости. — Признайся, вычитал где-нибудь? Он подумал, ответил: — Как и все мы. Я же не рыжий. Все истины мы откуда-нибудь вычитываем, потом запоминаем их. Элементарно. А изобрести самому — трудно. — Забавно, — она засмеялась, оглядела его серьезно и сердито, решительно вскинула голову, словно хотела напасть на Костылева. А у него вид сделался таким, будто он не умел защищаться. Тень скользнула по его лицу. Скажи Людмила сейчас — прими смерть! — и Костылев принял бы без колебаний, без страха, преданно и спокойно. Да, преданно и спокойно. И это не было пусторечием. Он за последние полгода познал, что такое боль, страх, колебания, преданность, познал то самое важное, что составляет жизнь. Он любил Людмилу и боялся признаться в этом и себе и ей. «Вот такие-то дела, дорогой товарищ Людмила», — чуть было не выговорил он. Голову от них ломит. Куда проще лезть на холодное речное дно, мерзнуть, умирать под тяжестью плети. На лицо его пятнами наползла бледность. Он посмотрел в окно, за Людмилину спину, — дождь утихомиривался, но осенняя тусклота по-прежнему обволакивала город. Тучи были рваными, пепельными, как пороховой дым. Он вспомнил последний разговор со Старенковым — вчера, в районном северном городишке, за стаканом водки в нетопленном общежитии нефтяников. Старенков, сбривший бороду и здорово помолодевший, спрашивал Костылева, вернется ли тот на трассу, а Иван, не желая врать, отмалчивался. Если раньше он думал, что все-таки вернется, то сейчас не знает, вернется или нет. Все зависит от здоровья бабушки Лукерьи Федоровны, а то на последние два письма бабка Лукерья Федоровна ни ответа, ни привета. Не дай бог, что случилось. Сдуру написал Клавке Озолиной — та тоже ни слова в ответ. Напрасно он написал, напрасно, — о Кланьке надо забыть, надо начисто вырубить ее из памяти. — Что же мы молчим? — спросила Людмила. Костылев пожал плечами, улыбнулся печально и доверительно, неожиданно решив про себя, что все происходящее — это будни, с накипью и темью, и не нужен, наверное, был его приезд сюда. Надо взять себя в руки и больше не выходить из состояния зажатости — все перекипит, все перемелется, мука будет. — Не знаю. Сердце утихомирилось как-то само собою, работало теперь неслышно, смазанно, уступчиво. — Я зашел проститься, — сказал он перегорелым голосом. — Уезжаю. — Как? — спросила она едва слышно, и в тихости ее слов открылось Костылеву что-то незащищенное, от птицы, такое хрупкое и нежное, что требовало незамедлительного его вмешательства, защиты. Он сделал шаг вперед. Остановился. — Знаете, Люда, — на «вы», тоном, благодарным за это открытие, начал он и умолк, заглянул в ее глаза, стараясь что-нибудь прочесть в них, но мешал свет — хоть и хлипкий, серенький, а все-таки мешал. — Поедемте со мной в Подмосковье, а? У меня бабушка душа-человек, таких осталось мало. Приветит, обогреет, чаю нальет, — зачастил он рассыпчатым шепотом. — Воздух у нас — у-у-у! И яблони уже цветут. Все в белом. А? Поедемте. Я сейчас билет на самолет куплю! Хотите, а? Она, в тон горестному и сладкому его состоянию, печально скосила губы, потом перевела их в торопливую усмешку, выдернула из кармана кружевистый платочек, неумело, как-то по-бабьи обреченно, подавленно, прижала ко рту. Покачала головой чуть приметно. Потом, уже не в силах сдерживаться, махнула рукой — уходи! Он, нагнув голову, повернулся с лицом беспомощным и побитым, сделал шаг. Вдруг услышал крик, ломкий от слез: — Стой! Костылев остановился с какой-то непонятной боязнью, ему показалось, что вся его последующая жизнь, все мирские тяготы, путное и беспутное, все, ради чего он существует, было заключено в шагах, которые он, остановленный, не сделал. Пройди он эту комнату до порога, он никогда бы не вернулся, никогда бы не захотел больше видеть Людмилу. В ее лице он различил что-то слабое и решительное одновременно, борьбу, внутренний накал, зябкость и разгоряченность бега, что-то горемычное и одинокое. В глазах ее, среди вспушенности ресниц, замерцала влага, зазолотели звезды. Судорожная надломленная слабость сковала ее лицо, и Костылев чуть не задохнулся: он вдруг разглядел нечто такое, чего не видел раньше. Влага исчезла, звезды пропали. Но не эта примета была важна сейчас для Костылева. Он сжал губы, сдерживая себя, загоняя назад, в горло, клекот, готовый прорваться сквозь зубы. Отныне дороже этой хрупкой подавленной женщины для него нет никого на свете. Сощурился — незнакомо сильный бронзовый свет ударил ему в глаза, смутил. Этот же свет обдал Людмилу сиянием, отдалил ее. — Знаешь, вот... Воздух был, — проговорил он бессвязно, зябко, поднял воротник пиджака, — был и исчез. Дышать тяжко стало... Словно рыбе сподобился. Опустил воротник пиджака. Что-то обреченное было в этом машинальном движении. Обреченное на беспомощность. — Грудь знаешь как давит. Будто вновь под плеть попал. Только она, зараза, не на ноги сейчас пришлась, а поперек груди. По самому центру. Что делать? Скажи, а? Он посмотрел на нее неловко и трудно, доверяясь ей и одновременно со страхом ожидая ответа. Опять поднял воротник. Опустил. — Плохо мне. А в чем дело, не знаю. Она тоже отогнула воротник своего летного отутюженного пиджачка. Жест хоть и был механическим, но полностью повторял его движение. Он хотел еще что-то сказать, но побоялся: каждое слово могло выбить сейчас из колеи и его самого, и ее... Сглотнул, ощутил, как кадык туго натянул кожу, и от этой тугости начала деревенеть шея. Она подошла к нему, легкими руками прикоснулась к его щекам, сжала погорячевшие подскулья, притянула к себе и быстро, хотя и несколько беспомощно, поцеловала. Совсем не так, как тогда, в больнице. Нет. Хоть и не плакала она сейчас, а вид ее был зареванным. Эх, люди, люди! Как не защищены мы от горя, печали расставаний, от напастей и бед. — Приезжай осенью. Осенью! Осенью! — с торопливой требовательностью повторила она звонким, чуть проволглым от набегающих слез голосом. — Осенью я отвечу, ладно? Костылев ушел, не обернувшись, не попрощавшись, ни стоном, ни вздохом не отозвавшись. Вот и все.
23
Нет, не все!.. Ново-Иерусалим встретил Костылева безмятежным летним жаром, стрекотным звоном тиши, такой густой и плотно осязаемой, что сквозь нее едва пробивался грохот проходящих невдалеке электричек. Дом был обнесен издавна знакомым, серым от времени, уже полуутопшим в земле забором, на который буйной тяжестью навалились стволы вишенья, дразняще выглядывающего на улицу. Многие сопревшие дощины были заменены новыми, свежими, отекшими смолой. Значит, ведет бабка Лукерья Федоровна ремонт, ведет... Уловив костылевские шаги, в глубине сада завозился Хозяин — здоровенный лохматый пес с веселым нравом и дурными мозгами: его отвяжешь на ночь, чтобы побегал, поразмялся, а он назад дорогу забывает, утром по всей округе приходится разыскивать. Хозяин взлаял хрипло, но осекся, сквозь рык у него прорезалось что-то писклявое, щенячье. Узнал пес, узнал. — Ах ты, собачина мой хороший, — стиснуто заговорил Костылев, нащупал пальцами плоский стоячок щеколды, выдавил из паза. — Собачина мой хороший... Славный, добрый, преданный. Элементарно. Ах ты, собачина мой хороший... Опустил чемоданы на плоские сланцевые плиты дорожки, съеденной дождями и снегом, мягко, чуть слышно ступая, прошел в огородец, с двух сторон обнесенный жердяником, а третьей смыкающийся с садом, — картофельные грядки уходили прямо под яблоневые корни. Огляделся. У жердяника, по ту сторону, густо рос крыжовник — высокий, раздобревший. В прогале между двумя кустами Костылев увидел пеговатый, выцветший от солнца и частой стирки бабкин платок, пятно лица с чистым молодым лбом, прямо через грядки зашагал к жердянику. — Бабунь! — позвал он тихо. Наступил на туго хрустнувший под каблуком огурец и ощутил себя виноватым. Услышал глухоту своего голоса, почувствовал, что он очень соскучился по своей бабке Лукерье Федоровне, старой, сгорбленной, донельзя влюбленной в землю, в труд. Лиши ее всего этого — умрет. Соскучился по ней, да. В груди начало что-то тепло и приятно сосать, зашевелилась ласковая тяжесть, по рукам озноб пробежал. — Бабунь! Бабка ты моя... Бабка Лукерья Федоровна услышала костылевский голос, распрямилась, взметнула заскорузлые, красные от работы руки. — Господь ты, боже мой! — светлые крупные слезы быстро заскользили у нее по бороздам морщинистых щек, скатываясь на жилистую, бурую от загара шею. — А я слышу, кто-то меня зовет, — слышу, а понять не могу. И Хозяин вроде б не брешет, и голос чей-то... Господь ты, боже мой! Вот радость огромадная — Ванюшка приехал. Ваню‑юшенька‑а... — Она завсхлипывала, сорвалась в голосе. А я уж думала, что ты не приедешь, не вернешься... Думала, дом в порядок привожу, а на кой ляд? Все равно умирать. — Ну, бабунь, перестань! — Он прорвался сквозь жердяник, сквозь цепкие путы крыжовника, обхватил бабку Лукерью Федоровну за сухие легкие плечи, притиснул к себе. — А я уж думала, ты в Сибири от морозов окостенел, — бабкины плечи тряслись, словно в кашле. — Ну что ты, бабунь! Морозы живому человеку не помеха, — тихо проговорил Костылев. — Закаляют только... — Как же, закаляют, — начала успокаиваться бабка Лукерья Федоровна, — жди! Вон Колька Малохатко, ты знаешь его, поехал в марте месяце в лес за дровами, да застрял. Поморозился, еле отыскали. Большой палец на правой ноге отхватили и от машины отстранили. Сторожем на автобазе теперь работает. Так это у нас, где зимой и летом — все едино тепло, а в Сибири — в ней же в тыщу крат страшнее. Бабка Лукерья Федоровна успокоилась. Костылев осторожно, словно боясь сделать больно, убрал с ее лба серую, влажную от пота прядь, спрятал под боковину платка, откинулся назад. Глаза у бабки были выцветшими, совсем прозрачными, веки коричневой покрыты, морщины в подглазьях глубокие, хитро переплетенные, нос крупный, в поринах, губы добрые. А лоб чистый, как у молодухи. В зрачках отражалось греющее тепло, человеческая нега, забота о непутевом, по ее мнению, внуке. Костылев опустил голову. Бабкины ноги были обтянуты высокими козьими носками, небрежно покоились в старых просторных галошах с вытертой байкой. Она всегда любой другой обуви предпочитала галоши, бабка Лукерья Федоровна, — галоши не теснили ногу, можно было свободно сбросить их со ступни, когда руки заняты каким-нибудь чугунком с капустой, который надо внести в дом (а в доме бабка ходила только в носках, шлепанцев, тапочек, прочей домашней обувки не признавала). — Ну, пойдем в избу, — бабка Лукерья Федоровна стерла слезы со щек, — что ж я тебя на улице держу. Я тут с крыжовником занималась. Червь откуда-то наполз, поедать начал. А я его в лукошко — да в уборную на постоянное место жительства переселяю. Костылев заглянул на дно старого сита — оно было сплошь покрыто пепельно-травянистыми мелкими червяками, неуклюжими, неторопкими, едва шевелящимися. — А тут еще смехотное дело... Наш Хозяин, оказывается, червяков любит. Будто не собака, а курица какая. Высыпешь — всех, словно лапшу, переуничтожит. Но я ему боюсь давать: мало ли какая отрава в этих червяках завестись могет? Ну, пойдем в избу, я тебя окрошкой с огурцами да с укропцем угощу. Квас сама делала. Пошли, Ванюш! Костылев перетащил чемоданы в дом. Пока умывался, сладко фыркая у стояка водопровода, проведенного прямо во двор, под самые окна дома, бабка Лукерья Федоровна успела накрыть стол. Чего тут только не было — видно, готовилась к встрече, хоть на письма и не ответила, — и «постный», любимый Костылевым студень, и горячая, пыхающая паром картошка, и неуклюже состряпанные разнокалиберные пельмени, и окрошка, над которой горкой высилась густая сметана, а сверху в сметанную вязкость были вдавлены кольца лука, и сухая колбаса, нарезанная тонкими, по-ресторанному аккуратными кругляшами, и колбаса обезжиренная, «докторская», и селедка, что тает во рту, — баночного посола, и прозрачные, истекающие жиром пластики кеты, была даже банка икры, вспоротая старым ножом, оставившим рваный след. Этот нож еще с детства знаком... В центре стола бронзовела бутылка хорошего пятизвездочного коньяка. — Я ждала тебя, ждала, все жданки проглядела, — вновь всхлипнула бабка Лукерья Федоровна. — Думала, что водка эта вот, — она повела в сторону коньячной бутылки, — прокиснет. Хорошо, что ты приехал, Ванюшк. За обедом он узнал все деревенские новости про своих одногодков. Собственно, их было и не так уж много: один женился, другой развелся, третий в Москву переехал жить, четвертый подрался и теперь отсиживает срок в «местах отдаленных», пятый купил машину и не замедлил врезаться на ней в столб... Костылев поразился: ведь прошел почти год, год жизни! Неужели ничего путного, кроме этих привычных бытовых изменений, в Ново-Иерусалиме не произошло? Бабка Лукерья Федоровна уловила перемену в костылевском взгляде, встревожилась, нависла над столом, добрая и мудрая, как черепаха, заботливая, с просветленным взором, отдающая Ивану Костылеву последнее тепло своих долгих лет. Он очень ощутимо и резко, с болью, с прояснившимся ожесточением понял разницу между сибирской своей жизнью и здешним тёком времени, разномасштабность психологического климата. Здесь все текло ровно и безмятежно, без всплесков, поворачивающих вспять человеческие судьбы. Костылев, успокаиваясь, налил себе стопку коньяка. Нет, тут, в Ново-Иерусалиме, тоже неплохо, он по-прежнему любит эту деревню, с теплом и благодарностью вспоминает годы, проведенные здесь. Но что-то умерло в нем, ушло в прошлое, в бывшесть. Хотя и есть прочные связки, притягивающие его к здешней земле. Надо во всем хорошенько разобраться, понять, что к чему. Костылев осторожно взял кусок сухой колбасы, отправил в рот, разжевал — колбаса была отменного качества, редкостная, знаменитая «салями», но он поморщился, будто на зуб попал зелено-горький дичок. — Что? Не ндравится? А я для тебя еле-еле этой ненашенской колбасы сдобычила. Думала угодить. — Спасибо, бабунь. Угодила. А насчет кислого вида — это я так. Не обращай внимания. Лады? — Лады, Ванюшк. Кланьку-то Озолину помнишь? — Ну! — Тоже замуж вышла. Женишка так себе отхватила. Помороженного, я тебе о нем уже говорила. Кольку Малохатку. Намедни забегала денег перехватить, о тебе спрашивала, что, мол, пишет, как живет и все такое прочее. Я тоже в свою очередь вопрос задала. Про Кольку. Как, говорю, такая баская за такого щуплявого вышла. А из жалости, отвечает. Был бы твой Ванюшка на месте, за него бы выскочила. А я баю, за моего не надо, мой в высокий полет подался, Сибирь осваивает. А она в ответ: не скажи, недавно весточку прислал. Я не поверила. Костылев стиснул зубы, хмуро поездил желваками, давя в себе ощущенье странной, замысловатой тревоги. — Ты чего есть перестал? — спросила бабка Лукерья Федоровна словно издалека, звук голоса дошел до его сознания, но остановился где-то у последней преграды, не сумев вызвать ответной реакции. — Не ндравится? Пробурчав в ответ что-то непонятное, малозначительное, Костылев стянул с себя носки и, гулко шлепая босыми ногами по крашеному дощатому полу, пошел в горницу. — Прости, бабунь, я на боковую. Устал что-то после самолета. — Поспи, поспи, — успокоенно отозвалась бабка. — Ах, Кланька, Кланька, Василиса Прекрасная, — пробормотал он сквозь зубы, устраиваясь на непривычно мягкой постели. Хоть и выбросил он ее из своей жизни, как нечто пустое, отгоревшее, а вдруг себя таким обманутым и несчастным почувствовал, что хоть реви. Это от ребячьей обиды, когда отнимают красивую игрушку. Он подумал о Людмиле, далекой и знакомой, услышал ее голос, тихий, напряженный, успокоился. Заснул. И сон его был легким и безмятежным, как летний день на ново-иерусалимской улице. Клавка Озолина сама появилась в костылевском доме. Это случилось на четвертый день после его приезда. На веранде послышались невесомые шуршащие шаги, шорох мягкого струящегося платья, и в дом вошла Клавка. Взгляд насмешлив и грустен, на щеках тяжелый загустевший румянец, зубы влажно взблескивают. Остановившись у порога, запустила руку в карман платья, достала щепоть семечек, ущипнула губами одно, вопросительно посмотрела на Костылева: — Приехал? У него вспыхнули щеки, уши, шея. Что-то невеселое, томяще-шальное охватило все его естество, он покрутил головой, отряхиваясь, освобождаясь от смутной таинственной боязни. — Как видишь, — ответил он, стараясь выдержать ровность в голосе. — Э-э, залетка! — насмешливо протянула Клавка. — Бывший адский водитель... — Почему бывший? — Потому что неосмотрительных поступков больше не делаешь. Скучно. Села на табуретку, закинула ногу за ногу, стряхнула подсолнуховую шелуху на стол. — Скучно? Кому как, — неуклюже пробормотал Костылев, забеспокоился отчего-то, переставил с места на место стакан, наполненный чаем. Его полоснула по сердцу внезапная тоска, с острой, рассекающей беспощадностью располовинила грудь. Тоска эта была не по Клавке, нет, он это понял, и Клавка ему враз стала безразличной, тут было другое... Она почувствовала отчуждение, напряглась. — Чего колени выставила? — грубовато спросил ее Костылев, подавил невольный судорожный зевок. — Чай пить будешь? — Не буду, — неуверенно отказалась Клавка. — Значит, замуж вышла? — Вышла. — Иди сюда! — требовательно произнес Костылев, поднялся, тяжело давя половицы, прошел в горницу. Из-под койки выхватил бесцветный от старости и местами уже облезлый чемоданишко, в какие шоферы, уходящие в дальние рейсы, любят брать домашнюю снедь. Отстегнул замки. Откинул крышку: — Смотри! Чемоданишко был полон перепоясанных бумажными портупеями денежных пачек. — Цо-цо-цо, — знающе поцокала Клавка, зыркнула красивым глазом на Костылева. — И это все ты один заработал? — Не украл же. Она потянулась к Костылеву всем своим налитым беспокойством телом, белки ее глаз заблестели голубым, отчего будто тихие молнии заметались по горнице, ослепляя, оплескивая огнем. Где-то под домом с бурчащим замиранием завозился водный поток — это бабка Лукерья Федоровна поливала из шланга огородец. Остывающее чувство незащищенности вдруг вызвало в нем смех. — Ты чего это? — тихо спросила Клавка. — Чего смеешься? — Вода. Клавка приблизилась к нему, губы ее были приоткрытыми, пухлыми, яркими. — Вот что, Кланька! — сипло пробормотал Костылев, сдабривая вяжущую сухость во рту слюной. — Свиделись мы с тобой, и будет. Теперь иди! — Как иди? — непонимающе взметнулась Клавка, пустила по комнате голубую молнию. — А так. Откуда пришла. К Коле Малохатке. Он отвернулся, чувствуя, как спадает напряжение, краска отливает от щек и шеи, ток крови становится ровным и бодрящим. Он был уверен в себе, как уверен и в том, что поставил точку на одной из страниц своей жизни. Когда и как ушла Клавка Озолина, Костылев не видел. Потом появилась бабка Лукерья Федоровна, потопала ступнями на веранде, сбивая с ног водяную морось, заглянула в горницу. — Ай кто у нас был? — Нет, — ответил Костылев. — А чьи, Ванятк, подсолнухи лежат на столе? И духами чьими попахивает? — Не знаю, — односложно отозвался Костылев. — Иди-к сюда, бабунь. — Иду. Чего? — Вот это тебе. — Он приподнял чемоданишко, переставил его поближе к бабке. Та взяла в руки одну пачку, подержала в ладони, пробуя на вес. — Чижолая, — донельзя исковеркав слово, добрым голосом проговорила она, а Костылеву показалось, что исковеркала нарочно, и он улыбнулся легко и исчерпывающе. — И все это ты заработал? — Тут зарплата, премиальные, отпускные, все плюсы и минусы. Так что, бабунь, распоряжайся. — А ты? — Я — назад. В Сибирь. — К-как? — неверяще пробормотала бабка и, враз обессилев, села на кровать. — Как в Сибирь? Ведь увольнение же у тебя... — Не увольнение, а отпуск, — поправил Костылев. — Ага. Не окончилось еще увольнение-то. — Дела, бабунь. Давай собирать отходную. Бабка заплакала, голос ее был хлипким и беспомощным, а Костылев, сидя рядом, гладил ее натруженную, чуть огорбатевшую спину, шептал разные ласковые слова, обещая обязательно взять ее с собой «во Сибирь», как только ему дадут жилье. А летом они вместе будут приезжать в Ново-Иерусалим, и вообще — будут жить счастливо и долго, бабка ему очень и очень нужна, как всякая родная душа, и пусть она готовится к делу, что не за горами, — к тетешканью внука. Почувствовав усталость, Костылев замолчал и долго еще сидел, немой и неподвижный. ...Уехал он из Ново-Иерусалима не сразу: ведь в эту пору еще нечего было делать на трассе, в эту пору на сухих песчаных гривах, на отметинах будущей нитки работают только кладовщики да матросы с барж-плоскодонок, что каждый день привозят новые грузы.

Последние комментарии
17 часов 42 минут назад
21 часов 17 минут назад
22 часов 1 минута назад
22 часов 2 минут назад
1 день 15 минут назад
1 день 59 минут назад