Русская новелла начала XX века [Максим Горький] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
РУССКАЯ НОВЕЛЛА НАЧАЛА XX ВЕКА
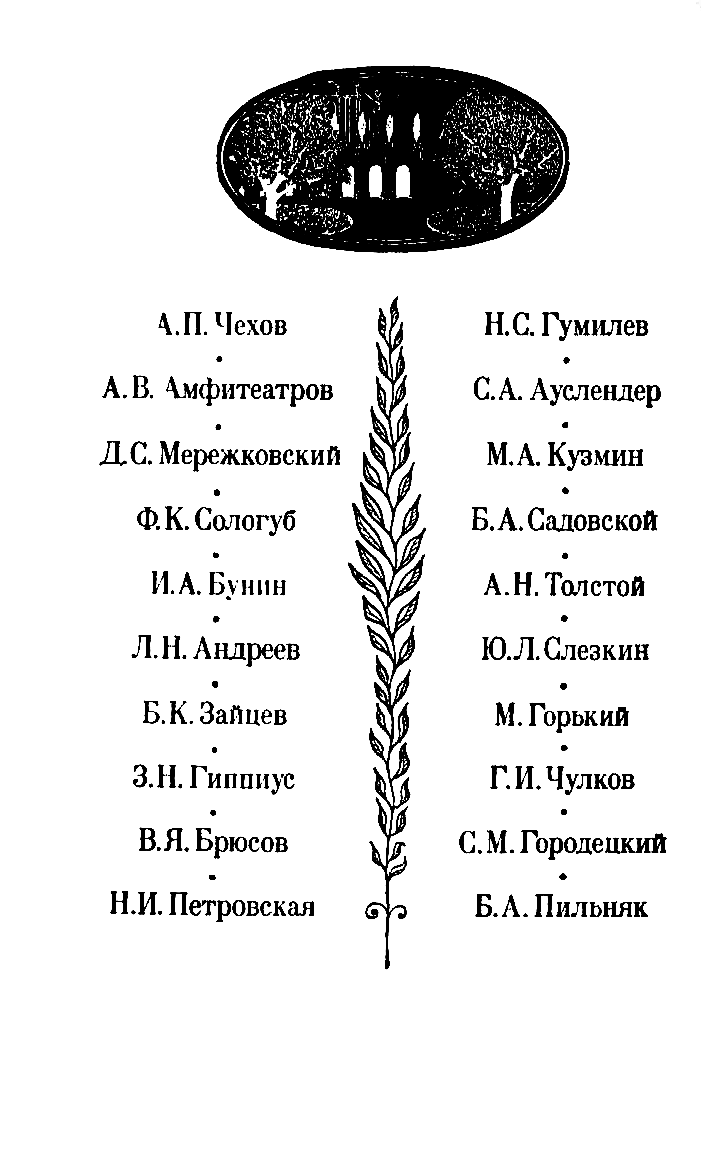


РУССКАЯ НОВЕЛЛА НАЧАЛА XX в.
«Пишите прозу, господа!.. В русской прозе еще так много недочетов», — напоминал В. Я. Брюсов своим молодым соотечественникам совет, данный почти три четверти века назад Пушкиным. Призыв был не случаен. «Серебряный век» русской поэзии поднял ее на такой высокий пьедестал в сознании современников, что прозе — той самой прозе, которая уже с 40-х гг. XIX в. безраздельно господствовала в русской литературе и дала столь совершенные образцы, — пришлось заметно потесниться. В обзоре современной русской литературы за 1907 г. К. Бальмонт пишет: «То, что в ней (литературе) живого, почти целиком ограничивается поэтами… Прозаики, за двумя-тремя исключениями, непристойны по своей повторности, по изношенности приемов… Здесь нет живого дуновения, от которого бы радостно вздохнул и сказал: «Весна»[1]. Отзыв, весьма типичный для того времени. И дело не в том, насколько прав или не прав был Бальмонт в своей оценке литературного процесса тех лет. Важнее другое: в начале века именно проза на фоне современной ей поэзии воспринималась как сфера неизведанного, где еще так много предстояло сделать (и это при столь мощной традиции русской классической прозы!). В январе 1907 г. Н. С. Гумилев, уже автор стихов, которые войдут через год в его поэтический сборник «Романтические цветы», делится с В. Я. Брюсовым затруднениями более всего в области прозы: «Не забывайте, что мне теперь только двадцать лет и у меня отсутствует чисто техническое умение писать прозаические вещи. Идей и сюжетов у меня много… С горячей любовью я обдумываю какой-нибудь из них, все идет стройно и красиво, но когда я подхожу к столу, чтобы записать все те чудные вещи, которые только что были в моей голове, на бумаге получаются только бессвязные отрывочные фразы, поражающие своей какофонией. И опять спешу в библиотеки, стараясь выведать у мастеров стиля, как можно победить роковую инертность пера»[2]. На рубеже XIX–XX вв. чистый лирик, как, например, К. Бальмонт, И. Северянин или А. Ахматова, — скорее исключение, чем правило. Более частый случай — совмещение в одном лице поэта и прозаика. Из представленных в нашем сборнике авторов большинство — яркие поэты начала века, бывшие в то же время незаурядными прозаиками: И. А. Бунин, Д. С. Мережковский, 3. Н. Гиппиус, В. Я. Брюсов, Ф. К. Сологуб, H. С. Гумилев, М. А. Кузмин, С. М. Городецкий. Два прозаических жанра выходят в это время на первый план — роман и новелла. Причем именно жанр новеллы оказывается для писателей во многом новым и требующим освоения. В своей классической форме этот жанр возник в Италии в эпоху Возрождения. Первоначально новеллой назывался устный рассказ, анекдот о необычном, но характерном событии, действительно имевшем место (по-итальянски novella — новость, известие). Постепенно новеллы стали объединяться в сборники, циклы: так возникли знаменитые «Декамерон» Боккаччо, «Фацеции» Поджо (именно их пересказывает героиня брюсовской новеллы «В подземной тюрьме» своему возлюбленному Марко), позже появился «Гептамерон» Маргариты Наваррской. В Европе, а потом и в Америке — особенно со времен Эдгара По — новелла стала наиболее распространенной формой малой прозы. Ее отличительные признаки: ярко выраженная фабулыюсть, динамизм повествования, сосредоточенность на исключительных, ярких событиях, превращение обыденного в необычное и, как правило, неожиданный финал, так называемый пуант (pointe), который призван пролить новый свет на все предшествующее действие. В России новелла появилась в XVII в. в сборниках переводной, а затем и оригинальной литературы. Наиболее яркие образцы этого времени — «Повесть о Карпе Сутулове», «Повесть о Фроле Скобееве». Расцвет русской новеллы пришелся на 10—30-е гг. XIX в.: переводные новеллы В. А. Жуковского, новеллы В. И. Панаева, А. А. Бестужева-Марлипского, О. М. Сомова, В. Ф. Одоевского, французские новеллы 3. А. Волконской, наконец, знаменитые пушкинские «Повести Белкина». Но в дальнейшем жанры рассказа, очерка, ориентированные на будничную повседневность, на жизнь реальную, столь существенно потеснили новеллу, что, когда к 90-х гг. XIX в. в русской прозе вновь пробудился интерес к «рассказам положений» в противовес «рассказам характеров», как их называл Брюсов[3], писатели в большинстве своем вынуждены были опираться на опыт западноевропейской и американской сюжетной прозы. Так воспроизводится стиль новелл эпохи Возрождения (естественно, каждый раз по-своему переосмысленный русскими авторами) в новелле Мережковского «Любовь сильнее смерти», цикле новелл Гумилева «Радости земной любви», посвященных юной Анне Горенко (Ахматовой). Одновременно на итальянские хроники и на их стилизации в творчестве Стендаля, Теофиля Готье, Анатоля Франса совершенно сознательно ориентированы «Святой Сатир» Мережковского (вольный перевод одноименной новеллы А. Франса), «Мертвые боги» Амфитеатрова. «В подземной тюрьме» Брюсова. Чем же объяснить столь характерное для литературы начала века обращение к фабульному, новеллистическому повествованию? И это у представителей совершенно разных течений, литературных групп и партий: продолжателей традиций русской классической прозы (Бунина, Чехова, Зайцева, отчасти Л. Андреева), у неоромантиков, каковыми были в определенный период своего творчества Горький и А. Толстой. И у тех, кого мы все еще по привычке огульно называем модерпистами. А среди них — художники разных, если не противоположных ориентаций, декаденты, волнуемые мистическими прозрениями духа символисты, присягнувшие «на верность» «цветам веселой земли» акмеисты и писатели околоакмеистического круга. Пожалуй, одна из основных причин популярности новеллы в начале нашего века — тяга этого жанра к необычному, экстраординарному Конечно, внимание литературы к быту, к детали, к реальной, неприкрашенной жизни отнюдь не ослабевает. Но существует в русской литературе того времени и другая, противоположная тенденция: это уход от серой обыденности. «Есть одно общее устремление куда-то ввысь, вдаль, вглубь, но только прочь от постылой плоскости серого прозябания», писал историк литературы и современник литературного процесса 1890 —1910-х гг. С. А. Венгеров[4]. И в этом отношении новелла, в которой, уже согласно законам жанра, все внимание автора должно быть устремлено на исключительность события, будь то мистического, психологического или событийного плана, отвечала определенным настроениям эпохи. После приверженности русской литературы нескольких предшествующих десятилетий принципам сугубо жизненного искусства и отторжения всего нереального, фантастического определенная часть молодого поколения писателей стала восстанавливать в своем творчестве «декорации, которые когда-то так любили романтики: средневековые замки, причудливые дворцы, страны, сотворенные по произволу и прихоти поэта»[5]. Общее стремление к перевоплощению, к конструированию своего мира и своего мифа овладело художниками. «Нас было пять молодых, восторженных, начинающих, — писал в 1910 г. Ю. Слезкин в предисловии к своему первому сборнику новелл «Картонный король». — …мы…искренно поклонялись красоте и служили ей. И орден назвали… орденом «Картонного короля». В честь того Картоппого короля, что в дни веселых карнавалов, в дни лжи и наслаждений — один ведет за собой толпу масок и умирает в пламени, когда наступают будни, чтобы снова воскреснуть для радостно-лживой Легенды, для творчества Мифа». «Творимая легенда» — назовет в это время свою знаменитую трилогию Ф. Сологуб. Неудивительно поэтому, что новелла начала века — как, впрочем, и поэзия, и живопись, и музыка — приобретает предельно широкий пространственно-временной диапазон. Вместо бытового повествования, погруженного в настоящее время, читателю предлагается мифическое время легенды (новелла Сологуба «Очарование печали», Гумилева «Принцесса Зара»). Вместо современности и обыденности — обращение к ушедшим векам, дальним странам. Местом действия становится древний Карфаген («Лесной дьявол» Гумилева), Италия средневековья («Мертвые боги» Амфитеатрова), Италия Возрождения («Святой Сатир», «Любовь сильнее смерти» Мережковского, «В подземной тюрьме» Брюсова, «Радости земной любви» Гумилева), Франция эпохи революции и реставрации («Бастилия взята» Ауслепдера, «Возлюбленный Луизы Же-ли» Чулкова, «Святая Елена» Садовского), Россия рубежа XVI11 — XIX вв. («Туфелька Нелидовой» Ауслепдера, «Черты из жизни моей» Садовского, «Набег на Барсуковку» Кузмина, «Соревнователь», «Катенька» А. Толстого). В обращении к культурам прошлого виделся прежде всего залог обновления современного искусства. Среди художников в это время весьма популярна мысль о наступлении нового Возрождения, неоренессанса. «История всего человечества дала нам неисчерпаемое богатство разнообразнейших форм и красок. Художник волен пользоваться всеми, — провозглашает Ауслендер. — Только его самодержавная воля избрать пурпур цезаря, тунику мудреца, шелк маркизов… чтобы облечь в них свои замыслы. В почти единогласном стремлении к уходу в прошлое у современных художников видится мне жадное искание нового»[6]. «Нет ни одного типичного для нашей эпохи художника, который не был бы стилизатором», — замечает в то время молодой исследователь литературы Корней Чуковский[7]. Поэтические стилизации А. Белого, Вяч. Иванова, В. Брюсова, живописные стилизации О. Сомова, А. Бенуа, Л. Бакста, музыкальные И. Стравинского во многом определяли эпоху. В стилизационных ретроспекциях художниками нередко искалась внутренняя связь своего творчества с достойными предшественниками. Так появляются, в частности, новеллы, построенные на скрытых цитатах и реминисценциях из прозы и поэзии Пушкина — одного из кумиров литературы начала века. Стиль повествования «Капитанской дочки» угадывается в «Чертах из жизни моей» Садовского, тонкую стилизацию романа «Дубровский» являет собой «Набег на Барсуковку» Кузмина. Отдельные сюжетные и повествовательные мотивы «Капитанской дочки», а также «Медного всадника» воспроизводит новелла Ауслендера «Туфелька Нелидовой». Сцена приезда Гринева в крепость воскрешена в «Катеньке» А. Толстого. Своеобразный парафраз на тему пушкинского «Анчара» заключен в новелле Сологуба «Отравленный сад», «Сказки о мертвой царевне…» — в его же новелле «Очарование печали». Более того, авторитет Пушкина-прозаика, в высшей степени владевшего тайной лаконичного фабульного повествования, поддерживает в это время и даже в какой-то мере оправдывает возросший интерес писателей к жанру новеллы. При этом стилизация никогда не являлась полным уходом в прошлое. Изысканные маркизы в припудренных париках, наивные барышни, ожидающие своих женихов, хотя и были анахроничны, на самом деле немало проясняли и в жизни современной. Обращение к теме французской революции давало возможность писателям разобраться в грянувших и грядущих событиях собственно русской истории (соположение русской революции 1905 г., а позже и двух революций 1917 г. с Великой французской буржуазной революцией было характерно для русской общественной мысли). Так, взятие Бастилии в новелле Ауслендера вряд ли мыслится автором лишь как случайная историческая декорация любовного приключения героя. За ним — и недаром в подзаголовке новелла обозначена как «фрагмент» — грядущие потрясения, которые с неизбежностью вторгнутся в судьбу и частную жизнь человека. Та же мысль, но более отчетливо выраженная, — в новелле Чулкова «Возлюбленный Луизы Жели». И тщетно автор в предисловии к книге лукаво старается отделить свою позицию от оценки якобинского террора наивным французом, у которого герой революции Дантон уводит невесту. Уж слишком современной болью звучат размышления «заурядного» молодого человека, жившего во Франции в конце XVIII в.: «Я согласен, что хорошие слова «свобода, равенство и братство» должны быть начертаны в сердцах патриотов, но постоянная прибавка к ним «или смерть» пугает мое бедное сердце». Вполне безобидную, казалось бы, стилизацию Ауслепдера «Туфелька Нелидовой», воссоздающую эпоху Павла I, пронизывает тема все того же противостояния государственной власти свободе и счастью обыкновенного человека. Пушкинская тема «маленького человека» в борьбе с имперской властью за свою свободу — какой все-таки сущностной она оказалась для русской литературы! «Улыбающейся скукою вечного повторения» (так М. Кузмин определил суть исторических ретроспекций близкого ему по духу художника «Мира искусства» Константина Сомова) веет и от собственной его новеллы «Набег па Барсуковку». Помещичий быт, воссозданный с поразительной точностью и изысканностью, — быт, в котором все известно и предрешено до мельчайших подробностей… Десятки раз варьируемый в литературе сюжет: любовь детей двух враждующих семей, похищение невесты, разбойники… Только все это в финале новеллы окажется лишь маскарадной шуткой, розыгрышем героя, а более всего — розыгрышем автора, печально подтрунивающего над своими читателями. Ибо за легким, «галантным пустячком» — пафос чисто современный. «Повторяемость чувств и событий, словно бесцельная игра истории», «маскарадное колесо человеческих жизней» — все эти прозрения Кузмина о творчестве Сомова[8], по сути, ключ к его собственным, кузминским стилизациям. Так за декорациями других эпох скрывался трагизм мироощущения человека начала XX в. И не случайно был так признателен Гумилев Иннокентию Анненскому, единственному из его читателей и критиков, кто в «Озере Чад» — этой стихотворной параллели новеллы «Принцесса Зара» — увидел трагедию и иронию, завуалированную экзотикой, тропическими эффектами и бутафорией[9]2. Хроника, записки, легенды, рассказ очевидца — подобные подзаголовки новелл, как бы подчеркивающие документированность самых необыкновенных, фантастически-ирреальных происшествий, отвечали еще одной общей особенности литературы тех лет: утверждению релятивизма бытия, относительности границ между действительностью и вымыслом. Высшую реальность своей никчемной жизни, свою единственную и высокую любовь герой «Мраморной головки» Брюсова обретает в состоянии полубреда, не прекращающихся галлюцинаций. В состоянии умопомешательства прозревает свою любовь старик из новеллы Городецкого «Люблю тебя одну». Так вымысел, фантазия становятся для героев неотделимыми от яви. В XIX в. немецкие романтики усматривали основную особенность новеллы в наличии так называемого поворотного пункта (Wendepunkt). С ним связывалась и символическая насыщенность новеллистического жанра: превращение случайного, почти обыденного происшествия в удивительно-чудесное, прозрение за ним тайны «мировой жизни». Для новеллистического повествования этот поворотный пункт и в самом деле очень существен. Казалось бы, что может быть банальнее сюжета о даме с безупречной репутацией, решившей провести время с понравившимся ей незнакомцем (новелла Ю. Слезкина «Удивительная женщина»)? И вдруг… В финале выясняется: богатая женщина, влюбленная в своего мужа, не просто поддается прихоти (капризу, страсти?), но еще и обкрадывает своего случайного возлюбленного. Вот тут-то и возникает загадка человеческого характера. Полюбившие друг друга в подземной тюрьме, герои новеллы Брюсова в этой страшной обстановке тайно сочетаются союзом, «который человек нарушить не властен». Но почему же в финале, оказавшись на свободе, знатная неаполитанка Джулия Ларго испытывает щемящее чувство неловкости при появлении Марко и изгоняет его из Неаполя? Что это? Социальные перегородки и социальная обусловленность поведения героев? Или, как у Е. А. Баратынского: «Не властны мы в самих себе И в молодые наши леты Даем поспешные обеты, Смешные, может быть, всевидящей судьбе»? Или же мысль о великой любви, которую человеку дано познать лишь в крайних моментах своего бытия: на грани жизни и смерти, в безумии, в бреду… Мысль, роднящая брюсовскую новеллу «В подземной тюрьме» с его же «Мраморной головкой», с «Бродягой» Н. Петровской, «Смертью» Б. Зайцева, с новеллой С. Городецкого «Люблю тебя одну». Нелепые случайности, прихотливые повороты судьбы, таинственная игра обстоятельств с человеком — становятся содержанием целого ряда новелл начала века. Так, неумение услышать зов любви делает встречу двух любящих в «Девушке из Тгосабёго» Ю. Слезкина по сути дела невстречей[10]. Пустая шалость, желание незнакомой барышни подразнить красивую молодую женщину, послужившую моделью для знаменитой картины, оказывается причиной разрыва художника и его возлюбленной в «Портрете с последствиями» М. Кузмина. Но злые причуды судьбы могут иметь и свой глубокий, хотя и завуалированный до поры до времени смысл. Никем не замеченное убийство беллетриста Строева становится в «Новелле» Ю. Слезкина не только единственной возможностью утвердить его в сердце возлюбленной, но и позволяет ценой жизни «красиво» дописать так и не законченный героем рассказ. А неожиданно вспыхнувшая в сердце старого архитектора любовь к давно умершей жене становится залогом его спасения во время страшного землетрясения в Мессине («Люблю тебя одну» Городецкого). Любовь и смерть — эти вечные вопросы бытия становятся центральными темами русской новеллистики рубежа веков. Старая тема о причудах любви и страсти нередко решалась писателями в традициях психологической прозы (из представленных в сборнике новелл это «Ребенок» Амфитеатрова, «Заря всю ночь» Бунина, «Смерть» Зайцева). И тогда на первый план выходили неуловимые оттенки чувства, темное и бессознательное в мире переживаний — то, что французские литературные критики того времени по аналогии с живописью называли импрессионизмом. Но не менее часто тема любви и смерти переводилась в план метафизический, в план мистических прозрений и символических обобщений. Так, для раннего Мережковского существен вопрос об изначальном противоречии любви и смерти. Ибо, по мысли Мережковского, именно в любви утверждается вечное бытие личности: «Любя мертвого, я утверждаю волею то, что отрицаю разумом». «Любить — утверждать бессмертие любимого». Эти идеи, выраженные в философском трактате Мережковского «Не мир, но меч», совершенно отчетливо проходят и через обе его новеллы, представленные в сборнике. Правда, в новелле «Любовь сильнее смерти» мысль эта имеет еще вполне бытовое и рациональное обоснование. В очнувшейся от летаргического сна Джиневре ее родные, уверенные в смерти девушки, видят призрак, дьявольское наваждение. Обреченную теперь уже на настоящую смерть героиню спасает Антонио, влюбленный в нее художник. «Антонио, — молвила Джиневра, — благословенна да будет любовь, которая сильнее смерти». В сущности, почти о том же говорит в новелле «Святой Сатир» нимфа Наэра францисканскому монаху Фра Ми-но, пораженному тем, как быстро на его глазах прелестные нимфы превращаются в отвратительных ведьм: «О, мой отрок, мой бог, ведь это любовь делает прекрасным все». Так же и богиня Диана в «Мертвых богах» Амфитеатрова воскресает из небытия лишь благодаря любви оружейных дел мастера Флореаса. Перенесенная на современный материал, та же мысль о любви, которая оказывается в силах победить смерть, развивается в мистической новелле Чулкова «Голос из могилы». Представление о том, что ничто в мире не исчезает бесследно, популярное после появления во второй половине XVIII в. теории животного магнетизма австрийского врача Ф. Месмера и нашедшее особый отклик у романтиков[11], становится вновь очень распространенным на рубеже XIX–XX вв. «…Ничто не исчезает и никому не дано умереть до конца. Смерть не более совершенна, чем жизнь», — поясняет святой Сатир монаху Фра Мино у Мережковского. Именно в этом смысле следует понимать мотив воскрешения античного пантеона богов и античной цивилизации в «Мертвых богах» Амфитеатрова и «Святом сатире» Мережковского, повторение в веках красоты в «Мраморной головке» Брюсова и «Голосе из могилы» Чулкова, где современные героини оказываются точной копией женщин ушедших времен. Земля и небо, плоть и дух — все эти столь значимые для культурного сознания начала века понятия своеобразно преломляются в целой группе новелл сборника. У Мережковского, мечтавшего о синтезе язычества и христианства и мыслившего примирить плоть с духом, любовь земная и небесная оказываются разъединенными лишь по недоитию. Воспоминание о любви земной, любви к одной флорентийской даме, преследует благочестивого монаха Фра Мино в то самое время, когда он сочиняет песни «о совершенной любви, которая есть любовь к Богу». Насильственное разъединение этих начал в конечном счете и становится причиной гибели Фра Мино. У Гумилева в «Радостях земной любви» торжествует — и это явствует уже из самого названия новеллы — любовь земная. И поэт Кавальканти, попав в столь вожделенный дантовский мистический рай, все же предпочитает спуститься оттуда на землю, «где живет его Примавера». Побеждает земная страсть и в другой новелле Гумилева «Принцесса Зара». Однако авторская позиция здесь гораздо менее однозначна. Во имя чувственной любви отвергает дочь великого бея свое высокое предназначение стать одним из воплощений великой богини — Светлой Девы Лесов. А из-за этого погибает отважный сын вождя из племени Зогар, что па озере Чад, не в силах перенести унижения Светлой Девы, которой он, его отцы и деды молились всю жизнь. За внешней фабульной стороной новеллы с очевидностью проступает второй, символический план. Мистическим чаяниям, ожиданию идущей в мир Красоты противостоит падение героини, ее погружение «в мир роскоши и греха». Этот мотив роднит новеллу Гумилева с написанной двумя годами ранее пьесой А. Блока «Незнакомка». Образ свирепой гиены, растерзавшей на рассвете белоснежного верблюда, — устойчивая для раннего Гумилева метафора гибельной власти женщины, — венчает повествование. В статье «О софианстве», посвященной разбору «Философии любви» Вл. Соловьева, Г. Чулков писал: «Роковое разделение души и тела, неба и земли неизбежно приводит к какой-то лукавой дилемме… Между сияющей ледяной вершиной и цветущей долиной разверзается пропасть». Спор с Соловьевым Чулков перенес и на страницы своей беллетристики. В центре новеллы «Отмщение» — великий писатель, который «напомнил миру забытую истину о его божественном происхождении», и вместе с тем человек, равнодушный «к чувственной прелести обыденного мира». Когда-то этот великий человек бежал от своей возлюбленной, считая, что все земное его недостойно. И все же, по мысли Чулкова, найдется сила, которая отомстит за презрение к земному. И этой силой окажется сама жизнь в лице юной женщины, на коленях перед которой в финале новеллы будет стоять гениальный старик. И не случайно любимые цветы героини — ирисы, символизирующие связь между небом и землей. В русской литературе начала века существовала еще одна важная тема — служение не земному и не небесному, но дьявольскому, сатанинскому началу. Так, дьяволу служит Флореас, герой новеллы Амфитеатрова «Мертвые боги», ибо языческие боги для человека средневековья суть демоны. Влияние темных сил на свою судьбу и на свою незаконную, безумную любовь к Елене Оксипской испытывает герой новеллы Чулкова «Голос из могилы». В рассказе Н. Гумилева «Лесной дьявол» «первый девственный порыв души юной дочери вождя» достается не спасшему ее и взявшему в жены властителю Карфагена Ганнону, но умершему из-за нее лесному дьяволу. Мертвая, отравленпая, злая красота торжествует в новеллах Ф. Сологуба «Отравленный сад» и «Очарование печали», в «Вымысле» 3. Гиппиус. Тьму, в которой «погаснут огни» и в человеке пробудится зверь, предчувствует Л. Андреев. Вот идут двое, юноша и девушка, и говорят все об одном: о красоте и бессмертии любви. А потом появятся три злых человека. И начнется пиршество зверей. А четвертым на этом пиру будет юноша, который только что готов был умереть во имя любимой. Новелла Л. Андреева «Бездна» — почти притча, нравственно-философский эксперимент, показывающий, на что, по мысли Л. Андреева, вообще способен человек. И тем страшнее, что скоро подобное будет происходить «наяву», впишется в быт и будни первой мировой войны и не будет восприниматься чем-то из ряда вон выходящим. Об этом — «Моря и горы» В. Пильняка, может быть, самый страшный, самый пронзительный рассказ сборника. «Верить ли романтике — что вот, через моря и горы и годы есть такая, необыкновенная, одна любовь, — всёпобеждающая, всёпокоряющая, всёобновляющая любовь». И такая любовь есть у поручика Агре-нева. Через все преграды она пробирается к любимому на фронт. И здесь эту неизвестно откуда появившуюся женщину проводник Понятский предлагает за деньги ротмистру Кремневу. А в финале все они — Агренев с женой, ротмистр Кремнев — после боя, отступая, тащатся в дождь «в каше человеческих тел, повозок, лошадей, пушек, ординарцев, извещений, приказов…». «Знаю, что человечество живет еще Ветхим заветом, что люди еще слишком звери — теперь это доказано с небывалой, ужасающей очевидностью», — напишет 15 декабря 1914 г. И. Бунин[12]. Так в русскую литературу, все еще бурлящую в спорах о символизме и футуризме, реализме и неоромантизме, входит страшная по своей беспощадности тема войны. Серебряный век русской поэзии и русской литературы в целом заканчивается. «Страшновато за Русь, за наш народ, за его будущее. Ясно одно, мы вступаем в первый акт трагедии всемирной», — скажет в том же 1914 г. Максим Горький[13]. У Времени свои законы. Наступление нового века не всегда совпадает с календарной датой. И в каждом столетии отдельные периоды таинственным образом соответствуют друг другу. Вероятно, поэтому на рубеже веков всякий раз возникает повышенный интерес ко всем предшествующим рубежам — а они, как правило, повторяют друг друга и своей апокалиптической настроенностью, и вместе с тем напряженным ожиданием нового. Не случайно и мы обратились сейчас с особым интересом к литературе рубежа XIX–XX вв. Что в ней осталось лишь как памятник своей эпохе? А что живо, способно взволновать и сейчас? Но на этот вопрос пусть ответит сам читатель. Е. ДмитриеваА. П. ЧЕХОВ

ШАМПАНСКОЕ (Рассказ проходимца)
В тот год, с которого начинается мой рассказ, я служил начальником полустанка на одной из наших юго-западных железных дорог. Весело мне жилось на полустанке или скучно, вы можете видеть из того, что на 20 верст вокруг не было ни одного человеческого жилья, ни одной женщины, ни одного порядочного кабака, а я в те поры был молод, крепок, горяч, взбалмошен и глуп. Единственным развлечением могли быть только окна пассажирских поездов да поганая водка, в которую жиды подмешивали дурман. Бывало, мелькнет в окне вагона женская головка, а ты стоишь, как статуя, не дышишь и глядишь до тех пор, пока поезд не обратится в едва видимую точку; или же выпьешь, сколько влезет, противной водки, очертенеешь и не чувствуешь, как бегут длинные часы и дни. На меня, уроженца севера, степь действовала, как вид заброшенного татарского кладбища. Летом она со своим торжественным покоем — этот монотонный треск кузнечиков, прозрачный лунный свет, от которого никуда не спрячешься, — наводила на меня унылую грусть, а зимою безукоризненная белизна степи, ее холодная даль, длинные ночи и волчий вой давили меня тяжелым кошмаром. На полустанке жило несколько человек: я с женой, глухой и золотушный телеграфист да три сторожа. Мой помощник, молодой чахоточный человек, ездил лечиться в город, где жил по целым месяцам, предоставляя мне свои обязанности вместе с правом пользоваться его жалованьем. Детей у меня не было, гостей, бывало, ко мне никаким калачом не заманишь, а сам я мог ездить в гости только к сослуживцам по линии, да и то не чаще одного раза в месяц. Вообще, прескучнейшая жизнь. Помню, встречал я с женою Новый год. Мы сидели за столом, лениво жевали и слушали, как в соседней комнате монотонно постукивал на своем аппарате глухой телеграфист. Я уже выпил рюмок пять водки с дурманом и, подперев свою тяжелую голову кулаком, думал о своей непобедимой, невылазной скуке, а жена сидела рядом и не отрывала от моего лица глаз. Глядела она на меня так, как может глядеть только женщина, у которой на этом свете нет ничего, кроме красивого мужа. Любила она меня безумно, рабски и не только мою красоту или душу, но мои грехи, мою злобу и скуку и даже мою жестокость, когда я в пьяном исступлении, не зная, на ком излить свою злобу, терзал ее попреками. Несмотря на скуку, которая ела меня, мы готовились встретить Новый год с необычайной торжественностью и ждали полночи с некоторым нетерпением. Дело в том, что у нас были припасены две бутылки шампанского, самого настоящего, с ярлыком вдовы Клико; это сокровище я выиграл на пари еще осенью у начальника дистанции, гуляя у него на крестинах. Бывает, что во время урока математики, когда даже воздух стынет от скуки, в класс со двора влетает бабочка; мальчуганы встряхивают головами и начинают с любопытством следить за полетом, точно видят перед собой не бабочку, а что-то новое, странное; так точно и обыкновенное шампанское, попав случайно в наш скучный полустанок, забавляло нас. Мы молчали и поглядывали то на часы, то на бутылки. Когда стрелка показывала без пяти двенадцать, я стал медленно раскупоривать бутылку. Не знаю, ослабел ли я от водки, или же бутылка была слишком влажна, но только помню, когда пробка с треском полетела к потолку, моя бутылка выскользнула у меня из рук и упала на пол. Пролилось вина не более стакана, так как я успел подхватить бутылку и заткнуть ей шипящее горло пальцем. — Ну, с Новым годом, с новым счастьем! — сказал я, наливая два стакана. — Пей! Жена взяла свой стакан и уставилась на меня испуганными глазами. Лицо ее побледнело и выражало ужас. — Ты уронил бутылку? — спросила она. — Да, уронил. Ну, так что же из этого? — Нехорошо, — сказала она, ставя свой стакан и еще больше бледнея. — Нехорошая примета. Это значит, что в этом году с нами случится что-нибудь недоброе. — Какая ты баба! — вздохнул я. — Умная женщина, а бредишь, как старая нянька. Пей. — Дай бог, чтоб я бредила, но… непременно случится что-нибудь! Вот увидишь! Она даже не пригубила своего стакана, отошла в сторону и задумалась. Я сказал несколько старых фраз насчет предрассудков, выпил полбутылки, пошагал из угла в угол и вышел. На дворе во всей своей холодной, нелюдимой красе стояла тихая морозная ночь. Луна и около нее два белых пушистых облачка неподвижно, как приклеенные, висели в вышине над самым полустанком и как будто чего-то ждали. От них шел легкий прозрачный свет и нежно, точно боясь оскорбить стыдливость, касался белой земли, освещая всё: сугробы, насыпь… Было тихо. Я шел вдоль насыпи. «Глупая женщина! — думал я, глядя на небо, усыпанное яркими звездами, — Если даже допустить, что приметы иногда говорят правду, то что же недоброе может случиться с нами? Те несчастья, которые уже испытаны и которые есть теперь налицо, так велики, что трудно придумать что-нибудь еще хуже. Какое еще зло можно причинить рыбе, которая уже поймана, изжарена и подана на стол под соусом?» Тополь, высокий, покрытый инеем, показался в синеватой мгле, как великан, одетый в саван. Он поглядел на меня сурово и уныло, точно, подобно мне, понимал свое одиночество. Я долго глядел на него. «Молодость моя погибла ни за грош, как ненужный окурок, — продолжал я думать. — Родители мои умерли, когда я был еще ребенком, из гимназии меня выгнали. Родился я в дворянской семье, но не получил ни воспитания, ни образования, и знаний у меня не больше, чем у любого смазчика. Нет у меня ни приюта, ни близких, ни друзей, ни любимого дела. Ни на что я не способен и в расцвете сил сгодился только на то, чтобы мною заткнули место начальника полустанка. Кроме неудач и бед, ничего другого не знал я в жизни. Что же еще недоброе может случиться?» Вдали показались красные огни. Мне навстречу шел поезд. Уснувшая степь слушала его шум. Мои мысли были так горьки, что мне казалось, что я мыслил вслух, что стон телеграфа и шум поезда передают мои мысли. «Что же еще недоброе может случиться? Потеря жены? — спрашивал я себя. — И это не страшно. От своей совести нельзя прятаться: не люблю я жены! Женился я на ней, когда еще был мальчишкой. Теперь я молод, крепок, а она осунулась, состарилась, поглупела, от головы до пят набита предрассудками. Что хорошего в ее приторной любви, впалой груди, в вялом взгляде? Я терплю ее, но не люблю. Что же может случиться? Молодость моя пропадает, как говорится, ни за понюшку табаку. Женщины мелькают передо мной только в окнах вагонов, как падающие звезды. Любви не было и нет. Гибнет мое мужество, моя смелость, сердечность… Всё гибнет, как сор, и мои богатства здесь, в степи, не стоят гроша медного». Поезд с шумом пролетел мимо меня и равнодушно посветил мне своими красными окнами. Я видел, как он остановился у зеленых огней полустанка, постоял минуту и покатил далее. Пройдя версты две, я вернулся назад. Печальные мысли не оставляли меня. Как ни горько было мне, но, помнится, я как будто старался, чтобы мои мысли были печальнее и мрачнее. Знаете, у недалеких и самолюбивых людей бывают моменты, когда сознание, что они несчастны, доставляет им некоторое удовольствие, и они даже кокетничают перед самими собой своими страданиями. Много в моих мыслях было правды, но много и нелепого, хвастливого, и что-то мальчишески вызывающее было в моем вопросе: «Что же может случиться недоброе!» «Да, что же случится? — спрашивал я себя, возвращаясь. — Кажется, всё пережито. И болел я, и деньги терял, и выговоры каждый день от начальства получаю, и голодаю, и волк бешеный забегал во двор полустанка. Что еще? Меня оскорбляли, унижали… и я оскорблял на своем веку. Вот разве только преступником никогда не был, но на преступление я, кажется, неспособен, суда же не боюсь». Два облачка уже отошли от луны и стояли поодаль с таким видом, как будто шептались о чем-то таком, чего не должна знать луна. Легкий ветерок пробежал по степи, неся глухой шум ушедшего поезда. У порога дома встретила меня жена. Глаза ее весело смеялись, и всё лицо дышало удовольствием. — А у нас новость! — зашептала она. — Ступай скорее в свою комнату и надень новый сюртук: у нас гостья! — Какая гостья? — Сейчас, с поездом приехала тетя Наталья Петровна. — Какая Наталья Петровна? — Жена моего дяди Семена Федорыча. Ты ее не знаешь. Она очень добрая и хорошая… Вероятно, я нахмурился, потому что жена сделала серьезное лицо и зашептала быстро: — Конечно, странно, что она приехала, но ты, Николай, не сердись и взгляни снисходительно. Она ведь несчастная. Дядя Семен Федорыч в самом деле деспот и злой, с ним трудно ужиться. Она говорит, что только три дня у нас проживет, пока не получит письма от своего брата. Жена долго еще шептала мне какую-то чепуху про деспота дядюшку, про слабость человеческую вообще и молодых жен в частности, про обязанность нашу давать приют всем, даже большим грешникам, и проч. Не понимая ровно ничего, я надел новый сюртук и пошел знакомиться с «тетей». За столом сидела маленькая женщина с большими черными глазами. Мой стол, серые стены, топорный диван… кажется, все до малейшей пылинки помолодело и повеселело в присутствии этого существа, нового, молодого, издававшего какой-то мудреный запах, красивого и порочного. А что гостья была порочна, я понял по улыбке, по запаху, по особой манере глядеть и играть ресницами, по тону, с каким она говорила с моей женой — порядочной женщиной… Не нужно ей было рассказывать мне, что она бежала от мужа, что муж ее стар и деспот, что она добра и весела. Я все понял с первого взгляда, да едва ли в Европе есть еще мужчины, которые не умеют отличить с первого взгляда женщину известного темперамента. — А я не знала, что у меня есть такой крупный племянничек! — сказала тетя, протягивая мне руку и улыбаясь. — А я не знал, что у меня есть такая хорошенькая тетя! — сказал я. Снова начался ужин. Пробка с треском вылетела из второй бутылки, и моя тетя залпом выпила полстакана, а когда моя жена вышла куда-то на минутку, тетя уже не церемонилась и выпила целый стакан. Опьянел я и от вина, и от присутствия женщины. Вы помните романс?Очи черные, очи страстные, Очи жгучие и прекрасные, Как люблю я вас, Как боюсь я вас!
Не помню, что было потом. Кому угодно знать, как начинается любовь, тот пусть читает романы и длинные повести, а я скажу только немного и словами все того же глупого романса:
Знать, увидел вас Я не в добрый час…
Все полетело к черту верхним концом вниз. Помнится мне страшный, бешеный вихрь, который закружил меня, как перышко. Кружил он долго и стер с лица земли и жену, и самую тетю, и мою силу. Из степного полустанка, как видите, он забросил меня на эту темную улицу. Теперь скажите: что еще недоброе может со мной случиться?
А. В. АМФИТЕАТРОВ

РЕБЕНОК
Марье Николаевне Гордовой предстояло тайное и крайне неприятное объяснение. Она услала из дома кухарку, опустила в окнах шторы и, в волнении, ходила взад и вперед через все три комнаты своей небогатой квартиры, выжидая звонка в передней. Марье Николаевне тридцать лет. Она — крупная блондинка, довольно статная, но с чрезмерно развитыми формами; при том в ее фигуре есть что-то пухлое, вялое, дряблое. Лицо у нее белое, без румянца, в легких веснушках под глазами — светло-голубыми, очень красивыми и неглупыми: физиономия осмысленная, но бесхарактерная и несколько чувственная. Марья Николаевна не замужем, но у нее есть любовник, и она только что вернулась в Петербург из Одессы, куда уезжала на целых шесть месяцев, чтобы скрыть беременность и роды. Этого своего любовника она и ждет теперь. Семья Марьи Николаевны — безденежная, расстроенная, без главы в доме. Гордова — сирота и живет вместе с двумя старушками тетками, целые дни блуждающими по Петербургу, разнося знакомым сплетни, вести, хозяйственные и врачебные советы, являясь в один дом на положении «своих», в другой — просто прихлебательницами. Квартира пустует с утра до вечера. Марья Николаевна тоже мало сидит дома — у нее много знакомых. Ее любят в интеллигентном обществе: она не без образования, кое-что читала, умеет поговорить об умном, далеко не prude и в беседах с мужчинами не теряется. За пышные золотые волосы, высокую грудь и вкусные плечи за нею много ухаживали; она это любила, пробовала силы своего кокетства чуть ли не на каждом мужчине, но замуж упорно не шла. «Успею!» — думала она, рассматривая в зеркале свое моложавое лицо. Одним из побежденных Марьей Николаевной был частный поверенный Василий Иванович Иванов — человек не с очень большим достатком, но и не нуждающийся. Он вышел в люди из простого звания, но ни развитием, ни особенными талантами не отличался. Зачем Марья Николаевна пристегнула этого скромного, кроткого и не слишком далекого господина к сонму своих поклонников — неизвестно. Должно быть, для коллекции, потому что для такой избалованной девушки Василий Иванович вовсе не был находкою, да к тому же был женат, хотя и жил врозь со своей женой, простой женщиной, не дававшей ему развода. Иванов был очень влюблен в Марию Николаевну и долгое время выносил ее капризы, дурачества и мелкие женские тиранства с терпеливой выносливостью истого Тогенбурга. Но однажды, оставшись наедине с нею, он, под влиянием ее заигрываний, совершенно неожиданно «сбесился», выказал совсем ему не свойственную предприимчивость и овладел девушкой. С ее стороны любви тут никакой, разумеется, не было, но, по женскому фатализму, по страсти доказывать себе разумность и логичность всех своих поступков, Марья Николаевна поторопилась уверить себя, что любит Иванова. Иванов же разбираться в фактах не любил и не умел, а принимал их непосредственно:' «отдалась, — значит, любит». Началась связь, и вскоре любовники, действительно, довольно тесно свыклись друг с другом. Иванов принялся усиленно хлопотать о разводе, но жена поддавалась на его убеждения туго и требовала с мужа, весьма крупную сумму денег. Тем временем Марья Николаевна забеременела. Это — как водится — поразило любовников ужасом: они совсем потерялись, не знали, что предпринять, раздражались друг против друга и ссорились. Наконец Василий Иванович списался с одной повивальной бабкой в Одессе, и вскоре Марья Николаевна уехала, никем не заподозренная. То обстоятельство, что тайну оказалось возможно скрыть, опять примирило и сблизило любовников — они расстались друзьями я часто переписывались. Марья Николаевна родила сына. Роды были трудные, а за ними последовала болезнь. Переписка прервалась на целые два месяца; когда же возобновилась, то Василий Иванович начал получать письма вялые, ленивые, в каком-то натянутом тоне и с чем-то недосказанным в содержании, — словно Марье Николаевне смерть как не хотелось писать, и, насилуя свою волю, она исполняла скучную и неприятную обязанность. Потом совсем замолкла. Василий Иванович терялся в догадках, что с рею, как вдруг получил городскую телеграмму, что Марья Николаевна уже в Петербурге и ждет его тогда-то к себе, — потому что «надо поговорить». Василий Иванович смутился и от неожиданности, и от краткости телеграммы. «Надо поговорить… Ну, да, разумеется, надо поговорить, если муж и жена (Иванов уже считал Марью Николаевну женою) не видались полгода. Но как странно Маня пишет! Выходит, как будто она зовет меня потому только, что надо поговорить… Э! тьфу, черт! какие нелепости лезут в голову… просто глупая бабья редакция телеграммы — и ничего больше! А странно, однако, что Маня приехала так нечаянно, не предупредив, — точно с неба упала…» Так думал Иванов, шагая в отдаленную улицу, где жили Гордовы. Чем ближе был он к цели, тем бледнее становились его опасения и сомнения. Радость близкого свидания с любимой женщиной заливала его душу волною такого полного, светлогосчастья, что черным думам, если бы даже он хотел их иметь, не оставалось места в уме, — порыв любви был их сильнее. Иванов вошел к Гордовой бойко, развязно, даже шумно и широко раскрыл ей объятия. Она встретила его растерянно и нерешительно подставила ему свои губы; когда же поцелуй затянулся слишком долго, на ее покрасневшем лице выразились испуг и смущение. Она уперлась в грудь Иванова ладонями и незаметно освободилась из его рук. Затем села на диван, сдвинув как бы нечаянным движением кресла и круглый стол так, что они совсем загородили ее; подойти и подсесть к ней стало нельзя. — Как ты поздоровела и похорошела! — восторгался Иванов. — Ты помолодела на десять лет. Марья Николаевна отвечала на возгласы Иванова сдержанно и боязливо, так что он наконец не без недоумения взглянул на нее: в ее лице ему почудилось нечто скучливое, усталое и насильно затаенное — словно ей надо высказать что-то, а она не смеет. Иванова кольнуло в сердце нехорошим предчувствием; он осекся в речи, пристальным испуганным взором уставился в лицо девушки и увидел, что и она поняла, что он проник ее состояние, тоже испугалась и также странно на него смотрит. Тогда ему страшно захотелось, чтоб опа раздумала говорить то затаенное, что ей надо и что она не смеет сказать. Но Марья Николаевна уже решилась. Она порывисто встала и оттолкнула кресла. — Нет, так нельзя! — сказала она, ломая свои бескровные белые пальцы. — Я не хочу… я должна сказать прямо… Послушайте! Между нами больше не может быть ничего общего. Не ждите, что наши отношения продолжатся… Я затем и звала вас, чтобы сказать… Вот! Залпом, в один дух высказав все это, она отвернулась к зеркалу и, задыхаясь, стала — без всякой надобности — поправлять свою прическу. Иванов стоял совсем ошеломленный. — Что с тобой, Маня? — жалко улыбнулся он наконец. Она не отвечала. Тогда он побагровел, на лбу его надулась толстая синяя жила, глаза выкатились, полные тусклым свинцовым блеском; он шагнул вперед, бормоча невнятные слова. Марья Николаевна вскрикнула и, обратясь к Иванову лицом, прижалась спиной к зеркальному стеклу. Иванов отступил, провел по лицу рукой, круто повернулся на каблуках и, повесив голову на грудь, зашатал по гостиной с руками, закинутыми за спину. Марья Николаевна следила за ним округленными глазами и со страхом, и с отвращением. Он остановился перед нею. — Давно это началось? — спросил он, глядя в сторону. — Что? — Ну… да вот это! — вскрикнул он нетерпеливо и, не дожидаясь ответа, махнул рукой и опять зашагал. Марья Николаевна растерялась. Когда это началось? — она сама не знала. Не то до, не то после родов. Она помнила только, что, когда в Одессе ей было скучно и больно, ею овладевала тупая, узкая, сосредоточенная тоска, и в эти моменты у нее не было иной мысли, кроме раскаяния в нелепой своей связи. «За что я страдаю и буду страдать?» — думала она, сперва обвиняя себя одну. Как эгоистический инстинкт самооправдания привел ее от нападок на себя к нападкам на Иванова — она не заметила. Взвешивая сумму позора, лжи, болезни и неприятностей, полученных от ее связи, она находила эту сумму слишком большою сравнительно с наслаждением, подаренным ей любовью, — и, с чисто женским увлечением, обостряла сравнение, преувеличивая свои печали и унижая радости. В ней уже не было любви, ни даже страсти, но стыд сознаться себе, что она без любви принадлежала мужчине и скоро будет иметь от него ребенка, не позволял ей ясно определить свои отношения к Иванову. «Да, я люблю… — насильно думала она, — по какая я была дура, что полюбила!» Но после родов — под впечатлением страшного и позднего физического переворота в теле своем — она вся словно переродилась. Удрученная болезнью, она не имела ни времени, ни охоты останавливаться мыслью на чем-либо помимо своего здоровья, а между тем когда она встала с постели, то вопрос ее связи оказался уже непроизвольно решенным, втихомолку выношенным в ее уме и сердце. Она встала с чувством резкого отвращения к прошлому году своей жизни. Ей как-то стало не стыдно теперь думать, что любви не было, — наоборот, казалось, что было бы стыдно, если бы была любовь. Свое падение она считала более или менее искупленным через рождение ребенка и болезнью, и теперь у нее осталось только удивление, как с нею могла сплестись эта связь. «Это безумие, мерзость!» — с отвращением думала она. Василий Иванович стал противен ей по воспоминаниям. Когда она представляла себе его фигуру, лицо, руки, она себе не верила, что это тот самый человек, кому она принадлежала. «Как можно было любить его? И он… как он смел подумать, что я люблю его?» Ей понравилась возможность выгораживать себя в своем падении, распространять свое новое отвращение и па прошлое время, уверять себя, будто Василий Иванович всегда был противен ей, будто она — жертва, взятая силой. И она себя уверила. И беспричинная, и тем более лютая, что беспричинная, злоба к Иванову разгорелась еще сильнее и упорнее. Мало-помалу Марья Николаевна совсем потерялась в море навязанных себе лжей и недоумений. К тому времени, как ехать в Петербург, она окончательно перепутала свой действительный мир с выдуманным, Иванова настоящего — с фантастическим, загубившим ее зверем, которого она боялась, ненавидела, чьи узы надо было с себя сбросить во что бы то ни стало. Когда он вошел к ней, она держала в своем уме образ фантастический, и только страх заставил ее принять поцелуй Иванова; затем через секунду образ фантастический сменился настоящим, страх исчез, остались только отвращение и решимость отвязаться. Тогда-то Марья Николаевна и заговорила, и вышло все, что случилось. Не могла же опа передать всего этого двумя словами, а много говорить она не хотела и боялась, что не сумеет, а потому упорно и тупо молчала, враждебно глядя перед собой. — Послушай, Маня… — возвысил голос Иванов, хрипя и с трудом проглатывая вдыхаемый воздух, — послушай… отчего же это так? Ведь я… я, кажется, ничего не сделал тебе такого, за что бы можно было так круто перемениться ко мне… Марья Николаевна ободрилась: зверь был решительно неопасен! — Да вы — ничего, то есть, по крайней мере… ничего нового… Но я — много. — Ты другого полюбила? — быстро спросил Иванов, бледнея. — Нет… я никого не люблю… Я только много думала и вглядывалась в наши отношения и убедилась, что мы с вами не пара! Иванов молча барабанил пальцами по столу. — Что же так поздно, Маня? — с горечью сказал он, качая головой. — Я ведь такой же, как и был. Я ведь часто тебе говорил, Маня: ты и умница, и красавица, и образованная, а я — что я пред тобою? Сама же ты мне зажимала рот: молчи! я тебя люблю! А теперь, когда я думал, что мы связаны неразрывно, когда у нас есть ребенок… ты теперь вдруг сама разрушаешь нашу любовь… — Не говорите про любовь! Какая любовь? Ее не было! — Как не было? Маня! Что ты? — Никогда, никогда! — Ты не любила меня? — Нет! — Да что же тогда было между нами?! — вскричал он, разводя руками. — Я не понимаю! Ты знаешь, что я всегда смотрел на тебя свято, как — не хвалясь скажу — редкий муж смотрит на жену… а ты говоришь: не было любви! Что же было? — Грязь была… безумие! — Маня! Опомнись, что ты говоришь! Не клевещи на себя! Вспомни, что пред тобой — отец твоего ребенка! Ты мать и, наверное, его любишь! Как же тебе не совестно обижать его, называть его плодом… безумия, то есть, попросту сказать… разврата?.. Красные огоньки забегали в глазах Марьи Николаевны, и кровь прилила к вискам. — Как ты смеешь так говорить? — закричала она. — Я? Я развратная? И это ты сказал? Ты смеешь плевать на меня? Ты, погубивший меня? Ты, кого я не знаю, как проклинать? Ты… подлец! Ты силой взял меня!.. Ай! Она отпрыгнула в соседнюю комнату, потому что Иванов, с почерневшим от бешенства лицом, бросился на нее, крутя над головою сжатыми кулаками. Теперь он был действительно похож на выдуманного Марьей Николаевной зверя. Он догнал ее и, схватив за плечи, толкнул так, что она, перелетев чрез всю комнату, ударилась о стену плечом и упала на колени. — Не лгать! — завопил он. — Слышишь? Все — кроме лжи! Ты сама знаешь, что клевещешь! Я на тебя Богу молился, и я не подлец!.. Ох! Он бросил растерянный взгляд, ища стула, направился было к нему, но вдруг, совсем неожиданно, сел на пол и, всхлипнув, как ребенок, закрыл лицо руками. Марья Николаевна глядела на него мрачно: ей не было его жаль — у нее ныло ушибленное плечо… Гневное негодование Василия Ивановича было слишком правдиво, чтобы спорить с ним, но Марья Николаевна была так возбуждена, что охотно бросила. бы ему в лицо снова свою клевету, если бы не боялась. Наплакавшись, Иванов встал и заговорил тихо и спокойно: — Маня, ты вольна в своих чувствах, конечно, и можешь думать обо мне, как хочешь. Но я все-таки полагаю, что не имею права расстаться с тобою, не передав тебе одного дела. Моя жена наконец согласилась… дает мне развод. Хочешь ты… — Ни за что! — перебила она его резко. — Ни за что! Вы мне ужасны и… противны! Не желайте меня в жены! Вы бы имели во мне врага везде — в обществе, в делах, в кухне, в спальне… — С врагами мирятся, Маня! — Может быть, но я не могу. Она несколько смягчилась и заговорила спокойнее: — Послушайте! Я не знаю, как это случилось, что я почувствовала к вам такое отвращение, по я не могу. Вся моя гордость кипит уже оттого, что я принадлежала вам, а вы хотите, чтобы я была вашей женою! Да меня замучит одно сознание ваших прав на меня, необходимость носить вашу фамилию… Я бы с наслаждением сорвала с себя кожу там, где вы целовали и обнимали меня, а вы хотите, чтобы я жила с вами! — Тогда толковать нечего! Но откуда это? Откуда?.. Послушай… послушайте, Маня, уверены ли вы, что вы вполне здоровы? Марья Николаевна покраснела. Мысль, что ее настроение не совсем нормально, приходила ей самой в голову еще в Одессе, и однажды она без утайки рассказала свое состояние местной медицинской знаменитости, явившись к почтенному эскулапу incognito, под чужим именем. Доктор с любопытством выслушал ее, пожал плечами, развел руками и сказал только: — Бывает! — Значит, я больна? — Да, если только вы считаете, что были здоровы, когда влюбились… — А если нет? — Тогда вы теперь здоровы, а раньше были больны. — Это не ответ, доктор! — Что же я могу еще сказать вам? У вас вон родильная горячка была, да и роды — первые, поздние, трудные… Ведь это не шутки для организма, но буря, коренной перелом-с! Мало ли какие аффекты получаются у выздоравливающих!.. Вы же еще истеричны. — Итак… это временное? — с испугом спросила Марья Николаевна. — Все, что мы испытываем, временно, сударыня. — Мне надо лечиться, следовательно? — Лечиться никогда не лишнее… — Ах, доктор, вы смеетесь надо мною! — И не думаю, и не смею, но я, право, не знаю, что вам сказать. Вы теперь преисполнились отвращением к вашему супругу и полагаете, что больны… — Нет, я думаю, что я здорова! — В таком случае что же мне прикажете делать? Остается поздравить вас с выздоровлением и посоветовать не заболевать вновь… то есть, попросту сказать, не влюбляться… — Но ведь я связана с этим человеком, доктор! Он имеет права на меня! — Ну-с, тут уж я решительно ничем помочь не могу: это вне компетенции моей науки… — Сделайте так, чтоб это прошло! — То есть лечить вас от здоровья и приворотный корень вам дать? Да его в аптеках не обретается. Вот что, сударыня, — последний вам сказ: отправляйтесь-ка вы к своему супругу и поступайте, как вам душа подскажет, как взглянется… Всего вероятнее, что вся эта история, когда нервы замолчат и улягутся, кончится и решится в самую желательную сторону… без всяких трагедий, разрывов и прочего… Ну, а если нет, если не стерпится и не слюбится, ваше дело, как поступить… Лекарствице от нервов я вам пропишу… Имею честь кланяться!.. Марье Николаевне показалось обидным, что ее состояние объясняют аффектом, движимым чисто физическими причинами. Как весьма многие, она резко разделяла свой физический и духовный мир и придавала влиянию тела на душу гораздо меньше значения, чем обратно. Ей стало и противно, и досадно, что ее отвращение к Иванову хотят лечить насильственной близостью к нему же. Эта беседа с доктором вспомнилась ей теперь. Она нахмурилась и ничего не ответила Иванову. Василий Иванович взял в руки свою шляпу и повертел ее в руках. — Теперь последний вопрос, — сказал он, — где мой ребенок? — Здесь, в Петербурге. — Зачем вы привезли его сюда? — Затем, что я его люблю и хочу иногда видать. — Он у кормилицы? — Да. — Я могу его видеть? Марья Николаевна задумалась. — Я не смею отказывать вам в этом праве… вы отец. Но зачем? Я не уступлю вам его! — Да? Вы так привязались к этому… плоду безумия и насилия? — горько упрекнул он. — Да. Мне все равно, как он явился. Я выносила его. Я мать. — Дайте же мне взглянуть на него. Марья Николаевна пожала плечами. — Хорошо. Пойдемте. Я пе успела еще найти квартиру для мамки. Она в меблированных комнатах. — Сейчас идти? — Да. Лучше все кончить сразу, чтобы больше не встречаться… — Пусть будет по-вашему! Четверть часа спустя они вошли в довольно приличные меблированные комнаты. Кормилка, уродливая баба с добрым и глупым лицом, дико оглядела Иванова и, по приказанию Марьи Николаевны, вышла. Ребенок, — здоровый, крепкий, как кирпич, толстый и красный, — лежал на подушках, сложенных на большом мягком кресле. Он спал крепко и с наслаждением, как умеют спать только грудные ребята. — Вот! — сказала Марья Николаевна довольно мягко, с беспредельною ласкою глядя на ребенка. Иванов, обогревшись, чтобы не принести ребенку холода, на цыпочках подошел к подушкам. Умиленное выражение расплылось и застыло у него на лице, просветляя недавнюю печаль. — Можно его поцеловать? — прошептал он. — Проснется… — нехотя отвечала Гордова. Но Василий Иванович уже нагнулся и поцеловал ребенка в лоб. Мальчик сморщил нос, но пребыл в прежнем безмятежном состоянии. — Как вы довезли его двухмесячного? Такой маленький! — Он спокойный. — Мамка эта с самого начала его кормит? — Да. Хорошая женщина. — По лицу заметно. Как же дальше-то с ним быть? — Думаю найти ему помещение… поселить с мамкою. — Прямо в чужие руки? Эх, мальчишка бедный! Он склонился над ребенком… Марья Николаевна сурово посмотрела на него, открыла рот, хотела что-то сказать, но остановилась и, резко отвернувшись, принялась глядеть в сторону. Иванов поднял на нее влажные глаза. — Вы что сказали? — Я ничего не говорила. Хотела только… да лишнее! Он опять обратился к ребенку. Марья Николаевна, в волнении, прошлась по комнате. — Мне так хотелось самой кормить его, — сказала она внезапно. Иванов сочувственно кивнул ей головой. — Нельзя! Незаконный… репутация не позволяет… — раздраженно продолжала она. — Экий бедняк с первого дня рождения!.. И так на всю жизнь… без отца, без матери! Не признаю же я его своим: смелости не хватит… Быть может, когда-нибудь замуж задумаю выйти — кто меня с ним возьмет? Кому он нужен? Несчастная звезда осветила нас с ним! Иванов молчал и все глядел на ребенка. — Он на вас похож… рот что я хотела сказать! — сердито бросила ему Марья Николаевна. — Разве? — радостно проговорил Василий Иванович. — А вы не видите сами? Какая-то новая струнка задрожала в ее голосе. Она сама не знала, что творится с нею; тепло лилось ей в душу из этой детской постельки, умиротворяло ее гнев, ненависть и презрение; голос чувственной брезгливости внезапно замолк. Ей нравилось стоять у изголовья спящего ребенка, нравилось, что Иванов сидит над ним с таким честным, преданным, отцовским лицом; нравилось сознавать, что, пока они двое здесь, ребенок не одинок в громадном свете и не беззащитен. — Что с ним будет! Что с ним будет! — воскликнула она, всплеснув руками. Иванов подошел к ней. — Вы его очень любите, Маня. Я тоже. Она смотрела в землю. — Не женатые и во вражде друг с другом, что мы можем сделать для него, Маня? Погубим. Она молчала. — Выходите за меня замуж, Маня! Пусть я не буду мужем вам, но помогите мне спасти ребенка. Она взглянула на него как спросонья. — Я была неправа… — сказала она тихо. — Когда, Маня? — Погодите… Я говорила, что у нас с вами нет ничего общего… Я ошиблась: надо сказать — не было… теперь есть… Послушайте! Она схватила его за руку. — Простите меня: я, действительно, разлюбила вас… Но мне начинает казаться, что я была неправа, что я не имела права этого делать… и, во всяком случае, не имела права гнать вас… теперь… Мы с вами не подходящие друг к другу люди, но случай ли, другое ли что соединили нас, к сожалению, навсегда. Я мать, вы отец… между нами этот ребенок: чужими мы уже не можем стать; можем стать врагами — чужими нет… — Я тоже думаю, — спокойно сказал Иванов, — когда вы заговорили, что если выйдете за меня, то будете мне врагом, тут я и подумал… — Да… Мы можем ненавидеть друг друга, у нас могут выходить ужасные сцены, а мы все-таки свои… Как это странно!.. Меня удивило, что после нашего объяснения мы так мирно и тихо стоим здесь возле кроватки… Послушайте! Неужели вы можете меня любить после нашего разговора? Василий Иванович задумался. — Право, не знаю, Маня. Прежнего, кажется, не будет, но… я знаю одно: нам нельзя расстаться, — нечестно будет… и я не хочу расставаться. — Долг? — Да… долг и человечность. Она покачала головой. — Ах, что мне делать?! — Выходите за меня замуж, право… Клянусь вам, я не буду докучать вам своей любовью, вы отбили у меня охоту к этому. Даю вам слово: это мое предложение — уже не вам, а нашему мальчику… Нельзя, чтоб он остался без отца и без, матери… Марья Николаевна строго взглянула ему в глаза. — Вы даете мне слово, что не будете предъявлять на меня никаких прав? — Да… до тех пор, пока вы первая не сделаете шага ко мне. Не беспокойтесь: как я ни смирен, у меня есть и характер, и самолюбие… А вы меня очень оскорбили. — Хорошо. Тогда я согласна. Я доверюсь вам. Вот вам моя рука. Она печально улыбнулась. — Сердце, извините, не могу предложить… Оно молчит… — И за то спасибо: еще полчаса тому назад оно кричало против меня… Итак, начинать развод? — Да… — с усилием выговорила Марья Николаевна и, подойдя к окну, стала смотреть в надвигавшиеся петербургские сумерки. «А все-таки не люблю… противно мне… Исполнить долг хорошо… только это никого еще не наградило счастьем… Кончена моя жизнь!.. Прощай молодость», — подумала она, и слезы потекли по ее щекам.МЕРТВЫЕ БОГИ (Тосканская легенда)
На небе стояла хвостатая звезда. Кровавый блеск ее огромного ядра спорил со светом луны, и набожные люди, с трепетом встречая ее еженочное появление, ждали от нее больших бед христианскому миру. Когда комета в урочный час медленно поднималась над горизонтом, влача за собой длинным хвостом круглый столб красного тумана, в ее мощном движении было нечто сверхъестественно грозное. Казалось, будто в синий простор Божьего мира ползет из первобытного мрака свирепый царь его, огненный дракон Апокалипсиса, готовый пожрать месяц и звезды и раздавить землю обломками небесного свода. Комета смущала воображение не только людей, но и животных. Сторожевые псы выли по целым ночам, с тоскливым испугом вглядываясь в нависший над землею пламенный меч и словно пытая: правду ли говорят их хозяева о чудном явлении, точно ли оно — предвестник близкой кончины мира? Светопреставления ждала вся Европа. Булла папы и эдикты королей приглашали верующих к молитве, посту и покаянию, ибо наступающий год, последний в первом тысячелетии по Рождестве Христовом, должен был, по предположению астрологов, быть и последним годом земли и тверди: годом, когда явится предсказанный апостолом ангел и, став одною стопою на суше, другою на море, поклянется Живущим вовеки, что времени уже не будет. Без числа ходили слухи о чудесах и знамениях. В Кремоне видели, на закате, в облаках двух огненных воинов, по виду сарацинов, в бою между собою. В Нанте овца растерзала волка. Жители Авиньона в течение трех часов слышали великий воздушный шум — ярые голоса невидимых ратей и звон оружия. В самом Риме прекрасная принцесса Джеронима Альдобранди, скончавшаяся от изнурительной лихорадки, очнулась, к радости родных, на третий день от смертного сна, встала из гроба и пошла, славя Бога, слушать мессу, заказанную за ее упокой. К страхам вымышленным присоединялись страхи действительные. Землетрясение неутомимою волною перекатывалось по трем полуостровам Средиземного моря, чума бродила по Ломбардии и Провансу, норманцы неистовствовали на западе, мусульмане напирали на Европу с востока и юга. На северо-востоке нарождались славянские государства, еще неведомые, по слышно, что могучие, страшные, грозные. От Атлантического океана до Волги все бродило, как в мехе с молодым вином. Что-то зрело в воздухе, и народам, удрученным переживанием этого брожения, думалось, что зреет недоброе. Для людей, суеверных и утомленных тяжелыми временами, весть о светопреставлении была сигналом потерять голову и превратиться в пораженное паникой стадо. Одни готовили себя к переходу в лучший мир молитвами, вступали в монастыри, бежали в пустыни, горные пещеры и в аскетических трудах, под власяницами, ждали судной трубы архангела. Другие, хотя уверенные в непременном разрушении вселенной, все-таки находили нужным зачем-то составить духовные завещания. Третьи, наконец, впадали в свирепое отчаяние и убивали остаток жизни на пьянство, разврат, преступления. Никогда еще Европа не молилась и не грешила с большим усердием. Боязнь ожидаемого переворота была так велика, что многие предпочитали кончить жизнь самоубийством, лишь бы не быть свидетелями наступающих ужасов Божьего гнева. Равнодушных было очень мало, неверующих презирали и ненавидели. За сомнение в состоявшемся уже пришествии Атихриста побивали камнями. Фанатики клятвенно уверяли, будто Антихрист не только народился, но и воцарился и сидит на римском престоле под видом папы — безбожника, ученого чернокнижника Герберта-Сильвестра. В такое-то время случилось на диком горном пустыре, недалеко от города Пизы, странное происшествие, записанное в монастырских мемориалах под названием: «Дивные и пречудные приключения Николая Флореаса, уроженца славного города Камайоре, оружейных дел мастера и некогда доброго христианина». Николай Флореас был молод и красив собою. Оружейное ремесло закалило его силы, развило ловкость; частое общение с людьми благородного происхождения усвоило Флореасу привычки, вид и обращение его знатных заказчиков и покупателей. Женщины говорили, что нет в Камайоре мужчины, более достойного любви, чем Николай Флореас, даже и между рыцарями герцогского двора. Если бы Флореас жил во Флоренции, Пизе или Сьенне, он, по талантам своим, наверное, сделался бы одним из народных вождей, каких так много создавали гражданские междоусобия средневековой Италии. Они выходили из низших общественных слоев, как Сфорца и Медичи, чтобы потом лет на пятьсот протянуть свою родословную, полную блистательных имен и громких подвигов. Но Николай Флореас был обывателем Камайоре, глухого горного городка, где горожане жили мирно, не делясь на политические партии. Сверх того, он был человек скромный, хотя решительный и способный. Как большинство оружейников, он знал грамоту. Он сочинял сонеты и играл на лютне. В один летний день Николай Флореас окончил кольчатую броню, заказанную ему начальником наемников пизанской цитадели, длинноусым норманном Гвальтье. Взвалив свою ношу на осла, мастер, в сопровождении двух вооруженных Подмастерьев, направился из Камайоре горами в Пизу. Летняя ночь застала Флореаса в дороге. Она упала сразу, черпая и глухая; на аспидном небе зажглись громадные звезды и огненный столп кометы. Напрасно было бы в то дикое, разбойничье время трубить ночью у ворот какого-либо города или замка. Ответом пришельцу свистнула бы туча стрел. Средневековое гостеприимство кончалось с закатом солнца. Пришелец был другом, когда приходил при солнечном сиянии, и врагом после того, как замыкались рогатки и поднимались мосты со рвов, наполненных водою. Флореас и его спутники заночевали на перепутье, у костра, разложенного у ног каменной Мадонны. Боясь ночного нападения, путники решили спать по очереди. Двое, по жребию, спали с оружием в руках, а один бодрствовал на страже. Первый жребий не спать выпал самому Флореасу. Прислонясь к обломку скалы, он беспечно наблюдал медленный ток светил по небесным кругам. Пламя костра играло красными лучами. Развьюченный осел бродил, не отходя далеко от стана, на подножном корму. Флореас слушал звуки горной ночи. Им овладело трогательное настроение, в какое повергает всех впечатлительных людей торжественная тишь спящей пустыни. Но вот внезапно среди величественного безмолвия раздался странный звук. Словно кто-нибудь коротко взял аккорд на церковном органе — взял и бросил. Звук рванулся в воздух и сейчас же заглох. Точно кто-то зарыдал было, но, устыдившись своей слабости, задавил рыдание. Николай Флореас осмотрелся. Он не понимал ни что это за звук, ни откуда он прилетел. Так как звук не повторялся, Флореас решил, что, вероятно, он задремал и, в дреме, обманутые чувства создали этот загадочный аккорд из обычных звуков ночи. Но, когда он, совсем успокоенный, опять прилег к костру, звук снова задрожал в воздухе и — уже яснее и более продолжительно, чем в первый раз: как будто сразу запело несколько арф под перстами искусных менестрелей. Флореас вскочил в волнении. Он знал, что поблизости нет ни одного значительного селения, откуда мог бы примчаться таинственный звук. Трудно было предположить, чтобы по соседству ночевал путевой караван какого-либо синьора со свитою и челядыо, среди которой могли случиться игрецы на арфе. Ночлег Флореаса был расположен па высоте холма: окрестности были видны на далекое пространство, но хоть бы где-нибудь костру оружейника ответил другой костер. Флореас с легкой дрожью подумал единственное, что ему оставалось подумать: что он слышал звуки нездешнего мира. Как человек набожный и мужественный, он не потерялся, а разбудил своих спутников и рассказал, что с ним было. Они не поверили. — Просто ты спал, мастер, и тебе показалось это во сне, — сказали они. Но звук снова налетел из безвестной дали, как волна, и так же быстро, как волна о песок, разбился и растаял в воздухе. — Это скалы поют, — в испуге сказал один подмастерье. — Или дьявол справляет свою свадьбу, — крестясь, прибавил второй. — Друзья мои, — сказал Флореас, — все это может быть, но я не буду спокоен до тех пор, пока не узнаю, откуда эти звуки и зачем они. Поэтому пойдем в ту сторону, откуда они звенят. Но подмастерья наотрез отказались. — Если нам судьба попасть в когти дьявола, — говорили они, — то успеем еще попасть после смерти, а зачем будем лезть к нему живьем? — Тогда я пойду один, — сказал Флореас, — потому что мое желание узнать тайну сильнее меня, и я не могу быть спокоен, пока ее не разрешу. Ждите же на этом месте моего возвращения, а я пойду, куда зовет меня музыка. Подмастерья пришли в ужас и умоляли Флореаса не подвергать себя опасностям ночного пути невесть куда и зачем, но он остался непреклонным. Тогда они пытались удержать его силой. Но Николай Флореас обнажил кинжал и грозил поразить первого, кто осмелится до него коснуться. Подмастерья в страхе отступили; он же воспользовался их замешательством, чтобы исчезнуть в темноте ночи. Флореас долго блуждал во мраке по пустым равнинам и неглубоким оврагам. На небо взбежали тучи. И комета и звезды изменили Флореасу. Он шел, сам не зная куда идет: на север, на запад или на юг, так что если бы он и хотел вернуться к своим подмастерьям, то уже не мог бы. При том всякий раз, как только мысль о возвращении приходила в голову Флореаса, таинственный аккорд, непостижимо увлекший его во тьму пустыни, снова звучал — и с такою силою страсти и страдания, как будто все хрустальное небо разрушалось, со звоном рассыпая осколки на грудь матери-земли. Наконец, Флореас заметил вдали мерцание красной точки — далекого костра или окна в хижине. «Я пойду на этот свет, — подумал Флореас, — я достаточно сделал, чтобы удовлетворить своему желанию; но тайна упорно не дается мне в руки, и я не в силах бороться с невозможным — должен возвратиться. Если это мои спутники, тем лучше; если нет, то авось эти люди не откажут мне в ночлеге и укажут дорогу в Пизу…» Он шел на огонь до тех пор, пока нога его не оступилась с ровной почвы в провал. Путник едва успел откинуться назад, чтобы не сорваться в глубь пропасти. Он уселся на краю обрыва, едва не втянувшего его в свои недра, и стал ждать рассвета. Глядя пред собой, Флореас заметил, что огонек, на который он шел, как будто растет силою пламени… дробится на многие светящиеся точки… Флореас не мог дать себе отчета, что это за огни. Не может быть, чтобы Пиза! Но — если нет — куда же он попал? Видно было, что под ним в глубокой котловине лежит большой город… Выступили из мрака очертания горных вершин; восток побелел; огромная голубая звезда проплыла на горизонте и растаяла в потоке румяного света. Три широких белых луча, разбегаясь, как спицы колеса, высоко брызнули из гор в простор неба… Птицы пустыни тысячами голосов приветствовали утро; пестрые ящерицы проворно скользили по серым камням, в радостной жажде солнечного тепла. Внизу, в долине, еще клубился туман. Но так как теперь Флореас знал, что под его белым покровом спит какое-то жилье, то решил спуститься. Он увидел тропинку-лестницу, вырубленную в скале… Давно никто не ходил по ней: растреснутые, иззубренные временем ступеньки поросли репейником и мареною; длинные ужи, шипя, уползали из-под ног Флореаса; он раздавил своим кованым сапогом не одну семью скорпионов. Солнце встало над горами; туман растаял. Флореас одиноко стоял среди желтой песчаной лощины, сдавленной зелеными горами, и удивлялся: не только города, ни одной хижины не было поблизости… Ветер уныло качал высокие сорные травы… Песок блестел под солнцем… Серело ложе широкой, но совершенно высохшей от летнего зноя реки… Вот и все. В досаде разочарования бродил Флореас по лощине. Он чувствовал себя страшно усталым: о возвращении нечего было и думать. Из шнурка, стягивавшего сборки его кафтана, он сделал пращу и, набрав гладких голышей, убил ими с дюжину мелких пташек пустыни. Обед его был обеспечен. Надо было найти воды. Она журчала неподалеку. Флореас пошел на звук… Ручей тек обильною волною из-под низко нависших ореховых кустов. Флореасу показалось странным слишком правильное ложе потока. Нагнувшись к воде, он увидал, что когда-то ручей был заключен в мраморные плиты: желтоватый гладкий камень еще проглядывал кое-где сквозь густой мох, темным бархатом облепивший дно и стенки источника. Раздвигая цепкие ветви орешника, Флореас пошел вверх по течению и скоро добрался до обширной лесной поляны. На ней в беспорядке громоздились серые громадные камни. Флореас узнавал ступени, обломки карнизов; толстая колонна с отбитою капителью лежала поперек дороги… Посреди поляны возвышалась груда камней в полроста человеческого, похожая па очаг и на надгробный памятник. Осколки мраморного щебня валялись кругом. Ручей тек прямо из-под этой груды, которая, как и его русло, была когда-то обделана в мрамор. Еще виднелись кое-где следы обшивки и испещренной бурыми буквами, давно разрушенной и утратившей смысл надписи. Флореас прочитал. Оружейник оглядел местность и подумал, что расположиться для обеда здесь, на поляне, между зелеными стенами узкого ущелья, приятнее, чем в песчаной пустыне, только что им оставленной. Он устроил костер на древнем памятнике-очаге и, нанизав убитых птиц на гибкий прут, изжарил их над огнем. Синий дым весело поднялся к небу зыбким столбом. Голодный Флореас наскоро съел свой скудный обед, запил водой из ручья… Его сморило сном. Флореас проснулся впотьмах, поздним вечером. Ему очень не хотелось вставать с земли, но он сделал над собою усилие… И, вместе с тем как он поднимал свою еще отягченную сном голову, он видел, как поднимается из праха поверженная колонна. Он бросился к ней — на пей не оставалось ни мхов, ни ракушек, ни плесени: блестящий и гладкий столб красного порфира, гордо увенчанный беломраморным узором капители. Флореас осязал воскресшую колонну, чувствовал ее холод… Десятки таких же колонн с глухим рокотом выходили из-под земли, слагаясь в длинные портики. Дымный и грязный очаг превратился в великолепный жертвенник. Костер Флореаса разгорелся на нем с такою силою, что розовое пламя, казалось, лизало своими острыми языками темное небо и зарево играло па далеких скалах. Цветочные гирлянды змеями взвивались, неведомо откуда, прицеплялись к колоннам и, чуть качаемые ветром, тепло и мягко обвевали Флореаса благоуханиями. Молодой человек понял, что стоит у разгадки тайны, в которую вовлекли его прошлою ночью неведомые звуки. А они, как нарочно, снова задрожали в воздухе, но уже не рыдающие, как вчера, а весело торжествующие. Ущелье сверкало тысячами огней, гудело праздничным гулом тысячеголовой толпы. И голоса, и огни близились к храму. Пред изумленным Флореасом медленно проходили важные седобородые мужи в длинных белых одеждах, украшенные дубовыми венками, и становились рядом налево от пылающего жертвенника, а направо сбирались резвою толпою прекрасные полуобнаженные девы. Их тела были как молоко. Флореасу казалось, что они светятся и прозрачны, как туман, летающий в лунную ночь над водами Арно. Каждая потрясала дротиком или луком; у иных за плечами висели колчаны, полные стрел; многие — сверх коротких, едва закрывших колена туник — были покрыты пестрыми шкурами зверей, неизвестных Флореасу. Нем и недвижим стоял оружейник в широком промежутке между рядами таинственных мужей и дев… Он начинал думать, что попал па шабаш бесов, но никогда не предположил бы он, что бесы могли быть так величавы и прекрасны. Новые огни, новые голоса наполняли храм. Девять жен чудной красоты поднимались по мраморной лестнице, сплетаясь хороводом вокруг мощного юноши, который сиял, как солнце, и блеск, исходивший от его лица, затмевал блеск лампад храма. В руках юноши сверкала золотая лира, и со струн ее летели те самые звуки, что приманили Флореаса. И мужи в белых одеждах, и вооруженные девы упали в прах пред лицом юноши. Остался на ногах только Флореас, но его как будто никто не замечал в странном сборище, хотя стоял он ближе всех к жертвенному огню. Юноша гордо стал пред жертвенником и, радостно простирая руки к огню, воскликнул голосом, подобным удару грома: — Проснись, сестра! Твое царство возвратилось. Радостно зазвенели золотые струны его лиры, и он запел гимн, от которого потряслись скалы, зашатались деревья в ущелье и, как испуганные очи, замигали звезды на небе. Он пел, а вокруг него с криком неслись в пляске его прекрасные спутницы. Мужи в белых одеждах и вооруженные девы подхватили гимн. Схватившись за руки, они оплели жертвенник целым рядом хороводов. У Флореаса кружилась голова от мелькания пляски, звенело в ушах от пения, вопля и грома лиры. Он позабыл все молитвы, какие знал, рука его не хотела подняться для крестного знамения. — Проснись, сестра! — звал юноша. — Встань, царица! Проснись, богиня! — вторила толпа. Вооруженные девы выхватывали из колчанов стрелы и проводили ими глубокие борозды на своих белоснежных челах. Кровь струями текла по их ланитам, они собирали ее в горсть и бросали капли в жертвенный огонь. Пламя раздвоилось, как широко распахнувшийся полог, над жертвенником встало облако белого пара. Когда же оно поредело и тусклым свитком уплыло из храма к дальним горам, па жертвеннике, между двух стен огня, осталась женщина, мертвенно-бледная, с закрытыми глазами. Она была одета в такую же короткую тупику, как и все девы храма, так же имела лук в руках и колчан за плечами, но была прекраснее всех. Строгим холодом веяло от ее неподвижного лица. Мольбы, крики, песни и пляски росли, как буря на море. Пламя сверкало, напрягая свою мощь, чтобы согреть и разбудить мертвую красавицу. Синие жилки, точно по мрамору, побежали под ее тонкою кожей; грудь дрогнула; губы покраснели и зашевелились… и — с глубоким вздохом, будто сбросив с плеч тяжесть надгробного памятника, — она пробудилась от сна. Оглушительный вопль приветствовал ее… Все упали ниц; даже юноша с золотою лирою склонил свою прекрасную голову. Огонь на жертвеннике угас сам собою, а над челом красавицы вспыхнул яркий полумесяц. Он рос и заострял свои рога, и в свете его купалось тело богини, точно в расплавленном серебре. Она водила по толпе огромными черными глазами, мрачными, как сама ночь, под бархатным пухом длинных ресниц. Взгляд ее встретился с взглядом Флореаса, и оружейник почувствовал, что она смотрит ему прямо в душу и что не преклониться пред нею и не обожать ее может разве лишь тот, у кого вовсе не гнутся колена, у кого в сердце не осталось ни искры тепла, а в жилах — ни капли крови. Кто-то дал ему в руки стрелу, и он, в восторженном упоении, сделал то же, что раньше делали все вокруг: глубоко изранил ее острием свой лоб и, когда заструилась кровь, собрал капли в горсть и бросил к ногам богини с громким воплем: — Радуйся, царица! И, в ответ его воплю, среди внезапной тишины, раздался мощный голос, глухо и торжественно вещавший медлительную речь: — Здравствуй, мой светлый бог и брат, царь лиры и солнца! Здравствуйте, мои верные спутницы и слуги! Здравствуй и ты, чужой юноша, будь желанным гостем между нами. Семь веков прошло, как закатилось солнце богов и я, владычица ночей, умерла, покинутая людьми, нашедшими себе новых богов в новой вере. Здесь был мой храм — здесь моя могила. Вымерли мои слуги, прахом рассыпались мои алтари, сорными травами заросли мои храмы, мои кумиры стали забавою людей чужой веры. Жертвенный огонь не возгорался на, моей могиле, я не обоняла сладкого дыма всесожжений. Не могут боги жить без жертв; безжертвенный бог засыпает сном смерти. Я спала в земле, как спят человеческие трупы, как спито все вы, мои спутницы и слуги; я — мертвая богиня побежденной веры, царица призраков и мертвецов! Юноша разбудил меня. Он пришел на таинственный зов, он оживил мой храм и согрел огнем мой жертвенник. Клянусь отцом моим, спящим на вершине Олимпа, — велик его подвиг, и велика будет его награда. Николай Флореас! Хочешь ли ты забыть мир живых и здесь в пустыне стать полубогом среди забытых богов? Хочешь ли ты свободно коротать с нами веселые и торжественные ночи и в вихрях носиться над землею, от льдин великого моря блаженных Гипербореев к слонам и черным пигмеям лесистой Африки? Хочешь ли ты назвать своим братом бога звуков и света? Скажи: хочу! — отрекись от своего мира, и я отдам тебе свою любовь, которой не знал еще никто из богов и смертных. И небо и земля молчали, и ветер не дышал, когда Флореас тихо ответил: — Хочу. Я твой раб, и жизнь моя принадлежит тебе. Пламенем вспыхнули очи богини, радостно дрогнули ее ноздри, громкий крик, похожий на охотничий призыв, вырвался из ее груди. Она сошла с жертвенника и, прямая и трепещущая, как стрела, только что сорвавшаяся с тетивы, приблизилась к Флореасу. Теплые уста с дыханием, пропитанным ароматом животворящей амброзии, коснулись его губ; теплая рука обвила его шею и закрыла ему глаза. Флореас слышал, как богиня отделила его от земли… как они медленно и плавно поднялись в воздух, сырой и прохладный… С шумом, песнями и смехом взвилась за ними вся толпа, наполнявшая храм, ее движение рождало в воздухе волны, как в море… Богиня сняла руку с глаз Флореаса; он увидал себя на страшной высоте; огни храма меркли глубоко внизу. Закрыв глаза, он почти без чувств склонился на плечо богини, пропитанное светом осенявшего ее полумесяца… Как сквозь сон, слышал он охотничьи крики и свист вихря, помчавшего воздушный поезд в безвестную даль. Волосы богини, подхваченные ветром, хлестали его по лицу. — Не бойся! — слышал ее голос Флореас. — Не бойся, супруг мой. Тот, кого я держу в своих объятиях, не должен ничего бояться. Он сильнее природы, она его слуга… Они мчались над широкими реками в плоских берегах, над темными городами с стрелкообразными колокольнями, над тихо шепчущими маисовыми полями, изрезанными сетью мутных каналов, над болотами, окутанными в густую пелену опасных туманов, — направляясь на далекий север, к неприступной стене суровых Альпов. Снежная метель захватила воздушный поезд, потащила его по узким ущельям к сверкающим льдинам глетчера и долго крутила охоту богини по снежным полям. Стадо серн пронеслось так далеко, что Флореасу оно показалось стадом каких-то рогатых мышей. Но богиня бросила стрелу, и стадо рухнуло в внезапно открывшуюся пред ним бездну. — Галло — э! Добыча! Добыча! — закричала богиня. И хохотом, и воплями отвечала ей дикая охота. Гремели рога, выли псы, звенела арфа прекрасного светлого бога. Они спускались к тихим озерам, чтобы поражать проворных выдр, когда они выныривали из-под воды, держа в зубах карпа или щуку. Богиня опрокидывала постройки умных бобров и, когда зверьки темными пятнами ускользали в разные стороны, сыпала в них убийственные стрелы. Потянулись лесистые равнины Германии. Лиственное, море шумело и волновалось от веяния волшебного полета. Ноги Флореаса скользили по вершинам столетних дубов. Мохнатые зубры, ветворогие лоси, лани с кроткими глазами, привлеченные блеском полумесяца на челе великой охотницы, выбегали на лесные прогалины и метались, оглашая ночную тишь мычанием и блеянием. Им отвечали в кустарниках голодные волки, испуганные медведи жалобно рыкали в глубоких берлогах. Но стрелы богини падали, как дождь, и, когда поезд дикой охоты улетал, рев и вой животных сменялся зловещею тишиною кладбища. Запах крови поднимался от леса. Богиня жадно впивала его, раздувая ноздри, привычные к жертвенным ароматам. Глаза ее сверкали, как у тигрицы, впускающей когти в оленя. Она казалась двуногим зверем, но зверем сверхъестественным, в котором соединялись и самое возвышенное и самое ужасное существа животного мира: зверь — самый хищный и самый красивый, самый кровожадный и самый величественный, самый жестокий и самый обаятельный. Пред нею надо было трепетать, но нельзя было не восторгаться ею и не поработиться ей всей душой. Под обаянием ее взгляда Флореас кричал так же, как она,вместе с нею рассыпал смертоносные стрелы, с тем же наслаждением впивал одуряющий запах потоков крови, обозначавших страшный путь дикой охоты по северным лесам. Они мчались над Рейном, великою рекою чудес. Флореас видел, как в его волнах сверкали золотые клады, хранимые лебедиными девами, слышал, Как грохотали водопады, как в медных замках храпели их глупые властелины, свирепые великаны. Из щелей в береговых скалах выползали рудокопы-гномы и дивились дикой охоте, задирая головы до тех пор, пока красные шапочки свалились с макушек. Ушей Флореаса коснулся грозный шум морского прибоя. Морские валы рвались в устье, побеждая силу течения реки-великана. На сотни миль кругом кипело седыми валами Северное море — угрюмое, холодное, с бурою водою под белесоватым небом, море-враг, море-чудовище. Восток бледнел, звезды меркли и уходили за водную равнину. — Домой! Домой! — звала богиня. Голос ее звучал резко и печально, как голос ночной птицы, зачуявшей близость утра. У Флореаса заняло дыхание от усиленной быстроты полета. В промежутках головокружения он едва успел заметить, как длинною вереницею вились за поездом тени убитых зверей. Но чем больше белел восток, тем бледнее становились эти тени: то один, то другой призрак из свиты богини исчезал, сливаясь с утренними облаками. Тише раздавались охотничьи крики и хохот, замолк звон золотой лиры, потускнел венчавший богиню полумесяц. И только она сама оставалась неизменно прекрасною и сильною. Так же мощно, но еще нежнее и доверчивее прежнего, обнимала ее рука плечи Флореаса; то огнем восторженного возбуждения, то туманом неги покрывались ее обращенные к нему глаза… Они опустились в таинственный храм, откуда несколько часов тому назад унес их поезд дикой охоты. Флореас остался один с богинею — пред ее опустелым жертвенником-могилой. Беспокойным взором обвела она окрестные вершины; в сизых облаках уже дрожали золото и румянец близкой зари… И Флореас в последний раз услыхал голос богини; — Мой день кончен… теперь — любовь и сон. Когда весь мир спит, встаем и царствуем мы, старые, побежденные боги, и умираем, когда живете вы… Мой день кончен… теперь — любовь и сон. Приди же ко мне и будь моим господином!.. Солнце роняло на землю отвесные лучи полудня. Флореас в задумчивом оцепенении сидел среди безобразных груд разрушенного храма. Он не разбирал, что было с ним ночью: сон ли ясный, как действительность, или действительность, похожая па сон. Да и не хотел разбирать. Он понимал одно: что судьба его решена, что никогда уже не оторваться ему от этого пустынного места, одарившего его такими страшными и очаровательными тайнами… Если даже это были только грезы, то стоило забыть для них весь мир и жить в них одних. Только бы снова мчаться сквозь сумрак ночи в вихре дикой охоты, припав головою к плечу богини, и на рассвете снова замирать в ее объятиях сном, полным видений любви и смерти. Так, полный сладких воспоминаний, в близком предчувствии бурных наслаждений новой ночи, сидел он и не замечал медленно текущего жаркого дня, уставив неподвижный взор на остатки жертвенника, где явилась вчера богиня. И загадочные буквы, растерянные по обломкам разрушенной надписи, теперь открывали ему свой ясный смысл — радостный смысл верного обетования:Hic jacet Diana Dca Inter mortuos viva Inter vivos mortua.
«Здесь покоится богиня Диана, живая между мертвыми, мертвая между живыми». Подмастерья Флореаса, добравшись до Пизы, рассказали, как таинственно пропал их хозяин. Не только Камайоре, но и все соседние городки приняли участие в поисках за без вести исчезнувшим оружейником, но их труд был напрасен. Тогда судьи доброго города Камайоре решили, что Флореас и не думал пропадать, а просто его убили подмастерья и зарыли где-нибудь в пустыне. Бедняков бросили в подземную темницу с тем, чтобы, если Флореас не явится в годовой срок со дня своего исчезновения, повесить подозреваемых убийц на каменной виселице у городских ворот. К счастью для невинных, незадолго до конца этого срока синьор Авеллано да Виареджио, гоняясь за диким вепрем, попал, вместе со всею своею свитой, в ту же трущобу, что поглотила молодую жизнь Николая Флореаса. Пробиваясь сквозь бурелом, кустарники и скалы, охотники наткнулись на одичалого человека в рубище, обросшего волосами, с когтями дикого зверя. Он бросился рт людей, как от чумы, однако его догнали и схватили. Напрасно рычал он, боролся и кусался, напрасно хватался за каждый камень, за каждое дерево, когда понял, что его хотят увлечь из пустыни. Дикаря привезли в Виареджио, насильно остригли и вымыли, и знакомые с ужасом узнали в нем Николая Флореаса. Приор нагорной обители босоногих капуцинов в Камайоре дал приют несчастному оружейнику в тюремной келье, приставив к нему двух дюжих служек. Но в первую же ночь стражи-караульщики убежали от кельи, перепуганные бурным вихрем и странными голосами. Неведомо откуда налетели они в монастырскую тишь и, то рыдая, то смеясь, звали к себе Флореаса. А он, между тем, безумно бился в своей келье, как птица в клетке, и отвечал на призывы незримых друзей такими воплями, как будто с него с живого сдирали кожу. В следующую ночь сам приор был свидетелем этого чуда, против которого оказались бессильными заклинательные молитвы и святая вода. Тогда стало ясно, что Флореас — чародей, и решено было, пока не наделал он беды и соблазна христианскому миру, сжечь его, во славу Божию, по законам страны и церковному уставу, огнем на торговой площади доброго города Камайоре, в праздник Святой Троицы, после обедни. До самого праздника Святой Троицы жил Флореас в монастыре, ночью буйствуя и пугая братию дьявольским наваждением, а днем тихий, кроткий и молчаливый. Он снова выучился понимать человеческую речь и изредка обменивался словами со своими стражами. Когда ему объявили его участь, он равнодушно выслушал приговор и даже улыбнулся: такова была его вера в могущество помогавшего ему беса. Разум его не всегда был затемнен, и монастырскому врачу, кроткому брату Эджицио из Фьезоле, удалось выпытать у грешника, как вступил он в союз с обольстившим его бесом. Каковой рассказ Фра Эджицио и записал смиренномудро в монастырский мемориал на страх и поучение всем добрым христианам о коварных кознях и обольщениях неустанного отца всякого греха и лжи, вечно зло деющего сатаны. Совершив откровенное признание, колдун Флореас стал хиреть и чахнуть и умер в канун дня Святой Троицы, назначенного ему милосердием властей, дабы он мог очистить огненною смертью тяжкий грех союза с адом, взятый им на свою погибшую душу. Но дьявол, коварный враг всякого доброго начинания, не допустил своей жертвы до спасительного костра и задушил Флореаса в ночи. Так что поутру стражи, пришедшие за колдуном, нашли в келье только холодный труп его, который, по благому рассуждению приора и городских судей, был возложен на костер пред очами вполне благочестивых граждан города Камайоре. Когда же тело колдуна обратилось в пепел, внезапно, при тихой погоде и солнечном дне, налетел жестокий вихрь и, разметав костер, умчался в горы, к ужасу всех присутствующих господ, дам и всякого звания народа, которые не усомнились, что в оном вихре незримо прилетал за душою покойного Флореса погубивший его своими обольщениями дьявол.
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ

СВЯТОЙ САТИР
Consors paterni luminis, Lux ipse lucis et dies, Noctem canendo rumpimus, Assisto postulantibus; Aufer tenebras mentium; Fuga catervas daemonum; Expelle somnolentiam, Ne pigritantes obruat. (Breviarium romanum. Feria tertia; ad matutinum)[14]Фpa Мино превосходил смирением своих братьев и, несмотря на молодость, мудро управлял обителью Санта-Фиора. Он был набожен, любил предаваться долгим созерцаниям и молитвам. Иногда бывали у него экстазы. Подобно святому Франциску, своему духовному отцу, сочинял он песни на языке простонародном о совершенной любви, которая есть любовь к Богу. И эти гимны не погрешали ни против размера, ни против смысла, потому что он учился семи «artes liberales» в Болонском университете. Однажды вечером, гуляя под аркадами монастыря, Ми-по вдруг почувствовал, как его сердце наполнилось смятением и печалью при воспоминании об одной флорентийской даме, которую он некогда любил, в цвете первой юности, когда одеяние св. Франциска еще не охраняло его плоти. Он обратился к Богу с молитвой, прося отогнать грешный образ. Но сердце его осталось печальным. «Колокола, — подумал он, — поют, как ангелы: Ave Maria; но голос их умирает в вечернем тумане. На стене монастыря художник, которым прославился город Перуджия, изобразил искусно святых Жен-Мироносиц, созерцающих с несказанной любовью гроб Спасителя. Но сумерки застилают их слезы, заглушают их плач, и я не могу рыдать вместе с ними. Этот колодезь посереди двора только что был покрыт голубями, прилетавшими напиться, но они улетели, не найдя воды в углублениях каменной ограды. И моя душа, о, Господи, безмолвствует, подобно колоколам, омрачается, подобно Женам-Мироносицам, иссыхает, подобно колодцу. Зачем же, Иисусе сладчайший, сердце мое так сухо, мрачно и немо, когда Ты для него — и заря, и пение птиц, и ключ живой воды?» Он убоялся вернуться в келью и, думая, что молитва рассеет печаль и успокоит тревогу, вошел через дверь монастыря в общую церковь. Немой мрак наполнял здание, построенное великим Маргаритоном более ста пятидесяти лет тому назад на развалинах древнего римского капища. Фра Мино, пройдя церковь, стал на колени в часовне алтаря, посвященной Архангелу Михаилу, чье повествование изображено было на стене. Но тусклый свет лампады, подвешенной к своду, не позволял видеть Архангела, сражающегося с дьяволом и взвешивающего на весах души людей. Только луна, сияя в окно, озаряла бледным лучом гробницу св. Сатира, которая находилась под аркадой, справа от алтаря. Эта гробница, продолговатая и круглая, наподобие чана, была более древней, чем церковь, и во всем походила на языческие саркофаги, за исключением креста, который высечен был трижды на ее мраморных стенах. Фра Мино долго лежал, простертый ниц перед алтарем, но не мог молиться и в середине ночи почувствовал, что им овладевает то оцепенение, которое удручало Христовых учеников в саду Гефсиманском. И между тем, как он лежал, недвижимый, лишенный всякого мужества И бдительности, он увидел как бы некое белое облако, подымавшееся над гробом св. Сатира, и скоро заметил, что это большое облако состояло из множества меньших, и каждое из них было женщиной. Они реяли в темном воздухе; сквозь легкие туники блистали легкие тела; среди них были козлоногие юноши, которые преследовали женщин. В наготе их видна была страшная необузданность желаний. Но нимфы убегали, и под их быстрыми шагами рождались цветущие луга и ручьи. И каждый раз, как юноша с козлиными ногами протягивал руку, чтобы схватить одну из них, вдруг вырастала ива и скрывала нимфу в дупле, глубоком и черном, как пещера, и белокурая листва наполнялась легким шелестом и насмешливым хохотом. Когда все женщины спрятались в ивах, то козлоногие, усевшись на траве, стали играть на тростниковых дудках, извлекая такие звуки, которые могли бы повергнуть в смущение всякую тварь. Нимфы, очарованные музыкой, выставляли головы из ветвей и, мало-помалу покидая тенистые убежища, приблизились, привлекаемые непобедимою свирелью. Тогда люди-козлы бросились на них со священною яростью. В объятиях дерзких юношей нимфы еще одно мгновение пытались шутить и смеяться. Потом смех умолк. Закинув голову, с глазами, мутными от блаженства и ужаса, они призывали своих матерей, или кричали: «я умираю!», или сохраняли грозное молчание. Фра Мино хотел отвернуть лицо свое, но не мог, и против воли глаза его остались открытыми. А нимфы, обвивая руками чресла козлоногих, кусали, ласкали, раздражали косматых любовников и, предаваясь им, облекали, обливали их своею плотью, более волнующейся и живою, чем вода ручья, который у ног их струился под ивами. При таком зрелище Фра Мино намерением и мыслями впал в грех. И пожелал он быть одним из демонов — полулюдей, полузверей, чтобы держать, подобно им, на своей груди флорентийскую даму, которую он некогда любил, в цвете своей юности, и которая умерла. Но люди-козлы уже рассеялись в полях. Одни собирали мед в дуплистых дубах, другие делали из тростника свирели или, с разбега прыгая один на другого, стукались рогатыми лбами. И неподвижные тела нимф, нежные останки любви, покрывали весь луг. Фра Мино стонал, лежа па каменных плитах, потому что желание было в нем так сильно, что теперь он уже чувствовал весь стыд греха. Вдруг одна из нимф, случайно обернувшись в его сторону, закричала: — Человек! Человек! И пальцем указала на него подругам. — Посмотрите, сестры, ведь это — не пастух. У него пет тростниковой свирели. Оп и не хозяин одного из окрестных владений, чьи крохотные сады, повисшие на склоне холмов, над виноградниками, охраняются богом Приапом, выточенным из букового дерева. Что же он делает среди нас, если он не пастух, не погонщик быков, не садовник? Он имеет вид мрачный и суровый, и я не замечаю в его взорах любви к богам и богиням, населяющим великое небо, и леса, и горы. На нем одежда варваров. Может быть, это — скиф. Приблизимся к чужестранцу и узнаем, не пришел ли он к нам как враг — чтобы возмутить наши источники, срубить наши деревья, проникнуть в недра гор, открывая жестоким людям тайну наших блаженных обителей. Пойдем, Мнаис, пойдем, Эгле, Нэера и Мелибея! — Пойдем, — отвечала Мнаис, — с оружием! — Пойдем! — воскликнули все вместе. И Фра Мино увидел, что, поднявшись, они начали срывать и собирать розы пригоршнями и приблизились к нему, вооруженные розами и шипами. Но расстояние, отделявшее их и казавшееся ему сперва таким ничтожным, что, по-видимому, он мог прикоснуться к ним и чувствовать на своем теле их дыхание, вдруг стало увеличиваться, и ему показалось, что они идут как из далекого леса. И угрозы вылетали из их цветущих уст. И по мере того, как они подходили, перемена совершалась в них. И с каждым шагом теряли они частицу своей прелести и своего блеска, и цвет их юности увядал так же, как розы, которые они держали в руках. Сначала глаза впали, углы губ опустились. Шея, недавно чистая и белая, покрылась глубокими складками, и пряди седых волос упали на морщинистый лоб. Они подходили, и веки глаз краснели, и губу, втягиваясь, морщились на беззубых деснах. Они подходили, держа сухие розы в руках, почернелых и узловатых, как старые лозы, сжигаемые поселянами Кианти в зимние ночи на кострах. Они подходили с трясущейся головой, прихрамывая на дряхлых ногах. Достигнув того места, где Фра Мино оцепенел от ужаса, они окончательно превратились в страшных ведьм, лысых и бородатых, с носом до подбородка, с пустыми и повисшими сосцами. Они столпились над ним. — О, какой хорошенький! — молвила одна. — Он бледен, как полотно, и сердечко бьется у него, как у зайца, затравленного гончими. Эгле, сестрица, что же нам делать с ним? — Милая Нэера, — отвечала Эгле, — следует разорвать ему грудь, вынуть сердце и вложить губку. — Нет, нет! — сказала Мелибея. — Это было бы слишком жестокое наказание за любопытство и удовольствие подсматривать наши игры. На этот раз не будем так строги. Посечем его только розгами. И тотчас, окружив монаха, сестры засучили ему одежду на голову и стали сечь связками колючих шипов, оставшихся у них в руках. Нэера дала им знак остановиться, когда показалась кровь. — Довольно! — сказала она. — Это — мой милый! Я только что заметила, как он посмотрел на меня с нежностью. Она улыбнулась: такой длинный и черный зуб выставился изо рта, что он щекотал ей ноздри. Она шептала: — Приди ко мне, Адонис! Потом вдруг, с бешенством: — Что это? Не хочет? Он холоден? Какая обида! Он презирает меня. Сестры, отомстите! Мнаис, Эгле, Мелибея, отомстите за вашу подругу! При этом воззвании все подняли колючие розги и стали сечь несчастного Фра Мино так жестоко, что скоро тело его превратилось в сплошную язву. Они останавливались на мгновение, чтобы откашляться и плюнуть, и потом опять, с еще большим усердием, принимались бить его. Перестали, только совсем выбившись из сил. Тогда Нэера сказала: — Надеюсь, в следующий раз он не окажет мне незаслуженного презрения, от которого я до сих пор краснею. Пощадим ему жизнь. Но если он откроет тайну наших игр и наслаждений, мы умертвим его. До свидания, красавчик. Молвив так, старуха присела над монахом и облила его зловонною жидкостью. Все подруги поочередно сделали то же, потом вернулись одна за другою к гробнице св. Сатира и проникли в нее сквозь узкую щель крышки, покинув жертву, распростертую в зловонной луже. Когда исчезла последняя, петух пропел. Фра Мино очнулся и встал. Разбитый усталостью и болью, оцепенелый от холода, дрожа в лихорадке, полузадушенный отвратительным запахом, он поправил одежду и доплелся до своей кельи на рассвете. С этой ночи Фра Мино не находил нигде покоя. Воспоминание о том, что ему довелось видеть в часовне Сан-Микеле, над гробом св. Сатира, смущало его среди служб церковных и благочестивых занятий. Объятый трепетом, сопутствовал он своим братьям, когда они вступали в храм. И между тем, как, по правилам, он должен был целовать каменные плиты в часовне, губы его чувствовали с ужасом следы нимф, и он шептал: «Спаситель, или не слышишь Ты, что я говорю Тебе, как Ты сам говорил Отцу своему: Не введи нас во искушение!» Сначала думал он послать владыке-епископу отчет обо всем виденном. Но по зрелом размышлении счел за лучшее сперва самому на досуге рассудить о необычайных явлениях и поведать их миру, обследовав все в точности. К тому же случилось тогда, что владыка-епископ, вступив в союз с гвельфами Пизы против гибеллинов Флоренции, вел войну с таким жаром, что за целый месяц ни разу не развязал ремней своей железной брони. Вот почему, не говоря ни с кем, Фра Мино произвел глубокие изыскания о гробе св. Сатира и о часовне, в которой этот гроб находился. Искушенный в премудрости книжной, перелистывал он страницы древних и новых писателей, но нигде не находил указаний. Однажды утром, проведя, по своему обыкновению, всю ночь в работе, пожелал он утешить сердце свое прогулкою в полях и пошел по горной тропинке, которая, извиваясь среди виноградных лоз, висевших гирляндами между вязами, вела к миртовой и оливковой роще, называемой римлянами в былые времена священною. Погружая ноги в мокрую траву, освежая чело каплями росы, падавшими с остролистых гордовин, Фра Мино долгое время шел по лесу, как вдруг заметил источник, над которым тамарисы, тихо колебали легкую листву и пух своих розовых кистей. Ниже, в том месте, где ручей расширялся, виднелись неподвижные цапли. Маленькие птицы пели в миртовых ветвях. Благоухание влажной мяты подымалось от земли, и в траве блистали те самые цветы, о которых Господь сказал, что царь Соломон во славе своей не одевался так, как каждый из них. Фра Мино сел на мшистый камень и, хваля Бога, начал размышлять о тайнах, заключенных в природе. Так как воспоминание о том, что он видел в часовне, никогда его не покидало, то он сидел, сжимая лоб руками, в тысячный раз обдумывая, что означает этот сон. «Потому что такое видение, — говорил оп себе, — должно иметь некоторый смысл, должно иметь даже несколько смыслов, которые следует открыть или внезапным наитием, или точным применением правил схоластики. И я полагаю, что в этом частном случае поэты, которых я изучал в Болонье, как, например, Гораций-сатирик или Стаций, должны бы оказать мне также немалую помощь, так как многие истины примешаны к их басням». В течение долгого времени, взвешивая в уме своем такие мысли и другие, еще более утонченные, Фра Мино поднял, наконец, глаза и заметил, что он — не один. Прислонившись спиною к дуплистому стволу древнего каменного дуба, некий старец смотрел в небо сквозь листву и усмехался. Над его седой головой возвышались два маленьких притупленных рога. Курносое лицо обрамляла белая борода, и сквозь нее виднелись мясистые наросты на шее. Жесткие волосы щетинились на груди. Ляжки были покрыты косматою шерстью, и ноги кончались раздвоенным копытом. Приложив губы к тростниковой свирели, извлек он слабые звуки. Потом запел чуть слышным голосом:
Засмеялась, убежала, Гроздья спелые кусая. Но, обвив се руками, Поцелуем в алых губках Раздавил я виноград!
Увидев и услышав это, Фра Мино сотворил крестное знамение. Но оно ничуть не смутило старика, который остановил на монахе лукавый взор. Среди глубоких морщин лица его голубые и прозрачные глаза блестели, как вода источника между корнями старых дубов. — Человек или зверь, — воскликнул Фра Мино, — повелеваю тебе именем Господа Иисуса Христа, скажи, кто ты! — Сын мой, — ответил старик, — я — св. Сатир! Но говори тише, чтобы не спугнуть птиц. Фра Мино продолжал менее громким голосом: — Старик, так как ты не бежал от святого и страшного знамения крестного, то я не могу допустить, чтобы ты был демоном или духом нечистым, вышедшим из ада. Но если ты, как утверждаешь, — воистину человек или, лучше сказать, душа человека, освященного трудами праведной жизни и благодатью Господа нашего Иисуса Христа, то объясни мне — прошу тебя — чудо твоих козлиных рогов и волосатых ног, которые кончаются черным и раздвоенным копытом. При этом вопросе старик поднял руку свою к небу и сказал: — Сын мой, природа людей, животных, растений и камней есть тайна бессмертных богов, и я не более, чем ты, знаю, почему мой лоб украшен рогами, вокруг которых нимфы обвивали некогда цветочные гирлянды. Я не знаю, зачем на шее моей эти мясистые наросты и почему мне даны ноги отважного козла. Я могу тебе только поведать, сын мой, что в былые дни в этих лесах были и жены, которые имели так же, как я, рога на лбу и косматые икры. Но груди у них были белые и круглые. Их чрева, их бедра блистали гладкою кожей. Солнце, тогда еще молодое, любило сквозь листья осыпать их золотыми стрелами. Они были прекрасны, сын мой! Увы, с тех пор они исчезли из лесов — все до единой. И мои товарищи погибли так же, как они; и вот я — последний из моего племени… Я очень стар. — Старик, скажи мне, сколько тебе лет и кто твои родители, и где твоя родина? — Сын мой, я родился из земли гораздо ранее, чем Юпитер низверг с престола Сатурна, и глаза мои видели цветущую молодость мира. Тогда род человеческий еще не создан был из глины. И со мною одни сатирессы в хороводных плясках ударяли о звонкую землю раздвоенным копытом. Они были большего роста, силы и красоты, чем нимфы и женщины; и чресла их, более широкие, обильно принимали семя первенцев земли. В царство Юпитера нимфы поселились в родниках, горах и лесах. Фавны соединялись с ними в легкие хороводы в глубине лесов. Между тем я жил, счастливый, услаждаясь вволю и кистями дикого винограда, и устами веселых подруг моих. Я вкушал от мирного сна в глубокой траве. Я пел на сельской флейте хвалу Юпитеру после Сатурна, потому что душе моей свойственно прославлять богов, властителей мира. Но увы! и я состарился, ибо я — только бог, и века посеребрили волосы на голове и на груди моей, века потушили жар моих чресл. Я уже обременен был столетиями, когда умер Великий Пан и Юпитер, испытывая ту же участь, на которую некогда обрек Сатурна, низвергнут был с престола Галилеянином. С тех пор я влачил такие жалкие дни, что, наконец, умер и положен был во гроб. И, в самом деле, я теперь лишь собственная тень. Если я еще немного существую, то только потому, что ничто но исчезает и никому не дано умереть до конца. Смерть но более совершенна, чем жизнь. Существа, потерянные в океане мира, подобны волнам, которые, как ты можешь видеть, о, дитя мое, подымаются и опускаются в море Адрии. Нет у них ни конца, ни начала, они рождаются и погибают неуловимо. Неуловимо, как они, умирает и душа моя. Бледное воспоминание о сатирессах золотого века еще оживляет глаза мои, и на устах витают древние гимны бесшумно. Он сказал и умолк. Фра Мино взглянул на старика и увидел, что он — только призрак. — Что ты рожден козлоногим, — ответил он ему, — не будучи, однако, демоном, я, пожалуй, могу допустить. Твари, созданные Богом и лишенные им участия в наследии Адама, не могут ни спастись, ни быть осужденными. Я не думаю, чтобы кентавр Хирон, который мудростью превосходил всех людей, обречен был на вечные муки в пасти Левиафана. Некий старик, проникнувший в царство теней, утверждает, что он видел Хирона, сидящим на злачных лугах и беседующим с Рифеем, справедливейшим из троянцев. Другие же уверяют, что райские врата открылись Рифею-Троянцу. И сомнение дозволено по этому предмету. Но, тем не менее, ты солгал, странник, утверждая, что ты — святой, ты, который не рожден человеком. Козлоногий ответил: — Сын мой, в юности моей я не более лгал, чем овцы, чье молоко я сосал, чем козлы, с которыми я бодался, радуясь своей силе и красоте. В те времена ничто не лгало, и тогда еще не умели красить лживыми красками шерсть овец. И душа моя с тех пор не изменилась. Видишь, я — наг, как в золотые дни Сатурна. И на уме моем нет никаких покровов так же, как и на теле. Нет, я не лгу. И почему же ты удивляешься, сын мой, что я сделался святым пред лицом Галилеянина, не будучи рожден от той матери, которую одни называют Евою, другие Пиррою и которую должно чтить под обоими именами? Св. Михаил тоже родился не от женщины. Я его знаю, и мы иногда беседуем с ним. Он рассказывает мне о тех временах, когда был пастухом быков на горе Гарган… Фра Мино прервал сатира: — Я не могу позволить, чтобы св. Михаила называли пастухом быков за то, что он некоторое время охранял, стада человека по имени Гарган на горе того же названия. Но расскажи мне, старик, как сделался ты святым? — Слушай, — ответил козлоногий, — и любопытство твое будет удовлетворено. Люди, пришедшие с Востока, возвестив в сладостной долине Арно, что Галилеянин низверг с престола Юпитера, срубили дубы, на которых поселяне вешали маленьких богинь из глины и заповедные таблички из воску, и водрузили кресты над священными родниками, и запретили пастухам приносить в пещеры нимф дары из вина, молока и ячменных лепешек. Племя фавнов, панов и сильванов почувствовало себя оскорбленным такою несправедливостью. В,гневе своем восстали они на возвестителей нового бога. Ночью, когда проповедники спали на своих ложах из сухих листьев, нимфы, подкрадываясь, дергали их за бороду, и молодые фавны, проникая в стойла святых мужей, выщипывали волосы из хвоста их ослицы. Тщетно пытался я обезоружить злобу братьев и советовал им покориться. «Дети мои, — говаривал я, — время легких игр и лукавого смеха прошло». Неосторожные не послушали меня. И беда постигла их. Но я, видевший, как царство Сатурна кончилось, находил естественным и справедливым, чтобы и Юпитер погиб в свою очередь. Я с покорностью ждал падения великих богов. Я не противился вестникам Галилеянина и даже оказывал им маленькие услуги. Зная лучше их лесные тропинки, я собирал ежевику и ягоды терновника и клал их на свежие листья у входа в пещеры, где обитали святые мужи. Я предлагал им также яйца ржанки. И если они строили хижину, таскал на плечах ветви и камни. В награду они окропили мою голову водою и благословили меня во имя Христа Иисуса. Я жил с ними, подобно им. Тот, кто их любил, любил и меня. Я участвовал в почестях, воздаваемых им, и святость моя казалась равной их святости. Я сказал тебе, сын мой, что в те времена я был уже очень стар. Солнце едва могло согреть мои оцепенелые члены. И я был подобен дряхлому дуплистому дереву, потерявшему свой певучий, зеленый венец. Каждая новая осень ускоряла мое разрушение. Однажды, в зимнее утро, нашли меня распростертым без движения на краю дороги. Епископ, сопутствуемый иереями и народом, совершил надо мной похоронный обряд. Потом меня положили в большую гробницу из белого мрамора, отмеченную трижды крестным знамением с именем Святого Сатира, начертанным на передней стене, в гирлянде виноградных кистей. В те времена, сын мой, гробницы воздвигались вблизи дорог. Моя находилась в двух тысячах шагов от города, по дороге во Флоренцию. Молодая чинара выросла на могиле и покрыла ее тенью, пронизанной солнцем, полной нения птиц, ропота, свежести и радости. Вблизи журчал родник по дну, покрытому зеленою жерухой, — и туда приходили отроки и девушки, чтобы вместе купаться. Это очаровательное место было священным. Молодые матери приносили маленьких детей и заставляли прикоснуться к мрамору саркофага для того, чтобы они получили силу и красоту во всех членах. Таково было верование, распространенное в народе, — что новорожденные, которых приносили на мою могилу, должны были превзойти других людей здоровьем и мужеством. Вот почему ко мне приводили цвет благородного тосканского племени, приводили также и ослиц своих поселяне, в надежде, что я сделаю их плодовитыми. Память мою чтили. Каждый год, с возвращением весны, приходил епископ в сопровождении клира и совершал молебствие над моим телом, и я видел, как издалека, сквозь травы лугов, приближаясь, блестело шествие с крестами и свечами, с пунцовым балдахином, с пением псалмов. Все это происходило, сын мой, во времена доброго царя Берендея. А между тем сатиры и сатирессы, фавны и нимфы влачили жизнь бездомную и жалкую. Больше не было для них ни алтарей из свежего дерна, ни цветочных гирлянд, ни жертвоприношений из молока, муки и меда. Разве только, изредка, козий пастух положит тайно маленький сыр на пороге священного грота, заросшего колючими шипами и терновником. Но и эту скудную пищу поедали белки и дикие кролики. Нимфы, обитательницы лесов и темных пещер, были изгнаны проповедниками, пришедшими с Востока. Бедные сельские боги уже не находили приюта в священных лесах своих. Хоровод косматых сатиров, некогда ударявших звонкою ногою о материнскую землю, превратился в облако бледных и безгласных теней, влачившихся по склонам холмов, подобно утренней мгле, которую солнце рассеивает. Пораженные гневом Божиим, как бы яростным ветром, призраки эти кружились днем в пыльных вихрях по дорогам. Ночь была для них немного менее враждебной. Ночь не всецело принадлежит Богу Галилейскому. Он разделяет власть над нею с демонами*. Когда тень спускалась с холмов, фавны и фавнессы, нимфы и паны садились на корточки, прижимаясь к саркофагам, обрамлявшим дороги, и здесь, под сладостными чарами темных сил, вкушали покой ненадолго. Прочим гробницам предпочитали они мою, как могилу почтенного прадеда. Скоро соединились они все под тою частью мраморного карниза, которая, восходя на юг, не была покрыта мхом и всегда оставалась сухою. Туда неизменно каждый вечер прилетало их легкое племя, как стая голубей в голубятню. В этом уголке им нетрудно было всем найти место, потому что они сделались маленькими и подобными пустому зерну, вылетающему из веялки. Я сам, выходя из моего тихого убежища, садился среди них под сенью мраморных черепиц и пел им слабым голосом о веке Юпитера и Сатурна, и воспоминались им прежние радости. Под взорами Дианы изображали они друг перед другом свои древние игры, и запоздалому путнику казалось, что туман в долине под луною принимает формы, подобные телам соединяющихся любовников. И в самом деле, они были теперь легким туманом. Холод причинял им много вреда. Однажды ночью, когда снег покрыл поля, нимфы Эглея, Нэера, Мнаис и Мелибея проникли сквозь щели мрамора в темное, тесное убежище, в котором я обитал. Их подруги толпою последовали за ними, и фавны, кинувшись в погоню за нимфами, скоро настигли их. Мой дом сделался их домом. Мы никуда не выходили из него, только разве на прогулку в лес, когда ночь была тиха и ясна. Но с первым криком петухов спешили вернуться домой. Ибо ты должен знать, сын мой, что из всего рогатого племени, мне одному позволено являться на этой земле при свете дня. Таково преимущество, дарованное моей святости. Гробница моя, более, чем когда-либо, внушала почтение жителям окрестных селений, и каждый день молодые матери приносили мне грудных детей, которых они подымали голых на руках своих. Когда сыновья св. Франциска пришли в это место и построили монастырь на склоне холма, то они испросили разрешения у владыки епископа перенести в монастырскую церковь мою гробницу, чтобы там хранить ее. Владыка соизволил, и вот с большою пышностью я был перенесен в часовню св. Михаила, где доныне покоюсь. Мое семейство, выросшее в полях, последовало за мною. Мне оказали немалую честь. Но, признаюсь, я все-таки жалел о моем прежнем месте на большой дороге, где я видел ранним утром поселянок, которые несли на голове корзины с виноградом, фигами и демьянкой. Время не утешило меня, и мне все еще хотелось бы лежать под платанами на Священной Дороге. Такова моя жизнь, — добавил старый сатир, — опа протекает смеющаяся, сладкая и тайная через все века. Если некоторая скорбь примешивается к радости, значит, на то — воля богов. О, сын мой, воздадим хвалу богам, владыкам вселенной! Фра Мино в течение некоторого времени пребывал в раздумьи. Потом он сказал: — Теперь я понимаю смысл того, что видел в ту греховную ночь в часовне св. Михаила. Тем не менее, одна подробность остается темною. Скажи мне, старик, почему нимфы, которые живут с тобою и предаются фавнам, превратились в отвратительных старух, приблизившись ко мне? — Увы, мой сын, — ответил св. Сатир, — время не щадит ни людей, ни богов. Боги, бессмертны только в воображении недолговечных людей. На самом же деле, они также чувствуют тяжесть времени и склоняются с течением столетий к неотвратимому упадку. Нимфы стареют, как и женщины. Нет розы, которая не превратилась бы в терн. Пет нимфы, которая не превратилась бы в ведьму. Любуясь забавами моего маленького семейства, ты должен был видеть, как воспоминание о прошедшей юности делает прекрасными фавнов и нимф в минуту страсти, как жар воскресшей любви воскрешает их увядшую прелесть. Но тотчас же опять обнаруживается разрушительное действие веков. Увы! Увы! Племя нимф отцвело и одряхлело. Фра Мино задал еще вопрос: — Старик, если это правда, что ты достиг блаженства неисповедимыми путями, если это правда, хотя оно и кажется нелепым что ты — святой, то как же ты живешь в гробнице с этими тенями, которые не умеют хвалить Бога и которые оскверняют блудодейством дом Господень? Отвечай, старик! Но святой козлоногий, без ответа, тихо рассеялся в воздухе. Сидя на мшистом камне над источником, Фра Мино обдумывал слышанные речи и находил в них, среди глубокого мрака, неожиданные проблески. — Этого святого Сатира, — размышлял он, — можно сравнить с древнею Сибиллой, которая во времена ложных богов возвещала народам Спасителя. Тина старинной лжи еще прилипла к его козлиным копытам, но чело уже озаряется светом, и уста исповедуют истину. Так как тень буков уже удлинялась на траве холмов, то монах встал с камня и спустился по узкой тропинке, которая вела в монастырь сыновей св. Франциска. Но он не смел глядеть на цветы, спавшие на водах, потому что они напоминали ему нимф. Он вернулся в келью в тот час, когда колокола звонили Ave Maria. Она была маленькая и белая: все убранство состояло из ложа, скамьи и одного из тех высоких аналоев, которые употреблялись для писания. На стене нищенствующий брат изобразил некогда во вкусе Джиотто святых жен у подножия Креста. Под этою фрескою, на деревянной полке, темной и лоснившейся, как доски точил, стояли книги, из коих одни были священные, другие — светские, так как Фра Мино изучал древних поэтов для того, чтобы воздавать хвалу Господу во всех делах человеческих и благословлял Вергилия за то, что он предрек пришествие Спасителя в том знаменитом стихе, которым Мантуанец возвещает народам: Jam redit et Virgo. На подоконнике из фаянсовой вазы грубой работы подымалась лилия на тоненьком стебле. Фра Мино любил читать имя Марии Девы, начертанное на ее белых лепестках золотою пылью. Очень высокое открытое окно было узко, но из него виднелось небо над лиловыми холмами. Затворившись в этой сладостной могиле своей жизни и своих желаний, Мино присел к узкому аналою с двумя наклонными дощечками, за которыми он имел обыкновение писать. И здесь, обмакивая тростник в чернильницу, прикрепленную сбоку к ящику, в котором хранились пергамент, кисти, трубочки с красками и золотой порошок, он попросил мух именем Господа Бога не досаждать ему и начал записывать точный рассказ обо всем виденном и слышанном в часовне св. Михаила в нехорошую ночь, а также в этот самый день, в лесу, на берегу источника. Справа начертал он па пергаменте следующие строки: «Вот повествование о том, что Фра Мино, ордена нищенствующих братьев, видел и слышал, записанное для поучения верных. Во славу Иисуса Христа и блаженного, нищего угодника Господня, Святого Франциска. Аминь». Потом изложил письменно по порядку, ничего не пропуская, все, что видел: и то, как нимфы превратились в колдуний, и как старик с рогами беседовал с ним в лесу голосом, подобным последнему вздоху древней свирели и первым звукам священной арфы. Между тем, как он писал, — птицы щебетали, ночь подкралась, и прелестные краски дня потухли. Монах зажег лампаду и продолжал писать. Рассказывая о чудесах, коих он был свидетелем, Фра Мино в то же время изъяснял их значение прямое и духовное по всем правилам схоластики. И подобно тому, как башнями и стенами окружают города, чтобы их укрепить, так и он подтверждал свои доказательства изречениями, заимствованными из Священного Писания. И он вывел следующие заключения из этих необычайных явлений: во-первых, что Иисус Христос есть Господь и Владыка всякой твари земной и что он есть Бог сатиров и фавнов так же, как людей. Вот почему св. Иероним видел в пустыне кентавров, которые исповедывали имя Христа; во-вторых, что Бог открыл язычникам некоторые проблески истины для того, чтобы они могли спастись. Вот почему Сибиллы, как, например, Кумекая, Египетская и Дельфийская, предвозвещали во мраке неверия Ясли, Бичи, Тростниковый Скипетр, Терновый Венец и Крест. Вот почему также Августин Сибиллу Эритрейскую допускает в Град Господен. Фра Мино возблагодарил Бога, открывшего ему эти тайны. Великая радость наполнила сердце при мысли, что и Виргилий также находится среди избранников Божиих. И он начертал с веселием в конце последнего листа: «Вот апокалипсис брата Мино, нищего во Христе. Я видел святое сияние на рогатом челе Сатира, как предзнаменование милосердия Господня, исторгшего из пламени ада мудрецов и поэтов древности». Была уже поздняя ночь, и Фра Мино прилег на постель, чтобы несколько отдохнуть. Когда он начинал уже дремать, в окно влетела старая женщина в лунном луче. Он узнал в ней самую страшную из ведьм, которых видел в часовне св. Михаила. — Дружок мой, — сказала она, — что ты наделал? Ведь мы предостерегали, я и мои милые сестры, чтобы ты не открывал наших тайн. Ибо, если ты предашь нас, — мы задушим тебя. А мне тебя жаль, потому что я люблю тебя с нежностью! Она обняла его, назвала своим небесным Адонисом, своим маленьким, белым осликом и ласкала его пламенными ласками. Но увидев, что он отталкивает ее с отвращением, сказала: — Дитя мое, ты презираешь меня, потому что веки мои красны, ноздри мои изъедены острым, зловонным дыханием и в деснах моих остался единственный зуб, черный и громадный. Правда, что такова ныне — Нэера твоя. Но если ты только полюбишь меня, я сделаюсь тобою и для тебя снова тем, чем была в золотые дни Сатурна, когда юность моя цвела в цветущей юности мира. О, мой отрок, мой бог, ведь это любовь делает прекрасным все. Чтобы возвратить мне красоту, тебе нужно только немного храбрости. Ну же, Мино, будь смелее! При этих словах, сопровождаемых движениями, Фра Мино, объятый ужасом и омерзением, ослабел и соскользнул с постели на каменный пол своей кельи. И между тем, как монах падал, ему показалось, что оп видит сквозь веки, уже полураскрытые, нимфу совершенной прелести, голое тело которой обливало его, как пролитое молоко. Мино проснулся при ярком свете дня, совершенно разбитый падением. Листья пергамента, которые он исписал ночью, покрывали аналой. Он перечел их, сложил, запечатал собственною печатью, спрятал под одежду и, не заботясь об угрозах, дважды повторенных ведьмами, отнес эти разоблачения владыке-епископу, дворец которого высоко подымал зубцы свои посредине города. Он застал его в большом зале в то время, как владыка надевал шпоры, окруженный ландскнехтами. Ибо первосвященник вел войну с гибеллинами Флоренции. Епископ спросил монаха, за какою надобностью он пришел, и когда узнал, то пригласил тотчас же прочесть ему донесение. Фра Мино повиновался. Владыка-епископ выслушал чтение до конца. Что касается до призраков, то он не имел об этом предмете особенно точных сведений, но был исполнен пламенною ревностью к величью церкви. Не медля ни одного дня, несмотря на военные заботы, поручил он двенадцати знаменитым докторам теологии и канонического права исследовать дело, чтобы они поскорее дали свое заключение. По зрелом размышлении, допросив неоднократно Фра Мино, доктора пришли к тому выводу, что должно открыть гробницу св. Сатира в часовне св. Михаила и произнести над нею самые сильные очистительные заклятия. Относительно догматических вопросов, поднятых Фра Мино, они не пришли к определенному заключению, склоняясь, однако, к тому, что доказательства францисканца слишком смелы, легкомысленны и необычайны. Согласно с решением докторов и по изволению владыки-епископа, гробница св. Сатира была открыта. В ней нашли горсть пепла, которую священники обрызгали святою водой. И тогда из могилы поднялся белый пар, и в нем послышались тихие стоны. Ночью, после совершения этого обряда, Фра Мино приснилось, что ведьмы, наклонившись над его ложем, вырывают ему сердце. Он встал на рассвете, мучимый острою болью и пожираемый жаждой. Дотащился до монастырского колодца, в котором пили голуби. Но только что омочил губы в воде, наполнявшей углубление по краям колодца, как почувствовал, что сердце у него в груди распухло, подобно губке, и, прошептав: «Господи!», пал бездыханным.
ЛЮБОВЬ СИЛЬНЕЕ СМЕРТИ (Итальянская новелла)
Флорентийские граждане старого рода Альмьери с незапамятных времен принадлежали к двум благородным цехам: одни чтили покровителя мясников св. Антония, другие имели на своем знамени изображение овцы и занимались шерстяным промыслом. Подобно предкам, к этим цехам принадлежали братья Джиованпи и Маттео Альмьери. Джиованни торговал мясом на Старом Рынке —Мегcato Vecchio. У Маттео были шерстобойные мельницы вниз по течению Арно. Покупатели охотно заходили в мясную лавку Джиованни не только потому, что здесь можно было найти свежие окорока, нежных молочных телят и жирных гусей, но и потому, что хозяина любили за веселый нрав и за острый язык. Никто не умел перекинуться такою меткою шуткою со случайным прохожим, соседом или покупателем, как мясник Альмьери, никто не говорил с такою свободою о всех делах подлинного мира — дипломатических ошибках флорентийской республики, намерениях турецкого султана, происках французского короля и неожиданной, по-видимому, беспричинной, беременности соседки-вдовы, которая в последнее время слишком часто повадилась ездить в монастырь к достойным братьям-чертозианцам. Впрочем, редко кто обижался на шутки мясника, и он приводил в свое оправдание старинную пословицу: «Шуткой добрый сосед не порочится, а язык на шутке как бритва точится». Не таков был брат Маттео, шерстобой. Человек себе на уме, ласковый, всегда немного угрюмый и молчаливый, вел он дела свои лучше, чем беспечный и добродушный Джиованни, и каждый год два корабля Маттео, нагруженные шерстяными товарами, отправлялись из Ливорнской гавани в Константинополь. Замыслы имел он высокие и честолюбивые, смотрел на торговлю как на путь к должностям государственным, всю жизнь льнул к аристократам, «жирному народу» — popolo grasso, как их называли во Флоренции, и питал надежду возвысить род Альмьери, быть может, предать имя его крылам бессмертной молвы. Часто убеждал Маттео младшего брата бросить мясную торговлю, как недостаточно для них почетную, и присоединить свои деньги к его, Маттео, собственному обороту. Но Джиованни не соглашался и хотя уважал и ценил «тихоню» брата за ум — втайне побаивался его и если не говорил, то думал: «Мягко стелет, жестко спать». Однажды в жаркий день, воротившись из лавки усталый, плотно по своему обыкновению поужинав и напившись холодного греческого вина, Джиованни почувствовал себя дурно, слег, и с ним сделался удар, который был тем опаснее, что мясник имел тучное телосложение и короткую шею. В ту же ночь оп отдал душу Богу, не успев приобщиться св. Тайне и составить духовное завещание. Вдова, монна Урсула, женщина скромная, добродетельная, но недалекого ума, доверила торговые дела мужа брату Маттео, умевшему ее обойти вкрадчивыми и тихими речами. Он убедил простодушную женщину в том, что покойный, благодаря легкомыслию, оставил свои счетные книги в беспорядке, умер накануне разорения и что необходимо, если она желает спасти остаток имущества, прекратить торговлю и закрыть мясную лавку на Mercato Vecchio. Злые языки утверждали, будто бы этот «продувной тихоня» Маттео безбожно обманул вдову, чтобы, согласно своему давнему желанию, отвести всю воду из торгового оборота Джиованни на колеса шерстобойных мельниц. Как бы то ни было, но с этого времени дела Маттео сильно пошли в гору, и он стал отправлять ежегодно из Ливорно в Константинополь уже не два, а целых пять или шесть кораблей, нагруженных превосходною тосканскою шерстью. Через несколько лет ему обещали выгодное и почетное место знаменосца Льняного Цеха — именитого флорентийского Arte di Lana. Вдове брата великодушно выдавал он небольшое ежемесячное вспомоществование, так что монне Урсуле приходилось жить, во многом себе отказывая и терпя лишения, тем более что на руках ее осталось единственное и нежно любимое дитя, молодая дочь по имени Джиневра, а в те времена во Флоренции таких женихов, которые не зарились бы на приданое, было столь же мало, как и теперь. Но благочестивая монна Урсула не падала духом, усердно молилась всем святым Божьим угодникам, в особенности же св. Антонию, неустанному и горячему заступнику мясников как в сей жизни, так и в будущей, питала надежду, что Господь, защитник вдов и сирот, пошлет ее дочери-бесприданнице доброго и достойного мужа, и имела тем больше права рассчитывать на это, что Джиневра отличалась редкою красотою. Трудно было поверить, чтобы у этого толстого и неуклюжего балагура Джиованни могла родиться дочь, одаренная такою нежною прелестью. Джиневра всегда одевалась в простые и темные ткани, но сквозь вырез па груди ее виднелась в мелких сборках рубашка тонкого «ренского» полотна, и вокруг ее прелестной шеи, немного худощавой и длинной, как у всех флорентинских девушек, обвивалась жемчужная нить, на которой висела древняя камея из хризолита с изображением кентавра. Светлые бледно-золотистые волосы были покрыты кисеей, опускавшейся до середины лба, такою прозрачною, что можно было сквозь нее различить красивую прическу, состоявшую из множества тонко и тщательно заплетенных косичек, сложенных кругообразно или узорами, подобными то листьям винограда, то листьям папоротника. Бледное и кроткое лицо Джиневры было похоже на лицо той Мадонны, написанной Филиппо Липпи для флорентипской Бадии, Непорочной Девы, которая является в пустыне св. Бернарду и нежными, бледными, как воск церковных свечей, длинными пальцами перевертывает листы его книги. В детских губах, в спокойном печальном взоре, в высоко поднятых, едва очерченных бровях Джиневры было выражение той же непроницаемой для зла, бесконечной невинности. И хотя от нее веяло утренним холодом и свежестью монастырской лилии, вся она казалась непрочною, недолговечною, слишком тонкою и хрупкою, как бы не созданной для жизни. Когда по улицам Флоренции дочь мясника Альмьери шла в церковь, скромная, тихая, с опущенными глазами, с молитвенником в руках, — веселые юноши, спешившие на пир или охоту, останавливали коней, лица делались важными, шутки, смех умолкали, и почтительными взорами долго провожали они прекрасную Джиневру. Дядя Маттео, слыша похвалы добродетелям племянницы, вознамерился выдать ее замуж за человека не первой молодости, но всеми уважаемого, имевшего связи с тогдашними правителями города — Альбиццы, одного из секретарей флорентийской республики, мессэра Франческо дельи Аголанти. Это был великий знаток латинского языка, излагавший канцелярские донесения и бумаги торжественным слогом Тита Ливия и Саллюстия, — нрава несколько сурового и нелюдимого, но зато безукоризненно честного, напоминавший древнего римлянина; у него и лицо было похоже на лицо сенатора времен республики, и одеваться оп умел в длинное, со многими складками, платье флорентинских чиновников из темно-красного сукна, как в настоящую римскую тогу. Он так страстно любил древнюю письменность, что когда в Тоскане распространилась мода на греческий язык и в studio — тогдашнем университете — стал объяснять грамматику приезжий из Константинополя ученый византиец Эммануил Хризолорас, то мессэр Аголанти не постыдился, несмотря на свой почтенный возраст, уже будучи секретарем флорентийской республики, сесть рядом с мальчиками па школьную скамью и начать с азбуки изучение греческого языка, в котором достиг немалых знаний, так что читал в подлиннике и «Органон» Аристотеля, и диалоги Платона. Словом, лучшей и более выгодной родни не мог себе представить хитрый шерстобой с честолюбивыми замыслами. Маттео обещал дать за своей племянницей хорошее приданое под условием, чтобы мессэр Аголанти соединил свое имя и герб с именем и гербом Альмьери. Наперекор, однако, всем этим многочисленным и явным достоинствам жениха своего Джиневра долго противилась намерениям дяди, и свадьбу откладывали с года на год. Когда же Маттео потребовал скорого и решительного ответа, она объявила, что есть у нее другой жених, более любезный сердцу, и, к немалому изумлению, даже испугу благочестивой монны Урсулы, назвала ей имя мессэра Антонио дэ Рондинелли. Это был молодой и довольно бедный ваятель, державший боттегу свою, или мастерскую, с немногими учениками в одном из тесных переулков, недалеко от Ponte Vecchio. Антонио познакомился с Джиневрой в доме ее собственной матери: несколько месяцев назад попросил он позволения вылепить из воска голову молодой девушки, желая воспользоваться красотою Джиневры, знаменитою среди флорентинских ваятелей и художников, для резной иконы св. великомученицы Варвары, которая была ему заказана богатым монастырем в окрестностях города. Монна Урсула не могла отказать ваятелю в столь благочестивом деле, и во время работы художник полюбил свой прекрасный образец, как некогда Пигмалион Галатею. Затем встречались они на городских праздниках и зимних посиделках, куда хозяева всегда были рады пригласить Джиневру, ибо она могла служить украшением всякого праздника. Когда монна Урсула, робко и вежливо извиняясь, попробовала сообщить дяде Маттео, что у Джиневры есть другой жених, любезный ее сердцу, и назвала мессэра Антонио дэ Рондинелли, шерстобой, хотя втайне сильно разгневался, принял смиренный и ласковый вид и, обращаясь к монне Урсуле, так повел свою речь тихим голосом: — Мадонна, если бы собственными ушами не слышал я того, что вы мне только что изволили сказать, — никогда не поверил бы я, чтобы такая добродетельная и благоразумная женщина обратила какое-либо внимание на легкомысленную прихоть неопытного ребенка. Не знаю, как теперь, но в мое время молодые девушки и заикнуться не смели о выборе жениха, покорствуя во всем воле отца или попечителя. Подумайте, в самом деле, кто такой этот мессэр Антонио, которого племянница моя почтила своим выбором? Неужели вам неизвестно, что скульпторами, живописцами, поэтами, актерами и уличными певцами делаются люди, которым ничего лучшего не остается и которые не умеют заняться никаким, более почетным и выгодным, промыслом. Это народ самый легкомысленный и ненадежный, какой только можно встретить на белом свете: пьяницы, распутники, лентяи, безбожники, сквернословы, расточители своего собственного и чужого имущества. Что же касается мессэра Антонио, конечно, вы должны были слышать о нем то, что все во Флоренции говорят и что мне известно не менее, чем кому-либо другому, а потому только напомню вам об одном обычае этого юноши — о круглой корзине, которая висит у него в мастерской на шнурке, перекинутом через блок, так что один конец веревки привязан к корзине, другой к железному гвоздю, вбитому в стену. В эту корзину Антонио бросает, не считая, все деньги, какие заработает. И каждый, кто пожелает, будь то ученик или знакомый, может прийти, опустить корзину на блоке, не спрашивая хозяина, взять столько, сколько нужно — медных, серебряных или золотых монет. Не думаете ли вы, мадонна, что я доверю мои деньги, приданое, обещанное вашей дочери, такому безумцу? Но это еще не все: известно ли вам, что мессэр Антонио питает в мыслях своих гнусное, посеянное дьяволом, безбожие эпикурейской философии, не ходит в церковь, смеется над святыми таинствами и не верит в Бога? Добрые люди рассказывают, что он более поклоняется мраморным обломкам мерзостных языческих идолов, соблазнительных богов и богинь, которых нынче стали откапывать из-под земли, нежели благодатным мощам и чудотворным иконам святых Божьих угодников. Также слышал я от других людей, достойных не меньшего доверия, что в своей боттеге по ночам вместе с учениками рассекает он человеческие трупы, купленные за немалую цену у больничных сторожей, для того чтобы, как он говорит, изучать анатомию, строение человеческого тела, нервы и мускулы, и таким образом усовершенствоваться в своем искусстве, а на самом деле для того, полагаю, чтобы угодить помощнику и советнику своему, исконному врагу нашего спасения, дьяволу, который наставляет его в искусстве черной магии. Ибо уж, конечно, не какими-либо иными средствами, а только чарами, колдовством и бесовским наваждением овладел этот еретик сердцем вашей невинной дочери. Такими и подобными речами дядя Маттео устрашил монну Урсулу и убедил ее во всем, в чем ему было угодно. Когда мать объявила Джиневре, что дядя, в случае решительного отказа ее выйти замуж за мессэра Франческо дельи Аголанти, отнимет у них ежемесячное содержание и таким образом ей, монне Урсуле, на старости лет грозит нищета, — молодая девушка, полная несказанного горя, покорилась своей участи и выразила согласие исполнить волю дяди. В этот год Флоренцию постигло великое бедствие, предсказанное многими астрологами на том основании, что в небесном знаке, Скорпиона Сатурн чрезмерно приблизился к Марсу. Некоторые купцы, приехавшие с Востока, в больших тюках драгоценных индейских ковров привезли чумную заразу. Устроено было торжественное церковное шествие по улицам с пением жалобных miserere, с чудотворным образом Богоматери Импрунеты, предносимой клиром архиепископу. Стали издавать законы, воспрещавшие свалку нечистот в городской черте, заражение вод Арно разлагающимися отбросами кожевенных заводов и скотобоен, принимать меру для отделения больных от здоровых. Под страхом денежной пени, тюремного заключения, в некоторых случаях и смертной казни, запрещено было оставлять в домах умерших в течение дня — до заката, в течение ночи — до восхода солнечного, хотя бы родственники утверждали, что смерть произошла не от чумы, а от какой-либо другой болезни. Город обходили дозором особые надсмотрщики, имевшие право во всякое время дня и ночи стучаться в двери, спрашивать, нет ли больных или мертвых, производить обыски. Всюду появлялись просмоленные страшные дроги, в дыму факелов, в сопровождении молчаливых людей в масках и черных одеждах, пропитанных дегтем, с длинными крюками, которыми они издалека, чтобы не заразиться, хватали чумные трупы, подымали и сваливали на дроги. Ходили слухи, что эти люди, которых народ называл «черными дьяволами», забирали не только мертвых, но и умирающих, для того чтобы лишний раз не возвращаться на то же место. Зараза, начавшаяся в конце лета, продолжалась до поздней осени, и зимние холода, наступившие в тот год очень рано, не прекратили ее. Вот почему те из достаточных людей, которые не связаны были важными делами, спешили покинуть Флоренцию, удаляясь в загородные виллы, где воздух был чище и здоровее. Дядя Маттео, боясь всевозможных случайностей и не рассчитывая на долгую покорность племянницы, торопил свадьбу под тем предлогом, что монне Урсуле с дочерью следует поскорее уехать из города, а мессэр Франческо дельи Аголанти предлагает увезти Джиневру вместе с ее матерью, взяв отпуск тотчас же после свадьбы, в свою прелестную загородную виллу на склонах Монте Альбано. Так желал мессэр Маттео, так и было решено. Свадьбу назначили через несколько дней и скромно, без всякой пышности, как прилично было в столь печальные дни, совершили обряд. Под венцом Джиневра стояла бледная, как полотно, и лицо ее выражало страшное спокойствие. Но дядя надеялся, что эти девичьи прихоти как рукой снимет после свадьбы и что мессэр Франческо сумеет заслужить любовь молодой жены. Надеждам его не суждено было оправдаться: когда новобрачная, выйдя из церкви, вступила в дом своего мужа, с нею сделалось дурно, и она упала замертво. Сначала думали, что Джиневра в глубоком обмороке, стали приводить ее в чувство, но глаза не открывались, дыхание ослабевало, кожа на лице и всем теле покрылась смертельною бледностью, члены похолодели, и когда, несколько часов спустя, позвали докторов (в то время их звали неохотно, опасаясь, чтобы не распространился слух, что в доме зараза), они приложили зеркало к бездыханным губам Джиневры и на нем не могли заметить влажного следа от дыхания, то все, пораженные невыразимою скорбью и состраданием, убедились в том, что это — не мнимая, а настоящая смерть. Соседи говорили, что Бог наказывает Альмьери за то, что они сыграли свадьбу в такое непозволительное время, и что молодая жена мессэра Франческо, только что вернувшись из церкви после венчания, заболела чумою и умерла. Слухи эти могли распространяться тем легче, что родственники девушки, опасаясь посещения «черных дьяволов», до последней минуты скрывали от всех обморок и смерть Джиневры. Но к вечеру пришли надсмотрщики, которым соседи не преминули донести обо всем, что происходило в доме Альмьери, и стали требовать, чтобы родственники выдали тело Джиневры или немедленно его похоронили; когда же, после долгих переговоров, им дали хорошую взятку, они согласились, чтобы тело усопшей оставалось в доме мессэра Франческо никак не долее, чем до вечера следующего дня. Впрочем, в смерти Джиневры никто из родных уже не сомневался, кроме ее старой няни, на которую не обращали внимания, полагая, что она выжила из ума и заговаривается. Старуха с жалобными причитаниями молила не хоронить умершей, уверяя, что доктора ошибаются, что Джиневра не умерла, а спит, и утверждала, что, прикладывая руку к сердцу своей голубки, она «чует, как оно бьется слабо-слабо — слабее, чем крыло ночной бабочки». Прошел день, и, так как молодая девушка не подавала признаков жизни, ее одели в саван, положили в гроб и отнесли в соборную церковь Санта Репарата. Склеп, сухой и просторный, выложенный гладкими тосканскими кирпичами, находился в углублении между двумя дверями церкви, па одном из так называемых кладбищенских двориков (avello), под тенью высоких кипарисов, среди усыпальниц благородных семейств Флоренции. За эту могилу, по мнению некоторых, слишком роскошную для дочери мясника, Маттео Альмьери заплатил большие деньги, взятые, впрочем, из приданого самой Джиневры. Отпевание совершили торжественно. Восковых свечей не жалели, и нищим роздано было на поминовение души усопшей по мере ячменной крупы и масла оливкового каждому на полсольди. Несмотря на холод и страх чумы, много народу собралось на похороны; некоторые, даже незнакомые, слыша горестный рассказ о смерти новобрачной, не могли удержаться от слез и повторяли нежный стих Петрарки:Morte bella parea nel suo bel viso.
Смерть казалась прекрасной на ее прекрасном лице. Мессэр Франческо произнес над гробом речь, с цитатами не только латинскими, но и греческими из Платона и Гомера, что было тогда новостью, и многим слушателям, даже не понимавшим по-гречески, нравилось. Смятение произошло только в конце похорон, когда гроб вынесли из собора и поставили в склеп для последнего целования. Бледный человек в траурном шелковом плаще подошел к покойнице и, откинув кисейную дымку с лица ее, стал глядеть на него пристальным взором. Его попросили отойти, заметив, что ему, «как чужому», непристойно подходить к усопшей ранее, чем с нею простятся родные. Когда бледный человек услышал, что его называют «чужим», а дядю Маттео и мессэра Франческо «родными», он горько усмехнулся, поцеловал мертвую в уста, опустил дымку на лицо ее и отошел, не сказав ни слова. В толпе стали перешептываться, указывая на него, называя мессэра Антонио дэ Рондинелли, возлюбленного Джиневры, из-за которого она умерла. Наступили сумерки, и, так как обряд похорон был копчен, толпа разошлась. Монна Урсула желала провести ночь у гроба, но этому воспротивился дядя Маттео, ибо она была так истощена горем, что опасались за ее жизнь. В склепе остался только фра Марьяно, доминиканец, который должен был читать молитвы над покойницей. Прошло несколько часов; в тишине ночи раздавался мерный голос монаха и порою медленный, медный бой часов на колокольне, «кампанилле» Джиотто. После полуночи фра Марьяно почувствовал жажду, вынул из кармана флягу треббианского и, закинув голову, отхлебнул несколько глотков с наслаждением, как вдруг почудился ему тихий вздох. Он внимательно прислушался; вздох повторился, и на этот раз ему показалось, что легкая кисея на лице покойной шевельнулась. Холод ужаса пробежал по спине его, но так как он был не новичок в этом деле и хорошо знал, что даже привычным людям ночью, наедине с мертвым телом, всякое мерещится, решил ни на что не обращать внимания, перекрестился и зычным голосом продолжал читать молитвы. Прошло еще несколько времени. Вдруг голос монаха оборвался, лицо вытянулось — он окаменел, вперив открытые глаза в лицо покойницы: теперь уже не вздох, а слабый стон вылетел из уст ее; фра Марьяно в этом более не сомневался, ибо видел, как медленно подымалась и опускалась грудь усопшей, колебля кисейный покров, — она дышала. Крестясь, дрожа всеми членами, бросился он к двери и выскочил из склепа. Опомнившись на свежем воздухе и подумав опять, что ему померещилось, он прошептал несколько раз Ave Maria, вернулся к двери и заглянул в склеп; в то же мгновение крик ужаса вырвался из груди его: мертвая сидела в гробу с открытыми глазами. Фра Марьяно пустился бежать без оглядки через кладбище, через площадь Баптистерия Сан-Джиованни, по улице Рикасоли — только деревянные сандалии, «цокколи» монаха, стучали, отбивая дробь по обледенелой кирпичной мостовой. Джиневра Альмьери, проснувшись от сна или обморока, подобного смерти, с недоумением оглядывала могилу. При мысли, что ее заживо похоронили, ужас овладел сю, она сделала отчаянное усилие, вылезла из гроба и, кутаясь в саване, вышла в дверь, отворенную монахом, — на кладбище, потом на площадь перед собором. Сквозь быстрые, разорванные ветром облака падал свет луны, и в нем белела мраморная колокольня Джиотто. Мысли Джиневры путались, голова кружилась: ей казалось, что колокольня вместе с нею уносится в лунные облака, и она не могла понять, живая она или мертвая, во сне все это происходит или наяву. Не сознавая, куда идет, прошла она несколько пустынных улиц, увидела знакомый дом, остановилась, подошла к двери и постучала. Это был дом дяди Маттео. Шерстобой, несмотря на поздний час, не ложился, ожидая нарочного с известием о двух торговых кораблях, возвращавшихся из Константинополя. Ходили слухи, что буря недалеко от Ливорнского побережья разбила множество фелукк и больших флорентинских галер, так что дядя Маттео опасался, чтобы среди них не потерпели крушение и его корабли. За ночь успел он проголодаться и заказал своей служанке Ненчии, рыжей красивой девушке, с веснушками и зубами белыми, как молоко, — жареного на вертеле каплуна. Дядя Маттео жил старым холостяком, но всегда имел в доме молодых служанок. В эту ночь сидел он в кухне, у очага, так как в остальных комнатах было холодно. Ненчия, зарумянившись, засучив рукава, вращала над ярким огнем вертел, и веселое пламя отражалось в блестящей глине чисто вымытых горшков и блюд, расставленных на полках. — Ненчия, слышишь? — произнес дядя, насторожившись. — Ветер. Не пойду. Вы меня и так уже три раза гоняли. — Какой там ветер? Стучат. Это нарочный. Ступай, отопри скорее. Толстая Ненчия стала лениво спускаться по крутой деревянной лестнице, а дядя Маттео сверху, подняв над головой фонарь, освещал ей путь. — Кто там? — спросила служанка. — Это я… я… Джиневра Альмьери, — ответил слабый голос из-за двери. — Оеэй! Сеэй! С нами крестная сила! — пролепетала Ненчия; ноги у нее подкосились, и, чтобы не упасть, она должна была схватиться за лестничные перила. Мессэр Маттео побледнел и чуть не выронил фонарь из рук. — Ненчия, Ненчия, отопри скорее! — умоляла Джиневра. — Пусти погреться, мне холодно… Скажи дяде, что это я… Служанка, несмотря на тучное телосложение, так взлетела по лестнице, что ступеньки затрещали под ее ногами. — Вот вам и нарочный! Дождались — нечего сказать. Говорила я вам, мессэр Маттео, ложитесь да спите, как все добрые христиане… Ай, ай, ай! Опять стучит, слышите, — стонет бедная душенька, да как жалобно. Господи, спаси и помилуй нас, грешных! Святой Лаврентий, моли Бога за нас! — Послушай, Ненчия, — произнес дядя нерешительно, — пойду-ка я, посмотрю, что там такое. Как знать, может быть… — Этого еще недоставало, — крикнула Ненчия, всплеснув руками, — скажите, какой храбрец отыскался! Так я вас и пустила. Сами на тот свет захотели, что ли? Нечего шляться, сидите, пока с нами чего похуже не приключилось. Достав с полки склянку святой воды, Ненчия окропила ею наружную дверь дома, лестницу, кухню и самого мессэра Маттео. Он уже более не спорил и покорился умной служанке, полагая, что она лучше знает, как должно обращаться с привидениями. И Ненчия громким голосом произнесла заклинание: — «Благословенная душа, ступай с Богом — мертвая к мертвым. Господь тебя да упокоит в селении праведных». Джиневра, услышав, как ее назвали мертвою, поняла, что ей больше нечего ждать, встала с порога, на который опустилась в изнеможении, и поплелась далее искать себе приюта. Едва двигая замерзшими ногами, дошла она до соседнего переулка, где находился дом ее мужа, мессэра Франческо дельи Аголанти. Секретарь флорентийской Синьории писал в это время длинное философическое послание на латинском языке своему другу в Милан, Муцию дельи Уберти, такому же, как он, поклоннику древних муз. Это был целый богословский трактат, под заглавием: «Рассуждение о бессмертии души по поводу смерти возлюбленной супруги моей Джиневры Альмьери». Мессэр Франческо сравнивал учение Аристотеля с учением Платона, опровергая мнение Фомы Аквината, утверждавшего, что философию Стагирита можно согласовать с догматами католической церкви о рае, аде и чистилище; тогда как мессэр Франческо доказывал многими ясными и остроумными силлогизмами, что отнюдь не учение Аристотеля, который был тайным скептиком и атеем, а учение великого почитателя богов — Платона согласуется с христианскою верою. Ровным пламенем горела медная лампада, привешенная над гладкою наклонною доскою уютного письменного поставца из точеного дерева, со многими выдвижными ящиками и отделениями для бумаги, чернил, перьев. Форма лампады изображала тритона, обнявшегося с океанидой, ибо во всех мелочах будничной жизни мессэр Аголанти любил подражание изящным древним образцам. На драгоценном пергаменте старинного Тимея, нежном, как шелк, твердом, как слоновая кость, светилось золото заставок, изображавших пляску голых амуров или ангелов с гирляндами райских цветов. Мессэр Франческо только что начал разбирать с богословской точки зрения учение о метампсихозе, или переселении душ, причем остроумно пошутил над пифагорейцами, которые, как известно, не едят бобов, утверждая, что в них заключены души предков, — когда послышался слабый стук в дверь. Он нахмурил брови, ибо не выносил шума во время работы и выбирал для занятий самые тихие ночные часы, чтобы ему никто не мешал. Тем не менее, он подошел к слуховому окну, открыл его, выглянул па улицу и в бледном лунном сумраке увидел мертвую Джиневру, окутанную саваном. В то же мгновение, забыв Платона и Аристотеля, мессэр Франческо захлопнул окно так поспешно, что Джиневра не успела молвить слова, стал шептать Ave Maria и креститься в суеверном ужасе, как Ненчия. Впрочем, скоро пришел он в себя, устыдился собственного малодушия и вспомнил то, что говорят александрийские неоплатоники Прокл и Порфирий о явлениях мертвецов, а именно, что демоны, существа породы средней и двойственной, живущие между землей и небом, иногда с целью доброю, чтобы пророчествовать, иногда злою, чтобы устрашать людей, облекаются в прозрачные тела, имеющие сходство с кем-либо из умерших и образованные, по мнению одних, из влажной стихии воздуха, сгущенного холодом, по мнению других, из той огненной, бесцветной и прозрачной материи, из которой состоят и низшие растительные души как разумных, так и неразумных тварей, живущих на земле. Вспомнив все это и объяснив себе то, чего сперва так испугался, логическими и естественными доводами, мессэр Франческо окончательно успокоился, снова открыл окно и произнес твердым голосом: — Кто бы ты пи был, дух земной или небесный, — скройся, удались туда, откуда пришел, ибо напрасно ты хочешь устрашить того, чей разум просвещен светом высшей философии. Ты можешь обмануть телесные, но не духовные очи мои. Отойди же с миром под своды Аида — мертвая к мертвым. И он закрыл окно па этот раз с тем, чтобы более не отворять его, хотя бы стучались целые легионы жалобных призраков. А Джиневра пошла далее и, так как была недалеко от Старого Рынка, скоро увидала дом своей матери. Монна Урсула стояла на коленях перед распятием, и рядом с ней был суровый монах фра Джьякомо с бледным лицом, изможденным постами. Она подняла к нему взоры, полные ужаса. — Что мне делать, отец мой? Помогите. Нет в моей душе покорности, нет молитвы. Мне кажется, что бог отступился от меня и душа моя обречена на погибель… — Покорись, покорись Богу во всем, до конца, — убеждал ее монах, — не ропщи, смири голос буйной плоти, ибо чрезмерная любовь твоя к дочери — от плоти, а не от духа. Скорби не о том, что она умерла телесною смертью, а лишь о том, что предстала на суд Всевышнего без покаяния, великою грешницей. В это время постучали в дверь. — Мама, мама, это — я… пусти меня скорее! — Джиневра!.. — воскликнула монна Урсула и хотела броситься к дочери, но монах остановил ее: — Куда ты? Безумная! Дочь твоя лежит в гробу, мертвая, и не встанет до страшного судного дня. Это злой дух искушает тебя голосом дочери, голосом плоти и крови твоей. Покайся же, молись, молись, пока еще не поздно, за себя и за грешную душу Джиневры, чтобы вам обеим не погибнуть. — Мама, или ты не слышишь, не узнаешь моего голоса? Это я — живая, а не мертвая… — Пустите, отец мой, пустите меня… Тогда фра Джьякомо поднял руку и прошептал: — Ступай и помни — ныне обрекаешь ты на погибель не только себя, но и душу Джиневры. Бог проклянет тебя и в сем веке и в будущем! Лицо монаха полно было такою ненавистью, глаза его горели таким огнем, что монна Урсула остановилась, объятая ужасом, сложила руки с мольбой и в изнеможении упала к ногам его. Фра Джьякомо обернулся к двери, осенил ее знамением креста и молвил: — Во имя Отца и Сына, и Духа Святого! Заклинаю тебя кровью Распятого на кресте — сгинь, сгинь, пропади, окаянный. Место наше свято. Господи, не введи в искушение, но избави нас от лукавого. — Мама, мама, сжалься надо мною — я умираю!.. Мать еще раз встрепенулась, простерла руки к дочери, но их разделял монах, неумолимый, как смерть. Тогда Джиневра упала па землю и, чувствуя, что замерзает, поджала колени, обняла их руками, склонила голову и решила более не вставать, не двигаться, пока не умрет. «Мертвые не должны возвращаться к живым», — подумала она — и в то же мгновение вспомнила Антонио: «Неужели и он прогнал бы меня?» Она и раньше думала о нем, но ее удерживал стыд, ибо она не хотела идти к нему ночью одна, будучи женою другого. Теперь, когда для живых она была мертвая, — не все ли равно? Луна закатилась; горы, покрытые снегом, бледнели на утреннем небе. Джиневра встала с порога своей матери. Не найдя приюта у родных, пошла она к чужому. Мессэр Антонио в мастерской недалеко от Понтэ Веккио работал всю ночь при свете огня над восковым изваянием Джиневры. Он не замечал, как пролетали часы, как в круглых стеклянных гранях окон выступил холодный свет грубого зимнего утра. Художнику помогал его любимый ученик Бартолино, семнадцатилетний отрок, белокурый и красивый, как девушка. Лицо Антонио выражало спокойствие. Ему казалось, что он воскрешает мертвую и дает ей новую бессмертную жизнь: опущенные веки готовы были вздрогнуть и подняться, грудь дышала, и в тонких жилах на висках билась теплая кровь. Он кончил работу и старался придать губам Джиневры невинную улыбку, когда в дверь раздался тихий стук. — Бартолино, — молвил Антонио, не отрываясь от работы, — отопри. Ученик подошел к двери и спросил: — Кто там? — Я — Джиневра Альмьери, — отвечал чуть слышный голос, подобно шелесту ночного ветра. Бартолино отскочил в дальний угол комнаты, бледный и дрожащий. — Мертвая!.. — шептал он, крестясь. Но Антонио узнал голос своей возлюбленной, вскочил, бросился к Бартолино и вырвал у него ключ из рук. — Мессэр Антонио, опомнитесь, что вы делаете? — лепетал ученик, стуча зубами от ужаса. Антоний подбежал к двери, отпер ее и увидел Джиневру, упавшую на порог, почти бездыханную: в сиянии утра белел могильный саван, и на распущенных кудрях был иней. Но он не ужасался, ибо сердце его исполнилось великою жалостью. Он наклонился со словами любви, поднял ее и понес на руках в свой дом. Уложил на подушки, покрыл их лучшим ковром, какой у него был, послал Бартолино за хозяйкою, старою женщиною, у которой нанимал мастерскую, развел огонь в очаге, согрел вина и напоил Джиневру из своих рук. Она вздохнула легче и, хотя еще не могла говорить, открыла глаза. Тогда сердце Антонио наполнилось радостью. — Сейчас, сейчас, — повторял он, суетясь и бегая по комнате, — вот придет хозяйка, все устроим… Только не взыщите, мадонна Джиневра, у меня такой беспорядок… Смущаясь и краснея за свое хозяйство, опустил он с потолка корзину на блоке, который скрипел и визжал к еще большему стыду мессэра Антонио, — вынул денег, отдал Бартолино, велел ему бежать на рынок за мясом, хлебом, овощами для завтрака и, когда пришла хозяйка, важно и заботливо, как будто дело шло о спасении его собственной жизни, заказал горячего супа с курицей. Ученик бросился со всех ног за покупками, старуха пошла резать курицу. Антонио остался наедине с Джиневрой. Она подозвала его и, когда он опустился рядом с нею на колени, рассказала ему все, что случилось. — О, милый мой, — молвила Джиневра, кончив рассказ, — ты один не ужаснулся, когда я пришла к тебе, мертвая, ты один меня любишь. — Хочешь, я позову твоих родных — дядю, мать или мужа? — спросил Антонио. — Нет у меня родных — ни мужа, ни дяди, ни матери. Все чужие, кроме тебя, ибо я для них — мертвая, для тебя я — живая и тебе одному принадлежу по праву. Первые лучи солнца затеплились в окнах. Джиневра улыбнулась ему, и по мере того, как солнце становилось все ярче, румянец жизни приливал к ее щекам, в тонких жилах на висках билась теплая кровь. Когда Антонио наклонился, обнял и поцеловал ее в губы, ей казалось, что солнце воскрешает ее, дает ей новую бессмертную жизнь. — Антонио, — молвила Джиневра, — благословенна да будет смерть, которая научила нас любить, благословенна да будет любовь, которая сильнее смерти!
Ф. СОЛОГУБ

ОТРАВЛЕННЫЙ САД
Природа жаждущих степей Его в день гнева породила. А. С. Пушкин
I
Прекрасный Юноша, о чем ты задумался так глубоко? — спросила Старуха, у которой. Юноша снимал комнату. Она тихо вошла вечером в его полутемную комнату и, еле слышно шелестя по крашенному буро-красною краскою неровному полу мягкими туфлями, приблизилась к Юноше и стала у его плеча. Он вздрогнул от неожиданности — уже с полчаса стоял он у единственного окна своего тесного покойника в верхнем жилье старого дома и, не отрываясь, смотрел на открывающийся перед ним прекрасный Сад, где цвело множество растений, благоухающих нежно, сладко и странно. Отвечая Старухе, Юноша сказал: — Нет, Старая, я ни о чем не думаю. Я стою, смотрю и жду. Старуха укоризненно покачала седою головою, и узлы ее темного платка закачались, как два остро поднятые кверху, настороженные уха. Ее морщинистое лицо, более желтое и сухое, чем у других старых женщин, живших на той же улице, на окраине громадного Старого Города, выражало теперь озабоченность и тревогу. Старуха молвила тихо и печально: — Жаль мне тебя, милый Юноша. Голос ее, хотя уже и старчески хриплый, звучал такою печалью, таким искренним состраданием, и ее уже бесцветные от старости глаза глядели так скорбно, что Юноше в полумраке его покоя вдруг на одно короткое мгновение показалось, что эти внешние признаки старости — только удачно надетая личина и что за нею скрывается молодая, прекрасная Жена, еще недавно только испытавшая пронзавшую сердце скорбь Матери, оплакавшей погибшего Сына. Но прошло это странное мгновение, и Юноша улыбнулся своей чудной мечте. Он спросил: — Почему тебе жаль меня, Старая? Старуха стала рядом с ним, посмотрела в окно па Сад, прекрасный и цветущий, и весь осиянный лучами заходящего солнца, и сказала: — Мне жаль тебя, милый Юноша, потому что я знаю, куда ты смотришь и чего ты ждешь. Мне жаль тебя и твоей матери. Может быть, от этих слов, а может быть, от чего-нибудь иного что-то изменилось в настроении Юноши. Сад, цветущий и благоухающий за высоким забором под его окном, вдруг показался ему почему-то странным, и темное чувство, похожее на внезапный страх, жутким замиранием остановилось у его сердца, точно рожденное пряными и томными ароматами, исходящими от ярких внизу цветов. «Что же это?» — подумал Юноша в недоумении. Он не захотел поддаваться томному очарованию вечерней тоски, сделал над собою усилие, улыбнулся, быстрым движением сильной руки откинул с высокого лба прядь черных волос и спросил: — Что же нехорошего в том, на что я смотрю и чего я жду? И почему ты знаешь, чего я жду? И в эту минуту оп был веселый, смелый, прекрасный, и черные глаза его пылали, и румяные щеки его рдели, и алые, яркие губы его казались сейчас только поцелованными, и из-за них сверкали крепкие, белые зубы, веселые, злые. Старуха говорила: — Милый Юноша, ты смотришь на Сад и не знаешь, что это — злой Сад. Ты ожидаешь Красавицу и не знаешь, что красота ее пагубна. Два года прожил ты в моей комнате и ни разу не засматривался так, как сегодня. Видно, и твой черед настал. Пока еще не поздно, отойди от окна, не дыши дыханием коварных цветов и не жди, чтобы под окно твое пришла чаровать Красавица. Она придет, она зачарует, и ты пойдешь за нею, куда не хочешь. Говоря так, Старуха зажгла две свечи па столе, где лежали книги, захлопнула окно и задернула у окна занавеску. С легким скрежетом провлеклись по медному пруту кольца, заколыхалось и опять спокойно легло желтое полотно занавески — ив комнате стало весело, уютно и спокойно. И казалось, что нет за окном Сада и нет в мире очарований, и все просто, обычно, установлено раз навсегда. — А и правда, — сказал Юноша, — я никогда не обращал внимания на этот Сад и сегодня только в первый раз увидел Красавицу. — Уже увидел, — печально сказала Старуха. — Уже упало в твою душу злое семя очарования. А Юноша говорил не то Старухе, не то рассуждая сам с собою: — Да раньше и некогда было. Днем на лекциях в университете, вечером — за книгами или с веселыми товарищами и милыми девушками на вечеринке или в театре, где-нибудь на галерке, а то так и в партере по студенческой контрамарке, когда платной публики мало: антрепренеры нас любят, мы хлопаем усердно и кричим, вызывая актрис, пока не погасят всех огней. Летом уедешь к родителям. Так, только слышал, что рядом великолепный Сад нашего профессора, знаменитого Ботаника. — Потому и знаменитый, что черту душу продал, — сердито сказала Старуха. Студент рассмеялся весело. — А все-таки, — сказал он, — мне странно, что я никогда до сегодняшнего вечера не видал его дочери, хотя и слышал много об ее дивной красоте и о том, что многие знатные юноши Старого Города и из других мест, близких и дальних, добивались ее любви и надеялись, и обманывались, а иные даже и умирали, не стерпев ее холодности. — Она — коварная, — сказала Старуха. — Она знает цену своим чарам и показывается не всем. Нищему студенту трудно свести с нею знакомство. Отец обучил ее многому, чего и ученые не знают, но на ваши сходки она не ходит. Она больше с богатыми, от которых можно ждать многих подарков. — Старая, сегодня я хорошо видел ее, и мне кажется, — возражал Юноша, — что девица с таким прекрасным лицом, с такими ясными глазами, с такими грациозными манерами и одетая так красиво не может быть коварною и корыстною и гнаться за подарками. Я твердо решил, что познакомлюсь с нею. Сегодня же пойду к Ботанику. — Ботаник тебя и на порог не пустит, — говорила Старуха. — Его слуга о тебе и докладывать не пойдет, как увидит твою поношенную одежонку. — Что ему за дело до моей одежды! — с досадою сказал Юноша. — Да вот разве если бы ты на крылатом змее приехал, — сказала Старуха, — так, пожалуй, пустили бы и на твои заплаты пе поглядели бы. Юноша засмеялся и воскликнул весело: — Что ж, Старая, и крылатого змея оседлаю, коли иначе туда не попасть будет! — Да уж от ваших забастовок добра не ждать, — ворчала старуха. — Учились бы смирно, и все было бы хорошо. И тебе бы не было никакой печали до этой хитрой Красавицы и до ее страшного Сада. — Что страшного в ее Саду? — спросил Юноша. — А не бастовать нам никак нельзя было: наши права и права университета нарушены — неужели же мы смиренно подчинимся? — Юноши должны учиться, — ворчала Старуха, — а не права разбирать. А ты, милый Юноша, прежде чем с Красавицей знакомиться, в ее Сад вглядись хорошенько из окошка, завтра утром, при свете солнца, когда все видно ясно и верно. Ты увидишь, что в этом саду нет цветов, которые здесь всем знакомы, а цветов, какие там есть, никто у нас в Городе не знает. Подумай-ка об этом хорошенько — ведь это неспроста. Бес коварен — не его ли это создания на пагубу людям? — Это — растения чужестранные, — сказал Юноша, — они привезены из жарких стран, где все иначе. Но уже Старуха не хотела больше разговаривать. Она досадливо махнула рукою и, шаркая туфлями, сердито и неразборчиво бормоча неласковые слова, вышла из комнаты. Первым побуждением Юноши было — подойти к окну, отдернуть желтое полотно занавески и опять смотреть в очаровательный сад и ждать. Но помешали: пришел Товарищ, шумный, нескладный молодой человек, и позвал Юношу идти в место, где они часто собирались, чтобы говорить много, спорить, шуметь и смеяться. По дороге Товарищ, смеясь, негодуя, размахивая руками больше, чем бы следовало, рассказал Юноше о том, что происходило сегодня утром в аудиториях и в университетских коридорах, как были сорваны все лекции, как были посрамлены противники забастовки, какие прекрасные слова говорили любимые, хорошие профессоры и как смешно вели себя профессоры нелюбимые и, значит, нехорошие. Юноша провел интересный вечер. Говорил волнуясь, как все. Слушал искренние, горячие речи. Смотрел на товарищей, лица которых выражали и беззаботную смелость молодости, и ее пламенное негодование. Видел девушек, милых, умных, скромных, и мечтал о том, что из их веселого круга изберет себе подругу. И почти забыл о Красавице в очаровательном Саду. Вернулся домой поздно и заснул крепко.II
Утром, когда он открыл глаза и когда взор его упал на желтое полотно занавески у окна, показалось ему, что ее желтизна окрашена багрянцем темного желания и что в ней есть какая-то странная, жуткая напряженность. Казалось, что солнце настойчиво и страстно упирает жгучие, горькие лучи в пронизанное золотым светом полотно и зовет, и требует, и волнует. И в ответ удивительнойвнешней напряженности золота и багрянца огненною живостью наполнились жилы Юноши, упругою силою налились мускулы, и сердце стало, как родник ярых пожаров. Пронизанный сладко миллионами живящих и горящих, и возбуждающих игол, вскочил он с постели и с ребяческим веселым хохотом, не одеваясь, принялся прыгать и плясать по комнате. Привлеченная необычным шумом, заглянула в дверь Старая хозяйка. Покачала укоризненно головою и ворчливо сказала: — Милый Юноша, пляшешь и радуешься, и всех беспокоишь, а чему рад, и сам не знаешь, и не ведаешь, кто стоит под твоим окошком и что она тебе готовит. Юноша смутился и стал тих и скромен, как раньше, что и согласно было с его характером, и соответствовало прекрасному воспитанию, полученному им дома. Он умылся старательнее обычного, оттого, может быть, что пе надо было сегодня спешить на лекции, а может быть, и по иной причине, и с таким же тщанием оделся, причем долго чистил свою изрядно уже поношенную одежду: новой у него не было, так как родители его были не богаты и не могли присылать ему много денег. Потом подошел он к окну. Сердце его забилось тревожно, когда он отдернул желтое полотно занавески. Очаровательное зрелище открылось перед ним — хотя сегодня он сразу заметил, что есть что-то странное во всем виде этого обширного, превосходно расположенного Сада. Что именно его удивляло, еще он сразу не понял, и внимательно стал рассматривать Сад. Что же было неприятного в его красоте? Отчего так больно замирало сердце Юноши? То ли, что все в очаровательном Саду было слишком правильно? Дорожки разбиты прямо, все одинаковой ширины и однообразно усыпаны ровным слоем желтого песку; растения рассажены с тщательною порядливостью; деревья подрезаны в виде шаров, конусов и цилиндров; цветы подобраны по тонам, так что сочетание их ласкало глаз, но почему-то ранило душу. Но, рассуждая здраво, что же неприятного в том порядке, который свидетельствует, что кто-то неусыпно заботится о Саде? Нет, не в этом, конечно, была причина странного беспокойства, томившего Юношу. В чем-то другом, еще непонятном Юноше. Одно было несомненно, что этот Сад не был похож ни на один из тех садов, которые довелось на своем веку повидать Юноше. Он видел здесь цветки громадные и слишком яркой окраски — порою казалось, что разноцветные огни пылали среди буйной зелени, — бурые и черные стебли ползучих растений, толстые, как тропические змеи, листья странной формы и непомерной величины, зелень которых казалась неестественно яркою. Пряные и томные ароматы легкими волнами вливались в открытое окно, вздохи ванили и ладана, и горького миндаля, сладкие и горькие, торжественные и печальные, как ликующая погребальная мистерия. Юноша чувствовал на своем лице нежные, но бодрящие прикосновения легкого ветра. В саду же, казалось, ветер не имел силы и в изнеможении улегся на спокойно-зеленой траве и в тени под кустами странных насаждений. И оттого, что деревья и травы странного Сада были бездыханно тихи и не слышали тихо вьющего над ними ветра, и ничем не отвечали ему, они казались неживыми. А потому лживыми, злыми, враждебными человеку. Впрочем, одно из растений шевелилось. Но, вглядевшись, Юноша засмеялся. То, что он принял за безлистый ствол странного растения, был человек небольшого роста, тощий, в черной одежде. Он стоял перед кустом с ярко-пурпурными цветами, потом медленно пошел по дорожке, опираясь на толстую палку и приближаясь к тому окну, из которого глядел Юноша. Не столько по лицу, которое, будучи прикрыто широкими полями черной шляпы, только отчасти было видно сверху, сколько по, манерам и походке Юноша узнал Ботаника. Не желая показаться нескромным, Юноша немного отодвинулся от окна в глубину комнаты. Но вдруг увидел он, что навстречу Ботанику шла Красавица, его юная дочь. Ее нагие руки были подняты к сложенным на голове черным косам, потому что в это время она вкалывала в волосы ярко-пунцовый цветок. Ее легкая, короткая туника была застегнута на плече золотою пряжкой. Ноги ее, покрытые легким потемневшим загаром, до колен открытые, были стройны, как ноги воскресшей богини. Сердце Юноши забилось, он забыл всякую осторожность и скромность, опять бросился к окну и жадно глядел на милое видение. Красавица кинула в его сторону быстрый, пламенный взгляд, — и синие из-под черных ровных бровей сверкнули очи, — и улыбнулась нежно и лукаво. Если бывают люди счастливы, если светит им порою безумное солнце радости, сладким кружением восторга унося в запредельные страны, — то где слова, чтобы сказать об этом? И если есть на свете красота для очарований, то как описать ее? Но вот остановилась Красавица, пристально посмотрела на Юношу и засмеялась радостно и весело — ив несказанном кружении восторга забыл Юноша о всем, что есть на свете, стремительно наклонился из окна и закричал голосом, звонким от волнения: — Милая! Прекрасная! Божественная! Приди ко мне! Люби меня! Красавица подошла близко, и Юноша услышал тихо звенящий, ясный голос, каждый звук которого сладкою мукою ранил его сердце: — Милый Юноша, знаешь ли ты цену моей любви? — Хотя бы ценою жизни! — восклицал Юноша. — Хотя бы у темных ворот Смерти! Зарею пылающею и смеющеюся стояла Красавица перед Юношей и простирала к нему стройные, обнаженные руки. И говорила, и веял от ее слов аромат обольстительный, томный, как вздохи нежной туберозы: — О, милый Юноша, мудрый и страстный, ты знаешь, ты видишь, ты дождешься. Многие любили меня, многие жаждали обладать мною, прекрасные, юные, сильные, многим улыбалась я улыбкою обаятельною, как улыбка последней утешительницы, по никогда никому до тебя не говорила я сладких и страшных слов: люблю тебя. Теперь хочу и жду. Страстью и желанием звенел ее голос. Она отвязала от пояса шелковый черный шнурок с бронзовым на нем ключей и уже взмахнула рукою, чтобы бросить ключ Юноше, но не успела. Отец уже спешил к ней, заметив еще издали, что она заговорила с незнакомым Юношей. Он грубо схватил ее за руку, отнял от нее ключ и закричал хриплым, старческим голосом, противным, как тяжелое карканье старого ворона на кладбище: — Безумная, что ты хочешь сделать? Не о чем тебе с ним говорить. Этот Юноша не из рода тех, для кого взрастили мы наш Сад, с, мешав соки этих растений с ядовитою смолою Анчара. Не для таких, как этот голяк, погиб наш предок, надышавшись тлетворным ароматом страшной смолы. Иди, иди домой и не смей говорить с ним. Старик повлек дочь к дому, видившемуся в глубине Сада. Он крепко сжимал ее руки, обе захватив одною своею рукою. Красавица покорно шла за отцом и смеялась. И был ее смех ясен, звонок и жалил тысячами острых жал пламенеющее сердце Юноши. Он еще стоял у окна, долго всматривался напряженными глазами в расчисленные и расчищенные дали очарованного Сада. Но уже Красавица больше не показывалась. Все тихо и недвижно было в дивном Саду, и бездыханными казались чудовищно яркие цветы, и от них доходил до Юноши аромат, кружащий голову, жутким томлением сжимающий сердце, аромат, напоминающий темные, стремительные, жадные вздохи ванили, цикламена, датуры и тубероз, злых несчастных цветов, умирающих, умерщвляя, чарующих смертною тайною.III
Юноша твердо решился проникнуть в дивный Сад, надышаться таинственными ароматами, которыми дышит Красавица, и добиться ее любви, хотя бы ценою за нее была жизнь, хотя бы путем к ней был путь смертный, путь безвозвратный. Но кто бы помог ему проникнуть в дом старого Ботаника? Юноша ушел из дому. Долго ходил он по Городу и всех, кого знал, расспрашивал о Красавице, дочери Ботаника. Одни не могли, другие не хотели ввести его в дом старого Ботаника, и о Красавице все говорили недоброжелательно. Товарищ ему сказал: — Все молодые Оптиматы Города влюбляются в нее и хвалят ее изысканную и утонченную красоту. Нам же, Пролетариям, ее красота ненавистна и не нужна; ее мертвая улыбка нас раздражает, и безумие, затаившееся в синеве ее глаз, нам противно. Девушка, вторя ему, говорила: — Ее красота, о которой говорят так много праздные и богатые юноши, вовсе даже не красота, на наш взгляд. Это — мертвая красивость разложения и упадка. Я думаю даже, что она румянится и белится. От нее пахнет, как от ядовитого цветка; даже дыхание у нее ароматно, и это противно. Популярный Профессор говорил: — Коллега Ботаник — знаменитый и ученый человек, по он не хочет подчинять свою пауку высоким интересам гуманности. Его дочь, говорят, очаровательна; некоторые говорят об оригинальности ее костюмов и манер; впрочем, я не имел случая беседовать с нею более или менее обстоятельно; притом же в нашем кругу ее редко можно встретить. Думаю, однако, что ее очарования заключают в себе нечто вредное для здоровья, — до меня дошли странные слухи, за достоверность которых, конечно, я не ручаюсь, слухи о том, что процент смертности среди посещающих этот дом молодых аристократов выше среднего. Аббат, с тонкою улыбкою на бритом бледном лице, сказал: — Когда Красавица приходит ко мне в церковь, она молится слишком усердно. Можно подумать, что она замаливает тяжелые грехи. Но я надеюсь, что нам не доведется увидеть ее стоящей на паперти в шерстяной сорочке кающейся грешницы. Мать, выславши из комнаты дочерей, сказала: — Я не понимаю, что в ней находят привлекательного. На нее разоряются, она кокетничает, разбивает сердца юношей, отнимет женихов от невест, а сама никого не любит. Я не позволяю моим милым дочкам, Миночке, Диночке, Диночке, Ниночке, Риночке, Тиночке и Зиночке, вести с нею знакомство. Они у меня такие скромные, милые, любезные, веселые, приветливые, прилежные, такие хозяйки, такие рукодельницы. И как мне ни жаль расставаться с ними, но, так и быть, старшенькую я выдала бы замуж за такого скромного юношу, как вы. Юноша ушел поспешно. Семь сестриц улыбались ему из окна, теснясь одна за другую. Это было зрелище милое и приятное, но сердце Юноши полно было сладкими, жуткими мечтами о Красавице.IV
Старый Ботаник привел свою дочь в дом. Его гнев смягчился, и хотя он до самого порога не выпускал из своей руки с большими костлявыми пальцами сложенных вместе тонких рук весело улыбающейся Красавицы, но уже он не жал их так больно и не толкал ее так грубо. Его лицо было печально. Он выпустил руки своей дочери, и она сама послушно вошла за ним в его кабинет — огромную, мрачную комнату, стены которой были загромождены полками с множеством книг, громадных, запыленных. Ботаник сел в обитое темною кожею кресло у своего тяжелого дубового стола. Он казался усталым. Прикрыл глаза, еще юношески блестящие, пергаментно-желтою, дрожащею рукою и укоризненно смотрел из-под руки на дочь. Красавица стала на колени у его ног и смотрела снизу в лицо старого Ботаника, и улыбалась нежно и покорно. Она стояла прямо, с опущенными руками, и в позе ее была смиренная покорность, и в улыбке обольстительных уст было нежное упрямство. Лицо ее казалось побледневшим, и казалось, что на губах ее зыбко пламенеет безумие смеха и что в синеве ее глаз затаилось безумие тоски. Молчала и ждала, что скажет отец. И он сказал медленно, словно с трудом находя слова. — Милая, что же я слышал? Не ждал я от тебя этого. Зачем ты это сделала? Красавица склонила голову и тихо сказала: — Отец, рано или поздно это же должно совершиться. — Рано пли поздно? — спросил отец как бы с удивлением. И продолжал: — Так пусть это лучше совершится поздно, чем рано. — Я пламенею, — тихо сказала красавица. И улыбка на ее устах была как отблеск знойного пылания, и в глазах ее затаились синие молнии, и ее обнаженные плечи и руки были, как тонкий алебастровый сосуд, наполненный расплавленным металлом. Порывисто дышала высокая грудь, и две белые волны рвались из тесных объятий ее платья, нежный цвет которого напоминал желтоватую розовость персика. Из-под складок недлинной одежды были видны трепетно лежащие на темно-зеленом бархате ковра стройные ноги. Отец тихо покачал головою и сказал печально и строго: — Ты, милая дочь, столь опытная и столь искусная в дивном умении чаровать, оставаясь непорочною, должна знать, что еще рано тебе отходить от меня и бросать недовершенный мой замысел. — Но ведь этому не будет конца? — возразила Красавица. — Они приходят вновь и вновь. — Никто не знает, — сказал Ботаник, — будет ли этому конец и увидим ли мы завершение, нашего замысла или передадим его иным поколениям. Но мы сделаем, что можем. Вспомни, что сейчас должен прийти к тебе молодой Граф. Ты поцелуешь его и дашь ему отравленный цветок по его выбору. И он уйдет, полный сладких надежд и трепетных ожиданий, и опять совершится и над ним неизбежное. Выражение покорности и скуки легло на лицо Красавицы. И отец сказал ей: — Иди. Наклонился, поцеловал ее в лоб. Красавица прильнула знойно-алыми губами к его морщинистой, желтой руке, прижалась к его сухим коленям белою, полуобнаженною грудью, вздохнула и встала. И вздох ее был, как свирельный стон.V
Через полчаса Красавица, нежно улыбаясь, говорила молодому, красивому, надменному Графу, стоя перед ним в той же одежде среди Сада, у круглой клумбы с яркими, громадными цветами, от которых исходил одуряющий аромат: — Милый Граф, вы хотите очень многого. Желания ваши слишком пылки и слишком нетерпеливы. Улыбка ее была нежна и лукава, и непорочно-ясные взоры ее с ласковым любованием скользили по стройной фигуре молодого Графа и по его богатому наряду, сшитому модно и красиво из самых дорогих тканей и украшенному золотом и самоцветными камнями. — Милая очаровательница, — говорил Граф, — я знаю, что ты была холодна ко многим, искавшим твоей благосклонности. Но ко мне ты будешь более ласкова. Я сумею добиться твоей любви. Клянусь честью, я заставлю потемнеть от страсти холодную синеву твоих глаз. — Чем же вы, Граф, стяжаете мою любовь? — спросила Красавица. Непроницаемо было выражение ее прекрасного лица, и ее голос не обличал того волнения, которое так легко овладевает девами, когда они слышат знойный голос внушенной ими страсти. Но самоуверенный, надменный Граф не смутился. Он говорил: — От предков моих досталось мне немало сокровищ, и я сам золотом и отвагою приумножил их. Много у меня драгоценных камней, перстней, ожерелий, запястий, восточных тканей и ароматов, арабских коней, шелковых и атласных одежд, редкого оружия и другого много, чего и перечислить скоро не сумею, чего даже и не сразу и вспомню. Все я рассыплю у твоих ног, очаровательница: рубинами оплачу я твои улыбки, жемчугами твои слезы, золотом твои ароматные вздохи, алмазами твои поцелуи и ударом верного кинжала твою лукавую измену. Красавица засмеялась. Сказала: — Еще я не ваша, а уже вы боитесь моей измены и угрожаете мне. Ведь я могу и рассердиться на это. Граф порывисто склонил перед Красавицей колени и осыпал поцелуями ее руки, гибкие и стройные, от нежной кожи которых подымалось легкое, жуткое благоухание. — Прости моему безумию, очаровательная Красавица, — молил он, вдруг забывши всю свою надменность, — любовь к тебе лишает меня покоя и подсказывает мне дикие поступки и странные слова. Но что же мне делать! Я люблю тебя больше, чем мою душу, и за обладание тобою готов заплатить не только моими сокровищами, не только моей жизнью, но и тем, что дороже мне жизни и спасения души, — моей честью! Красавица сказала очаровательно-ласково: — Ваши слова тронули меня, милый Граф. Встаньте. Я не возьму с вас непомерной платы за мою любовь — она не покупается и не продается. Но кто любит, тот должен уметь и подождать. Истинная любовь всегда найдет путь к сердцу возлюбленной. Граф поднялся. Изысканным жестом он оправил кружевные манжеты своего атласного зеленого кафтана и устремил на Красавицу долгий, восторженный взор. Глаза их встретились, и непроницаемо по-прежнему было выражение непорочно-светлых глаз Красавицы. Охваченный смутною тревогою, которая в минуты смертной опасности охватывает даже надменных и самоуверенных, Граф отошел от Красавицы. На скамье недалеко лежал красиво изукрашенный резьбою дубовый ларец. Граф открыл его и с почтительным поклоном поднес Красавице. Солнечные лучи веселым смехом задрожали на бриллиантах и рубинах диадемы. Казалось надменному Графу, что сияние и смех падают на многоценные камни от рдеющих уст Красавицы. Но улыбка ее была такая же, как и раньше, и она любовалась подарком, как малоценным, хотя и приятным знаком внимания. Потом на миг Опечалилась легко, отуманилась и сказала: — Мои предки были рабами, а вы дарите мне диадему, от которой не отказалась бы и царица. — Очаровательница! — воскликнул Граф. — Ты достойна и еще более блистающей диадемы. Красавица улыбнулась ему приветливо, и опять опечалилась легко, отуманились, и говорила тихо: — Доля моих предков — горячие капли крови под бичами жестоких, а мне — торжественные рубины увенчанной радости. И совсем, совсем тихо шепнула: — Но не забуду. — Что же вспоминать о давно минувшем! — воскликнул Граф. — Радостные дни светлой юности, а печаль воспоминаний оставим старости. Красавица засмеялась, отгоняя смехом грусть, мгновенную, как тучка, тающая на летнем солнце. Сказала графу: — За ваш прекрасный подарок, милый Граф, я дам вам сегодня один цветок по вашему выбору и один поцелуй. Только один. Молодой Граф пришел в такой восторг и выражал его так стремительно и шумно, что Красавица повторила нежно и строго: — Только один, не более. И спросила Графа: — Какой цветок хотите вы, милый Граф, получить от меня? Граф ответил: — Прекрасная обольстительница, что ты мне ни дашь, за все я буду тебе несказанно благодарен. Улыбаясь, говорила Красавица: — Все цветы, которые вы здесь видите, милый Граф, привезены издалека. Они собраны с большим трудом и даже с опасностями. Прилежным уходом отец мой улучшил их форму и окраску, и аромат. Долго изучал он их свойства, пересаживал их, скрещивал, прививал и, наконец, достиг того, что из бледных, диких, некрасивых полевых и лесных цветочков образовались эти очаровательные, благоуханные цветы. — И самый очаровательный цветок — ты, милая Красавица! — воскликнул Граф. — Аромат их многие находят слишком крепким и одуряющим. И я замечаю, что вы, милый Граф, бледнеете, — мы с вами слишком долго пробыли среди этих знойных ароматов. Я-то привыкла, я с детства надышалась ими, и сама кровь моя пропитана их сладкими испарениями. А вам не следует слишком долго стоять здесь. Выбирайте скорее, какой цветок вы хотите взять от меня. Но молодой Граф настаивал, чтобы Красавица сама выбрала ему цветок, — он ждал с нетерпением ее второго подарка, обещанного поцелуя, — первого ее поцелуя. Красавица посмотрела на цветы. Лицо ее омрачилось опять легкою тенью печали. Вдруг быстро, словно движимая чужою волею, она протянула руку, столь прекрасную в ее обнаженной стройности, и сорвала белый махровый цветок. Замедлила руку, склонила голову и, наконец, с выражением застенчивой нерешительности приблизилась к Графу и вложила цветок в петлицу его кафтана. Аромат, сильный и резкий, пахнул в побледневшее лицо молодого Графа, и в томном бессилии закружилась его голова. Равнодушие и усталость овладели им. Едва помнил себя, едва чувствовал, как взяла его Красавица под руку и увела в дом от ароматов дивного Сада. В одной из комнат дома, где все было светло, бело и розово, Граф очнулся. Юношеская свежесть вернулась на его лицо, черные глаза его зажглись опять страстью, и, он снова почувствовал радость жизни и буйство желаний. Но уже подстерегало его неизбежное. Рука, нагая, стройная, легла на его шею, и ароматный поцелуй Красавицы был нежен, сладок, долог. Две синие молнии ее глаз блеснули близко перед его глазами и призакрылись тихою тайною длинных ресниц. Жуткие огни сладкой боли вихрем закружились вокруг сердца молодого Графа. Он поднял руки обнять Красавицу, — но с легким криком она отшатнулась и, легкая, тихая, убежала, оставив его одного. Граф бросился было за нею. Но в дверях розовой горницы встретил его старый Ботаник. Язвительна была улыбка тонких губ, алою чертою разрезавших пергаментно-желтое лицо. Граф смутился. С несвойственным ему замешательством, чувствуя во всем теле странную слабость, простился он со старым Ботаником и ушел. Жуткие вихри сладкой боли все быстрее кружились вокруг сердца молодого Графа, когда он ехал домой верхом на вороном арабском скакуне, еле слыша звонкий стук подков о камни. Все бледнее становилось его лицо. Вдруг глаза его сомкнулись, рука опустила поводья, и он тяжело склонился, падая с седла. Испуганный конь взвился на дыбы, сбросил седока и помчался. Графа подняли уже мертвым, с разбитою о камни головой. И не знали, отчего он умер. Дивились — такой был искусный наездник.VI
Настала ночь. Сладко и тревожно светила полная луна, ворожа и чаруя лучами холодными, могильно-тихими. Смутным страхом полно было сердце Юноши, когда он подошел к своему окну. Руки его, захватив край желтой занавески, долго медлили и колебались, прежде чем он решился не спеша отвести в сторону занавеску. Медленно свиваясь, шуршало желтое полотно, и шелест его сходен был со змеиным еле слышным свистом в лесной заросли; и тихо звенели и скрежетали о медный прут медные легкие кольца. Красавица стояла под окном и смотрела на окно, и ждала. И сердце Юноши дрогнуло, и не мог он понять, страхом или восторгом томилось его сердце. Черные косы Красавицы были распущены и падали на ее нагие плечи. Резкая тень лежала на земле у ее необутых ног. Освещенная сбоку луною, стояла Красавица, подобная резкому, отчетливому видению. Складки белой туники были строги и темны. Темна была синева глаз Красавицы, загадочна была ее неподвижная улыбка. На странной успокоенности ее тела и ее одежды тускло поблескивала гладкая матовая пряжка, застегнутая на плече. Красавица заговорила тихо, и амброю, мускусом и туберозою благоухали ее слова, звенящие, как тонкие серебряные цепи у зажженного кадила. — Милый Юноша, я люблю тебя. Повинуясь твоему призыву, я нарушила волю моего отца и пришла к тебе, чтобы сказать: бойся меня и моих чар, беги от этого Старого Города далеко, а меня оставь моей темной судьбе, меня, упоенную злым дыханием Анчара. — О, прекрасная! — отвечал ей Юноша. — Ты, которую я едва узнал и которая уже для меня дороже моей жизни и моей души, — зачем говоришь ты мне эти жестокие слова? Или ты не веришь моей любви, которая зажглась внезапно, но уже не погаснет? — Я люблю тебя, — повторила Красавица, — и не хочу тебя погубить. Дыхание мое напитано ядом, и прекрасный Сад мой отравлен. Тебе первому я говорю это, потому что я люблю тебя. Торопись же оставить этот Город, беги от этого сада с его тлетворною красотою, беги далеко и забудь обо мне. Упоенный восторгом и печалью, сладчайшею всех земных радостей, Юноша воскликнул: — Возлюбленная моя! Что же мне от тебя надо? Не одного ли мгновения жаждет моя душа! Сгореть в блаженном пламени восторга и любви и у сладчайших ног твоих умереть! Легкий трепет пробежал по телу Красавицы, и вся она стала как ясная радость зари за белым туманом. Торжественным, широким движением подняла она свои нагие руки, и вся стремилась к Юноше, и говорила: — О, возлюбленный мой! Так будет, как ты хочешь, и с тобою умереть мне сладко. Иди же ко мне, в мой страшный Сад, и я расскажу тебе мою темную повесть. Опять, как утром, в руке ее блеснул бронзовый ключ на розовой ленте. Засмеялась, — резво, как мальчик, отбежала назад, мелькая на смутно-желтом песке дорожки смутною белизною стройных ног, — размахнулась быстро и ловко — и метнула ключ в окно. Юноша протянул руки и на лету схватил ключ.VII
Там, в отравленном Саду, под сенью таинственных растений, где неживая луна смешивала отраву своей тоски с ядовитым дыханием земных злых цветов, стояли они, Юноша и Красавица, упоенные восторгом и печалью. Они глядели в глаза друг другу, и Красавица голосом, звенящим, как хрупкий голос клавесин, говорила: — Мои предки были рабами — но и рабы жаждут свободы. Повинуясь повелению господина, один из моих предков совершил утомительно долгий путь, чтобы достигнуть пустыни, где растет Анчар. Он собрал ядовитую смолу Анчара и принес ее господину. Отравленные стрелы доставили господину немало побед. А мой предок, надышавшийся злых благоуханий, умер. Его вдова задумала отомстить злому роду победителей. Она воровала отравленные стрелы, мочила их в воде и, как многоценное вино, прятала эти настои в глубоких подвалах. Каплю настоя вливала она в бочку воды и этою водою поливала пустырь на краю Старого Города, где теперь наш дом и этот Сад. Потом брала каплю воды со дна этой бочки, вмешивала ее в хлеб и кормила им своего сына. И стала почва этого Сада отравленною, и сыну своему привила она яд. И с того времени весь род наш, из поколения в поколение, питался ядом. И ныне в жилах наших течет пламенеющая ядом кровь, и дыхание наше ароматно, но пагубно, и кто целует нас, тот умирает. И не слабеет сила нашего яда, пока живем мы в этом отравленном Саду, пока мы дышим ароматами этих чудовищных цветов. Семена их привезены издалека, — мой дед и мой отец были везде, где можно достать злые и вредные людям растения, — и здесь, в этой издавна отравленной почве, эти злые, эти пагубные цветы раскрыли всю свою гневную силу. Благоухая так сладко, так радостно, они, коварные, и росу, падающую с неба, претворяют в гибельную отраву. Так говорила Красавица, и радостно звенел ее голос, и лицо ее пылало великим ликованием. Кончила рассказ и засмеялась тихо и невесело. Юноша склонился перед нею и молча целовал ее руки, вдыхая томительное благоухание мирры, алоэ и мускуса, веявшее от ее тела и от ее тонкой одежды. Красавица заговорила опять: — Приходят ко мне потомки угнетателей, потому что чарует их моя злая, моя отравленная красота; Я улыбаюсь им, обреченным смерти, и каждого из них мне жаль, а иных я почти любила, но не отдавалась никогда никому. Только одним поцелуем дарила я каждого — поцелуи мои были невинны, как поцелуй нежной сестры. И тот, кого я целовала, умирал. Ужасом и восторгом, одновременно двумя столь несходными страстями, томилась душа смущенного Юноши. Но любовь, побеждающая все, преодолевающая даже и томления предсмертной тоски, победила и ныне. Восторженно простирая к нежной и страшной Красавице трепетные руки, воскликнул Юноша: — Если в поцелуе твоем смерть, о, возлюбленная, дай мне упиться неисчислимостью смертей! Прильни ко мне, целуй меня, люби меня, обвей меня сладостным ароматом твоего отравленного дыхания, смерть за смертью вливай в мое тело и в мою душу, пока не разрушишь все, что было мною! — Хочешь! Не боишься! — воскликнула Красавица. Бледное в лучах неживой луны лицо Красавицы стало как матовый светоч, и были трепетны и сини молнии ее печальных и радостных глаз. Движением доверчивым, нежным, страстным она прильнула к Юноше, и ее нагие руки обвились вокруг его шеи. — Мы умрем вместе! — шептала она, — Мы умрем вместе. Весь яд моего сердца пламенеет, и огненные струи стремятся по моим жилам, и я вся как объятый великим пламенем костер. — Я пламенею! — шептал Юноша. — Я сгораю в твоих объятиях, и мы с тобою — два пламенные костра, пылающие великим восторгом отравленной любви. Тускнела и падала печальная, неживая луна — и черная ночь пришла и стала на страже. Тайну любви и поцелуев, ароматных и отравленных, осенила она мраком и тишиною. И слушала согласный стук двух замирающих сердец, и в чутком молчании сторожила последние, легкие вздохи. Так в отравленном Саду, надышавшись ароматами, которыми дышала Красавица, и упившись сладкою ее любовью, жалящею нежно и смертельно, умер прекрасный Юноша — и на груди его умерла Красавица, сладким очарованием ночи и любви предав свою отравленную, по благоухающую душу.ОЧАРОВАНИЕ ПЕЧАЛИ (Сентиментальная новелла)
Сначала все совсем так же, как и в старой сказке. Молодая, прекрасная, кроткая королева скончалась. Оставила дочь, столь же прекрасную. Король Теобальд через несколько лет взял новую жену, красивую, но злую. Себе — красивую жену. Дочери — злую мачеху. Новая королева, красавица Мариана, притворялась, что любит свою падчерицу, прекрасную королевну Ариану. Она обращалась с нею ласково и кротко, тая в злом сердце кипучую злобу. Злоба ее распалялась тем, что королевна Ариана была так прекрасна, как бывают прекрасны юные девушки только в сказках и в глазах влюбленных и соперниц. Выросла королевна Ариана, и далеко разнеслась молва и слава о дивной ее красоте, и приезжали к ней свататься многие королевичи и принцы, влюбленные в нее по рассказам путешественников и поэтов и по ее портретам, и, посмотрев на нее, влюблялись еще больше. Но ни одному из них не отдала прекрасная Ариана своей любви, ни на кого не смотрела с выражением большей благосклонности, чем та, которая подобала каждому высокому гостю по его достоинству и по заветам гостеприимства. И распалялась злоба злой мачехи. Многие рыцари и поэты той страны и многих иных стран, и даже пришедшие издалека, привлеченные шумною молвою и славою о прелестях королевны Арианы, томились и вздыхали о ней, и мечтали, безнадежно влюбленные, и слагали ей песни, и носили ее цвета, черный и алый, и шептали ей робкие признания, — но никого из них не полюбила прекрасная Ариана, и на всех равно благосклонно смотрели ее отуманенные печалью глаза. И разгоралась лютая злоба злой мачехи, и решила Мариана погубить свою падчерицу. Все совсем так, как и в сказке. Говорила Мариана верной служанке, Бертраде, оставшись с нею наедине в своем покое: — Я — прекрасна, но Ариана — прекраснее меня, и не понимаю, почему. Щеки мои румяны, как и у нее; черные глаза мои блистают, как и у нее; губы мои алы и улыбаются так же нежно, как и у нее; все черты моего лица так же хороши, как и у неё, и даже красивее; и волосы мои черны и густы, как и у нее, и даже немного длиннее и гуще. Я высока и стройна, как и Ариана; у меня такая же высокая грудь, как и у нее, и тело мое так же бело, и кожа моя так же нежна, как у Арианы, и даже нежнее и белее, потому что я не хожу к бедным под жгучими лучами солнца, и под дождем, и под вьюгою, и не отдаю своего плаща встречному старому нищему и своих башмаков бедному оборванному ребенку, и не улыбаюсь в грязных избах, и пе плачу о нищих дома, как Ариана. И она все-таки прекраснее меня. — Ты прекраснее королевны Арианы, милостивая госпожа, — сказала коварная, хитрая Бертрада. — Только глупые юноши и поэты восхищены добротою королевны и умильно-печальную улыбку ее принимают за очаровательное явление красоты. Но разве поэты и юноши понимают что-нибудь в красоте! Но не поверила Мариана, и тосковала, и плакала. И говорила: — Извела бы ее, ненавистную. Но какое мне в том утешение? Память о красоте ее пережила бы ее, и люди говорили бы, что вот прекрасна королева Мариана, по покойная королевна Ариана была прекраснее ее. И во много раз увеличила бы несправедливая молва людская прелести ненавистной девчонки. Тогда Бертрада, склонясь к госпоже своей, сказала ей тихо: — Есть мудрые и вещие люди, которые знают многое. Может быть, найдутся чародеи или чародейки, которые сумеют перевести красоту королевны Арианы на тебя, милая госпожа. Так говоря, Бертрада думала о матери своей, старой ведьме Хильде, которая жила уединенно, чтобы никто при дворе короля не знал, что мать Бертрады — колдунья. Со злою надеждою посмотрела королева па Бертраду и спросила: — Не знаешь ли ты таких? — Поищу, милая госпожа, — ответила лукавая служанка. — Я так верна тебе, что для тебя готова и в ад спуститься, и заложить душу свою тому, кто зарится на этот ценный товар. Злая королева дала Бертраде денег и многие подарки — злое сердце верило другому, столь же злому и коварному сердцу. Прекрасная королева Мариана вышла в сад высокого королевского замка. Замок стоял за городом, на краю плоской горы, и далеко простершаяся внизу долина представляла взорам королевы очаровательный вид. На минуту невольно залюбовалась Мариана туманно синеющими далями полей, замкнутых далекою оградою леса, — и мирным течением реки, плавно уносящей на своих волнах и богато изукрашенные галеры, и утлые челноки, — и кудрявыми дымами деревень, таких красивых отсюда, сверху, где не видна грязь неряшливых, смрадных улиц. Но вдруг вспомнила королева, что Ариана стоит на башне, высоко над садом, дворцом и над нею, гордою Марианою, стоит, подставляя прекрасное, печальное лицо лобзаниям вольного ветра и золотого солнца, и смотрит па безмерные дали, с которых веет на неё печаль полей и деревень, — стоит, и смотрит, и плачет, может быть. И потемнели королевины прекрасные очи, и завистливою злобою исказилось ее лицо. Вот увидела королева влюбленного в Ариану принца Альберта, одного из самых упорных искателей руки и любви молодой королевны. Третий раз возвращался Альберт ко двору короля Теобальда, и каждый раз жил все дольше и дольше. Но не склонялась на его мольбы прекрасная Арнана. Теперь принц Альберт стоял в тени дуба, выросшего над краем мрачного обрыва, и смотрел пе отрываясь вверх. Королева подняла глаза по направлению его взора и увидела Ариану. На высокой башне, опершись рукою о ее сложенный из громадных камней парапет, стояла Ариана и смотрела вдаль, вся облитая горячим светом пламенеющего в небе светила. Ветер взвивал легкое покрывало на плечах королевны, и печальны были устремленные вдаль взоры. Королева Мариана стояла и насмешливо смотрела то на Ариану, то на Альберта. Наконец, влюбленный принц заметил присутствие королевы. Он прервал милое ему созерцание весьма неохотно, но ничто в его наружности и обращении не выдало того, как неприятно было ему отвести глаза от милого образа, так тягостно было ему заговорить и нарушить этим полное восторгов и очарований молчание внизу, в зеленеющем саду, так сближавшее его с молчанием и печалью там, на высоте надменной башни, где стояла Ариана. — Как настойчивы и неутомимы влюбленные! — говорила королева, когда принц Альберт, склонясь перед нею, целовал ее руку. — Милый Альберт, вы готовы стоять целыми днями, любуясь па прекраснейшую из земных дев. — Прекраснейшую после вас, милая Мариана, — отвечал Альберт. Льстил ей, чтобы снискать ее расположение. Так всегда нежна была, по-видимому, королева со своей падчерицей — и казалось влюбленному принцу, что счастие молодой королевны заботит сердце мачехи. Льстил ей, чтобы замолвила за него ласковое слово у королевны. Улыбнулась Мариана и не поверила ему. Вспомнила, как очарован был, в первый свой приезд, ее красотою принц Альберт. Пока не увидел юной Арианы. И перед девственною красотою Арианы в его глазах померкла красота королевы. Так бывало и с другими. Не раз. — Что делает там Ариана? — спросила королева, улыбаясь, — Моя милая дочь любит подниматься на эту башню и стоит там подолгу. У меня бы голова закружилась. И ветер такой надоедливый. И что она там делает! — Ариана любит всходить па высоту, — ответил влюбленный принц, — на высоту, где открываются широкие горизонты, где смолкают случайные шумы, — на высоту, с которой равно малыми и ничтожными кажутся и надменные чертоги, и лачуги бедняков. И от широких далей, и от высокого неба веет на Ариану очарование печали. И она сходит к нам, как высокое явление красоты, и очарование печали на ее лице. — Очарование печали, — тихо повторила королева. И продолжал влюбленный принц Альберт: — Нет красоты без очарования. Даруя человеку прекрасное лицо и прекрасное тело, природа точно облекает его неживою личиною, но, как в гробе, спит живая красота в теле и в лице, способных к проявлению красоты и даже, по-видимому, прекрасных, — спит до тех пор, пока не придет неведомая очаровательница и не — разбудит спящей красоты, одарив ее каждый раз новым очарованием. Замолчал Альберт, словно смущенный чем-то. Кончая его мысль, сказала королева: — Так, милый Альберт, блистательнейшая в мире красота ничто, если она лишена какого-то неведомого очарования. — Да, — сказал влюбленный принц. Омрачилось лицо королевы тоскою и гневом. И сказала королева Мариана: — Я — прекраснейшая из жен, но вам, милый Альберт, неведома тайна моего очарования. Отошла от него. Он опять поднял глаза на высокую башню, где все еще стояла Ариана, не замечая ни мачехи, ни влюбленного принца. «Обвеянная очарованием печали, стоит она там, — думала королева. — В знойный полдень, когда все замирает под жгучими взорами небесного Змия, она одна стоит на высокой башне и у безмолвного, ясного неба просит таинственных очарований. Поднимусь к ней, посмотрю, как она там колдует и ворожит, подслушаю чародейные слова, журчащим потоком текущие с ее алых губ». И стала королева Мариана медленно подниматься по лестнице, ведущей на высокую башню. Долго шла вверх. Уставала, садилась отдыхать и опять поднималась, преодолевая упрямство крутых ступеней. И уже была близка к вершине башни, когда увидела королевну Ариану сходящею вниз. Увидела и удивилась. Прекрасно и печально было лицо Арианы, как всегда, и кротко улыбались ее милые губы, как всегда, по наряд ее был необычен. Как простая девушка той страны в рабочий день, одета была Ариана. Белая грубая ткань облегала ее стройный стан, оставляя открытыми загорелые на ветру и на солнце плечи и руки. Пестрая, из грубой домашней материи юбка была коротка. На прекрасных ногах Арианы не было обуви. У се пояса висел мешок с деньгами, и в руках держала она тяжелую корзину с вещами, назначенными для раздачи бедным. — Милая Ариана, — спросила королева, — зачем ты надела на себя эту некрасивую, грубую одежду? Если ты идешь раздавать милостыню бедным, следуя своему обычаю, — хотя это могли сделать твои служанки, — но пусть так, иди сама, — но ведь ты изранишь о песок и о камни свои нежные ноги. Ариана ответила: — Прости, милая мама. Я не могу не идти к ним, хотя и знаю, что не могу помочь им ничем. Что же эти деньги и эти вещи! Всего, что я могу дать, так мало для них! И все, что у меня есть, так для меня много! И тяжело мне стало идти к ним и дразнить их завистливые взоры моим пышным королевским убором. Как нищая, буду приходить к ним, — да и разве я не нищая, если не могу дать так много, как хотела бы! — Иди, — сказала Мариана, — куда хочешь и как хочешь. Упрямая ты, и напрасно бы я тебе запрещала. Иди, красавица, но будь осторожна. И, когда Ариана спускалась по лестнице, Мариана шептала: — В лесу найдется ветка, достаточно сухая, чтобы выколоть тебе глаз. В деревне найдется собака, достаточно злая, чтобы укусить тебя за щеку, и изуродовать тебя. Где-нибудь на дороге найдется шаткая доска и камень — о доску споткнешься и упадешь, о камень сломаешь себе переносицу. Поднялась злая Мариана на верх башни, и смотрела вниз. Когда Ариана вышла в сад, в то место, где против двери из башни была калитка в наружной стене замка, к ней подошел влюбленный принц Альберт. — Милая Ариана, — сказал он, — позвольте мне идти за вами. Она улыбнулась и сказала ему: — Милый Альберт, мой путь — не ваш путь. Ваш путь лежит к мужественным подвигам, к победам и славе, к торжеству и к радости. Мой путь — в печали и немощи, к деяниям, всегда недостаточным, всегда ничтожным. — Милая Ариана, — отвечал Альберт, — я пойду не с вами, а только за вами и не помешаю вам ни лишним словом, ни лишним взором. — Как нищая, я иду к нищим, — сказала Ариана, — только для того, чтобы хоть один тоскующий почувствовал, что он пе совсем одинок в этом жестоком мире. Зачем же вам, милый Альберт, идти за мною? — Милая Ариана, — настаивал влюбленный принц, — позвольте мне идти за вами. Я буду охранять вас от дикого зверя и от злой встречи. — Пречистая Богородица закроет меня своею ризою нетленной от всякого злого человека, — сказала Ариана. — Но, милый Альберт, если вы так непременно хотите и если вы не стыдитесь идти за бедною девушкой, образ которой я приняла, то идите со мною. — Как вы милостивы, Ариана! — воскликнул влюбленный принц, склоняя колени перед Арианой. — Позвольте мне поцеловать ваши милые ноги. Ариана, улыбаясь, подняла влюбленного принца и сказала ему: — Милый Альберт, поцелуйте меня лучше в губы, как вашу сестру. И поцеловала его сама. Холоден и бесстрастен был ее поцелуй — но сладким восторгом наполнил он сердце влюбленного принца и очарованием печали. Вместе вышли они из ограды замка и спустились по крутой тропинке в долину, где много было рассеяно бедных деревень у подножия надменного чертога и богатого города. Королева Мариана смотрела на них сверху, и злоба кипела в ее злом сердце. Когда Альберт и Ариана скрылись за калиткою сада, Мариана постояла еще немного, с недоумением всматриваясь во все то, на что каждый день так долго смотрела Ариана. Скоро стало ей скучно. Кроме того, неприятно было постоянное завывание и бешенство ветра, и томило солнце, грубый и злой змей, обжигающий кожу. Мариана сошла вниз, в привычную ей обстановку богато украшенных покоев. Притворяться нежной матерью! О, как завидовала Мариана простым людям, которые не приучены притворяться! Те мачехи, простые бабы, бьют своих падчериц смертным боем. И никто не заступается за бедных девочек. Но что можно сделать с королевской дочерью? Мариана затворилась в своих покоях и целый день томилась и плакала от досады и зависти. В зеркало смотреться принималась много раз — и каждый раз зеркало показывало ей прекрасное лицо, но каждый раз завистливое сердце говорило Мариане, что Ариана еще прекраснее. Когда уже стемнело, королева вышла из своих покоев и, как неприкаянная, блуждала по залам и пустынным переходам дворца, хоронясь от людей, чтобы никто не смог по ее мрачному лицу прочесть ее черных дум. И воскликнула вдруг королева, обращаясь к сгущавшемуся в углах пустынной залы сумраку: — Тоскую и плачу, и никто мудрый и вещий не придет и пе спросит, отчего я тоскую. Видно, сказаны были эти слова в такой миг, когда подстерегающая стояла близко и слушала чутко. Известно ведь — в какой час слово молвится! Серея в серых сумерках, шелестя серыми одеждами и едва слышно шурша истоптанными, серыми от пыли башмаками, выдвинулась из угла старая, безобразная колдунья Хильда. Беззвучно смеясь и хрипло покашливая, подошла она кМариане. А королева стояла неподвижно, испуганная внезапным появлением, но в глубине ее злого сердца шевелилась надежда, что старуха — ведьма и поможет ей погубить падчерицыну красоту. Молчала королева, и старая Хильда заговорила: — Мудрый и вещий не спросит. Он и так знает. Знаю и я, чем опечалена ты, прекрасная королева. Воздух населен духами, которые подслушивают и тайные мысли. Молчала Мариана. И говорила Хильда: Прекрасна королева Мариана, а королевна Ариана еще прекраснее. Но королева Мариана хочет быть прекраснее всех жен, живущих на свете. Молчала Мариана. И говорила Хильда: На все есть средства: от полыни гибнут русалки, осина и мак страшны ведьмам и упырям. Есть заговоры и заклинания — и чего ими не сделаешь! Очарованием печали красна красота Арианы. Из глубины болот восходит высокая красота. Чего ты хочешь, королева Мариана: перевести ли мне на тебя очарование печали с твоей падчерицы пли погубить ее красоту? — Зачем мне очарование печали! — воскликнула Мариана. — Я пе хочу печали, ее и так у меня много. Я хочу радоваться и смеяться. — Как хочешь, милостивая госпожа, — сказала ведьма Хильда, — тогда погубим ее красоту тайными чарами. Но только дело это трудное и опасное — высокие духи оберегают королевну Ариану, и как бы наши волхвования не обратились тебе во зло, госпожа! — Я ничего не боюсь, — угрюмо сказала прекрасная Мариана, — делай, что умеешь, — и если успеешь, я наделю тебя щедро многими дарами. Начались в тайне королевина покоя многие волхвования против королевны Арианы, и все безуспешные. Каждый вечер приходила старая колдунья Хильда к королеве. Заговорила она вынутый ею на тропинке из замка в долину отпечаток обнаженной стопы Арианы — и тогда жестокими болями всю ночь мучилась юная королевна, по, когда она встала утром, перенесенные ею страдания сделали еще сильнее разлитое в ее лице очарование печали. Другой раз заговорила ведьма прядь волос, отрезанных королевою у Арианы, и похудела Ариана, топкою стала, как белая березка, — но стала еще краше. — Духа печали испугай радостью и смехом, — сказала однажды Хильда, — и отлетит очарование печали от прекрасного лица Арианы, когда простодушно звонким зальется она смехом, искажающим черты лица и уродливо растягивающим рот, привыкший только к печальной улыбке. Мариана пошла с поспешностью к королю и сказала ему: — Милая дочь наша Ариана грустит и печалится, хотя нет у нее никакой причины для скорби. Великою жалостью к Ариане болит мое сердце. Боюсь, что зачахнет от печали и умрет преждевременно Ариана. Надо развеселить ее и приучить ее к беззаботному смеху и веселью. — Хорошо ты придумала, — сказал Теобальд, — Девушка без смеха, что дерево без листьев. Я позабочусь об этом. Со всей страны собраны были самые искусные забавники и забавницы, шуты, скоморохи, сказочники, плясуны и плясуньи, фокусники, вожаки дрессированных медведей и обезьян, изобретатели смешных механических игрушек, комедианты, клоуны, акробаты и акробатки. Каждый день подолгу давали они свои разнообразные представления, — то на дворе, где с высокого балкона смотрели на них король, королева и юная Ариана, а на галереях и внизу теснились нарядные толпы придворных, вельмож, рыцарей, и знатных горожан, — то в одной из обширных зал дворца, где для тех же зрителей отведены были места по их достоинству и знатности. Громко хохотали все зрители, глядя на забавные проделки увеселителей, и только юная Ариана улыбалась печально и смеялась так тихо и грустно, что казалось, вот-вот она заплачет. Фокусник из далекой страны показал волшебство еще невиданное и неслыханное. На одной из стен зрительного зала натянул он полотно. Потом велел занавесить окна и погасить все огни. Сам же забрался на галерею против натянутого полотна, установил там фонарь потайной в некоем темном ящике и громко сказал собравшимся: — Смотрите на полотно. И начал деять чары, и на полотне открылись далекие страны, и, как живые, задвигались люди и животные, невиданные в королевстве Теобальда. Сначала ужас объял зрителей, особенно, когда кудесник показал им диковинные превращения. Но потом забавные сцены вызвали громкий смех зрителей. Только Ариана проливала тихие слезы. Спросила ее королева Мариана: — Милая дочь моя, отчего ты не смеешься, когда вокруг тебя такой громкий хохот, который и мертвеца заразил бы веселостью? Ариана ответила мачехе: — Как я могу смеяться над тем, чему смеются люди! Чему они смеются? Что их забавляет? Обманы, побои, воровство, погоня, злость. Тяжело и смотреть на их забавы. И вот я вижу — смеются они, а почти у каждого в сердце есть горе или злоба. Покраснела при этих словах Мариана. Ариана же продолжала: — И чародей, ожививший перед нами полотно, заставивший толпу плакать, ужасаться и смеяться, владеющий дивными тайнами познания, радостен ли он? Душа его омрачена многими печалями, и знаю, сожгут его за чародейство. И мудрейший из людей, поэт, слагающий песни о любви и о тайне, влачит на своих плечах тяжкий груз несчастливой жизни, и душа его мрачна, как подземная темница. Молча оставила ее Мариана. А наутро чародея-кинематографщика сожгли. Самое сильное волхвование было, когда Хильда сделала из воска фигуру человека и с обрядом, кощунственно повторявшим таинство крещения, нарекла ее Арианою. — Что сделаешь с этим человеком из воска, — сказала старая, — то и с Арианой случится. Мариана вынула из своей косы золотую иглу и, повторяя за колдуньею слова заклинания: «Как здесь Ариана восковая в моих руках красоту теряет, так бы и там Ариана живая красоту потеряла», — провела острым концом иглы по восковой щеке и намеревалась еще и еще много сделать знаков на воске, чтобы изуродовать лицо Арианы, как вдруг выронила из рук иглу и вскрикнула от внезапной острой боли в лице. Капли крови упали на ее руки, и в зеркало увидела она рапу на щеке своей. Смущенная ведьма бормотала: — Ворожила на Ариану, сталось на Мариане. Оберегающий Ариану дух вложил, должно быть, в твои уста твое имя вместо имени Арианы. Ничего не сделать с нею чарами воска — оставь эту восковую, чтобы тебе самой не было большого горя. Чародейства, и заговоры, и нашептывания на ветру, и наговоры на воде — ничего не приводило к цели, и хотя много страдала Ариана от злых чар, но становилась все прекраснее. И наконец сказала ведьма: — Не сгубить нам красоты юной королевны. Заклятие печали, наложенное на нее, сильнее всех чар, какие есть на земле. — Что же нам делать? — спросила королева Мариана. — Одно осталось, последнее средство, — сказала Хильда, — перевести на тебя, королева, с Арианы очарование печали. Крепко задумалась королева, и долго думала, и, наконец, сказала: — Хорошо, пусть будет по-твоему, старая ведьма. Пусть Ариана будет смеяться и веселиться, пусть я буду тосковать и печалиться, как она теперь, — только бы мне быть красивее Арианы. Хильда хрипло засмеялась, показывая желтые, кривые зубы, и сказала: — Она-то уж не будет смеяться. Ее очарование перевести на тебя можно только в час ее скорой кончины. — Да я не хочу ее смерти, — притворно-испуганным голосом сказала Мариана. Старая ведьма смеялась и повторяла: — Иначе нельзя. Да ты ничего не бойся. Я так сделаю, что никто не узнает. И наконец, Мариана согласилась. Тогда ведьма вытащила из-за пазухи белый платок, отдала его королеве и сказала: — В этом платке — большая сила. Только с ним надо обходиться осторожно. Когда королевна станет умирать, закрой ее лицо этим платком, чтобы капли ее пота в него впитались, и этим платком оботри свое лицо. И тогда обаяние, которым прекрасна была юная королевна, перейдет к тебе. Ведьма рассказала королеве, когда и как она погубит Ариану, и ушла, богатые унося с собою опять дары. На другой день, когда Ариана поднялась на башню, Мариана пришла и стала внизу башни, рядом с влюбленным принцем. Говорила с ним и мешала ему смотреть на Ариану, и ждала. В это время старая Хильда поднялась па башню. Стала на колени, чтобы не видел ее никто из-за высокого парапета, и смиренно поползла к Ариане, шепча слова благодарности. — Встань, старая, — сказала Ариана, — зачем ты ползаешь на коленях? — Милая королевна, — говорила старая ведьма, — ты вымолила у короля помилование моему сыну, которого немилостивые судьи присудили повесить только за то, что злые разбойники напоили его вином и заманили в свою шайку. Дай мне поцеловать твои ноги, добрая, милостивая, прекрасная королевна. Ариана за многих просила у короля, хотя и не всегда успешно; случалось ей, хоть и не часто, вымаливать помилование и присужденным к смертной казни. Припоминала, кто бы мог быть тот, за кого благодарит старуха, стояла спокойно, и хотя было противно, что старая ведьма целует ее ноги, но не мешала; знала Ариана, что рабам приятно пресмыкаться и целовать ноги господ, и этим, в самом унижении, утверждать свою личность. Старуха вдруг охватила колени Арианы, головою толкнула ее к парапету, быстро подняла ее ноги и опрокинула ее через парапет. Взвеяли в воздухе легкие одежды — и старая ведьма метнулась вниз, серым клубком скатилась по лестнице и спряталась где-то, шепча заговоры. Так быстро это случилось, что Ариана не успела приготовиться к защите, как уже почувствовала, что падает, вращаясь в воздухе. «Я умираю», — коротко и ясно подумала она, и не было в ней ни удивления, ни испуга. Ударилась о выступ кровли спиною и не почувствовала боли. Опять ударилась головою о выступ башни и опять не почувствовала боли. Третий раз ударилась о ветку старого дерева — и считала ушибы, и не чувствовала боли. Время казалось ей нескончаемо длинным, так что вся жизнь припомнилась в эту короткую минуту. Древний и мудрый дух, обитающий в старом дереве, простер навстречу падающей королевне свои руки, обратившиеся вдруг в ветви дерева. Бережно и нежно принимали ветви Ариану, стараясь не касаться ее тела, а только придерживать за платье. Замедляя падение Арианы, каждая ветка осторожно качала ее и передавала вниз, на следующую. И последняя ветвь медленно отпускала Ариану, пока ее ноги не коснулись земли, — и потом выпрямилась и бросила Ариану на руки подбежавших к этому месту Марианы и Альберта. С воплями притворной горести опустила на землю Мариана неподвижное тело падчерицы, открыла ее грудь, вынула из-за своего низко вырезанного корсажа флакон с мертвою водою, которую вчера дала ей Хильда, и этою водою облила грудь Арианы, повторяя: — Милое дитя мое, открой свои ненаглядные глазки, понюхай этого спирта, который так хорошо помогал мне при обмороках. Положила руку на грудь Арианы — слабо билось и замирало сердце королевны. Тогда Мариана вынула из-за корсажа чародейный платок, раскрыла его широко и вытерла им лицо Арианы. И отшатнулась, и бросилась бежать, сжимая в руке чародейный платок и громкими воплями разнося повсюду смятение и страх. Альберт склонился над Ариапою — и едва узнал ее. Отлетело очарование печали, губы утратили кроткую улыбку, глаза были безвыразительно-крепко сомкнуты, как у слепорожденной, и все лицо было равнодушною, мертвою, восковою личиной красоты. К телу бездыханной Арианы сбежались все, кто был в замке. Слуги плакали над ласковою госпожою, лекари долго осматривали прекрасное тело и решили, что Ариана умерла. Суровою скорбью омрачилось лицо короля Теобальда. Королева Мариана заперлась в своей спальне, и оттуда далеко были слышны ее громкие рыдания. Невидимый никем, кроме возлюбленного принца, подошел к Альберту дух старого дерева в образе маленького старика с веселыми глазами. Сказал: — Не тоскуй, Альберт, Ариана не умерла. Она обрызгана мертвою водою и сохранится целою и невредимою, пока не брызнут на нее живою водою. — Где же эта живая вода? — с радостной надеждой спросил Альберт. — Я пойду за нею хоть на край света и возьму ее, хоть бы пришлось за нее биться со всеми чудовищами и великанами. — Я дам тебе живую воду, Альберт, — сказал старик, — но поклянись мне, что ты не воспользуешься ею, пока не придет время. Альберт поклялся, и старик передал ему флакон с красною жидкостью. — Когда же настанет время? — спросил Альберт. — Об этом скажет тебе Мариана, — промолвил старик и исчез. Положили Ариану в хрустальный гроб, отнесли ее в королевский склеп, повесили там гроб на золотых цепях. Как живая, лежала в гробу Ариана. Как только Мариана пришла к себе с платком, которым вытерла лицо умирающей падчерицы, она замкнула двери и набросила па свое лицо чародейный платок. Острые мечи печали пронзили ее сердце, и она упала на пол и завопила от нестерпимой тоски. Долго рыдала и колотилась головою о пол, и не могла утешиться. Все, что она ни вспоминала, окрашивалось перед нею в цвета печали, в цвета Арианы, черный и алый. Встала, наконец, взглянула в зеркало и отшатнулась в страхе. Ужасное, хотя и прекрасное лицо глянуло на нее. Оно было бледно, и кровавою на нем раною казалась яркая красная черта губ. — Ты прекраснее Арианы, — сказало ей зеркало, — но красота твоя страшна — в ней очарование печали и невинной крови, и смертного ужаса. В ней очарование порока — мудрейшее и злейшее из очарований. Когда похоронили Ариану, полюбила королева подниматься па высокую башню и слушать голоса просторов и бури, и смотреть на то, что видели Арианины очи. Дивились люди дикой и страшной красоте Марианы и тому, как изменился ее нрав. — Мачеха, а как тоскует по Ариане! Однажды вечером пришла Мариана к Альберту и сказала: — Если бы я могла отдать Ариане мою душу вместе с очарованием печали! Легче ей в гробу, чем мне на свете. Понял Альберт, что пора. Спустился в склеп, разбил гроб, обрызгал Ариану живою водою и вывел ее к живым. — Ариана жива! Радостная разнеслась весть, и все спешили к королевскому замку. Среди общего ликования только одна Ариана была холодна и равнодушна. Спокойным «Да» отвечала она каждому явлению жизни и смотрела на отчетливо предстающие перед нею предметы, не узнавая за ними ничего. Королева же Мариана решилась умереть и возвратить Ариане очарование печали. Сказал Ариане Альберт: — Милая Ариана, хочешь ли быть моею женою? Нерадующим голосом ответила: — Да.И. А. БУНИН

ЗАРЯ ВСЮ НОЧЬ
I
На закате шел дождь, полно и однообразно шумя по саду вокруг дома, и в незакрытое окно в зале тянуло сладкой свежестью мокрой майской зелени. Гром грохотал над крышей, гулко возрастая и разражаясь треском, когда мелькала красноватая молния, от нависших туч темнело. Потом приехали с поля в мокрых чекменях работники и стали распрягать у сарая грязные сохи, потом пригнали стадо, наполнившее всю усадьбу ревом и блеянием. Бабы бегали по двору за овцами, подоткнув подолы и блестя белыми босыми ногами по траве; пастушонок в огромной шапке и растрепанных лаптях гонялся по саду за коровой и с головой пропадал в облитых дождем лопухах, когда корова с шумом кидалась в чащу… Наступала ночь, дождь перестал, но отец, ушедший в поле еще утром, все не возвращался. Я была одна дома, но я тогда никогда не скучала; я еще не успела насладиться ни своей ролью хозяйки, ни свободой после гимназии. Брат Паша учился в корпусе, Анюта, вышедшая замуж еще при жизни мамы, жила в Курске; мы с отцом провели мою первую деревенскую зиму в уединении. Но я была здорова и красива, нравилась сама себе, нравилась даже за то, что мне легко ходить и бегать, работать что-нибудь по дому или отдавать какое-нибудь приказание. За работой я напевала какие-то собственные мотивы, которые меня трогали. Увидав себя в зеркале, я невольно улыбалась. И, кажется, все было мне к лицу, хотя одевалась я очень просто. Как только дождь прошел, я накинула на плечи шаль и, подхватив юбки, побежала к варку, где бабы доили коров. Несколько капель упало с неба на мою открытую голову, но легкие неопределенные облака, высоко стоявшие над двором, уже расходились, и на дворе реял странный, бледный полусвет, как всегда бывает у нас в майские ночи. Свежесть мокрых трав доносилась с поля, мешаясь с запахом дыма из топившейся людской. На минуту я заглянула и туда, — работники, молодые мужики в белых замашных рубахах, сидели вокруг стола за чашкой похлебки и при моем появлении встали, а я подошла к столу и, улыбаясь над тем, что я бежала и запыхалась, сказала: — А папа где? Он был в поле? — Они были ненадолго и уехали, — ответило мне несколько голосов сразу. — На чем? — спросила я. — На дрожках, с барчуком Сиверсом. — Разве он приехал? — чуть не сказала я, пораженная этим неожиданным приездом, но, вовремя спохватившись, только кивнула головой и поскорее вышла. Сивере, кончив Петровскую академию, отбывал тогда воинскую повинность. Меня еще в детстве называли его невестой, и он тогда очень не нравился мне за это. Но потом мне уже нередко думалось о нем, как о женихе; а когда он, уезжая в августе в полк, приходил к нам в солдатской блузе с погонами и, как все вольноопределяющиеся, с удовольствием рассказывал о «словесности» фельдфебеля-малоросса, я начала свыкаться с мыслью, что буду его женой. Веселый, загорелый — резко белела у него только верхняя половина лба, — он был очень мил мне. «Значит, он взял отпуск», — взволнованно думала я, и мне было и приятно, что он приехал, очевидно, для меня, и жутко. Я торопилась в дом приготовить отцу ужин, но, когда я вошла в лакейскую, отец уже ходил по залу, стуча сапогами. И почему-то я необыкновенно обрадовалась ему. Шляпа у него была сдвинута на затылок, борода растрепана, длинные сапоги и чесучовый пиджак закиданы грязью, но он показался мпе в эту минуту олицетворением мужской красоты и силы. — Что ж ты в темноте? — спросила я. — Да я, Тата, — ответил он, называя меня, как в детстве, — сейчас лягу и ужинать не буду. Устал ужасно, и притом, знаешь, который час? Ведь теперь всю ночь заря — заря зарю встречает, как говорят мужики. Разве молока, — прибавил он рассеянно. Я потянулась к лампе, но он замахал головой и, разглядывая стакан на свет, нет ли мухи, стал пить молоко. Соловьи уже пели в саду, и в те три окна, что были на северо-запад, виднелось далекое светло-зеленое небо над лиловыми весенними тучками нежных и красивых очертаний. Все было неопределенно и на земле, и в небе, все смягчено легким сумраком ночи, и все можно было разглядеть в полусвете непогасшей зари. Я спокойно отвечала отцу на вопросы по хозяйству, но, когда он внезапно сказал, что завтра к нам придет Сивере, я почувствовала, что краснею. — Зачем? — пробормотала я. — Свататься за тебя, — ответил отец с принужденной улыбкой. — Что ж, малый красивый, умный, будет хороший хозяин… Мы уж пропили тебя. — Не говори так, папочка, — сказала я, и на глазах у меня навернулись слезы. Отец долго глядел на меня, потом, поцеловав в лоб, пошел к дверям кабинета. — Утро вечера мудренее, — прибавил он с усмешкой.II
Сонные мухи, потревоженные нашим разговором, тихо гудели на потолке, мало-помалу задремывая, часы зашипели и звонко и печально прокуковали одиннадцать… «Утро вечера мудренее», — пришли мне в голову успокоительные слова отца, и опять мне стало легко и как-то счастливо-грустно. Отец уже спал, в кабинете было давно тихо, и все в усадьбе тоже спало. И что-то блаженное было в тишине ночи после дождя и старательном выщелкивании соловьев, что-то неуловимо прекрасное реяло в далеком полусвете зари. Стараясь не шуметь, я стала осторожно убирать со стола, переходя па цыпочках из комнаты в комнату, поставила в холодную печку в прихожей молоко, мед и масло, прикрыла чайный сервиз салфеткой и прошла в свою спальню. Это не разлучало меня с соловьями и зарей. Ставни в моей комнате были закрыты, но комната моя была рядом с гостиной, и в отворенную дверь, через гостиную, я видела полусвет в зале, а соловьи были слышны во всем доме. Распустив волосы, я долго сидела на постели, все собираясь что-то решить, потом закрыла глаза, облокотись на подушку, и внезапно заснула. Кто-то явственно сказал надо мной: «Сивере!» — я, вздрогнув, очнулась и вдруг мысль о замужестве сладким ужасом, холодом пробежала по всему моему телу… Я лежала долго, без мыслей, точно в забытьи. Потом мне стало представляться, что я одна во всей усадьбе, уже замужняя, и что вот в такую же ночь муж вернется когда-нибудь из города, войдет в дом и неслышно снимет в прихожей пальто, а я предупрежу его — и тоже неслышно появлюсь па пороге спальни… Как радостно поднимет он меня на руки! И мне уже стало казаться, что я люблю. Сиверса я знала мало; мужчина, с которым я мысленно проводила эту самую нежную ночь моей первой любви, был не похож на него, и все-таки мне казалось, что я думаю о Сиверсе. Я почти год не видала его, а ночь делала его образ еще более красивым и желанным. Было тихо, темно; я лежала и все более теряла чувство действительности. «Что ж, красивый, умный…» И, улыбаясь, я глядела в темноту закрытых глаз, где плавали какие-то светлые пятна и лица… А меж тем чувствовалось, что наступил самый глубокий час ночи. «Если бы Маша была дома, — подумала я про свою горничную, — я пошла бы сейчас к ней, и мы проговорили бы до рассвета… Но нет, — опять подумала я, — одной лучше… Я возьму её к себе, когда выйду замуж…» Что-то робко треснуло в зале. Я насторожилась, открыла глаза. В зале стало темнее, все вокруг меня и во мне самой уже изменилось и жило иной жизнью, особой ночной жизнью, которая непонятна утром. Соловьи умолкли, — медленно щелкал только один, живший в эту весну у балкона, маятник в зале тикал осторожно и размеренно-точно, а тишина в доме стала как бы напряженной. И, прислушиваясь к каждому шороху, я приподнялась на постели и почувствовала себя в полной власти этого таинственного часа, созданного для поцелуев, для воровских объятий, и самые невероятные предположения и ожидания стали казаться мне вполне естественными. Я вдруг вспомнила шутливое обещание Сиверса прийти как-нибудь ночью в наш сад на свидание со мной… А что, если он не шутил? Что, если он медленно и неслышно подойдет к балкону? Облокотившись на подушку, я пристально смотрела в зыбкий сумрак и переживала в воображении все, что я сказала бы ему едва слышным шепотом, отворяя дверь балкона, сладостно теряя волю позволяя увести себя но сырому песку аллеи и глубину мокрого сада…III
Я обулась, накинула шаль на плени и, осторожно выйдя в гостиную, с бьющимся сердцем остановилась у двери на балкон. Потом, убедившись, что в доме не слышно ни звука, кроме мерного тиканья часов и соловьиного эха, бесшумно повернула ключ в замке. И тотчас же соловьиное щелканье, отдававшееся по саду, стало слышнее, напряженная тишина исчезла, и грудь свободно вздохнула душистой сыростью ночи. По длинной аллее молодых березок, по мокрому песку дорожки я шла в полусвете зари, затемненной тучками на севере, в конце сада, где была сиреневая беседка среди тополей и осин. Было так тихо, что слышно было редкое падение капель с нависших ветвей. Все дремало, наслаждаясь своей дремотой, только соловей томился своей сладкой песней. В каждой тени мне чудилась человеческая фигура, сердце у меня поминутно замирало, и, когда я, наконец, вошла в темноту беседки и на меня пахнуло ее теплотой, я была почти уверена, что кто-то тотчас же неслышно и крепко обнимет меня. Никого, однако, не было, и я стояла, дрожа от волнения и вслушиваясь в мелкий, сонный лепет осин. Потом села на сырую скамью… Я еще чего-то ждала, порою быстро взглядывала в сумрак рассвета… И еще долго близкое и неуловимое веяние счастья чувствовалось вокруг меня — то страшное и большое, что в тот или иной момент встречает всех нас на пороге жизни. Оно вдруг коснулось меня — и, может быть, сделало именно то, что нужно было сделать: коснуться и уйти. Помню, что все те нежные слова, которые были в моей душе, вызвали наконец на мои глаза слезы. Прислонясь к стволу сырого тополя, я ловила, как чье-то утешение, слабо возникающий и замирающий лепет листьев и была счастлива своими беззвучными слезами… Я проследила весь сокровенный переход ночи в рассвет. Я видела, как сумрак стал бледнеть, как заалело белесое облачко на севере, сквозившее сквозь вишенник в отдалении. Свежело, я куталась в шаль, а в светлеющем просторе неба, который на глаз делался все больше и глубже, дрожала чистой яркой каплей Венера. Я кого-то любила, и любовь моя была во всем: в холоде и в аромате утра, в свежести зеленого сада, в этой утренней звезде… Но вот послышался резкий визг водовозки — мимо сада, на речку… Потом на дворе кто-то крикнул сиплым, утренним голосом… Я выскользнула из беседки, быстро дошла до балкона, легко и бесшумно отворила дверь и пробежала на цыпочках в теплую темноту своей спальни… Сивере утром стрелял в нашем саду галок, а мне казалось, что в дом вошел пастух и хлопает большим кнутом. Но это не мешало мне крепко спать. Когда же я очнулась, в зале раздавались голоса и гремели тарелками. Потом Сивере подошел к моим дверям и крикнул мне: — Наталья Алексеевна! Стыдно! Заспались! И мне и правда было стыдно, стыдно выйти к нему, стыдно, что я откажу ему, — теперь я знала это уже твердо, — и, торопясь одеться и поглядывая в зеркало на свое побледневшее лицо, я что-то шутливо и приветливо крикнула в ответ, но так слабо, что он, верно, не расслышал.Л. Н. АНДРЕЕВ

БЕЗДНА
I
Уже кончался день, а они двое все шли, все говорили, и не замечали ни времени, ни дороги. Впереди, на пологом холме, темнела небольшая роща, и сквозь ветви деревьев красным раскаленным углем пылало солнце, зажигало воздух и весь его превращало в огненную золотистую пыль. Так близко и так ярко было солнце, что все кругом словно исчезало, а оно только одно оставалось, окрашивало дорогу и ровняло ее. Глазам идущих стало больно, они повернули назад, и сразу перед ними все потухло, стало спокойным и ясным, маленьким и отчетливым. Где-то далеко, за версту или больше, красный закат выхватил высокий ствол сосны, и он горел среди зелени, как свеча в темной комнате; багровым налетом покрылась впереди дорога, на которой теперь каждый камень отбрасывал длинную черную тень, да золотисто-красным ореолом светились волосы девушки, пронизанные солнечными лучами. Один тонкий вьющийся волос отделился от других и вился и колебался в воздухе, как золотая паутинка. И то, что впереди стало темно, не прервало и не изменило их разговора. Такой же ясный, задушевный и тихий, он лился спокойным потоком и был все об одном: о силе, красоте и бессмертии любви. Оба они были очень молоды: девушке было всего семнадцать лет, Немовецкому на четыре года больше, и оба они были в ученической форме: она в скромном коричневом платье гимназистки, он в красивой форме студента-технолога. И, как и речь, все у них было молодое, красивое и чистое: стройные, гибкие фигуры, словно пронизанные воздухом и родные ему, легкая упругая поступь и свежие голоса, даже в простых словах звучащие задумчивой нежностью, так, как звенит ручей в тихую весеннюю ночь, когда не весь еще снег сошел с темных полей. Они шли, сворачивали там, где сворачивала незнакомая дорога, и две длинные, постепенно утончающиеся тени, смешные от маленьких головок, то раздельно двигались впереди, то сбоку сливались в одну узкую и длинную, как тень тополя, полосу. Но они не видели теней и говорили, и, говоря, он не сводил глаз с ее красивого лица, на котором розовый закат точно оставил часть своих нежных красок, а она смотрела вниз, на тропинку, отталкивала зонтиком маленькие камешки и следила, как из-под темного платья равномерно выдвигался то один, то другой острый кончик маленькой ботинки. Дорогу пересекла канава с пыльными, обвалившимися от ходьбы краями, и они на миг остановились. Зиночка подняла голову, обвела вокруг затуманенным взглядом и спросила: — Вы знаете, где мы? Я здесь ни разу не была. Он внимательно оглядел местность. — Да, знаю. Там, за этим бугром, город. Давайте руку, я вам помогу. Он протянул руку, нерабочую руку, тонкую и белую, как у женщины. Зиночке было весело, ей хотелось перепрыгнуть канаву самой, побежать, крикнуть: «Догоняйте!» — но она сдержалась, слегка, с важной благодарностью наклонила голову и немного боязливо протянула руку, сохранившую еще нежную припухлость детской руки. А ему хотелось до боли сжать эту трепетную ручку, но он также сдержался, с полупоклоном, почтительно принял ее и скромно отвернулся, когда у всходившей девушки слегка приоткрылась нога. И снова они шли и говорили, но головы их были полны ощущением на минуту сблизившихся рук. Она еще чувствовала сухой жар его ладони и крепких пальцев; ей было приятно и немного совестно, а оп ощущал покорную мягкость ее крохотной ручки и видел черный силуэт ноги и маленькую туфлю, наивно и нежно обнимавшую ее. И было что-то острое, беспокойное в этом немеркнущем представлении узкой полоски белых юбок и стройной ноги, и несознаваемым усилием воли он потушил его. И тогда ему стало весело, и сердцу его было так широко и свободно в груди, что захотелось петь, тянуться руками к небу и крикнуть: «Бегите, я буду вас догонять» — эту древнюю формулу первобытной любви среди лесов и гремящих водопадов. И от всех этих желаний к горлу подступали слезы. Длинные, смешные тени исчезли, и дорожная пыль стала серой и холодной, но они не заметили этого и говорили. Оба они прочли много хороших книг, и светлые образы людей, любивших, страдавших и погибавших за чистую любовь, носились перед их глазами. В памяти воскресали отрывки неведомо когда прочитанных стихов, в одежду звучной гармонии и сладкой грусти облекавших любовь. — Вы не помните, откуда это? — спрашивал Немовецкий, припоминая — «…и со мною снова та, кого люблю, — от которой скрыл я, не сказав ни слова, всю тоску, всю нежность, всю любовь мою…» — Нет, — ответила Зиночка и задумчиво повторила: — «Всю тоску, всю нежность, всю любовь мою…» — Всю любовь мою, — невольным эхом откликнулся Немовецкий. И снова они вспоминали. Вспоминали чистых, как белые лилии, девушек, надевавших черную монашескую одежду, одиноко тоскующих в парке, засыпанном осенней листвой, счастливых в своем несчастье, они вспоминали и мужчин, гордых, энергичных, но страдающих и просящих о любви и чутком женском сострадании. Печальны были вызванные образы, но в их печали светлее и чище являлась любовь. Огромным, как мир, ясным, как солнце, и дивно-красивым вырастала она перед их глазами, и не было ничего могущественнее ее и краше. — Вы могли бы умереть за того, кого любите? — спросила Зиночка, смотря на свою полудетскую руку. — Да, мог бы, — решительно ответил Немовецкий, открыто и искренно глядя на нее. — А вы? — Да, и я, — она задумалась. — Ведь это такое счастье: умереть за любимого человека. Мне очень хотелось бы. Их глаза встретились, ясные, спокойные, и что-то хорошее послали друг другу, и губы улыбнулись. Зиночка остановилась. — Постойте, — сказала она. — У вас на тужурке нитка. И доверчиво она подняла руку к его плечу и осторожно, двумя пальцами сняла нитку. — Вот! — сказала она и, став серьезной, спросила: — Отчего вы такой бледный и худой? Вы много занимаетесь, да? Не утомляйте себя, не надо. — У вас глаза голубые, а в них светлые точечки, как искорки, — ответил он, рассматривая ее глаза. — А у вас черные. Нет, карие, теплые. И в них… Зиночка не договорила, что в них, и отвернулась. Лицо ее медленно краснело, глаза стали смущенные и робкие, а губы невольно улыбались. И, не ожидая улыбающегося и чем-то довольного Немовецкого, она тронулась вперед, но скоро остановилась. — Смотрите, солнце зашло! — с грустным изумлением воскликнула она. — Да, зашло, — с внезапной, острой грустью отозвался он. Свет погас, тени умерли, и все кругом стало бледным, немым и безжизненным. Оттуда, где раньше сверкало раскаленное солнце, бесшумно ползли вверх темные груды облаков и шаг за шагом пожирали светло-голубое пространство. Тучи клубились, сталкивались, медленно и тяжко меняли очертания разбуженных чудовищ и неохотно подвигались вперед, точно их самих, против их воли, гнала какая-то неумолимая, страшная сила. Оторвавшись от других, одиноко металось светлое волокнистое облачко, слабое и испуганное.II
Щеки Зиночки побледнели, губы стали красными, почти кровавыми, зрачок неприметно расширился, затемнив глаза, и она тихо прошептала: — Мне страшно. Тут так тихо. Мы заблудились? Немовецкий сдвинул густые брови и пытливо оглядел местность. Без солнца, под свежим дыханием близкой ночи, она казалась неприветливой и холодной; во все стороны раскидывалось серое поле с низенькой, словно притоптанной травой, глинистыми оврагами, буграми и ямами. Ям было много, глубоких, отвесных и маленьких, поросших ползучей травой; в них уже бесшумно залегала на ночь молчаливая тьма; и то, что здесь были люди; что-то делали, а теперь их нет, делало местность еще более пустынной и печальной. Там и здесь, как сгустки лилового холодного тумана, вставали рощи и перелески и точно выжидали, что скажут им заброшенные ямы. Немовецкий подавил поднимавшееся в нем тяжелое и смутное чувство тревоги и сказал: — Нет, мы не заблудились. Я знаю дорогу. Сперва полем, а потом через тот лесок. Вы боитесь? Она храбро улыбнулась и ответила: — Нет, теперь нет. Но нужно скорее домой — пить чай. Быстро и решительно они двинулись вперед, но скоро замедлили шаги. Они не глядели по сторонам, но чувствовали угрюмую враждебность изрытого поля, окружавшего их тысячью тусклых неподвижных глаз, и это чувство сближало их и бросало к воспоминаниям детства. И воспоминания были светлые, озаренные солнцем, зеленой листвой, любовью и смехом. Как будто это была не жизнь, а широкая, мягкая песня, и звуками в ней были они сами, две маленькие нотки: одна звонкая и чистая, как звенящий хрусталь, другая немного глуше, но ярче — как колокольчик. Показались люди — две женщины, сидевшие на краю глубокой глиняной ямы; одна сидела, заложив ногу за ногу, и пристально смотрела вниз; головной платок приподнялся, открывая космы путаных волос; спина горбилась и встягивала вверх грязную кофту с крупными, как яблоки, цветами и распустившимися завязками. На проходящих она не взглянула. Другая женщина полулежала возле, закинув голову. Лицо у нее было грубое, широкое, с мужскими чертами, и под глазами на выдавшихся скулах горели по два красных кирпичных пятна, похожих на свежие ссадины. Она была еще грязнее, чем первая, и смотрела на идущих прямо и просто. Когда они прошли, она запела густым, мужским голосом:— Для тебя одного, мой любезный, Я, как цвет ароматный, цвела…
— Варька, слышишь? — обратилась она к молчаливой подруге и, не получив ответа, громко и грубо захохотала. Немовецкий знал таких женщин, грязных даже тогда, когда на них было богатое и красивое платье, привык к ним, и теперь они скользнули по его взгляду и, не оставив следа, исчезли. Но Зиночка, почти коснувшаяся их своим коричневым скромным платьем, почувствовала что-то враждебное, жалкое и злое, на миг вошедшее в ее душу. Но через несколько минут впечатление изгладилось, как тень облака, быстро бегущая по золотистому лугу, и когда мимо них, обгоняя, прошли двое: мужчина в картузе и пиджаке, но босиком, и такая же грязная женщина, она увидела их, но не почувствовала. Не отдавая себе отчета, она долго еще следила за женщиной, и ее немного удивило, почему у нее такое тонкое платье, как-то липко, точно мокрое, обхватывающее ноги, и подол с широкой полосой жирной грязи, въевшейся в материю. Что-то тревожное, больное и страшно безнадежное было в трепыхании этого тонкого и грязного подола. И снова они шли и говорили, а за ними двигалась, нехотя, темная туча и бросала прозрачную, осторожно прилегающую тень. На распертых боках тучи тускло просвечивали желтые мёдные пятна и светлыми, бесшумно клубящимися дорогами скрывались за ее тяжелой массой. И тьма сгущалась так незаметно и вкрадчиво, что трудно было в нее поверить, и казалось, что все еще это день, но день тяжело больной и тихо умирающий. Теперь они говорили о тех страшных чувствах и мыслях, которые посещают человека ночью, когда он пе спит и ни звуки, ни речи не мешают ему, и то, как тьма, широкое и многоглазое, что есть жизнь, плотно прижимается к самому его лицу. — Вы представляете себе бесконечность? — спросила Зиночка, прикладывая ко лбу пухлую ручку и крепко зажмуривая глаза. — Нет. Бесконечность… Нет, — ответил Немовецкий, также закрывая глаза. — А я иногда вижу ее. Первый раз я увидела, когда была еще маленькая. Это как будто телеги. Стоит одна телега, другая, третья и так далеко, без конца, все телеги, телеги… Страшно, — она вздрогнула. — Но почему телеги? — улыбнулся Немовецкий, хотя ему было неприятно. — Не знаю. Телеги. Одна, другая… без конца. Тьма вкрадчиво густела, и туча уже прошла над их головами и спереди точно заглядывала в их побледневшие, опущенные лица. И все чаще вырастали темные фигуры оборванных грязных женщин, словно их выбрасывали на поверхность глубокие, неизвестно зачем выкопанные ямы, и тревожно трепыхались их мокрые подолы. То в одиночку, то по две, по три появлялись они, и голоса их звучали громко и странно-одиноко в замершем воздухе. — Кто эти женщины? Откуда их столько? — спрашивала Зиночка боязливо и тихо. Немовецкий знал, кто эти женщины, и ему было страшно, что они попали в такую дурную и опасную местность, но спокойно ответил: — Не знаю. Так. Не нужно о них говорить. Вот сейчас пройдем этот лесок, а там будет застава и город. Жаль, что мы так поздно вышли. Ей стало смешно, что он говорит: поздно, когда они вышли в четыре часа, и она взглянула на него и улыбнулась. Но брови его не расходились, и она предложила, успокаивая и утешая: — Пойдемте скорее. Мне хочется чаю. Да и лес уже близко. — Пойдемте. Когда они вошли в лес и деревья молчаливо сошлись вершинами над их головами, стало очень темно, но уютно и спокойно. — Давайте руку, — предложил Немоведкий. Она нерешительно подала руку, и легкое прикосновение точно разогнало тьму. Руки их были неподвижны и не прижимались, и Зиночка даже немного отодвигалась от спутника, но все их сознание сосредоточилось на ощущении этого маленького местечка в теле, где соприкасались руки. И опять хотелось говорить о красоте и таинственной силе любви, но говорить так, чтобы не нарушать молчания, говорить не словами, а взглядами. И они думали, что нужно взглянуть, и хотели, но не решались. — А вот опять люди! — весело сказала Зиночка.
III
На поляне, где было светлее, сидели около опорожненной бутылки три человека и молча, выжидательно смотрели на подходящих. Один, бритый, как актер, засмеялся и свистнул так, как будто это значило: — Ого! Сердце у Немовецкого упало и замерло в страшной тревоге, но, будто подталкиваемый сзади, он шел прямо на сидящих, около которых проходила тропинка. Те ждали, и три пары глаз темнели неподвижно и страшно. И, смутно желая расположить к себе этих мрачных, оборванных людей, в молчании которых чувствовалась угроза, указать на свою беспомощность и разбудить в них сочувствие, он спросил: — Где пройти к заставе? Здесь? Но они не ответили. Бритый свистнул что-то неопределенное и насмешливое, а другие двое молчали и смотрели с тяжелой, зловещей пристальностью. Они были пьяны, злы, и им хотелось любви и разрушения. Краснощекий, оплывший приподнялся на локти, потом нерешительно, как медведь, оперся на лапы и встал, тяжело вздохнув. Товарищи мельком взглянули на него и опять с той же пристальностью уставились на Зиночку. — Мне страшно, — одними губами сказала она. Не слыша слов, Немовецкий понял ее по тяжести опершейся руки. И, стараясь сохранить вид спокойствия, но чувствуя роковую неотвратимость того, что сейчас случится, он зашагал ровно и твердо. И три пары глаз приблизились, сверкнули и остались за спиной. «Нужно бежать, — подумал Немовецкий и сам ответил себе. — Нет, нельзя бежать». — Совсем дохляк парень, даже обидно, — сказал третий из сидевших, лысый, с редкой рыжей бородой. — А девочка хорошенькая, дай Бог всякому. Все трое как-то неохотно засмеялись. — Барин, погоди на два слова! — густо, басом сказал высокий и поглядел на товарищей. Те приподнялись. Немовецкий шел не оглядываясь. — Нужно погодить, когда просят, — сказал рыжий. — А то ведь и по шее можно. — Тебе говорят! — гаркнул высокий и в два прыжка нагнал идущих. Массивная рука опустилась на плечо Немовецкого и покачнула его, и, обернувшись, он возле самого лица встретил круглые, выпуклые и страшные глаза. Они были так близко, точно он смотрел на них сквозь увеличительное стекло и ясно различал красные жилки на белке и желтоватый гной па ресницах. И, выпустив немую руку Зиночки, он полез в карман и забормотал: — Денег!.. Нате денег. Я с удовольствием. Выпуклые глаза все более круглились и светлели. И когда Немовецкий отвел от них свои глаза, высокий немного отступил назад и без размаху, снизу, ударил Немовецкого в подбородок. Голова Немовецкого откачнулась, зубы ляскнули, фуражка опустилась на лоб и свалилась, и, взмахнув руками, он упал навзничь. Молча, без крика, повернулась Зиночка и бросилась бежать, сразу приняв всю быстроту, на какую была способна. Бритый крикнул долго и странно: — А-а-а!.. И с криком погнался за ней. Немовецкий, шатаясь, вскочил, но не успел еще выпрямиться, как снова был сбит с ног ударом в затылок. Тех было двое, а он один, слабый и непривыкший к борьбе, но он долго боролся, царапался ногтями, как дерущаяся женщина, всхлипывал от бессознательного отчаяния и кусался. Когда он совсем ослабел, его подняли и понесли; он упирался, но в голове шумело, он переставал понимать, что с ним делается, и бессильно обвисал в несущих руках. Последнее, что он увидел — это кусок рыжей бороды, почти попадавшей ему в рот, а за ней темноту леса и светлую кофточку бегущей девушки. Она бежала молча и быстро, так, как бегала па днях, когда играли в горелки, — а за ней мелкими шажками, настигая, несся бритый. А потом Немовецкий ощутил вокруг себя пустоту, с замиранием сердца понесся куда-то вниз,охнул всем телом, ударившись о землю, — и потерял сознание. Высокий и рыжий, бросившие Немовецкого в ров, постояли немного, прислушиваясь к тому, что происходило на дне рва. Но лица их и глаза были обращены в сторону, где осталась Зиночка. Оттуда послышался высокий, придушенный женский крик и тотчас замер. И высокий сердито воскликнул: — Мерзавец! — и прямиком, ломая сучья, как медведь, побежал. — И я! И я! — тоненьким голоском кричал рыжий, пускаясь за ним вслед. Он был слабосилен и запыхался; в борьбе ему ушибли коленку, и ему было обидно, что мысль о девушке пришла ему первому, а достанется она ему последнему. Он приостановился, потер рукой коленку, высморкался, приставив палец к носу, и снова побежал, жалобно крича: — И я! И я! Темная туча уже расползлась по всему небу, и наступила темная, тихая ночь. В темноте скоро исчезла коротенькая фигура рыжего, но долго еще слышался неровный топот его ног, шорох раздвигаемых листьев и дребезжащий, жалобный крик: — И я! Братцы, и я!IV
В рот Немовецкому набралась земля и скрипела на зубах. И первое, самое сильное, что он почувствовал, придя в сознание, был густой и спокойный запах земли. Голова была тупая, словно налитая тусклым свинцом, так что трудно было ворочать; все тело ныло, и сильно болело плечо, но ничего не было ни переломано, ни разбито. Немовецкий сел и долго смотрел вверх, ничего не думая и не вспоминая. Прямо над ним свешивался куст с черными широкими листьями, и сквозь них проглядывало очистившееся небо. Туча прошла, не бросив ни одной капли дождя и сделав воздух сухим и легким, и высоко, на середину неба, поднялся разрезанный месяц с прозрачным, тающим краем. Он доживал последние ночи и светил холодно, печально и одиноко. Небольшие клочки облаков быстро пронеслись в вышине, где продолжал, очевидно, дуть сильный ветер, но не закрывали месяца, а осторожно обходили его. В одиночестве месяца, в осторожности высоких, светлых облаков, в дуновении неощутимого внизу ветра чувствовалась таинственная глубина царящей над землею ночи, Немовецкий вспомнил все, что произошло, и не поверил. Все случившееся было страшно и непохоже на правду, которая не может быть такой ужасной, и сам он, сидящий среди ночи и смотрящий откуда-то снизу на перевернутый месяц и бегущие облака, был также странен и не похож на настоящего. И он подумал, что это обыкновенный страшный сон, очень страшный и дурной. И эти женщины, которых они так много встречали, были также сном. — Не может быть, — сказал он утвердительно и слабо качнул тяжелой головой, — Не может быть. Он протянул руку и стал искать фуражку, чтобы идти, но фуражки не было. И то, что ее не было, сразу сделало все ясным; и он понял, что происшедшее не сон, а ужасная правда. В следующую минуту, замирая от ужаса, он уже карабкался вверх, обрывался вместе с осыпавшейся землей и снова карабкался и хватался за гибкие ветви куста. Вылезши, он побежал прямо, не рассуждая и не выбирая направления, и долго бежал и кружился между деревьями. Так же внезапно, не рассуждая, он побежал в другую сторону, и опять ветви царапали его лицо, и опять все стало похоже на сон. И Немовецкому казалось, что когда-то с ним уже было нечто подобное: тьма, невидимые ветви, царапающие лицо, и он бежит, закрыв глаза, и думает, что все это сон. Немовецкий остановился, потом сел в неудобной и непривычной позе человека, сидящего прямо на земле, без возвышения. И опять он подумал о фуражке и сказал: — Это я. Нужно убить себя. Нужно убить себя, если даже это сон. Он вскочил и снова побежал, но опомнился и пошел медленно, смутно рисуя себе то место, где на них напали. В лесу было совсем темно, но иногда прорывался бледный месячный луч и обманывал, освещая белые стволы, и лес казался полным неподвижных и почему-то молчащих людей. И это уже было когда-то, и это походило на сон. — Зинаида Николаевна! — звал Немовецкий и громко выговаривал первое слово, но тихо второе, как будто теряя вместе со звуком надежду, что кто-нибудь отзовется. И никто не отзывался. Потом он попал на тропинку, узнал ее и дошел до поляны. И тут опять и уже совсем он понял, что все это правда, и в ужасе заметался, крича: — Зинаида Николаевна! Это я! Я! Никто не откликнулся, и, повернувшись лицом туда, где должен был находиться город, Немовецкий раздельно выкрикнул: — По-мо-ги-те!.. И снова заметался, что-то шепча, обшаривая кусты, когда перед самыми его ногами всплыло белое мутное пятно, похожее на застывшее пятно слабого света. Это лежала Зиночка. — Господи! Что же это? — с сухими глазами, но голосом рыдающего человек сказал Немовецкий и, встав на колени, прикоснулся к лежащей. Рука его попала на обнаженное тело, гладкое, упругое, холодное, но не мертвое, и с содроганием Немовецкий отдернул ее. — Милая моя, голубочка моя, это я, — шептал он, ища в темноте ее лицо. И снова, в другом направлении он протянул руку и опять наткнулся на голое тело, и так, куда он ни протягивал ее, он всюду встречал это голое женское тело, гладкое, упругое, как будто теплевшее под прикасающейся рукой. Иногда он отдергивал руку быстро, но иногда задерживал, и как сам он, без фуражки, оборванный, казался себе не настоящим, так и с этим обнаженным телом он не мог связать представления о Зиночке. И то, что произошло здесь, что делали люди с этим безгласным женским телом, представилось ему во всей омерзительной ясности — и какой-то странной, говорливой силой отозвалось во всех его членах. Потянувшись так, что хрустнули суставы, он тупо уставился на белое пятно и нахмурил брови, как думающий человек. Ужас перед случившимся застывал в нем, свертывался в комок и лежал в душе, как что-то постороннее и бессильное. — Господи, что же это? — повторил он, но звук был неправдивый, как будто нарочно. Он нащупал сердце: оно билось слабо, но ровно, и когда он нагнулся к самому лицу, он ощутил слабое дыхание, словно Зиночка не была в глубоком обмороке, а просто спала. И он тихо позвал ее: — Зиночка, это я. И тут же почувствовал, что будет почему-то хорошо, если она еще долго не проснется. Затаив дыхание и быстро оглянувшись кругом, он осторожно погладил ее по щеке и поцеловал сперва в закрытые глаза, потом в губы, мягко раздавшиеся под крепким поцелуем. Его испугало, что опа может проснуться, и он откачнулся и замер. Но тело было немо и неподвижно, и в его беспомощности и доступности было что-то жалкое и раздражающее, неотразимо влекущее к себе. С глубокой нежностью и воровской, пугливой осторожностью Немовецкий старался набросать на нее обрывки ее платья, и двойное ощущение материи и голого тела было остро, как нож, и непостижимо, как безумие. Он был защитником и тем, кто нападает, и он искал помощи у окружающего леса и тьмы, но лес и тьма не давали ее. Здесь было пиршество зверей, и, внезапно отброшенный по ту сторону человеческой, понятной и простой жизни, он обонял жгучее сладострастие, разлитое в воздухе, и расширял ноздри. — Это я! Я! — бессмысленно повторял он, не понимая окружающего и весь полный воспоминанием о том, как он увидел когда-то белую полоску юбки, черный силуэт ноги и нежно обнимавшую ее туфлю. И, прислушиваясь к дыханию Зиночки, не сводя глаз с того места, где было ее лицо, он подвинул руку. Прислушался и подвинул еще. — Что же это? — громко и отчаянно вскрикнул он и вскочил, ужасаясь самого себя. На одну секунду в его глазах блеснуло лицо Зиночки и исчезло. Он старался понять, что это тело — Зиночка, с которой он шел сегодня и которая говорила о бесконечности, и не мог; он старался почувствовать ужас происшедшего, но ужас был слишком велик, если думать, что все это правда, и не появлялся. — Зинаида Николаевна! — крикнул он, умоляя. — Зачем же это? Зинаида Николаевна! Но безгласным оставалось измученное тело, и с бессвязными речами Немовецкий опустился на колени. Он умолял, грозил, говорил, что убьет себя, и тормошил лежащую, прижимая ее к себе и почти впиваясь ногтями. Потеплевшее тело мягко подавалось его усилиям, послушно следуя за его движениями, и все это было так страшно, непопятно и дико, что Немовецкий снова вскочил и отрывисто крикнул: — Помогите! — и звук был лживый, как будто нарочно. И снова он набросился на несопротивлявшееся тело, целуя, плача, чувствуя перед собой какую-то бездну, тем-жую, страшную, притягивающую. Немовецкого не было, Немовецкий оставался где-то позади, а тот, что был теперь, с страстной жестокостью мял горячее тело и говорил, улыбаясь хитрой усмешкой безумного: — Отзовись! Или ты не хочешь? Я люблю тебя, люблю тебя. О той же хитрой усмешкой он приблизил расширившиеся глаза к самому лицу Зиночки и шептал: — Я люблю тебя. Ты не хочешь говорить, но ты улыбаешься, я это вижу. Я люблю тебя, люблю, люблю. Он крепче прижал к себе мягкое, безвольное тело, своей безжизненной податливостью будившее дикую страсть, ломал руки и беззвучно шептал, сохранив от человека одну способность лгать: — Я люблю тебя. Мы никому не скажем, и никто не узнает. И я женюсь на тебе, завтра, когда хочешь. Я люблю тебя. Я поцелую тебя, и ты мне ответишь — хорошо? Зиночка… И с силой он прижался к ее губам, чувствуя, как зубы вдавливаются в тело, и в боли и крепости поцелуя теряя последние проблески мысли. Ему показалось, что губы девушки дрогнули. На один миг сверкающий огненный ужас озарил его мысли, открыв перед ним черную бездну. И черная бездна поглотила его.Б. К. ЗАЙЦЕВ

СМЕРТЬ
Когда в комнате выставили рамы и Павел Антонин вдохнул апрельский воздух, увидел бледное небо, воробьев, слабую зелень в садике, он понял, что это его последняя весна. Мысль о конце не испугала его; она только яснее определила его положение. — Какой воздух! сказал он жене. — Как хорошо! Ты доставила мне большое удовольствие. — Не холодно? — спросила Надежда Васильевна. Теперь во всех ее словах и мыслях было одно: как бы не повредить Павлу Антонычу, как бы помочь. — Нет, — он вздохнул глубоко. — Легче. Дышать свободнее. Надежда Васильевна поцеловала его в лоб и вышла. Целый день он был покоен, молчал, но задыхался. Все время смотрел в садик и к вечеру попросил посыпать на балконе зерен для воробьев. При этом улыбнулся, сказал: — Весело на них смотреть. Следующий день и вся неделя прошли спокойно. Казалось даже, что зловещие отеки уменьшаются. Но сам Павел Антоныч изменился. Он часами глядел па воробьев, не читал, и в его глазах, к которым так привыкла Надежда Васильевна, она видела упорные, тайные мысли. — Павел Антоныч, — спросила она раз, — о чем ты думаешь? Отчего ты мне ничего не скажешь? — О чем думаю? Он засмеялся. — О духовном завещании. — Зачем ты говоришь так? Павел Антоныч! Он стал серьезнее. — У меня, Надежда, есть с тобой разговор. Но потому ли, что не додумал до конца или доктор помешал, он отложил объяснение. Наконец, в первых числах мая, когда сад был уже в зелени, весело звонили в монастыре и Павла Антоныча выносили на балкон, он сказал жене: — Прятаться нечего, Надежда. Очень приятно жить весной, но… ты понимаешь, одним словом. Так вот. — Он перевел дыхание. — Ты любила меня очень. Очень. — Вспомни, — ответила она. Ее голос дрогнул. — Да, я тебя много мучил. Это несомненно. Простишь ли ты меня? — Ах, не говори ты так! Не надо! Бог с тобой, в чем мне тебя прощать. Надежда Васильевна стучала рукой по перилам, ее седоватые волосы вздрагивали под наколкой. — Может быть, и простишь, — говорил Павел Антоныч так же тихо и медленно. — Но сейчас о другом идет речь. Он вздохнул, поправился, закурил. — Ты знаешь, есть женщина, которую я любил. — Знаю. — У меня есть дочь, ты тоже знаешь. — Знаю. — Вот. И вы — то есть ты и Анна Петровна — всегда ненавидели друг друга. — Я слушаю. Слушаю, буду слушать все, что ты ни скажешь мне. Надежда Васильевна держалась за перила крепко, стиснув пальцы. — Так как я скоро умру, я прошу у тебя еще милости. Жертвы, что ли. И от нее также. Вот, я написал ей. Он показал конверт. — После меня дам нечего будет делить. Много мы страдали и при жизни. Неужели и тогда вы будете ненавидеть ДРУГ друга? — Чего же ты хочешь? — Надежда, примирения. И прощения. Чтобы я покойно умер. Надежда Васильевна не сразу ответила. — Мы должны упасть друг другу в объятья? — Голос ее был глух и сдавлен. — Нет. Отпустите взаимно и мне. Чтоб она не проклинала этого дома, а ты… дочь не оттолкнула бы. Надежда Васильевна молчала. — Дочь? — сказала она. — Твоя дочь могла быть только моей. Других твоих дочерей нет. — Надежда, — ответил Павел Антоныч — лицо его покрылось бледностью. — Я очень пред тобой виноват, очень. Но… сделай так. Ради Бога. Она стояла, как каменная. Что-то вспыхнуло в ее глазах, точно отблески. Но она владела собой. — Павел Антоныч, я боюсь, что тебе надует. И она закрыла балконную дверь. Выходя из комнаты, прибавила: — Об этом мы не будем больше говорить. Тогда Павел Антоныч замолчал. Сначала он лежал неподвижно, потом заплакал — едкими старческими слезами. Теперь ему казалось, что уж подлинно он один, смертельно один в этом сияющем весеннем мире. Захотелось быть ребенком, чтобы мать взяла на руки, ласкала беззаботно. Но за ним стояла жизнь, теперь прожитая, так ужасно неудавшаяся. Что наделал он в ней? Двух женщин измучил, да и сам… Надежда Васильевна вошла снова. Она была уже другою — старым другом, врачом, сиделкой. Но на Павла Антоныча этот разговор произвел длительное и тяжелое впечатление. Жену он знал: если в такую минуту ей нечего было сказать, значит, вражда сидела в ней крепко. — Покоряюсь, — сказал он себе, — были ошибки, грех, теперь это давит; я не увижу ни Анны Петровны, ни Наташи. Покоряюсь. Вспоминал он также и о своем законном сыне, Андрее. Он был студентом, в южном университете. Павлу Антонычу хотелось повидать его. — Отчего ты пе напишешь Андрюше? — сказал он жене. — Пусть бы приехал. — У него экзамены, зачем его тревожить. Он подумает Бог знает что. «Да ведь я все-таки умру!» — хотел сказать Павел Антоныч, но не сказал, только вздохнул. — Впрочем, если хочешь, я могу написать. Павлу Антонычу стало особенно плохо в середине мая; как ни выставляли его в садик, как он ни старался набирать в себя весны, дышать было все труднее. По ночам он не спал, заливаемый водянкой, и жена в эти одинокие ночи до изнеможения растирала ему грудь, спину. Наконец, ему сделали горячую воздушную ванну. Это было так мучительно, что Павел Антоныч собирал все силы, чтобы не кричать. Когда ушли доктора, он отвернулся и, стараясь скрыть от жены слезы, сказал: — Зачем они меня мучают? Это утро он страдал жестоко. Как никогда терзала его история его любви, томила смерть. Едва говоря, он попросил нарвать сирени. Сирень была свежая, бледно-фиолетовая, с капельками росы. Вдыхая ее запах, он слабыми пальцами трогал цветы. И улыбнулся горько, вспомнив, что никогда не мог найти в сирени пяти лепестков — счастья. Потом, закрыв глаза, стал думать о Боге. В это время он забыл о своей жизни, товарищах, врагах; ему казалось, Бог есть, и эта сирень, и вообще прекрасные цветы, прекрасная любовь суть именно свидетельства и проявления Бога. Вспомнив же о женщинах, которых любил, он подумал, что, быть может, самой дивной, неземной любви, о которой мечтал в юности, он не знал вовсе. Тогда он снова взял сирень, поцеловал ее и мысленно просил Бога, чтобы Он скорее избавил его от этой несчастной, страдальческой жизни. Вечером он написал сыну. В этом письме было такое место: «Повидать тебя, Андрей, мне бы хотелось. Мы давно не видались. Может быть, ты забыл меня, по я тебя помню. Ты мне сын, ты был ребенком, черноголовым мальчиком, в то время, когда мне жилось легче, чем сейчас. Теперь же, кроме тяжелой болезни, которая неотвратима, я изнемогаю от ошибок моей жизни. Дело в том, что, кроме твоей матери, я до последнего времени был близок с другой женщиной, Анной Петровной Горяиновой, от которой у меня есть дочь Наташа. Надежда Васильевна знает об этом. Мне так трудно сейчас потому, что она не помирилась, видимо, и пе помирится с Анной Петровной, на что имеет, конечно, веские основания. И вообще вся вина здесь на мне. Можешь и ты прибавить свое порицание, но ты еще молод. Желаю тебе ясной и светлой жизни; помни, друг мой, что величайшее счастье, как и величайшее горе человека, есть любовь, и постарайся создать себе жизнь, достойнее отцовской. Меня же, если можешь, пожалей; если на каплю любишь — помоги: не отталкивай после моей смерти Анну, поддержи Наташу — все же она тебе сестра». После этого письма Павел Антоныч устал страшно: всю ночь он провел без сна, задыхаясь, и широкими от тоски глазами глядел на пламя свечи. Надежда Васильевна отхаживала его; он молчал, вздыхал, часто прикладывал к сердцу руку. Так прошел следующий день, ночь и еще день. На третью ночь припадки усилились. — Надежда, — сказал он около двух часов, — умираю. Она обняла его, сзади, сжала, точно не хотела выпускать. — Жена моя, Надежда, верная жена, — говорил он. — Не удержишь. А все же — держи. Потом он стал дышать чаще, лицо его исказилось. Надежда Васильевна едва сдерживалась. Тихо сидела в соседней комнате сиделка. Павел Антоныч вдруг сказал, в небольшой перерыв между муками:То spectem suprema mihi cum venerit hora. Te Leneam moriens, deficiente manu.[15]
И поцеловал ей руку. Надежда Васильевна не поняла, но почувствовала эти слова. Тогда тихо, едва говоря, он произнес: — Прости, Надежда. Надежда, прости. Надежда Васильевна знала, о чем он говорит. Она заплакала, припала к его щеке, и сердце ее разорвалось, когда она увидела эти большие, несколько суровые, давно любимые и измученные глаза. Вероятно, он прочел что-то в ее лице. Он качнул головой, молча, и произнес: — Так. Утром он умер. Его хоронили в четверг, при слабом погребальном звоне в монастыре. Надежда Васильевна с Андреем, приехавшим утром, присутствовали на службе. Нежный вечер делал небо хрустальным; в церковь веяло светом, долетала жизнь. Глядя на отца, лежавшего на возвышении, над которым кадил дьякон, Андрей вспомнил его крепким и живым человеком. Вспомнил о письме, полученном на днях, и теперь понимал, почему и раньше отец страдал припадками уныния, почему рано поседела мать и в доме было какое-то напряжение. Подошла пора прощанья — мать долго не могла оторваться. Андрей закрыл глаза. Когда он взглянул снова, у гроба стояла высокая дама, в трауре, и прикладывалась к руке. Она была так слаба, что едва держалась на ногах. «Горяинова», — шепнул кто-то. Андрей похолодел. Вот она, его любовь! Любовь отца, горе матери. Андрей стал вглядываться. «Чем покорила она его?» Горяинова была обыкновенной дамой, каких тысячи. «Да, — подумал он, — У нее есть дочь, моя сестра. Моя сестра! И они не могли быть при его конце». Когда служение кончилось, он при выходе поддерживал мать под руку. Гроб несли впереди. Медленно двигался кортеж среди белых памятников; хоронили на новом монастырском кладбище, только что открытом. Под него взяли луг, и сейчас на нем было еще много цветов, только в дальнем углу возвышались две могилки. Павел Антоныч лег третьим. Звенели кадила, ладан синел; золотой вечер наклонялся; на горизонте катился белый дымок, — поезд, прощально голубели холмы. Когда гроб опускали, Надежда Васильевна упала. Андрей поддержал ее. «Мама, мама!» Изо всех сил он сдерживал себя. Но когда ушли чужие, долго рыдал он с матерью над отцом. Прошла неделя. Был вечер. Андрей ходил в маленьком садике, по дорожке, среди тополей; в дальнем углу он сорвал сирени. На балконе готовили чай; Надежда Васильевна, бледная, молча сидела в кресле, в монастыре, где лежал отец, звонили; розовые турмана кружили в небе. — Мама, — сказал Андрей пе совсем твердым голосом, — нам с вами надо еще поговорить. Об одном важном деле. — Что такое? — спросила она. Андрей вышел, вернулся с письмом отца. — Вот… Мама, простите, если я потревожу ваше сердце, но… мне кажется… надо же. Запинаясь, он объяснил, что пе может обойти предсмертного желания отца — чтобы близкие ему люди не были брошены. Надежда Васильевна читала. Лицо ее было так же покойно, ничего не изменилось в нем, когда она кончила. — Бедный Павел Антоныч, — сказала она. Несколько времени они молчали. — Как же вы скажете, мама? — Он спросил робко, чувствуя в груди тяжесть. — Как быть? — Это старинная история, — сказала она. — Но теперь все кончилось. Я не имею ничего против той женщины. Она помолчала снова. — После Павла Антоныча осталось кое-что. Мне нужно немного. Если она нуждается, я могу ей помочь. Все это должен сделать ты. То есть найти ее, передать ей это. Вот и все. Она вздохнула. Андрей поцеловал ей руку. Благодарю вас, мама, — сказал он, — вы очень добры. — Окажи ей, — прибавила она, — что я на нее не имею сердца. Но, — она слегка нахмурилась, — видеть ее не желаю. Больше они не говорили. Надежда Васильевна пила чай, смотрела на облака, розовевшие в заре. Когда убрали самовар, она улыбнулась далекой, ясной улыбкой. — Женишься, Андрюша, узнаешь все это. В одиннадцать она ушла. Андрей ходил по дорожкам, где цвела сирень, таились тополя. Горели звезды, синяя глубина неба манила; глядя в нее, Андрей думал о печалях жизни, темных жребиях страдания, выпадающих людям. «Женишься, Андрюша, узнаешь!» Неужели через муку, унижения, неправду должен пройти и он, Андрей, полный любви к Зине? При мысли о ней у него защемило сердце; лежа на скамье, глядя в небо, он ощущал любовь как бесконечность, такую же, что светилась над ним. Он бродил до рассвета, когда тонко запел петух. По отъезде Андрея жизнь Надежды Васильевны стала еще замкнутей. Из дому она выходила вечерами, на могилу мужа. Шла монастырем, среди золотых глав, старинных помещений с кельями, памятников; вот мраморная урна, белая часовенка александровского времени; на могиле генерала 12-го года два бронзовых зеленых рыцаря; все это она не раз уже видела. Наконец, новое кладбище. Перейдя по дорожке налево, она садилась на скамейку у решетки. На кресте сияла лампадка, свежие цветы лежали на холмике. Просиживая здесь подолгу, молясь, она ощущала умершего не совсем таким, какой он был в жизни; временное, будничное уходило. В воспоминании его образ был чище и возвышенней. Раз вечером, в июле, она сидела, как всегда, у могилы. Солнце закатывалось. Светло, золотисто было в небе. Пахло сеном. Подняв голову, Надежда Васильевна вдруг увидела девочку лет четырнадцати; в руках у нее были цветы. — Простите, я помешала. Она двинулась, чтобы уйти. Надежда Васильевна слегка вздрогнула. Что-то знакомое, милое было в ее глазах. — Постойте, куда вы? Девочка остановилась. Надежда Васильевна вглядывалась в нее. Она потупилась. — Вы мне не мешаете, — сказала Надежда Васильевна. — Подите сюда. Я вижу, у вас цветы. Вы, вероятно, принесли их на могилу? — Да, — ответила девочка. — На могилу дяди Павла. Надежда Васильевна вздохнула. — Ах, вот как! Девочка сконфузилась. В нерешительности она медлила. — Вас зовут Наташей? — спросила Надежда Васильевна. — Да. — Пойдите сюда, Наташа. Познакомимся. Дядя Павел был моим мужем. Наташа охнула, выронила цветы. — Если вы принесли цветов, значит, хорошо относились к дяде. Тогда вы мне друг. Робея, Наташа подошла. Надежда Васильевна обняла ее и поцеловала. — Поднимите свои цветы, положите их на могилу. Ему будет это приятно… Дядя Павел, — прибавила она, — при жизни видел слишком много горя. Наташа отложила цветы и села рядом. Она молчала, в глазах ее что-то, вздрагивало. Надежда Васильевна гладила ее по голове. Начинало смеркаться; небо стало выше, чище, появились звезды. — Пожалуйте, — сказала монахиня, подходя и кланяясь. — Сейчас будем запирать. От росы, прохлады сено пахло пряней. Кое-где краснели на могилах лампадки. Надежда Васильевна шла под руку с Наташей. У выхода она обняла ее и сказала: — Поцелуйте свою маму крепко и скажите, что я очень прошу ее к себе. Если она позволит, я зайду к ней тоже. Возвращаясь домой, Надежда Васильевна чувствовала, что теперь кончилось все. Она простила до глубины сердца. «Теперь, Павел Антоныч, я исполнила, что ты хотел». Последние узы — земли, жизни — падали. Захотелось написать сыну, но она устала и легла спать. Во сне видела Павла Антоныча. Он был ясен, говорил ей что-то, но что именно, она не могла понять. Надежда Васильевна не увидела ни сына, ни Горяиновой. Через неделю она умерла.
3. Н. ГИППИУС
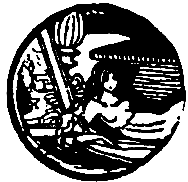
ВЫМЫСЕЛ (вечерний рассказ)
I
Поздним вечером, около полуночи, сидели у потухающего камелька пятеро старых друзей и рассказывали друг другу истории. Многие думают, что в теперешнее время этого больше не случается. Бывало, изредка, в начале прошлого столетия, стало учащаться к середине, потом, во времена Тургенева, казалось — постоянно где-нибудь да собираются старые друзья у камелька и рассказывают истории; а теперь, действительно, об этом совсем не слышно ни у нас, ни за границей, во Франции например. По крайней мере повествователи нам об этом никогда больше не говорят. Боятся ли они удлинить свое повествование и утомить занятого читателя, хотят ли непременно выдать рассказ приятеля за свое собственное измышление, или, может быть, действительно нет больше таких, приятных друг другу людей, которые засиживались бы вместе у камелька и умели слушать чужие истории — кто знает? Но хоть редко — а это случается и в наши времена. По крайней мере случилось в тот вечер, о котором я рассказываю. Они были не только старые друзья, но и старые люди. То есть не так, чтобы очень старые, — между сорока и пятьюдесятью все, и все — холостяки. Оттого, может быть, они и засиделись вместе у камелька, и умели слушать друг друга, покуривая кто папиросу, кто тихую душистую сигару и медленно прихлебывая из стаканов славное, маслянистое вино. Есть какое-то особенное, мягкое достоинство у старого, спокойного холостяка. Он не рассеян, он весь всегда тут, и всегда готов к дружбе, и когда слушает — то слушает с удовольствием и вниманием. Его интересует мир и — почти одинаково — чужое и собственное отношение к миру. Тогда как не холостяка, главным образом, интересует свое отношение к своему маленькому миру, а если не интересует — то заботит, а не заботит — то досаждает, но во всяком случае маленький мир хоть отчасти да заслоняет ему большой. Собрались в квартире Лядского, статного, моложавого человека лет сорока пяти, с седыми, волнистыми волосами и доброй улыбкой. Глаза, впрочем, смотрели не без строгости. Он был директором какого-то департамента, где его даже любили. Остальные — почти все — не сослуживцы, а старые товарищи по школе, по университету, разошедшиеся по разным дорогам, но прежнюю близость они умели сохранить. Темные обои. Темные занавеси. Темные ковры. Тяжелая темная мебель. Одинокая электрическая лампа, ласковая, под низким абажуром — и ласковые малиновые угли в камине с бегающими синими огоньками. Говорили — о будущем. Просто — о темноте будущей судьбы каждого человека, о желании всякого проникнуть в эту тьму, о предсказаниях, о предчувствиях, о пророчествах. Казалось бы — чем может будущее интересовать немолодых людей, у которых почти вся жизнь позади? Но они и говорили не только о себе, а обо всех людях, молодых и старых, об их стремлениях и о законах судьбы. — В древние времена, — сказал Лядский, — когда люди верили в непобедимый Рок, они все-таки составляли гороскопы, спрашивали оракулов, пророчиц; казалось бы — зачем? Эдип, зная свою судьбу, не избег ее. Теперь мы верим в свободную волю; вот когда нужны бы нам пророчицы, гороскопы и вера в них. Теперь знание будущего могло бы изменить и осмыслить жизнь. — Ты думаешь? — спросил один из друзей, худощавый человек, длинный, очень хорошо одетый, с седеющими усами. Он сидел в кресле у самого камина и почти все время молчал. По особенной манере держаться, мягкой и скромной, в нем можно было узнать дипломата, человека чаще слушающего, но умеющего и говорить. Звали его Политое. Лядский ответил ему, не торопясь: — Да, мне кажется. А ты… — Я думаю иначе. Ты напомнил мне одно странное происшествие… Одну встречу… Я. впрочем, и не забывал ее никогда. Это долго рассказывать, но если хотите — я вам расскажу. Я никогда никому о ней не говорил — не знаю почему. Просто, может быть, случая не было. А сегодняшний разговор так близко подходил к моему воспоминанию. И лет там много прошло… Вот что рассказал Политов.II
В дни моей молодости, когда я только что начинал служить, меня прикомандировали к посольству в Париже. Прожил я там год, два, обжился, сошелся кое с кем, и, странно, сошелся ближе всего с кружками художников, литераторов. Были между ними пренесносные, препошлые люди, по зато попадались и живые, умные, такие, с которыми я говорил не скучая. Несмотря на мою молодость — что же, мне было лет двадцать пять — я не любил пустозвонного французского веселья, которое мне и тогда казалось каким-то примитивным, скучноватым. Впрочем, я общества пе избегал и ни от чего, при случае, не отказывался. Пришлось мне однажды попасть, через моего приятеля, художника Lebrun, па пышный банкет другого художника, маститого, всем известного, Эльдона, в его собственном отеле. Банкет давался по случаю… вот уж пе могу припомнить, по какому случаю. Fermeture… ouverture…[16] не знаю, но было торжество и чествование, и был, как говорили, весь художественный и артистический мир. Были и дамы. Помню длинный стол и его сверканье, какие-то удушливые цветы на скатерти и эту добрую m-me Эльдон, хозяйку, толстую, великолепную, красную и тоже всю сверкающую. Она даже что-то говорила, за что-то благодарила, улыбалась и чокалась тихим, приятным жестом. Приятель мой занят был усиленным разговором со своей левой соседкой, моя соседка справа тоже говорила не со мной; я очутился один в шумящей толпе, которая смеялась и радовалась без меня. Я был рад молчать. Мощно было смотреть. И я смотрел на цепь лиц против меня. Начал справа. Одно, другое, третье… Когда быстро переводишь глаза с одного человека на другого, то кажется, что это все одно и то же лицо так странно меняется, потому что — хотя лица и разные — есть между ними всегда неприятное и несомненное сходство… Четыре, пять, шесть… И вдруг глаза мои остановились. Я уже почти дошел до левого конца стола, и женщина, на лице которой неожиданно остановились мои глаза, сидела от меня наискосок, влево, почти около хозяев. Букет увядающих бледных роз чуть-чуть заслонял её от меня, но, наклонив немного голову, я мог ее видеть всю. Не удивляйтесь, что я помню такие подробности: встреть я завтра того же Lebrun, и даже не постаревшим, — я бы его не узнал. А женщину — я думаю — и вы бы узнали, если бы могли увидеть после моего рассказа. Описать ее черты легко, и в них не было ничего замечательного. Красива, бледна, спокойна. Кажется, молода — вероятно, нет и тридцати. Брови ровные-ровные, тонкие, круглые, как на всех старинных портретах. Темные, без всякого блеска, волосы, не очень пышные, мягко приникающие к щекам. Вот и все. Черное платье, со странным, очень низким и очень узким вырезом, полоска белой кожи, идущая вниз. Глаз я даже и не видал еще, она их опустила. И молчала, как я. Вот она заговорила. Улыбнулась. Рот очень маленький, алый; тесные зубы. Красива. Молода. Довольно обыкновенно красива, и мне даже не очень нравится. Не восхищение, не удовольствие и не отвращение она подняла в моей душе, а ужас. Тот ужас — необъясненный никем, злостный, черный страх, который все мы испытали… Хотя бы в детстве, ночью, одни, в темноте. Этот страх отличен от всех других уже тем, что он — половинчатый, и вторая половина его — восторг, точно такой же злостный, черный и не сравнимый ни с каким восторгом, как и ужас с другими ужасами. Но я был не ребенок и невольно начал рассуждать: что же в ней, собственно, ужасного? Обыкновенна. Красива. Молода… Молода! Вот оно. Вот где. Несомненно, молода. Тридцати нет. Двадцать семь… двадцать восемь. Как бы не так! Двадцать семь — и пятьдесят, восемьдесят, сто двадцать — нет, двести, триста, — не знаю — ей тысяча лет! И все-таки несомненно, что ей не больше двадцати восьми. Я обернулся к моему приятелю: — Послушайте, на одну минуту: кто эта дама, около Эльдона, влево? Lebrun, оторванный от разговора, взглянул на меня рассеянно и поспешно: — Которая? В розовом? — Нет, нет, еще левее, в черном. Как ее имя? — Ах, эта! Ее имя? Ее зовут графиня Ивонна де-Сюзор. — А граф, ее муж, он здесь? Который? Приятель, уже опять отвернувшийся было от меня, удивленно сказал: — Ее муж? Она не замужем. Опа дочь покойного графа де-Сюзор, того самого… И он окончательно меня покинул, уверенный, что удовлетворил мое любопытство. Но я больше не спрашивал. Я опять смотрел на графиню, и в эту минуту она подняла глаза. Какие ошеломляющие, неприятные глаза! Бледные-бледные, большие, может быть, синеватые, может быть, сероватые — не знаю, только очень бледные, сквозные, точно из цветного хрусталя, и старые. Мертвые. И все-таки это были молодые и живые глаза. По глазам ее я понял, что ошибся, впал в невольное, почти поэтическое преувеличение, когда говорил себе, что ей — «триста, пятьсот, тысяча лет»! Нет. Тысяча — это почти вечность для пас. Вечное — никогда не старо. А графиня, при ее молодости и красоте, была именно стара, той старостью, человеческой дряхлостью, около которой совсем близко, рядом — стоит человеческая смерть. Я увидел, что бледные глаза остановились на мне. Взор был совершенно спокоен, но не безразличен и как будто не случаен даже. Она смотрела на меня, точно давно меня знала, но не радуется и не удивляется встрече. Точно так и нужно, чтобы я смотрел до невежливости упорным неотрывным взором в ее — бесспорно прекрасное, бесспорно молодое лицо. Lebrun на этот раз сам обратился ко мне и заставил меня опустить, наконец, глаза. — Вы спрашивали меня о графине? Не правда ли, очень интересное лицо? Хотя есть что-то… и отталкивающее. Вы не находите? Я подумал, что он ничего не понимает и не поймет, а потому сказал уклончиво: — Пожалуй… — Да, прелестная девушка и милый товарищ, хотя должен сказать, что я не горячий поклонник ее произведений. Есть манера, есть школа, есть, если хотите, что-то своеобразное, но… — Позвольте, какие произведения? — Да ее картины, parbleu[17]! Разве я вам не сказал, что она — художник? В последнем Салоне была ее картина и несколько этюдов. Она очень известна. Вы, наверно, заметили. Рэ. Рэ! Рэ! Так это она подписывает свои холсты двумя нескромными буквами? Так это — Рэ? Не могу сказать, чтобы от такого открытия что-нибудь для меня стало яснее. Напротив, спуталось и усложнилось. Как не знать Рэ? О Рэ говорили. Говорили, что картины ее «производят тяжелое впечатление» — это все поняли, то есть так поняли. А я ничего не понял. Отошел, помню, с сумбуром — даже не в голове, а во всем моем существе. Я тотчас же припомнил ее «Костер», который видел в прошлом году. Описывать картин нельзя, да и не нужно. И то, что в «Костре» смутило меня, — совсем уже не покорно словам. В словах оно слишком обычно. Хорошо написано, кажется. Темнота. Большой огонь посередине. Слева полуголая старуха — и справа такая же. От одной как-то видна тень, и кажется, что три старухи, причем одна — огромная. Вот и все. В старухах — костяная неподвижность, земляная тяжесть. Третья, теневая — огромная, но легкая. Вот и все. Смысла никакого — да Бог их знает, эти картинные смыслы! Но очень помнится и мутит душу. Тянулся, тянулся обед… Lebrun стал болтать со мной, опять перешел к Рэ, видя, что я опять па нее смотрю, и сказал: — Когда этот чудак, отец графини, умер… Я перебил его: — О графе я ничего пе слыхал. — Неужели? А я думал, что слышали. Судьба графини замечательна. Сюзор, миллионер и затворник, шестнадцать лет не считал ее своей дочерью. Она жила почти в нищете, с полусумасшедшей матерью, урывками училась, бегала в Лувр и в рисовальную школу… И вдруг все изменилось: отец взял ее к себе, ее и мать, которая, впрочем, скоро умерла, окружил царской роскошью: лучшие учителя, путешествия, свобода и его любовь, потому что он, говорят, умер у нее на руках и в последнее время не допускал к себе никого, кроме дочери. — А теперь? — Теперь она живет совершенно одна, в своем… чуть не дворце. Не затворницей, конечно, но около того. — И не вышла замуж? — Que voulez vous? Une artiste[18]! — с необычайной легкостью равнодушного суждения ответил мой приятель, и больше мы о графине не говорили. Но только что кончился этот длиннейший обед, как я, без всякого предварительного решения, стал пробираться между гостями, направляясь к этой женщине. Мне даже не пришло почему-то в голову попросить Lebrun меня представить.III
Вблизи она была точно такою же, как издали. Только я увидел, что она — среднего роста и худощава и платье у нее очень длинное. Она стояла ко мне спиной, у рояля (мы перешли в гостиную) и разговаривала с каким-то стариком. Но едва я приблизился — она обернулась и, к удивлению моему, подала мне руку, опять как старому знакомцу, и сказала: — Bonjour. M-r Politoff? Старик тотчас же отошел. Я одного не мог понять: неужели только я в ней вижу то, что вижу, а другие ничего? Впрочем, быть может, они привыкли, примирились с ней. А ведь даже легкий Lebrun сказал, говоря о пей: «étrange figure[19]. В ней точно нет жизни». Глупо, пошло, но с его точки зрения… пожалуй, и так. Я заметил вблизи, что она очень свежа, нежной свежестью бледных женщин. Она была моложе, чем я думал. Лет двадцать пять… Что сказать ей? Она смотрела на меня в упор своими бледными, сквозными, точно пустыми глазами, восьмидесятилетними и прелестными, чуть-чуть улыбаясь. Что сказать? Я хотел выдумать возможное, заговорить об ее картинах, что ли, — и вдруг проговорил почти невозможное: — Вы мне кажетесь очень странной. Она по-прежнему глядела спокойно. — Вы, конечно, отдаете себе отчет, почему я вам кажусь странной. Голос у нее был тихий, даже глуховатый — и молодой, говор медлительный. Она произнесла свои слова отнюдь не в виде вопроса. В самом голосе было что-то тихо утвердительное, точно он и пе мог бы подняться выше — для вопроса. — Немного отдаю отчет, — сказал я, стараясь невольно быть точным. — Но не вполне. В душе много смутного. — Да. Вполне и невозможно. Но в возможном вы правы. Вы мне очень нравитесь. Вы глубоки. — Но вы мне не нравитесь! — воскликнул я точно помимо моей воли. — То есть и страшно нравитесь, и страшно не нравитесь! И восторг — и ужас! Это необъяснимо… И это мучит вас, — досказала она. — Говорите все, что можете определить словами. И я рассказал… все, с непобедимой точностью, что думал о ней за столом. Да, так-таки и рассказал все, даже не смягчая слов. Друзья мои, вы меня хорошо знаете. Вы поверите, что в этой женщине было что-то необычайное, беспримерное — потому что ведь нельзя поверить, нельзя представить меня, человека с обычным хорошим воспитанием, да еще по натуре сдержанного, да еще по профессии дипломата, — говорящим так с незнакомой француженкой, художницей и т. д. и т. д. Но уверяю вас — ей не только лгать, но даже сказать какую-нибудь неточность — было нельзя. По крайней мере, для меня — нельзя. Не знаю, как другие. С ней, кажется, вообще говорили мало. Она слушала меня с неподвижным спокойствием, как если бы я перед ней повторял — и раз десятый — свою роль. Другого сравнения не могу придумать. Когда я кончил, она сказала: Вы на верной дороге. Это первые догадки — но верные. Не будет неправдой думать так. Мне, действительно, и двадцать шесть лет — и восемьдесят один. Это так. — Что за загадки! — воскликнул я почти со злобой. — Вы хотите воспользоваться моей необъяснимой фантазией, подчеркнуть ее — неизвестно, для чего? Но, она даже не улыбнулась. — Не надо сердиться, мой милый. Лучше будем пока друзьями. Приходите ко мне. Я у себя по вечерам. А теперь поговорим о другом. К этому всегда время вернуться. И она с удивительной и легкой властностью перевела разговор па что-то другое, на простое, но, должно быть, важное, потому что я не только пе заметил фальши в переходе, а почти не заметил перехода. Мы говорили долго, кажется, обо всем, и об ее картинах. В ее голосе, в словах была все та же тихая утвердительность, неподвижная и почти бездонная, грустная глубина, молодая, свежая… дряхлость, которая была в ее глазах; и там и здесь она одинаково восхищала и ужасала меня. Соединялось несоединимое и — больше — не долженствующее соединяться. Говоря с ней о чем бы то ни было — я говорил все о том же, об одном, — о ней.IV
Сказать вам, что я влюбился в эту женщину — было бы неправдой. Полюбил ее — нет; тоже нет. Но чем чаще я ее видел (а я стал бывать у нее каждую неделю, потом и два раза в неделю), чем больше говорил я с пей и смотрел на нее — тем больше рос во мне пленительный ужас, пугающий восторг, и я уже не мог и не хотел бороться с его властью надо мной. Она жила одна. Редко выезжала. Много работала. Случалось, ее навещали, — но как-то неохотно, как неохотно она принимала. Я заметил, что, действительно, в ней было нечто отталкивающее — для других. Вероятно, то, что меня держало в странном, нелюбовном плену около нее. Уходили, не размышляя: что-то неприятное в ней — и кончено. Иногда мне казалось, что, не будь в ней для меня этого загадочного, обезволивающего ужаса, — я бы мог любить ее просто, как прекрасную женщину, большой серьезной любовью. Сначала она мне не понравилась; вернее, сначала я был сражен одной непонятностью ее лица и ни о чем больше не мог думать; но после я с величайшим усилием старался иногда, на мгновенье, представить себе это бледное лицо только жизнерадостно-юным, успевал — и тотчас же на смену являлось прежнее чувство ужаса, но еще усиленное болью великой и недоуменной потери, точно у гроба любимого существа. А потом я и вовсе забывал о моей возможной — невозможной любви и стоял перед страшной женщиной, лишь окованный ее и не женскими, и не человеческими цепями. Мы сидели с нею чаще всего в маленькой гостиной около мастерской, вернее — кабинете, там была почти такая же темная, тяжелая мебель, как вот здесь; и так же угли порою рдели в камине. Отель ее, действительно, был похож на угрюмый дворец; я каждый раз проходил через целый ряд молчаливых зал, чтобы добраться до лестницы, ведущей наверх — в кабинет и мастерскую. Графиня встречала меня всегда ласково, всегда ровная, всегда красивая, всегда в длинном черном платье, точно вечный траур она носила. Всегда ровная… да, но я замечал — и она не скрывала, — что ровно подымалась и усиливалась ее ко мне ласковость и приветливость. Я был с пей всегда откровенен; я не мог быть иным; она знала все, что я сам знал о себе по отношении к ней; знала все мои муки ужаса и восторга, все возраставшие; и казалось, не только понимала, а могла бы и разрешить их; и между тем не разрешала. Случалось так, что я говорил — она слушала и молчала или произносила своим тихим голосом несколько тихо-утвердительных слов, с тихой и грустной, всегда какой-то далекой, лаской. И я не настаивал, не просил, не расспрашивал, не торопил: я не мог. Как будто совершался медленно какой-то путь, и укоротить его по воле было нельзя. Оставаясь один, я мучился сильнее и острее; а в ней была строгая и покорная тишина, которой, при ней, и я покорялся. Так шла зима. Мы были почти близкими друзьями — и я так же не понимал ни себя, ни ее, как в первый день встречи. Казалось — я не могу больше жить без нее. Но и при ней не было мне жизни. Непонятная, недоуменная тяжесть моя все усиливалась. Я попробовал не видеть, графини целую неделю. Это было уже почти весною. Наконец, через неделю, решил опять идти, но не сейчас, еще переждать дня три. И не пришлось. Утром я получил от нее записку — первую — где она писала: «Будьте, друг мой, у меня сегодня вечером. Ивонна де-Сюзор». У меня и мысли не явилось ослушаться. Пришел час — и я был у нее.V
Графиня встретила меня внизу. Мы вместе прошли цепь пустынных зал и вместе поднялись на лестницу. Угли рдели в камине. Потолок был светел, стены темпы. Она села у огня, в высокое кресло с прямой спинкой. Алый отсвет лежал на ее лице, гордом, молодом и страшном. Прозрачные, старые глаза не принимали горячих лучей, были все такие же бледные, неживые и прекрасные. Но прежде, чем я взглянул в них, я сказал свои прежние мысли, с которыми жил: — Вы были удивлены, графиня, что я не шел к вам так долго… Она ответила: — Нет. Я не была удивлена. И я тотчас же понял, что не была удивлена и не могла быть. Она продолжала: — Видите ли. Мне следует сказать вам, рассказать вам нечто о себе; раньше этого нельзя было сделать. Не нужно. А теперь нужно. Потому что… вероятно — мы скоро расстанемся. Перед словом «вероятно» она остановилась и произнесла его со странным усилием. Я безотчетно вспомнил, что в первый раз слышу это слово от нее. Она никогда не говорила: «вероятно», «я надеюсь», «я предполагаю», «может быть»… Но я едва уловил это, обращенный весь к ее слову «расстанемся». — Вы уезжаете? — почти вскрикнул я. — Расстанемся? — Да. Я не уезжаю. Но вы… вероятно… Опять «вероятно» и опять с усилием. — Я никуда не уезжаю! Не думаю и не располагаю уезжать! Почему расстанемся? Она помолчала. — Все равно, — сказала она, наконец. — Все равно, думаете ли вы или нет. Сегодня я должна рассказать вам то, чего вы не знаете. Расскажу вам потому, что я вас люблю. Она произнесла эти слова с такой простой, повелевающей и покорной тишиной, что и во мне они отозвались той же тишиной. Мне и в мысль не могло прийти ответить ей, что я ее люблю или не люблю. То, что я к пей чувствовал, было и больше, и непонятнее всякой любви. — Расскажите мне, если надо, — сказал я. — Да и я чувствую, что теперь надо. Странное спокойствие, почти оцепенение, овладело мною на время. Так я выслушал весь ее длинный и тихий рассказ, и понятный — и устрашающий. Вот что она мне рассказала.VI
— Вы знаете, что граф Сюзор, по некоторым причинам, не считал меня своей дочерью и семнадцать лет я и мать моя жили вдали от него. Я его до семнадцати лет, до того дня, когда все переменилось, и не видала. Мы жили здесь, в Париже, почти нуждаясь, тем более, что мать была больна. Я поневоле привыкла к самостоятельности, Пользовалась свободой, какой редко пользуются молодые девушки моих лет… моих тогдашних лет. У меня было много подруг и друзей по школе — я сумела попасть в рисовальную школу, имея непреодолимое пристрастие к живописи. Я была не по летам энергична, чрезвычайно жива, порывиста и горяча. Несправедливость графа к моей матери вечно мучила меня, возмущала, заставляя чуть не сжимать кулаки при одной мысли; я ненавидела моего отца. Я обвиняла его и в моей судьбе. Я могла бы учиться — не так, как теперь… Могла бы сделаться великой… Я была очень самонадеянна и верила в себя. Но если жизнь меня заколотит, думала я, могу и пропасть. Мысли о моей судьбе ужасно мучили меня. Иногда я начинала бояться неизвестных, неизбежных грядущих ужасов и несчастий, думала о том, как бороться с ними, что будет со мною и с моей матерью, — и терялась, не зная, и плакала по ночам. Иногда, напротив, душа наполнялась живой надеждой на хорошее, широкое счастье, я хотела действовать, скорее идти навстречу — но как действовать? Куда идти? Не забудьте, я была одна с полусумасшедшей матерью, и мне было шестнадцать лет. Один раз подруга в школе, девушка из общества, рассказала мне, что весь Париж теперь сходит с ума, увлекаясь каким-то новоявленным гадателем, предсказателем будущего. О нем говорили, что это — знатный француз, много лет проведший в Египте, в Индии или еще где-то, много лет изучавший тайные, древние науки во всей их почти бездонной мудрости, что он чужд всякого новейшего шарлатанства, гипнотизерства и фокусничества, а прост, как древний провидец. Он богат и денег не берет — это последнее обстоятельство заставляло самых больших скептиков сомневаться в его шарлатанстве — и принимает всех. Его наперерыв приглашали в светские гостиные. Собраний он, однако, избегал. Спустя несколько времени я почти то же самое прочла о нем в газетах. Я думала еще несколько дней, а потом решилась. И вечером (днем я была занята) отправилась к нему. Мне казалось, что я совершаю какой-то отчаянный поступок. Одна, чуть не ночью, к гадателю… И какой вздор! Что за глупое суеверие! Наверно, шарлатан… Да пусть шарлатан! Почему не пойти, все-таки любопытно. Воображаю, какая у него обстановка, и чего он навез из Индии, из Тибета… Уже лестница меня разочаровала и укрепила в мысли, что он — шарлатан. Говорили о богатстве — ничуть не бывало. Обыкновенная, даже бедная квартирка в одном из дешевых кварталов. Я позвонила с бьющимся сердцем, ожидая, что найду у него толпу. Это меня даже ободряло. Вместо какого-нибудь слуги — красного или черного, из Индии — мне отворила дверь грязноватая femme de ménage[20] и тотчас же провела в маленькую приемную, ужасно бедно меблированную. Не было пи души. Я хотела сесть, но в ту же минуту из соседней комнаты вышел обыкновенный старичок в сером халате, маленький, немного лысый, с небольшой седой бородкой. Это и был прорицатель. Мне не понравилось его крошечное, все сморщенное личико, ласково и хитро улыбавшееся. Было в нем и смешное. Он не спросил пи моего имени, ни зачем я пришла — легко было догадаться, зачем. Сел за узкий и длинный деревянный стол, у лампы, посадив меня напротив. Ласково, почти вкрадчиво, попросил мою руку, которую я ему протянула уже без смущения. Какие все пустяки! Он долго смотрел на мою ладонь, потом спросил о числах моего рождения, года и дня. Потом несколько раз взглянул мне в глаза. Помолчал и заговорил. Чем он дольше говорил — тем больше мною овладевали досада, чуть не злоба, и смех. Наконец, я вырвала у него руку и рассмеялась — не без презрения — ему в лицо. — Это все, не правда ли, что вы можете мне сказать. — Да, дитя мое… Я вижу это по вашей руке, по. вашим глазам. Вас ждет завидная судьба. Вы будете богаты, будете известны… У вас есть неприятности, но они пройдут. Долгая жизнь в довольстве и блеске, счастливая любовь — и одна… Несколько раз будете больны, но выздоровеете — ибо долгая жизнь… Словом, он опять повторил все сначала, кое-что прибавил, все в тех же фразах. Эти противные, ничего неговорящие, ничего и все обещающие плоские фразы, монотонные — привели меня почти в неистовство. Какой-то бес овладевал мною все больше и больше, овладел — и я крикнула: — Подите вы вон с вашим пошлым шарлатанством! Ни у кого из вас даже фантазии нет! Все в мире гадатели говорят всем в мире простакам одни и те же общие фразы, одинаково для всех годные! Долгая жизнь… Любовь… Болезнь… Неприятности… и пройдут… Каждая кухарка умеет сказать это по картам — и угадать! При чем же эти мудрости, древние науки, Индии — ни при чем! Как скучно! — Дитя мое… — начал было старичок. Но я его перебила. Я была слишком взволнована и горько возмущена. Я вскочила со стула и, стоя перед ним, продолжала неожиданно горячо: — Нет, я поверила бы только тогда, если бы мне предсказали мое будущее, каким оно будет, — и мое, слышите, мое! Нет одинаковой судьбы, как нет одинаковой души, и мне нужна моя собственная судьба, мое счастье, мое несчастье, мое сердце с моими будущими чувствами — все нужно, скажите мне обо всем, если можете, расскажите цвет обой в комнате, где меня ждет радость! Покажите глаза человека, которого я буду любить! Вод тогда я поверю, что есть мудрость, знание, предвидение! Но вы не можете. Так и молчите. Утешайте других вашими «древними науками»! — Дитя мое… — сказал опять старичок. Я посмотрела на пего. Он перестал улыбаться. Он мне показался внезапно испуганным — и пугающим. Я замолчала. Молчал и он. Потом произнес — и так странно: — Это вы? И усмехнулся, но совсем не по-прежнему. И злая радость и жалость были в этой усмешке. Я не знала, что сказать. — Так это вы? — повторил он. И продолжал, пе дожидаясь ответа: — Вы хотите знать вашу судьбу, вашу собственную, всю до конца, до цвета глаз вашего возлюбленного? До последнего движения вашего будущего сердца? До… — Вы издеваетесь надо мной! Повторяете бесцельно мои же слова! Да, хочу, конечно, хочу! И знаю, что это невозможно, и презираю вас с вашими науками, потому что ничего другого мне не нужно. Прощайте. Я двинулась было к двери. Он не удерживал меня — надо быть справедливой. Но я сама, при взгляде па него, остановилась. Тогда он проговорил: — Так это вы. Мне было сказано, что один раз — только один раз — придет ко мне женщина и будет требовать того, чего требуете вы. И мне позволено на этот один раз — только раз! — исполнить то, что она потребует. Но лишь позволено — а не поведено. Я могу не исполнить, если вы откажетесь от своего желания. Он, так сказал это, что я вдруг поверила. — Никогда не откажусь! Никогда! О, если можете, умоляю вас! Скорее, скорее, сейчас, если только можете! — Не нужно умолять, — произнес он почти со строгостью. — Я сделаю, если вы не откажетесь. Сейчас, сегодня я не сделаю. Вы должны подумать о том, чего просите. Пойдите домой, подумайте. Если и подумав не откажетесь — придите завтра, в это же время. Не придете завтра… Я поняла, что с ним нельзя спорить. И произнесла только: — Хорошо, я приду завтра. Конечно, приду! Тут нечего размышлять, не о чем думать. — Нет, есть о чем, — сказал он настойчиво и встал, провожая меня к дверям. — Подумайте, подумайте, дитя мое… И… — прибавил он вдруг тише, запирая дверь, — когда будете думать — помолитесь там… кому знаете… Кому хотите.VII
— Я не спала почти всю ночь от ожидания, волнения и радости. Старику, когда он говорил свои последние речи, не верить было почему-то нельзя, я поверила бесповоротно и только досадовала, что он из упрямства отложил дело на целые сутки. О чем думать! Что тут сомневаться! Мне дается такое исключительное счастье, такая сила — знать! Открывается сокровенная тайна будущего! Люди всю душу полагают на то, чтобы угадать хоть часть, — а я буду знать все! Какой безумец отказался бы от этого! Я смеялась над советом старика — «подумать», и думала только о том, как я это узнаю. Он мне расскажет? Но слова не дают всей полноты представления. Он мне покажет? Но глазами нельзя видеть своих собственных чувств и мыслей. А он обещал дать мне все, все! Я узнаю моего отца, узнаю, как я ему отомщу. Что я ему отомщу — я не сомневалась. Ночь прошла, длинно тянется день. Я просидела весь день дома. Достаточно я «думала»! О другом совете старика, — помолиться кому-нибудь, — я забыла. Я никогда не была особенно религиозна. Да о чем молить, просить, спрашивать, когда я все буду — знать! Бес смеха, хохота овладел мной. Я целый день беспричинно хохотала, смехом отвечая на всякий вопрос домашних. Едва смерклось — я надела шляпу и ушла бродить по улицам. Накрапывал мелкий предосенний дождь. Я едва удерживалась от смеха, глядя, как шлепали в грязи бедные серые люди, дрожащие за каждый свой шаг, каждым шагом вступая в неизвестное, в неверное, в темное. Они не знали, что ждет их за первым поворотом. Бедные! Жалкие! Время шло. Приближался назначенный час. И в назначенный час я была у дверей старика. Он отворил мне сам, тотчас же. Никого, даже той женщины, служанки, я не видала. Старик держал в руках зажженную свечу, хотя в прихожей и в приемной горели лампы. — Это вы, дитя мое, — сказал старик. — Вы пришли. Я так и думал. Он был в том же сером халате, весь совершенно такой же, как накануне, — и весь совершенно другой: он трясся, точно от захватывающей тайной радости, смешанной со злобным испугом, почти ужасом. Он был похож на трусливую и гадкую старую птицу, серую, — и по-птичьи втягивал лысую голову в широкий ворот халата. Птица была трусливая, но большая и сильная. Силу я тотчас же в нем почувствовала — и опять поняла, что он меня не обманет. В приемной старик, не выпуская из рук свечи, остановился, точно еще больше струсил, и сказал: — Вы подумали, дитя мое, вы сами решили… Я советовал вам подумать. И вы, после свободного размышления, пришли ко мне, не правда ли, с тем же требованием, чтобы я… — Да, да! — вскрикнула я нетерпеливо. — Вы не будете повторять мне все снова! Это решено! Его дрожь заражала меня. Я уже не смеялась и не радовалась. Беспокойство, нехорошее и невнятное, меня захватывало. Я испугалась, что придет страх. Очень он был где-то близко… а страху, казалось бы, неотчего явиться. — Долго вы будете еще мяться! — почти грубо крикнула я. Старик тотчас же повернулся и, промолвив с неожиданным спокойствием и строгостью: «Идите за мной», — направился к двери в углу, которой я раньше не заметила. Отворил ее и прошел. Я промедлила на пороге мгновенье, только одно мгновенье: словно чья-то тихая, ласковая рука попыталась удержать меня, но она отстранилась, внезапный страх скользнул по мне и исчез, точно холодная мышь пробежала по телу, — и я вошла за стариком. Очень большая — громадная — комната с низким потолком, и совершенно пустая. Только потолок, пол и очень гладкие, очень белые стены. Даже окон я не заметила. В одну стену, впрочем, был вделан камин, огромный, черный, как раскрытый старческий рот. На камин мой спутник поставил свечу. Я увидала, что за камином, отставленный почти на середину комнаты, стоит стул, самый простой, деревянный, — и только один. Мне теперь казалось, что я опять ждала чего-то особенного, мягких светов, таинственных ковров, одуряющих курений, чего-то волшебно-пугающего, а странная пустота и белизна комнаты обманули меня, и страх, ползающий близко, был не тот, которого я, может быть, хотела, но нехороший, невнятный, тупой — и тоскливо-душный, похожий на тусклый свет свечи в огромной комнате. — Сядьте, дитя мое, сядьте на стул, — сказал старичок суетливо, все с той же злобно-ласковой трусливостью. — Сядьте. Сейчас… Сейчас… Я покорно села, как стоял стул, спиной к камину, лицом к сплошной белой стене, бесконечной, сливающейся и с потолком, и с другими белыми стенами. Я уже немного оправилась и даже подумала о том, что прежде меня занимало. Рассказывать он, очевидно, мне не будет. Может быть, я увижу себя и все на этой белой стене. Но стена белела гладкая, мертвая. Старичок перестал суетиться. — Дитя мое, — проговорил он холодно и твердо. — Я должен отвечать, если… В последний раз: вы хотите?.. — Да. Да, — сказала я. Но сказала, уже не думая, что говорю, сам язык сказал. Старик вынул белый шелковый платок из кармана халата. — Хорошо. Хорошо. Пусть исполнится, — заговорил он быстро. — Сидите спокойно. Ничего. Я только положу вам руки на голову. Но сам я не должен видеть. Мне нельзя. Я не должен. Вот, я завяжу себе глаза. И он дрожащими пальцами стянул узел платка на лысой голове. Платок был большой, и концы смешно свешивались вниз. Но тотчас же старик зашел сзади стула, и я только слышала его лепетанье: — Сейчас. Сейчас. Вы здесь? Я опущу руки вам на голову. Я опущу — и подниму. И больше ничего… ничего… Лепетание замолкло. Я почувствовала, как он медленно опускает, вероятно, сложенные, руки на мою голову, еще не касаясь ее. Вот, коснулся… О, какие тяжелые! Коснулся, опустил и… И тотчас же поднял. Между движением его рук вниз и движением вверх — не прошло никакого времени. Сколько бы мы не уменьшали время — до тысячной, до миллионной секунды — все же это будет некоторое время, а тут не было никакого. Но лживее всего — сказать, что не было ничего. О, ничего! Нет, все — не было только времени. Я встала. Обернула к старику лицо. Он сорвал повязку и поглядел в мое новое, теперешнее, лицо близко — и помню его глаза: жалкие, жалобные и ненавистнические, и полные страха смерти. Такими глазами убийца или насильник смотрит на дело своих рук. Он взглянул — и отвернулся. Я пошла вон, не оглядываясь. Он остался.VIII
— Вам еще не ясно, что было со мною тогда, в тот… промежуток, между двумя движениями его рук, когда не было времени. Трудно понять это обыкновенному, счастливому, живому человеку. Я постараюсь сказать, но если вы чего-нибудь не поймете — замените темное место верой: вам это доступно. Я хотела знать мою будущую судьбу, всю мою грядущую земную жизнь такою, какой я ее проживу. Такою, какой я ее почувствую. Все, до смерти, всякое будущее мгновенье. Для этого нужно было ее прожить. И я ее прожила. Вы должны поверить мне, когда я скажу вам, что в тот… кусок безвременья или вечности, между двумя движениями рук старика, я, сама я, которую я не видела, а ощущала изнутри (так же, как теперь я себя не вижу, а ощущаю изнутри) — прожила все свои мгновенья, часы и годы, мне сужденные, продумала все мысли, которые уже были и еще будут, выплакала все слезы, которые дано мне пролить, утомилась всей работой, переболела всеми болезнями моей жизни, слышала все слова, из которых многие только еще услышу, узнала все, что узнаю, видела все и всех, кого увижу; надо мной уже совершилось все — вплоть до последнего вздрагивания моего тела в последнюю минуту, в последней агонии… Графиня Ивонна остановилась. Она была права: я еще не понимал, я еще не принимал. — Верьте, — сказала она через минуту. — С верой в это можно понять, представить себе, что это такое и что я теперь такое. Все знают свое прошлое. Я знаю свое будущее совершенно так же, как все знают прошлое. Я — помню свое будущее. — Но, графиня… — пролепетал я. — Прошлое мы забываем… И разве можно все помнить… И вы можете забыть… — Забываем… Да, конечно, нельзя все помнить с одинаковой, ровной живостью. Но это ничего не меняет. Чуть вы направляете мысль на что-либо из прошлого, оно встает перед вами с изведанной ясностью. Так и я, о чем бы пи подумала из моей жизни — оно здесь, оно уже было. И даже знаю, когда и какой мыслью подумаю. Каждая мысль, каждое движение души и тела — приходят ко мне во второй раз, и я знаю время их прихода. Я прожила две вторых жизни, потому что ведь и мое первое переживание, тогда, в провале безвременности, было лишь ярким, верным отражением, образом именно этой будущей, второй жизни, то есть было совершенно таким же, совершенно, — как и она сама, вторая — жизнь со знанием! Друг мой, вы, человек, которого я люблю, которого я уже любила, которого я потеряю и теряла, если не умом — то сердцем, всей свободой вашего сердца и его счастьем, — вы поймите беспримерность и бездонность моего горя: я никогда не любила вас в первый раз; опять люблю вас — и опять во второй! И опять потеряю — только потому, что никогда у меня не было первой любви… Я не знал, понимаю ли я ее. Среди серого, удушливого и плоского ужаса у меня в голове толкались какие-то отрывочные мысли, какие-то вопросы. И я сказал с усилием: — Графиня… графиня… Но разве нам не дана свободная воля? Ведь это древний Рок… Это fatum… Я не могу верить, что мы не властны изменить нашей судьбы. — Да, есть свободная воля. И я взяла ее и всю истратила, сразу… в тот вечер у старика. Я изменила свою судьбу, свободно пожелав знать. Судьба изменилась, благодаря этому желанию и его исполнению, по моей воле. И я узнала ее уже изменившуюся (от знания), а той моей судьбы, которая совершилась бы, если б я не захотела знать, — я не знаю. Ведь не она меня ждет. Ее предсказал мне старик, в первый вечер. Она, извне, похожа на мою. Единственная любовь… Только он сказал: счастливая. А я пережила, переживу несчастную. Но несчастная она опять потому, что я пожелала знать, узнала — и тем изменила все. — Но если б вы захотели, графиня, — снова заговорил я. — Если б вы захотели все-таки изменить что-нибудь… Умереть раньше вашего часа? Изменить, изменить… — Раньше, чем захочу, — я знаю, что захочу и что поэтому сделаю. Я знаю, сколько еще раз придется пережить мне это мучительное желание — пойти против неотвратимого, прервать, кончить раньше конца… И знаю, какие мысля и чувства остановят меня. Я скажу вам их. Она встала и оперлась рукой на камин, вся черная, вся страшная, сама — как судьба. Я уже не смотрел на нее, как на человека. — За то, что вольно преступила благостный закон неведения, я оторвана от всего человеческого; я — одна. Люди живут, то есть желают, верят, сомневаются, стремятся, радуются, надеются, разочаровываются, боятся, молятся… Для меня нет в жизни ни страха, ни надежды. Мне нечего ожидать, сомневаясь, не о чем просить. Времени — во времени — для меня нет. Ничего нет. Но… только во времени! Только в жизни! А там? Когда я опять, во второй и последний раз, переживу муку агонии и закрою глаза — что будет? Видите, тут я спрашиваю, потому что тут у меня есть все счастье незнания, веры, ожидания, надежды! Тут я становлюсь равна и близка людям. Тут, надеясь, я боюсь — и потому не хочу и не могу пожелать своевольно прервать меру наказания, а хочу исполнить всю. И, может быть… да, может быть — я найду там и отдых, и свою человеческую силу, и новую, вечную свободу… Она стояла передо мной, обернувшись лицом к огню камина и ко мне. Лицо ее мгновенно — на одно мгновенье — изменилось, я его больше не знал: осиянное алыми лучами, молодое, только молодое — и вечное, оно было так прекрасно, что я с трепетом опустил глаза, не смея смотреть. Когда я их поднял — было кончено. Прежняя страшная женщина смотрела на меня прежними старыми, пустыми глазами. И, должно быть, я понял ее. Потому что невыразимый ужас наполнил мою душу, но в этом ужасе уже не было того пленяющего, притягивающего и обезволивающего восторга, который смешан со страхом, когда мы не знаем или' не понимаем причины страха. Непонятное, неизвестное сменилось знанием — ужас удесятерился, расширился болью, состраданием, насквозь колющей жалостью, — но восторг исчез. Он остался перед вечно непонятной сущностью нечеловеческих законов, но не перед ней, не перед этой женщиной, ибо если не смысл — то сама страшная судьба ее была мне ясна. В ужасе отчаянья нет восторга. Есть тупая тишина. Моя душа наполнилась ужасом отчаянья — и тишиной. Прошли какие-то мгновенья. Ивонна опять села в кресло. Угли потухали. — Я скажу вам еще несколько слов, — произнесла она своим глуховатым уставшим голосом. — Мне тяжело было рассказать вам, но так лучше, да и нельзя иначе. Двум людям во всей жизни я должна была рассказать это. Только двоим дано было близко подойти к моей жизни, уловить страшное и тайное в моем лице и мучиться этим. И я рассказала… одному, потому что любила, другому — потому что ненавидела. Если бы вы не узнали — вам было бы хуже. Если б он не узнал… Да что говорить об этом — разве могла я сделать иначе, чем сделала. Так вот, этот второй… первый… все равно, — это был мой отец, граф де-Сюзор. Он — вы знаете — примирился с матерью, взял нас к себе. Меня он полюбил безумно, как умел любить только он и свою дочь, перед которой он чувствовал себя виноватым. Во всей его жизни, к старости, остались живыми лишь два чувства: привязанность ко мне — и страх смерти. Графиня остановилась на мгновение, пристально взглянула на меня и продолжала: — Вы угадываете, это так. И это слишком ясно: да, я знаю, знаю свое будущее и будущее тех людей, жизнь которых соприкасается с моей; именно в точках соприкосновения и знаю. Ведь я знаю слова, которые услышу от них и которые ими еще не произнесены! Скажем — я знаю, что кто-нибудь в будущем должен сообщить мне о постигшем его только что несчастий. Я уже знаю об этом несчастий. из его будущих слов — которых он теперь сам еще не знает. Но я никогда не говорю, не говорила, не скажу никому ни о чем! Никогда! Не нарушу счастья неведенья, не должна, не могу. И я иду по своему пути, избегая соприкосновений с людьми. Хорошо, что мой путь пустынен. Хорошо, что только двое остановились при взгляде на мое лицо. Вас — мне дано охранить раскрытием правды. Я вас люблю. Моего отца — убила правда. Я его ненавижу… или ненавидела. Его любовь и его проницательность дали ему вечные мученья около меня. Я сказала, что правда убьет его. Он не поверил. Тогда я ему сказала все. И… я ему сказала час его смерти. Ему, ему одному! Но я и не могла иначе! Ведь час, когда я сказала, и был этим часом. Я знала о его смерти — он умер у меня на руках. Любовь, жалость ко мне вместе с отчаянием и страх неизбежной смерти убили его. Смерть! Смерть! От этого слова, которое одно для нее еще звучало надеждой, на меня повеяло последним холодом. Что я делаю здесь, я, жалкий, раздавленный, неведающий — и счастливый, потому что живой? Зачем я с этой женщиной? Она меня любит… Нет, нехорошо живому, если его любит мертвый. Ведь и я любил ее… или любил бы… о, не знаю, не знаю! Смеем ли мы любить любимого, когда за ним закрыты двери склепа? Я поднялся с трудом, как тяжело больной. — Графиня, — произнес я. — Я не могу теперь… говорить. Я не знаю, лучше ли или хуже, что вы мне все рассказали. Но я не лгал перед вами никогда. И как только я буду в силах понять свою душу, я вам все… — Вы мне напишете, — ответила она просто, вставая. — Я хотел спросить: «Почему напишу?» — но вспомнил, что ведь она все знает, она лучше знает; вероятно, напишу… Ноги мои едва двигались, тяжелые, точно застывшие. У дверей она остановилась, взяла мою голову обеими руками и поцеловала меня в губы. Я почувствовал в этом поцелуе весь холод, всю торжественность, все неразгаданное величие и вечную, грозную пленительность — Смерти, соединенной с Любовью. И в несказанном трепете благоговения я, как недостойный паломник склоняется к мертвому, но святому телу, склонился к ногам женщины и поцеловал край ее одежды.IX
— Теперь осталось досказать лишь несколько слов. На другой день я получил телеграмму, что отец мой тяжело болен, меня вызывали в Россию. Я решил уехать в ночь. Перед отъездом я все-таки успел написать графине… то, что приблизительно рассказал вам — о себе, о своей душе. Я не мог ей лгать. Я написал, что уезжаю и почему уезжаю. Она это знала вчера! Она говорила (я вспомнил): «Вы уедете…» Она знала вчера и мою душу, потому что я все написал ей сегодня. Ведь она уже читала ненаписанное письмо! Я был в полусне, в полубреду. Несчастье — телеграмма из России — была моим счастием. Я должен был уехать. Отец мой умер. В Париж я больше не вернулся. От графини я не получил ответа — и не ждал. Я никогда не видал ее больше… Но я никогда не любил ни одной женщины. И не только моя любовь, но многое во мне — мои мысли о смерти, мои самые страшные, святые надежды, все, что у человека не вмещается, не входит в жизнь, — связано у меня с частой думой о ней. Друзья мои! Простите, я изменил имя, я слишком неискренно-легко начал рассказ, который — я бессознательно надеялся — вы примете за вымысел. Ноя вижу, что вы почувствовали весь ужас его правдивости, и поняли, как срослось с моей душой это воспоминание. Быть может, и вся душа моя выросла из этого ужаса и этой боли. Я хотел бы, чтобы вы поняли… а если но поняли чего-нибудь — то поверили; нам это доступно. Графиня жива и теперь, многие из вас слышали ее настоящее имя. Оно очень известно. Графиня живет — она исполнит всю меру страдания за то, что переступила непреступный закон неведения. Но знанию ее есть благодатный предел — смерть. Графиня жива — я помню о ней всегда. Но я не увижу ее. А если и увижу — то не здесь, а там, где есть милость и прощение.Политов умолк. Молчали и друзья. Угли гасли, безмолвные, в камине. Темные стены. Темные занавеси. Темная, теплая и тяжкая тишина. Время как будто остановилось — так безгласно перекатывались темные волны темного Будущего через недвижный рубеж Настоящего, чтобы превратиться в уже видимое, ведомое Прошлое. И все точно боялись пошевелиться, боялись отделить явностью Настоящего — ведомое от неведомого.
В. Я. БРЮСОВ

В ПОДЗЕМНОЙ ТЮРЬМЕ (По итальянской рукописи начала XVI века)
I
Султан Магомет II Завоеватель, покоритель двух империй, четырнадцати королевств и двухсот городов, поклялся, что будет кормить своего коня овсом на алтаре святого Петра в Риме. Великий визирь султана, Ахмет-паша, переплыв с сильным войском через пролив, обложил город Отранто с суши и с моря и взял его приступом 26 июня в год от воплощения Слова 1480. Победители не знали удержу своим неистовствам: перепилили пилой начальника войск, мессера Франческо Ларго, множество жителей из числа способных носить оружие перебили, архиепископа, священников и монахов подвергали всяческим оскорблениям в храмах, а благородных дам и девушек лишали насилием чести. Дочь Франческо Ларго, красавицу Джулию, пожелал взять в свой гарем сам великий визирь. Но не согласилась гордая неаполитанка стать наложницей нехристя. Она встретила турка при первом его посещении такими оскорблениями, что он распалился против нее страшным гневом. Разумеется, Ахмет-паша мог бы силой одолеть сопротивление слабой девушки, но предпочел отомстить ей более жестоко и приказал бросить ее в городскую подземную тюрьму. В тюрьму эту неаполитанские правители бросали только отъявленных убийц и самых черных злодеев, которым хотели найти наказание злее смерти. Джулию, связанную по рукам и ногам толстыми веревками, принесли к тюрьме в закрытых носилках, так как даже турки не могли не оказывать ей некоторого почета, подобавшего по ее рождению и положению. По узкой и грязной лестнице ее стащили в глубину тюрьмы и приковали железной цепью к стене. На Джулии осталось роскошное платье из лионского шелка, но все драгоценности, бывшие на ней, сорвали: золотые кольца и браслеты, жемчужную диадему и алмазные серьги. Кто-то снял с нее и сафьяновые, восточные башмаки, так что Джулия осталась с босыми ногами. Тюрьма была выкопана в недрах земли, под башней городской стены. Два небольших окна, забранных толстой железной решеткой и приходившихся у самого потолка, лишь верхней своей частью подымались над поверхностью земли. Они пропускали лишь столько света, чтобы в тюрьме не стоял вечный мрак и чтобы привыкшие к темноте глаза заключенных могли различать друг друга. В каменные стены были вделаны крепкие крюки с цепями и железными поясами. Эти пояса надевались на узников и запирались наглухо замком. В тюрьме было шестеро заключенных. Турки никого их них не захотели освободить, так как всегда любили соблюдать обычаи той страны, которую завоевали. Джулию приковали между старухой Ваноццой, осужденной за колдовство и сношения с дьяволом, и бледным юношей Марко, брошенным сюда уже во время осады, за участие в заговоре против правителя города.II
Джулия первые часы заключения лежала как мертвая. Она была потрясена всем происшедшим с ней и задыхалась в душном и смрадном воздухе тюрьмы. Она ждала с минуты на минуту, что жизнь покинет ее. Но узники, которые еще ничего не знали о взятии города, наперерыв обсуждали все, что пришлось им увидеть. Сначала они долго спорили, почему в их яме появились турки. Потом стали говорить о Джулии, разбирая ее внешность, лицо, одежду и делая предположения, кто она и что привело ее в этот ад. — Красивая девка, — сказал Лоренцо, старый разбойник, прикованный на противоположном от Джулии конце тюрьмы, — жаль, я далеко. Не плошай, Марко! — Это знатная птица, не нам чета, — сказала старуха Ваноцца. — Какое на ней платье-то! По золотому отдашь за локоть такой материи. — Голову бы я ей размозжил, будь поближе, — сказал Козимо из своего темного угла, — Она из тех, кто одевается в шелк, когда мы голодаем. Мария-болящая, которая давно была почти одним скелетом и у которой прежний тюремщик каждый день спрашивал, скоро ли она помрет, пожалела Джулию: — Ох, трудно ей придется, с пуховых подушек да на голую землю, от княжеских яств да на хлеб, на воду! А пророк Филиппо, беглый монах, сидевший в тюрьме более двадцати лет и весь обросший волосами, угрожал страшным голосом: — Приблизилось, приблизилось время. Се предан мир неверным, да попрут веселившихся и гордых, чтобы после возвеселились малые и убогие. Радуйтесь. Только один Марко молчал. Впрочем, как заключенного недавно, узники еще не считали его вполне своим.III
Понемногу Джулия пришла в себя. Но она нс открывала глаз и не двигалась. Она слушала речи о себе и едва понимала слова. Потом совсем стемнело, и узники один за другим заснули. Со всех сторон послышался громкий храп. Только тогда Джулия решилась плакать и рыдала до первого света. Утром рано в тюрьму спустились новые тюремщики. То было двое турок: главный — постарше, и помощник его — помоложе. Они принялись, как то делали прежде их предшественники, убирать тюрьму. Помощник лопатой сгребал нечистоты, скопившиеся за день, а главный раскладывал перед узниками куски заплесневелого хлеба и наливал воды в глиняные кружки. Узники сначала не решались промолвить ни слова, потом отважились расспрашивать, что случилось и почему их не выпустят на волю, если правители в городе сменились. Но турки не понимали по-итальянски. Подойдя к Джулии, главный тюремщик соблазнился ее красотой и молодостью. Отложив в сторону мешок с хлебом, он стал что-то говорить ей приветливо и хотел обнять ее. По Джулия, забыв о своем положении, не вынесла такого оскорбления и ударила его по лицу. Тогда турок пришел в ярость, схватил бывший с ним бич и стал жестоко хлестать ее. Потом тут же, под хохот и веселые вскрики всей тюрьмы, изнасиловал ее. Так девственность красавицы Джулии Ларго, отказавшей в своей благосклонности великому визирю султана, досталась простому турку, который никогда и в глаза не мог увидать женщин из гарема паши.IV
Потекли дни тюремной жизни. Джулия мало-помалу привыкла к страшной обстановке, к смрадному воздуху, к твердому хлебу, к гнилой воде. Привыкла переносить такое, о чем раньше не могла бы помыслить без крайнего стыда. Она безмолвно принимала ежедневные ласки тюремщика, а порой и его побои. Она решалась, как все другие узники, совершать на виду у всех, что между людьми принято скрывать. Узники были прикованы на таком расстоянии, что лишь с трудом могли дотянуться друг до друга. Длина цепи позволяла им сидеть, но встать на ноги они не могли. Несмотря на то, узники придумали себе целый ряд развлечений. Лоренцо и Козимо устроили кости и играли в них целые дни — на хлеб и воду; случалось, что проигравший дней по пяти оставался голодным. В игре часто принимала участие и Ваноцца. Козимо забавлялся еще тем, что бросал в сотоварищей землей и каменьями. Этим он всегда приводил в ярость Филиппо, который тогда рычал, как бык, и так рвался с цепи, что стены дрожали. В другие дни Филиппо усердно тесал около себя в стене распятие. Бывало, что между узниками подымался длинный разговор, переходивший в жестокую ругань. А иногда проходило несколько суток, и никто не хотел вымолвить слова: все лежали в своих углах, в злобе и отчаяньи. Джулия оставалась одинокой среди заключенных. Она не отвечала на вопросы и словно не слыхала брани, которой ее осыпали. Она никому не говорила, кто она, и это оставалось тайной для всех обитателей тюрьмы. Она проводила дни в молчаливых раздумьях, не плача, не жалуясь. Только со своей соседкой, старухой Ваноццой, обменивалась она иногда несколькими словами. Ваноцца, которая была в тюрьме уже много лет, дала Джулии несколько дельных советов. Указала ей, что надо время от времени садиться на корточки, чтобы ноги не затекали. Показала, как сделать, чтобы железный пояс не слишком тер тело. Посоветовала выплескивать под утро из кружки остатки воды, чтобы она не загнивала. Джулия не могла не признать пользы этих советов и, из благодарности, откликалась на голос Ваноццы. Однажды Джулия нечаянно толкнула свою кружку и пролила всю воду. Водой узники особенно дорожили, потому что было лето и в тюрьме было очень жарко. Джулия томилась от жажды, но но показывала виду. Марко, прикованный рядом, подвинул ей свою кружку. — Ты хочешь пить, — сказал он, — прошу тебя, возьми мою воду. Джулия посмотрела на Марко. Ей показались прекрасными его черные глаза и бледные щеки. Она сказала: — Благодарю тебя. Ржавая вода была в тот день очень вкусной.V
С этого дня Джулия стала разговаривать с Марко. Сначала их разговор был отрывочным. Понемногу они стали говорить все больше и больше. А еще после стали проводить в беседах целые дни. Джулия рассказывала об убранстве и веселой жизни дворцов: о сводчатых галереях и мозаичных полах, о мебели из драгоценного дерева и люстрах из венецианского стекла, о садах с искусственными водопадами и фонтанами, о платьях, шитых золотом и жемчугами, о празднествах, торжественных обедах, балах с танцами, маскарадах в садах, увешанных фонариками, с иллюминациями, и об увеселительных охотах в лесах; о театральных представлениях и об игре на спинете, цитре, флейте и клавире, рассказывала о произведениях искусства, о пряжках, браслетах, диадемах — работы лучших ювелиров, о тонких, изящных медалях, о статуях древних и новых ваятелей, о дивных картинах великих новых художников, изображающих и события священной истории, и сцены из римских басен о богах, и картины из теперешней жизни; рассказывала все, что приходилось ей читать в книгах Филельфо, Понтано, Панорамито, Альберти и других современных писателей; повторяла новеллы Поджо и Боккаччо или декламировала стихи Петрарки. Марко в ответ говорил о красивых раковинах, которые он собирал в море, о дивных пестрых рыбах, которые попадались в его сети, о крабах, ходящих боком, и безобразных тритонах; вспоминал о ночных ловлях при свете смоляных факелов, о гонках лодок, о лазурных гротах, о страшных бурях на море; описывал жизнь в Сицилии и Африке, в странах, где живут чернокожие люди, слоны и верблюды; передавал рассказы о странствиях морехода Синдбада, принявшего однажды спину морского чудовища за остров, побывавшего в странах, где живут люди без головы, охотившегося дальше Лунных гор за птицей Рохом; мечтал о морских сиренах, что по ночам играют на златострунных лирах и заманивают к себе молодых рыбаков, чтобы потопить их, о саламандрах, которые незримо живут в воздухе кругом нас и могут быть видимы только в огне, проходя через который воспламеняются, о черных титанах, лежащих под Везувием и дышащих черным дымом, о жизни на солнце и на звездах, о говорящих цветах и о девушках с крыльями, как у бабочек. Лишь об одном никогда не говорили Джулия и Марко: о своем настоящем и о своем будущем, о том, как шли дни в их тюрьме и что их ожидало. Другие узники сначала насмехались, слушая их разговоры, а потом перестали обращать на них внимание.VI
Узнав друг друга, Джулия и Марко стали опять стыдиться. И они вновь начали таить то, что люди скрывают от чужих глаз. Однажды утром тюремщик еще раз обратил внимание на Джулию, хотя, истощенная голодом, отсутствием воздуха и болезнью, она уже вовсе не могла считаться особенно красивой. Турок сел около нее и, смеясь, хотел опять обнять ее, как делал это в первые дни ее заключения. Но Марко сзади схватил его за плечи, опрокинул наземь и едва не разбил ему голову своей цепью. Подоспевший помощник легко, конечно, справился с юношей, обессилевшим от долгого заключения. Оба турка повалили Марко и стали его хлестать нещадно бичом. Они били его поочередно, пока окончательно не опустились у них руки от усталости. Наконец, произнося угрозы и ругательства, они удалились, оставив Марко в луже крови. Вся тюрьма безмолвствовала. Никто не знал, какие слова можно произнести. Джулия, сколько позволяла ей цепь, приблизилась к Марко, омыла ему раны и намочила водой голову. Марко открыл глаза и сказал: — Я в раю. Джулия поцеловала его в плечо, потому что не могла дотянуться до его губ, и сказала ему: — Я люблю тебя, Марко. Ты — светлый. Все думали, что турок на другой день убьет Марко. Но почему-то наутро пришли убирать тюрьму два новых тюремщика: оба угрюмых и не обращавших никакого внимания на узников. Побоялись ли старые мести узников или их сменили, это осталось в тюрьме тайной.VII
Марко прохворал несколько недель, и Джулия ухаживала за ним, как могла. А когда Марко оправился, захворала Джулия. Раз, вечером, она начала громко стонать, потому что не могла преодолеть боли. Старуха Ваноццапоняла, в чем дело, и велела ей подвинуться ближе. К утру у Джулии родился мертвый ребеночек. — Жаль, что мертвый, — сказал Лоренцо, — славный был бы головорез. Редко кому выпадает такая удача: в тюрьме родиться. Козимо обругал Ваноццу, зачем она помогала Джулии. — Небось она женщина, — сказала в ответ Мария-болящая. Утром пришли тюремщики-турки, сгребли маленький некрещеный трупик вместе с нечистотами и унесли куда-то.VIII
Несколько дней спустя Джулия сказала Марко, ночью, когда все спали: — Марко! Ты должен презирать меня. Я — погибшая. Ты — первый, кого полюбила я. И я не могу отдать тебе чистоты своего тела. Меня, против моей воли, загрязнили. Я недостойна тебя, хотя и не согрешила пред тобой. Ах, если бы я встретила тебя в былые дни и ты бы первый увидел мою грудь, на которую не смотрел ни один мужчина! Тогда не было бы ласк, которых я не нашла бы в своем существе и которых не расточила бы тебе со всей щедростью любви и страсти. Но теперь оставь меня, Марко, и не позволяй себе думать обо мне как о женщине. Если мне невозможно принести тебе как приданое ту единственную истинную драгоценность, какой может владеть девушка: честное имя, — я не хочу, чтобы ты стыдился своего выбора. Я буду любить тебя вечно, но ты не должен любить меня. Пока праведный гнев Господень держит нас в этом аду, позволь мне иногда смотреть тебе в лицо, чтобы я могла преодолевать искушение смертного греха — самоубийства. Когда же заступничество Пречистой Девы Марии возвратит нам свободу, вспоминай хотя изредка о той душе, для которой ты навсегда останешься сиянием. А я в кельи монастырской не устану воссылать молитвы и за тебя. Но Марко отвечал ей: — Джулия! Ты — светлый ангел надо мной. Я никогда не видал, ни наяву, ни в грезах, ничего прекраснее, чем твой образ. Ты заставила меня вновь поверить в милосердного Бога и его благоуханный рай. Если там, среди высоких лилий, такие, как ты, — стоит терпеть мучения на этой земле. Мысль о тебе ослепляет меня синим огнем, как молния. Когда руки твои касаются меня, я дрожу: это — уголь, горящий, но сладостный. Твой голос — как свирель на росистом лугу или как роптание чуть пенистой волны около каменистого побережья. Целовать то место на земле, которого ты касалась, высший из моих помыслов. Ты непорочна, ты безгрешна по существу, грех ниже тебя, и ты всегда над ним, как хрустальное небо всегда над облаками. Госпожа моя, не лишай меня радуги взоров твоих. Тогда Джулия стала на колени и сказала ему: — Марко! Возлюбленный мой! Возьмешь ли ты меня как свою жену? Тогда Марко стал на колени и сказал ей: — Девушка! Пред лицом Господа Бога, видящего все, беру тебя как свою жену, обручаюсь с тобой и сочетаюсь союзом, который человек нарушить не властен. Так сочетались они браком, ночью, когда все спали, стоя на коленях друг перед другом.IX
Христианские государи не могли, конечно, терпеть спокойно, что неверные утверждаются в стране, где постоянно пребывает наместник Христа. Альфонс, герцог калабрийский, сын тогдашнего короля Неаполитанского, собрал сильное войско, чтобы изгнать турок из Италии и возвратить Неаполю город Отранто. Папа Сикст IV, перечеканив в монету свою посуду и много церковной утвари, снарядил на помощь Альфонсу пятнадцать галер. Также послали вспомогательные отряды арагонцы и венгры. Мужество и доблесть христиан сломили упорство неверных, которые к тому же пали духом, прослышав о смерти султана Магомета, который покончил свою неистовую жизнь в мае месяце, в год 1481. Мусульмане бежали из Италии, и неаполитанцы заняли вновь благородный город Отранто. Среди военачальников христианского войска находился брат несчастного Фернандо Ларго — Пьетро, и он поспешил разыскать свою племянницу. Джулию вывели из подземной тюрьмы. Она не могла стоять на ослабших ногах, и свет солнца слепил ее невыносимо. Те же, кто видел ее худобу и бледность, не могли удержаться от слез. Ловкие служанки омыли ее в ароматной купальне, расчесали ей волосы, облекли ее в легкие, нежные ткани. Джулия была как безумная и едва могла отвечать на вопросы. На другой день после освобождения с ней сделался приступ болезни, и она несколько недель была близка к смерти. В бреду представлялось ей, что она уже умерла и осуждена на вечные мучения в преисподней, и что дьяволы всячески терзают и позорят ее тело. Она не узнавала никого из родных, и все приближавшиеся к ней внушали ей ужас и отвращение. Когда понемногу, благодаря искусству врачей и заботам родственников, она стала поправляться, все прошлое, весь страшный год, проведенный в подземной тюрьме, стал ей казаться одним из видений ее горячечного бреда. При ней никто не решался говорить о месяцах ее плена, и она сама старалась не возвращаться к ним даже в мыслях.X
Выздоровев совершенно, Джулия переехала в Неаполь и поселилась у одного из своих дядей. Ныне уже покойный, король Фернандо, в память мученической смерти ее отца при исполнении долга, пожаловал ей годовое содержание в 1000 дукатов. Кроме того, ей перешли в полное наследственное обладание Все замки и земли ее отца. Красота Джулии расцвела с такой пышностью, как никогда прежде. Все дивились ей на придворных празднествах, а так как она была невестой богатой, то и не было недостатка в искателях ее руки из числа молодых людей, наиболее достойных и благородных. Однажды Джулия со служанками проходила по набережной, там, где воздвигнуты новые замечательные здания Неаполя. Внезапно среди небольшой кучки рыбаков, стоявших у лодки, она признала Марко. Он был одет как моряк, в куртку с позументами и красный колпак. Джулии вдруг стало печально и томительно, словно злой волшебник пригрозил ей своим магическим жезлом. Она хотела было сделать вид, что не заметила Марко, но было ясно, что он ее видел и узнал. Тогда Джулия послала к Марко одну из служанок, чтобы приказать ему прийти к ней сегодня вечером. Видно было, как Марко усмехнулся и кивнул головой в знак согласия. Весь тот день Джулия не знала покоя. Вечером пришел Марко, молодой, свежий, окрепший, смелый. Джулия приняла его в своей комнате. С ней была ее подруга, монна Лукреция, и две близких служанки. На Джулии было шитое золотом бархатное платье, с прорезными рукавами, на шее жемчужное ожерелье и на лбу алмазная фероньерка. Она сидела в высоком кресле флорентийской работы. Марко поклонился почтительно, как подобало простому рыбаку перед знатной синьорой. Некоторое время Джулия не знала, как говорить с ним; потом спросила: — Скажи мне, друг, чем ты занимаешься? Марко поднял на нее черные глаза, опять усмехнулся так же, как утром на пристани, и отвечал: — Я, синьора, рыбак, промышляю рыбой, а иногда вожу товары из Отранто в Неаполь. — И ты доволен своим положением? — спросила Джулия. — Мне большего не надо, чтобы жить и любоваться золотым солнцем и голубыми волнами, — отвечал Марко, и голос его зазвенел так нежно, как в часы их длинных разговоров в темнице. Но Джулия уже овладела своим сердцем и сказала: — Я прикажу дать тебе на мой счет новую барку, чтобы ты мог начать собственную торговлю. Марко наклонил голову. — Благодарю вас, синьора, я не хочу вас обидеть отказом. Позвольте только мне в память о вас назвать эту барку вашим именем. После этих слов Марко опять вежливо поклонился и попросил позволения удалиться. Когда же он вышел, Джулия сказала монне Лукреции: — Я знаю, что этот человек участвовал в заговоре против моего отца. Но так как он, подобно мне, пережил взятие нашего города, то я не могу быть к нему строгой. Я действительно прикажу снарядить для него барку, но попрошу, чтобы ему запретили появляться в Неаполе. Пусть ведет свои дела где-нибудь у Тарента.МРАМОРНАЯ ГОЛОВКА (Рассказ бродяги)
Его судили за кражу и приговорили на год в тюрьму. Меня поразило и то, как этот старик держал себя на суде, и самая обстановка преступления. Я добился свидания с осужденным. Сначала он дичился меня, отмалчивался, наконец, рассказал мне свою жизнь. — Вы правы, — начал он, — я видал лучшие дни, не всегда был уличным горемыкой, не всегда засыпал в ночлежных домах. Я получил образование, я — техник. У меня в юности были кое-какие деньжонки, я жил шумно: каждый день на вечере, на балу, и все кончалось попойкой. Это время я помню хорошо, до мелочей помню. Но есть в моих воспоминаниях пробел, и, чтобы заполнить его, я готов отдать весь остаток моих дряхлых дней: это — все, что относится к Нине. Ее звали Ниной, милостивый государь, да, Ниной, я убежден в этом. Она была замужем за мелким чиновником на железной дороге. Они бедствовали. Но как она умела в этой жалкой обстановке быть изящной и как-то особенно утонченной! Она сама стряпала, но ее руки были как выточенные. Из своих дешевых платьев она создавала чудесный бред. Да и все повседневное, соприкасаясь с ней, становилось фантастическим. Я сам, встречаясь с ней, делался иным, лучшим, стряхивал с себя, как дождь, всю житейскую пошлость. Бог простит ей грех, что она любила меня. Кругом было все так грубо, что она не могла не полюбить меня, молодого, красивого, знавшего столько стихов наизусть. Но где я с ней познакомился и как — этого я уже не могу восстановить в своей памяти. Вырываются из мрака отдельные картины. Вот мы в театре. Она, счастливая, веселая (ей это выпадало так редко!), впивает каждое слово пьесы, улыбается мне… Ее улыбку я помню. Потом вот мы вдвоем где-то. Она наклонила голову и говорит мне: «Я знаю, что ты — мое счастье ненадолго, пусть, — все-таки я жила». Эти слова я помню. Но что было тотчас после, да и правда ли все это было с Ниной? Не знаю. Конечно, я первый бросил ее. Мне казалось это так естественно. Передо мной была блестящая будущность, и я не мог связывать себя какой-то романтической любовью. Мне было больно, очень больно, но я пересилил себя и даже видел подвиг в том, что решился перенести эту боль. Я слышал, что, Нина после того уехала с мужем на юг и вскоре умерла. Но воспоминания и разговоры о ней тогда так мучили меня, что я избегал всяких вестей. Я старался не думать о Нине. У меня не было ее портрета, не было ее писем, ничто мне не напоминало ее. И, понятно, я позабыл ее лицо, ее имя, всю нашу любовь, — понимаете, позабыл. Ее не стало в моей жизни, как если б совсем не было. Есть что-то постыдное для человека в этой способности забывать. Шли годы. Уж не буду вам рассказывать, как я «делал карьеру». Без Нины, конечно, я мечтал только о внешнем успехе, о деньгах. Одно время я почти достиг своей цели, живал по заграницам, женился, имел детей. Потом все пошло на убыль; жена умерла; побившись с детьми, я их рассовал по родственникам и теперь, прости мне, Господи, даже не знаю, живы ли мои мальчишки. Разумеется, я пил. Основал было я одну контору — не удалось, загубил на ней последние деньги и силы. Наконец, дошел я до того, чем вы меня ныне видите. Последние годы служил я месяцами, когда не пил, на заводах рабочим. А когда пил — попадал на Хитров рынок и в ночлежки. Озлобился я на людей страшно, и все мечтал, что вдруг судьба переменится и я буду опять богат. Своих новых товарищей за то и презирал, что у них этой надежды не было. Так вот однажды, продрогший и голодный, брожу я по какому-то двору, уж сам не знаю зачем, случай привел. Вдруг повар кричит мне: «Эй, любезный, ты не слесарь ли?» — «Слесарь», — отвечаю. Позвали меня замок в письменном столе исправить. Попал я в роскошный кабинет, везде позолота, картины. Поработал я, сделал, что надо, и выносит мне барыня рубль. Я беру деньги и вдруг вижу на столбике, на колонке, мраморную головку. Сначала обмер, сам не зная почему, всматриваюсь и верить не могу: Нина! Говорю вам, милостивый государь, что Нину я забыл совсем и тут-то именно впервые это и понял; понял, что забыл ее. Смотрю, сам дрожу и спрашиваю: «Позвольте узнать, сударыня, что это за головка?» — «А это, — отвечает она, — очень дорогая вещь, пятьсот лет назад сделана, в XV веке». Имя художника назвала — я не разобрал, сказала, что муж вывез эту головку из Италии и что через то целая дипломатическая переписка возникла между итальянским и русским кабинетами. «А что, — спрашивает меня барыня, — или вам понравилось? Какой у вас, однако, современный вкус! Ведь уши, — говорит, — не на месте, нос неправилен…» — и пошла и пошла! Выбежал я оттуда, как в чаду. Это не сходство было, а просто портрет, даже больше — какое-то воссоздание жизни в мраморе. Скажите мне, каким чудом художник в XV столетии мог сделать те самые маленькие, криво посаженные ушки, которые я так знал, те самые чуть-чуть раскосые глаза, неправильный нос и длинный наклоненный лоб, из чего неожиданно получалось самое прекрасное, самое пленительное женское лицо? Каким чудом две одинаковые женщины могли жить — одна в XV веке, другая в наши дни? А что та, с которой делалась головка, была именно одинакова, тождественна с Ниной, не только лицом, но и характером, и душой, я не мог сомневаться. Этот день изменил всю мою жизнь. Я понял и всю низость своего поведения в прошлом, и всю глубину своего падения. Я понял Нину как ангела, посланного мне судьбой, которого я не признал. Вернуть прошлое невозможно. Но я с жадностью стал собирать воспоминания о Нине, как подбирают черепки от разбившейся драгоценной вазы. Как мало их было! Сколько я ни старался, я не мог составить ничего целого. Все были осколки, обломки. Но как ликовал я, когда мне удавалось обрести в своей душе что-нибудь новое. Задумавшись и вспоминая, я проводил целые часы; надо мной смеялись, а я был счастлив. Я стар, мне поздно начинать жизнь сызнова, но я еще могу очистить свою душу от пошлых дум, от злобы на людей и от ропота на Создателя. В воспоминаниях о Нине я находил это очищение. Страстно мне хотелось посмотреть на статую еще раз. Я бродил целые вечера около дома, где она стояла, стараясь увидать мраморную головку, но она была далеко от окон. Я проводил ночи перед домом. Я узнал всех живущих в нем, расположение комнат, завел знакомство с прислугой. Летом владельцы уехали на дачу. И я уже не мог более бороться с своим желанием. Мне казалось, что, взглянув еще раз на мраморную Нину, я сразу вспомню все, до конца. Это было бы для меня последним блаженством. И я решился на то, за что меня судили. Вы знаете, что мне не удалось. Моня схватили еще в передней. На суде выяснилось, что я был в комнатах под видом слесаря, что меня не раз замечали подле дома… Я был нищий, я взломал замки… Впрочем, история кончена, милостивый государь! — Но мы подадим апелляцию, — сказал я, — вас оправдают. — К чему? — возразил старик. — Никого мое осуждение не опечалит и не обесчестит, а не все ли равно, где я буду думать о Нине — в ночлежном доме или в тюрьме? Я не нашелся, что ответить, но старик вдруг поднял на меня свои странные выцветшие глаза и продолжал: — Одно меня смущает. Что, если Нины никогда не было, а мой бедный ум, ослабев от алкоголя, выдумал всю историю этой любви, когда я смотрел на мраморную головку?Н. И. ПЕТРОВСКАЯ

БРОДЯГА
Мое счастье было кратко. Я принял его как чудесный неожиданный дар, и оно покинуло меня, еще юное, живое, навсегда озарив мои дни. С этой женщиной, о которой я говорю, мы встречались в продолжение двух лет. Иногда я видел ее мужа — всегда мрачного молчаливого человека. Иногда слышал какие-то странные рассказы о их жизни, но, встречаясь, не замечал ее глаз, быстро забывал лицо и никогда не предчувствовал нашей любви. Началось это на каком-то ужине в ресторане, куда мы оба попали случайно. За столом оказались рядом. Почему? Я никого не просил об этом. Долго не замечали друг друга. Потом говорили о чем-то пустом, обоим ненужном, и она скучала. Вокруг было шумно, но не весело. Пели цыгане. Ночь проходила незначительно, плоско, подобная многим, о которых так легко забываешь наутро. Но я замечал: особая грусть в какой-то час всегда опускается над рестораном. Может быть, это только утомление, ядовитый звон отравленной крови, которая хочет под утро покоя, а может быть, что-то иное, всегда сторожащее за сознаньем, говорит людям: вы хотели забыть… но я здесь. Я всегда с вами, я вес вижу!.. Не знаю, что это, — ио этот час отмечаю всегда. Тогда усталая певица с слишком подведенными глазами непременно ноет какой-нибудь надрывающий избитый романс. Тогда женщины со странной дрожью в пальцах отвечают на ваше пожатье, и в глазах их вспыхивает печально-нежный растроганный блеск. Они шепчут вам ночные лживые слова, над которыми вы безжалостно смеетесь наутро. Но здесь, под безвкусно яркой люстрой, на мягких захватанных диванах готовы дать самое безумное обещание. У той, что сидела рядом, было неподвижно спокойное лицо. В первый раз я заметил ее глаза. Так смотрят маньяки — упорно, долго, в одну точку. — О чем вы думаете? — спросил я с любопытством. Она взглянула и улыбнулась — грустно, красиво. — Я думаю о любви, — ответила она просто. — Всегда о любви. Смотрю в глаза, угадываю темные тайны душ, слушаю мелодии голосов и все спрашиваю — не здесь ли? — Кто? — спросил я, не понимая. — Любовь. Тогда я засмеялся и сказал: — Посмотрите так и на меня. Может быть, здесь? Она посмотрела. Внимательно, вдумчиво, строго, точно не слыша шутки, и ответила: — Может быть. Трудно угадать, кого уже отметила любовь. Из-за стола вставали. Электричество погасло. Принесли свечи. Красные стены кабинета потускнели. На столе апельсинные корки и недопитые стаканы. У женщин смятые прически, под глазами синие тени. Поздно. Но отчего мне так не хочется прощаться? — Мы вместе? — спросил я несмело. — Да. И вот на рассвете по синим оснеженным аллеям мы ехали вместе. Она мне казалась прекрасной. Я держал ее руки и восторженно смотрел в лицо. — Может быть, здесь?.. — спрашивал, сжимая ее пальцы. — Может быть, — отвечала она просто. И лицо у нее было чуть-чуть грустное, чистое и покорное, как у монахини. Я проводил ее до подъезда. Звонили к заутрени. Улицы были пусты и белы. Холодная утренняя грусть сжимала сердце. — Придете? — спросил я робко. И голосом ясным, торжественно простым, от которого рассеялось последнее впечатление случайности этой ночи, она сказала: — Приду. Так это началось. Она пришла вечером, на другой день. Все было так просто. Светила луна. Перекладины рам черными крестами лежали на полу. Все та же моя комната, каждый уголок которой я знаю наизусть. Но в нее уже вошло что-то новое, тревожное. Тайна чужой неизвестной души. — Кто вы? Откуда вы? Почему я не знаю о вас ничего? И она ответила: — Не нужно спрашивать. Все внешнее обычно до тоски, и оно, как всегда, ложь. А правду я уже сказала. Я бродяга, скитаюсь по душам и все жду встречи с той любовью, что вижу только во сне. — Какая же она, эта любовь? — спросил я, и у меня дрожали губы. Она наклонилась. Близко. Я видел странные, сосредоточенно блестящие глаза. Такого выражения я не видал уже после ни у кого, никогда, всю жизнь. — Моя любовь то, что называют «безумием». Это бездонная радость и вечное страдание. Когда она придет, как огненный вихрь, она сметет все то, что называется «жизнью». В ней утонет все маленькое, расчетливое, трусливое, чем губим мы дни. Тогда самый ничтожный станет богом и поймет навсегда великое незнакомое слово «беспредельность». Я встал перед ней на колени и ответил: — Та любовь, о которой ты говоришь, — чудо, и я чувствую — оно уже коснулось моей души. Вот я перед тобой. Возьми меня, веди, учи. Ее глаза широко раскрылись и загорелись, как огромные, черные камни. Губы изогнулись в истомленно жадной улыбке, точно хотела она выпить, как острое душистое вино, всю мою душу, весь трепет первой мучительной страсти. Такая была наша первая ночь. Я не знал ее жизни. На рассвете провожал до подъезда. Грубо хлопала дверь. Замирали шаги, и я оставался один. Помню, еще подолгу стоял под фонарем. Изумленный, выхваченный из обычного строя чувств. Точно хотелось проснуться, но не мог. Она приходила. Я запирал двери и тушил огни. Исчезала комната. Становился далеким и чуждым весь мир. — Тот ли я, кого ты ждала? Та ли это любовь? — спрашивал я с тоской. — Видишь, я весь твой. Без тебя нет ни жизни, ни чувств, ни желаний. С белых подушек смотрели неподвижные, жадные глаза, и в темной комнате, далекой миру, звучали безумные, странные речи: — Так, так нужно. Говори, не умолкай. Ты чувствуешь, как в твою душу вонзается что-то острое, режущее, как нож? Ты хочешь умереть? Вот здесь, сейчас, рядом со мной? И смеялась тихо и жутко: — О, милый, милый, милый!.. Так прошло много дней. В них утонуло прошлое и закрылось туманом будущее. Может быть, это длилось бы бесконечно. Может быть… Но я не сумел… Захотелось чего-то прочного, на долгие дни. Душа не выдержала остро-блаженных мук, и я сказал ей однажды: — Останься со мной навсегда, будь моей женой. Как в первую ночь, мы сидели на диване, не расплетая рук, а перекладины рам крестами лежали на светлом полу. Я сказал, и стало страшно тихо. И мне показалось, что кто-то прошел по коридору и встал у дверей. И вдруг разорвалась пелена жуткой тишины. Я услышал множество звуков, которых при ней не замечал никогда. За окном скрипели полозья саней. Из умывальника с ритмическим стуком падали редкие капли. За книжным шкафом, шурша обоями, скреблась мышь. Она освободила руки и отодвинулась. В светлой полосе фонаря я увидел ее лицо, и оно было такое, как в первый вечер — чуть-чуть грустное, строгое, покорное, как у монахини. — Теперь я уйду, — сказала она спокойно. — Этого не может случиться никогда. Мы оба узнали многое. Предстоит идти еще дальше, еще выше. Ты поймешь это после, без меня. — Будь моей женой, — повторил я тупо, с отчаянием, не слушая ее слов. — Разве возможно нам расстаться? Твоя любовь беспощадна, как палач. Она прикоснулась к моим волосам, и в той же полосе фонаря я увидел ее улыбку, грустную, светлую, и глаза, полные слез. — Разве я жена? — сказала она. — Ну, посмотри — разве я жена! Как только ты произнес это слово, я опять увидала себя на длинной пустынной дороге. Смотри, — Ее глаза расширились. — Смотри вдаль. Вот мы больше не встречаемся в этой комнате, а живем где-то вместе, и я твоя жена. У нас несколько больших комнат и общая спальня. Ночью, привыкшие друг к другу, мы раздеваемся равнодушно и бесстыдно. Медленно, день за днем, словно неизлечимая болезнь, жизнь входит в те неотвратимые сцепленья, что люди называют «обычными нормами». Ты опять много работаешь. У тебя в кабинете висит мой портрет. На него ты смотришь чаще, чем на меня, потому что у тебя так много, много работы. У нас родится первый ребенок. И жизнь меняется просто, без боли. Мы сказали все слова о любви. Спели ее единственную песнь, и нам говорят: «Вот теперь начинается настоящее». Большие печальные глаза прошлого смотрят откуда-то издалека с горестным укором. От этого взгляда снится иногда эта комната, голубые окна и черные кресты на полу. Но редко. После спокойных ласк мы спим крепко. Проходит еще год. Может быть, у нас второй ребенок. Я полнею. Говорят, что это красиво, и за мной ухаживают твои приятели. У меня есть любовник. Ты очень любишь детей, но вечером избегаешь быть дома. Ночью я встречаюсь с твоим виноватым взглядом и делаю вид, что сплю. Иногда еще мы ласкаем друг друга привычно знакомыми ласками, но никогда уже не повторяем слов, что звучали в этой комнате. Проходит еще год, а может быть, пять — уже не все ли равно! Что сделали мы с любовью? — спрошу я тебя однажды и увижу в твоих глазах тупую покорную тоску, — Тебе больно? Ты плачешь? — Она коснулась моих век грустно-волнующим прикосновением, — Так нужно. Так суждено всем, полюбившим Любовь… Я встал на колени. Помню ее серое мягкое платье и свежий холод спокойных рук. И, как ученик, узнавший большую сокровенную тайну, благоговейно и восторженно поцеловал ее ноги в маленьких черных туфлях. На другой день я уехал далеко. Мы расстались навсегда. Но теперь она не одна идет своей вечной дорогой. Мы далеки, но вместе. Мы вдвоем чутко слушаем вечно призывающий голос Любви. И когда в поздний час одинокого томления чьи-то большие тоскующие глаза с тихой мукой заглядывают мне в лицо, я покорно приближаюсь к Любви и говорю, как она… — Может быть, здесь…Н. С. ГУМИЛЕВ
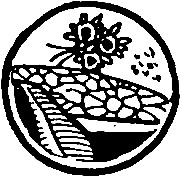
РАДОСТИ ЗЕМНОЙ ЛЮБВИ (Три новеллы)
Посвящается Анне Андреевне Горенко[21]
I
Долго страдая от тяжелого, хотя и сладкого недуга скрытой любви, Кавальканти, наконец, решил открыться благородной даме своих мыслей, нежной Примавере, рассказав в ее присутствии вымышленную историю, где истина открывалась бы под сетью хитроумных выдумок, подобно матовой белизне женской руки, сплошь покрытой драгоценными кольцами венецианских мастеров. Случай — увы! — слишком часто коварный союзник влюбленных, на этот раз захотел помочь ему и устроил так, что, когда Кавальканти посетил своего друга, близкого родственника прекрасной Примаверы, он нашел их обоих, беседующих в одной из зал их дома, и, не возбуждая никаких подозрений, мог просить разрешения рассказать рыцарскую историю, будто бы недавно прочитанную им и сильно поразившую его воображение. Его друг высказал живейшее нетерпение выслушать ее, а Примавера, опустив глаза, улыбкой дала понять свое желание, обнаружив при этом еще раз ту совершенную учтивость, которая отличает лиц высокого происхождения и не менее высоких душевных качеств. Кавальканти начал рассказывать о сеньоре, который любил даму, не только не отвечавшую на его чувства, но даже выразившую желание не встречаться с ним совсем, ни на улицах их родного города, ни на собраниях благородных дам, где они показывают свою красоту, ни в церкви во время мессы; как этот рыцарь с сердцем, где, казалось, все печали свили свои гнезда, скрылся в самый отдаленный из своих замков для странных забав, мучительных наслаждений неразделенной любви. Знаменитый художник из золота и слоновой кости сделал ему дивную статую дамы, любовь к которой стала властительницей его души. Потянулись одинокие дни, то печальные и задумчивые, как совы, живущие в бойницах замка, то ядовитые и черные, как змеи, гнездящиеся в его подвалах. С раннего утра до поздней ночи склонялся несчастный влюбленный перед бездушной статуей, наполняя рыданиями и вздохами гулко звучащие залы. И всегда только нежные и почтительные слова слетали с его уст, и всегда он говорил только о любимой даме. Никто не знает, сколько прошло тяжелых лет, и скоро погасло бы жгучее пламя жестокой жизни, и полуослепшие от слез глаза взглянули бы в кроткое лицо вечной ночи, но великая любовь сотворила великое чудо: однажды, когда особенно черной тоской сжималось сердце влюбленного и уста его шептали особенно нежные слова, рука статуи дрогнула и протянулась к нему, как бы для поцелуя. И, когда он припал к ней губами, лучезарная радость прозвенела в самых дальних коридорах его сердца, и он встал, сильный, смелый и готовый для новой жизни. А статуя так и осталась с протянутой рукой. Голос Кавальканти дрожал, когда он рассказывал эту историю, и он часто бросал красноречивые взгляды в сторону Примаверы, которая слушала, скромно опустив глаза, как и подобает девице столь благородного дома. Но — увы! — его хитрость не была понята, и, когда его друг принялся горько сетовать на жестокость прекрасных дам, Примавера заметила, что, несмотря на всю занимательность только что рассказанной истории, она всем рыцарским романам и любовным новеллам предпочитает книги благочестивого содержания, и в особенности цветочки Франциска Ассизского. Сказав это, она поднялась и вышла с таким благородным достоинством, что к ней можно было приложить слова древних поэтов, воспевающих походку богинь. Видя столь полную неудачу давно лелеянного плана, Кавальканти ощутил в сердце горькое отчаянье и, не надеясь, что сумеет овладеть собой, попрощался со своим другом, прося его не отягощать себя скукой проводов. Солнце уже село, и по залам плавали сумерки, когда вдруг у самых дверей Кавальканти заметил нежную Прима-веру, одну, смущенно наклонившуюся к синеватому мрамору пола. — Я уронила кольцо, — сказала она немного тише обыкновенного. — Не хотите ли помочь мне его найти? И, когда он нагнулся, рука, тонкая, нежная, с бледно-голубыми жилками, будто случайно скользнула по его лицу, но на миг задержалась у губ. И быстрота, с которой он поднял голову, не могла сравниться с быстротой Примаверы, скрывшейся за тяжелой из французского дуба дверью. Тогда Кавальканти понял, что он все равно не найдет кольца, как если бы оно упало в пенные воды Адриатического моря, и пошел домой с душой, достигнувшей высшей ступени блаженства.II
Последнее время Кавальканти часто встречался с прекрасной Примаверой то на собраниях, где юноши благородных домов удостаиваются высокой чести быть служителями своих дам, то во время благочестивых процессий, то в доме ее родителей. И ни нежные взгляды, ни тяжелые вздохи или любовные сонеты не могли поколебать того особенно холодного невнимания, с каким Примавера относилась к внушенной ею любви. В то время вся Флоренция говорила о заезжем венецианском сеньоре и о его скорее влюбленном, чем почтительном преклонении перед красотой Примаверы. Этот венецианец одевался в костюмы, напоминающие цветом попугаев, ломаясь, пел песни, пригодные разве только для таверн или грубых солдатских попоек, и хвастливо рассказывал о путешествиях своего соотечественника Марко Поло, в которых сам и не думал участвовать. И как-то Кавальканти видел, что Примавера приняла предложенный ей сонет этого высокомерного глупца, где воспевалась ее красота в выражениях напыщенных и смешных: ее груди сравнивались со снеговыми вершинами Гималайских гор, взгляды с отравленными стрелами обитателей дикой Тартарии, а любовь, возбуждаемая ею, с чудовищным зверем Симлой, который живет во владениях Великого Могола, ежедневно пожирая тысячи людей; вдобавок размер часто пропадал и рифмы были расставлены неверно. Но все-таки в минуты унынья сердце Кавальканти томилось безосновательной, но жгучей ревностью, подобно тому, как благородная сталь военного меча разъедается ржавчиной в холодной сырости старых подвалов. Задумчивый, чувствуя себя первым в доме печалей, шел он однажды по площади, размышляя о том, чтобы уехать навсегда в далекие страны или просто ударом стилета оборвать печальную пить своей жизни. Был полдень, жаркий и душный. Тихие улицы старинной Флоренции, казалось, дремали в ожидании вечера, когда по ним грациозной вереницей пройдут прекрасные и нежные дамы, а влюбленные юноши, стоя в отдалении, будут опускать пылающие взоры. Кавальканти шел, весь отданный своим черным думам, и, только случайно подняв глаза, заметил Лоренцо, старого нищего, хитрость которого была хорошо известна среди молодежи. Он стерег влюбленных во время их встреч и условно постукивал костылем, когда приближались нескромные или ревнивцы. Нежные дамы только ему доверяли относить письма, назначая тайные свидания. И сейчас старый Лоренцо с лукавой усмешкой запрятывал что-то в бездонные складки своего шерстяного плаща, а рядом с ним, тщетно стараясь скрыть смущенье, стояла стройная Примавера в платье, сверкающем ослепительной белизною. Столь же острая, сколь и внезапная мука ревнивого подозрения огненным облаком окутала взоры Кавальканти, и, когда он снова получил возможность владеть своими чувствами, Лоренцо уже скрылся за соседним углом, а Примавера торопливыми шагами направлялась домой. Его присутствие осталось незамеченным обоими. С горьким отчаянием в сердце, чувствуя на лице смертельную бледность, Кавальканти быстро догнал Примаверу и голосом, дрожащим от страха быть прерванным, начал рассказывать, как давно он любит ее, как велики его страдания, и просил, как последней милости, сказать, какому счастливцу старый Лоренцо понес письмо; он выражал надежду, что ее сердце отдано действительно достойному, и клялся умереть сегодня же, никогда не открыв доверенной ему тайны. Примавера шла, не поднимая головы и смущенно перебирая тонкими пальцами ароматные четки, но по мере того, как Кавальканти говорил, ее губы вздрогнули, щеки покрылись румянцем и, не дослушав, она принялась отвечать горячо и быстро. Она удивлялась даже мысли, что ею может быть послано письмо. Никогда благородные дамы не решились бы на такой поступок. Так можно думать и говорить разве только о бродячих певицах из Неаполя или о женщинах предместья, с которыми Кавальканти, конечно, очень хорошо знаком. Она не понимала, как осмелился он подойти к ней на улице и даже говорить о своей любви. Разве он не знает, как тяжело и непристойно для благородной дамы выслушивать такие вещи? И, не закончив свою речь, с лицом, розовым от обиды и напоминающим индийский розоватый жемчуг, она скрылась за массивной дверью своего дома. Полный стыда за свои подозрения и неосновательную ревность, Кавальканти медленно пошел обратно, утешая себя мыслью, что эта нежная дама равно недоступна для всех, и обещая себе в будущем не тревожить ее стыдливости ни вздохами, ни взглядами, чтобы хоть когда-нибудь заслужить прощенье своей вины. Из этих размышлений его вывел старый Лоренцо, давно бродивший вокруг его дома, как большая летучая мышь. — От прекрасной Примаверы, — сказал он, осторожно протягивая письмо, — она дала мне за это целый дукат.III
Немного времени спустя случилось так, что Кавальканти заболел и волею Всемогущего Господа Бога должен был перейти в число граждан вечной жизни. Заплакала стройная и нежная Примавера, роняя частые крупные слезы на положенное в мраморную гробницу тело ее возлюбленного, а благородные сеньоры с грустными лицами вспоминали, какие прекрасные вещи сделал отошедший в своем неустанном служении великолепной музе итальянской поэзии; называли его сонеты, баллады и дивную канцону о природе любви. Задумчивая Флоренция одевалась в траур. Светлый Ангел ввел Кавальканти в райские двери, на которых зеленоватым лучистым золотом были начертаны следующие слова: «Высшая радость, вечное счастье вам, входящие, отныне бессмертные». И сказал Ангел: — Хочешь, я поведу тебя туда, где в свите девушек, окружающих Деву Марию, находится нежная, как шелковистое облачко, кроткая Беатриче, прелести которой дивятся даже ангелы. И Кавальканти ответил: — Как мне благодарить тебя, о светоносный! Ты знаешь, чем усладить страдающее сердце. Веди меня к прекрасной Беатриче и дай мне смелости хоть изредка взглядывать на ее сверкающие одежды. Ведь она была подругой Примаверы. И сказал Ангел: — Хочешь, я поведу тебя туда, где в серебряных рощах рая проходит яркий, как солнце, невинный, как восточная лилия, Иисус Христос; с нежной лаской целует он всякого вновь приходящего к нему. И Кавальканти ответил: — Светоносный, твоя благость превосходит все мои ожидания! Я попрошу у Иисуса Христа то золото, которое принесли ему с востока три мудрых царя, и, сделав узорное кольцо, как жемчужину возьму я слезу, ночью упавшую из кротких глаз в саду Гефсиманском. И у меня будет что подарить Примавере, когда она придет. И сказал Ангел: — Хочешь, я поведу тебя туда, где в Силе и Славе, окруженный легионами светлых духов, восседает на троне Бог Отец; золотой венец над головой, на плечах золотая мантия, а в ногах лестница, сияющая золотом, по которой ангелы сходят на землю, а души праведных поднимаются к райским блаженствам. И Кавальканти ответил: — Если хочешь исполнить самое сокровенное желание мое, о светоносный, пойдем туда и ускорим наши шаги; и по той золотой лестнице, о которой ты говоришь, я спущусь на землю, где живет моя Примавера.ПРИНЦЕССА ЗАРА
Ты действительно из племени Зогар, что на озере Чад? — спросила старуха, когда ее спутник вступил в полосу лунного света. Не отвечая, он откинул ткань, скрывавшую его лицо и грудь, и перед старухой открылись могучие мускулы под темной бронзовой кожей родившегося в Африке араба. Открылся и священный знак на лбу, даваемый только особенно важным посланцам. Он успокоил подозрительность старческих дум. — Ну, хорошо, — бормотала старуха, — я знаю, что людям из племени Зогар можно верить. Это не то, что наши занзибарские молодцы. Их бы уж я не повела в покои принцессы Зары. Что для них дочь великого бея? Товар, каким они нагружают свои суда для отправки в Константинополь. Но ты показал мне амулет, который заставил биться мое старческое сердце. Ведь я тоже с озера Чад. Да и червонцы твои звончей и полновесней наших, сплошь опиленных иерусалимскими ростовщиками. Ее спутник не отвечал ни слова, был бледен и, казалось, напряженно думал о чем-то. Они осторожно крались вдоль стены по мощенному белыми плитами двору занзибарского дворца. Где-то совсем около них, невидимый, глухо клокотал океан, и неподвижный воздух тропической ночи был напоен его свежим дыханием. Лунный свет серебряными полосами ложился на влаге черных бассейнов и отсвечивался в каплях, застывших на розовом мраморе ступеней. Звезды наклонялись близко-близко и были лживы и уверены, как очи девушки, которая согрешила и хочет скрыть свой позор. Зачем в этот мир роскоши и греха пришел обитатель широких равнин и зеленых дебрей, воин стройный в ожерелье из львиных зубов? Давно спутаны страницы в книге судеб, и никто не знает, какими удивительными путями придет он к своей гибели. Вот перед путниками зачернели арка и маленькая дверь, ведущая в девичью половину гарема. Два условных удара бронзовым молотком, сверкающие зрачки молодой негритянки, и они пошли. Было тускло-красноватое пламя светильника, но и оно позволяло разглядеть сказочное богатство персидских ковров, украсивших стены и пол, сиденья, сандалового дерева с инкрустациями слоновой кости, небрежно брошенные музыкальные инструменты и фразы святого Корана, зеленой эмалью начертанные на золотых щитах. Неподвижный и легкий стоял аромат мускуса, индийских духов и юного девичьего тела. Принцесса Зара, вся закутанная в шелка, сидела на низкой и широкой тахте. Казалось, не для любви, а для чего-то высшего были созданы ее неподвижные, точно из коралла вырезанные губы, слишком тонкий стан и прекрасные глаза с их загадочно-печальным взглядом. На руках, обнаженных по локоть, позванивали золотые чеканенные браслеты, и узкий обруч поддерживал роскошную тяжесть темных кудрей. Статный пришелец понял, что он не ошибся, придя сюда. Склонившись, срывающимся от волнения голосом он просил принцессу удалить женщин, потому что только наедине он мог открыть ей свою великую тайну, от дымных озер и опасных долин приведшую его в Занзибар. Ничего не ответила Зара, но старуха заторопилась, увлекая за собой невольницу. — Не бойся ничего, дитя мое, — шептала она принцессе, — он не сделает тебе дурного. Людям из племени Зогар можно верить. И скрылась с успокоительными подмигиваниями и смешками, и, как покорная собака, последовала за ней негритянка. Пришелец и Зара остались одни. — Кто ты, — спросила Зара тихо, так тихо, что можно было только догадаться о красоте и звучности ее голоса, — кто ты и зачем ты пришел? И, содрогнувшись, ответил ей высокий пришелец: — Я из племени Зогар, с великого и священного озера Чад. Младший сын вождя, я считался сильным среди сильных, отважным среди отважных. В ночных битвах я не раз побеждал рыкающих золотогривых львов, и свирепые пантеры, заслыша мои шаги, прятались, боязливые, в глухих оврагах. Смуглые девы чужих племен не раз звонко рыдали над трупами павших от моей руки. Но однажды не военные барабаны загрохотали над равниной — люди племени Зогар сошлись на холм, и великий жрец, начертав на моем лбу священный знак посланника, указал мне путь к тебе. По течению реки Шари я прошел в область Ниам-Ниам, где низкорослые, безобразные люди пожирают друг друга и молятся богу, живущему в черном камне. Ядовитые туманы Укереве напоили мое тело огнем лихорадки, около Нгези я выдержал бой с громадной змеею, люди Ньязи сорок дней гнались за мной по пятам, пока, наконец, слева от меня не засверкали серебряные снега Килима-Нджаро. И восемь раз полумесяц становился луной, прежде чем я пришел в Занзибар. Высокий пришелец перевел дыхание, и Зара молчала, только взглядом простым и усталым спросила его: — Зачем? И он продолжал: — Верно Пророку племя Зогар, и милостив к нему Пророк. Дивным счастьем озарил он его. В наших лесах живет Светлая Дева, любимейшее создание Аллаха, радость и слава людей. По природе единая и божественная, она не умирает, но иногда оставляет свою прежнюю оболочку, является в другой среди бедных человеческих селений, и тогда великий жрец указывает, где можно ее искать. За ней отправляется славнейший из племени, открывает ей ее высокое назначение и уводит в царство изумрудных степей и багряных закатов. Там живет она в счастливом уединении. Только случайно можно увидеть ее. Но мы молимся ей невидимой, как залогу высшего достоинства, которое праведные получают в садах Аллаха. Потому что, если мужчины сильны и благочестивы, жены прекрасны и верны, то только у непорочных девушек есть крылья широкие и белоснежные, хотя и не замечаемые земным взором. Их голос — как лютня старинных поэтов, их взоры прозрачны, как влага источника, в изгнании утолившего жажду Пророка. Они выше гурий, выше ангелов, они как души в седьмом кругу райских блаженств. Снова замолчал пришелец, и не отвечала Зара, только взгляд ее стал загадочен и непроницаем, как те звезды, что светили пришельцу в его пути. Но, захваченный своей великой мыслью, ничего не заметил красивый араб; он продолжал: — Называющая себя принцессой Зарой, ныне великий жрец указывал на тебя. Это ты — Святая Дева лесов, и я зову тебя к твоим владениям. Легконогий верблюд царственной породы с шерстью шелковой и белой, как молоко, ждет нас, нетерпеливый, привязанный к пальме. Как птицы, будем мы мчаться по лесам и равнинам, в быстрых пирогах переплывать вспененные реки, пока перед нами не засинеют священные воды озера Чад. На берегу его есть долина, запрещенная для людей. Там рощистройных пальм с широкими листами и спелыми оранжевыми плодами теснятся вокруг серебряных ручьев, где запах ирисов и пьяного алоэ. Там солнце, ласковое и нежное, не дышит зноем, и его сияние сливается с прохладой ветров. Там пчелы темного золота садятся на розы краснее, чем мантии древних царей. Там все — и солнце, и розы, и ветер — горят и мечтают о тебе. Ты поселишься в красивом мраморном гроте, и резвые, как кони, водопады будут услаждать твои тихие взоры, золотой песок зацелует твои стройные ноги, и ты будешь улыбаться причудливым раковинам. И когда на закате к водопою придет стадо жирафов, ты погладишь шелка их царственно богатых шкур, и, ласкаясь, они заглянут в твои восхищенные глаза. Так будешь ты жить, пока не наскучишь волшебствами счастия и не пожелаешь, подобно вечернему солнцу, уйти для новых воплощений. Тогда снова на стук барабанов сойдется могучее племя, и снова великий жрец укажет достойному, где найти тебя, скрывшуюся под новой личиной. Не раз это было и не раз повторится среди тысячелетий. Но теперь мы должны спешить. Уж опаловая луна в своем неуклонном падении коснулась леса магнолий, скоро юное солнце встанет над розовым океаном. Торопись, пока не проснулись слуги великого бея. Звонкие червонцы крепко скуют уста старухи, а если нет, племя Зогар испытано в искусстве владеть кинжалом. Кончил пришелец и с надеждой протянул руки к Заре. Тихо и сонно было в гареме, только за стеной рокотал океан и печально кричала какая-то неизвестная, но тревожная птица. Медленная, гибкая, как лилия, встала принцесса Зара и устремила на араба свой загадочный взор. Тихие и странные, зашелестели ее слова: — Ты хорошо говорил, пришелец, но я не знаю того, о чем ты говорил. Если же я нравлюсь тебе и ты хочешь меня ласкать, я охотно подчинюсь твоим желаниям. Ты красивее того европейца, что недавно тоже ценой золота проник сюда в гарем. Но он не говорил мне ничего, он только улыбался и обнимал меня, как хотел. Купленной рабыней стояла я перед ним, но мне была сладка горечь его ласк, и я плакала, когда он уехал. Теперь передо мною ты; если хочешь, я буду твоей. И, полуоткрыв на груди шелковую ткань и полузакрыв глаза, она ждала. Безумным от муки взором смотрел на нее высокий пришелец. Так вот она, Светлая Дева лесов, которой он молился всю свою жизнь, которой молились его отцы и деды! Вот она, униженная и не сознающая своего позора, с грешной улыбкой на нежных устах! Красные молнии мысли сплетались в его мозгу, кто-то чудовищный и торжествующий уродливой ногой наступил ему прямо на сердце. Широкие равнины, дни веселых охот, радости славы — что все это перед нечеловеческой болью, обуявшей его душу?! Случайно нащупанный острый кинжал. Верный и твердый удар в грудь. И, пошатнувшись, упал сильный воин лицом вниз, вздрагивая и обагряя горячей кровью дорогие персидские ковры. Неподвижно, еще не в силах сообразить происшедшее, стояла гибкая Зара, прислонясь к узорчатой стене. Гордая своей красотой, она хотела только испытать, останется ли ее прелесть необоримой и в унижении, она не поняла, к чему ее звали. И в ее душе уже шевелилось сожаление, зачем, подчиняясь опасному девичьему капризу, она солгала и обманула пришельца, звавшего ее к возможному и ослепительному счастью. А на самом рассвете свирепая гиена растерзала привязанного к пальме белоснежного верблюда.ЛЕСНОЙ ДЬЯВОЛ
I
По густым зарослям реки Сенегал пробегал веселый утренний ветер, заставляя шумно волноваться еще не спаленную тропическим солнцем траву и пугливо вздрагивать пятнистых стройных жирафов, идущих на водопой. Жужжали большие золотистые жуки, разноцветные бабочки казались подброшенными в воздух цветами, и довольные мычали гиппопотамы, погружаясь в теплую тину прибрежных болот. Утреннее ликование было в полном разгаре, когда ядовитая черная змея, сама не зная зачем, так, в припадке минутной злобы, ужалила большого старого павиана, давно покинувшего свою стаю и скитавшегося в лесах одиноким свирепым бродягой. Бешено залаяв, он схватил тяжелый камень и погнался за оскорбительницей, но скоро остановился, решив лучше искать целебной травы, среди всех зверей известной только собакам и их дальним родственникам павианам. Он давно знал уединенную лощину и не сомневался в своем спасении, если только не разлился лесной ручей и не отделил его от желанной цели. Во всяком случае надо было попробовать, и павиан, со злобным рычанием припадая на больную лапу, отправился в путь. При звуке его шагов мелкие звери прятались в норы и огненные фламинго стаями кружились над лесом, взлетая от синих молчаливых озер. Один раз даже запоздавшая пантера насторожилась и уже выгнула свою гибкую атласистую спину, но, увидев, с кем ей придется иметь дело, грациозно вспрыгнула на дерево и притворилась, что собирается спать. Никто не осмелился тревожить раздраженного лесного бродягу в его стремительном беге, и скоро перед ним сквозь густо сплетенные ветви засинела полоса воды. Но это был не знакомый ему ручей, а клокочущий мутный поток, в пенс и брызгах несущий к морю сломанные пальмы и трупы животных. Опасения павиана оправдались: зимние дожди сделали свое дело. Правда, вниз по течению находился брод, который не размывали самые сильные грозы. Поняв, что это единственное спасение, встревоженный павиан снова пустился в путь. На зверей змеиный яд действует медленно, и пока он только смутно испытывал характерное желание биться, и кататься по земле. Укушенная нога болела нестерпимо. Но уже близок был желанный брод, уже видно было утес, похожий на спящего буйвола, который лежал, указывая его место, и павиан ускорил шаги, как вдруг остановился, вздрогнув от яростного изумления. Брод был занят. Искусно сложенные стволы деревьев составили широкий и довольно удобный мост, по которому двигалась нескончаемая толпа людей и животных. Вглядевшись, можно было заметить, что она разделяется на стройные отряды. За четырьмя рядами слонов, сплошь закованных в бронзу и блестящую медь, следовал отряд копьеносцев, сильных и стройных, с позолоченными щитами и золотыми наконечниками копий. Дальше медленно и грузно шел носорог, опутанный массивными серебряными цепями, которые черные рабы натягивали с обеих сторон, чтобы он мог двигаться только вперед. Дальше на кровном коне гарцевал начальник отряда, окруженный толпою помощников, большей частью юношей из богатых семейств, подкрашенных и надушенных. Под их защитой ехала группа девушек и женщин, сидящих вместо седел в затейливо устроенных корзинах. Отряд замыкали повозки с палатками, съестными припасами и предметами роскоши. Около них суетились рабы. Потом все начиналось сначала. Отряд следовал за отрядом, и трудно было сказать, сколько прошло их и сколько скрывалось еще в глубине леса. Все люди, кроме рабов, имели кожу светло-желтого цвета, того благородного оттенка, который отличает жителей Карфагена от прочих обитателей Африки. Роскошные одежды, масса золота и серебра, шелковые палатки и пленные носороги указывали на богатство и знатность вождя этих отрядов. И точно, прекрасный Ганнон, брат Аполлона, как называли его льстивые греки, был первым властителем первого по славе города — Карфагена. Теперь, в сопровождении всего двора, он ехал на таинственную реку Сенегал, с берегов которой ему и его предкам издавна привозили драгоценные камни, удивительных птиц и лучших боевых слонов.II
Павиан понял, что он погиб, если будет дожидаться конца шествия, и им овладело яростное беспокойство. Мало-помалу оно перешло в то дикое бешенство, когда глаза заволакиваются черной пеленой, кулаки сжимаются со страшной силой и зубы сами находят врага. Почувствовав такой припадок, он попробовал удержаться, но было поздно. Миг, и могучим прыжком он очутился на шее одного из проезжавших коней, который поднялся на дыбы, пронзительно заржал от внезапного ужаса и бешено помчался в лес. Сидевшая на нем девушка судорожно схватилась за его гриву, чтобы не упасть во время этой неистовой скачки. Она была одета в красную шелковую одежду, а ее обнаженная грудь, по обычаю богатых семейств, была стянута сеткой, сплетенной из золотых нитей. Ее юное надменное лицо было бы прекрасно, если бы неестественно раскрытые глаза и бледные губы не делали его воплощением ужаса. И конь был стройный, дорогой, с голубыми жилами, проступающими сквозь его белую шкуру, и видно было, что он умчался бы от всякого врага, если бы этот враг но сидел на нем. Его бег становился все медленнее и медленнее, несколько раз он спотыкался и, наконец, тяжело застонав, упал с горлом, перегрызенным страшным зверем. С ним вместе упали и его всадники. Девушка быстро вскочила, но от ужаса, не будучи в силах бежать, прислонилась спиной к дереву, напоминая статую из слоновой кости, которые ставят в храме Истар. Павиан стал на четвереньки и хрипло залаял. Его гнев был удовлетворен смертью коня, и он уже хотел спешить за своей целебной травой, но, случайно взглянув на девушку, остановился. Ему вспомнилась молодая негритянка, которую он поймал недавно одну в лесу, и те стоны и плач, что вылетали из ее губ в то время, как он бесстыдно тешился ее телом. И по-звериному острое желание владеть этой девушкой в красной одежде и услышать ее мольбы внезапно загорелось в его мозгу и легкой дрожью сотрясло уродливое тело. Забылся и, змеиный яд, и необходимость немедленно искать траву. Не спеша, со зловонной пеной желания вокруг безобразной пасти, начал он подходить к своей жертве, наслаждаясь ее ужасом. Ее губы вздрогнули, как у ребенка, видящего дурной сон, но изогнутые брови гордо нахмурились, и, протянув вперед с запрещающим жестом свои нагие красивые руки, она начала говорить быстро и повелительно. Она обещала подходящему к ней зверю беспощадную месть богини Истар, если только он посмеет коснуться ее одежд, и говорила о безжалостно-метких стрелах слуг великого Ганнона. Кругом шелестели деревья, беспечно кричали птицы, и спасения не было ниоткуда. Но змеиный яд делал свое дело, и, едва павиан схватился за край шелковой одежды и разорвал ее наполовину, он вдруг почувствовал, что какая-то непреодолимая сила бросила его навзничь, и он судорожно забился, ударяясь головой о камни и цепляясь за стволы деревьев. Иногда неимоверным усилием воли ему удавалось на мгновение прекратить свои корчи, и тогда он приподнимался на передних лапах, с трудом поворачивая в сторону девушки свои невидящие глаза. Но тотчас же его тело вздрагивало, и, с силой перевертываясь через голову, он взмахивал в воздухе всеми четырьмя лапами. Почти обнаженная девушка, дрожа, смотрела на это ужасное зрелище. «Истар, Истар, это она помогла мне», — шептала она, озираясь, как будто страшась увидеть прекрасную, по грозную богиню. И когда приблизились посланные на розыски карфагеняне, они нашли ее лежащей без чувств в трех шагах от издохшего чудовища.III
Велик и прекрасен могучий Ганнон. Это к его шатру привели судить найденную девушку. Двенадцать великих жрецов стояли па ступенях его переносного трона, и сорок начальников отрядов окружали его рядами. Спасенная девушка, связанная, но по-прежнему гордая, предстала перед судилищем. Женщины бросали па нес злые взгляды, девушки отворачивались, и только одни дети, улыбаясь, протягивали ей цветы. Да сам Ганнон был спокоен и ясен, как обыкновенно, и ласково гладил своей изнеженной тонкой рукой маленькую ручную обезьянку, приютившуюся на его коленях. Один из жрецов встал и, потрясая рукавами своей хламиды, на которой были вышиты звезды и тайные знаки, начал речь: «О, прекрасный Ганнон, возлюбленный богами, вы, жрецы Амона и Истар, и ты, знаменитый народ карфагенский! Все вы знаете, что сегодня лесной дьявол в образе страшного зверя умчал далеко в лес эту девушку, дочь великого вождя. Найденная, она лежала без чувств на траве, и се одежда была разорвана, обнажая тело. Нет сомненья, что се девственность, которой домогались столько знатнейших юношей, досталась страшному зверю. Ни из древних папирусов, ни из рассказов старцев мы нс знаем случая, чтобы дьявол владел девой карфагенской. Эта первая должна умереть, тело ее — быть брошено в огонь и память о ней — изгладиться. Иначе ее дыхание смертельно оскорбит достоинство богини Истар». Он кончил, и одобрительно наклонили головы другие жрецы, потупились начальники, недовольные, но нс знающие, что возразить, и в дикой радости завыл народ. Всегда приятно посмотреть на прекрасное девичье тело, окруженное красными змейками пламени. Но не так думал Ганнон. По выражению глаз и по углам губ связанной девушки он видел, что жрец был неправ и что лесной дьявол не успел исполнить своего намерения. Его опытный взгляд изысканного сластолюбца не мог ошибиться. Но открыто противоречить жрецам было опасно, следовало употребить хитрость. Мгновение он был в нерешительности, но вот его глаза засветились, на губах заиграла загадочная улыбка, и, слегка наклонясь вперед, он сложил руки на груди, как бы предвкушая какое-то удовольствие. — Великие жрецы, знающие самые сокровенные тайны, и вы, доблестные военачальники, в дальних странах прославившие имя Карфагена, я удивлен свыше меры вашей печалью. Почему вы думаете, что богиня оскорблена? Разве не проявила она во всем блеске свою силу и власть? Разве она не явилась на помощь любимейшей из своих дочерей? Лесной дьявол был найден мертвым, но на его теле не было ни одной раны. Кто, кроме богини Истар, поражает без крови, одним дуновением своих уст? Мудрые предки учили нас, что только для достойнейших боги покидают свои небесные жилища и вмешиваются в земные дела. Он подумал и неожиданно для самого себя добавил с грациозной улыбкой и красивым движеньем руки: — И эту девушку, отмеченную милостью богини, я, Ганнон, властитель всех земель от Карфагена до Великих Вод, беру себе в жены. И он не раскаялся в своих словах, увидя, каким нежным румянцем внезапно покрылись щеки его избранницы, какой радостный и стыдливый огонь зажегся в ее прежде надменных, теперь смущенных и благодарных глазах. Народ снова завыл от радости, но на этот раз восторженней и громче, потому что, хотя прекрасное зрелище и ускользнуло от него, он знал, какими великолепными подарками, какими царскими милостями будет сопровождаться свадебное торжество. Хмурые жрецы не осмелились возражать. Если Ганнон опасался их влияния, то они чувствовали перед ним прямо панический ужас.IV
Быстро упала па землю темная, страшная африканская ночь, и дикие запахи бродячих зверей сменили запах цветов и трав. Словно грохот падающих утесов, неслось рыканье золотогривых голодных львов. Отравленные стрелы нубийских охотников* держали их в стороне от лагеря. Иногда раздавался мгновенный пронзительный стон схваченной во сне лани, и ему вторил хохот гиен. Над лесом видно было большую желтую лупу. Неслышно скользила опа и казалась хищником неба, пожирающим звезды. Свадебный пир был окончен, факелы из ветвей алоэ потушены, и пьяные негры грузно валялись в кустах, возбуждая презрение воздержанных карфагенян. В белом шелковом шатре ожидал Ганнон свою невесту, тело которой искусные рабыни умащали волнующими индийскими ароматами. Золотым стилем на восковых дощечках он описывал пройденный им путь и отмечал количество купленной и отнятой у туземцев слоновой кости. Мечтать и волноваться в ожидании первой брачной ночи было не в его характере. Медленно, отпустив рабынь, шла юная невеста, направляясь к заветному шатру. Волнуясь и краснея, повторяла она про себя слова, которые должна была сказать, войдя к своему жениху: «Вот твоя рабыня, властитель, сделай с ней все, что захочешь». И мысль о том, что будет дальше, розовым туманом застилала ее глаза и, как пленную птицу, заставляла биться сердце. Внезапно перед ней зачернелся какой-то странный предмет. Подойдя ближе, она поняла, в чем дело. Озлобленные карфагеняне отрубили голову у мертвого павиана, и, воткнутая на кол, она была выставлена посреди лагеря, чтобы каждый проходящий мог ударить ее или плюнуть, или как-нибудь иначе выразить свое презрение. Тупо смотрели в пространство остеклевшие глаза, шерсть была испачкана запекшейся кровью, и зубы скалились по-прежнему неистово и грозно. Девушка вздрогнула и остановилась. В ее уме снова пронеслись все удивительные события этого дня. Она не сомневалась, что богиня Истар, действительно, пришла ей на помощь и поразила ее врага, чтобы сохранилась ее девичья честь, чтобы не запятнался древний род, чтобы сам прекрасный, как солнце, Ганнон взял ее в жены. Но в ней пробудилось странное сожаление к тому, кто ради нее осмелился спорить с Необорной и погиб такой ужасной смертью. Над какими мрачными безднами теперь витает его дух, какие леденящие кровь виденья окружают его? Страшно умереть в борьбе с богами, умереть, не достигнув цели, и навсегда унести в темноту неистовое бешенство желаний. Порывистым движением девушка наклонила свои побледневшие губы к пасти чудовища, и мгновенный холод поцелуя остро пронизал все ее тело. Огненные круги завертелись перед глазами, уши наполнились шумом, подобным паденью многих вод, и, когда наконец она отшатнулась, она была совсем другая. Не спеша, по-новому спокойная и задумчивая, она продолжала свой путь. Ее щеки больше не пылали и не вздрагивало сердце, когда она думала о Ганноне. Первый девственный порыв ее души достался умершему из-за нее лесному дьяволу.С. А. АУСЛЕНДЕР

БАСТИЛИЯ ВЗЯТА (Фрагмент)
Маркиз принял меня за туалетом. Я открыл ему все. Я рассказал ему о моих томлениях, о моей любви к Фелисите, о нашем так неудачно кончившемся свидании, и только когда я дошел до трагического происшествия с пауком, расторгшим наши робкие объятья, легкая улыбка промелькнула на его губах. — Мой друг, — сказал он, последний раз уравнивая заячьей лапкой искусно наведенные румяна. — Мой друг, ваши несчастья трогают меня, но излишнее отчаянье можно объяснить только неопытностью. Если вы доверитесь мне, то, может быть, и найдутся средства помочь вам. Вечером я заехал за ним. Маркиз казался рассеянным; вероятно, его расстроили новости из Версаля*. Мы проехали в маленькой каретке, спустивши желтые занавески, по бульварам, уже начинающим оживляться, и потом, много раз заворачивая в неузнаваемые мною улицы, наконец остановились… Представленье уже началось, и мы с трудом пробрались к нашим местам. Любезно раскланиваясь по сторонам, маркиз шепотом знакомил меня с историями присутствующих, чьи имена я давно уже знал и рассказы о похождениях которых давно влекли мое воображение. Тут был великолепный кавалер де Севираж, сделавшийся почти знаменитостью благодаря своим связям со всеми знаменитыми женщинами; остроумный граф Дивьер, веселый нрав которого вошел в поговорку; герцог Пармский; все еще молодящийся Борже, так нравящийся дамам за свой тихий голос и приятное заикание; много других не менее блестящих имен не удержалось в моей голове, слегка кружащейся от всей этой необыкновенной обстановки, от сладкого запаха духов и пудр, смешанных с отвратительной вонью свежего теса, копоти и конюшни. Дамы сидели в ложах; эти маленькие загородки можно было бы скорее назвать стойлами; в них назначались свиданья, и они сдавались по часам за плату, доступную только немногим, хотя и были всегда заняты. Маркиз называл мне многие имена, но я в глубоких нишах мог рассмотреть только высокие прически. Спущенные на многих ложах занавески давали повод для остроумных догадок, а я с трудом старался скрыть мое волнение. — Споциони со своей девчонкой, которую он чаще выдает за мальчишку, — шепнул мне маркиз, когда занавесь раздвинулась вторично и черный, завитой итальянец с вкрадчивыми, мягкими движеньями и неприятной белизной зубов низко раскланивался с публикой. Бледный худенький мальчик в бархатном костюме с кружевным воротником стоял рядом с ним. — Споциони ловкий шарлатан. Его знают даже в Версале. Если вы захотите составить свой гороскоп, вам всякий укажет его дом с колоннами в улице Королевы, — тихо рассказывал мне маркиз; я же, как околдованный, не мог оторваться от этого еще больше побледневшего, почти некрасивого, но все же привлекательного лица мальчика и его глаз, прозрачных, преувеличенно расширенных, как у лунатика… Маркиз, все поглядывающий на одну ложу, встал. — М-lle Д’Анш готова нас принять, — сказал он. — Будьте смелее! Пройдя узеньким коридорчиком, мы постучались перед дверью, на которой мелом было написано: «Анш». Дама, престарелый господин и болонка занимали ложу. В комнате перед ложей было зеркало и красный диван. «Вот где», — подумал я, и сердце забилось; казалось невероятным, что все так просто и легко. Я но помню, что говорила мне М-lle Д’Анш: что-то о балах, об опере; слова ее были блестящи и остроумны, как у знатной дамы; она часто смеялась и так близко наклонялась ко мне, что я слышал запах не только ее духов, но и тела, и розовая пудра осыпала рукава моего камзола; одна мысль поглощала и волновала меня — об ее красоте, близости и доступности. Мужчины говорили о чем-то в глубине. Действие уже кончилось на сцене, когда запыхавшийся мальчик подал маркизу записку, как будто смутившую его, и, наскоро простившись и сказав, что оставит мне карету, он вышел, чем-то расстроенный, вместе с пожилым господином, громко разговаривая; я же ничего больше не помнил. Через час постучавший слуга сказал, что представленье давно уже кончилось. Условившись о свидании, мы простились долгим поцелуем на пустынной площади при звездах уже по-осеннему ясного неба, хотя был еще только июль. Опьяненный сладкими мечтами, ехал я по темным улицам в своей каретке, а слуга, откинув верхнее окошечко, сказал мне: — Сударь, Бастилия взята! Я велел ему ехать быстрее…ТУФЕЛЬКА НЕЛИДОВОЙ (Таинственная история)
I
Зима в том году стояла сырая и бесснежная. Туманы делали коротким петербургский день. Со свечами вставали и после полудня опять свечи зажигали. Б девять же часов, но приказу обер-полицмейстера, свет уже должен был быть везде погашен. Охали рестораны, нарастившие себе брюхо и мошну за веселое и гульливое время матушки-Екатерины. Даже гвардейские франты присмирели: где уж думать о гулянках, когда в шестом часу надо дрожать на разводе; только и дум, чтобы амуниция была в порядке да с марша не сбиться; только и разговору, что о немилостях и ссылках. Ни о балах, ни о картах никто не думает, разве государь прикажет кому созвать гостей и подпиской обяжет собраться всем званым — так и тут, в тайнах, как на плац-параде, боятся слово сказать, повернуться не по правилу под зорким взглядом гневливого государя. Машенька Минаева не выезжала вовсе в этом году Отец ее, Алексей Степанович, адмирал в отставке, когда-то внесший и свое имя в славные списки героев Очакова, не был в милости у нового двора и, отговариваясь нездоровьем, заперся в своем небольшом, пожалованном покойной императрицей, доме на Фонтанке, мечтая с весны навсегда покинуть хмурую столицу для свободной жизни в обширной курской вотчине. Машенька не скучала, однако, своим уединением, нарушаемым только частыми посещениями Михаила Николаевича Несвитского, поручика гвардии, еще осенью объявленного ее женихом. Быстро пролетали дни для Машеньки. Примеряла ли она платья в девичьей, где десять искуснейших рукодельниц, не разгибая спины, с песнями кроили, вышивали, метили приданое; читала ли Машенька вслух отцу в кабинете английские газеты, совещалась ли с нянюшкой Агафьей о хозяйстве, все помнила о нем, о Михаиле Николаевиче, и о светлом счастье своем. Вдруг среди разговора задумается она и улыбнется собственным мыслям своим, и все кругом нее улыбнутся, улыбнется и Алексей Степанович, и дряхлая Агафьюшка, и девушки — всем радостно на радость ее смотреть. А эти вечера, когда, сидя за шахматами со своим будущим зятем, размечтается Алексей Степанович о жизни в деревне, о свадебных торжествах или еще о чем, а Машенька вся вспыхнет за пяльцами от радостного смущения; или, когда разбирая с женихом в зале на клавикордах французские романсы, перекинутся они ласковыми словечками, а иной раз и робкий поцелуй прозвучит в полутемной зале… Только влюбленные оценят всю очаровательную прелесть этих вечеров, только они поймут то, что овладевало тогда Машенькой, заставляло забыть постоянное уединение, не чувствовать той смутной тяжести, что охватила весь Петербург с новым. царствованием. Михаил Николаевич Несвитский, хотя и нес службу, но тоже, опьяненный любовью, не очень тяготился всеми суровостями, к тому же, через дальнего родственника своего, занимавшего видное тогда положение, уже выхлопотал он себе разрешение весною подать в отставку и уехать в деревню для поправления хозяйственных дел. Случилось как-то Несвитскому держать караул в новом только что тогда отстроенном дворце. Расставив солдат, стал сам Михаил Николаевич в большом зале. Ярко горели свечи в канделябрах (не любил государь темноты, требовал, чтобы весь дворец был освещен), пронизывающей сыростью веяло от стен, тусклые зеркала отражали белые колонны и обширную пустую залу. Сначала жутко было и холодно стоять поручику, вспомнились странные слухи о непонятных вещах, совершавшихся в угрюмых залах дворца, недобрых предзнаменованиях, вспомнились рассказы о последних лютостях царя, и невольно подумал оп: — Скорее бы подале отсюда! Но, вспомнив, что недолгий срок уже осталось переждать до радостного дня свадьбы и свободы, улыбнулся сам себе Михаил Николаевич, дал волю сладким мечтам и скоро обо всем на свете забыл, кроме невесты своей милой, прекрасной, думающей сейчас о нем, там, в тихом домике на Фонтанке. Крепко задумавшись так, стоял Несвитский на карауле, отраженный десятком тусклых зеркал в-пустой, ярко освещенной зале. Когда с шумом распахнулась дверь, вздрогнул поручик, будто пробужденный от сна, и выронил шпагу из закостеневшей руки. Император, в полной парадной форме, с лицом, багровым от гнева, выбежал из двери. Вдогонку за ним, едва не коснувшись его головы, пролетела золоченая туфелька, звонко ударившись о паркет. Спокойно вышла фрейлина Нелидова, подобрала туфлю и, удалившись, закрыла дверь за. собой. В одну секунду произошло все это. Едва опомнившийся Несвитский не успел поднять оброненную шпагу, как государь, заметивший его в зеркале, круто повернулся и подбежал к поручику. Голубые глаза Павла белыми вспыхивали огоньками, у рта была пена, казалось, сейчас упадет он в припадке. Задыхаясь, закричал он: — Зачем вы здесь? Последний ремесленник больше знает свободы в своем доме, чем я. Шпионы! Глаз не спускаете! Нет, не дамся вам живым, не дамся! В каторгу! В Сибирь! Я вам покажу! Виселицы! Визгливый голос его прерывался. Темнело в глазах у Несвитского, едва успел вымолвить он, дрожа: — Караул держу, ваше величество! — Какой караул! Кто распорядился! — опять кричал Павел. — Кто смеет! Субординацию, сударь, забыли. Как смеете разговаривать со мною! Снять с него мундир! В Сибирь, завтра же! Шпионы, убийцы, не дамся! Казалось, еще минута, и он бросился бы с кулаками. Льстиво кто-то сказал: — Не тревожьтесь, батюшка, ваше величество! Будто опомнившись, обернулся государь: — Ты, Кутайсов. — И, не глядя больше на Несвитского, тяжело дыша, добавил — На гауптвахту его. Прими оружие. Завтра разберу. Закрыв лицо руками и как-то жалобно, по-детски всхлипнув, Павел быстро выбежал из залы. — Пожалуйте шпагу, сударь, — сухо сказал граф Кутайсов почти терявшему сознание поручику.II
На следующее утро долетела горестная весть до домика на Фонтанке. Писал один из старых друзей Минаева, что положение Несвитского очень плохо. Гневается государь и слушать не хочет о пощаде; верному Кутайсову, попробовавшему замолвить слово о поручике, досталось несколько пощечин. Дрожали руки у Алексея Степановича, когда водил он бритвой по седому подбородку. Натянув слежавшийся, с потемневшим золотым шитьем парадный мундир, в ленте и орденах, поехал Минаев со двора, узнавать и хлопотать о злосчастном женихе. Выли в девичьей девушки, побросав работу. Еле бродила, вся мокрая от слез, Агафьюшка, со страхом поглядывая на свою барышню, которая ни слова не сказала, ни слезинки не выронила, будто каменная, села в кабинете и сидела, не двигаясь, и час, и два, и три, дожидаясь возвращения отца. Уже начинало смеркаться, когда приехал наконец Алексей Степанович. Войдя в кабинет, молча обнял он, поцеловал Машеньку и, ни слова не сказав, прошел к себе в спальню. Да и пе надо было слов, по лицу отца догадалась Маша о страшной новости: не удались хлопоты адмирала, отняла злая судьба жениха ее любимого. Но Машенька и тогда не заплакала: странная мысль овладела ею. Так твердо велела она няньке принести старую шубку и послать за извозчиком, что та не посмела спрашивать и отговаривать. Ударил мороз в ту ночь и холодная багровилась заря, когда Маша вышла за ворота. Приказав извозчику везти себя на далекую линию Васильевского острова, Маша задумалась. Вспомнился ей во всех подробностях вечер в прошлом году у князя М. Любил князь немногочисленному, но избранному обществу друзей, собиравшемуся по четвергам, предложить забаву какую-нибудь необычайную и диковинную: то картины какие-нибудь из крепостных актеров составит, то балет или пастораль какую; арапчат как-то выписал нарочно, чтобы пели и дикие танцы свои представляли. В тот же вечер, с особой радостной гордостью встречая гостей, предупреждал, что покажет искуснейшего мага и чародея, который или изрядный плут, или, действительно, кудесник, так как фокусы его объяснению не поддаются. В маленькой гостиной горели две свечи. Когда все собрались и разместились, князь ввел высокого костлявого человека в поношенном коричневом кафтане. — Господин Кюхнер, — представил его князь. Низко поклонившись, Кюхнер по-немецки сказал несколько вступительных слов. Он сказал, что есть много тайного, непостижимого в природе и что некоторым людям дана способность тоньше чувствовать эти непостижимые тайны и даже управлять, насколько слабых человеческих сил может хватить, этими тайнами. Затем он попросил позволения погасить свечи. В темноте долго оставался недвижимым и безмолвным Кюхнер, потом вдруг слабый вспыхнул огонек у того места, где стоял заклинатель, смутные послышались звуки, будто вдалеке кто-то играл на арфе. Необъяснимый страх вдруг охватил тогда Машеньку, и, пе выдержав, она лишилась чувств. Сеанс прервался; ее вывели. Скоро, придя в себя, Машенька попросила оставить ее одну. Полежав некоторое время в спальне княжны, странное беспокойство испытала Машенька. Непременно захотелось ей повидать еще раз Кюхнера. Гости уже сидели в столовой, и, пройдя по коридору, Маша нашла господина Кюхнера в маленькой гостиной. Он прохаживался, опустив голову и глухо покашливая. Был он очень бледен и казался глубоко уставшим. Пот капельками показывался на лбу из-под парика. Маша подошла и заговорила с ним по-немецки. — Простите, — сказала она, — я так глупо прервала ваши опыты. Он посмотрел на нее рассеянно, будто не видя, потом вдруг взгляд его стал внимательнее. — Вы, — начал он, — вы отмечены. Вы чувствуете не так, как другие. Для всех это забавные фокусы, вы же почувствовали мою силу. Он вдруг смутился, закашлялся и замолчал. Маше невыносимо стало жалко его. Она протянула ему руку. Кюхнер осторожно взял своей холодной рукой маленькую Машину ручку и, будто почувствовав ее сожаление, сказал: — Вы одна, милая барышня, подали руку мне. Что я для них? Шут, ловкий плут. Если бы только знали они, как тяжело мне достаются эти минуты, что я развлекаю их. Если бы только знали они, что… — Он опять оборвал свою речь и, помолчав, добавил: — Я сам виноват. На великие дела помощи и спасения надо было бы употреблять чудесные силы, а не жалкие забавы, но я стар, слаб и не гожусь больше ни на что. Впрочем, клянусь, если когда-нибудь понадобилась бы вам, милая барышня, моя помощь, я бы напряг последние силы и сделал бы чудо, да, чудо! Маше стало страшно; показалось ей, что безумен этот старый немец, а он вытащил кусок бумаги, написал свой адрес и подал ей с глубоким поклоном. Больше Маша не видела Кюхнера и даже почти не вспоминала его. Уже на полдороге хотела Маша вернуть извозчика, смешной и безумной показалась ей мысль, внезапно явившаяся, ехать к Кюхнеру и просить его помощи. — Что он может сделать? Как пособить? Да и жив ли он, или не уехал куда, — тоскливо думала Машенька. Но что-то, мешало ей вернуться, а извозчик уже съезжал на лед Невы. Не без труда разыскала Маша красненький покосившийся дом Еремеева, обозначенный в адресе. Спрошенная Машей на дворе толстая баба долго молчала, как бы не понимая вопроса, потом, зевнув, сказала: — Немца тебе нужно. Живет здесь, да не знаю, не помер ли, уж очень слаб стал. В мезонин-то толкнись, — и она указала дверь. Странная тревога овладела Машей, когда карабкалась она по темной скользкой лестнице. В неопрятной, бедно обставленной, пропитанной насквозь запахом табака комнате лежал на диване Кюхнер. Он был в халате и без парика и показался Маше еще бледнее и костлявее с прошлого года. Кюхнср сразу узнал Машу и не выказал удивления ее приходу. Он попробовал подняться, но, обессиленный, сейчас же опять склонился на подушку. — Вы извините, фрейлейн, — заговорил он с жалкой какой-то улыбкой, — я не совсем здоров. Стар становится Кюхнер, слаб; уже не ездит в золотых каретах, не получает писем от князей и императоров. Маша смущенно молчала, не зная, как заговорить о деле, которое казалось ей теперь неисполнимым. Кюхнер, закрыв глаза, полежал молча несколько минут и потом спросил: — Ну, расскажите, фрейлейн, чем могу помочь вам? Ведь я помню мое обещание, и никогда я не давал ложных клятв. Сбиваясь, рассказала Маша о вчерашнем случае во дворце и гневе государя. — О, ваш император жесток! — выслушав рассказ, промолвил Кюхнер. — Я знаю его. Гневом своим он может испепелить страны, но знайте, фрейлейн, есть силы, которые покоряют и государей. Гнев покоряется волей, волю покоряет другая, сильнейшая воля. Только бы мне увидеть его, заставить взглянуть в мои глаза, и вы увидели бы… Маше становилось страшно, как в прошлом году, казалось ей, что немец безумен. Кюхнер же поднялся и сел на своем диване, глаза его блестели, пересохшие губы странной кривились улыбкой. — О, я бы хотел вызвать на последний бой. Кого? Императора! А, розенкрейцер*, ты узнал бы власть старого Кюхнера! — так говорил он, воодушевляясь все больше и больше. Потом, будто опомнившись, он успокоился, лег и сказал тихим голосом: — Завтра в два часа будьте в Летнем саду, и вы увидите нашу встречу. Кюхнер закрыл глаза и, казалось, задремал. Помедлив, Маша тихо вышла из комнаты. Приехав домой, Маша, как бы только что поняв страшное несчастье, постигшее ее, не раздеваясь, села на сундук и горько заплакала. — Ну, слава Богу, с слезами-то горе выливается, — шептала, крестясь, Агафьюшка, хлопоча около своей питомицы.III
Каждый день в определенный час государь имел привычку выходить на прогулку. Чаще всего один, без свиты, быстро проходил он по главной аллее Летнего сада, иногда выходил на набережную и шел до Адмиралтейства, возвращаясь потом той же дорогой во дворец. Когда он был милостив, то любезно раскланивался с гуляющими, и даже любил, если какой-нибудь проситель, упав на колени, останавливал его. Государь выслушивал просьбу и часто тут же ставил свою резолюцию, но так как светлых дней бывало меньше и чаще государь был раздражен и гневен, тогда останавливал офицеров, находя упущение в амуниции, кричал на дам, не умеющих сделать положенного реверанса, то жители петербургские избегали в этот час показываться в Летнем саду, и только наивные провинциалы делались жертвой царского гнева. Впрочем, государь как-то заметил, что Летний сад опустел, догадался о причине этого и очень гневался. С тех пор была учреждена тайная очередь, и каждый день офицеры различных частей шли, крестясь и молясь, чтобы прогулка обошлась благополучно, навстречу государю. Всю ночь не отходила Агафьюшка от Машиной постели. Наплакавшись, уснула Маша, но спала неспокойно; словно в бреду, несвязное что-то бормотала она: то начинала звать жалобно Мишу, называя ласковыми его именами, то поминала незнакомое няньке имя господина Кюхнера и начинала быстро что-то лопотать по-немецки. Молилась нянька, с уголка спрыснула девушку, плакала, будила Машу, но та как в горячке была. Хотела Агафьюшка уж будить барина, да побоялась, что за лека-рем-немцем пошлют, а лекаря, словно черта, боялась старуха. Рано утром проснулась Маша и сейчас же забеспокоилась узнать, который час. Несмотря на все уговоры няньки, потребовала одеваться. Преодолевая слабость, тщательно умылась и причесалась, и даже выкушала горячего молока, принесенного Агафьюшкой. Казалась Маша спокойной и твердой; удивлялась, глядя на нее, старуха. Только когда, выйдя в столовую, увидала Маша отца, за ночь будто на десять лет постаревшего, не выдержала и, бросившись на шею Алексею Степановичу, зарыдала. Плакал и адмирал, как малый ребенок. Первая успокоившись, нежно утешала Маша отца. Около полудня тревога овладела Машей, приближался час, назначенный Кюхнером; боялась Маша, не знала, верить или не верить странному обещанию безумного немца. После обеда, когда Алексей Степанович лег по обычаю отдыхать, а куранты пробили час, Маша отослала Агафьюшку на кухню, а сама, быстро одевшись, незаметно прокралась на двор и за ворота. Сухой падал снег. Тускло было и холодно. Почти бегом, будто боясь, что остановит ее кто, бросилась Маша по набережной Фонтанки к Летнему саду. Проходя мимо дворца, вспомнила, что здесь томится жених ее, здесь и разлучитель их злой, — упало сердце, и показалось, что тщетны все надежды на спасение. Но, как бы повинуясь чужой воле, продолжала она путь, уже не понимая хорошенько, что с ней делается. У ворот Летнего сада стоял Кюхнер. Маша даже сразу не узнала его; вчера показался он ей таким слабым, что представить не могла она, чтобы он двигался, сегодня же Кюхнер выглядел совсем здоровым, даже легкий румянец выступил на желтых, впалых щеках, тщательно выбритых. Отвесив Маше низкий старомодный поклон, Кюхнер сказал очень просто и деловито: — Вы, фрейлейн, пройдете в боковую аллею и сядете на второй скамейке. Оттуда вам будет видна паша встреча, а может быть, понадобится ваше присутствие, и тогда я сделаю вам знак. Будто в полусне провела Маша эти полчаса па указанной Кюхнером скамейке в пустынной аллее. Она уже не думала ни о женихе, ни о странных поступках Кюхнера, она не боялась и не тревожилась. Гуляющих было мало. Маша видела синий плащ Кюхнера. Он несколько раз вскакивал со скамейки, беспокойно прохаживался, размахивая как-то смешно руками, и опять усаживался на свое место. Приближения императора Маша не заметила; только когда Кюхнер, вскочив порывисто, вдруг опустился на колени перед невысокого роста в треуголке с перьями* человеком, Маша догадалась, что это государь. Сквозь голые ветки деревьев Маше было ясно видно, как Павел, будто испугавшись чего-то, отступил на шаг от Кюхнера, потом он дал знак ему подняться. Без шляпы, с развевающимися от ветра буклями парика, высокий и костлявый стоял Кюхнер, видимо, что-то быстро и горячо говоря государю. Тот слушал его со вниманием и как бы с изумлением даже. Иногда Кюхнер приближался совсем близко к государю, заглядывая ему в лицо, а один раз Маша заметила, что Кюхнер коснулся даже рукой плеча Павла. Маша смотрела внимательно, но, странно, никакого волнения не испытывала она, будто все происходившее не касалось ее вовсе. Только один раз вздрогнула Маша: что-то страшное совершилось там, на главной аллее Летнего сада. Будто желая ударить Кюхнера или отмахиваясь от слов его, поднял Павел руку и несколько секунд оставался с неподвижной, поднятой рукой, потом отшатнулся, как бы падая; поддержанный Кюхнером, он отвернулся и быстро, почти бегом, бросился ко дворцу. Маша нашла Кюхнера на скамейке. Он не сидел, а почти лежал; лицо его было бледно, шляпа упала в снег; он едва мог открыть глаза, когда Маша тревожно нагнулась к нему. — Ничего, ничего, фрейлейн, — сказал он тихим, слабым голосом, — не волнуйтесь, маленькая усталость. Это нелегко — повелевать императором… Да, — добавил он, будто вспомнив, — ваш жених будет сегодня свободен и завтра получит отставку. Подальше отсюда, подальше… Страшно здесь, а скоро… — совсем тихо он прошептал. — Я увидел сегодня его смерть, его страшную гибель. Перед своей смертью чуешь и чужую. Он замолчал, тяжело дыша, и закрыл глаза. Радость, которой нельзя было почти поверить, и, вместе с тем, острую, мучительную жалость к этому умирающему старику почувствовала Маша. Она не могла говорить, слезы душили ее. Нагнувшись, она поцеловала желтую костлявую руку господина Кюхнера.IV
Через неделю Кюхнер умер. Как известно, в марте того же года страшная смерть постигла императора Павла. Часто задумывалась Марья Алексеевна Несвитская над этой таинственной историей, имевшей такое странное и огромное значение в ее жизни.М. А. КУЗМИН

НАБЕГ НА БАРСУКОВКУ
Борису Садовскому
I
Не ладилось почему-то в этот день вышиванье у Машеньки, то в синее поле нанижет зеленого бисеру, то лилового в розы пустит, то желтый рассыпется, будто не прежние у нее были, проворные и искусные на ощупь пальчики, а какие-то обрубки, набитые ватой. А между тем день был самый обыкновенный, такой же, как вчера, как третьего дня и, вероятно, как будет завтра, шестого августа, в день Преображения Господа нашего Иисуса Христа, когда будут святить яблоки и печь пироги с ними. Ведь и тревога, с которой Машенька смотрела из своего мезонина на расстилавшуюся за садом дорогу, была та же, что ипрежде, ничего особенного в ней не было; отчего же синий бисер попадал в зеленый, а желтый сам рассыпался? Вздохнув, она отложила неконченным длинный кошелек с розами и незабудками и, опершись на локоть, стала просто смотреть на такую известную с детства ей картину: двор, сад, дорога за ним на пригорке, мельницы, еле видное озеро вдали. В тот день ни солнечный, ни хмурый, с ленивым солнцем и редким дождем все казалось таким обыкновенным, что Марья Петровна Барсукова даже знала не только всех прохожих, но куда и откуда они идут, и зачем, и почему, — так что наблюдения могли приносить только удовольствие подтверждения, что Фекла идет со скотного на кухню, что Кузька бежит на погреб за квасом, потому что барин Петр Трифоныч, Машин отец, пробудился от послеобеденного сна, что старуха Марковна пронесла грибы к ужину. Все было ей отлично известно, и хотя неизменяемость явлений вносит известное успокоение в душу, но вместе с тем внушает и тягостное, безнадежное чувство, похожее на скуку. Не только все прохожие были известны Марье Петровне, но даже звуки, источники которых не были доступны зрению, были ей так же известны, равно как их причины и назначение. Вот скрипнули ворота, впускают скот, который все ближе, ближе мычит и блеет, вот рубят котлеты на кухне, поют песни на выгоне, шлепают вальками на пруду, брат Ильюша разыгрывает Гайдна в круглой гостиной, и скоро раздастся свист из-за куста сирени, свист, всегда ожиданный и даже ожидаемый, но всегда заставляющий биться сердце и ланиты покрываться розами. После этого свиста всегда прибежит босою Феня, камеристка и наперсница Марьи Петровны, всегда с видом заговорщицы, с одним и тем же радостным ужасом на круглом лице. Прошепчет: «Свистят-с», — на что Маша ответит: «Слышала; покарауль, Феня». Каждый раз девка промолвит: «Вот страсти-то, барышня! Попадемся Петру Трифонычу, быть мне поротой, а вам за косы драной», — и стремглав нырнет в кусты, мелькнув голыми пятками. И па этот раз только что раздался в кустах сирени еле уловимый свист, как на пороге появилась босоногая Феня и диалог между барышней и служанкой повторился с неукоснительной точностью. И эта повторность слов и биения сердца, чувства страха и любви не казались скучными, а, наоборот, каждый день были новыми, небывалыми, неожиданными. Сама того пе сознавая, Марья Петровна с ночи думала, засыпая, как лакомка, какой завтра найдет ее свидание, а она — Гришу Ильичевского: веселым, страстным, разочарованным, гордым, печальным, вздыхающим? Путаясь в платье, цепляясь корзиночкой поверх гладко причесанных волос за низкие сучья деревьев, Маша достигла отдельной беседки с цветными стеклами и двумя входами; на потолке доморощенный художник воспроизвел «Аврору» Гвидо Рени со слов Петра Трифоныча, побывавшего в Италии и небесчувственного к искусствам. Поставив Феню у входа, Марья Петровна не успела переступить порога, как была заключена в объятия высоким, плотным юношей, чей неподдельный румянец, белейшие зубы, непокорные русые волосы и наивные серые глаза свидетельствовали о нестоличном его происхождении. Отдав дань первым восторгам невинного свидания, влюбленные, не разнимая рук, опустились на банкетку. Девушка склонила свою голову на плечо юноши, а тот ее спрашивал дрожащим от волнения голосом: — Не говорила еще с батюшкой? — Возможно ли? Так полагаю, что скорее жизни лишит, чем согласится. Я даже братцу Ильюше не решаюсь открыться. — Этому нет необходимости: чем меньше народа знает, тем крепче тайна хранится. Но не унывай, у меня знатный, хотя и дерзкий план созрел. Бог поможет, удастся, и ничто нас тогда разъединить не сможет, будь только ты храбра и доверься мне. — Можешь ли сомневаться в этом, Гришенька? — спросила Марья Петровна, глядя с упованием и любовью в наивные и открытые глаза своего возлюбленного, где читалось простодушие, чистота и покорность, но никак не знатный и смелый план, о котором говорил Григорий Алексеевич. Крепко сжав руку девушки и помолчав, тот деловитым и таинственным голосом продолжал: — Никаким россказням и слухам не верь, что бы про меня ни говорили. Вид подавай, что веришь, сердцем же не верь. Через Василья извещать буду, что делать, делай беспрекословно, слушай его, как Святое Писание. Ко всему будь готова и помни, что ничего худого не произойдет. Больше покуда ничего не скажу. Маша крепче прижалась к молодому человеку и начала печально: — Хоть бы один конец, Гришенька! Не в силах я томиться; каждый день до твоего свиста ровно в лихорадке горю, сегодня даже вышивать не могла, весь бисер перепутала. — Дома-то не замечают? — Наверное, нет. Батюшка спит да по хозяйству кричит, а Илья что? Книжки читает, гуляет да на клавире наигрывает… когда и я пою… но беседует со мною мало. Скоро осень! — Грибов очень много: видал, проходя. — Каждый день кушаем. Просилась с девками — не пустили. В это мгновение в отверстие двери просунулось круглое лицо их верного сторожа, и, махая рукой, Феня заговорила громким шепотом: — Барышня, к ужину ищут, совсем недалече! Крепко обняв Машеньку и прошептав ей на прощанье: «Будь готова, друг мой, не унывай!» — Григорий Алексеевич вышел через другую дверь и скрылся в кустах, меж тем как Марья Петровна в сопровождении своей босоногой камеристки не спеша, будто гуляя, пошла навстречу казачку по направлению к дому, откуда слабо доносились менуэты Гайдна, словно шипенье самовара, и где на балконе темнела по вечернему небу тучная фигура батюшки, Петра Трифоныча Барсукова.II
Покойный отец Григория Алексеевича Ильичевского был связан узами непримиримой вражды с соседом своим Барсуковым. Были забыты причины этой распри, восходившей еще к их дедам и заключавшейся, вероятно, в каком-нибудь неподеленном куске земли, чужом скошенном луге, перенятом медведе или тому подобных, на наш взгляд, пустяках, считавшихся кровными обидами. Все это было забыто, и перешла ко внукам только глухая и непримиримая вражда, распространившаяся и на сына Ильичевского, Григория Алексеевича. Их фамилия не упоминалась иначе, как в соединении с более или менее нелестными эпитетами вроде «канальи, мошенники, фармазоны», и даже в горнице Машеньки имя Ильичевских не произносилось, а назывался только Григорий Алексеевич, и мечтали только о Гришеньке, забывая, гоня от себя мысль, что он — Ильичевский. Марья Петровна не опоздала к ужину, так что ее отсутствие не было замечено; впрочем, она вообще пользовалась известной привилегией сельской свободы, которая более, чем в столицах, допускает прогулки молодым девицам, предполагая, что природа и деревенское разнообразие развивают мечтательность, полем действия которой, конечно, естественно служит сад и даже поля и рощи, чем комнаты с кисейными занавесками и лежанками. Притом постоянным защитником свободы являлся брат Машеньки, Илья Петрович, петербургский студент, поклонник Руссо и англичан, изрядный музыкант, что особенно ценилось его отцом, который, как мы уже сказывали, пе был бесчувственен к искусствам. Хотя отец не понимал Бетховена, а предпочитал Россини, увертюру которого к «Елисавете», впоследствии вставленную в «Севильского цирюльника», часто насвистывал, и находил, что Улыбышев прав в своем суждении о Бетховене, — однако он охотно прислушивался к сухой игре сына, когда тот исполнял «немцев» в круглой гостиной, лишь временами в угоду отцу рассыпая шипучие брызги «Итальянки в Алжире» или «Сороки-воровки». Отец не соглашался, но любил и думал о меланхолическом огне, оживлявшем его уединенного и мечтательного сына. Машенька занималась искусством только для домашнего обихода, играла в четыре руки что полегче, запинаясь и считая вслух, или пела романсы девятидесятых годов под гитару; бабушкина арфа стояла немой в углу и просыпалась только под метелкой казачка, убиравшего комнаты. Рукодельничала Марья Петровна тоже неохотно, вот уже четвертый месяц вышивая бисерный кошелек Гришеньке, рассыпая бисер и путая цвета; хотя досуг и не развил в ней видимой мечтательности, но в глубине души она ждала трагических или жестоких приключений, с восторгом слушая рассказы Фени, как у соседних староверов умыкали девиц, как мужья тиранили неверных, а иногда и верных жен, и хотя уже и в то время такие приемы были лишь проформой и купеческие женихи отлично знали, что тятеньки умыкаемых ими невест гнались за ними с допотопными ружьями только для соблюдения обряда, тем не менее рассказы эти волновали барышню Барсукову глухим и тяжелым волнением. Потому неясные слова Григория Алексеевича поразили ее радостною тревогою, и, смотря в его серые глаза, она читала там не простодушие и покорность, а удаль и любовную отчаянность. Может быть, если бы даже Гришенька не был врагом Петра Трифоныча и не приходилось терпеть за себя и за него, сидя в проходной беседке с «Авророй» Гвидо Рени на потолке, — может быть, не так дорожила бы Машенька этими минутами, не так ждала бы знакомого свиста, не так путала бы бисер. Сама наружность ее казалась приготовленной скорее для умычек, побоев, отравлений постылого мужа, чем для томных воркований под арфу. Лицо у нее было круглое, несколько широкое, глаза бойкие и упрямые, волосы густые, брови почти срастались, подбородочек упорный, шея как точеная балясина. Ужин близился к концу, и Петр Трифоныч рассказал уже все хозяйские новости и поспорил о чем полагается с Ильей Петровичем, как вдруг казачок вошел в горницу и положил прямо перед прибором хозяина небольшую книжечку в кожаном переплете. — Это что такое? — с недоумением спросил тот. — Извольте сами взглянуть, — был ответ. Старик взял книжечку, повертел и, густо покраснев, снова сурово спросил: — Где взял? Блестя глазами и предчувствуя историю, казачок ответил: — В беседке, когда барышню кликал к ужину. Петр Трифоныч еще бы побагровел, если бы это было возможно. Мельком взглянув на дочь, он спросил, будто не у нее: — А что же Марья Петровна изволила делать в той беседке, где потом находятся такие знатные находки? Машенька ответила не совсем твердо, силясь рассмотреть или, по крайней мере, догадаться, что это за книга, возбудившая такой гнев у отца. — Ничего особенного: гуляла с Феней до ужина. Старик поднял толстый указательный палец кверху и сказал, будто рассуждая: — Что, сударыня, называть особенным и не особенным? Для меня чрезвычайно особенно, в высшей мере особенно то обстоятельство, что после твоей прогулки, ничего особенного не представлявшей, в том же самом месте находят книгу, где напечатано: «Из библиотеки г-д Ильичевских». Я не могу найти никаких натуральных объяснений сему явлению. — Книга могла быть там обронена значительно раньше, — заметил Илья, но казачок, опуская веки на слишком заблестевшие глаза, вымолвил: — Нам сначала невдомек. Но как барышня Марья Петровна вышли-с, слышно, в кустах шабаршат. Как ветру, сами изволите знать, не было, мы подумали: вор. Видим, человек бежит, нагибается, и на ступеньках книжка оставленная. — Ты слышишь, Марья? — сказал Петр Трифоныч, не выпуская несчастного томика из рук. — Конечно, слышу: я не глухая. — Грубить? Что же ты скажешь на это? — Спросите у Кузьки: очевидно, он всех более знает, что случилось. Во всяком случае, более, чем я. — И спрошу, у всех спрошу, а пока не узнаю, тебя посажу, сударыня, под замок. — Подумай, отец, прилично ли благородного человека, свою дочь, лишать священного права человека — свободы? — вступился было Илья, но Петр Трифоныч, запахнувшись в стеганый халат по-домашнему и не выпуская книги из толстых пальцев, громко закричал: — Нет уж, гуманность гуманностью, но когда замешан Ильичевский, всех Руссо и Бетховенов к черту посылаю, так и знай. Марья Петровна встала решительно из-за стола и, прямо глядя из-под сросшихся бровей на отца, произнесла спокойно и внятно: — Ты можешь не спрашивать об этой книге ни у кого из дворни. Эту книгу, очевидно, выронил из кармана Григорий Алексеевич, с которым я видаюсь и которого люблю душевно. Петр Трифоныч долго молчал, потом расшаркнулся и произнес: — Благодарю покорно, — но Машенька не слышала, вероятно, этих слов, потому что, сказав про Ильичевского, она молча все склонялась и склонялась, пока не упала на ближайший стул. Все переполошились, побежали за водой, Петр же Трифоныч шепнул казачку Кузьке: — Беги до Марковны, пусть посмотрит: не брюхата ли грехом; от этих каналий все станется.III
Барсуков исполнил свою угрозу, посадив Машеньку под замок, что было тем более тягостно, что было совершенно неизвестно, когда этот затвор кончится, так как расследовать причины появления книги Ильичевского в беседке не было смысла после Машенькиного признания, следовательно, что же? Ждать, когда он окончательно разделается, уничтожит Григория Алексеевича, или что? К счастью, после того, как Марковна дала самые утешительные сведения о состоянии барышниного здоровья, к Марье Петровне стали допускать Феню, следовательно, можно было поддерживать сношения с внешним миром, то есть узнавать, как сердится и что, по-видимому, готовится предпринять отец, и ничего не узнавать о том, о другом, судьбой которого, конечно, она больше интересовалась, нежели своей собственной. Будто ему кто сказал, какое несчастье произошло в Барсуковке: он не свистал, в беседку не приходил и никаких тайных гонцов не присылал. Всякий раз, что приходила Феня, она говорила все те же самые мало утешительные новости: не свистели, не приходили, Ваську не присылали. Только на пятый день вестница явилась с сообщениями, еще более смутившими и без того смущенную Марью Петровну. Феня говорила нечто до того странное, что, только памятуя последние наставления Гришеньки, барсуковская барышня не впала в окончательное отчаяние. Будто бы появилась шайка разбойников и даже с пушкой, которые напали на именье Ильичевских, причем молодой барин не то убит, не то в плен взят: во всяком случае, пропал неведомо куда. Что бы стала делать запертая Машенька, если бы не помнила слов: никаким россказням и слухам не верь. Вид подавай, что веришь, сердцем же. не верь. Но были ли это просто те слухи, которым нельзя было верить, или могло случиться то, чего не предвидела простодушная голова молодого Ильичевского? Так что героиня наша не только подавала вид, что огорчена и смущена, но и на самом деле смутилась и огорчилась в глубине своего мужественного, но нежного сердца. Дома все, казалось, оставалось покойно и без перемен; так же доносился стук ножей и вилок из буфетной и менуэты Гайдна из зала, те же люди проходили мимо окон Машеньки, как будто на Ильичевских не нападали таинственные разбойники, не пропадал Гришенька (в плену? убит?), не была заперта его возлюбленная. Вести о разбойниках принес не Василий, а появились они неизвестно откуда, так что и здесь даже нельзя было судить и определить, с ведома ли Григория Алексеевича распускаются такие слухи или, действительно, с ним произошло то, что вовсе не входило в программу его поступков. Петр Трифоныч в пылу гнева сначала хотел на следующее утро поехать к соседу и избить его, «как щенка», но, подумав и поговорив с сыном, решил стреляться с Ильичевским, так как последний, хотя «каналья и масон», был дворянин, тем не менее, и не подобало унижать благородного звания. А тут как раз подоспели вести о разбойничьем нападении и исчезновении Григория Алексеевича. Как проникли эти слухи в Барсуковку, было никому не известно, но на следующий день было обнаружено подметное письмо на балконе, которое гласило: — Мы не жаждем крови вашей и жизни, мы хотим лишь, не дожидаясь небесного Правосудия, восполнить от вашего избытка то, чего лишены мы несправедливостью человеческих законов и случайностями фортуны. Посему во вторник ждите нас мирно и без страха, не оказывая сопротивления и предоставя нам все ключи от комнат и сундуков, ларей и столов. Не следите за нами и мирно продолжайте ваши занятия или молитесь, в противном случае мы не можем уверить вас, что не прольется кровь, каковое дело считаем низким и бесчестным. Не думайте противостоять нам, ибо имеется у нас достаточно ружей, рук и пушек, чтобы достичь желаемого, какой бы то ни было ценой. Ваши руки ослабли, сын ваш не привычен держать оружие, дворня же распущена и склонна к предательству. Говорим вам все это, жалея ваши лета и не желая насильственным путем поправить ошибки судьбы. Но мы не остановимся ни перед чем. Написано это было грамотно, хотя и каракулями на синей оберточной бумаге мелом. Тот же казачок принес это послание вместе с утренним чаем еще не встававшему по случаю праздника барину. — Это что? — Извольте прочитать, на балконе оставлено. Петр Трифоныч, прочитав, помолчал, затем сказал тихим голосом: — Позвать сюда Илью Петровича, — а пальцы его барабанили Преображенский марш, что всегда свидетельствовало о величайшем его волнении. Когда Илья Петрович переступил порог спальни, отец продолжал находиться в том же мрачном и молчаливом возбуждении. Молча передал он сыну синий клок, и только когда тот, прочитав, поднял вопросительно глаза на отца, старик Барсуков тихим голосом вопросил: — Что скажешь, сударь? — Я плохо понимаю, отец; написано это грамотно, но мысли несколько странные и смелости рискованной. Петр Трифоныч вдруг вскочил с постели в одном исподнем и заорал: — Неслыханная наглость! Необычайная! Мне, Петру Барсукову, отставному полковнику лейб-гвардии Преображенского полка, получать такие цидулки?! Что я: человек или пугало воронье? Нашли простака! Я им покажу грамотно! Вилами до околицы не допущу, сам из двух ружей стрелять буду! Грамотно! Илья слушал молча, не ища логики или благоразумия в словах отца. Затем, подняв бледноватое лицо свое, спокойно заметил, слегка скривив губы: — По сердцу и по рассудку сказать, гораздо больше варварства я вижу в твоем, отец, благородном негодовании, нежели в письме этих бродяг и разбойников, каковыми ты их считаешь. Ты жаждешь кровопролития и подвергаешь опасности жизнь близких тебе людей, они же, конечно, совершают насилие, но бескровное и, может быть, действительно, лишь для восстановления попранных прав своих. Петр Трифоныч опустился на кресло и, сжимая синий лист, тихо произнес: — Теперь я вижу, что в одном злодеи правы: не только в ленивой и распутной челяди — в родном сыне своем предателя обретаю. Затем, почти без шума поднявшись, что было особенно удивительно при его тучности, вышел, хлопнув дверью. Илья последовал за ним в проходную, догнал и, взявши за рукав рубашки, сказал с очевидным волнением, столь несвойственным его философическому поведению: — Отец, прости, если я тебя обидел, но размысли несколько — и ты убедишься, что я прав. Не оборачиваясь к сыну и продолжая шествовать в одном белье, старый Барсуков лишь буркнул: «Пойду говорить с теми, кто лучше сына понимать меня может». И как Илья Петрович все держал рукав отцовской рубахи, тот сильно рванулся и вышел на черное крыльцо, так что сын поспел только послать ему вдогонку «подумай о Машеньке», на что ответа не последовало. Илья горестно пожал плечами и сел за Гайдна, не смотря, как к крыльцу стала стекаться «ленивая и распутная» дворня, почесывая животы и космы густых волос. Но когда под вечер он читал в третий раз «Эмиля», мечтая о правильном воспитании своих будущих детей, скрипнула дверь, и боком вполз Петр Трифоныч, имея вид сконфуженный и убитый. Молча он сел у шифоньеры, так что уже сам Илья Петрович, видя отца неразговорчивым, задал ему вопрос: — Ну, что же сказали тебе люди, которые понимают тебя лучше родного сына? Отерев пот с лица большим фуляром, старик заговорил с неожиданным и внезапным воодушевлением: — В первый раз такая оказия со мной случается. Как горько мне, Ильюша, — видит Бог, но ты оказался совершенно правым. Что им, тунеядцам, честь моя и мое добро?! Запороть их всех мало, но, зная неприятеля близким, не осмеливаюсь. Претерплю, но зато покажу им, канальям, кузькину мать! Узнают, негодяи, как труса праздновать и хозяйское добро не беречь! Потом он так же неожиданно заплакал и, склонясь тучным телом на плечо своего хилого сына, прошептал: — Не чаял дожить До этого, свет. Тот неловко обнял отца и спросил: — Ты решил поступать, как я советовал… просил? — Да, но каково мне это? Помолчав, Илья сказал утешительно: — Конечно, минуты неприятные, но унизительного в этом ничего нет. Это не в твоей власти, как не в твоей власти остановить вывеску, которая валится тебе на голову. Кто же может тебя винить за это? И сам ты этого делать никак не можешь. Можно ли обижаться на простолюдина, что он сморкается в руку, когда у него пет носовых платков и когда он с детства так воспитан? Что же спрашивать с грабителей? Петр Трифоныч слушал рассуждения сына, не поднимая головы и громко всхлипывая.IV
В назначенный разбойниками вторник вся Барсуковка с раннего утра ожидала набега. Петр Трифоныч, нарочно для пренебрежения одетый в старый халат, потребовал себе все ключи и сидел в круглой зале, читая календарь за 1811 год, а Илья Петрович здесь же перелистывал «Эмиля». Машенька оставалась запертой и, казалось, непричастной общей ажитации. Наконец, часов около одиннадцати казачок Кузька, блестя раскосыми глазами, прибежал впопыхах и почтительно, несмотря на катастрофичность момента, доложил: — Около амбаров едут. — Много? — Четыре телеги; человек тридцать. Тройками. — Пушка есть? — Имеется! В молчании прошло еще с полчаса. Наконец, тот же Кузька ввел в залу человек пять мужчин, одетых по-крестьянски, с бородами и без бород, все с пистолетами и масками на лицах. Молча передал Петр Трифоныч поднос с ключами выделившемуся вперед молодому, высокому мужику. Тот молча же поклонился, прибавив явно деланным басом: — Возвратим в целости. — Черт бы тебя побрал, — ответил Барсуков. Илья Петрович, заложив пальцем страницу книги, поднял близорукие глаза, ожидая ссоры, но мужик, ничего не сказав, взял все ключи и пошел внутрь дома, оставив у дверей стражу с заряженными пистолетами, курки которых были взведены. Когда непрошеные гости удалились, молчание снова воцарилось в круглой зале, и было странно видеть массивную фигуру Петра Трифоныча с багровым, пятнами лицом, сидевшую за тем же календарем на 1811 год, и сутуловатого философа, изучающего «Эмиля», меж тем как по верхним половицам были слышны тяжелые шаги, а у дверей стояли бородатые мужики с ножами за поясом, с пистолетами, курки коих были взведены у всех на глазах, и с, масками на неизвестно каких лицах. Нельзя особенно винить людей барсуковских, что они так равнодушно и даже скорее сочувственно в пользу неизвестных грабителей отнеслись к опасности, грозившей не жизни, а лишь благосостоянию их господ. Некоторые старики, от которых мало было бы проку, выражали готовность положить свои дряхлые животы за барское имущество, но кто помоложе сочувствовали более удали пришельцев, даже не из ненависти к рабскому игу, а просто из озорства или в надежде получить если не наживу, то угощение от своих же братьев-простолюдинов, каковыми они с известным вероятием считали разбойников. Перспектива неизбежного наказания представлялась им в таком отдалении, что не могла перевесить удовольствия невиданного зрелища или опасности, которой могла подвергнуться их жизнь в случае вооруженного столкновения. Через известное время, когда первые три тройки прозвенели уже, отъезжая, в круглую залу вошел другой мужик, поменьше и с бородой, внес поднос с ключами и, возвращая его Петру Трифонычу, промолвил высоким тенорком: — Извольте пересчитать, сударь. Тот неспешно пересчитал ключи и сказал: — Черт бы тебя побрал, — будто разучившись другим, более сильным нелюбезностям. Тот махнул рукою и вышел, за ним удалились те, что стояли у дверей, и последняя подвода съехала со двора. Тогда Петр Трифоныч разразился отборными ругательствами, получив утерянный на время дар слова, и пошел осматривать порчи, нанесенные его благосостоянию приезжими. К удивлению, почти все осталось нетронутым, и взято было так мало и таких нестоющих предметов, что могло считаться, что ничего не было взято. Не было конца догадкам о глупости разбойников, пока не пришло время ужина, потому что когда понесли кушанья барышне и отомкнули дверь, то горницу нашли пустою. Когда доложили об этом старому барину, он впал в необычайную ярость и, хлопнув себя изо всей мочи по лысому лбу, воскликнул: — Ах, я пугало воронье! Сам ключи, выдал мерзавцам, фармазонам, Гришке Ильичевскому, — и, не докончив даже бараньего бока, сам самолично отправился в погоню, хотя Илья Петрович и доказывал ему, что в пять часов, которые прошли со времени отъезда последней тройки до сей минуты, можно было так далеко заехать и так далеко зайти, что никакие погони не помогут.V
Марья Петровна с первых моментов, как неизвестные маскированные люди открыли дверь в ее спальню и она убедилась, что, действительно, существуют разбойники, а следовательно, справедливы все слухи об исчезновении Ильичевского, — впала в бесчувственное состояние и так пребывала до тех пор, пока не открыли ей завязанного рта на отдаленном от Барсуковки постоялом дворе. Вместе с возвратившимися к ней чувствами к ней вернулось и сознание, что вот Гриша ее навсегда потерян, отец и брат, быть может, умерщвлены злодеями и сама она находится, конечно, между двух ужасных жребиев: быть убитой или опозоренной. В избе сидело двое замаскированных разбойников, хозяйка двора возилась у печи, да пищал младенец в зыбке. Марья Петровна жалостно вздохнула, обозрела в тоске двери, низкие окна, людей во дворе, выпрягавших лошадей, и, видя, что на бегство нет никакой надежды, начала, обращаясь к мужикам: — Чего вам надобно от меня, братцы? Зачем томите? Если жизнь моя — что же вы медлите? Если позор мой, то знайте, что только с мертвой сможете вы сделать то, что замыслили! Прошу вас об одном — вонзите мне в сердце этот нож! Родные мои, наверное, умучены вами, жених мой Гришенька от вашей руки пал — поспешите же соединить меня с ними! Видя, что те безмолвствуют — только дворничиха заслушалась ее, подперев ладонью щеку, — Марья Петровна снова начала с большим воодушевлением: — Может быть, вы ждете за меня выкупа, но кто же его даст, раз все, кому я была дорога и кто был дорог мне, погибли? Довершайте ваш удар, лишайте меня немедля этой несчастной и несносной жизни. Ах, Гришенька, радость моя, был бы ты около меня, ничего этого не приключилось бы! — И она залилась слезами, упавши на стол. Тогда один из сидевших подошел к девушке и сказал ей тихо: — Барышня, Марья Петровна, не убивайтесь так; Григорий Алексеевич сейчас сюда будут и все вам разъяснят. — Как он придет с того света, и почему я буду тебе верить, душегубу? Он снял маску и, улыбаясь безбородым лицом, промолвил: — Я — Василий, барышня, неужто не признали? Но затуманенные глаза Марьи Петровны плохо видели Василия, которого она и прежде-то еле знала в лицо. Покачав сомнительно головою, она задумчиво произнесла: — Откуда прийти ему? В эту минуту двери распахнулись, и высокий мужчина в маске, низко нагибаясь, бегом бросился к пленнице и заключил ее в объятия. Марья Петровна пронзительно крикнула, но тотчас смолкла, так как маска упала и она увидала близко от своего лица простодушный облик Григория Алексеевича. Отстранив его несколько рукою, она заговорила: — Как, ты жив, не погиб, не в плену? Что же это все означает: где мой отец и брат, почему эти маскарады и почему я здесь? — Чтобы быть со мною, навсегда со мною, милая моя! Иначе ничего нельзя было сделать! — Так что нападение, разбойники, кровопролитие… — Все обман, все одна видимость, радость моя! Но спеши, священник ждет нас, надо поспешить, пока родитель твой не отыскал нас. — Постойте, не будьте так поспешны, Григорий Алексеевич; я вовсе не собиралась за вас замуж, особенно после таких событий. Ильичевский смотрел растерянно: не он ли все так остроумно и рискованно устроил, и что же, что нужно этой непонятной девушке? — Но, Машенька, что же случилось? Родные твои живы и невредимы, я остался по-прежнему верен тебе и твоим клятвам, ничего не стоит между нами, что же тебя может удерживать? Марья Петровна долго сидела, задумавшись, наконец подняла на Ильичевского заплаканные глаза свои и, будто с трудом выговаривая слова, молвила: — Но вы забыли, Григорий Алексеевич, что я перечувствовала за это время: ведь взаперти, там я считала вас убитым и оплакала вас, теперь я считала, что жизнь моя и то, что дороже жизни, подвержены неминуемой опасности, что родные мои погибли, — все это, не бывшее на самом деле, для меня существовало в действительности, все это я пережила как правду и удивляюсь, как я жива осталась, что же удивительного, что и чувства мои несколько изменились? Григорий Алексеевич слушал так, будто Машенька говорила по-испански; наконец, тряхнув головой, он твердо вымолвил: — Конечно, ты в расстройстве, радость моя; я прошу прощенья, если доставил тебе беспокойства, избежать которых было невозможно, но я полагаю, что чувство любви усидчивое воробья, скачущего с ветки на ветку, и потому не отчаиваюсь в своем счастье. Теперь же я пойду говорить с твоим отцом, который приехал; я не хочу говорить при тебе, чтобы не расстраивать тебя еще больше и чтобы дать тебе время собрать рассеянные чувства. С этими словами он вышел, и Машенька осталась одна. Неизвестно, собирала ли она свои рассеянные чувства и о чем она думала, когда недвижно просидела все долгое время, пока враги-соседи объяснялись. Такою же неподвижной пребывала она, когда в избу вошли Петр Трифоныч, Илья Петрович и Ильичевский. Веселым голосом старый Барсуков заговорил: — Ну, Марья, видно, быть не по-вашему и не по-нашему, а выходить тебе за Ильичевского. — Я не пойду, — тихо ответила Машенька. Отец оглянулся, будто ослышался, потом заорал: — В беседки бегать, на постоялых дворах сидеть обнявшись — это твое дело, а под венец идти — нет? Плетью погоню! Даром, что ли, я с ним, еретиком, помирился? — Он обманщик, — еще тише молвила Маша. Старик рассмеялся: — Слышали это! Машкарадом недовольна? Так что же ты хочешь, чтобы все мы были перестреляны, а ты у разбойников в лапах сидела? Так суженый твой, поверь, и так разбойник изрядный. Тогда выступил Григорий Алексеевич, взял Марью Петровну за руку и сказал: — Неужели за минуту необходимой хитрости ты забыла все клятвы, поцелуи, сладкие часы любви — все, все? Верным другом и рабом буду я тебе. Неужели сердце в тебе одеревенело? — И он заплакал. Петр Трифоныч отвернулся к окну, а Машенька наклонилась к плачущему жениху и сказала: — Конечно, я люблю тебя по-прежнему и женой твоей быть согласна, но, ах, зачем все это приключение — пе более, как маскарадная шутка?ПОРТРЕТ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ
I
Как и следовало ожидать, «Женщина с зонтиком» обратила на себя внимание почти всех. Кто интересовался, почему картина, изображавшая даму, сидевшую за небольшим столом и поднявшую рюмку красного вина на свет, называется «Женщина с зонтиком», — и тщетно искал этого предмета на полотне. Кто восхищался нежными тонами ткани, лица, освещенного снизу, и красным звездистым отблеском света через вино на прозрачной руке. Кто высказывал свое мнение о красоте изображаемой дамы и делал догадки о ее происхождении, национальности и характере. Ее отношения к художнику тоже немало занимали праздное воображение зрителей. Кто она: жена, любовница, случайная модель, пожелавшая остаться неузнанной, или профессиональная натурщица? Это было трудно прочесть в чувственных и несколько надменных чертах высокой брюнетки, с низким лбом, прикрытым, к тому же, длинной челкой. Конечно, название могло бы легко счесться не за вызов (для этого было слишком незначительно), а за некоторую шалость, за желание подразнить публику. В углу картины, впрочем, был виден кусочек закрытого зонтика цвета «винной гущи», и, от цвета ли материи, от названия ли картины, хотелось видеть раскрытым этот зонтик за спиною дамы, чтобы он тоже наложил тяжелый красноватый оттенок на сидящую, вроде того, что вино бросало на ее тонкую руку, — так что, пожалуй, художник имел некоторое основание так ее отметить в каталоге. На самом деле эта дама не была ни натурщицей, ни эксцентричной заказчицей, ни женой и ни любовницей Дмитрия Петровича Рындина — она была женщиной, которую он любил. Она была из порядочного семейства, и если никому не была известна, то только потому, что долгое время, почти с детства, жила за границей. Он был еще начинающим художником и писал этюды в Швеции, там они и познакомились, и Феофания Яковлевна Быстрова увидела в его набросках то, чего не видели другие и чего не вполне сознавал даже он сам. Она будто открыла глаза художнику на всю значительность и остроту его таланта. С того и началась их дружба. Мать Феофании, или Фанни, как ее называли, редко выходила из дому, будучи все время больной и словно официально взяв на себя к тому же роль «несчастной женщины»; художник и барышня Быстрова, в качестве иностранцев, пользовались большой свободой — тай что никто не удивлялся, встречая их всегда вместе, будь то в маленьком зало провинциального курорта или на берегу моря, или в лесу, где Дмитрий Петрович сидел за мольбертом, а Фанни поодаль лежала на пледе с книжкой в руке, иногда читая, иногда смотря на высокие облака сквозь пушистые ветки. Меж ними велись долгие и разнообразные беседы, но не было сказано слова «люблю». Дмитрий Петрович знал это без слов и почему-то думал, что он сам также небезразличен для Фанни. И вот что странно: несмотря на то, что все это (ну, этот роман, если хотите) происходило летом, Рындину казалось, что стоит ясная, морозная зима. Иногда это впечатление было так сильно и ощутительно, что ему требовалось усилие воли, чтобы но предложить, например, своей спутнице побегать на лыжах. Вероятно, в лице, голосе, манерах девушки было что-нибудь, что напоминало зимний ясный день с солнцем, обещающим близкую золотую капель. Однажды Рындин был, как всегда, у Быстровых и собирался идти на этюды, как вдруг увидел через широкое окно в мелких клетках, что все небо с моря растушевано большой рваной тучей. — Пойдет дождь, пожалуй! — сказал он задумчиво. — Если пойдет дождь, это будет надолго! — ответила стоявшая у того же окна Фанни. Дмитрию Петровичу вдруг показалось, что он говорит совсем не о дожде и что девушка это знает. Так что он имел в виду совсем не погоду, когда продолжал: — Вы думаете? — Я уверена в этом. Конечно, Фанни догадалась, о чем говорил художник, потому что, нисколько не удивившись тому, что он вдруг поцеловал ее руку, чего он прежде никогда не делал, она протянула ему и другую, свободную, улыбаясь, меж тем как косой ливень сразу залил клетчатое стекло и рваные края посеревшей тучи вытянулись в ровную линию. Вот и все, что было. С тех пор Феофания Яковлевна заменила Рындину все: друзей, товарищей, родных, учителей, была ему сестрой, вдохновительницей и желанной возлюбленной, о которой вздыхают. Переезд в столицу мало изменил их жизнь: они так же почти все время находились вместе, тем более, что Дмитрий Петрович начал портрет Фанни. На этот портрет они оба возлагали большие надежды, справедливо рассчитывая, что он сразу выдвинет молодого художника, даст ему имя и бодрое, веселое желание работать дальше. Феофания Яковлевна так волновалась, так заботилась, чтобы уверенность не покидала Рындина, давала ему столько советов, так неутомимо позировала иногда по семи часов в сутки, что могла считаться автором произведения почти в такой же мере, как и сам художник. Наконец, картина была окончена. Фанни долго смотрела, будто не на свое изображение, на надменную слегка, такую странную и прекрасную даму, державшую на свет бокал красного вина, и тихо молвила: — Так вот я какая! Рындин озабоченно заговорил: — Разве вы находите, что не похоже? Может быть, в данную минуту вы и не совсем такая, но я хотел показать вас настоящею, такою, какою я вас вижу и вас люблю! Сказал и испугался. Но Быстрова, не отводя глаз от полотна, улыбнулась и прошептала по-прежнему тихо: — Да, вы меня любите, я это вижу. И вы знаете, что я вас также люблю, вас и ваш талант, ваш гений, — и это навсегда, что бы ни случилось! — Но что же может случиться? — Не знаю. По-моему, ничего дурного не произойдет. Вас ждет удача и слава! Действительно, ничего дурного пе произошло, публика и критика сразу обратили внимание на «Женщину с зонтиком», и Рындин впервые жадно глотал сладкую отраву успеха. Фанни не делила открыто торжества своего художника, так как отчасти по просьбе матери, отчасти по собственному желанию она нигде не появлялась с Дмитрием Петровичем, сохраняя свое положение вдохновительницы только для самой интимной, сердечной жизни. Она не была даже на открытии выставки и только из газетных заметок да рассказов самого Рындина знала об «их» торжестве. Она отправилась посмотреть на свой портрет лишь через три-четыре дня утром, чтобы было меньше публики. Но кое-какой народ все-таки был. Феофания Яковлевна села на стул у окна, спиной к свету, и долго смотрела, будто в первый раз видела эту даму, за которой так хотелось бы увидеть распущенным зонтик «винной гущи», с удивлением и восторгом узнавая в ней себя. Фанни блаженно размечталась, как вдруг ее вернули к действительности чьи-то голоса. Перед картиной стояли молодой человек и дама или барышня. Сидевшей они, по-видимому, не замечали. Господин говорил: — Великолепно! А дама ему отвечала: — Картина, безусловно, прекрасна, но какая противная изображена особа, вульгарная кривляка. Она воображает, что тут есть усталая чувственность, загадочность, демонизм! Ничего подобного: одна поза. Вы думаете, я не знаю всех этих устарелых штучек? Отлично знаю! Им — грошь цена. — Вы — строгая! Может быть, на самом деле эта дама совсем не такая, как вы думаете. — Я не знаю, может быть. Я вижу только, что изобразил художник, как он ее видел, а какая она на самом деле, я не знаю, да это и не важно. Так как картина прекрасна, она останется навсегда такою вульгарной позеркой. А сама эта дама, Бог с ней! Умрет она — и кто о ней вспомнит? Только близкие. — Боже мой, какие у вас мрачные мысли! — Ну, поедемте, Сережа: пора завтракать; мама будет сердиться, если мы опоздаем. Они ушли с легким сердцем куда-то завтракать, где их ждала мама, а Феофания Яковлевна все сидела у окна, словно не видя уже других посетителей, которые проходили мимо, останавливались на минуту-две перед «Женщиной с зонтиком». Весеннее солнце больно припекало ей затылок, и сквозь раскрытую в соседней зале форточку было слышно, как ворковали голуби. Выждав, когда перед картиной никого не было, Фанни вплотную подошла к ней и, нахмурясь, долго смотрела па даму, поднявшую красный бокал.II
Дмитрий Петровиче таким эгоистическим нетерпением ожидал, когда вернется с выставки Фанни, что даже не заметил, как бледна и непохожа сама на себя была вернувшаяся. — Ну как? Видела? Много народа? Не правда ли, нс дома, в официальном, так сказать, месте картина имеет совсем другой вид? — говорил он, не дожидаясь ответов и не помогая девушке раздеться. Впрочем, она, по-видимому, и не собиралась снимать пальто и шляпы, даже не подняла вуалетки, из-под которой странно блестели блуждающие глаза. — Теперь у меня колоссальный план большой картины, и вы поможете мне его разработать. Если бы вы знали, как я вам благодарен, как люблю вас, Фанни! Но что с вами? Отчего вы молчите и, вообще, какая-то странная? — Вы меня совсем не любите! — тихо и горестно сказала девушка. — То есть как это не люблю? — Вы меня совсем не любите! — повторила еще раз Феофания Яковлевна и вдруг заплакала. Рындин казался упавшим с неба. Наконец, Фанни рассказала о случае на выставке. Художник вспылил. — Мало ли на свете идиотов! Охота обращать внимание на их слова! — Дело в том, что я потом сама долго смотрела и нашла, что эти идиоты были совершенно правы. Я там изображена противной кривлякой. — Но почему, почему? В чем это видно? Что вы приподняли бокал с вином и красный блик на руке?.. Но мы же вместе придумали эту позу, и нам она казалась очень красивой… В чем же? — Во всем: в выражении, в позе, даже в чертах. Значит, вы меня такою считаете, такою видите… Следовательно, вы меня не любите, даже презираете. А между тем, вы знаете, что вы для меня были — все. Вы знаете, как я относилась к вам, к вашему искусству. Рындин стоял, кусая губы в недоумении, наконец, начал: — Это все вздор. Я так люблю вас, что не может быть речи о другом. Это все праздные фантазии. Я думаю только, как вы хоть минуту могли подумать, что эти идиоты правы. — Я сама это проверила, и сама себя нашла на вашем портрете отвратительной. — Боже мой! Вы же знаете, что там выражены все мои мечты о любви и красоте, которая для меня заключена в вас одной, только в вас! — Я видела эти мечты, и все видели — Но вы знаете меня. Неужели то, что вы повторяете с чужих слов, сколько-нибудь похоже на меня, на мое отношение к вам? — Значит, вы выразили в вашей картине не то, что хотели. Рындин молча взглянул на девушку и опустил глаза. Девушка, слегка усмехнувшись, продолжала: — Вы не обижайтесь, Дмитрий Петрович, но вот что я скажу: или вы меня не любите и совсем не понимаете, или… портрет не так удачен, как нам казалось… Не дав ему возразить, она быстро подошла к нему и заговорила вкрадчиво: — Ведь это не умаляет вашего таланта — у кого не случалось неудачных вещей? Особенно первая вещь… Притом никто но знает о вашей неудаче, всем картина нравится, только мы двое понимаем, чего там недостает Мы будем работать, вы напишете другую картину, лучшую, которою будем гордиться с открытым сердцем. — Нет, картина хороша, я знаю это. — Не упрямьтесь, это вас недостойно… Снимите с выставки эту неудачную вещь… — Что? Снять с выставки? Ни за что! — И вы говорите, что вы меня любите? — Я вас люблю, но не согласен исполнить пустые капризы. Вы можете ошибаться. — Нет, я не ошибаюсь: картина отвратительна, печально промолвила Фанни, очевидно,совершенно не ожидая взрыва, который произведут ее слова. Рындин вскочил и принялся бегать по комнате. — Боже мой, как я ошибался! Кто мог предполагать, что одно пустое тщеславие руководило вами все время чисто женское желание прославиться на чужой счет. Что вам за дело до меня, до моего таланта, раз он не служит вашей славе? Теперь мне все понятно: и ваше внимание, и ваша дружба, и советы, и так называемая любовь! Они исчезают от первых слов глупца, показавшихся вам оскорбительными. — Вы меня опозорили! — тихо сказала Фанни, освобождая свою руку. — Я вас обессмертил! — Но будем спорить. Вопрос решится очень просто. Желаете вы снять вашу картину с выставки? — Не желаю. — Отлично. Тогда мне нечего больше говорить. До свиданья! — До свиданья! — Не до свидания, а прощайте! Это навсегда… — Прощайте! Но не поспела девушка дойти до двери, как Рындин ее окликнул: — Фанни! — Ну что? — Фанни, подумайте, ведь я же люблю вас, вы мне кажетесь необходимой! Жизнь надолго померкнет для меня без вас. Феофания с порога спокойно спросила: — Снимете картину? — Прощайте! — закричал художник и так быстро закрыл дверь, что чуть не прихлопнул подола Феофании Яковлевны.III
Барышня с Сережей к завтраку не опоздали, хотя шли пешком через лужи, в которых синими кусочками небо разбросалось по мостовой. Мама не сердилась и расспрашивала про выставку и про «Женщину с зонтиком». — Ты, Зина, несправедлива, — говорил молодой человек, — не только картина превосходная, но и дама, изображенная на ней, прелестна, вовсе не пошлая кривляка. В ней столько девственной чувственности, сдержанной силы и какой-то влекущей загадочности, что просто надо удивляться, где он такую нашел. Наверное, прикрасил. — Неужели ты думаешь, что я не поняла всего этого. Дело в том, что ты не заметил, там как раз сидела эта дама, с которой писан портрет. Я с нею незнакома, но узнала ее тотчас. Мне почему-то показалось смешным, что сидит и смотрит на собственный портрет, и мне захотелось ее подразнить. Конечно, шалость. — А ты думаешь, она слышала? — Уверена в этом. Помолчав, Сережа заметил: — А вдруг она обиделась, и выйдет у нее с художником какая-нибудь неприятность? — Если она понимает искусство, умна и любит художника, конечно, она поймет, что я говорила вздор, — а если она обидчивая дура, то Рындину не большая потеря, если она и поссорится с ним. — Трудно судить. — У артистов сердце легко, и во всех сердечных бедах искусство под рукой. Затем Зина засмеялась. — Я так рада, Сережа, что ты у нас не художник, не поэт, а просто молодой человек и меня любишь. — Спокойнее? — Вот, вот.Б. А. САДОВСКОЙ

ЧЕРТЫ ИЗ ЖИЗНИ МОЕЙ
Ольге Геннадьевне Чубаровой
(Памятные записки гвардии капитана А. И. Лихутина, писанные им в городе Курмыше, в 1807 году)
Часть первая
Судьба так положила, что счастьем всей жизни моей обязан я покойному благодетелю, Светлейшему Князю Григорию Александровичу. Единственно ему я одолжен как удачливым прохождением службы и умножением достатка, так и блаженством счастия супружеского. Сим воспоминанием великодушному покровителю возлагаю на гробницу признательный венок. Покойный родитель мой, Иван Прокопьевич, служил в конной гвардии еще при Государыне Елисавете. При нем Светлейший и службу начал, поступи в оный полк рейтаром. Батюшке тогда было лет поболее тридцати; Светлейший же был его гораздо младше. Однако старательностью и усердием по службе превосходил он многих, за что на третий год произведен в капралы. Как батюшка, гнушаясь пустого чванства, подчиненным людям оказывал снисхождение, то скоро и капрал Потемкин стал к нему за всякое время вхож. Годами пятью позднее соединился с ними старый Потемкина товарищ, Василий Петрович Петров. Сей последний приехал из Москвы искать счастия в Петербурге, но, путного не найдя и исхарчившись даром, проживал на иждивении приятеля. Имя Петрова вовеки не забудет Камена русская. Скоро три сии друга стали неразлучны. Батюшка не однажды потом вспоминал, как, бывало, почасту собирались они втроем, проваживая досужие часы в чтении и беседах. Щелкая за круглым столом орехи, в зимние долгие вечера за самоваром коротали они время. У батюшки и тогда не водилось ни вина, ни карт. Скоро обстоятельства их разъединили. Старший из троих друзей, утомясь службою, тотчас по кончине Государя Петра III взял отставку и поселился близ Симбирскова в родовой деревне; середний стяжал славу великого пиита при дворе Великой Екатерины; младшего же слепая Фортуна вознесла на несказанную степень почестей и славы. В сем случае, однако ж, оная возливая баловница не завязывала себе очей, ибо заслуги Светлейшего перед Отечеством и Монархиней по справедливости пребудут незабвенны. В 1779 году минуло мне шестнадцать лет. Батюшка снарядил меня в Петербург на службу. Благословя меня материнским образом Скоропослушницы (матушка скончалась, когда мне шел второй год), взял он с меня клятвенное обещание честно служить и помнить присягу, паче же всего удаляться развратного сообщества и картежной игры. Засим вручил он мне письмо к Светлейшему. По зимней дороге в две недели приехал я в столицу. Продолжительность сей поездки нимало меня не утомила. Днем развлекали мой путь станции и постоялые дворы, где много свел я приятных знакомств. По ночам луна сияла над снеговой равниной. Под звон колокольчика, слушая ямщицкие песни да вой волков, летел я, дремля, в кибитке. К Светлейшему на прием отправился я на третий день по приезде. Смятенный и оробелый, быв еще в ту пору совершенным деревенским недорослем, взошел я, озираясь, в пышную приемную. Княжеский секретарь, подошедши, учтиво опросил, кто я, откудова и по какой надобности прибыл; ответы мои занеслись на особый лист. Смиренно став в дверях, видел я множество вельмож и генералов, из коих иные спесиво и с небрежением на меня взирали. И немудрено: в деревенском коричневом кафтане и шерстяных чулках, с примазанной маслом косою, опустя руки, неприглядную, должно быть, являл я фигуру. Прием еще не начинался. Незапно дверь из кабинета распахнулась, и вот Князь в собольем шлафроке вышел в залу. Все с поклонами засуетились. Князь, не глядя ни на кого, пошел прямо ко мне. Я обмер. Положа руку мне на плечо, вымолвил: «Ты Лихутин?» От незапности потерял я голос и стоял, зардевшись, но Князь, взяв меня за руку: «Ступай за мною», — и привел меня в кабинет. Там спрошен я был о здоровье батюшкином, и который мне год, и в каком полку служить желаю. Тут только вспомнил я, что у меня за пазухою батюшкино письмо. Князь, прочтя, с веселым лицом ко мне обратился: — Ну, поди да запишись у Василия Степаныча, где стоишь, а после я за тобой пришлю. Обеспамятев от радости, наклонился я поцеловать руку его Светлости и прытко, едва не бегом, устремился в залу, где давешние генералы не по-давешнему предо мною расступились. Теперь мой настал черед взглянуть на них с высокомерием. Воротясь к себе на постоялый двор, через два дня известился я о зачислении меня копной гвардии в сержанты. Таково было начало житейскому поприщу моему. Батюшка отменно был доволен, когда я отписал ему о своей удаче. В конной гвардии прослужил я все восемь лет, не щадя сил, как то мне здоровье дозволяло. Ровно чрез год по поступлении произведен я в корнеты. Столичная моя жизнь протекала мирно. Свободные от службы часы проводил я на прогулках либо в придворном театре. В полковых пирах не участвовал, памятуя слово, данное родителю. Однажды только не соблюл я правила свои, за что едва головою не поплатился. В сем случае вижу единственно мудрую руку провидения, которая отвела меня от беды. Не преминую описать, как все сие происходило. Однажды на Масляной зашел я под вечер в известный трактир Орлова, что близ полковых казарм. Быв голоден, спросил себе квасу и рубцов. О бок со мной рябой приказный из сенатской канцелярии пожирал поросенка с кашей. Найдя верный случай со мною заговорить, сказался он мне сибирским земляком, отозвался, что и родителя знает, и за здравие его просил меня покалом вина. Я было отпирался, помня батюшкин завет, но скоро, рассуди, что от одного покала большого вреда не будет, послушался и хлебнул. За одним покалом прошел и другой, и третий. Скоро в голове у меня порядком зашумело. Тогда сенатский приказный вынул колоду карт и в задней комнате стал меня учить банку, примолви: «Кто сей игры пе разумеет, тот гвардии офицером быть не может». Затем, собрав карты, объявил, что я-де проиграл ему пять червонных. На сие я ответствовал, что таковых денег с собою не имею, да когда б и имел, то ему бы не отдал. Не поверя словам, полез он ко мне силой в карман. Я его отпихнул. Слово за слово, начал он браниться: «Какой-де ты дворянин, коли играть без денег садишься?» Я, осердясь, взялся за палаш. Приказный, приметя, что на нас из дверей смотрят, заголосил на помощь. Люди было схватились за меня; я не уступал, и все сие происшествие сулило мне худой конец. В то самое время, вижу, подходит ко мне человек почтенных лет, изрядно одетый и собою видный. Растолкав народ, крикнул он грозно на приказного и взял меня за руку из трактира. На улице он мне сказал: — Только жалея твое малолетство, не хотел я, чтоб ты из-за пустого дела звания своего лишился. Когда б командиры твои сведали о сем, то пе избежать бы тебе лихой кары. Я стал его благодарить. Не отвечая, спросил он, какая фамилия моя. Когда я сказал ему, что Лихутин, он с живостью, остановись, вскричал: — Не Ивана ли Прокопьевича сын? Я его вопросил, откуда родителя моего знает. Что ж оказалось? Что сей любивый незнакомец есть не иной кто, как Василий Петрович Петров. Тут со слезами поведал я ему о нарушенном пред родителем долге. В нечаянной сей встрече вижу доселе явственный перст Божий. С того вечера и до конца службы пребыл я верен слову моему, а наутро ходил в часовню служить молебен Ангелу Хранителю. Краткое знакомство с почтенным Василием Петровичем составило в моей жизни памятный эпок. Им был научен я, какие мне должно читать книги, а не в долгом времени с помощью его уразумел и французский, и английский язык. Не однажды Василий Петрович читывал предо мной громозвучные свои оды. Я внимал ему с трепетом восторга. Гораздо после, прочетши Державина, я не нашел в последнем того вкусу. Державин, Ломоносову подражая, в парении весьма единообразен. Василий же Петрович в песнопениях ширял орлом, побеждая Державина и прочих пиитов красотою и прихотливостью слога. Без пристрастия скажу, что Василия Петровича стихи всегда всех более меня воспламеняли. К великому моему огорчению летом того же года расстался я навсегда с сим почтенным любимцем Муз. Семьсот восемьдесят седьмой год отметился в жизни моей двумя неизгладимыми чертами. Седьмого генваря постигло меня великое горе: родитель, оставя меня круглым сиротою, скончался па седьмом десятке жития своего. К тому времени исполнилось мне двадцать четыре года. Я было собирался просить отставки для устроения дел домашних, но, видно, судьбе не того хотелось. Воротясь с сорокоуста по батюшке, нашел я у себя на столе приказ: сопровождать мне с прочими Императрицу при путешествии Ее Величества в южные губернии. Теперь долгом считаю, отступая, изъяснить, какая другая черта в моей памяти тот год запечатлела. Как гвардии офицер имел я выезд ко всем придворным балам. Сии достопамятные увеселения открывались всегда в присутствии самой Императрицы. В одеянии не пышном, но величавом, в сопровождении некоторых вельмож, изволила Она созерцать пляшущих с особого возвышения. Пред Ней проходили польский и минует. Когда же Государыня, довольно обозрев гостей, царственною своею поступью удалялась в апартаменты, тогда начинались и прочие все танцы. Не имея большой охоты к сему пустому занятию, любил я следить из-за колонны прохождение прекрасных дам. Между ними приметил я одну, которой взор оказался для меня пагубней Купидоновой стрелы. То была фрейлина Императрицы, девица Чибисова. Невысокого росту, с гибким станом соединяла она стройность легкой походки. Пышные волосы, быв напудрены и оттого белы, как снег, вздымались над челом подобно замерзшему водопаду. Всего же прелестнее были черные пристальные очи под тонкими бровями и розовые уста, осененные лукавой мушкой. Будучи от природы нрава скромного, я долго не отважился пройти с нею польский и, только насилу преодолев себя, решился. Когда легкая ручка ее легла на мою перчатку, я как бы остался без чувств и голосу, ибо, обойдя полный круг, не имел, о чем сказать. Так в молчании свершили мы танец, хотя красавица не однажды благосклонно взметывала на меня черные взоры. В тот вечер решилась моя участь. Красавица Аиста сердце мое навеки покорила. В карауле, на ученье, дома только одну ее видел я в мечтах моих. Жизнь без нее мне опостылела; в бездействии я скукою томился. Одна любезная надежда дожить до нового балу меня оживляла; но пришел бал, за ним другой — и ни там, ни тут не было Анеты. Я не знал, что придумать. Только на третьем, маскарадном балу увидел я мою богиню, столь же прелестную, как и всегда. Однако, идучи с нею минует, я приметил, что веки ее припухли и розовая улыбка покинула скорбные уста. Осмелившись, вопросил: — Прилично ли нимфе с печальным ликом веселию предаваться? На что дама моя ответствовала голосом свирели: — Горести и нимф не оставляют. Чем разговор наш кончился. Между тем приближался день отбытия Императрицы в Тавриду. Нетерпеливо помышлял я о долгом пути, наскуча бездельным ожиданием и разлучась с Анетой. Дни текли, схожие один с другим. Любовь моя отчасу разгоралась. Всякий вечер, напудрясь и подвив старательно белые букли, в новом мундире, шел я, гремя, мощеной улицей к заветному домику на Мойке. Там с тетушкою жила прекрасная Анета. В окошко тщился я хотя бы одним глазом увидеть мою очаровательницу — напрасно: судьба и тут оказывала мне непреклонное жестокосердие.Часть вторая
Не по-пустому сказано, что счастье там нас ждет, где его обрести не чаем. Со стесненным сердцем покинул я Петербург, устремляясь в южные края, но сколь печален был отъезд, столь радостно было путешествие. Оставляю описывать в точности весь путь; скажу лишь, что неоглядные дороги и поля весьма меня утомили. Через несколько дней пути громады дальних лесов, синими зубцами темнившие небосклон, разошлись подобно облакам. Наместо их ровная чистая степь нас окружила. По Днепру поплыли мы на пышных галерах, быв неумолчно приветствуемы с берегов пальбою и кликами народа. От Киева Светлейший присоединился к поезду. Как на галерах пришлось нам влачиться немало дней, то к развлечению путников прилагались всяческие меры. На наибольшей из галер, «Десне», Светлейший всякий день давал роскошные обеды, на коих хозяйствовать изволила сама Императрица. К сим обедам приглашаемы бывали по очереди все бывшие в свите. В один погожий апрельский день удостоился и я почетного зову. Императрица, вошед в столовую, приветствовала собравшихся милостливым поклоном. Одеянием Ее было перувьеневое платье молдаванского фасону и гродетуровый чепец. Ясное чело, голубые очи и ласковая улыбка восторгали сердце. По левую руку Государыни воссел Светлейший, по правую — Александр Андреевич Безбородко, что после был графом. Оба сии вельможи являли собой прямое различие. Князь станом и лицом подобился Аполлону. Темные кудри пышно вились над возвышенным его челом. Щуря приветливо молниеносный взор, в жаркой беседе взмахивал он алмазною табакеркой и оттого сыпал табак Государыне на платье и себе на камзол. Граф Безбородко, сложения грубого и на подъем тяжелый, слушал Князя разиня рот, с медленностью, свойственною малороссиянам. Однако и он вовремя произнесенным словом неоднократно обращал к себе милостивое внимание Монархини. Когда по приглашению Государыни пошли все за стол садиться, придворный лакей на конце указал мне место. В задумчивости за стул взявшись, взглянул я на соседку мою и едва громко пе ахнул: то была Анета. До последнего часу не знал я о нахождении ее в свите. Как ни был я в чувствах взволнован, однако приметил, что и ей увидеть меня не вовсе неприятно было. Разговор не замешкался, и до конца обеда мы с Анетою о многом договорились. Как вдруг посередине живой беседы Анета потупила взор и, дрогнув, смутилась. Дабы я сего не заметил, тотчас с двойной веселостью продолжала прерванную речь. Когда обнесли кофий, Государыня изволила встать и подняться кверху, а за Нею все. С палубы открылось нам восхитительное позорище. В сей день как бы сама природа убралась во сретение Семирамиды Северной*. С берегов весенние пролетные птицы оглушали пас криками и свистом; несметные стаи уток и журавлей до того огромны были, что, мнилось, стояли недвижными тучами над Днепром. Вечера розовые краски, потемнев, предвещали ясную лазоревую ночь. Я было собирался пойти к Анете, дабы наречь ее Дианою грядущей ночи, когда, оборотясь, увидел красавицу мою на корме с самим Светлейшим. Князь, вымолви несколько слов, отошел с улыбкою. Анета в ответ ему склонилась церемонным поклоном, и бледность вновь покрыла томное чело. Князь, между тем, отошед к Государыне, задумался и, приставя к носу табакерку, созерцал восходившую багряную луну. Отчего, не знаю, сердце мое незапной тоскою сжалось. Впервые со дня смерти батюшкиной сознал я вполне свое сиротство; мысль об одиночестве средь целого мира меня ужаснула. Долго стоял я недвижим, взирая на струистые воды, серебрившиеся в тонком сумраке. Соловьи заливались в туманных берегах; ночная птица, налетев, едва крылом не сбила с меня шляпу. Тому вечеру минуло двадцать лет, но все описанное так мне памятно, как бы вчера еще оное совершилось. С того часу Фортуна ко мне оборотилась передом. Всякий день виделся я с Анетой, и счастливым случаем беседы наши не прерывались. Мы беседовали о чувствах, о театре, о вестях придворных, по усерднее всего сводил я речь на прелести жизни сельской. Я твердо положил, воротясь в Петербург и увольнившись от службы, тотчас уехать к себе в деревню. Но еще того тверже с каждым часом укоренялась во мне мысль навеки соединиться с Апетой. Мысленно я видел себя в объятиях доброй подруги, окруженного лаской и заботами семейными. Поселясь в Лихутине, намеревался я на досуге предаться хозяйству, к чему имел всегда решительную склонность. С самой кончины родителя не знал я точно, велик ли мой доход и благоденствует ли вотчина, преданная на добрую волю старосты и бурмистра. В мечтах и беседах неприметно летело время. Той порой медленные галеры сменились дорожными рыдванами, которые понесли нас по необозримым степям южным. Легче ветра мчались мы на борзых конях, утопая в степной траве. То вылетали мы вдруг к распаханной черной ниве, где пахарь мирно водил трудолюбивых волов; то неслись по заросшей дороге, проложенной, как сказывали ямщики, запорожской вольницей; инде мелькали белые казачьи хутора; здесь мельница приветно взмахивала четырьмя крылами. Щедрая Фортуна везде устроила так, что и на дорожных привалах мы с Анетой не разлучались. В Херсоне, идучи от обедни, объяснился я Анете в чувствах. Услыша признание мое, она залилась слезами. После просила дать ей на размышление малый срок. Упреждая решительный ответ, в тот же день, вздумал я пойти к Светлейшему ради ускорения отставки. Нежданно сам от него получаю приказ явиться. Светлейшего застал я во совершенном дезабилье, отдыхающим на софе, и в добром расположении нрава. Последнее явствовало из оказанного мне ласкового приема. Первым делом Светлейший спросил о батюшкином здоровье. — Батюшка скончался, — отвечал я. Князь поник львиною главой. — Давно ли? — О Крещении, ваша Светлость. — Царствие ему небесное! Он был человек добрый, прямо русский. Такого теперь не сыщешь. Ты только старайся быть его достоин, а я тебя, Саша, не забуду. Движимый чувством признательности, со слезами поцеловал я князя в плечо. — Я тебя хочу послать в Карасубазар передовым для устроения фейерверка, — сказал мне Светлейший. — Что скажешь? — Ваша Светлость, соизвольте выслушать нижайшую просьбу. — Говори. Тут изъяснил я Князю, что прошу отставки, дабы отцово имение не впало в расстройство. Князь, выслушав, кивнул мне благосклонно. — Просьба твоя имеет должный резон. Дворянипу надлежит служить отечеству не токмо мечом, но и плугом. Увольняться тебе нет препятствий. Л я попрошу Государыню наградить тебя за службу. Я с жаром благодарил его Светлость и просил замолвить слово Государыне о женитьбе моей на одной Ее фрейлине. Князь и тут изъявил согласие, примолви, что сам па свадьбе у меня посаженым будет. — А как зовут твою фрейлину? — Чибисова, ваша Светлость. — Чибисова? Князь при сем слове, подняв голову, вдруг пристально в меня воззрился. — Так ты на Чибисовой жениться хочешь? Слова сии Князь вымолвил медленно, глаз с меня не спуская. — Точно так. Поднявшись внезапно с дивана во весь геркулесов рост, Светлейший, шлепая туфлями, пошел к окну. Оборотись спиной, стекло царапая перстнем, спросил, помолчав: — А она знает? — Знает, ваша Светлость. Отчего, не знаю, сердце во мне защемило. Князь все молчал. Потом заговорил глухо: — Хорош щенок… Из молодых, вишь, да ранний! Пойдешь далеко. И ты — сын друга моего! Ах, ты!., (прочих слов Князя на бумаге передать нельзя). Я свету не взвидел. Вся комната как бы в тумане закружилась; видел я одну исполинскую фигуру Светлейшего в турецком голубом халате. Вдруг, повернувшись, крикнул он мне грозно: — Пошел отсюдова вон! Не помню, как дошел я до дому, как весь день тот дожил. Не столь страшил меня гнев Светлейшего, сколь мысль, что я в его глазах отныне презренным почитаюсь. Я никак втолковать себе не мог, чем я пред ним так прослужился и за что несу тяжкую обиду. Светлейшего чтил я благодарно, как отца родного; его приязнь с батюшкой, его отеческая ко мне нежность — все сие было мне дороже почестей и наград. И всего так вдруг лишиться! К вечеру приметнулась ко мне лихорадка с бредом. Призванный лекарь бросил кровь, и наутро я пробудился телом здравый, духом — на одре смерти. Вдруг слышу стук в сенях, и вот ординарец Светлейшего меня спрашивает. Я затрепетал. Вруна мне две бумаги, посланный удалился. Дрожащею рукою развернул я роковые листы. В одном написан был приказ ехать мне немедля в Петербург совместно с невестой, бывшей фрейлиной Ее Величества Чибисовой; в другом значилось всемилостивейшее увольнение меня от службы с чином гвардии капитана и с пожалованием мне на свадьбу трехсот душ.Часть третья
Нрав Анеты долго являл для меня непостижимую загадку. Во всю дорогу до самого Петербурга не осушала она очей. Не однажды я пускался допрашивать ее; умолял открыть тайну ее печали; не оттого ли она так грустна, что за меня, выходит; увещал, что слово взять назад никогда не поздно. На таковые мои слова Анета ответствовала улыбкою сквозь слезы, потом с живостью уверяла, что я — ее самый верный друг, что добрее меня никто не сыщется в свете. Обнадеженный нежными речами, я отдыхал душою, но ненадолго: скоро тихие рыдания опять слышались из угла кареты. Из Петербурга, устроясь с делами, не мешкая, выехали мы в Москву, навсегда оставя северную столицу. В Москве же совершилась наша свадьба в приходе Успения, на Арбате, мая пятнадцатого дня. После свадьбы поселились мы в доме приходского дьякона. Сей дом сгорел в 1792 году. Для меня он, хотя и деревянный, дороже был каменных хором, ибо в простых его стенах впервые в жизни познал я счастье, высочайшее на земле. Дряхлый Сатурн, между тем, неустанно мчался на седых крыльях, точа вечную свою косу. Пора приходила уезжать в деревню. Я объявил Анете решение мое. Надобно было теперь избрать нам, где поселиться. Меня влекло в старое Лихутино. Как бы в тумане всплывали предо мною высокие волжские берега с расшивами и шкунами; быстрые паруса; веселые песни бурлаков; псовая и ястребиная охота, к которой я еще в ребячестве при покойном батюшке пристрастился; старый дикий сад и дом, строенный дедом во дни Петра Великого, где бутыли с наливками на окнах и перепелиные клетки под потолком с детских лет у меня в уме запечатлелись. Анета звала в новую Александровку, пожалованную Императрицей, прельщая меня красотами новых мест, коих живописный воздух необходимо нужен был для ее ослабелой груди. Чтоб покончить пате сомнение, решили мы бросить жребий. Судьба указала Александровну. Так еще два года суждено мне было не видеть родины моей. К зиме отстроили мы дом, убрав его со всею роскошью, как нам то достатки позволяли. На другое лето никто бы не узнал сих недавно еще пустынных мест. Небольшой белый дом воздвигся над быстрой речкой. По комнатам расставились красного дерева кресла и столы, стены украсили живописные картины. Из светлых окон взорам открывался молодой сад. Липы и клены бежали легкими дорожками вокруг узкого пруда, за ними гордо воздымались серебряные тополя. Далее яблони торчали рядами, суля обилие наливных плодов; над пестрым цветником чеканный эродий струил из медного носа ключевую воду. Анета была добрым гением нашего хозяйства: оно цвело под неусыпным ее надзором. Я не узнавал ее: бледность покинула милые ланиты; их озарил румянец, знойный, как украинское лето. Ласки ее ко мне непрерывно умножались. Два года неслышно пролетели сладким, блаженным сновидением. Сколь памятны мне зимние вечера в нашей уютной зале! В канделябрах, дрожа, мерцали свечи, трепетно колебля по стенам голубые тени. Пред трескучим камином сиживал я в покойных креслах, созерцая змеистые переливы синего и золотого пламени. Анета за клавесином пела. Образ ее посейчас, как живой, предо мною: помню прекрасное, восторгом сиявшее лицо; кольцом дрожащий над бровью черный локон и звонкое пение, томившее негою невыразимой. Тетушка тою порой за угловым столиком раскладывала пасьянсы, а в столовой люди гремели тарелками, накрывая ужин. Еще памятнее в уме моем летние дни в саду. Над прудом на зеленой скамье отдыхали мы с Анетой, упоенные зноем долгого полудня. В жаркой тишине звенели клики хохлатых удодов; иволга порой нежно проигрывала на своей флейте. Ввечеру мы об руку обходили сад; осеянные золотом и пламенем заката, долго смотрели вослед уходящему светилу. Печалью тихой и сладостной томилось сердце: мнилось, солнце за собой жизнь уводило. Пятнадцатого мая нашему счастью минуло два года (тетушки уж не было с нами: она преставилась в самое Рождество). После молебна мы с гостями сели на стол. Ближний наш сосед, секунд-майор Кикин, немолодой и пребрюхий поклонник Бахуса, провозглася хозяйкино здоровье, нечаянно сронил рукавом покал и вино все до капли разлил. Таковая оплошность весьма расстроила Анету. Только она за ужином стала помалу развеселяться, новое несчастье: собака цепная на дворе завыла. Со страхом ждал я третьей роковой приметы. Гости скоро после ужина начали разъезжаться. Удрученный тайным предчувствием, наскоро распорядясь по хозяйству, пошел я в спальню. Анета была уже в постели. Закрыв глаза, она не спала; в молчании лег и я, не тревожа ее словами. Светало, когда я пробудился. Мне не спалось; в халате я подошел к окну, посмотреть, какова погода. День предвещал быть ясным; в облаке утреннего тумана едва выказывались верхушки тополей. Незапно почудилось мне, что у нас в доме поднялся необычный для раннего часу шум. Я прислушался: как бы все слуги бегают и сумятятся в прихожей. Мне вспало на ум, что в доме у нас пожар; я оглянулся на Анету: она дышала бережно и ровно. Я же не хотел ее будить, как в дверях услышал шептанье старого дядьки моего, Созонта. Наскоро он мне доложил, что некий проезжий генерал, богатый и с обозом, сломал по дороге колесо и хочет у нас остановиться, покудова кузнец ось сварит. Я, распорядясь просить проезжего в гостиную, стал спешно одеваться. Второпях, схватя кафтан, размахнулся я полою и сшиб со стола зеркальце Ане-ты. Оно на мелкие куски разлетелось. От стука Анета пробудилась и, увидя па полу осколки, молча закрыла глаза руками. У меня сердце перевернулось. Так совершилась и третья примета. Между тем, одевшись, я поспешил в гостиную. В ней несколько офицеров раскладывали наспех походную кровать. Лица иных показались мне знакомы. Не успел я вызнать, кто сии нежданные гости, как в прихожей задвигались тяжелые шаги и проезжий генерал, вошед, остановился на пороге. Я тотчас признал Светлейшего, хотя он был заспан и небрит. Воспоминание последней нашей встречи так живо предстало моему воображению, что я готов был бежать из своего дому. Князь, не заметя меня, стоял, понурясь. Дорожный ватный кафтан мигом совлекли с него ординарцы. Оставшись в одной рубахе, Князь, сопя, опустился на кровать и махнул рукой. В сей миг страшный раздирательный крик за дверьми заставил меня дрогнуть. Я бросился в спальню и в коридоре увидел простертую Анету. Она была в бесчувствии. С помощью слуг я бережно донес ее в спальню и положил на постель. С отчаяния не зная, что делать, припал я устами к ногам Анеты. Слезы из глаз у меня ручьями заструились. Анета была как мертвая. Вдруг чья-то сильная рука меня от постели отстранила. По приказу сего последнего двое слуг за руки увлекли меня силой из спальной. Теперь приближался я к горестнейшему событию всей моей жизни, которое описать не имею сил. В полдень Анета вручила Господу праведную свою душу. Меня допустили к ней, когда уже она успокоилась навек. Пав в отчаянии пред роковым ложем, я рыдал, не слушая никого, как бы забыв, что в гостях у меня сам Светлейший. Люди сказывали после, что, глядя на меня, все кругом голосом рыдали. Когда горесть моя несколько утишилась, ко мне подошел Светлейший и за руку отвел меня на свою кровать. Там проспал я крепко, как убитый. Пробудясь, опять увидел пред собою Князя. Сев подле, он положил на голову мне руку и не пустил встать. — Слушай, Саша, — молвил он тихо, — я виноват пред тобою. Ты — человек благородный. Покойница сама пред смертию мне все сказала. Теперь я у тебя в долгу. Сказывай, чего хочешь. Я залился слезами и, лобызая Светлейшему руки, высказал, что более мне ничего не надо: что мужнин есть долг любить жену свою, ласка же его Светлости для меня всего на свете дороже. Князь в лицо мне пристально поглядел, потом, усмехнувшись, молвил: — Тебя, братец, в святцы записать надо. Скоро на дворе княжеская коляска застучала. Обняв меня отечески, Светлейший со всею свитою уехал. Я побрел в залу. Тем часом солнце уже к закату склонилось. Анета убранная лежала на столе в белом венчальном платье. На грудь ей Светлейший возложил прядь своих волос. Отец Иван с дьячком взошли к вечерней панихиде. Итак, погребальные песнопения огласили стены, слышавшие некогда сладкое пение Анеты. Долго глядел я на мертвый лик верной моей подруги. Хладное чело дышало спокойствием, но близ строгих уст уже синели смертные тени. В ум мне пришли последние слова Князя. В них чудилась мне некая тайна…СВЯТАЯ ЕЛЕНА
В июне 1816 года английский бриг «Нью-кестль» подходил к острову Святой Елены. Он вез европейских комиссаров наблюдать за Наполеоном. Их было трое: французский — маркиз Моншенью, австрийский — барон Штюрмер и русский — граф де-Бальмен. Пушечный выстрел поднял их рано с постели; выстрел с острова означал, что там замечено судно. Комиссары молча глядели с палубы на обрывистые громады черных скал. — Мрачная картина, — сказал маркиз, краснолицый старик с носом попугая. По болтливости и пестроте костюма он вообще напоминал эту птицу. Сходству помогал маленький какаду, сидевший на плече его: маркиз любил попугаев. Штюрмер, сухощавый и сдержанный дипломат в очках, поджал осторожно губы: — Это не остров, а гроб. — Бедный Наполеон, — вздохнул кудрявый граф де-Бальмен. Он был еще очень молод и походил на балованного ребенка. — Вы жалеете Бонапарта, пожалейте лучше себя и нас, — возразил маркиз. — Бонапарт получил должное по заслугам, а чем виноваты мы? Штюрмер и де-Бальмен слушали молча, один с презрительной, другой с лукавой улыбкой: красноречие маркиза успело им надоесть. Корабль обогнул Менденскую батарею; в прорезе узкой скалы явился город Джемстоун. — Город в ущелье, какой ужас! Здесь можно умереть от одной жары. — Осмелюсь доложить вашей светлости, — вмешался капитан, — остров не так суров, как кажется нам отсюда. Там дачи, много зелени, водопад. — Наконец, там, вероятно, водятся попугаи, — добавил с усмешкой барон Штюрмер. Маркиз оживился: — В самом деле? — Он погладил какаду и сунул ему кусочек сахару. — Это любопытно. Мне давно хочется разыскать настоящего африканского попугая. — А какова флора на острове? — спросил ботаник Велле, спутник барона Щтюрмера. — Есть ли там интересные растения? — Этого я не знаю точно, господин Велле. Там растут лаковые и миртовые деревья, много белых роз, виноград, лимоны. Корабль плавно подошел к пристани. Английский офицер в красном мундире ждал комиссаров. Путники и свита разместились в трех экипажах и шагом двинулись в гору. Из упрямства Моншенью не хотел сознаться, что ему нравится тропическая природа. — Жара и небо, больше ничего. Нет, это ужасно. Недостает еще чернокожих. — Взгляните сюда, маркиз, и возьмите скорей ваши слова обратно. — Штюрмер указывал на девушку в зарослях алоэ. — В самом деле, — удивился де-Бальмен, — Как она стройна! Золотые кудри и белое платье. Совсем сказочная принцесса. — Наверное, девчонка с губернаторской кухни, — сказал маркиз. — Сейчас мы это узнаем. Будьте добры сказать нам, мисс, где находится дом губернатора сэра Гудсона Лоу? Девушка медленно подняла на графа синий холодный взгляд. — Не знаю, сударь. — Но разве вы не из губернаторского дома? — Я имею честь состоять в свите его величества. — Какого величества? — вскричал, насмешливо хохоча, маркиз. — Императора Наполеона. — Я не знаю такого. Генерала Бонапарта, хотели вы сказать, дитя мое? — Нет, отец мой. Я служу его величеству императору Наполеону. — Тому, кто сидит здесь на цепи? — Тому, кто обессмертил Францию неувядаемой славой. — Кем же вы служите при Наполеоне? — спросил, улыбаясь, Штюрмер. — Я заведую столовым серебром, и моя обязанность ежедневно предлагать императору послеобеденный кофе. — Какая важная должность! От жары и досады маркиз пыхтел. Штюрмер улыбался, по граф де-Бальмен с участием вглядывался в девушку. — Извините, мисс, а как ваше имя? — Меня зовут Елена. С легким поклоном она исчезла в кустах. Коляска тронулась дальше. — Браво, граф, — вымолвил барон Штюрмер. — Вот и начало романа. Вы настоящий казак, дорогой граф. Маркиз обмахивался платком. — Я был прав, как всегда. Это служанка Бонапарта и, конечно, его любовница. Знай она, кто мы, она разговаривала бы иначе. — Елена, — повторил задумчиво де-Бальмен. — Какое совпадение. — Надо полагать, однако, что это не святая Елена. Та вряд ли пойдет в кухарки, даже к Бонапарту. — Вы слишком злы, маркиз. Какаду забился на плече своего хозяина с пронзительным криком. Второй месяц встречали на острове комиссары и все еще не были представлены пленнику. Наполеон отказался их принять. Приходилось дожидаться новых инструкций. Моншенью обзавелся полдюжиной попугаев и беседовал с ними на разных языках. Под личным его наблюдением старый малаец кормил зеленохвостых краснокрылых крикунов, чистил и мыл их. Прочее время маркиз кушал мороженое и лимонад, проклинал жару и заставлял секретаря писать в Париж длиннейшие письма с жалобами на дороговизну и расходы. Де-Бальмен с утра до вечера катался верхом. Изящный и стройный, носился он по кремнистым тропинкам и желтым холмам, то вдоль гранатовых аллей, то близ шумящего водопада. Часто проезжал граф окрестностями Лонгвуда, где жил Наполеон, но ни разу не удалось ему увидеть пленного императора. Зато в первый же день ему встретилась Елена. — Доброе утро, святая Елена! — крикнул он весело. — Доброе утро, граф. Елена стояла с корзинкой на руке. — Что это вы несете? Она, как и в первый раз, медленно подняла глаза. — Это фрукты для императорского стола. — Послушайте, святая Елена, почему вы его зовете императором? — Потому, что он великий император был, есть и будет. Разве это неправда? Граф увидел, что шутливый тон ему дается плохо. Он сказал еще несколько пустых слов и умчался галопом. На третий день он встретил опять Елену, назавтра тоже. Девушка его не избегала. Беседы становились длиннее. — Скажите, Елена, где научились вы так говорить по-французски. — Нигде. Я француженка из Парижа. — Не может быть. У вас английское лицо. — Это случайность. Вы ведь тоже шотландец родом, а называетесь русским. — О, мои предки выехали в Россию еще при Иакове II. Но откуда вы это знаете? Елена потупилась. — Не помню, кто рассказал мне это. Скоро граф понял, что не видать Елены для него так же трудно, как не дышать. Несколько раз он хотел ей сказать об этом и неизменно смущался под ее медленным и спокойным взглядом. — Однако сколько достоинства в этой мещаночке, — думалось ему. Третий комиссар, барон Штюрмер, совсем не выходил из дому. По целым дням играл он в карты с ботаником Велле. Однажды утром все три дипломата получили приглашение от губернатора явиться к нему по делу. Моншенью и Штюрмер отправились вместе. Маркиз по дороге рассказывал о попугае макао, захворавшем от жары, о страшных ценах на острове и об интригах английского правительства. Скоро им встретился де-Бальмен. Комиссары втроем взошли в приемную. Губернатор вышел им навстречу с любезной улыбкой на лошадином лице. — Прошу садиться, господа. Мне очень грустно, но долг прежде всего. Боюсь, что добрые наши отношения могут испортиться. Барон Штюрмер, правда ли, что ваш спутник Велле передал генералу Бонапарту письмо от сына и прядь волос? Штюрмер побледнел и снял очки. — Вам донесли неверно, сэр. Велле, правда, привез письмо и локон, но не Бонапарту, а его камердинеру от матери, которая служит в Вене. — Все равно, без моего разрешения он не имел права это делать. Я вынужден сообщить обо всем князю Меттерниху. Барон надел очки и вздохнул. — Вашей светлости должно быть известно, — продолжал улыбаться губернатор, — что сношения с приближенными Бонапарта недопустимы для частных лиц. Между тем ваш секретарь бывает в Лонгвуде. Маркиз, красный, как попугай, возразил с ответной улыбкой: — Страна, где мы живем, имеет много дурных сторон; умножать их мне кажется преступным. Ваше превосходительство, можете быть уверены, что я сделаю выговор секретарю. Сэр Гудсон Лоу поклонился и, повернувшись к Бальмену, показал длинные зубы. — Любезный граф, я бы советовал вам кататься подальше от Лонгвуда. В словах губернатора не было ничего обидного, но граф оскорбился. С холодным достоинством он ответил: — Позвольте мне вам на это заметить, сэр, что отчетом в моих поступках я обязан не вам, а русскому императору. Губернатор поднял лорнет; от улыбки зубы его стали еще длиннее. — Ваш ответ выдает потомка шотландских рыцарей, но, уважаемый граф, пока на острове губернатором я, вам придется считаться немного и с моим мнением. Прошу вас всех, господа, пожаловать ко мне завтра вечером для обсуждения полученных мною инструкций. Имею честь кланяться. — Каков! — воскликнул маркиз, выходя из губернаторской передней. — Он нас принимает за мальчишек. Я буду жаловаться королю. — А я сегодня же поеду в Лонгвуд, — отозвался граф. — Этот невозможный тон меня прямо бесит. Мистер Лоу, кажется, думает, что нам очень приятно прозябать на этой скале, где попугаи околевают от скуки. Вы ведь знаете, мой бедный какаду в субботу издох. И потом, жить здесь, когда сено приходится выписывать с мыса Доброй Надежды! Если мне не прибавят жалованья, я выхожу в отставку. Ей-богу, я, наконец, начинаю думать, что революцию сделали умные люди. — Понятно, раз с ними не было вас, — проворчал себе под нос барон Штюрмер. Он был не в духе. Лонгвуд виднелся издали, на горе меж неровных склонов; лаванда, терновник и алоэ едва оживляли расселины серых скал. Когда де-Бальмен сдержал коня перед домом Наполеона, гнев его уже успел остыть. Он хотел поворотить обратно, как вдруг увидел в окне Елену. — Что это значит, граф? Как вы сюда попали? Или вы не боитесь сэра Гудсона Лоу? Граф смело шагнул в переднюю. — Я соскучился, не видя вас так долго. — Мы виделись вчера: по-вашему, это долго? — Для меня это вечность. Вы одна? — Его величество на прогулке и через полчаса будет кушать кофе. Если хотите, я покажу вам императорские покои. Елена и граф взошли в спальню Наполеона. Подле кровати с зелеными занавесками серебряный умывальник; на камине портреты Марии-Луизы и Римского короля. Далее столовая, гостиная и биллиардная с грудами книг на стенах и па полу. — Вот в этом шкапу весь гардероб императора, здесь его серый сюртук, бывший на нем во всех походах и битвах, — говорила Елена; синие глаза сияли. — Вот его парадная шпага в черепаховых ножнах с золотыми пчелами, тут китайские шахматы, а там севрский сервиз. Здесь император читает по утрам, а до обеда пишет. — Елена, я вас ревную к вашему императору. — Ревнуете? По какому праву? — По праву влюбленного. Ведь я люблю вас, Елена. Елена ответила звонким веселым хохотом. — Простите, граф. Не сердитесь. Я не над вами смеюсь, но если бы вы знали, ах, если бы вы знали… Она смеялась до слез. Граф нахмурился. — Скажите же мне… — Постойте. — Елена задумалась, кусая губы. — Итак, вы на самом деле любите меня? — Клянусь вам. — Не надо. Вы мне докажете вашу любовь иначе. Завтра вы будете у губернатора, не так ли? — Да. Как вы узнали? — Если вы точно меня любите, не ходите туда. — Она строго глядела в глаза графу. — Хорошо, только я не понимаю… — Будьте дома, я приду к вам. — Елена опять задумалась. — И еще… Не гасите свечей в кабинете до моего прихода. Граф нагнулся поцеловать ей руку. Он задыхался от счастья. — Оставьте, сейчас придет император. Спешите. Помните, что я вам сказала. — До завтра, дорогая. — До завтра. Уходите же, уходите. Они стояли на низкой террасе. Алоэ скрывало их. Из сада послышался резкий кашель. Граф вздрогнул. Елена скользнула в дверь. Еще не стихли подковы по каменистой дороге, как из кустов осторожно выставил голову барон Штюрмер. Он улыбался. — Велле, — тихо окликнул барон, выходя за ограду. Ботаник с цветами в руке уныло ждал. — Не горюйте, мой друг. Я отыскал здесь такой цветок, что из Вены нам с вами пришлют не выговор, а награду. Все же я никак не думал, что этот русский так прост. После бессонной ночи, истомленный грезами, граф насилу дождался вечера. В волнении ходил он но кабинету. Ярко пылал канделябр на столе; за дверью в столовой сверкали графины и вазы с фруктами. Часовая стрелка приближалась к десяти. Став у окна, граф всматривался в необозримую пустыню темного океана. Вдруг недалеко от берега блеснул огонь. Граф затаил дыхание. Опять мигнул легкий отблеск. Внезапная мысль поразила графа: Елена просила не гасить свечей. Значит, его канделябр служит условным знаком, и пока он, граф де-Бальмен, русский уполномоченный, ждет, как мальчишка, свидания, Бонапарт успеет бежать. Мысли эти больно кололи сердце графа, пока он торопливо гасил свечи и спускался по лестнице. Задыхаясь, бежал он к берегу; ноги его скользили. Свет на море исчез, все было спокойно. Граф начинал каяться в своей поспешности; вдруг выстрел заставил его ускорить шаг. В темноте он разглядел силуэт барона Штюрмера с пистолетом в руке. На скале у самого обрыва кто-то сидел, упираясь руками в землю. Штюрмер направил в лицо неизвестному маленький фонарь. Граф увидел окровавленный мундир наполеоновского гвардейца. Шляпа свалилась с золотистых кудрей, широкие синие глаза медленно поднялись из-под тяжелых век. — Елена! — в ужасе вскрикнул граф. Раненый улыбнулся. — Меня зовут лорд Дуглас. С детства я обожал Наполеона. Ради него я покинул семью и родину. Простите, граф, я виноват перед вами. Я хотел освободить императора, но Бог этого не хотел. Мой долг исполнен. Да здравствует император! Синие глаза, просияв, закрылись. — Граф, надо торопиться. Нас могут застать, — сказал Штюрмер. — Помогите мне. Де-Бальмен повернулся и пошел прочь. Губы его дрожали. Сзади послышался глухой всплеск. В ту же минуту невысокий человек в треугольной шляпе выступил на дорогу. — Дуглас, это вы? Готово? В голове графа закружился вихрь. — Ваше величество, лорд Дуглас поручил мне передать вам, что его план не удался. Он отбыл в Шотландию. Наполеон кивнул и пошел обратно. Шатаясь, де-Бальмен глядел ему вслед. Скоро короткая тень в сюртуке и шляпе растаяла в сумраке жаркой ночи.А. Н. ТОЛСТОЙ

СОРЕВНОВАТЕЛЬ
Дядюшка выкатил свинцовые, с багровыми жилами глаза, повел усами и басом отчеканил: — Я, брат, дурак, а ты, брат, вдвое, но не горюй — в люди выведу. И многозначительно помахал трубкой, которая, как и все в дядюшкином дому, была крепка и двусмысленна: ею бивал он бурмистра, осенью однажды расправился на проселочной дороге с тремя мужиками, и однажды заезжий живописец изобразил его держащим эту трубку, как копье, придав всему виду его отвагу и высокое чувство. После высказанного дядюшка прошелся по зальцу, где сидел с молодым племянником, Нарцисом Львовым. Повертываясь спиной, он представлял собой как бы двухспальную перину с надетым поверх бархатным камзолом, до того замасленным на локтях, спине и пониже, что неопытный глаз удивлялся, из чего он сшит; снизу на него были натянуты необычайной ширины штаны; голова же, как и все, была необыкновенных размеров. Туфли шаркали по паркету, и сизый дым следовал за усами. — Я тебя облагодетельствую! — воскликнул он и, дойдя до стены, обернулся показав багровое и широкое лицо, напоминающее льва. Племянник, Нарцис Львов, нежно улыбнулся и, склонив к плечу голову, меланхолически поглядел на дядюшку. — Ах, черт, а не определить ли тебя в гусары? А, гусары, черт!.. Тут дядюшка захватил рукой усы, и произошло необычайное, к чему племянник привык вполне, а именно: всколебав табачное облако, раскатился дядюшка, как из пушки, и залился затем тончайшим смехом. — Дядюшка, вас разорвет, — молвил племянник. — Разорвет, говоришь, а знаешь ли, каков я был гусаром… — Дядюшка расставил ноги посреди залы и на минуту впал в задумчивость. — Стояли мы в сельце… вот как его… и полковник наш, граф Дибич… — Однако, дядюшка, — перебил Нарцис, — кажется, едут гости… — Где? — крикнул дядюшка и перегнулся, сколько мог, в окне. Нося фамилию крепкую — Кобелев, любил он также принять хороших гостей. — Гостю рад! — закричал дядюшка. — Эй, холопы, лошадей отпрячь и в табун, а карету в пруд, чтобы не рассохлась. Нарцис перед зеркалом завил на палец каштановый локон парика, обдернул к чулкам светлые панталоны и над головой встряхнул пальцами, чтобы побелела их кожа и кружева камзола легли приятными складками. Длинный парень, по имени Оглобля, глядя, как птица, сверху вниз, распахнул половинки дубовой двери, и в комнату вошел гость в очках, пожилой, суховатый и плохо в дороге бритый, и не один: за ним, наклонив в соломенной с цветами шляпе лицо, на которое нельзя было смотреть без чувствительности, вошла, шурша роброном цвета неспелой сливы, с розовыми букетиками, девица, оголенные плечи ее были прикрыты китайской шалью. Готовый принять в естественное лоно незнакомца, дядюшка Кобелев остановился, разинув рот, и, при виде несравненной красавицы, внезапно воскликнул: «Мишка, Федька!» — и выбежал вон… А Нарцис, приложив левую руку к сердцу, ступил назад три шага и поклонился, откинув правую в сторону и вверх. — Приятно видеть, — поспешно заговорил гость, — племянник моего старого служаки, подполковника Кобелева… узнаю. Душенька, это Львов… — Нарцис! — томпо закатив глаза, пролепетал молодой человек. В это время вкатился дядюшка, успевший поверх всего накинуть персидский каракового цвета кафтан. — Ах я, старый кобель!.. — закричал дядюшка. — Узнаю ведь, узнаю; то-то вижу… мм… м… — замычал он, приняв в объятия худощавого гостя. — Настенька — воспитанница! — Узнаю, узнаю, — обнимал дядюшка и Настю. Гость, освободясь, вынул из заднего кармана фуляр, протер им очки и вытер губы и щеку, которая была мокра. — Я проездом из Петербурга в вотчину. — Хвалю, брат, ура! Эй, холопы, обед да вин, все, что есть в погребе… Из Петербурга, что так? — Да стар становлюсь, хочу совершить по вотчинам последний вояж… Дядюшка, весело на всех посматривая, грузно перевалился на своем стуле. — Проживешь у меня недели две… — Э, нет, завтра тронемся далее. — Завтра не тронемся, а дней через десять отпущу. Мы, брат, тут в глуши без прекрасного пола запсели… Дядюшка принялся смеяться столь же сильно и почти сломал стул; Нарцис, закрасневшись, склонил голову вниз и набок, а старичок сказал: — Настенька мужа в прошлом году потеряла. Мир его праху. Да-с… Вот — вдова-с… — И он вздохнул, а Настя поднесла к глазам сиреневый платочек. Дядюшка Кобелев закрутил усы и задушевно крякнул. Казачки — Мишка, Федька — принесли кушанья на оловянных блюдах и резного дерева, обитый железом, погребец… Сидевшие за столом одушевились. Настенька, не поднимая глаз, деликатно кушала, едва касаясь подаваемых блюд, и всего полбокала отпила крепкого венгерского; шорох ног ее о шелковое платье смущал Нарциса до того, что, бледнея, ронял он поминутно стакан, ложку, забыв о дорогих манжетах, смоченных вином; дядюшка опрокидывал в свое горло кружку с надписью: «Пей три и еще трижды три» — и не давал покойно откушать гостям. — Вот видишь, — обратился он к старичку, задумчиво жевавшему индейку с грушами, — вот видишь, дама, вследствие деликатной натуры, не употребляет пищи и вина, уподобляясь, так сказать, ангелу в совершенной оболочке… Дядюшка запутался и, видя смущение напротив сидящей Настеньки, крикнул: — Старый гусар пьет здоровье несравненной! — Вы неправду говорите, при чем я — несравненная, — ответила Настенька и уронила из рук платочек. Нарцис отбросил стул, кинулся услужить, и дядюшка полез под стол, сильно качнув его, и вылез из-под стола красный, держа в руке трофей. — Какой вы ловкий кавалер, — нежно улыбнулась Настенька и в то же время коснулась Нарциса ногой, а он кинул на дядюшку взор, от которого тот скомкал салфетку. — А давай-ка, Нарцис, — воскликнул он, — покажем даме, как на саблях дерутся. — К чему показывать, ах, какие пустяки, — сказала Настенька. Но бойцы уже стояли на средине комнаты. Нарцис, ловко изогнув талию, дядюшка Кобелев — за-суча рукава, и принялись колотить друг друга так, что упавшая в кресло Настенька поминутно вскрикивала, а старичок одобрительно клевал носом… — Что, попало! — кричал дядюшка, получив по голове, и ткнул тупой саблей в жилет противника, сказавши: «уф!» На этом он не успокоился: уведя гостей в сад, показал стрельбу по коту, спавшему на воротах; потом привели всех коней, что есть на конюшне; на самого крепкого, пегой масти, дядюшка влез с великим трудом, хотел даже перескочить через забор, причем забор тут же сломался, и под конец выстрелил из небольшой бронзовой пушки, прикованной на площадке, перед домом… После всего, вспотев, остановился перед Настенькой, недоумевая, чем бы еще похвалиться. Тем временем солнце, замечая чудеса в сонной до сего времени усадьбе, протянуло зыбь вдоль пруда, поиграло на корме задвинутой в камыши лодки и, сонное, склонилось к холмам, и навстречу ему поднялась, розовея, пыль пахнущего молоком стада. Время тихому ужину и отдыху на пышной постели, где под атласным пологом легко кружатся сны, не пугаясь стрелы купидона на столбике кровати. Светильник стелет мягкие лучи на нежным румянцем зацветающие щеки, и золотые локоны открывают тонкую грудь и черную мушку, прикрепленную небрежно… Но не спала Настенька, лукаво взглядывая на позолоченного купидона. Она прислушивалась. Рядом в комнате ходил, скрипя половицами, дядюшка Кобелев и шепотом, который слышали на деревне, отчитывал: — Ты — молокосос и щенок, брат, рано тебе на баб заглядываться, выслужи с мое, тогда тово… Гм… И худ ты, как черт знает что. И рот у тебя желтый… Молчи, я говорю. Завтра чуть свет отвезу тебя в город, и раньше трех лет нс смей показываться на глаза… Ступай и служи… Вот как… собирайся… — И дядюшка, ударив дверью, вышел, но, должно быть, заглянул в щелку другой двери, так как вдруг комната Настеньки вся наполнилась густым его сопеньем. Обождав, пока затихли вдалеке коридора грузпые шаги дядюшки, спрыгнула Настенька па пол и, придерживая на груди кружева, босая, подбежала к двери и сняла крючок… — Ах, как вы смеете, ах, что обо мне подумаете! — шептала, прикрываясь локонами, Настенька, сидя на кровати… Нарцис, приложа к сердцу ладони, па коленях стоял подле йог ее и молил: — Не в силах бороться с чувствительностью, пораженный стрелой купидона, униженно падаю к ногам моего кумира — не отвергайте убитого нежным чувством… В ночи влюбленных луна светит им таинственным фонарем. Сквозь влажные листья, заливая белый подоконник, смотрится она в лица любовников, облокотившихся на балюстраду окна, зажигает в сердцах смутные и новые ласки, холодит прикоснувшиеся уста. Нарцис, охватив талию Настеньки, прошептал: — Смотрите на крышу флигеля, что напротив. По крыше флигеля, что напротив окна, освещенное луной с одного бока, ползло нечто огромное и темное, осторожно передвигаясь; плоская крыша гнулась и скрипела… Когда это доползло настолько, что ему стала видна в окно Настенькина кровать, оно поднялось, покачиваясь, и вытащило из кармана подзорную трубу. Глаза встретили глаза, Настенька скользнула за портьеру, а то па крыше заревело, как бы укушенное в нежное место: — Подлец! Зарезал без ножа! И с шумом обрушился дядюшка с крыши в крапиву.КАТЕНЬКА (Из записок офицера)
18 мая 1781 года я получил, наконец, командировку и стал поспешно готовиться в отъезд. Привлекала меня не выгодность ремонтного дела (я был достаточно богат), а желание поскорей вырваться из Петербурга на свежий ветер степей, провести остаток мая в деревнях (где по вечерам поют на озеро девушки), поспать в бричке под открытым небом, мечтая о глазах, в которые в этот день успел заглянуть; послушать на взъезжей рассказы побывальщиков… словом, я был молод и жаждал приключений. И вот на третий день утром бричка моя, прогремев по деревянной мостовой Московской заставы, мягко понеслась мимо сосен и моховых болот торной дороги; побежали верстовые столбы навстречу, ласково покрикивал ямщик, и цветы можжевельника пахли так, что на глаза навертывались слезы. Я же, сбросив с плеч казенную шинель, сунул ее вместе с мундиром в чемодан, надел просторный халат и, закурив трубку, стал следить полет коршунов над лесом. Не описываю первого времени долгого пути — дни были однообразны, и каждый увеличивал радость, и сердце мое сильнее щемила грусть. Что может быть слаще любовной печали? Есть ли в свете более желанная боль, чем мечты о той, которую еще не видел, но чей образ, ежечасно изменяясь, прекрасный и неуловимый, то склоняется во сне к губам, то сквозит за листьями дубравы, заманивая в глушь, то всплеснется в озере, и отовсюду слышится легкий его смех. Однажды, после полудня, я подъехал к земляной крепости, ворота которой были отворены и на чистом дворике два инвалида играли в карты, сидя на пушке, причем взятки записывали на зеленом лафете мелом. При моем появлении оба они подняли головы, защитив глаза от солнца, а я спросил строго: — Где комендант? — А вон там комендант, — отвечал тот, кто был помоложе, ткнув пальцем по направлению деревянного, с воротами и забором, домика, прислоненного к крепостной стене… В прохладных сенях, куда я вошел, на меня залаял пес, но был настолько стар, что, едва прохрипев, принялся опять ловить блоху, кусавшую его. Не обратив на собаку внимания, я отворил дверь в комнату, обитую желтым тесом, с низким, но длинным окном; сквозь него солнечный луч играл на изразцовой лежанке, на которой сидел старый инвалид, занимаясь вязанием чулка. Кряхтя, инвалид поднялся мне навстречу и спросил: — Кого вам, батюшка, надобно?.. — Коменданта! — воскликнул я. — Комендант спит, — ответил старичок, — пообедал и спать лег. — Так разбуди его, скажи, что приехал адъютант Зарубный. Старый инвалид, качая головой, подошел к двери и стал осторожно стучать, на что после некоторого молчания послышалось шарканье туфель и сердитый голос: — Вот я тебя поколочу — меня будить… — Ваше благородие, — сказал старичок, слегка отступая, — к вам приехали… Дверь тогда отворилась, и вошел комендант, с лицом, плохо бритым, красным и четырехугольным; на голове у него надет был коричневый колпак, а халат из тармаламы замаслен. — Ну, что надо? — сердито сказал комендант, беря у меня подорожную. — Не могли подождать! И, читая, он надел очки. Но, увидев мой высокий в сравнении с ним чин, так растерялся, что уронил с носа очки и, сняв колпак, молвил — Сударь мой, не угодно ли присесть, — и тотчас же добавил: — Батюшка, изволили вы кушать? В это время ямщик внес мой чемодан, и я поспешил надеть мундир, из-за отсутствия которого вышло все недоразумение, и приосанился… Тогда бедный комендант воскликнул: — Если так, то и я надену мундир, — и, придерживая халат, вышел. Я же, присев на лавку у окна, принялся рассматривать гравюрные портреты генералов на стене, комендантов орден, лежащий вместе с парадной треуголкой и париком под стеклянной крышкой, и пе заметил поэтому, как отворилась третья в комнате дверь и женский голос произнес: — Ах, посторонний мужчина. Оглянувшись, все же я успел рассмотреть, пока захлопывались половинки, розовый подол платья, из-под которого выглядывала ножка в белом чулке, и нежную руку, поднесенную к груди; лицо же было скрыто от меня темными локонами… Сердце мое слегка билось; вошедший комендант попросил откушать. Мундир на коменданте был смят, узок, чрезвычайно пахнул листовым табаком, и высокий воротник врезывался в багровую его шею. Во все время обеда комендант посматривал на дверь и сопел носом, как мне показалось, тайно беспокоясь… Когда же я спросил, кто та дама в розовом, испугавшаяся меня, он уронил стакан и, откинувшись на спинку стула, испуганно выпучил глаза, а туго затянутая салфетка, торча за его затылком двумя ушами, увеличила сходство коменданта с ослом… — У нас, сударь, нет никакой дамы, — произнес он, заикаясь. Я понял, что комендант лжет, но пока не настаивал, хотя любопытство мое было разожжено. После обеда я лег в полутемной комнате коменданта на кожаный диван и, расстегнув мундир, слушал утомительное жужжание мух и скрип сверчка; но, когда веки смежились, сквозь дремоту услышал я негромкие голоса из столовой. — Вот этого-то и нельзя, — поспешным шепотом говорил комендант, — ну, хочешь, я сошью тебе еще одно платье… — Не хочу, — отвечал капризный голос, — сам носи, и запираться не хочу. Фу, какой ты противный… старый… — Что же, — ответил комендант, помолчав, — зато я комендант. Я хотел было приподняться, чтобы поглядеть, кто так горячо спорит, но усталость превозмогла: голова моя сладко ушла в подушку, и тело отделилось от земли… …Проснулся я от странного чувства — близости человеческого существа; было совсем темно; протянув руку, я тронул шелковую юбку и, ощупывая, понял, что пальцы мои скользят по ноге, горячей, несмотря на покрывающую ее одежду… — Кто тут? — спросил я тихо. В ответ мне засмеялись, и на диван присела дама, раскинув по мне легкое платье; я приподнялся на локте, но горячие ее пальцы погладили меня под подбородком и ущипнули; я потянулся и, прижавшись губами к руке, весь задрожал… — Тише, — сказала дама и, легко толкнув меня, легла рядом, тесно придвинувшись. Каких безумств не делает молодость! И то, что читателю покажется невероятным, совершилось, — наше объятие было шаловливо-сладко, прерываемое иногда нежным смехом незнакомки. Но, услышав дальние шаги, поспешно соскользнула с дивана моя возлюбленная и скрылась за дверью; я же крепко уснул и вторично был разбужен тяжелым топотом шагов и словами: — Проснитесь, ваше благородие, несчастье… В испуге я сразу сел, сбросив ноги, и открыл глаза, передо мною стоял комендант в высоких ботфортах, в мундире, перевязанном портупеей, и колпаке; в руке же держал он железный фонарь. — Что случилось? — воскликнул я и, заслонив глаза от света, почувствовал, как пахнут духами мои пальцы… Потому улыбаясь, я плохо слушал доклад перепуганного толстяка. — Как уснули вы, — рассказал он, — донесли мне, что близ крепости бродит шайка разбойников; тотчас же, в сопровождении моих солдат, я ускакал: как видите, вот потерял шляпу; нам почти удалось их окружить; но, возвратясь, я не нашел ни ваших лошадей, ни экипажа. — И я не был с вами! — воскликнул я. — И беспечно спал!.. Комендант тотчас поставил фонарь и, поглядев на меня искоса, спросил: — А вы действительно спали? — Вот ревнивец, не сидел же я с вашей женой. — Женой! — закричал комендант. — Почему вы знаете, что я женат… — Я видел и слышал, как вы разговаривали за дверью, послушайте, сейчас же познакомьте меня с вашей супругой. — Она спит, — застонал комендант, хватаясь за остатки волос, и вдруг сел на стул… — Отложите хотя бы до утра, ваше благородие. Ах, это не женщина, а черт Вот скоро год, как я женился, а сплю все время на этом диване, один, как перст… И, глядя на свой указательный палец, комендант за рыдал, я же участливо потрепал его по коленке. На следующее утро, волнуясь, я тщательно заплел косицу, перевязав ее лентой, выбрился и, охорашивая мундир, надушил усы. В столовой у самовара сидела моя вчерашняя возлюбленная, в том же розовом платье, скромно опустив глаза. Высоко подхваченные ее волосы были напудрены, углы подведенного рта приподняты, и на левой щеке у ней было маленькое родимое пятно. Увидев меня, она привстала и подала руку, которую я поцеловал… — Катенька, — воскликнул комендант, не сводя с жены ревнивых глаз, — налей же его благородию чаю… — Его благородие не обессудит, — слегка покраснев, молвила Катенька и подняла па меня свои светло-зеленые, длинные, разрезанные вкось глаза. Я тотчас стал без умолку болтать, забавно описывая свое путешествие, и долго не мог понять: для чего Катенька, несмотря на прохладное утро, обмахивается веером. Она опускала веер на колени и поднимала вновь, то прикладывая к губам, то к уху и плечу, и слегка хмурила брови… Тогда я сообразил, что она говорит мне языком вееров, припомнил уроки петербургских модниц и прочел: «Разбойники выдуманы, ваши лошади в надежном месте… Вам будет скучно?» — Нет, конечно, нет! — воскликнул я с жаром. — Чего нет? — подозрительно спросил комендант. — Разбойники, они не осмелятся вновь прийти. — Эге, — мрачно сказал комендант, — тут есть чем поживиться… Катенька быстро опустила веер и приложила к сердцу. — «Вы меня любите?» — Безумно, да, да! — воскликнул я… — Что вы, батюшка, все «нет» да «да», — забеспокоился комендант, живот, что ли. болит?.. — «…Нам нужно увидеться сегодня ночью. Придумайте, как устроить», — прочел я на веере. — Комендант, — воскликнул я, вставая, — идемте же осмотрим укрепления… Я проявил большой интерес к служебным обязанностям и торопил коменданта, чтобы усыпить его мнительность. Комендант шел впереди меня по форпостам и, размахивая руками, объяснял: — Вот здесь мы починим, а здесь заткнем, а здесь… На полслове он обрывал и тер тебе лоб, бормоча: — Что она придумала?.. Но я ободрил его: — Вы лучший из комендантов, почтеннейший. Мы осмотрели арсенал, где сушилось белье и пегий теленок лежал в углу, жуя казенную портупею… Наскоро пробежали отчетные книги, причем комендант так быстро водил по строчкам пальцем, что мне казалось — я скачу на тройке и смотрю под колеса. Потом пошли обедать. Катенька, разливая суп, раскраснелась и сложила губы так, что я, во избежание неосторожности, стал смотреть в стакан, успев все-таки прочесть на чудесном языке ее веера: — «Торопитесь. Муж догадывается». Тогда, сделав строгое лицо, стал я объяснять, что не позволю разбойникам под носом у себя из крепости красть лошадей, поэтому приглашаю коменданта после обеда поехать со мной в лес для поимки негодяев. Комендант с радостью согласился и велел принести вина; я же подумал: «Ах, плут!» Выкурив после обеда по нескольку трубок и отдохнув, мы сели на верховых лошадей и, в сопровождении четырех пеших инвалидов, вооруженных с головы до ног, поехали в лес. Сердце мое сильно билось, и я, тихонько смеясь, горячил коня, прыгавшего через валежник. Между красных стволов показывалось заходящее солнце, в овраге же, куда мы спустились, было сыро и темно. Я положил руку на плечо коменданта и прошептал: — Оцепим этот овраг; я подожду здесь, а вы поезжайте в обход и ждите, пока выстрелю из пистолета. Оставшись один, я видел, как со дна оврага поднимался белый туман; скоро хруст ветвей и шаги вдалеке затихли; тогда ударив коня плетью, я поскакал в крепость… Катенька ждала меня в темных сенях и, когда я, запыхавшись и целуя ее в щеки, говорил: «Милая, родная, душа моя», — откинула голову и стала так хохотать, что я, испугавшись, увлек ее к двери. — Здесь нельзя оставаться, — сказала она сквозь веселые слезы, — услышит старикашка… — Катенька, не мучай, — молил я, — минуты дороги… Катенька сжала мою руку и, соскочив с крыльца на дворик, подбежала к крытому тарантасу, стоящему под соломенным навесом. Смеясь, приподняла она платье и прыгнула в тарантас, преследуемая мной. Внутри тарантаса пахло кожей и пылью, и мы могли целоваться, не видимые никем. Катенька дергала меня за усы, щекотала, возилась, как кот. енок, и, сидя на коленях, говорила всякий вздор. Но вдруг за воротами послышался топот и громкий голос коменданта: — Где он? Я не посмотрю па чины… Эй, дураки, чего смотрите, ищите их… Катенька закрыла мне рот рукой, смотря в окошко тарантаса, я же взялся за эфес шпаги, готовый па все. По дому, в сенях и на дворе ходили инвалиды, освещая фонарями все углы; комендант же топал ногами и махал обнаженной шпагой. Пробегая мимо тарантаса, он остановился и, подумав, открыл дверцу. — А, — воскликнул он, — нашел, вяжи их! И направил на меня шпагу; я же, быстро вынув свою, скрестил клинки и, вышибив оружие из рук коменданта, кольнул его в плечо. Комендант охнул и сел на землю, а я, подняв пистолет, приказал инвалидам: — Ни с места, я ваш начальник! Инвалиды отдали честь, стоя с фонарями; комендант же сказал: — Вор, бери мою жену, вези куда хочешь! И вдруг закричал в ярости: — Запрягайте лошадей в тарантас, везите их к черту! И, разорвав на груди кафтан, зарыдал… Так я обрел себе верную жену, а впоследствии сделался счастливым отцом четырех малюток.Ю. Л. СЛЕЗКИН

НОВЕЛЛА
Это произошло в один из художественных jour-fix’ов, устраиваемых очаровательной женщиной, известной публике по вернисажам, неизменно появляющейся там с веткой желтой мимозы у корсажа. Модные художники и писатели, вхожие к ней в дом, называли ее «прелестной Альмеей», остальные вспоминали ее по цветку — «желтой мимозой». В тот день она позировала перед пятью художниками. Кроме них присутствовали на сеансе — молодой беллетрист Строев и музыкант-аккомпаниатор, кривоногий Ронин. Прелестная Альмея смеялась. Она была весела — эта белая женщина. Элегантный художник Забяцкий несколько раз повторил: — Я назову свою картину — «Смех». Вы мне дали идею, восхитительная модель. Вы образ изысканного, тонкого смеха. Художник Грас каждый раз возражал на это: — Будьте осторожны, пан Забяцкий. Я боюсь, что ваша картина заставит плакать. Остальные смеялись тоже. Было весело с веселой Альмеей. Строев сидел в глубокой нише венецианского окна, распахнутого настежь, и медленно тянул мараскин. Он был изящен в своем весеннем вестоне. В петлице ярко горел нарцисс. — Почему маэстро не играет? — спросил кто-то. Писатель улыбнулся. Он был холоден с пианистом. — Для этого у него слишком тонкий слух… — То есть? — подняла брови Альмея. Она поняла настроение писателя, — оно льстило ей, — и ждала большего. — Он боится испортить себе вечер, — серьезно ответил тот. Ронин побледнел и закусил губу. Художники переглянулись. Ворвавшийся ветер дышал розами. Это были любимые цветы хозяйки. Все замерли, наслаждаясь их томным запахом. Пианист оправился и заговорил первым. Он презрительно поджал губы, острая бородка торчала вперед. Глаза были сощурены и косились на Альмею. Она должна была знать, что все это из-за нее. — Monsieur ошибся. Я давно предвидел, что испорчу вечер, но такова моя участь… Я ждал, что monsieur прочтет свою новеллу… Теперь Строев должен был смириться. Во всяком случае, он понял ясный намек, но молчал. Пианист улыбнулся. Еще раз Альмея могла убедиться в ничтожности своего фаворита. Ронин не хотел уступать. Он прямо шел к цели. Она сумела замять неловкое молчание. Захлопала в ладоши: — Да, да, Строев, вы должны нам прочесть свою новеллу. — Но она не со мной, — возразил тот. — Тогда расскажите ее… — Конечно, расскажите, — подхватили художники. Они хотели быть любезными. — О, это слишком трудно. Для музыкальных звуков есть клавиши, для слов их нет… Он склонился и смотрел вниз на клумбы. Салоп был во втором этаже. Дали вечерели. Листва стала матовой. — Но сюжет, — настаивала женщина, — передайте хотя бы сюжет… Строев молчал. Казалось, грезил. — Сюжет прост, — начал он, — несложен… Нет ничего нового в мире, художественные образы исчерпаны — остались одни нюансы. Даш достоуважаемый маэстро обречен на вечную хандру… Но вот сюжет, если хотите… Он любил ее. Все равно — кто он, кто она. Она любила его. На этих данных развивается действие. Буду краток. После недолгого любовного удовлетворения он в своей огромной, всепоглощающей любви стал жаждать от нее любви еще большей, еще восторженней. Чем сильнее любила она, тем требовательней становился он. Все было мало. Он страдал от этого. Несмотря ни на что, он казался себе влюбленным безнадежно. А он не знал границ в своей жажде любви. Он напрягал все свои силы, чтобы разжечь ее любовь, но он жил, и в нем жили его желания, всегда возраставшие. Тогда ему пришла в голову дикая, бредовая мысль. Только осуществив ее, он верил, что навсегда и безраздельно завладеет сердцем любимой… — Эта мысль? — не вытерпела минутной паузы Альмея. У нее блестели глаза и побледнели от напряжения пальцы. — Что же он решил сделать? Строев молчал. Он чуть улыбнулся, но понял, что момент удачен, и молчал. Это делало особенно занимательным его рассказ. — Говорите же!.. Она была взволнована. Вся ее белая грациозная фигура, чуть склоненная, казала ожидание. Кругом молчали, заинтригованные. Беллетрист пил щекочущий хмель удовлетворения. Он нарочно опять перегнулся за окно и вглядывался в тени парка. Розы млели под влагой еще чуть зримого тумана. Бледный, с белыми губами, Ронин не сводил глаз с писателя и неслышно подвигался к нему за спинами художников. Когда он был совсем близко от Строева, то сказал мягко и вкрадчиво: — Я прошу извинения у monsieur. Новелла прелестна — я горю желанием знать ее конец. И быстро протянул вперед руку, точно давая ее для пожатия. Строев полуобернулся, как-то странно покачнулся и мгновенно исчез за нишей окна. Когда после невольного замешательства одни кинулись вниз — в сад, другие к окну, писатель уже был мертв. Он разбился об асфальт панели. Осталась сидеть одна только прелестная Альмея. Она сидела, так же склонившись вперед, как и раньше. Она не смеялась. — Он умер, — грустно произнес, наконец, пан Забяцкий. Но она не ответила ему. Она повернула свое лицо к окну и смотрела в небо. — Так вот он — конец его новеллы, — совсем тихо шептали ее губы, а глаза заволоклись туманом. Ронин стоял у окна. Его радостная усмешка спряталась, и губы сжались в злобной досаде. Он видел, что поняли все не так, как было и как он хотел. Он видел в глазах женщины любовь, но не к нему, а к умершему и проклинал себя за то, что он — он, Ронин, был автором конца этой нелепой новеллы.ДЕВУШКА ИЗ TROCADÉRO
О, память сердца, ты милей Рассудка памяти печальной! О. Батюшков
Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant D’une femme inconnue, et que j’aime et qui maime… Pacel Verlaine[22]Я люблю этот пышный дворец Trocadéro и особенно его левое крыло — Mussée de Sculpture Comparée, и особенно третью залу — в зимние сумерки, которые начинаются так рано и бросают сквозь запотевшие стекла свой алый отсвет. С дворцом этим, с его залой, с зимними вечерами у меня связано одно воспоминание, вряд ли изгладимое… Вы, конечно, знаете эту залу, переносящую вас в XV и XVI столетия, в век Возрождения. Вы помните величественную лестницу Saint Maclou de Roueñ; клирник Амьенского собора; изумительные двери дворца в Nancy — двери, открывшие путь Возрождению. Помните гробницы смиренно скрестивших на груди руки, неподвижно вытянувшихся на мавзолеях с собачками в ногах сыновей Карла VIII, Франциска II, Бретонского, Генриха II, Gaston de Foix Guillaum’a du Bellay, изумительную скульптуру Jean Goujon и Germain Pilon… Так вот, представьте вы себе эту залу в ранние зимние сумерки. Белый мрамор и восковая глина оживают под тусклым алым огнем заката. Каменные лица неожиданно меняют выражение: кажется, будто они что-то силятся вспомнить и не могут… Вот, вот сейчас… Я был в числе двух-трех любопытствующих, но каждый шел сам по себе. В третьей зале, в левом углу, сидела девушка с большой папкой на коленях. Она заканчивала свой рисунок — вероятно, спешила, боясь, что стемнеет… Я глянул на нее и прошел мимо. Дойдя до конца, я вернулся обратно. Теперь та же самая девушка стояла рядом с каким-то господином. Он кивал ей одобрительно головой и что-то показывал. Должно быть, то был художник, мнением которого незнакомка дорожила. Она стояла перед ним в своем простеньком сереньком платьице, вокруг нее точно вспыхивало сияние. Может быть, это было оттого, что как раз в ту минуту скользнул по зале прощальный луч; даже, наверное, это было так, но, представьте себе, со мною что-то такое произошло, что-то странное почувствовал я в своей груди. В ней точно стало шире и светлее. Когда я вспоминаю об этом мгновении, мне даже кажется, что я молился тогда — не словами, а в своем сердце. Точно уверовал, был неверующим — и вдруг глаза открылись… Это бывает — я слыхал. А может быть, это тоже мне кажется — просто подействовала на меня окружающая обстановка — усыпальницы, каплички, святые, всегда благословляющие… Не знаю… Но вот я остановился и стоял, и все смотрел па милую девушку, которая так хорошо исполнила свою работу, что ее даже похвалил известный художник. Конечно, это был очень известный художник, потому что в петличке у него я заметил красную ленточку. Вскоре он ушел, а я продолжал стоять на месте. Я не мог уйти. Девушка складывала свои рисунки в папку, потом выпрямилась, встряхнула головой и заметила меня. Заметила и улыбнулась: должно быть, я был смешон в своем застывшем созерцании, или она все еще слышала лестные слова художника. Но со стороны можно было подумать, что это мне она улыбнулась. Теперь я сижу у себя в комнате за своим письменным столом, а на улице газетчики выкрикивают: «La presse» и трубят рожки омнибусов — совсем как тогда, когда я стоял над Сеной и смотрел в ее темные воды. Я долго стоял там, мечтающий и рассеянный, покинув музей с особенной поспешностью, хотя мог бы попытаться познакомиться с художницей, как делал это не раз с другими женщинами. Нет, я убежал от нее и долго стоял над Сеной, а потом тихо побрел к себе домой, в Латинский квартал. Теперь я живу в квартале Пасси — в одном из самых богатых кварталов Парижа, но за своим окном я все так же слышу крики газетчиков, и все так же сжимается мое сердце, когда вспоминаю свою девушку из Trocadero. Да, потому что я полюбил ее тогда, как люблю ее сегодня. Я не знаю, почему это так вышло. Видно — судьба. Но на другой день я опять пошел во дворец, в третью залу, где работала девушка. Она сидела на своем месте и внимательно смотрела на фреску клирника. Когда я снова увидал ее, то сказал себе: «Она совсем как святая Женевьева, патронесса города». Мне очень понравилось это сравнение, и я стал называть девушку Женевьевой, хотя я и теперь не знаю ни ее настоящего имени, ни даже ее национальности. Мне кажется, что она не была француженкой. Но все-таки неудобно было так стоять перед нею и пучить глаза. Она, видимо, не замечала меня — а все же. Я ходил по залам и рассматривал скульптуру. Чаще всего, конечно, я возвращался туда, где сидела девушка. Перед самым закрытием музея опять пришел художник, и опять они о чем-то говорили друг с другом. Я заметил, что он ласково улыбается ей, когда смотрит на нее, а когда хочет показать что-нибудь, то дотрагивается пальцами до ее руки, и она не отдергивает ее. Мне кажется, он мог этого и не делать. А она… ну, она просто ничего не замечает, увлеченная разговором. Но все же на этот раз художник мне совсем не понравился. Он был лыс, хотя и не стар, и платье на нем сидело как-то нескладно. Опа опять вся сияла. Почему она сияла? Ну, да — конечно, от радости… Видно, она так была создана, чтобы ее все любили. Когда время было запирать музей, к ней подошел старенький служитель и ласково напомнил, что пора уходить. Она и ему улыбнулась и кивнула головою. Боже мой, сколько нежности и счастья было в этом сердце! Как предана, должно быть, она была своему искусству… Но все же — мне не нравился ее художник — вот подите же. Я, кажется, начинал ревновать, не имея на то никаких прав и оснований, а вместе с тем я ни разу даже не попытался подойти и поклониться ей. Не понимаю, откуда у меня явилась такая робость… Я нашел хороший предлог все время не оставлять Женевьевы, пока она работает. Я отправился в магазин и купил себе альбом для рисования. Добрый лавочник разложил их передо мною целую массу. Я выбрал самый большой в холщовом Переплете. Потом лавочник предложил мне карандаши разных номеров, тушь, пастель и уголь. Я ничего не смыслил ни в том, ни в другом, ни в третьем. Пришлось купить пять карандашей, коробку пастели и пачку угля. Все это хранится у меня до сих пор в ящике моего стола, вместе с альбомом, где я пытался нарисовать свою Женевьеву. Она мало похожа, но все же в грустные минуты я люблю смотреть на нее. Наутро я пошел в музей и смело сел в правом углу залы, против клирника Амьенского собора. Я пробовал срисовывать лепесток лилии, но выходило что-то очень скверное, тогда-то я принялся рисовать ее, молодую девушку. Говорят, лица труднее рисовать, чем орнаменты. Не знаю, но мне почему-то удавалась больше натура, хотя надо сознаться, и она была из рук вон плоха. Все шло хорошо, пока не явился этот, с красной ленточкой. Тут уж карандаш мой совсем перестал меня слушаться. Я все смотрел и смотрел на них. Конечно, она его любит, иначе она не стала бы так ему улыбаться. И за что, спрашивается?.. Он художник, известный художник. Почему я не художник? Вот подхожу к ней, слегка наклоняю голову и щурюсь, глядя на ее рисунок. Я говорю: «Да, да, это недурно, но нужно работать… много работать!» А в петлице у меня горит алая ленточка. Она слушает меня и сияет. Она знает, что я самый знаменитый художник и, кроме того, я очень красивый мужчина: мои глаза таят в себе особый блеск, в них есть что-то покоряющее. Но я очень равнодушен, я почти не вижу ее благодарной улыбки. А перед тем, чтобы уходить, вдруг оборачиваюсь и тихо спрашиваю: «Хотели бы вы быть моей женой?..» Так легко представить себе все это при желании. Все выходит очень красиво и совсем просто. Но не легко это осуществить в действительности. Теперь я богат и известен, хотя и не как художник, но мне некому говорить: «Вы хотели бы быть моей женой?» А тогда у меня не хватило смелости… Я начинал ненавидеть ее художника. Однажды, я нечаянно толкнул его, проходя мимо, и не извинился. Но он сам приподнял цилиндр и сказал: «Pardon!» Надо отдать ему справедливость, он оказался очень вежливым и воспитанным господином. Кроме того, я заметил, что у него были лакированные ботинки и черный костюм, очень нарядный… Я, конечно, не мог так одеваться, как он, зато, право же, был моложе и красивее его. Но, Боже мой, разве в этом дело? Однажды видели старуху, идущую по дороге, — в одной руке держала она сосуд, наполненный до краев водою, в другой — пылающую головню. «Куда ты идешь?» — спросили ее. А она ответила: «Иду поджечь и испепелить рай и затушить огонь ада, дабы иметь возможность любить Бога за Него Самого…» Ба, я хотел бы увидеть ту женщину, которая решилась бы испепелить рай и залить ад своей любви, но я этого не увижу, потому что в любви любят пе человека, а свою любовь. Уже неделю каждое утро ходил я из Латинского квартала во дворец Trocadéro, а вы знаете, как это далеко. Мне нужно было позаботиться о новой обуви, потому что старая уже никуда не годилась — эти каменные тротуары ее окончательно съели. Каждый день решал подойти к моей девушке, поклониться и назвать себя. Но что-то меня останавливало. Во-первых, я плохо говорил по-французски, а я не хотел краснеть перед нею; во-вторых, достаточно было взглянуть мне на ее профиль, совсем такой, как у св. Женевьевы, что стоит в Люксембургском саду, па ее черный глаз, с неугасающей искрой в зрачке, и я не находил слов, забывал, где я и что нужно делать. А раз — клянусь вам, что это правда, — я чуть-чуть не перекрестился, входя в залу, где она сидела. Я вообще не большого мнения был о женщинах, а вот — подите же! Девушка заметила меня, даже привыкла ко мне. Она всегда оглядывалась, когда я входил, и потом уже, точно успокоенная, принималась снова за свою работу. Замечая ее взгляд, я делал строгое, сосредоточенное лицо и поспешно садился на свое место. Любовь, как поэт, всегда находит новые стихи одной и той же поэзии. Сколько слыхали мы о ней, сколько видали любящих; и все же она застает нас врасплох и очаровывает нежданными чарами. Я нашел радости в своей молчаливой любви. Право, я точно достиг желанного, точно взял от любви все, что мог. Да разве любовники всего мира и всех веков знали когда-нибудь друг друга больше, чем я знал свою девушку из Trocadéro? Вспоминая те дни, я нахожу, что я был счастлив. Или счастье познается по сравнению, и судьба не дала мне другого? Нет, я все же говорил с моей девушкой. Я приходил в ту залу, где она сидела, устраивался напротив нее и зарисовывал ее лицо. Каждый день я мог наблюдать за изменением его выражения. Входя в залу, я уже по ее затылку догадывался, что она узнает мои шаги. Она оборачивалась и смотрела на меня. Сначала в ее глазах мелькала некоторая неуверенность, застенчивость, потом они темнели, точно переставали видеть, и вдруг сразу вспыхивали радостью, которая переходила в спокойствие. Когда она снова принималась за работу — зрачки ее суживались, ресницы опускались, и все лицо становилось серьезным и строгим, а губы чуть-чуть вытягивались вперед. Уверяю вас, когда не говоришь с человеком, по подолгу наблюдаешь за ним, то начинаешь читать его мысли лучше, чем если бы он сам постарался передать вам их. Вот почему я всегда знал, в каком настроении Женевьева, что ее тревожит. Кроме того, даже и сейчас назвал я ее Женевьевой. Разве это не имя и не красивое имя? Может быть, ей его дали при крещении, а если нет, то все же оно принадлежит ей более, чем всякое иное. Я вовсе не считал себя несчастнее других любовников, даже напротив. В одном я был равен с ними: я не знал, любит ли меня моя любимая. Этого мне по было дано, как не дано и всем остальным смертным. Она улыбалась, когда видала меня, это правда. Она успокаивалась при моем появлении, и работа ее шла увереннее — это тоже правда. Но разве этолюбовь? Я помню — в детстве я боялся темных комнат и ни за что не входил в них один. А с маленьким братом своим, который был вдвое моложе меня, я шел без страха куда угодно. Но разве это была защита? Просто иногда человеку чего-то не хватает, чтобы быть покойным, иногда пустяка — вот и все. Нет, я не был уверен в ее любви. Минутами только… Помню, мы выходили вместе из Trocadéro. Снег уже стаял, и над Сеною несся такой вольный весенний ветер. Он подхватил нас и помчал с собою. Женевьева шла впереди, я за нею. Она шла быстро, но я чувствовал, что она знает, что я недалеко от нее. Это было видно по ее несколько принужденному шагу — нервные люди всегда так ходят, когда на них смотрят. Тогда мне показалось, что ей неприятна моя близость: может быть, она думает, что я нахал, решивший ее преследовать, пошляк, готовый сказать свое: «Позвольте вас проводить». Нет. Боже упаси, я не хотел этого! Пусть не думает обо мне дурно, если не может полюбить. Я постепенно замедлял свой шаг, хотя мне следовало бы идти быстро, потому что на бульварах было мокро и грязно, а ботинки уже не защищали моих ног. Но я все же шел тише и тише и наконец совсем остановился. Я стоял и смотрел ей вслед. Губами я посылал ей свое прости до завтра, свой поцелуй. Я говорил чуть слышно: «До свиданья, моя Женевьева, моя единственная, моя радость…» Но вдруг я вижу, что она тоже замедляет шаг. Она идет все медленнее и медленнее, она точно не знает, куда ей повернуть. Потом начинает оглядываться, искать что-то по сторонам. И неожиданно, резко оборачивается назад, Лицом ко мне… Я ясно видел ее лицо. Боже, как оно было печально, сколько решимости было в ее сжатых губах и мольбы в широко раскрытых глазах. Не помня себя, я побежал к ней, с одним желанием помочь, успокоить ее, но, увидя меня, она кинулась испуганно в сторону и скрылась за углом. Я стоял на том месте, где только что она была, и хлопал себя по коленям, в тысячный раз повторяя: «Ах, ах!» Я даже нагнулся, ища что-то на тротуаре, — мне вдруг пришла нелепая мысль, что она потеряла свой кошелек. Потом, не знаю уже как, я дошел домой. Мысли мои путались, голова тяжелела и я только мог говорить: «Ах, ах!..» Дома я повалился на кровать и пролежал на ней целую неделю. Меня трясла лихорадка. Наконец, мои мысли прояснились, я почувствовал ровную теплоту во всем теле, радость победившей жизни, и я прошептал, улыбаясь: — Завтра я могу пойти и сказать ей, что люблю ее. И точно, на другой день я пошел в пышный дворец Trocadéro. В зале на обычном месте я увидал Женевьеву, а рядом с нею ее художника. Он говорил ей что-то, но, казалось, она не слушала. Никогда я не видал ее такою. Черные глаза ее ушли глубоко и смотрели в глубь себя, лицо осунулось и побледнело, губы вздрагивали. Только когда я был уже совсем близко, она услышала мои шаги. Она подняла голову, глаза ее раскрылись, обнажая бесконечное горе, а щеки мгновенно залились знойным румянцем. Все лицо ее вспыхнуло, как зарница, и вновь помертвело. Резким движением нагнулась она над своими рисунками, с лихорадочной поспешностью сложила их в папку и, чуть кивнув головою художнику, прошла к выходу. Я остался на месте, я уже не мог идти за нею, сказать, что люблю ее. Во мне созрела и окрепла уверенность в том, что она любит художника. Почему я так думал? Почему не подошел к своему сопернику и не спросил его об этом? О, я убежден был, что он оттолкнул ее с ее любовью, разорвал ее сердце. Откуда пришла ко мне тогда эта мысль? Не знаю, по я верил… А теперь?.. Я опять ходил по бесконечным парижским бульварам, садился за столики в кафе и пил пиво, много пива, потому что меня мучила жажда, и я не знал, куда девать ненужное время. Я слонялся всю ночь по кабаре и тавернам. А наутро опять пошел в Trocadéro. Пошел туда, чтобы в последний раз увидать Женевьеву, чтобы сказать ей свое прости. Пусть хоть это маленькое слово услышит она от меня. Нет, конечно, я ничего не скажу ей про свое чувство, я только подойду к ней, сниму шляпу и произнесу очень вежливо и просто: «Прощайте». Я вошел в Musée de Sculpture Comparée очень рано. Никого еще не было. Только старый сторож дремал в уголку. Я никогда не был здесь один. Мне всегда казалось, что должно быть страшно остаться тут на ночь. Но теперь я думаю, что еще страшнее здесь днем, когда никого нет и твои шаги звенят в мертвой тишине белых усыпальниц и таинственных капличек. Тихо спят мирные супруги — герцоги и властелины с собачками в ногах; белые херувимы вот-вот улетят в небо, но застыли зачарованные в своем стремлении; вытянутые вперед химеры Notre Dame открыли рты, но их зов замер в тишине — все ждет, все просит чуда, все заворожено… Каждый мой шаг мне казался последним. Вот замрет и этот единый живой звук, приподнятая нога повиснет, окаменеет в воздухе, руки упадут вдоль бедер, и глаза остановятся, все еще тая в себе желание тела. Я нарочно старался быстрее двигаться, чтобы не поддаваться этому гипнотическому чувству… Женевьева не приходила. Тогда я сел на ту скамью, на которой она всегда сидела. Я начал вспоминать все дни, проведенные с нею здесь, каждую мелочь этих встреч. Все-таки она питала ко мне некоторого рода симпатию, пожалуй, даже привязанность. Конечно, конечно… Это доказывали не только ее улыбки, но и внимание ко мне. Она, например, знала, что я часто забываю резинку. Сначала я забывал ее с непривычки, а потом нарочно… потому что Женевьева клала всегда свою резинку недалёко от меня у ног Генриха II, на мавзолее, а мне приятно было пользоваться ее вещью. Впервые она сделала это после того, как я тщетно пытался соскоблить нарисованное перочинным ножом и, наконец, протер бумагу. Она заметила это и захотела мне помочь. Нет, любовь к художнику не отняла у нее доброго отношения к другим… Да полно, может быть, она его и… Я не докончил своей мысли: мне страшно было думать об этом; кроме того, я посмотрел па усыпальницу Генриха II, где обыкновенно лежала ее резинка, вот она и теперь тут… а под ней клочок бумажки… должно быть, отрывок от ее рисунка, который она разорвала, не окончив. Я потянулся к мавзолею и взял резинку и бумажку. Приятно было держать в руках то, до чего она касалась. Да, это угол от толстого листа бумаги, на каком она всегда рисует. Как поспешно его оторвали — какая неровная линия… На обратной стороне написано: «Я люблю тебя и потому умираю». Какие глупости — откуда это?.. Непонятное беспокойство овладело мною. Что же она не приходит? Да, почему ее еще здесь нет? Там написано… Что там написано?.. И вдруг захолонуло сердце. Я оцепенел, потеряв на мгновение нить мыслей. Потом вскочил. Нервная поспешность кинула меня в одну сторону, в другую. Казалось, нужно что-то делать, торопиться. И вдруг точно пришел в себя и уже совсем ясно сказал: «Тебе незачем никуда идти, некуда спешить — все кончено, ее нет…» Какое это было ужасающее спокойствие. Как мучительно ясны были мои мысли. Как логично я рассуждал в эти минуты, томясь по следам и не находя их. Я смотрел на фреску старой каплицы с орлом, распростершим крылья, и думал: «Она так и не кончила рисовать его, кто же кончит? Нужно непременно кончить — это очень интересная фреска». Потом вспомнил о записке. Начал искать ее по карманам. Вот она… Ее не нужно брать с собой. Я не имею права. Пусть она лежит здесь. Может быть, она и не для меня, а для того, другого… Да, да… очень может быть… Я осторожно положил ее на прежнее место и прикрыл резинкой. Но сейчас же вспомнил, что эту резинку она давала мне, а никому другому, и спрятал ее снова в карман. Поспешными, деловитыми шагами вышел из зала, подошел к сторожу, стоявшему у двери, сунул ему в руку франк и сказал: — Это от той барышни, что рисовала фреску, — опа уже больше никогда не придет сюда. О, я был очень спокоен, потому что твердо знал, что нужно делать. Больше того, придя домой, я уже знал наверное, кого любила бедная девушка из Trocadéro. Она любила меня, и это облегчало мне мою задачу… Только нежданный случай, точно веление свыше, голос святой Женевьевы, помешал мне в тот вечер наложить на себя руки. Что же, я не ропщу и давно уже примирился с жизнью. Я убежден даже, что больше мужества нужно для того, чтобы жить в своих страданиях, чем умирать от них… Но часто ко мне приходят печальные мысли. Я думаю: настанет ли тот час, когда я полюблю кого-нибудь так сильно, так свято и так всецело, как ее — мою девушку из Trocadéro. И каждый раз мне кажется, что нет.
УДИВИТЕЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА
La plus sérieuse occupation de l’homme est de deviner la femme. Crébillon II[23]Вероятно, вы ничего не будете иметь против, если я вам расскажу про одну удивительную женщину, с которой меня столкнула судьба. Кроме того, вы просили меня дать вам пасхальный рассказ. Во всяком случае, эта история произошла со мною на Пасху, и, если вам угодно, вы можете назвать ее «пасхальной». Но, конечно, тут дело не в Пасхе, а в этой странной женщине, которая, может быть, только потому кажется мне странной, что я до сих пор не мог приклеить к ней определенный ярлычок, как это мы делаем со всеми людьми, чтобы выяснить наше к ним отношение. Такой способ очень удобен и не отнимает у нас много времени — кроме того, он дает нам право гордиться своей проницательностью, умением распознавать людей. Но, нужно сознаться, чаще приходится слышать и говорить «удивительная женщина», чем «удивительный мужчина», а это уже далеко для нас не лестно. Потому что, согласитесь сами, в жизни-то удивительных женщин гораздо меньше, чем мужчин, и если нам кажется обратное, то, следовательно, мы достаточно слепы, ничего почти не понимаем в человеческой душе и отсутствие цели в поступках приписываем необычайности характера. Как бы то ни было — вот вам моя история. Я гулял по Кузнецкому (в Москве), когда ко мне подошла женщина, очень прилично, даже если хотите, изысканно одетая, и, извиняясь за беспокойство, спросила, который час. Я любезно приподнял котелок, мельком глянув в лицо незнакомки, скрытое густою черною вуалеткой (помню еще, на вуалетке вышиты бабочки), и, достав из бокового жилетного кармана свой старинный золотой брегет, посмотрел на стрелки. Было ровно без четверти восемь вечера. Дама благодарно кивнула мне шляпкой и побежала дальше, а я еще, помнится, нажал машинально головку часов и, прислушиваясь к серебряному, ласкающему звону их, несколько секунд смотрел вслед удаляющейся молодой фигуре. Какое-то еле уловимое волнение на мгновение овладело мною, как бывает это нередко с нами, когда ранней весною мы невзначай взглянем на мимо идущую молодую женщину и услышим ее как-то по-особенному звонкий голос. Но я по природе не уличный ловелас и никогда не завязываю знакомства такого рода. Меня всегда пугала пошлость необходимого в таких случаях шаблонного диалога, кроме того, я был ленив и показался бы себе достаточно смешным, если бы мне пришлось из-за такого пресного приключения тащиться куда-нибудь к черту на кулички, совсем в противоположную сторону от намеченного ранее пути. И, что поделаешь, — во мне еще сидит этот червь романтизма, который пробуждается всякий раз при виде ворожащего женского лица только потому, что через мгновение оно исчезнет, бесследно затеряется в толпе, навсегда умрет для меня. В данном случае мои мысли были заняты совсем другим. Постояв минуту в нерешительности, я прошел несколько шагов в шуме и тесноте предпраздничной толчеи и остановился у сверкающей витрины цветочного магазина. Цветы меня так же прельщают, как и женщины. Я не отдаю себе ясного отчета, что, собственно, более в них меня пленяет — цвет, запах или форма, но, раз увидав их где-нибудь, я долго не могу отвести от них взгляда и редко не соблазняюсь купить их. Глядя на все это богатство красок, на эту пеструю волну лепестков, листьев и света, я невольно особенно остро и как-то до дна понял душевное свое настроение последних дней. Это чувство было покойно-радостно. В Москву я приехал ненадолго и, собственно говоря, точно не знал, зачем именно я сюда приехал. Здесь жила женщина, которую я когда-то любил тихой, хорошей любовью. Это было еще в школьные годы, но и тогда я не мог бы сказать — любовь ли это или дружба, потому что о чувстве своем никогда не говорил и даже о нем не думал, — это было, если хотите, что-то похожее на любовь к родине, на нежную привязанность к отчему дому, что-то неуловимое, смутное, но неизъяснимо очаровательное… Вам не надоели такие подробности? Впрочем, эти страницы все равно принадлежат мне… Так вот, за время, отделяющее те дни от описываемого мною случая, я успел уехать из Москвы, расстаться с предметом моего чувства, даже позабыть о нем. И только случайно в Великом посту, встретясь с приятелем, вновь услышал ее имя. Оказывается, она справлялась обо мне, интересовалась моей жизнью… Не правда ли, это немного походило на старинный, сантиментальный роман?.. Как вы находите?.. Хотя, весьма вероятно, я ошибаюсь. Иногда люди справляются о старых знакомых только потому, что им не о чем говорить. Но, Боже мой, когда достаточно молод, капризы воображения часто увлекают нас. Вы понимаете — страстная неделя, близость Пасхи, близость весны, наконец, Москва с ее сорока сороков церквей, наполняющих синью зацветающий воздух густым своим звоном… Как хотите, а это побеждает, это может заставить человека позабыть на время свою размеренную жизнь. Я сел в скорый поезд, приехал в Москву и вот очутился на Кузнецком в страстную субботу, у цветочного магазина. По правде сказать, моя былая любовь оказалась прелестной женщиной. Это все. Я в ней не разочаровался, потому что, давно забыв ее, не был ею очарован. Талантливая артистка с московским своим четким и громким говором, она если и не хотела видеть меня, то все же, увидев, показала всем обликом, что обрадовалась мне от всего сердца. Такая встреча как нельзя более шла к моему настроению, ко всему окружающему, московскому, и если немного охладила мое взвинченное воображение, то зато наполнила мою душу той безмятежной ясностью, которую я в себе отчетливо сознал, глядя на цветы за зеркальным стеклом. В этот день, вернее, в эту ночь, я собирался разговеться в кругу своих друзей, в обществе актеров, художников, музыкантов, писателей. Среди них должна была быть и та, ради которой, как думал, я сюда приехал. Мы хотели встретить вместе приход весны. Была какая-то особенная сладость, тонкая острота в предчувствии того братского поцелуя, которым мы должны были с ней обменяться в трогательном, детском приветствии: «Христос Воскресе!» — «Воистину Воскрес». Но, предупреждаю, все это не является темой моего рассказа, и если я говорю об этом, то только для того, чтобы точнее передать вам все ощущения, владевшие мною в тот вечер, а может быть, просто из излишней болтливости. Кстати добавлю — вечер был серый, моросил мелкий дождь, сырой воздух напитан был запахами оттаявшего навоза, бензина, конского пота, отсыревшего сукна, запахом чего-то типично московского, прогоркло-постного. По обыкновению, я не мог себе отказать в удовольствии зайти в магазин и купить цветов. Вы замечали когда-нибудь, какие лица, какие фигуры бывают у цветочниц; у всех этих девушек, целыми днями вдыхающих сладостный ядовитый аромат. У них у всех есть что-то сонное в глазах, в походке, в движениях; мне кажется, что они все немножко пьяны, немножко экзальтированы, чуть-чуть легкомысленны. В петлицу я выбрал себе белую камелию. Мне пришло это в голову внезапно. При взгляде на продавщицу я вспомнил «Даму с камелиями» Александра Дюма и Сару Бернар в этой роли. Потом я подошел к большой круглой чаше, к синему глубокому блюду, наполненному пармскими фиалками, и хотел было взять несколько пучков для букета своему другу, когда внезапно звякнула стеклянная дверь и с улицы вошла дама в густой черной вуалетке на лице. Это была та дама, которая десять минут тому назад спрашивала у меня, который час. Она быстро, не глядя на меня, подошла к блюду с фиалками, к противоположной его стороне, опустила глаза на цветы, едва касаясь их нежных лепестков тонкими, затянутыми в черные перчатки пальцами, и неожиданно вскрикнула, дрогнула, готовая упасть, но устояла, неровными шагами дошла до стула у кассы и села. В ответ на испуганный вопрос продавщицы, что с нею, она тихо, но спокойно молвила: — Ах, право, ничего, благодарю вас, это от цветов, от их запаха… Он кружит мне голову… И, тотчас же поднявшись, попросила завернуть ей букет из фиалок. Первым моим движением было — стремление к ней, желание помочь, поддержать ее, но она не упала, и я остался стоять на месте, немного смущенный и нерешительный. Только когда, расплатившись, дама открыла выходную дверь и, мгновение задержавшись, глянула в мою сторону и сейчас же исчезла в сумерках улицы, я собрался с мыслями. Нет, конечно, ее нельзя было отпускать одну: припадок, весьма вероятно, мог повториться. В конце концов, это меня мало касалось, я совершенно был равнодушен к судьбе незнакомки под черной вуалеткой, но, подите же, часто наши поступки почти необъяснимы, а, вместе с тем, кажутся нам необходимыми. Своего рода категорический императив. Я уже вижу вашу двусмысленную усмешечку, но уверяю вас, что это так, только так. Моя дама шла очень медленно, ежеминутно останавливаясь. Я сразу же увидал ее и нагнал. На улицах зажглись фонари, и серая муть стала от этого еще гуще. Кроме того, дождь усилился, по асфальту текли целые потоки, нужно было куда-нибудь спасаться. Я нагнулся к лицу незнакомки, снова, как и в первый раз, приподнял котелок и проговорил решительно: — Я боюсь оставить вас одну в таком состоянии и в такую погоду, но если вам это не нравится, я готов удалиться. Она ответила тотчас же: — Улицы принадлежат всем — вы свободны идти, куда вам угодно. Этот ответ был слишком ясен и потому неожидан. Я смутился и сказал пошлость (точно нарочно мои опасения на этот счет оправдывались): — Если женщина так хороша, как вы, полиция должна была бы запрещать ей выходить одной, ее появление представляет для нас слишком большой соблазн. Не думайте, что я пользуюсь вашей минутной слабостью и тем, что вы уже раз первая обратились ко мне. Но теперь я не мог не последовать за вами, может быть, потому, что мне казалось, вам нужна моя помощь. Дождь все усиливается, вы еще слабы — я вижу это по вашей походке. Здесь за углом стоят моторы. Мы сядем и поедем, куда вам угодно, но ваше место в такой час и в такую погоду, во всяком случае, не тут, на улице. Если раз начнешь говорить глупости, то уже трудно остановиться. Это похоже на соловьиное пенье — так же красноречиво и избито. Не дожидаясь ответа, я подхватил свою спутницу под локоть и помог ей войти в каретку. Она молчаливо и покорно уселась в ее темной глубине. — Куда прикажете? — спросил шофер. Так как незнакомка все еще молчала и, кажется, не думала отвечать — точно заснула там, в своем уголку, — то я крикнул в пространство: «Все равно», — и захлопнул дверцу. Но как только мотор зафыркал, зашипел и потом понесся во тьму и дождь, как только начался наш бешеный бег по Москве, которого я никогда не забуду (шофер, должно быть, понял, что тут можно поживиться), так сейчас же таинственная моя спутница промолвила тихо, но голосом твердым, не допускающим возражения: — Не задавайте мне никаких вопросов — я не стану вам отвечать на них, предупреждаю вас. Вы не знакомы со мною, меня не знаете и, чтобы то ни было, никогда обо мне ничего не узнаете и никогда больше меня не увидите. Москва — человеческая пустыня, и потерять в ней человека легче, чем найти. Я хотела завлечь кого-нибудь на улице — из каприза, испорченности, фантазерства — думайте, как хотите — и случайно выбрала вас. Пеняйте на судьбу, если вам угодно, или благодарите ее. Сбитый окончательно с толку, я пробормотал растерянно: — Значит, ваш вопрос о времени… ваша слабость… были только предлогом? Но она не ответила. Она стала нема, как рыба, неподвижна, как истукан, — я не подберу более резких сравнений только из уважения к вам, потому что, по правде сказать, после нескольких минут упрашиваний я уже стал злиться… У нее была железная воля, черт возьми, у этой маленькой женщины, несомненно интересной, — я этого еще не видел, но ясно чувствовал. На все мои мольбы, убеждения, насмешки, довольно прозрачные намеки на подозрительность ее поведения она ни разу не разомкнула губ. Может быть, она смеялась там, у себя под черной вуалькой с бабочками, смеялась немым смехом хитрой женщины, самым неприятным смехом, какой только я знаю. Я ни о чем не догадывался, ничего не видел, ничего не понимал. Весьма вероятно, вы не раз читали о чем-нибудь подобном, о таких путешествиях с незнакомками, о таинственных приключениях, о случайных встречах на улице. Этой темы касались многие беллетристы — большие и малые, но все же это не мешает мне рассказать о своем приключении, потому что оно действительно имело, место и все-таки, как-никак, заслуживает внимания. На мой взгляд, по крайней мере. Не думаю, чтобы все эти истории так походили одна на другую. Все-таки в них во всех есть что-нибудь свое, а я ведь не плохой рассказчик, и притом, уверяю вас, давно не приходилось мне читать о таких случаях, и, следовательно, тут не может быть никакого заимствования. Право, мне не до этого сейчас — слишком ярки мои собственные воспоминания. Итак, моя спутница молчала, а я терялся в догадках, тщетно ища удобный выход из этого неловкого положения. Согласитесь, неприятно сознавать себя глупым в присутствии интересной женщины. Наконец, я решил: если слова бесполезны, нужны действия. Ведь не каменный же я! И, придвинувшись к этой удивительной женщине, я дотронулся до ее руки. Она не шевельнулась, не дрогнула. Тогда я обхватил ее стан — она не двигалась; я расстегнул ей ворот пальто — она осталась мертвой; я поднял край ее черной вуалетки и поцеловал ее в губы. При смутном свете, мелькающем в стеклах каретки, я увидел правильный бледный овал лица с черными пятнами глаз. Тогда я обезумел, я потерял голову, я перестал владеть собою… Мы неслись с ужасающей быстротой, — а может быть, это мне только казалось. Я не заметил, как автомобиль остановился — слишком внезапно, — точно я спал и меня разбудили… • • • Шофер постучал в стекло и спросил, куда ещё ехать. Было уже совсем темно — бедный малый, должно быть, беспокоился, что с нами? И к тому же наступал светлый праздник… Спутница моя резко оттолкнула меня и сказала опять тем же холодным и спокойным голосом, каким говорила впервые. А, однако, за несколько минут до этого она далеко не оставалась равнодушной к моим поцелуям. . — Я оставлю вас, — сказала она, — и еду к себе. Но помните, если вы вздумаете еще преследовать меня, если вы сделаете за мною хоть один шаг, я расколю вам ваш череп пулей из этого револьвера, который всегда со мною. И быстрым движением она открыла дверцу и спрыгнула на мостовую. Я невольно подался вперед, вытаращив глаза и не находя слов для ответа. Обернувшись еще раз в мою сторону, она кинула: — Прощайте, сударь… Если я кажусь вам потерянным раем, то это все, что я могла сделать… большего не ждите. Черт возьми, я сжимал кулаки от бешенства, досады, обиды. Хотя по правде сказать, чего еще хотел? Конечно, во мне говорило мелкое мужское самолюбие, которое в нас просыпается всякий раз, когда мы не являемся хозяевами положения. Но тогда я не рассуждал. Автомобиль мой опять несся по темным улицам — я дал шоферу адрес дома, где должны были собраться мои друзья. Я все-таки решил туда поехать, хотя эта Светлая ночь была для меня окончательно испорчена. Все мои тихие романтические фантазии испарились, растаяли. Я не находил в душе своей ничего, что бы могло вернуть мне прежнее настроение. Опустив стекло каретки, я смотрел на мелькающие мимо дома. В это время разнесся над Москвою радостный благовест. Ударил колокол у Василия Блаженного, за ним поплыл звон тысячи других колоколов — больших и маленьких. Масленные волны их, казалось, наполнили все закоулки, все глухие тупики города. Вскоре к ним примешался смутный гул человеческой толпы. Мы выехали на площадь, где стоял памятник Минину и Пожарскому. Все небо перед нами загорелось оранжевым заревом. Шофер снял фуражку и перекрестился: — Христос Воскресе! — приветствовал он меня. Я смущенно ответил: — Воистину Воскрес! — и попросил проехать мимо Кремля, пылающего плошками. Мне хотелось взглянуть на крестный ход. Вид этих святых огней, праздничного люда, колеблемых хоругвей должен был привести меня в равновесие. Когда я подъезжал, наконец, к последнему месту моих скитаний — я уже почти забыл о приключении. Я рад был даже, что оно так оборвалось и не возобновится. Длинный, белый, пасхальный стол наполнил мою душу какой-то детской радостью. Меня встретили общими восклицаниями, шутливыми приветствиями. В открытые окна вливался этот ликующий звон вместе с запахами ночи, затихшего дождя, свежестью чуть пробуждающейся весны. Мой друг, моя былая любовь, подошла ко мне легкими, торопливыми шагами. Ее полная, но стройная фигура в белом платье, ее свежее лицо тридцатилетней здоровой женщины, ее умные, серые глаза, с ласковой усмешкой и такой милой застенчивостью остановившиеся на мне, — все в ней показалось очаровательным, влило в душу мою какую-то крепкую бодрость. Повторяю, она была талантливой артисткой, но что мне до этого? Я протянул ей руки, и мы трижды поцеловались. Потом меня стали знакомить с теми еще, кого я раньше не знал. Но внезапно меня точно ударили обухом по голове. В комнату входила новая гостья. Ее походка подняла во мне улегшееся было беспокойство, ее голос наполнил бешеным звоном мои уши. Не было сомнений — это была она — удивительная женщина моего приключения. Я застыл на месте, не отрывай от нее глаз. Ее белое лицо — Пьеро, с широким пунцовым ртом и вздернутым носиком; ее голова в нимбе темных волос, ее круглые глаза, немного наивные, немного лукавые, ее тонкий стан с высокой грудью — все это я мог видеть впервые при ярком свете электричества. Так же хорошо, как и она могла видеть меня, во всем моем растерянном великолепии. Было мгновение, когда я готов был бежать отсюда. Во всяком случае, я чувствовал себя преглупо.. Но, заметив меня, она не подала виду, что узнала своего случайного спутника. Ее глаза только на минуту стали шире и наивнее, и тотчас же она стала улыбаться своим знакомым. Не спуская с нее глаз, захваченный вновь нервным беспокойством, напряженностью, всем эти нежданным продолжением таинственного приключения, я подошел к моему другу и спросил взволнованно: — Ради Бога, скажите мне, кто эта дама? Мой друг с любопытством взглянула на меня и ответила, улыбаясь: — Я вижу, она произвела па вас впечатление. Это печально для вас, дорогой мой: она действительно обворожительна, но, увы, безупречна во всех отношениях. Ее муж очарователен, и она от него без ума — во всяком случае, их всегда можно увидеть вместе. Он блестящий музыкант и человек с большими средствами. К сожалению, он чувствует себя сегодня не особенно здоровым и не мог приехать сюда. Но удивительнее всего то, что она, несмотря па свою интересную наружность, — человек очень простой, с большой склонностью к семейному благополучию. Я не сказала бы, что ее вкусы оригинальны и что в ее жилах течет горячая кровь. Если у нее нет детей, то это только случайно. Вообще, она одна из тех немногих женщин, о которой мужчины не найдут сказать друг другу что-либо по секрету. Можете себе представить, с каким удивлением я все это выслушал. Я думаю, сам дьявол не сумел бы выдумать более невероятного. Тогда я решил воспользоваться своим правом светского человека и попросил познакомить меня с нею. Артистка укоризненно покачала головой. — Однако мы стали большим ловеласом! Но все же подвела меня к незнакомке. Когда через несколько минут мы остались одни, я сказал ей с внешней любезностью: — Как видите, сама судьба против вас. Мы опять встретились, и я знаю, кто вы. Уверяю вас, я ничего пе предпринимал для этого, и даже ваш револьвер, который вы предусмотрительно возите с собою, ни в чем не мог бы вам помочь. Она повела обнаженным плечом, ее алый рот раскрылся в веселой усмешке, но тихий голос звучал сталью: — Как знать, может быть, он еще мне сослужит службу. Но, во всяком случае, я запрещаю вам подходить Ко мне. Между нами ничего не было — кажется, ясно! Не могло быть — понимаете ли вы это? Да, я отлично понимал, что она права. Кто мог поверить всей этой истории? Я учтиво раскланялся и, пе замеченный никем, вышел на улицу. Все-таки было неловко смотреть в глаза людям. Я чувствовал себя так, точно меня вывернули наизнанку. И даже постучал себя по лбу, не веря, на месте ли у меня голова. Меня ждал у подъезда тот же мотор, который доставил меня сюда. Я сел и поехал к себе в гостиницу «Метрополь». Брезжил слабый рассвет. Город казался вымершим. Закуривая папиросу, я, при свете зажженной спички, увидал на коврике у ног своих раздавленный букет пармских фиалок. Машинально я поднял его и поднес к лицу. Он был холоден и мертв. Грустный его запах — запах истерзанных лепестков и стеблей, увлаженных прозрачной их кровью, наполнил мою душу какой-то горькой, скребущей печалью. Я резко отодвинулся от этих жалких остатков букета и выбросил их на улицу, на сереющий асфальт тротуара, болезненно пробормотав: — Больная женщина, и ничего больше. Потом закрыл уставшие глаза и не размыкал их до самого подъезда гостиницы. Счетчик показывал какую-то баснословную цифру, когда я, наконец, остановился и принужден был расплачиваться с шофером. Но каково было мое смущение, а потом беспокойство и даже испуг, когда, вложив руку в боковой карман фрака, я не нашел там своего бумажника. А в нем лежали все мои наличные, довольно крупная сумма, черт возьми! На дне каретки его тоже не было. А, однако, я отлично помнил, что нигде его не вынимал, так как в этот день расплачивался из кошелька. Я представлял из себя довольно нелепую картину человека, выворачивающего среди улицы свои карманы. Что думал обо мне шофер? Как бы то ни было, пришлось будить управляющего гостиницы и просить его рассчитаться. Слабая надежда найти бумажник в номере все же не покидала меня, но и она не оправдалась. Деньги мои так-таки исчезли бесследно. Положение было из рук вон плохо, но раздражение, досада, горькое недовольство собою не давали мне поразмыслить хладнокровно. Я расшвырял по всему номеру свои вещи, с ожесточением лег на кровать и заснул только потому, что слишком устал от пережитых за день волнений. На другое утро стук в дверь разбудил меня. Это пришел мой приятель, художник, с которым я вчера разговлялся. Он пожурил меня, говоря, что я совсем забыл его, и удивлялся моему вчерашнему внезапному исчезновению. Потом, не обращая внимания на мое заспанное, злое лицо, промолвил мечтательно: — Ах, какая обворожительная женщина эта Н. (он назвал фамилию моей незнакомки), я вчера провожал ее домой… mais voici une petite femme qui a trouvé le moyen d’être tout a la fois vertueuse et charmante!..[24] Я готов уже был резко оборвать его, когда в дверь постучали сызнова и вошедший курьер подал мне конверт. Извинившись, я вскрыл его и прочел следующее: «Моя честь в ваших руках. Сейчас рассудок вернулся ко мне; я верю вашему благородству, которое не позволит вам нарушить мое спокойствие. Клянитесь мне не пытаться снова меня увидеть — лишняя встреча с вами убила бы меня. Но я вам верю». Подписи пе было, почерк был явно изменен. Я с раздражением скомкал этот листок, потом с каким-то злорадством разорвал его в мелкие клочки. Я не верил ни одному его слову. Во мне все еще кипела злоба. Ничего не поделаешь, когда у человека пропали деньги, — вся его наличность, — и он в чужом городе и знает твердо, что ему нет почти никакой возможности скоро выбраться отсюда, — он бесится и уже не справляется со своим рассудком… Бросив последний клочок этого злополучного письма, я встал и, подойдя к приятелю в упор, глядя на пего, прошипел с ненавистью: — Должен тебе заметить, любезный, что у меня есть веские основания сомневаться в vertu’езности и прочих добродетелях этой твоей очаровательной госпожи Н.! Если хочешь знать, я имел удовольствие провести несколько незабываемых часов, которые стоили мне, на мой взгляд, чересчур дорого… Да, да, почтеннейший, очень дорого! Потому что опа украла у меня мои деньги! Кругленькую сумму, дорогой мой. Я стоял перед приятелем и хохотал во все горло. Мне было ужасно смешно, смешно до того, что я готов был избить этого восторгающегося идиота! А он раскрыл рот от удивления и, кажется, считал меня сошедшим с ума… Увы, он ошибался: я слишком хорошо знал, что ум пе изменяет мне в эти минуты и что бумажника мне не видать, как своих ушей. На этом заканчивается моя трагикомическая история. Я извиняюсь, если понапрасну задержал на ней ваше благосклонное внимание, если она показалась вам недостаточно серьезной. Но все же мне кажется, что и эту безделку вы прочли до конца — а что может быть слаще такой награды! И потом сознайтесь, ведь все-таки женщина, описанная мною, удивительная женщина!
М. ГОРЬКИЙ

СКАЗКИ ОБ ИТАЛИИ (XXII)
Квартал святого Якова справедливо гордится своим фонтаном, у которого любил отдыхать, весело беседуя, бессмертный Джованни Боккачио и который пе однажды был написан на больших полотнах великим Сальватором Роза, другом Томазо Аниелло — Мазаниелло, как прозвал его бедный парод, за чью свободу он боролся и погиб, — Мазаниелло родился тоже в нашем квартале. Вообще — в квартале нашем много родилось и жило замечательных людей — в старину они рождались чаще, чем теперь, и были заметней, а ныне, когда все ходят в пиджаках и занимаются политикой, трудно стало человеку подняться выше других, да и душа туго растет, когда ее пеленают газетной бумагой. До лета прошлого года другою гордостью квартала была Нунча, торговка овощами, — самый веселый человек в мире и первая красавица нашего угла — над ним солнце стоит всегда немножко дольше, чем над другими частями города. Фонтан, конечно, остался доныне таким, как был всегда; все более желтея от времени, он долго будет удивлять иностранцев забавной своей красотою, — мраморные дети не стареют и не устают в играх. А милая Нунча летом прошлого года умерла на улице во время танца — редко бывает, чтоб человек умер так, и об этом стоит рассказать. Она была слишком веселой и сердечной женщиной для того, чтоб спокойно жить с мужем; муж ее долго не понимал этого — кричал, божился, размахивал руками, показывал людям нож и однажды пустил его в дело, проколов кому-то бок, по полиция не любит таких шуток, и Стефано, посидев немного в тюрьме, уехал в Аргентину; перемена воздуха очень помогает сердитым людям. Нунча в двадцать три года осталась вдовою с пятилетней дочерью на руках, с парой ослов, огородом и тележкой, — веселому человеку немного нужно, и для нее этого вполне достаточно. Работать она умела, охотников помочь ей было много; когда же у нее не хватало денег, чтоб заплатить за труд, — она платила смехом, песнями и всем другим, что всегда дороже денег. Не все женщины были довольны ее жизнью, и мужчины, конечно, не все, но, имея честное сердце, она не только не трогала женатых, а даже часто умела помирить их с женами, — она говорила: — Кто разлюбил женщину — значит, он не умеет любить… Артур Лано, рыбак, который юношей учился в семинарии, готовясь быть священником, но потерял дорогу к сутане и в рай, заблудившись в море, в кабачках и везде, где весело, — Лано, великий мастер сочинять нескромные песни, сказал ей однажды: — Ты, кажется, думаешь, что любовь — наука такая же трудная, как богословие? Она ответила: — Наук я не знаю, но твои песни — все. И пропела ему, толстому, как бочка:Это уж так водится: Тогда весна была — Сама богородица Весною зачала.
Он, разумеется, хохотал, спрятав умные глазки в красный жир своих щек. Так и жила она, радуясь сама, на радость многим, приятная для всех, даже ее подруги примирились с нею, поняв, что характер человека — в его костях и крови, вспомнив, что даже святые не всегда умели побеждать себя. Наконец, мужчина — не бог, а только богу нельзя изменить… Лет десять сияла Нунча звездою, всеми признанная первая красавица, лучшая танцорка квартала, и, будь она девушкой, — ее, конечно, выбрали бы королевой рынка, чем она и была в глазах всех. Даже иностранцам показывали ее, и многие из них очень желали беседовать с нею наедине, — это всегда смешило ее до упада. — На каком языке будет говорить со мною этот сто раз выстиранный синьор? — На языке золотых монет, дурочка, — убеждали ее солидные люди, но она отвечала: — Чужим я не могу продать ничего, кроме лука, чесноку, помидоров… Были случаи, когда люди, искренно желавшие ей добра, говорили с нею очень. настойчиво: — Какой-нибудь месяц, Нунча, и — ты богата! Подумай хорошо над этим, вспомни, что у тебя есть дочь… — Нет, — возражала она, — я люблю мое тело и не могу оскорбить его! Я знаю — стоит только один раз сделать что-нибудь нехотя, и уже навсегда потеряешь уважение к себе… — Но — ведь ты не отказываешь другим! — Своим, и — когда хочу… — Э, что такое — свои? Она знала это: — Люди, среди которых выросла моя душа и которые понимают ее… Но все-таки у нее была история с одним форестьером из Англии — очень странный, молчаливый человек, хотя он хорошо знал наш язык. Молодой, а волосы уже седые, и поперек лица — шрам; лицо — разбойника, глаза святого. Одни говорили, будто бы он пишет книги, другие утверждали, что он — игрок. Она даже уезжала с ним куда-то в Сицилию и возвратилась очень похудевшей. Но он едва ли был богат — Нунча но привезла с собою пи денег, ни подарков. И снова стала жить среди своих, — как всегда, веселая, доступная всем радостям. Но вот однажды в праздник, когда люди выходили из церкви, кто-то заметил удивленно: — Смотрите-ка — Нина становится совсем точно мать! Это была правда, как майский день; дочь Нунчи незаметно для людей разгорелась звездою, такою же яркой, как мать. Ей было только четырнадцать лет, по — очень рослая, пышноволосая, с гордыми глазами — она казалась значительно старше и вполне готовой быть женщиной. Даже сама Нунча удивилась, присмотревшись к ней: — Святая мадонна! Неужели ты, Нина, хочешь быть красивей меня? Девушка, улыбаясь, ответила: — Нет, только такой, как ты, этого и для меня довольно… И тогда впервые на лице веселой женщины люди увидали тень грусти, а вечером она сказала подругам: — Вот наша жизнь! Не успеешь допить свой стакан до половины, а к нему уже потянулась новая рука… Разумеется, сначала. незаметно было и тени соперничества между матерью и Ниной — дочь вела себя скромно, бережно, смотрела на мир сквозь ресницы и пред мужчинами неохотно открывала рот; а глаза матери горели все жадней, и все призывней звучал ее голос. Люди вспыхивали около нее, как паруса на рассвете, когда их коснется первый луч солнца, и это верно, для многих Нунча была первым лучом дня любви, многие благодарно молчали о ней, видя, как она идет по улице рядом со своею тележкой, стройная, точно мачта, и голос ее взлетает на крыши домов. Хороша она была и на рынке, когда стояла перед яркоразноцветной кучей овощей, точно написанная великим мастером на белом фоне церковной стены, — ее место было у церкви святого Якова, слева от паперти, она и умерла в трех шагах от него. Стоит и — точно горит вся, веселыми искрами летают над головами людей ее бойкие шутки, ее смех и песни, которых она знала тысячи. Она умела одеться так, что ее красота выигрывала, как доброе вино в стакане хорошего стекла: чем прозрачнее стекло — тем лучше оно показывает душу вина, цвет всегда дополняет запах и вкус, доигрывая до конца ту красную песню без слов, которую мы пьем для того, чтоб дать душе немножко крови солнца. Вино, о господи! Мир со всем его шумом и суетою не стоил бы ослиного копыта, не имей человек сладкой возможности оросить свою бедную душу хорошим стаканом красного вина, которое, подобно святому причастию, очищает нас от злого праха грехов и учит любить и прощать этот мир, где довольно-таки много всякой дряни… Вы только посмотрите сквозь наш стакан на солнце — вино расскажет вам такие сказки… Стоит Нунча на солнце, зажигая веселые мысли и желание правиться ей, — пред красивой женщиной стыдно быть незаметным человеком и всегда хочется прыгнуть выше самого себя. Много доброго сделано было Нунчей, много сил разбудила она и влила в жизнь. Хорошее всегда зажигает желание лучшего. Да, а около матери все чаще является дочь, скромная, как монахиня или как нож в ножнах. Мужчины смотрят, сравнивают, и, может быть, некоторым становится понятно, что иногда чувствует женщина и как обидно ей жить. Идет время, все ускоряя свой торопливый, мелкий шаг, золотыми пылинками в красном луче солнца мелькают во времени люди. Нунча все чаще сдвигает густые брови, а порою, закусив губу, смотрит на дочь, как игрок на другого, стараясь догадаться, каковы его карты… Проходит год, два — дочь все ближе к матери и — дальше от нее. Уже всем заметно, что парни не знают, куда смотреть ласковей — на ту или эту. А подруги, — друзья и подруги любят укусить там, где чешется, — подруги спрашивают: — Что, Нунча, гасит тебя дочь? Женщина, смеясь, отвечала: — Большие звезды и при луне видны… Как мать — она гордилась красотой дочери, как. женщина — Нунча не могла не завидовать юности; Нива встала между нею и солнцем — матери обидно было жить в тени. Лано сочинил новую песенку, в первом куплете ее говорилось:
Будь я мужчиной — я тогда Заставила бы дочь мою Родить земле красавицу, Как я в ее года…
Нунча не хотела петь эту песню. Шел слух, будто Нина не однажды уже говорила Нунче: — Мы могли бы жить лучше, если бы ты была более благоразумна. И настал день, когда дочь сказала матери: — Мама, ты слишком заслоняешь меня от людей, а ведь я уже не маленькая и хочу взять от жизни свое! Ты жила много и весело, не пришло ли и для меня время жить? — В чем дело? — спросила мать, виновато опустив глаза, — знала она, в чем дело. Воротился из Австралии Энрико Борбоне, он был дровосеком в этой чудесной стране, где всякий желающий легкодостает большие деньги, он приехал погреться на солнце родины и снова собирался туда, где живется свободней. Было ему тридцать шесть лет — бородатый, могучий, веселый, он прекрасно рассказывал о своих приключениях, о жизни в дремучих лесах; все принимали эту жизнь за сказку, мать и дочь — за правду. — Я вижу, что нравлюсь Энрико, — говорила Нила, — а ты с ним играешь, и это, делая его легкомысленным, мешает мне. — Понимаю, — сказала Нунча. — Хорошо, ты не станешь жаловаться мадонне на твою мать… И эта женщина честно отошла прочь от человека, который — все видели — был приятен ей больше многих других. Но известно, что легкие победы делают победителей заносчивыми, а если победитель еще дитя — дело совсем плохо! Нина стада говорить со своей матерью не так, как заслуживала Нунча; и вот однажды, в день святого Якова, на празднике, нашего квартала, когда все люди веселились от души, а Нунча уже великолепно станцевала тарантеллу, — дочь заметила ей при всех: — Не слишком ли много танцуешь ты? Пожалуй, это не по годам тебе, пора щадить сердце… Все, кто слышал дерзкие слова, сказанные ласково, замолчали на секунду, а Нунча в ярости крикнула, подпирая руками стройные бока: — Мое сердце? Ты заботишься о нем, да? Хорошо, девочка, спасибо! Но — посмотрим, чье сердце сильнее! И, подумав, предложила: — Мы пробежим с тобою отсюда до фонтана трижды туда и обратно, не отдыхая, конечно… Многим показалась смешной эта гонка женщин, были люди, которые отнеслись к этому как к позорному скандалу, но большинство, уважая Нунчу, взглянуло да ее предложение с серьезной шутливостью и заставило Нину принять вызов матери. Выбрали судей, назначили предельную скорость бега, — все, как на скачках, подробно и точно. Было много женщин и мужчин, которые, искренно желая видеть мать победительницей, благословляли ее и давали добрые обеты мадонне, если только она согласится помочь Нунче, даст ей силу. И вот мать и дочь стоят рядом, не глядя друг на друга, вот глухо ударил бубен, они сорвались и летят вдоль улицы на площадь, как две большие белые птицы, — мать в красном платке на голове, дочь — в голубом. Уже с первых минут стало ясно, что дочь уступит матери и в легкости и силе, — Нунча бежала так свободно и красиво, точно сама земля несла ее, как мать ребенка, — люди стали бросать из окон и с тротуаров цветы под йоги ей и рукоплескали, одобряя ее криками; в два конца она опередила дочь на четыре минуты с лишком, и Нина, разбитая, обиженная неудачей, в слезах и задыхаясь, упала па ступени паперти — но могла уже бежать третий раз. Бодрая, словно кошка, Нунча наклонилась над нею, смеясь вместе со многими. — Дитя, — говорила она, поглаживая рассыпавшиеся волосы девушки своей сильной рукой, — дитя, надо знать, что наиболее сильное сердце в забавах, работе и любви — сердце женщины, испытанной жизнью, а жизнь узнаешь далеко за тридцать… Дитя, не огорчайся!.. И, не давая себе отдохнуть после бега, Нунча снова пожелала танцевать тарантеллу: — Кто хочет? Вышел Энрико, снял шляпу и, низко поклонясь этой славной женщине, долго держал голову почтительно склоненной перед нею. Грянул, загудел, зажужжал бубен, и вспыхнула эта пламенная пляска, опьяняющая, точно старое, крепкое темное вино; завертелась Нунча, извиваясь, как змея, — глубоко понимала она этот танец страсти, и велико было наслаждение видеть, как живет, играет ее прекрасное непобедимое тело. Плясала она долго, со многими, мужчины уставали, а она все не могла насытиться, и уже было за полночь, когда она, крикнув: — Ну, еще раз, Энри, последний! — снова медленно начала танец с ним — глаза ее расширились и, ласково светясь, обещали много, — но вдруг, коротко вскрикнув, она всплеснула руками и упала, как подрубленная под колени. Доктор сказал, что она умерла от разрыва сердца. Вероятно…
Г. И. ЧУЛКОВ

ГОЛОС ИЗ МОГИЛЫ
I
Весною 1650 года в одном из воскресных нумеров Антверпенской газеты было напечатано: «В Швеции умер дурак, который говорил, что он может жить так долго, как он пожелает». Это был Декарт. В сочинениях Христиана Гюйгенса читатель найдет замечательное письмо философа к брату. Из этого письма я и заимствую мои сведения о статье Антверпенской газеты, появившейся два с половиной века тому назад. Декарт, веривший в безусловное могущество разума, в самом деле охотно допускал мысль, что человек завоюет себе бессмертие здесь, на земле. Иные пылкие ученики его готовы были поверить в бессмертие своего учителя и весьма изумились, когда Декарт скончался. Мои религиозные убеждения исключают веру в земное бессмертие, однако и я склонен думать, что человек может по произволу продлить жизнь свою собственную или кого-либо из иных людей. В конце концов страшный закон смерти восторжествует на земле, но борьба с этим законом и даже временная над ним победа возможна. Вопреки мнению Декарта, я думаю, однако, что сила, противоборствующая смерти, не есть наш верховный разум. Я верю, что эта тайная сила заключается в нашей воле. Я знаю по опыту, как могут сочетаться души и как они могут влиять друг на друга и как это влияние переходит за грани внешнего мира. Я прошу выслушать меня не только тех, кто склонен допустить существование миров иных, и тех, кто утверждает самоуверенно предельный агностицизм. Дело в том, что я сам скептик, милостивые государыни и милостивые государи. Но я умею скептически относиться решительно ко всему — даже к самому крайнему скептицизму. Вот почему я не восхищаюсь Пиропом, который прошел равнодушно мимо попавшего случайно в яму Анаксарха, полагая, что всякая видимость ничего не значит и что поэтому решительно все равно, протянет или не протянет он руку своему злополучному ученику. Как ни низко я ценю здравый смысл, однако при известных условиях необходимо пользоваться его указаниями. И это, надеюсь, примирит меня кое с кем. Итак, я начинаю мое повествование о событиях моей жизни, о моей любви и о моих страданиях. Я любил мою жену, любил нежно и пламенно. И самое имя ее — Вера — звучало для меня как обетование райского света. Мне так же трудно выразить мои благоговейные чувства, мое восхищение и мой восторг, как трудно определить словами прелестное очарование моей Веры. Никогда не встречал я женщины более искренней и правдивой, но никогда также не приходилось мне открывать в душе человека столько противоречий, острых и неожиданных. Вера всегда оставалась собою — страстная и целомудренная, мудрая и наивная, строгая и добрая, жестокая и готовая пожертвовать своею жизнью и пойти на казнь без трепета и сомнений. Опа была женственна, как земля, как вечная Ева, но в ее сердце звучали песни, занесенные в наш мир ангелами из голубой страны, где первоисточник предвечной гармонии. Однако она, по-видимому, вовсе не сознавала, что неземной свет сияет в ее глазах, и была привязана к земле безраздельно, как растение.II
Два года мы счастливые жили в России — я и моя жена. На третий год мы решили уехать в Италию. Мы приехали в Венецию поздно вечером. Когда черпая гондола беззвучно отчалила от вокзала и гондольер, неспешно гребя веслом, направил ее вдоль безмолвного канала; когда мы почувствовали странную тишину венецианской ночи и услышали шуршащие шаги запоздавших прохожих, торопливо переходивших по горбатым мостам; когда мы вошли в отель, у порога которого при свете фонаря плескалась зеленая вода, и увидели нашу комнату с огромным распятием и с мебелью, уцелевшую, по-видимому, от времен Гольдони, Тьеполо и Казановы; мы вдруг почувствовали, что вот сейчас безвозвратно канул в прошлое наш далекий пустынный мир, где мы любили друг друга так страстно и так верно. Дни и ночи, проведенные нами в Венеции, Падуе и Флоренции, угасли, как сны. Мы спешили в Рим. — В Рим! В Рим! — говорила Вера в непонятном восторге, почти в экстазе. И я разделял ее чувства и хотел поскорее увидеть Рим, где мы намерены были поселиться на несколько месяцев. Но уже по дороге из Флоренции в Рим у меня явилось новое чувство, похожее на страх. И я боялся сам себе признаться, что я уже знаю, как будет опасно для меня пребывание в Риме. — Стыдно быть суеверным, — повторял я, смущаясь, однако, все более и более по мере того, как мы приближались к Вечному Городу. Сначала предчувствия мои не оправдались. Ничто не нарушало нашего счастья. Рим очаровал и пленил нас. Мы поселились на вершине Капитолийского холма, на via del Campidoglio, которая спускается вниз к Римскому Форуму. Из наших окоп видны были античные развалины — три колонны, оставшиеся от храма Веспасиана, камни храма Согласия, базилика Юлия и прочие обломки великолепного Рима. Но не этот мертвый город, когда-то суровый, мощный и страшный, увлек нас. Мы восхищались Римом Возрождения, безумной пышностью Ватикана, но еще более мы полюбили христианский Рим первых веков, таинственную прелесть строгих фресок, их дивную монументальность в духе Византии. И в то же время мы радостно улыбались, любуясь вольною роскошью Бернини и мрамором иных вилл, созданных по прихоти людей XVIII века. Мы наслаждались Римом, жадно вдыхали воздух Кампании, уезжали за город, бродили по окрестностям, отыскивая все новые и новые сокровища, припоминали историю и с непередаваемым чувством касались камней, которые были свидетелями великих событий. Но в глубине моей души я таил смутную тревогу, как будто моему счастью угрожала близкая опасность. Однажды, гуляя по Риму, мы зашли в базилику св. Климента. Как необычайна эта церковь! Она глубоко ушла в землю. И в то время, когда в ее верхнем ярусе, над землею, служат мессу среди средневековых стен, украшенных богатою мозаикою, представляющей Христа с символами евангелистов, св. Климента, св. Лаврентия, и св. город Вифлеем, — там, в глубине, под мрачными сводами скрывается иная, безмолвная церковь, где при свете свечи можно рассмотреть древнейшие фрески первых веков христианства, бледные и полустертые, но еще сохранившие выразительность рисунка, в котором явственно отразилась экстатическая и целомудренная душа художника. А еще ниже, еще глубже ушла в землю третья, ныне недоступная церковь — языческая: здесь был когда-то храм Митры и когда-то здесь совершался таинственный ритуал — дар загадочного Востока утомленному безверием Риму. Когда мы вошли в церковь, службы не было. Мы осмотрели мозаику и спустились вниз в обществе нескольких случайных туристов. Впереди нас шел с фонарем монах и говорил по-французски с итальянским акцентом, указывая на фрески: — Вот… На стенах надписи седьмого века… — Вот… Христос, благословляющий по греческому обычаю… Его монотонный голос странно и тоскливо звучал под сводами. Мы покорно следовали за монахом и рассматривали фрески, не столько восхищаясь их красотою, сколько благоговея перед их древностью. Но вдруг и я, и Вера остановились, пораженные и взволнованные одним чувством — тем волнующим, острым, беспокойно сладостным чувством, которое рождается в сердце, когда видишь шедевр, отразивший твою мечту, повторивший твой сон, который ранил когда-то твое сердце. Это была фреска в нише — Мадонна с Иисусом на руках. Часть фрески погибла. Едва-едва сохранились очертания фигуры Богоматери и облик Христа; но лицо Вечной Девы, заключенное в византийскую корону и окруженное золотым нимбом, было дивно и загадочно, прекрасно и нежно. — Глаза! Какие глаза! — прошептала Вера, касаясь рукою моей руки. Я обернулся и вздрогнул. Рядом с Верою стояла другая женщина. Глаза этой незнакомки были тождественны с глазами Мадонны. То, что Вера обратила внимание на это поразительное сходство, исключало возможность истолковать мое впечатление как случайную иллюзию. И, однако, какое-то странное и неприятное подозрение мгновенно возникло у меня в душе. В чем я сомневался: в том ли, что это сходство в самом деле так очевидно для всех, или в том, следует ли обращать внимание на сходство, столь непонятное и странное? «Хорошо ли, — думал я, — придавать значение этому случайному совпадению? Мастер VI века, писавший Мадонну, верил в ее чудесную непорочность, а эта женщина, несмотря на поразительное внешнее сходство, по-видимому, вовсе не свободна от земных страстей». Как будто подчиняясь какому-то внушению, я обернулся и стал пристально разглядывать незнакомку. Да, это были те же черты, та же строгая линия бровей, тот же овал подбородка, те же пылающие загадочные глубокие глаза, обведенные темно-синими кругами, и тот же, наконец, рот… Но в то же мгновение я вдруг понял, чем отличается лицо незнакомки от лица Мадонны. Незнакомка чуть-чуть улыбнулась. И лишь эта едва заметная улыбка, лукавая и двусмысленная, нарушала тождество двух женских лиц, в жизни и на фреске, — двух лиц, так неожиданно возникших передо мною в этой подземной церкви, при мерцающем свете восковой свечи. Все эти мысли мгновенно пронеслись в моей душе. Незнакомка заметила, какое впечатление она произвела на меня и на мою спутницу. — Посмотрите наверх, господа, — забормотал на своем итальянско-французском языке монах, указывая на фреску над аркой, — вот Христос, окруженный ангелами и святыми… Незнакомка вздрогнула почему-то и выронила из рук бедекер. А когда я поднял его, она, краснея, сказала по-русски: — Благодарю вас. При выходе из базилики мы познакомились. Эта женщина, чье сходство с Мадонною так изумило меня и Веру, оказалась русскою дамою, путешествующей по Италии в обществе своей старой родственницы, которая, по ее словам, осталась на этот раз в отеле, потому что чувствует себя не очень хорошо. Когда мы расстались, сообщив друг другу наши адреса, я поспешил поделиться с Верою моим впечатлением, и она сказала, что не менее, чем я, изумлена этим сходством нашей соотечественницы с образом Вечной Девы, пригрезившейся четырнадцать веков назад какому-то итальянскому мастеру. — Но как странно улыбается эта русская, — сказала тихо Вера. И я ничего не ответил ей тогда, но я почувствовал, что наша встреча неслучайна и что улыбка эта будет фатальной для меня.III
На другой день па Piazza di Spagna мы встретили графиню Елену Оксинскую — так звали нашу новую знакомую. Вера предложила ей поехать с нами за город по Via Appia к катакомбам св. Каликста. Она тотчас же согласилась. Эта поездка сблизила нас. И вот начались наши странные свидания втроем — в галереях, театрах, музеях, базиликах и виллах… Неожиданная нежность Веры к графине, жизнь которой нам совсем была неизвестна, смущала меня, и я даже предостерегал ее от сближения с этой загадочной женщиной. Но и сам я испытывал на себе влияние ее чар, и были минуты, когда у меня являлось желание бежать из Рима, чтобы не видеть графини Елены, ее двусмысленной улыбки, ее таинственных глаз и тонких рук, нежных и бледных, как лилии. Графиня Елена очаровала нас, однако, тою непринужденностью, которая свойственна настоящим аристократам, чьи предки в течение многих веков привыкли к личной свободе и р счастливому обладанию сокровищами мировой культуры. Но я до сих пор не могу понять, как она при ее высоком уме, тонком вкусе и прекрасном образовании могла примирить свой аристократизм с явной благосклонностью к одному ничтожному и лживому человеку, о котором я должен рассказать сейчас, чтобы выяснить мое отношение к событиям, связанным с именем графини Оксинской. Сеньор Николо Джемисто был тот человек, дружба которого с графиней Оксинскою казалась мне странной. Нередко видел я графиню в обществе ее тетки, дряхлой старушки, едва ли способной мыслить здраво, и этого неприятного мне Джемисто, австрийского венгерца, присвоившего себе почему-то итальянскую фамилию. Однажды графиня Елена пригласила меня и жену мою к себе в отель на чашку «русского» чая, и мы, не колеблясь, приняли это приглашение, о чем теперь я готов сожалеть, потому что вечер этот был для меня началом грустных событий, свидетельствующих о моей слабости и, пожалуй, о моем позоре. В этот памятный для меня вечер графиня Елена была пленительна и нежна, остроумна и загадочна боле, чем когда-либо. Ее изумительное сходство с образом Богоматери и в то же время эта непонятная тонкая ядовитая улыбка, такая неожиданная при этом сходстве, экстатический блеск ее глаз и строгая линия лба — все это внушало мне волнующие чувства, быть может, подобные влюбленности. Когда графиня познакомила меня с сеньором Джемисто, я невольно вздрогнул, почувствовав в лице этого человека что-то лживое и болезненное вместе с тем. Цвет лица его был странно белый, что делало его похожим на куклу. Как будто неживая маска, с приклеенными черными усами, надета была на лицо этого сеньора, а настоящие черты его были тщательно скрыты. Вот почему казалось лживым это мертвое лицо. Однако глаза Николо Джемисто быстро бегали в отверстиях этой белой личины, скрывавшей какую-то тайну. И красные губы Джемисто, искривленные в неизменную улыбку, пугали меня, вызывая невольно воспоминание о рассказах про вампиров и упырей. Благодаря находчивости графини и ее умению руководить обществом, завязался разговор, несмотря на то, что у меня возникла в душе определенная антипатия к сеньору Джемисто, хотя, разумеется, я старался ее скрыть и сохранить спокойствие. Мне было трудно это сделать, потому что тема нашей беседы могла бы вызвать ожесточенный спор, и я тщетно уклонялся от обсуждения по существу вопросов, затронутых графинею и Джемисто. Я вынужден был возражать иногда самоуверенному сеньору, утверждавшему весьма легкомысленно такие вещи, которые, на мой взгляд, свидетельствовали о его неумном суеверии или об его недобросовестности. Мы разговаривали о телепатии, телекинетии, телефонии и телесоматии, причем Джемисто судил обо всех этих формах анимизма с неприятной развязностью профессионального медиума. И в самом деле, вскоре выяснилось, что сеньор Николо Джемисто считает себя медиумом, и графиня подтвердила, что глубоко верит в его необычайные, медиумические свойства. — Спиритизм, — сказал я, пе будучи в силах скрыть моего раздражения, — вовсе не внушает мне доверия. Вот уже несколько десятилетий господа спириты тщетно стараются нас уверить в наличности простых фактов, и даже это им пе удается. Почему? Я придаю значение древней и средневековой магии, готов считаться и с современным оккультизмом, но я не могу игнорировать в то же время доводов моего разума. А мой разум требует при исследовании новых явлений точного метода. Вместо этой желанной точности спириты предлагают случайные опыты, скомпрометированные кроме того многочисленными обманами шарлатанов. — Вы еще сомневаетесь в самом существовании медиумических явлений? — спросил меня Джемисто, улыбаясь своею мертвою улыбкой. — Неужели вы не доверяете свидетельству таких ученых, как химик Мэне, или физик Варлей, или физиолог Майо, или астроном лорд Линдсей? — Отдельные имена ничего не доказывают. Ученых могли обмануть простые фокусники. — Я назвал вам четыре случайных имени, — возразил Джемисто, пожимая плечами, — но я могу назвать вам мировых ученых, чья наблюдательность и опытность исследователей не позволяют нам предположить, что они явились жертвою шарлатанства. Я назову вам всемирно известного Крукса, Бутлерова, Уоллеса, Де-Моргана, Фламмариона, Цоллнера, Фехнера, Баррета… И я могу прибавить еще десятки не менее известных и почтенных имен… — Ах, сеньор, имена ничего не значат в данном случае. Я, в свою очередь, назову вам Менделеева и целый ряд иных ученых, которые уличали спиритов в легковерии и легкомыслии. — Вопрос о медиумизме можно разрешить лишь собственным опытом, — заметила графиня, желая, по-видимому, прекратить наш запальчивый спор. — Сеанс! Сеанс! — вдруг совершенно неожиданно забормотала тетушка графини Елены. — Давайте устроим сеанс… Сеньор Джемисто всегда так любезен… И я хочу беседовать с князем Василием… Я с изумлением посмотрел на старуху. Кстати сказать, я всегда недоумевал, зачем графиня, путешествуя по Европе, возит с собою эту развалину. По-видимому, графиня (ее муж — моряк — был в дальнем плавании) считала неудобным путешествовать одна, без какой-нибудь родственницы — и вот эта старуха, выжившая из ума, сопровождала ее повсюду для соблюдения светского приличия. Вероятно, мои предположения не лишены были некоторого основания. Тетушка, подняв маленькие сморщенные руки и кивая головою в пышном чепце, настаивала на том, чтобы все теперь же приняли участие в сеансе. Я посмотрел вопросительно на мою жену. Она улыбалась снисходительно. Тогда я заявил, что готов принять участие в сеансе. На середину комнаты выдвинули круглый столик, вокруг которого все уселись и образовали медиумическую цепь. Сеньор Джемисто сидел между графинею и ее тетушкою. За ширмы заранее поместили стол с бумагою, карандашом и колокольчиком. На камин поставили одну горящую свечу. Электричество погасили. Сеанс начался, и, конечно, последовательно возникали явления, о которых тысячу раз говорили и писали спириты, ничего не разъясняя, с какою-то упрямою наивностью. Конечно, столик выстукивал фразы, бессодержательные и пустые; конечно, дух князя Василия говорил с тетушкою о придворных сплетнях; конечно, звонил колокольчик за ширмами и на оставленном там листе неведомая сила написала фразу по-итальянски: La Morte trionfa dell’uomo…[25] Мне скучно было присутствовать при однообразных опытах. Тогда столик простучал фразу: «éteignez la bougie!»[26] По знаку графини я потушил свечку. Минут десять мы сидели молча в темноте. Потом появился какой-то неясный свет, голубоватый и холодный, в виде небольшого пятна. Как я ни старался обнаружить его источник, мне это не удалось. Светящееся пятно росло и принимало постепенно иной вид. Уже можно было различить очертание человеческой фигуры, закутанной в белый плащ. Привидение склонилось над Джемисто, который был освещен светом, исходившим как будто от этой белой полупрозрачной фигуры. Я не сомневался тогда, что нас мистифицирует этот выходец из Австрии, успевший почему-то снискать доверие графини Елены. Столик простучал: «Lumière». Я зажег свечу. Привидение исчезло. Сеньор Джемисто находился в трансе. Я, конечно, склонен был думать, что он притворяется. Графиня, однако, сама подала ему стакан с водою, когда он пошевелился и томно откинул голову на спинку кресла. Тетушка была в восторге: — Князь Василий — как живой… Я как будто слышала его голос… Сеньор Джемисто! Сеньор Джемисто! И завтра надо устроить сеанс… Вы согласны? А? И эта дряхлая старуха с неожиданным проворством схватила медиума за плечо своими костлявыми пальцами. Джемисто вздрогнул и поднял голову, озираясь. — Признает ли теперь наш скептик подлинность медиумических явлений? — спросила меня графиня, улыбаясь, как всегда, ядовито и двусмысленно. — Чудо внутри нас, — ответил я уклончиво и тоже усмехнулся.IV
Мои предчувствия оправдались. Странный вихрь налетел на меня и поверг меня на землю. Я низко пал в те дни, покорствуя какой-то темной силе, обольстительной и ужасной. Я как будто забыл тогда, что моя Вера была единственной пристанью, где мог бы я укрыться от грозы и ветра. А я бежал от нее прочь и сам искал бури, не сознавая своего безумия. Я влюбился в графиню Елену Оксинскую. Я пе заметил, как опасные сети опутали меня, и было уже поздно, уже не было возврата, когда я дал себе отчет в моих поступках. На другой день после сеанса моя жена почувствовала легкое недомогание. Она решила остаться дома и расположилась в углу дивана с книгою в руке. А мне привели верховую лошадь, и я отправился на Monte Pincio. Я ехал в рассеянности, мысли мои как-то распылились, и я почти не замечал того, что окружало меня. И вот внезапно я почувствовал, что мне угрожает опасность. Я прекрасно помню мое слепое желание предотвратить во что бы то ни стало эту неведомую опасность. Но моя смутная тревога тотчас же исчезла почему-то, когда я увидел, что навстречу мне едет коляска и в ней сидит графиня Елена с крошечною японскою собачкою на коленях. Эту собачку звали Диу-Миу. Совсем лишенная шерсти, лишь с хохолком на макушке и маленькими пучками волос на лапках, она была забавна и внушала в то же время, вероятно, благодаря своей хрупкости, какую-то невольную жалость. Когда я подъехал к коляске и поздоровался, графиня ласково мне улыбнулась и тотчас же заговорила со мною все о том же — о моем напрасном скептицизме и о важности медиумических опытов. — Одно из двух, — сказал я, — или медиумические явления натуральны, и тогда нет основания уклоняться при изучении их от методов строгой науки; или эти явления связаны так или иначе с демоническими силами, и тогда они перестают быть интересными, потому что поведение медиума и ответы «духов» свидетельствуют с достаточной убедительностью о том, что эти предполагаемые демоны относятся к категории существ ничтожных, мелочных и не мудрых. Но есть еще и третья возможность, — прибавил я, усмехаясь. — Это прямой обман и шарлатанство со стороны медиума. Впрочем, я думаю, что возможно сочетание всех трех предположенных данных. — Я тоже думаю, — проговорила задумчиво графиня, — что в медиумических явлениях надо различать и то, и другое, и третье… — Значит, вы допускаете и шарлатанство? — спросил я, недоумевая. — Да. Бессознательное. Демоны дурачат медиума, и он подчиняется иногда их требованиям. — Но ведь медиумов обличали в заранее обдуманных фокусах. — Медиума всегда сопровождают духи. Он почти в их власти. — И медиум постепенно перестает быть человеком. Не правда ли? Он становится как бы автоматом. Не так ли? — Пожалуй, что так. — А! — воскликнул я не без некоторого раздражения. — Вот почему сеньор Николо Джемисто так похож на куклу. Графиня Елена ничуть пе обиделась на мое грубоватое замечание о ее близком знакомом. — Джемисто похож на куклу, — повторила она задумчиво и стала ласкать собачку, которой, по-видимому, доставляли большое наслаждение прикосновения графини. Мы разговаривали о медиумизме и как будто бы спорили, но в это время, помимо моей воли, между мною и графиней происходило какое-то иное, безмолвное общение, устанавливалась какая-то иная, невидимая, но реальная связь. Я наслаждался звуками ее голоса, светом ее глаз, движениями ее руки, которая ласкала собачку… В течение недели моя жена не выезжала никуда из отеля, и как-то само собою случилось, что я каждый день видел графиню и, хотя между нами не было произнесено пи одного слова, обличающего наши чувства, я почему-то скрыл от жены эти наши свидания. Я не верю в то, что принцип этого мира может быть нарушен; я не верю в то, что сверхъестественное начало может изменять природный порядок; но я нисколько не сомневаюсь, что существа иных не природных измерений — скажем, демоны — могут влиять на нас непосредственно, вмешиваться непрестанно в нашу психическую жизнь, пе посягая, однако, на нормы земной жизни. Чудес быть не может, потому что чудо всегда едино. Если бы существовали чудесные явления — два, три, четыре, — мы всегда могли бы установить новый закон, что исключает, разумеется, самую идею чуда. Чудо неповторяемо. Однако мы слишком поверхностно исследовали даже этот ограниченный мир трех измерений. Вот почему надо быть осторожным при обсуждении явлений и опытов, на первый взгляд странных и неожиданных, по в конце концов согласованных с верховным принципом мироздания. Итак, я почувствовал в те дни, что какие-то демоны окружили ценя и влияют на мою судьбу. Разлюбил ли я мою жену? Нет, я пе сомневался тогда, что не могу без нее жить. Однако я был в плену, жестоком и сладостном, и я пе мог освободиться от чар моей загадочной возлюбленной — графини Елены Оксинской. О, как мучительна была эта двойственность моей внутренней жизни! И как не похожи были эти женщины друг на друга! Если жена моя воплощала в себе очарование земли, ее душу, ее мудрую тишину, если ее жизнь была как мирный путь нашей планеты в пространстве, полет ее вместе с солнцем к какой-то иной великолепной звезде; если она была царственна и нежна и если все в ней было гармония и песня, то что можно было сказать про графиню Оксинскую? В этой странной женщине не было вовсе ни тишины, ни земной правды, ни совершенной гармонии… Она страдала аритмией сердца и, вероятно, аритмией души: в ее душе звучала музыка пленительная, но исполненная диссонансов, мучительных и волнующих; ее красота сочеталась с болезненной меланхолией; в ее улыбке таилось что-то порочное, а в ее глазах была предсмертная грусть… И ее любовь была как благоуханное, но ядовитое зелье. Я жадно припал к пьяной чаше и выпил ее до дна.V
Я не буду рассказывать о том, когда и как я первый раз сказал графине Елене о моей любви; я не буду рассказывать о наших свиданиях. Для меня открылась новая огромная страна, исполненная дивных очарований и волшебных видений. И в то же время я испытывал ужасные муки, сознавая свое падение и тщетно скрывая свою страсть от моей Веры, которая тотчас же угадала то, что случилось. Она не спрашивала меня ни о чем, и я ничего не говорил ей, но эти долгие вечера, которые проводил я вне дома, эта любовная лихорадка, которая овладела мною, — все, конечно, выдало мою ужасную измену. Я возвращался домой, не смея смотреть в глаза моей жене. Ее нерешительная просьба провести с нею вечер — тогда, когда у меня было назначено свидание с графиней; ее тихий вздох или глаза, наполненные слезами, — как это мучило меня! И как я стыдился моей страсти, чувствуя иногда, что в ней больше магии, чем любви. Ах, эти римские лунные ночи, среди траурных остроконечных кипарисов и благоухающих роз, когда графиня Елена шептала мне таинственные слова о предвосхищении смерти! Ах, эти любовные признания, смешанные с певучими строками Данта! Я не забуду никогда, как смотрела на меня графиня Елена, как она прислушивалась к моему голосу, как повторяла иные мои слова… Я не забуду наших тайных свиданий в незаметных отелях, когда графиня входила в эти сомнительные убежища и одним жестом превращала все, нас окружавшее, в сказочный сон. Слова и поступки графини Елены были всегда необычайны и всегда значительны, потому что она себя и меня, и весь мир чувствовала предсмертно, как обреченная, как уверенная в том, что вот еще один миг — и сама Смерть позовет ее в свои чертоги. Она любила меня сомнамбулически. — Ты приснился мне таким, — шептала мне иногда графиня Елена. И я чувствовал, что она вкладывает в эти слова тайный смысл. Но было еще нечто, смущавшее и волновавшее меня чрезвычайно. Я по-прежнему не понимал, в каких отношениях находится графиня к этому странному венгерцу. Иногда я с изумлением встречал его на пороге того отеля, где у нас было назначено свидание с графиней; иногда он неожиданно появлялся на улице во время нашей прогулки и театрально с нами раскланивался, не подходя, однако, как будто не желая помешать нашему уединению. Его лицо, похожее на маску, возникало передо мною время от времени, как страшный символ небытия. Наконец, горе и отчаяние моей жены достигли того предела, когда стало очевидным, что надо решиться на что-нибудь и прекратить эту недостойную и лживую жизнь. И вот в одно из наших свиданий я сказал графине: — Вы знаете, что значит для меня ваша близость и как я люблю ваши глаза, ваши руки, ваши губы… Вы знаете, как волнуют меня ваши предчувствия и как созвучна ваша душа моей душе… Но я никогда не скрывал от вас, графиня, что я люблю мою жену и не могу ее покинуть никогда. Моя жена умрет, если мы пе расстанемся с вами. Графиня вздрогнула и с ужасом посмотрела на меня. — Но ведь ты мой! Ты мой! — прошептала она совсем тихо. — Я люблю мою жену, — повторил я, опуская голову. Тогда ее лицо изменилось. Оно вдруг стало холодным и жестоким. — Так знай же, — сказала она внятно, пристально вглядываясь в мои глаза. — Так знай же, что никогда больше ты не соединишься с женою. Никогда. И тотчас же лицо ее опять стало женственным и нежным. — Я не то говорю, не то, — пробормотала она, опускаясь, на колени и ловя мои руки. — Ты, конечно, свободен… Но я умоляю тебя об одном… Подари мне еще три дня… И вот как… Пусть твоя жена думает, что я уехала из Рима. Я покину наш отель. Тетушку можно отправить в Россию. Ее проводит сеньор Джемисто. А я поселюсь на три дня где-нибудь под Римом, в окрестностях… Ты будешь навещать меня. Это будут наши последние три дня. Хорошо? Ты согласен? — Согласен, — сказал я не без некоторого колебания. Но — увы! — в эти три дня случилось нечто неожиданное и ужасное. Известие о том, что графиня Оксинская уехала из Рима, не успокоило моей жены. Она была по-прежнему молчалива и печальна. Графиня Елена поселилась в одном частном итальянском семействе недалеко от виллы д’Эстэ. Когда я в назначенный час явился к ней, она встретила меня, улыбаясь грустно и нежно. Я не заметил в ней обычного лукавства. Я был тронут ее покорностью и смущен необходимостью ее покинуть. На другой день, входя в дом графини, я был удивлен и поражен случаем, который я тогда склонен был истолковать, как галлюцинацию. Мне показалось, что из-за угла дома вышел торопливо закутанный в плащ сеньор Николо Джемисто. А я ведь думал, что он вместе с тетушкою графини уехал в Россию… — Если Джемисто не уехал из Рима, — рассуждал я, — значит, графиня меня обманула, или он обманул графиню. Это оставалось для меня загадкою. Когда я приехал на последнее свидание — это был третий день, — меня встретила на пороге дома рыжеволосая итальянка, хозяйка квартиры, и, волнуясь, сообщила мне, что русская графиня скоропостижно скончалась. Это известие поразило меня. Подозрения одно ужаснее другого пронеслись в моей голове. И, разумеется, мысль о самоубийстве графини и о том, что я являюсь виною этого несчастья, возникла у меня в душе прежде всего. Но тотчас же мертвая маска австрийца, как странный кошмар, явилась передо мною и заставила усомниться в моем первом предположении. Я попросил позволения войти в комнату покойницы. Несмотря на то, что нервы мои были напряжены чрезвычайно, я давал себе ясный отчет в моих поступках и в моих душевных движениях. С хладнокровием, по всегда мне свойственным, я наблюдал за собою. По-видимому, в душе моей совершился тот сложный, еще неразгаданный процесс, который называется раздвоением личности. В то время, как я переживал едва ли не самые значительные минуты моей жизни, двойник мой наблюдал за мною и даже критиковал мои мысли и поступки. Вот почему я так точно могу рассказать обо всем, что я тогда делал и чему был свидетель. Когда я переступил порог комнаты, где лежала покойница, я вдруг почувствовал, не успев еще ничего рассмотреть, что моя возлюбленная не умерла, что произошла какая-то странная ошибка, что смерть ее мнимая смерть… И, однако, все противоречило этой неожиданной мысли. В комнате была та ничем не нарушаемая тишина, какая бывает лишь в присутствии мертвых. Недвижная графиня лежала на высокой кровати, прикрытая пышным голубым одеялом. Ее руки были выпростаны — бледные и безжизненные. Легкая тень от трех свечей в канделябре падала на лицо покойницы. Я осмотрелся кругов. Это была та самая комната, в которой я был накануне. На старинном клавесине в углу еще стоял огромный букет темных роз, который я привез графине. Их душный запах, смешанный с пряным запахом духов, наполнял всю комнату, и казалось, что этими тяжелыми благоуханиями пропитаны все предметы — и ковер, и подушка, на которой покоилась голова умершей, и кружево измятого пеньюара, брошенного в кресло у ног графини, и раскрытая книга на столе, и задернутые наглухо шторы… Я запер за собою дверь, чтобы остаться наедине с моей возлюбленной, в кончину которой я все еще не верил почему-то. Я подошел к постели и взял безжизненную руку графини Елены с надеждою, что мне удастся почувствовать хотя бы слабый пульс. Но эта попытка оказалась тщетной. И дыхание, по-видимому, прекратилось навсегда. Лицо графини Елены было мертвенно-бледно, и губы, вчера такие горячие и живые, были теперь безнадежно сомкнуты. Я прижался к холодной груди моей возлюбленной, но напрасно старался я услышать биение сердца. И все-таки, несмотря на отсутствие каких бы то пи было признаков жизни, я тайно надеялся, что графиня Елена не умерла, а спит. Я опять вспомнил, что вчера передо мною возник, как могильный фантом, Николо Джемисто; и я невольно сопоставил его тайное возвращение в Рим с этою неожиданною смертью. Я был почти уверен, что виновником этой смерти или этого опасного летаргического сна был проклятый австриец, во власти которого, очевидно, находилась несчастная графиня. Я сел в кресло и стал всматриваться в мертвое лицо графини Елены, все еще надеясь, что дрогнут эти губы и откроются глаза, сиявшие вчера так загадочно и так таинственно. Увы! Ничто не обличало жизни в этом все еще прекрасном теле, по обвеянном могильным холодом. Я не помню, сколько времени сидел я так и стучал ли кто-нибудь в запертую дверь. Странные мысли, неоправданные строгою логикою, беспокоили меня. Я не успел запомнить последовательное развитие этих мыслей, но одна идея врезалась мне в память. Я напряженно думал о значении нашей воли как жизненной силы. Современный человек — рассуждал я — не замечает волевой энергии, подобно тому, как прежде он не замечал энергии электрической и не умел пользоваться ею. Если графиня не умерла, если она спит в летаргическом сне, се можно было бы вернуть к жизни усилием воли, пока этот опасный сон по овладел ею в такой степени, когда уже нет возврата к земному существованию. Если Джемисто (я верил в это) погрузил графиню Елену в сомнамбулический сон и внушил ей, что она должна умереть, неужели я не смогу внушить ей, что она должна жить. Я вспомнил некоторые утверждения оккультистов, известные мне из их сочинений, и решил приступить к опыту, ответственному и страшному. Сначала мне было трудно сосредоточить мое внимание. Воспоминания о моей вчерашней беседе с графиней, подробности наших отношений, ее жесты, голос — все это я видел, слышал, чувствовал, и это мешало мне отказаться от недавних впечатлений и погасить в себе мысли и ощущения. Но после некоторого усилия я умертвил в себе все внешние переживания и моя душа как бы наполнилась лишь одним желанием разбудить спящую… И это желание постепенно становилось все более и более острым и сосредоточенным. Наконец, я почувствовал какую-то необыкновенную легкость и окрыленность. Мне казалось, что в моей душе все спит и только одна сила бодрствует — воля. Я не спускал глаз со спящей мертвым сном. Все вокруг меня погрузилось в какой-то синий туман. Я видел только бледное, неподвижное лицо графини и, не переставая, твердил: — Любовь моя! Ты жива. Я хочу, чтобы ты была жива. Ты будешь жива! Ты будешь жива! Ты будешь жива! То, о чем я расскажу сейчас, быть может, покажется невероятным, — и признаюсь, я сам не понимаю до сих пор, какой тайне я тогда был причастен, но — клянусь — я говорю истинную правду и твердо верю, что это не приснилось мне, а было на самом деле. Графиня медленно подняла ресницы, и мои глаза встретились с ее глазами, такими печальными и усталыми, что я замер от стыда и отчаяния и ужаснулся того, что посмел нарушить ее предсмертный, ее последний сон. Вдруг мне почудился едва уловимый ее вздох и полувнятный шепот: — Ты мой? Ты ведь мой? Темный страх охватил мое сердце. Постыдная слабость мною овладела. Сознание мое затуманилось. И тотчас же, как только погасла моя воля, голова графини тихо склонилась, закрылись ее глаза, и вдруг стало очевидным, что она уж не проснется никогда. Я упал на колени, я приник губами к ее мертвой руке, не зная, что делать. — Проснись! Проснись! — шептал я сумасшедшие слова, но я уже не верил в то, что она проснется. Шатаясь, я едва добрел до двери и позвал хозяйку. Но, к моему удивлению, передо мною стоял Джемисто. — Ага! Вы не уехали! — сказал я, не подавая ему руки. — Сеньор! — пробормотал он, не обращая внимание на мое восклицание. — Не возьмете ли вы себе на память собачку графини? Я, право, не знаю, что с нею делать… У его ног в самом деле вертелась Диу-Миу — та самая японская собачка, которая повсюду следовала за своей хозяйкою. — Я беру се, — сказал я рассеянно, и опа, как будто угадав мою мысль, бросилась за мною и прыгнула в мой экипаж, когда я вышел из дома. Я во всем признался моей жене. Всю ночь я стоял на коленях перед нею и говорил бессвязно о наваждении, о любви и о смерти. На рассвете я ушел в мою комнату, и за мною вбежала Диу-Миу, которая странными, все понимающими глазами посматривала иногда на меня. Мне не пришлось заснуть и утром. Едва сомкнулись мои глаза, как я услышал слабое повизгивание Диу-Миу. Я посмотрел на нее. Она была в ужасном смятении. Ее расширенные глаза были устремлены на портьеру. Хохолок дрожал на голове. Она явно чувствовала чье-то присутствие за порогом комнаты. Я молча наблюдал за нею. Вдруг поведение ее изменилось. Недоверчивое и пугливое повизгивание сменилось негромким радостным лаем. Она бросилась к кому-то невидимому, кто вошел в комнату. Она ласкалась к нему. Она терлась у чьих-то незримых ног. Ее кто-то ласкал привычною рукою. Я не смел дышать от ужаса. И эти галлюцинации собачки продолжались не менее часа, пока солнце не залило комнату своим все побеждающим светом. На другой день Диу-Миу пропала. Я тщетно искал ее и делал публикации в газетах, обещая нашедшему щедрое вознаграждение. Мы уехали с женою в Россию. Я люблю мою жену нежнее, чем прежде. Но мы живем теперь как брат и сестра. А когда в минуту страсти я стою на коленях и говорю моей жене «люблю», я слышу чей-то тихий голос: «Ты мой! Ты ведь мой?» — И тогда я — неверный — не смею целовать ноги моей верной жены.ВОЗЛЮБЛЕННЫЙ ЛУИЗЫ ЖЕЛИ
Однажды, застряв в Париже на лето, тоскуя по соленому океанскому воздуху и задыхаясь пока что от запаха бензина, дыма и ядовитых испарений Сены, бродил я по городу и, очутившись на набережной Вольтера, принялся по привычке перелистывать книжки на прилавках букинистов. Мне попалась, между прочим, «Новая Элоиза» в женевском издании 1792 года, и я купил эту книжку, прельстившись приятным фронтисписом и недурным переплетом. Придя домой ирассматривая свою покупку, я заметил, что внутренняя бумажка, подклеенная под крышку переплета, чуть-чуть приподнялась и, когда я коснулся ее края, оттуда выпали желтые полуистлевшие листы, мелко исписанные. Это были непритязательные записки француза, по-видимому, молодого человека, очень заурядного и, пожалуй, наивного, но по некоторым причинам эти записки возбудили мое любопытство. К сожалению, большая часть этих мемуаров погибла, но четыре уцелевших отрывка я перевел и вот хочу поделиться ими с моими друзьями.Первый листок
Вчера я зашел к аббату де-Керавенан и успел излить ему все мои чувства и сомнения. Этот мудрый и добродетельный человек помог мпе разобраться в моем положении, которое казалось мпе не только безотрадным, но и безвыходным. Боже мой! Как я люблю мою Луизу! Впрочем, я не смею называть ее моей. Моя бедная мать так великодушно согласилась на наш брак, и теперь — увы! — мое счастье рушилось. Я не сплю по ночам, а когда усталость меня побеждает, мне снится Луиза — и почти всегда в каком-то непонятном и ужасном положении. Вчера мне приснилось, что она стоит около церкви Сэн-Сюльпис и держит в руках лохматую мертвую голову, а сегодня я видел ее во сне в обществе тигра, который бормотал стихи Корнеля. Можно сойти с ума от событий, которым все мы невольные свидетели, но еще ужаснее, когда ты сам без вины и не по своей воле вовлечен в этот ужасный вихрь, называемый у нас революцией. Я уважаю Жан-Жака и люблю добродетель. Если хотите, я патриот, но я не понимаю этой страшной кровожадности и гонения на святую церковь. Патриотизм! Патриотизм! Я, конечно, ему сочувствую, и мне вовсе не нравится вся эта рискованная авантюра, которую затеяли в Кобленце наши дворяне и которую приходится расхлебывать всем нам даже теперь. Однако я должен признаться, что гражданин Робеспьер, которого уличные листки называют «неподкупным», внушает мне так же мало доверия, как и заграничные друзья Бурбонов. Бедные лилии растоптаны, и едва ли они когда-нибудь оживут. Но ведь Неподкупный был против войны с пруссаками. Этого я никогда не забываю, и мне странно, что его теперь все считают первым патриотом. Кстати, лицо гражданина Робеспьера удивительно похоже на мордочку ливретки, которую моя бедная мать подарила Луизе. Но я зафилософствовался и пишу о политике, в которой я ничего не смыслю. И какое мне дело до гражданина Робеспьера. Нет, нет, не он, а совсем другой похитил мое счастье, мое единственное сокровище. Боже мой! Как очаровательна моя Луиза! Ее золотые локоны, прядь которых я храню в моем медальоне, волнуют меня так, как будто от них исходит какая-то магическая сила. А когда она улыбается, у меня падает сердце. Но бедняжка! Она теперь улыбается так редко. Я могу видеть ее лишь украдкой. В последний раз мы встретились с нею в садике Сэн-Жермэн-де-Прэ. Мы беседовали с нею о радостях молитвы, нашего последнего утешения, ибо и я, и она, славу Богу, не отреклись от католической церкви и, право, я никак не могу понять, почему бы не примирить ее добрые заповеди с гражданскими добродетелями, которых я не могу не уважать. Мой отец, пивовар с улицы Онорэ, немало натерпелся в свое время от господ из Версаля, и я очень понимаю, что всякий буржуа должен обладать правами человека. Я согласен, что хорошие слова «свобода, равенство и братство» должны быть начертаны в сердцах патриотов, но постоянная прибавка к ним «или смерть» пугает мое бедное сердце. Ведь что бы там ни говорили наши философы и ораторы, эти три словечка очень растяжимы, а иногда и двусмысленны. А тут вдруг смерть! Есть от чего потерять голову. Кстати о голове. Вчера я проходил по кварталу Ля-Форс и видел, как во дворе одного дома пробовали на баране новый нож для гильотины. Бедное животное! Увидев кровь, я вдруг вспомнил этот ужасный сентябрь прошлого года. Ничего не подозревая, отправился я вечером второго сентября с моею матерью в театр Мольера, на улице Сэн Дени. Двери были заперты почему-то. Тогда мы пошли в театр св. Екатерины. Он тоже был закрыт. Мы возвращались домой через Гревскую площадь, потом по Новому мосту. Откуда-то доносились крики, и мы никак не могли попять, что сейчас творится в городе. На углу улицы Бурбон-де Шато стояла кучка женщин. Я подошел к ним и спросил, почему это кричат и что случилось. Одна из патриоток, в высоко подоткнутой юбке и деревянных башмаках, упершись руками в могучие свои бедра, смерила меня с головы до ног и сказала грозным басом: — Откуда взялся этот малец? Не с неба ли он свалился? Кто же сейчас в Париже не знает, что добрый народ судит сейчас врагов свободы и братства? Граждане сейчас работают по тюрьмам. Я уже носила ужин в Аббатство моему бедному Франсуа. Он так устал. У него все руки в крови этих проклятых кюрэ. Моя матушка пошатнулась, и я, боясь, что патриотки заметят ее волнение, поспешил ее поддержать. По счастью, женщины не обратили на нее внимания. — Вот, — сказала одна из них, показывая на ручей, который, булькая, бежал по плитам улицы. Ручеек был совсем красный. Это была кровь убиваемых в аббатство Сэн-Жермэн-де-Прэ. Теперь там тихо, и Луиза назначает мне свидания под его, деревьями. Наш добрый аббат де-Керавенан спасся в ту ночь у тетушки Матильды на чердаке. Он ведь тоже не давал безбожной присяги и скрывается до сих пор от трибунала. Я и Луиза навещаем его изредка не без большого риска. Я так привык его слушаться, что без пего чувствую себя, как овца без пастыря, по должен признаться, что последние его советы смущают мою душу. Конечно, спасение Христовой церкви и жизнь ее верных чад дороже моего личного и частного счастья, но мысль, что мне придется пожертвовать моею Луизою этому рябому чудовищу, со сломанным носом и разорванной губою, приводит меня в трепет. Аббат до-Керавенан уверяет, что этого злодея, которому молва приписывает сентябрьские убийства, можно еще направить на путь истинный и его рукою спасти нашу бедную Францию. Но каково мне, уже на пороге счастья, вдруг отказаться от надежды повести Луизу к моему скромному очагу в качестве милой жены и хозяйки. Я до сих пор ни разу не решался па листках моих мемуаров написать имя моего злейшего врага, который, впрочем, вероятно, пе помнит меня вовсе и едва ли даже заметил меня, хотя мы с ним встречались несколько раз не только у Жели, но и в доме стариков Шарпантье. Чувствую, что рука моя дрожит, когда я пишу это ужасное имя:» Жорж Жак Дантон из Орси-сюр-Об.Второй листок
Франция воюет с коалицией. Страна измучена наборами. Известия с фронта то мрачные, то радостные волнуют меня, как и всех, разумеется. Тот самый Робеспьер, который когда-то, на мой взгляд, предательски стремился погасить патриотический дух, настаивая на том, чтобы Франция не воевала вовсе, приняв унизительные условия, предложенные коалицией, теперь вдруг разыгрывает роль «отца отечества без надлежащей искренности, насколько я понимаю. В Париже настоящий голод. У булочных стоят хвосты. Максимум, конечно, не помогает ничуть, и спекулянты провозят в мешках с Юга муку и все прочее по ужасной цене. Богатые люди устраивают свои дела, санкюлотам помогает коммуна, а нашему брату, труженикам, которые добывают себе хлеб умственным трудом, живется хуже всего. Отец мой разорился. А ведь моя профессия школьного учителя теперь очень затруднительна. На меня косо смотрит наша секция, потому что многие подозревают во мне верного христианина, что кажется теперь предосудительным. Но как ни тяжело теперь жить, кафе и театры все открыты. Говорят, что многие развратничают по ночам, и это те самые, которым днем говорят о правах человека и о природной добродетели. Открылся, между прочим, художественный салоп. Я был там. По правде сказать, мне было жаль, что теперь уже не в почете картины Фрагонара, Буша и очаровательного Ватто. Каким-то холодом веет от всех этих нынешних сухих линий и безжизненных красок, какими пользуются паши живописцы, изображающие Брутов, Гракхов и разных там добродетельных республиканцев. Давид, конечно, великий художник, но когда я смотрю на его холсты, у меня такое чувство, как будто меня кто-то упрекает за то, что я простой человек, любящий мою Луизу, жизнь, пение птиц, траву и деревья. Между прочим, я увидел в салоне бюст женщины. В чертах ее я узнал что-то знакомое. Под соответствующим нумером каталога значилось следующее: «Бюст гражданки Дантон, вырытой из могилы через неделю после погребения, маска эта снята с лица покойной глухонемым гражданином Дезенн». Так подтвердились для меня слухи, которым я отказался верить. Значит, в самом деле этот безбожный человек пе постыдился потревожить прах бедной Габриэли, своей первой жены. Боже мой! Свидетелями каких кощунств мы еще будем! Говорят, что Дантон любил свою Габриэль. А его ночные оргии? А мадам де-Бюффон? Кому это неизвестно? А теперь не прошло трех месяцев со дня смерти Габриэли, и он уже претендует на брак с моею несчастною Луизою. Он утверждает, что Габриэль завещала ему жениться на Луизе. Неужели это правда? Я знаю, что покойница в самом деле была католичкою и хотела, чтобы неистовый ее муж вернулся в церковь. Может быть, она надеялась, что Луиза своим христианским смирением успокоит буйное сердце этого сумасшедшего безбожника. Самое мучительное для меня то, что аббат де-Керавенан тоже возлагает надежды на мою овечку и думает, что она укротит нашего свирепого льва. С этим не мирится мое чувство, но надо повиноваться нашему пастырю, ибо, если мы покинем лоно церкви, для нас не будет никакой опоры и все мы будем раздавлены, как кусочки железа на наковальнях под ударами молота. Под этим тяжелым молотом я разумею наше революционное правительство.Третий листок
Свершилось. Все кончено. Я погиб. До последней минуты я надеялся, что этот странный человек не решится исполнить требование своей несчастной невесты. По моему настоянию, Луиза поставила ему условие, неприемлемое, как я думал, для этого дерзкого вольнодумца. Она потребовала, чтобы он до свадьбы пошел исповедоваться и принял святое Причастие у неприсяжного священника. Но чудовище согласилось на это условие. Луиза указала ему на аббата де-Керавенан. Я вчера был у господина аббата, и он мне признался, что не ожидал такого исповедника. Однако Дантон пришел к нему. Старая Жервеза бормотала Бог знает что, увидев на пороге лохматую голову этого нежданного гостя. Дантон прошел к аббату, слегка оттолкнув побледневшую служанку. Господин аббат встал. Потом он говорил мне, что вовсе не был уверен, зачем пришел к нему этот создатель кровавого трибунала — затем ли, чтобы привлечь его к суду, его, отказавшегося восемь месяцев тому назад присягать, или затем, чтобы склонить свою буйную голову перед Распятием. Я, конечно, не знаю, что говорил на исповеди этот необыкновенный человек. Может быть, надежды доброго аббата будут оправданы. Но я? Ведь я живой человек. Ведь у меня несчастное влюбленное сердце. Иногда ропот подымается в моей душе. Святая церковь, взыскующая неземного града, не слишком ли сурова к моему личному, частному, но такому трепетному чувству? Когда все было решено и назначен день свадьбы, Луиза прибежала ко мне, чтобы проститься. Матушки не было дома. Я упал на колени перед Луизой, я целовал ее туфли, обливаясь слезами. Она гладила своей ручкой мою голову, и я поцеловал ее ладонь, про которую в счастливые дни я, шутя, говорил, что ее следовало бы гильотинировать, ибо она может смутить общественное спокойствие своею прелестью. Теперь никогда, никогда мне уже не коснуться губами этих нежных тонких пальчиков. И подумать только, что я мог бы разделить с ней иные восторги любви — и вовсе не украдкой, а дома, у семейного очага, по праву, освященному церковью. После свадьбы они уехали в Орси-сюр-Об, где у этого непримиримого революционера и защитника санкюлотов есть, кстати сказать, очень благоустроенное и небездоходное имение. Не получал ли он денег от врагов отечества, как прославленный Мирабо? Но вот я начинаю злословить, но это худо. Надо смириться перед волею Провидения. Ах, у меня кружится голова. Надо лечь в постель, а то войдет матушка и заметит, что мне дурно.Четвертый листок
Прошел год. Какой ужасный год. Я не знаю, принесет ли он добрые плоды в будущем, но то, чему я был свидетелем, наводит меня на размышления о суетности всяких земных надежд. Равенства я что-то вовсе не замечал в эти недели и месяцы нигде и ни в чем. О братстве смешно говорить, ибо оно может быть лишь во Христе. О свободе? Какая же это свобода, если мои скромные записки я должен прятать так тщательно, рискуя своей головой, если кому-нибудь вздумается их найти, прочесть и донести на меня. А моя любовь? Она растоптана. Во имя чего? Правда, тот, кому я принес ее в жертву, как будто бы пошел по другому пути после брака с Луизою, по какие последствия! Бог мой! Вчера все кончилось. Он погиб. Луиза свободна. Но я? Моя судьба еще ужаснее, чем его, и мне даже трудно произнести три слова, которые страшнее для меня гильотины: она полюбила Дантона! Я никогда не забуду этого дня шестнадцатого жерминаля. От ворот тюрьмы до эшафота я следовал в толпе оборванцев, которые бежали за траурной тележкой, улюлюкая и ругаясь. Вместе с моим врагом везли па казнь Демулена. Бедняга журналист рыдал и бился в истерике, как женщина, и все поминал напрасно 14 июля и свою суетную, опозоренную теперь трехцветную кокарду. Чудак не понимал, что не в дом дело, кто больше любит республику, а совсем в ином. Но враг мой, укравший мое счастье, был горд и спокоен — надо ему отдать справедливость. Я пожирал его глазами, но он и не замечал меня вовсе. Мне хотелось увидеть на лице его признаки страха или отчаяния. Но он был спокоен, как скала. Такие люди для меня загадка, и я никогда их не пойму. — Да сиди же ты смирно! — сказал он строго Демулену и тронул его за плечо. — Разве не видишь, что вокруг нас лишь мерзкая сволочь? Я услышал это собственными ушами. Когда мы очутились на площади и толпа гудела вокруг нас, у меня так закружилась голова, как будто бы и меня сейчас должны положить под нож гильотины. Около меня стояла торговка яблоками и кричала во все горло: — Я всегда думала, что эта бестия — аристократ. Первым с тележки сошел Геро де-Сешель. Они, кажется, обнялись с Дантоном, но я не расслышал, что они сказали друг другу. Мой враг взошел на эшафот последним. Я вдруг позавидовал ему. Я хотел умереть тогда вместе с ним. Почему? Может быть, тогда у меня было в сердце зловещее предчувствие. — Дорогая! Я не увижу тебя больше! — пробормотал мой враг, озираясь. Эти слова я слышал. О, эти слова не ускользнули от моего слуха! Потом рассказывали, что он будто бы сказал, обращаясь к палачу: «Покажи мою голову народу — она стоит этого». Может быть, в самом деле он сказал так. Но я уже ничего не сознавал. Я только видел это изуродованное страшное лицо, которое вдруг стало прекрасным. Да, да — прекрасным! Это так. И тогда же я понял, что Луиза никогда не будет принадлежать мне. И вдруг в этот же миг я увидел, что мой соперник ищет кого-то в толпе глазами. Я обернулся и узнал аббата де-Керавенан. Он стоял с лицом совсем белым. Глаза у него так странно сияли. О, Господи! Он поднял руку и благословил того, кто стоял на эшафоте, отпуская ему грехи. Мне показалось, что вокруг ночь, а ведь это было всего четыре часа пополудни, час, когда нация убила своего Жоржа Жака Дантона, вернувшегося к Господу нашему Иисусу Христу, о чем знали только трое — аббат, Луиза и я, неведомый ему его враг.ОТМЩЕНИЕ
I
Ровно семь лет тому назад пришлось мне провести лето на берегу океана, в Ипоре, маленьком курорте и рыбацком селении, где жизнь протекает мирно и слепо и где лишь бури время от времени напоминают о непрочности земного счастья. В этом уединенном и всеми забытом уголке Нормандии (впрочем, теперь, я слышал, туристы чаще стали навещать этот берег) мне пришлось быть невольным свидетелем не совсем обычной любовной истории, о которой я хочу рассказать, утаив, разумеется, настоящие имена тех, кто в ней участвовал, хотя главного героя этого ненаписанного романа уже нет в живых. Я буду краток, конечно. Однажды, после купанья, я заметил на пляже господина среднего роста в сером сюртуке и в серой шляпе; я раньше не видел его здесь, а так как в Ипоре все друг друга знают, я хотел было спросить у англичанина, который купался вместе со мною, кто этот незнакомец, как вдруг господин в сюртуке обернулся, и я тотчас же узнал его по портретам и остановился изумленный. Это был он — самый гениальный и необычайный современник наш, победивший после упорной борьбы весь мир и признанный, наконец, всеми первым, единственным и несравненным. Признаюсь, я испытывал волнение, наблюдая за этим человеком, чьи книги так повлияли на мою судьбу уже в юные годы. Этот старик был тот самый чародей, который напомнил миру забытую истину о его божественном происхождении, указал на фатум в нашей повседневности и властно потребовал от человека быть самим собою прежде всего. Это был художник ледяных вершин. От его творений веяло холодом; его видения были снежны; воздух, где жили его герои, был слишком разрежен и слишком прозрачен, — и слабые задыхались там, но сам он на этих вершинах жил вольно и дивно, гадая по звездам. Он шел прямо на меня. Я видел его огромный лоб, седые развивающиеся пушистые волосы, сдвинутые лохматые брови и зоркие со стальным блеском глаза. Плотно сжатые губы обличали в нем человека замкнутого, сосредоточенного и равнодушного к чувственной прелести нашего обыденного мира. Я невольно снял шляпу и поклонился. Оп ответил мне вежливым поклоном, не обнаружив ни малейшего любопытства, и невозмутимо продолжал прогулку. — Вы знаете, кто это? — спросил я англичанина. Он утвердительно кивнул головою. Да, он знает, кто этот старик. Он читал его произведения. Его «Умирающее светило» произвело па мистера сильнейшее впечатление. Его можно поставить и наряду с Шекспиром. Я не говорю по-английски, и мистер Грэй объяснялся со мною на ужасном французском языке. Желая быть любезным, он заговорил о русской литературе. Ему довелось прочесть прекрасное произведение одного русского поэта, замечательного поэта, но, к сожалению, он не может вспомнить сейчас его фамилию. Имя он помнит, но фамилию забыл. — Я,знаю всех замечательных русских поэтов, — сказал я. — Назовите мне его имя, а я вам напомню его фамилию. — Габриэль… Его звали Габриэлем… Я недоумевал. Мистер подряд брови и ожидал, что я ему подскажу фамилию поэта. Наконец, я сообразил, кого имеет в виду англичанин. — Державин… Гавриил Державин… — Да, да, конечно… У него есть превосходная философическая ода «Бог»… Это был единственный русский поэт, которого знал мистер Грэй.II
Я жил в пансионе госпожи Розетт, вдовы рыбака. Нас садилось за стол обыкновенно человек пятнадцать — двадцать. Почти все были французы, буржуа из Руана, приехавшие сюда на лето отдохнуть и подышать морским воздухом. Русских было трое: я и одна молоденькая барышня со своею старою глухою теткою. Барышню звали Валентиною. В ней, пожалуй, ничего не было примечательного, но я невольно был очарован ее молодостью и тем хмелем жизни, который играл и пенился в каждом ее жесте, взгляде и в каждом звуке ее светлого, юного и нежного голоса. Мы встречались с нею часто и во время купанья, и на прогулках; я любовался ее томными и лукавыми глазами, ее улыбкою невинною, но уже таившею в себе возможности чувственных порывов, и ее тонкими душистыми пальцами, которыми она непрестанно перебирала цветы. Мы болтали с нею обо всем непринужденно и откровенно. Ее суждения были часто неглубоки, но они никогда не были пошлы, потому что она умела вовремя замолчать, прекрасно сознавая, что слово не ее стихия и что ее очарование в ней самой, в ритме ее сердца и в бессознательных предчувствиях ее души. Однажды, когда она, купаясь, проплыла совсем близко от меня и я увидел в зеленой волне ее розоватое, нежное плечо и заметил упругое движение ноги, я вдруг почувствовал, что голова моя пьянеет, и я после этого уже с неожиданно приятным волнением ожидал минуты, когда мы можем с нею встретиться. Мы гуляли с нею по фалезам. Был час прилива. Океан шумел внизу, разбивая о скалы свои зелено-пенные волны. Ветхая изгородь отделяла нас от бездны, где пела, плакала и смеялась, и страшно стонала, и страшно роптала чуждая нам стихия, скрывавшая в своей глубине Бог знает какие тайны морских чудовищ с невероятными инстинктами, со своим особенным пониманием мира и, конечно, со своею особенною верою в Бога. Немудры те, которые думают, что вера в Бога свойственна только человеку. В Бога верят и лев, и голубь, и пчела. И у подводных обитателей океана есть свое слепое и темное томление по дивному Богу. Мы, люди, быть может, дальше отстоим от него, чем немые рыбы или дремлющие морские звезды… Какие сны им снятся — этим молчаливым и загадочным существам, пе ведающим ни добра, ни зла! Я высказал что-то в этом роде моей спутнице, и она радостно с этим согласилась и призналась с улыбкою, что она иногда чувствует себя птицею и готова славить Бога нехитрою песнею, как славят его полевые и лесные твари, по уверению св. Франциска. Мы, смеясь, сели па лугу под ивою. У Валентины на коленях был ворох цветов. Она перебирала нежными пальцами желтые и зеленые стебли, вдыхала жадно благоухания, непохожие на приторно-сладкие ароматы садовых питомцев. Валентина учила меня плести венок, пальцы наши иногда встречались, и ее прикосновения волновали меня как мальчика. — Жизнь прекрасна, — сказал Валентина, улыбаясь. Я знаю, вы философ и обо всем рассуждаете свысока. Все философы всегда рассуждают свысока. Но так не надо рассуждать, мой друг. Впрочем, то, что вы сказали про морские звезды, мне нравится, потому что это смиренная мысль. Мы все должны быть, как дети. Христос так давно об этом сказал… Жизнь прекрасна, и нельзя к ней подходить с нашим человеческим мерилом разумности и вообще нельзя к ней предъявлять категорические требования, как это делают иные… — То, что вы сказали сейчас, тоже философия. Но предоставим мыслителям рассуждать, а мы будем наслаждаться несомненным и чудесным, противоречивым и согласным вместе с тем. — Будем наслаждаться, — повторила она, смеясь, и протянула мне несколько ирисов. Я прижал губы к ее душистым пальцам, и она медлила их отнять у меня. Одним словом, я влюбился в Валентину, и она была, по видимому, благосклонна ко мне. Мы то ездили на рыбацких лодках в море в обществе ее глухой тетки и любезного мистера Грэя, то с каким-нибудь руанским семейством отправлялись в каретке в Фекан, где есть ныне бездействующее старинное аббатство, прославившееся когда-то благочестием своих монахов, щедрою благотворительностью, а также умением приготовлять изысканные ликеры… Но, разумеется, я мечтал о тайных свиданиях с прелестною Валентиною, и, наконец, она согласилась прийти ночью на берег моря, где стояли рыбацкие суда. Я полчаса ходил по гравию в приятном волнении. Ночь была лунная, но облака, как темные бараны, бежали диким стадом по небу, и причудливый зыбкий свет делал все вокруг обманчивым… К тому же время от времени яркие лучи маяка, направляемые подвижным прожектором, освещали море, задевая иногда и берег своими слепительными стрелами. Рыбацкие лодки с убранными парусами казались теперь скелетами каких-то допотопных живот-пых, выброшенных на берег океаном. Наконец, я услышал легкие шуршащие шаги и тотчас же бросился навстречу Валентине, которая шла ко мне вся закутанная в черную шаль. — Вы пришли, Валентина. Вы пришли, — бормотал я, сжимая ее тонкую руку, наслаждаясь теплотою ее нежной ладони. — Ах, как все таинственно сейчас! — сказала она шепотом. Мы подошли совсем близко к морю, и Валентина села на камень. Я стал на колени у ее ног и стал говорить те несвязные слова, неразумные и неубедительные для трезвого человека, которые так понятны и необходимы любовникам. В сущности, эти любовные фразы нужны лишь для того, чтобы оправдать как-то паше безумие, придать ему видимость смысла и логики. Валентина коснулась своими пальцами моих волос. Я уже не мог рассуждать и быть благоразумным. Я поднял голову, и мои губы встретились с ее губами. Этот горячий полуоткрытый рот, похожий на алый нежный цветок, одурманил меня. Я чувствовал ее стройное гибкое тело, прильнувшее ко мне. Повинуясь непонятному инстинкту, я поднял Валентину и стал ходить с нею по берегу взад и вперед, наслаждаясь тем, что она у меня на руках, что я чувствую ее всю, что она почти принадлежит мне безраздельно… Она приходила ко мне на свидание каждую ночь. Наконец, она обещала прийти ко мне в комнату. Я ждал ее нетерпеливо и страстно, не рассуждая о том, чем все это может кончиться. Она пришла ко мне в полночь. Едва она переступила порог моей комнаты, я бросился к ее ногам, целуя ее платье, обнимая жадно ее колени… Но она была почему-то пуглива и холодна на этот раз… Она слегка отстранилась от меня и произнесла какую-то обыкновенную фразу, на которую надо было ответить… Мой праздник погас почему-то. Мы обменивались незначительными словами. Какой-то демон внушил мне спросить ее: — Вы не обратили внимания на седого старика в сером сюртуке и в серой шляпе, который на днях появился здесь, в Ипоре? — Нет, я не видала его, — сказала она тихо и прибавила, как бы припоминая что-то: — Я знала одного человека, который всегда носил серый сюртук и серую шляпу. Этот человек имел большое значение в моей жизни… Л почему вы спросили, видела ли я старика, который недавно сюда приехал? — Этот старик, — сказал я, запинаясь. — Этот старик… И я назвал имя, известное всему миру. Валентина внезапно встала и прижала руки к груди, как будто задыхаясь. — Оп здесь! Вы уверены, что он здесь? Боже мой! Боже мой! — шептала она в странном волнении. Теперь настала моя очередь спросить ее: — Вы были раньше с ним знакомы? Она странно и неясно ответила мне: — Да… То есть нет… Лично я не была знакома, но я видела его однажды… Впрочем, я, кажется, говорю неправду. Не спрашивайте меня, Бога ради… — Вы так взволнованы! — пробормотал я, недоумевая и уже почти ревнуя. — Не думайте об этом, мой дорогой, — прервала она меня, бледнея, однако. — Я когда-то зачитывалась произведениями этого человека. Они произвели на меня исключительное впечатление… Но я не признаю его в конце концов. То есть я хочу сказать, что его гений на ложном пути. Он слишком умен, этот старик. И он был всегда слишком холодным, кроме того. Я чувствовал, что мысли об этом старике отвлекли мою Валентину от того, что более всего меня волновало сейчас, и, слегка разочарованный и смущенный, я сказал, опустив голову: — И вы сегодня, кажется, чувствуете себя более рассудительной, чем вчера и вообще в эти счастливые для меня дни. — Не совсем так, — проговорила она задумчиво. — Но вместе нам сегодня нельзя быть. Я покажусь вам неприятной… Прощайте. И она неожиданно выбежала из комнаты. Это было паше последнее свидание. Тщетно старался я снова встретить ее без посторонних свидетелей, с глазу на глаз. Она под разными предлогами уклонялась от свиданий. Я видел ее лишь за завтраком, обедом или на пикниках, когда приходилось говорить по-французски и когда каждый мог вмешаться в нашу беседу. Однажды все общество пошло па мол и там все любовались закатом, в самом деле красивым. Кто-то затеял разговор о любви. И добрые буржуа с удовольствием обменивались сантиментальными афоризмами. Неожиданно Валентина приняла участие в беседе. — Нет большего преступления, — сказала она серьезно, — как пожертвовать любовью. Я знала одного замечательного человека, одного писателя, который прекраспо понимал это и выразил это в своих творениях, но у пего была тайная мысль, что творчество выше любви. И что же! Он погиб в конце концов… — Погиб! Как погиб? — спросил кто-то. — Да, погиб в своих собственных глазах… Я уверена в этом. Он бежал от своей возлюбленной, полагая, что все земное его недостойно… Но я верю, что судьба ему отомстит… И отмщением будет возвращенная немилосердная любовь… Добрые буржуа не поняли, разумеется, ничего из этих слов Валентины. А у меня явилось странное подозрение, и я жадно слушал эту девушку, в которой проснулась женщина или, быть может, сама чародейка Медея. Я хотел проводить ее домой, но она взяла под руку свою глухую тетушку и поспешила уйти, покинув меня. Мой друг, мистер Грэй, заметив мою печаль, старался развлечь. меня, по его добрые намерения не увенчались успехом. Напрасно катал он меня па яхте, напрасно предлагал состязаться в плавании и сам показывал чудеса ловкости. Я тосковал. Я избегал общества и даже мистера Грэя. Однажды, гуляя вечером по фалезам, я подошел к обрыву и сел на выступе скалы. Обхватив одною рукою ствол каштана, я перегнулся и заглянул вниз, на берег, где валялись камни, всегда влажные, омываемые морского пеною во время прилива. То, что я увидел там, внизу, было так неожиданно, что у ценя закружилась голова и я едва по упал со скалы… На одном из камней стояла моя Валентина с охапкой цветов в руках, а перед нею, на коленях, уронив свою серую шляпу, стоял мой старик, этот гениальный человек, предлагавший миру принять его безусловные заповеди… Я ничего не мог понять: этот одинокий скиталец по горным вершинам склоняет теперь свои седины к ногам миловидной девчонки, у которой такие лукавые глаза и так прелестны душистые розовые пальцы… — Отмщение! — подумал я. — Это безумная жизнь, вечно юная, отвергнутая разумом, мстит за себя…С. М. ГОРОДЕЦКИЙ

ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ОДНУ (Новелла)
Посвящаю М. М. Гаккебуш
1
Пароход тихо подходил к Мессине. Издалека были видны тревожные очертания окрестных гор, как будто еще не успевших успокоиться после землетрясения, разрушившего город. Инженер Пьетро Монти, стоя па палубе, рассматривал в бинокль эти горы со склонами, слишком стремительными, с вершинами, слишком острыми. Скоро стали видны и развалины города. У самого берега сияли выбитыми окнами уцелевшие стены дворцов, кругом них бессмысленно и страшно громоздились, вздымались, торчали зубьями, лежали кучами остатки городских зданий. Иногда совершенно пустые места виднелись среди развалин. Кое-где уже успели пышно разростись деревья. Безоблачное, нежное небо стояло над развалинами. Ослепительное солнце топило их в белом свете. Синее море послушно лежало у берегов. Пьетро Монти почувствовал, что ему дурно, и сошел в каюту. Темно-синяя, с зеленым отливом, вода ласково плескалась в круглое окошечко. В полумраке и прохладе Монти пришел в себя. Воспоминания на минуту стали менее мучительны и более подробны. В сознании Монти живо возник затерянный в глуши Сибири городок, где он работал последние годы, и шумная, пьяная встреча нового, девятьсот девятого года, во время которой пришло первое известие о мессинской катастрофе. Сообщение говорило кратко, что город погиб и что число жертв доходит до ста тысяч. Пьетро Монти странно было бы думать, что от смерти мог спастись его отец, дряхлый старик, живший в Мессине. Дальнейшие известия только укрепляли его в этой мысли, а когда письма от отца, хоть и редкие, прекратились совершенно, он счел его мертвым и перенес эту скорбь стойко, как истый потомок римлян. Он был тогда в зрелых годах, в расцвете сил. Получив образование в России, он считал себя ее сыном не менее, чем сыном Италии, где родился. Работа его увлекала. Женившись второй раз, после развода, на дочери золотопромышленника, девушке простой и красивой, он готов был тогда считать себя счастливым. Так длилось четыре года, до этой зимы, когда Пьетро Монти вдруг показалось, что он начинает стареть и что старость эта начинается не от чего иного, как от того благополучия, в котором он живет. Бесконечные метели и снега стали наводить па него тоску. Заметив однажды, что виски его уже серебрятся, Пьетро Монти впал в уныние. В эту же зиму он узнал о смерти своей первой жены, с которой он развелся, измученный ее тревожной, всегда чего-то искавшей душой. Разводясь, он считал ее полубольной, а русских, у которых почти все девушки похожи на нее, — несчастными. Теперь же, в эту зиму, после четырехлетней спокойной жизни, она стала казаться ему единственной женщиной, с которой он мог бы не чувствовать тоски и уныния. Чем живее воскресал перед ним ее образ, тем невыносимее становилась для него жизнь в Сибири. Среди этих беспокойств у него возникла мысль, что отец его, быть может, жив, что среди немногих спасшихся мог быть именно он и что отсутствие писем вовсе еще не обозначает смерти. Им овладела настоящая сыновняя страсть. Увидеть отца стало его мечтой. И он решил или разыскать его среди спасенных, или убедиться в его гибели. Пьетро Монти был хорошим инженером и красивым мужем. Он понял это, когда увидел, с каким трудом отпускают его в далекое путешествие жена и начальство. Но ничего не могло уже остановить его, и зима была еще лютой, когда он уехал. Бесконечно длинной и утомительной была для него дорога, но по мере того, как он выбирался из снегов и пустынь немого востока в шум и грохот запада, в нем разгорались надежды и на какую-то новую жизнь и на то, что отец его не погиб. Всю Италию он проехал не останавливаясь и последнюю ночь перехода от Неаполя в Мессину не спал, колеблясь между отчаяньем и надеждой. То ему представлялось, как он обнимает седого, с дрожащими от радости руками своего отца; то ему рисовались все ужасы катастрофы, как они описывались в газетах и журналах. Но то, что оп испытал, увидев в действительности развалины Мессины, превзошло всякие меры горя и ужаса. Полулежа теперь в своей каюте, он собирал все силы, чтобы опять выйти на палубу, откуда слышались крики команды, свистки и топот. Пароход, по-видимому, подходил к пристани. Вот замолчали машины. Вот заскрипела якорная цепь. Пьетро Монти быстро поднялся на палубу. Пароход окружен был лодками. Лодочники снизу перебранивались с матросами, кидавшими и спускавшими на канатах багаж. Пассажиры толпились у бортов. Все было как в самом обыкновенном порту; никто как будто не замечал того, что было перед глазами. А развалины вблизи были еще страшнее… Пьетро Монти, с сильно бьющимся сердцем, поспешил спуститься в лодку: ведь он, быть может, сейчас увидит отца. Лодочник привез его в Новую Мессину. Это был деревянный, одноэтажный город, напоминавший русские холерные бараки, построенный наскоро, с маленькими магазинами, со странным, как сразу заметил Пьетро Монти, населением: если б не дети, город казался бы населенным мертвецами, так непохожи были эти люди в своей повседневной суете па обычных итальянцев. Кафе были полны, в магазины ежеминутно заходили покупатели, смех и говор слышались всюду, но все это происходило автоматически, не касаясь глубины сознания, где таилось одно: память о катастрофе. Лишняя, неизгладимая черта была в мозгу у всех этих людей. У иных это отражалось в глазах, то блуждающих, то остановившихся; у иных — в походке, похожей на бегство, в пригнувшейся спине; у иных замечалось ослабление чувства равновесия. И каждому хотелось скрыть все это от себя и от других как можно искуснее. Пьетро Монти вошел в гостиницу. Его провели в небольшую комнату, пахнувшую лаком и свежим деревом. Вся постройка была сделана из тонких изящных досок и напоминала дачи в Финляндии. В этой хрупкости было беспокойство. Из ресторана доносился напряженный смех и звон посуды. Пьетро Монти переоделся. Поглядев в зеркало, он не узнал своего лица, так изменилось оно за эту долгую дорогу и последнюю ночь. Высокий лоб был напряжен, глаза смотрели устало и напуганно, усы отросли и еще более подчеркивали выражение горечи, которое появилось в губах. Седины в волосах заметно прибавилось. Завязав галстук, он прошел в ресторан. За одним из столиков сидели офицеры. Один из них бессмысленно кричал: — Кофе, фрукты, сыр! Кофе, фрукты, сыр! Лакей стоял, согнувшись, и ожидал, когда он кончит. Монти заметил, что все офицеры были пьяны. А пьяных, как он помнил, никогда не бывает видно в Италии. Он спросил вина, которым славилась Мессина. Лакей ответил с горькой улыбкой, что вина нет, производство прекратилось.2
В этот же день Монти поехал в старый город. Новый выстроился в полуверсте от него. В кармане Монти судорожно сжимал последнее письмо отца с его адресом. На все расспросы в новом городе ему отвечали одно, что погибло девяносто тысяч жителей. Фамилии Монти никто из оставшихся в живых не помнил. Когда Монти показал кучеру адрес, он болезненно улыбнулся и ответил кратко, что теперь там ничего нет. — Как и здесь! — добавил он, показывая кнутом вокруг себя. Монти не заметил, что они уже ехали улицей, главной улицей, от которой в этом месте осталась одна мостовая. Невозможно было представить, что здесь стояли дома, что они могли исчезнуть бесследно, разбитые в прах и унесенные морем, которое так спокойно синело в нескольких саженях отсюда. — После землетрясения с моря пришла волна и все смыла, — рассказывал кучер. — Все продолжалось только тридцать две секунды… Одна за другой кругом вырастали развалины зданий. У иных уцелели фасады, и в пустые окна видны были груды мусора; с иных фасады были сорваны, и внутренность обнажена. Тут остатки стен пестрели различной раскраской комнат, на месте потолков и полов висели балки. Всюду, где можно, росла трава, кустарники и молодые деревья. Кучер остановился у театра. Удар пришелся в партер. Крыша провалилась, здание расселось, но устояло. В нижнем этаже па окнах толстые железные прутья согнулись с легкостью самой тонкой проволоки.. У входа Монти встретил старичок. Тут же, в проходе, он устроил музей Мессины и торговал реликвиями катастрофы. Монти заметил шелковую женскую туфлю, бутылку, смятую, как будто она была мягкой, кое-какую утварь, кое-что из бутафории. На стене висела огромная афиша с именами актеров. В тот вечер, 28 декабря, шла «Аида». Представление уже кончилось, но актеры погибли в гостинице. Монти провели в уборные. Полотенце с инициалами тенора, остатки его грима, зеркало его — все эти простые вещи — были страшны и священны. Они были свидетелями, они на своем малом, неподвижном теле испытали ту же силу, что сокрушила лучезарный город и тысячи живых. Выйдя из театра и вдохнув запах моря, обманно-светлого, лживо-нежного, Монти ехал дальше среди развалин, под синим, просторным небом. — А у вас родных пе погибло? — спросил он кучера. Тот обернулся к нему, поглядел кругом и сказал, щелкнув бичом: — Вся семья погибла, семь человек. Я один остался. Людей почти не было видно здесь. Изредка сидели старухи в тени, низко наклонив головы и шепча что-то. Одна шла навстречу, трогая костылем каждый камень и стуча о степы. — С ума сошла, — коротко сказал кучер, показывая па нее, — видите, все ищет. Монти смотрел на все, притихнув, притаившись. Все человеческое в нем замолчало. Он представлял себе звериный страх, который должен был овладеть всеми, когда земля загудела и зашаталась. Он даже теперь находил в себе отблески этого страха. — Только осенью пахнуть перестало, — сказал кучер, показывая на груды мусора, лежавшие везде. И видя, что синьор не понимает, добавил: — Трупами. Монти вспомнил, что вынута из-под развалин и погребена была только очень незначительная часть погибших. — По неделе жили, — продолжал кучер, — русские моряки раскапывали. И вдруг Монти показалось, что из развалины и теперь еще идет едва заметный, но все-таки уловимый смрад. Он с ужасом потянул воздух. Со стороны моря пахло солью. Но с другой стороны, где горы… Не может быть, он галлюцинирует… Выехали на площадь, где был собор. Остаток стен его и уцелевшая часть абсиды были обнесены высоким забором. Кучер постучал в калитку. Показались чьи-то печальные глаза. Сегодня нельзя осматривать. — Я издалека, — сказал Монти, — я из России. Невозможно было прервать эту пытку созерцания на самом страшном, может быть, месте. Калитка тотчас отворилась. Монти вошел туда, где был храм. Ему прежде всего бросилась в глаза уцелевшая стена, в нишах которой стояли мраморные апостолы. У них были обычные жесты проповедников. Но теперь, когда кругом лежали груды мрамора, эти поднятые руки выражали надменное негодование человека перед слепыми силами. Обломки статуй, тщательно сортируемые, покрывали пол всех трех нефов. Бюсты мертвых, чьи гробницы расселись или разрушились, лежали рядом с кусками ангельских крыльев. Рассыпавшаяся мозаика мешалась с кусками облицовки колонн. Везде стояли подпорки, а где был сорван мраморный пол, там росла трава. Обходили молча, Пьетро Монти и высокий человек с печальными глазами, хранитель руин. Казалось, что при виде первых развалин, при виде театра сердце сжалось от тоски и горя так, что больше невозможно, и вот еще сильней, еще мучительней оно сжималось при виде древней красоты, упавшей в прах. Картины катастрофы, одна за другой раскрывавшиеся перед Пьетро Монти, заставили его забыть на, эти часы об отце. Выходя из храма, он вспомнил о нем. Найти его отчаялся он после первых же расспросов. Здесь, на развалинах, как и при первой вести, пришедшей к Монти в Сибирь четыре года тому назад, было странно и подумать, что дряхлый человек мог спастись от общей гибели. Но увидеть место, где жил отец, где, может быть, его могила, надо было тотчас. Кучер привез Монти к углу двух улиц и остановился у пустого места. — Здесь была дверь, — сказал он. Соседние дома кое-как уцелели. От этого остался только холм мусора. Монти снял шляпу. — У синьора тут жили знакомые? — спросил кучер. — Отец. — Отец? Синьор — итальянец? Кто был отец? Он был очень стар? — Да, очень. — В этом доме жил только один старик, и я его знал. В день катастрофы я должен был отвезти его на пристань, он уезжал в Палермо. Но я не помню, отвозил я его или нет. — Припомните! —сказал Монти, задыхаясь. — В котором часу уходил пароход? — Около двенадцати. — Припомните! — кричал Монти, сжимая руку кучера. — Вы отвозили старика на пристань? — Я не помню… Я был болен, у меня вся семья погибла… Монти выпустил его руку. — Вы откуда могли подъехать? С которой стороны? — Вот как сейчас. — Постарайтесь припомнить! Ночь, горят фонари… Вы подъезжали к этому дому? Кучер беспомощно оглянулся. — Мне кажется, я подъезжал. Это я могу припомнить. Но я не могу решительно припомнить, как я его отвозил на пристань. У Монти блеснула мысль: — А раньше не было парохода? — Был, вечерний, скорый. — Так он мог уехать со скорым? Зачем он ехал в Палермо, вы не знаете? Он торопился? — Он всегда собирался в Палермо, над ним даже смеялись соседи. И вдруг уехал. Да, да, это могло быть, что я за ним приехал, а его уже не было. — Это могло быть? — Могло, могло! Мне кажется, что даже так и было. Монти крепко обнял кучера. Теперь опять в нем родилась надежда найти отца. Он взглянул на развалины. Конечно, отец жив, его праха тут нет, иначе б Монти это чувствовал… — Когда идет пароход в Палермо? — Сегодня вечером. — Вы отвезете меня на пристань. А сейчас — назад, в гостиницу, скорей! Не оглядываясь на развалины, Монти ехал к себе в номер. Рядом сияло море. Небо не омрачалось ни единой тучей. Солнце жгло и ласкало. «Только зачем отцу было ехать в Палермо? Надо вспомнить детство, всю жизнь, тогда можно догадаться», — думал Монти.3
Отец Пьетро Монти всегда мечтал быть скульптором, но всю жизнь провел за второстепенной работой по отделке мрамора, достигнув в этом большого совершенства. Когда Пьетро было лет шесть или семь, его отца выписали в Россию на постройку дворца какому-то миллионеру в Москве. К этому времени матери Пьетро не было уже в живых. Отец завяз в России, где работу его оценили выше, чем на родине. Пьетро кончил русскую гимназию, а потом и горный институт. Когда началась революция, отец увез его в Италию, где и остался. Пьетро же вернулся в Россию оканчивать свое специальное, по горному делу, образование. Все эти события хорошо припомнились Пьетро Монти во время перехода из Мессины в Палермо. Но они не давали еще никакого объяснения отъезду отца в Палермо и тому, что он всегда, по словам кучера, собирался ехать в этот город. Тогда Пьетро Монти стал вспоминать свое раннее детство и мать. Ее было трудно вспомнить, потому что образ ее заслонялся целым рядом других женщин, посещавших отца постоянно, под предлогом заказов. Отец славился в Москве своей красотой и обаянием. Странные, отрывистые воспоминания всплывали в голове Пьетро Монти. Лица матери он не помнил совершенно, но ее легкую походку и ее смуглые руки он запомнил. Она умерла внезапно, и представить отца своего иначе, чем в слезах, в этот период Пьетро Монти не мог. Ему вспоминались исступленные его крики над ее телом. Отец, как ему теперь представлялось, кричал, что не отдаст смерти свою жену. Смутно припоминалось, что с погребением было много хлопот, потому что отец хотел похоронить мать на каком-то особенном кладбище, где хоронить было уже запрещено. Больше ничего не мог припомнить Пьетро Монти. Он почти не спал эту ночь. На заре его разбудил шум большого порта. На мгновение он почувствовал себя беспомощным, и вся поездка представилась ему сумасбродством. Но как только он попал на улицы Палермо, где чувством жизни, легкой и беспечной, было проникнуто каждое движение, он опять поддался легковерным надеждам. С необычайной ясностью он вспомнил, что именно в этом городе они жили, что здесь умерла его мать и прошло его детство. Собор с перекинутой через улицу аркой, четыре фонтана на главном перекрестке и пальмовые сады показались ему знакомыми видениями из какого-то дальнего и бесконечно дорогого сна. Теперь он был убежден, что отец его уехал сюда, на могилу матери. Потому-то он и собирался сюда так часто, что здесь лежала его жена! Какое счастье, что окончательное решение ехать он принял в тот вечер, перед катастрофой! Ведь промедли он еще ночь, и он погиб бы вместе со всеми. Только бы найти это кладбище где могила матери, и, конечно, он встретит отца там. Но что знал Пьетро Монти об этом кладбище? Только то, что оно было не такое, как другие. Купив описания Палермо, он стал их подробно изучать. То, что в другое время привлекло бы все его внимание — мозаика в церквах и дворцах, памятники мавританского искусства, — он теперь пропускал мимо. Только жилища мертвых интересовали его. И вот он, замирая духом, прочел следующие строки: «В одном километре от Новых Ворот, в конце улицы Пиндемонто, находится монастырь капуцинов с очень характерным кладбищем. Оно представляет собою мрачную, фантастическую, единственную в своем роде галерею, где хранится около восьми тысяч трупов, ставших мумиями, во всевозможных позах, держащих в руках карточки со своими именами и наполняющих галерею от пола до потолка». Пьетро Монти выронил книгу из рук. Увидеть мумию своей матери, с карточкой в руках, ссохшуюся и безобразную, показалось ему последним кощунством. Но тотчас же безумное чувство радости овладело им, и, пугая прислугу, он выбежал из гостиницы, чтобы, не медля ни минуты, ехать в катакомбы капуцинов. На Корсо была такая толкотня, что лошадь его подвигалась вперед очень медленно. Он торопил кучера и вздохнул свободно, когда, наконец, выехал за Новые Ворота. Все кругом было бело от солнца и песка. В конце недлинной улицы показался вход в монастырь. Налево лежали лиловые, изнеженные зноем горы, но Пьетро Монти не бросил на них ни одного взгляда. У ворот его встретил монах в коричневой рясе, другой набросился на него с открытками и крестиками, предлагая купить что-нибудь. Заскрипела тяжелая дверь, и странный воздух обдал Пьетро Монти. Он вошел вслед за монахом в сводчатую, довольно высокую, галерею и отшатнулся. По обе стороны, на полу, друг на друге стояли прямые гробы, деревянные и стеклянные. Над ними, где в три, а где в четыре ряда, вздымались высохшие трупы со сложенными руками. Глаза у всех провалились, и зубы были оскалены, но посеревшая кожа обтягивала кости, и ноги были целы. Каждый ссыхался по-своему и, ссохшись, приобретал свое собственное выражение. Один становился похожим на нищего, стоящего на паперти и вымаливающего подаяние. Другой похож был на подвыпившего гуляку, у которого уж голова на плечах не держится. Третий, казалось, спал и видел какой-то идиотский сон. Четвертый стоял с невыразимо важным видом. Пятый скорчился от ужаса. Шестой весь высунулся вперед, чтобы пугать и выть, чтобы схватить, если подойдешь ближе, и прижать к своим ребрам. Монах довольно быстро шел вперед. Пьетро Монти, оцепенев, шел за ним и отставал. Трупы становились все страшнее. Они были уже везде: спереди, сзади, с боков. Свет стал слабее, лица и позы еще выразительнее. — Усыпальница священников, — сказал монах. Пьетро Монти оглянулся. Здесь все трупы были в остроконечных, четырехугольных шляпах. У иных шляпы съехали набок и придавали смешное выражение фигурам. — Вот у этих язык цел, — сказал монах. Пьетро Монти увидел что-то сухое, страшное и серое у трупа между зубов. — А это кардинал, — показал монах. Труп был в красной шляпе и такой же мантии. Минутами казалось Монти, что мертвецы пе просто стоят, как их поставили, а замерли в тех позах, в каких их застали, и тотчас, как живые пройдут, задвигаются и заговорят между собою. А что вон тот шепчет на ухо своему соседу, кося глазницами и бесстыдно улыбаясь? Какую гадость придумывает вон тот, с высыпавшимися зубами и отставшим пальцем на руке? Или чего хохочет, схватившись за живот, вон тот, согнувшийся пополам? Переходам и галереям конца не было. — Усыпальница девушек, — сказал монах. Здесь все, в качестве невест Христовых, лежали с коронами на головах. Многие были в белых платьях. В иной костлявой руке еще уцелел пучок высохших цветов. Трупы становились все светлее. По-видимому, приближались к новым погребениям. В одном стеклянном гробу Пьетро Монти увидел что-то розовое. Он нагнулся. Перед ним лежал молодой человек в воротничке, с ярко-розовым цветом лица. Глаза и у него провалились, но усы казались только сейчас подстриженными. Он был страшнее всех своей миловидностью. — Набальзамирован! — сказал монах. Шли дальше и дальше. Везде были еще боковые галереи. Пьетро Монти пе давал себе остановиться на мысли, что один из трупов — его мать. Он старался не смотреть на карточки с надписями, чтоб не прочесть случайно ее имени. Он боялся сказать монаху, что его мать тут, чтоб тот, не стал ему тотчас ее разыскивать. Наконец, вышли из галерей на свежий воздух. Дверь захлопнулась. Монти стал расспрашивать монаха, много ли бывает посетителей и нет ли таких, которые приходили бы постоянно. Монах ответил, что больше всего приходит туристов. Потом, помолчав, прибавил: — А постоянно кому же ходить? Ведь погребения давно запрещены, все родственники погребенных умерли. Впрочем, тут ходили двое. Один и теперь еще ходит, старый каноник. — А другой? — спросил Монти. — Другого перестали пускать. Ои целыми часами стоял па коленях перед одним трупом, целовал ему руки, так что одна кисть рассыпалась. Первое время после запрещения приходил часто, плакал у ворот, грозил. Потом перестал ходить. Не знаю, где он. Пьетро Монти похолодел от ужаса. Это был его отец. Едва владея собой, он спросил: — А сегодня каноник был? — Нет еще. Да он недалеко живет. Там, в угловом доме. Пьетро Монти сел на маленькую скамейку. Монах ушел. Вдали синели горы, солнце после полудня стало еще жарче. Прошло стадо коз, поднимая облака белой, густой пыли. Монти закрыл глаза. В воображении неслись перед ним вереницы трупов, грозя, улыбаясь, протягивая руки; все были невыносимо-отвратительны, и среди них, наверное, была его мать.4
Пьетро Монти решил пойти к канонику. Ведь не могли же два таких странных человека, как его отец и канопик, посещая часто катакомбы, не заметить друг друга. Каноник его встретил вежливо, но сухо. Небольшая его комната была завалена книгами, на стенах висели старинные гравюры. Он предложил Монти сесть на ветхое кресло, а сам сел за стол, снял очки и приготовился слушать. — Я знаю, что вы часто посещаете катакомбы капуцинов, — сказал Монти. — Да. Я изучаю вопрос о том, как в древности складывались пальцы для благословения. Ведь в катакомбах есть древние погребения. — Не приходилось ли вам встречать там старика, тоже часто бывавшего там, я не знаю, с какой целью? — Монти? — спросил каноник. — Вы знаете, что это он? Вы знаете, что это был Монти? Где он, где он? Говорите скорей, умоляю вас. — Успокойтесь. Я вам все расскажу сейчас, я вижу, что это вас близко интересует. — Скажите, он жив? — воскликнул Пьетро Монти. — Он жив, но лучше бы ему не быть живым. Слушайте. — Я не понимаю, — прошептал Монти. — Выслушайте меня, не перебивая. Это не длинный рассказ. Каноник уселся удобнее и продолжал: — Я начал свои занятия незадолго до Мессинской катастрофы. Я работал в усыпальнице священников. Мною было обследовано уже несколько нетленных рук, когда, однажды, меня привлек истерический крик. Я пошел на, него и увидел старика, обнимавшего ноги какого-то трупа. Несколько трупов, стоявших внизу, были отброшены. Старик плакал и кричал: «Люблю тебя одну». Я успокоил его, поставил трупы на место и попросил их не разбрасывать. Он мне сказал, что допущен к совершению ежедневной молитвы у тела жены и что его зовут Монти. После этого я его встречал неоднократно, в течение одного или двух месяцев. Потом я узнал, что ему запрещено посещать катакомбы, так как он постоянно нарушал покой мертвых своими криками и неприкосновенность тех из них, которые имели несчастье стоять близ его жены. Это было года три с половиной тому назад. Однажды я его встретил в слезах у ворот монастыря. Он показался мне больным, и вскоре я узнал, что он лишился рассудка и взят в городскую больницу. Я его навестил из сострадания, по он меня пе узнал. Это все, что я могу сообщить вам. — Какой ужас, какой ужас! — шептал Монти, закрывая свое лицо руками. — Это ваш родственник? — Отец. — Вы должны навестить его. — Я сейчас еду. Благодарю вас! Все-таки он жив. Я боялся, что он погиб в Мессине. — Он был спасен любовью к этой женщине, чье тело он навещал. Это ваша мать, вероятно? — Да, это моя мать. — Идите с миром и помните, что это он ей говорил, когда был в рассудке: «Люблю тебя одну». Я слышал, как он кричал это. Пьетро Монти поехал в больницу. К горлу у него подступали слезы. Он был измучен за эти дни беспрерывной сменой надежды и отчаяния. Он не мог поверить себе, что сейчас увидит отца. Ведь каноник навещал его, по-видимому, давно, и он мог умереть. Опять везли Пьетро Монти по шумной, узкой, длинной улице, но ни беспечное журчание фонтанов, ни быстрая, подвижная толпа не могли его развлечь. А вечное здесь солнце, своим беспощадным светом только усиливало его мученья. Никуда нельзя было скрыться от его лучей, и всю душу оно пронизывало ими. Едва владея собой, Пьетро Монти вошел в больницу. Его провели па прекрасный дворик, усаженный цветами и кустарниками. Он был полон безумных. Бессмысленный крик стоял в воздухе. Кругом дворика шла галерея, по которой ходили надзиратели. Пьетро Монти сказали, что ему нужно искать больного нумер тридцать второй. И это было страшнее: искать живого отца среди безумных, чем искать мертвую мать среди трупов. Наконец, надзиратель провел Пьетро Монти в угол двора. Там на коленях, под палящим солнцем, положив лысую, с клочками седых волос, голову на камень, стоял старик. Его спина была неподвижна. — Целыми часами так лежит, — сказал надзиратель, — а потом вскочит и кричит. — Что кричит? — спросил Монти, не отрывая глаз, из которых текли слезы, от старика. — Одно и то же! Сейчас услышите сами. Надзиратель потрогал старика за плечо и спросил: — Вам не жарко? Может быть, хотите пить? Старик поднял голову. Монти увидел, что это его отец, но в каком виде! Истощенный, темный, весь в морщинах, с глазами, которые ничего не узнают, измученный своим бредом, своей теперешней душевной жизнью! Пьетро Монти порывисто обнял его: он, рыдая, прижимал к своей груди его костлявое тело, он целовал его голову, руки и лицо. Старик грубо вырывался; его глаза сверкали гневом, ему казалось, что его хотят связать. — Оставьте его, он никого не узнает, — сказал надзиратель, — вы только усиливаете его мучения. Пьетро Монти сел на камепь. Как только старик почувствовал себя на свободе, его лицо просияло. — Смотрите! — шепнул надзиратель. Пьетро Мопти поднял голову, вытер слезы. Старик смотрел в небо невидящими глазами. Руки его поднимались, как в молитве. И вдруг он закричал старческим, неприятно-высоким голосом: — Люблю тебя одну! Люблю тебя, тебя одну! Эту фразу он беспрерывно повторял, то тише, то громче, пока, наконец, не свалился на траву от потери сил. Пьетро Монти наклонился, чтоб поцеловать его в лоб, и, не помня себя, выбежал из больницы. Злая мысль мучила его: лучше б его отец лежал там, под развалинами Мессины! Он велел везти себя к морю. Безоблачная голубая даль одну за другой досылала к берегу легкие, с жемчужным гребнем волны. Набережная была широка и пустынна. Маленькие ослики везли расписанные ярко двуколки. Моряки лениво возились у лодок. На раскаленных плитах набережной спали бездельники. Вдали спокойной, незыблемой глыбой лежала горд Пеллегрино. Незаметно для Пьетро Монти в пего вливалась тишина морская, благодать вечно весенних берегов. Судьба отца начинала ему казаться имеющей глубокий смысл. Ведь если б он погиб, он не узнал бы этого чувства любви к единой, которым проникнут был последний год его сознательной жизни, а теперь — все его существо. И своя жизнь в Сибири стала казаться Пьетро Монти иной, чем до путешествия. Ему захотелось вернуться в снега и тишину, к жене, к камням и рудникам. После долгой прогулки оп вернулся в город. Проходя в тот же день по улице, мимо магазинов, он случайно заглянул в зеркало. Виски его были совершенно седые. Он приподнял шляпу. Седина быстро забегала в его густые, черные еще недавно волосы.ДЕТИ
Они шли… Они шли по опустошенной земле, без дорог, по тропинкам, канавам и прямо по вытоптанным, изрытым полям, по грязи и лужам. То в лицо, то сбоку дул холодный, злой ветер. Низкие тучи кропили их мелким, тяжелым дождем. Как пе было солнца над несчастными их головами, так не было цели в их торопливой ходьбе, похожей на бегство. Они бежали б, если б хватило сил; они летели б, если б крылья были. Но куда они стремятся, они не знали. Быть может, кружились они по кругу и не замечали этого в отчаянье своем. Они шли впятером. Впереди шел отец, без шапки, в пальто внакидку, как всегда носил он, когда торопился куда-нибудь. Ветер развевал ему мокрые волосы и трепал о его спину длинные рукава пальто. Отец часто оглядывался, пригибая голову к плечам, прислушивался и останавливался. Тогда останавливались все и ждали, когда отец решит, что можно идти дальше. За отцом, на некотором расстоянии, шла мать. Голова ее была повязана платком. На спине она несла полотняный мешок, ставший совсем грязным оттого, что на каждой остановке она опускала его на землю. За матерью, взявшись за руки, шли дети, Ян и Стася. А сзади плелась бабушка. Если б Ян не оглядывался и пе звал ее ежеминутно ручкой, она давно б отстала и сложила свои старые кости. Но маленький Ян так укоризненно манил ее ручкой, что откуда-то брались еще силы идти. Взрослые шли молча. Изредка отец говорил что-то матери, да бабушка выкрикивала отдельные слова своих молитв. Стася тоже старалась молчать, как большая. Ей был уж девятый год. Она то укутывала свою куклу, то поправляла платок на шее Яна. Но Яну хотелось разговаривать, расспрашивать, разузнавать. Со всей страстностью, свойственной шестилетнему уму, он хотел узнать все точно, немедленно и подробно. Он знал, что это — война. Он отчетливо заметил и запомнил все, что произошло со вчерашнего дня, запомнил вместе со своими детскими делами. Это было утром. Он стоял и рассматривал большую грушу, которую отец только что подвязал тряпкой, чтоб она не упала от тяжести и дозрела б. Именно это и хотелось подметить Яну — как груша будет дозревать. Это было последнее его впечатление до войны. До этого он слышал про войну и представлял себе ее как много-много веселых солдат. До этого он не замечал тревоги, которая шла от местечка к местечку и дошла, наконец, до усадьбы, арендуемой отцом, заставив в одну ночь разбежаться всех слуг. Отец был упрям, говорил, что он не уйдет, и продолжал хозяйничать. Правда, Ян заметил, что у отца, когда он подвязывал грушу, сильно дрожали руки. Но Ян подумать нс мог, что это от войны. И вот, когда он стоял и рассматривал грушу, вдруг началась для него война. Вся дрожа, подбежала к нему Стася и стала надевать на пего свою шубу. У Яна еще не было своей, ему собирались шить. Ян заупрямился: разве можно мальчику девочкину шубу носить? Но сестра вместо того, чтоб уступить, ударила его слегка, по затылку и закричала: — Надевай сейчас же, или немец придет и тебя убьет! Ян присмирел. Путаясь в полах, он побежал за сестрой в дом. Там мать бегала, то кидаясь укладывать вещи, то со слезами заламывая руки. Отец силой стаскивал бабку с ее сундука, па который она села, пе желая сходить. Ян еще больше присмирел, но не испугался. Он захотел тоже быть полезным. Он подошел к отцу и серьезным шепотом спросил: — Война? Отец схватил его на руки и стал целовать, ничего не объясняя. Через несколько минут они все уже были в поле и шли, шли, точно так же, как теперь, па другой день после ухода из дома. Вчера идти было лучше: не болели еще ноги, не было дождя, дорога была легче, а главное, не торопились так. Похоже было на далекую прогулку. На остановках мать доставала из мешка припасы; закусывали и шли дальше. Ночевка в лесу тоже понравилась Яну. Но с утра пошло все хуже. Проснулся Ян до зари, от холода. Чуть рассвело, тронулись в путь. Отец сказал, что к полудню придут в какое-то местечко, название которого Ян услыхал в первый раз, и что нужно торопиться, потому что вчера совсем мало прошли. И вот идут они полями. Ян и пе думал, что земля такая большая. Ян и не думал, что война такая гадость: идти без конца в мокрых сапогах. Случись это в прошлом году, Ян бы заплакал. Но теперь ему шесть лет, он скоро большим будет. Ян идет, смотрит и думает. Высокий отец с развевающимися рукавами немножко похож на ветряную мельницу. Мама в платке, с мешком на спине, кажется совсем чужой бабой. Бедная Стася! Ей будет очень обидно, если дождик размочит ее куклу. Она ее кутает и прячет, но дождик такой мелкий, что всюду пробирается, и за шиворот, и в уши. Сильно беспокоит Яна бабушка. Отец с матерью как будто забыли про нее. Очень странные глаза у нее стали: бегают по сторонам и как будто ничего не видят. И молитвы она путает, не те слова говорит. Ян твердо знает молитвы. Что это с бабушкой? — Стася! — говорит Ян. — Знаешь, как немцев перебить? Я придумал. — Как? — недоверчиво спрашивает Стася. — Наехать на них мотором и передавить всех! У Яна разгораются глазки. Но Стася не увлекается его выдумкой. Мрачно хмуря бровки, она отвечает: — Их много. — Или, — продолжает Ян, — подманить их куда-нибудь в лесок, выскочить и убить. И Ян подскакивает на кочке, протягивая кулачки. — Стася, — говорит он, — почему ты взяла эту куклу, а не фарфоровую? — Стася! А пана Яблоцкого убьют или не убьют? — Стася! А немцы какие? Вопросов у него больше, чем капелек у дождя, но что же делать, если Стася не отвечает! Видно, сама не знает. Но что это? Гром? Для грома слишком долго, и разве бывает осенью гроза? — Стася! — робко спрашивает Ян. — Что это? Стася прислушивается. Она такого никогда не слыхала. Отец тоже остановился. Мать подбежала к нему. Разговаривают. А похожее на гром опять слышно. И кажется еще Яну, что над самой землей по небу летают белые облака, какие только в самую хорошую погоду бывают в синем небе. Но он уж не спрашивает, что это. Все равно не ответят. И вдруг лицо его озаряется улыбкой. Он сам догадался: — Стася! Да это же пушки! Слышишь — палят, и видишь — дым! Он сияет, потому что догадался, а Стася нахмурилась больше прежнего. — Я боюсь, — плаксиво говорит она. — Нет, ты не бойся! — утешает Ян. — Это же пушки, уверяю тебя. Простые пушки для войны. Такие же, как моя, которую пан Яблоцкий подарил, только большие. И со сверкающими глазами бежит Ян сообщать отцу новость. Стася — девчонка, она не понимает. Но что это с отцом? Совсем как мать перед уходом, он заламывает руки и кричит глухим голосом: — Куда же идти, куда же идти? Как, куда идти? Куда хочешь, — думает Ян, — а лучше бы всего на дымок, откуда пальба слышится. Но отец, по-видимому, не согласен с этим. Взмахнув руками, он поворачивает вбок. Теперь мешок несет он, а мать хватает за руки Яна и Стаею. И спешит куда-то больше прежнего. Бабушка отстает и отстает. Ветер теперь в спину дует и доносит ее слова, непонятно какие. Яну трудно идти. — Мама, сядем, — говорит он. Как безумная, мать тащит детей за собой, и болтается в руке у Стаей мокрая кукла: одной рукой не уберечь от дождя. Отец далеко впереди, бабка далеко позади. — Мама! Куда ты смотришь? — спрашивает Ян. — Смотри лучше под ноги, а то мы в грязь попадаем. Не слышит мать, ведет детей. — Мама! — опять зовет Ян. — Папа знакомого встретил, только я его не знаю, он к нам не приходил. Действительно, откуда-то взялся и подошел к отцу человек, совсем мокрый и грязный. Смешно с него капала вода. Он, наверное, оттуда, где пушки, и много может рассказать интересного. Ян тянет мать за руку, чтоб подойти ближе, но мать стала как вкопанная; а мокрый человек и отец подбегают ближе. Мокрый человек — еврей. Ян это видит и удивляется, что отец с ним так ласково разговаривает. Вот что значит война! Все сбились в кучу. Еврей что-то рассказывает. Глаза у него такие же, как у бабушки. Недавно у Стаей разбилась кукла — такие ж страшные глаза у нее были. Но что это еврей рассказывает? И в ту сторону нельзя идти? Надо идти назад? Спрятаться в лесу? И опять надо спешить? Должно быть, надо, потому что мать берет Яна на руки, отец под руку тащит бабушку, а еврей, мокрый, чужой еврей, берет и песет Стаею, и Стася даже не вырывается. Должно быть, надо торопиться, но почему же это? Обхватив ручонками шею матери, Ян рассматривает ее лицо. Что с ним сделалось? Никогда не было на нем таких морщин и складок, никогда не было оно таким желтым. — Мама, мы скоро придем? — Молчи, Ян, молчи! Только б до лесу добежать! — шепчет мать. Наверно, в лесу будет домик и можно будет переночевать в нем. — Мама, теперь день? — спрашивает Ян. Мать ничего не отвечает, спешит. Яну видны ее мокрые ноги и мокрый, подсученный подол. А пушки все палят, и дым видней становится. Ян не боится. Он машет ручкой сестре, которую несет чужой еврей. Стася не отвечает. Добежали до леса, выбрали место поглуше, сели; только начали разговор, и вдруг мать кинулась на колени перед отцом, кричит ему: — Не уходи, не уходи! Куда хочет уйти папа? Сердце дрогнуло у Яна, и слезы градом полились из глаз. — Не уходи! — кричит и он. — Надо выйти на ту опушку и посмотреть, — говорит отец, — будь благоразумной. Он долго советуется с евреем, потом они идут в разные стороны. — Мы сейчас вернемся! — говорит отец на прощанье, и еще долго видно за деревьями его пальто с развевающимися рукавами. Мать вытирает Яну слезы, а сама плачет. Начинают ждать, когда отец вернется. Мать кормит детей. Подкрепившись, Ян становится веселей. Он бродит от дерева к дереву. — Стася! Тут брусника есть! Жаль, что мы не захватили с собой корзинки. И он собирает в листик красные, блестящие ягоды. Стася, увидев ягоды, начинает ему помогать. Ян требует, чтоб мать непременно с ним аукалась. — Ау! — печально кричит мать. — Ау! — весело отвечает ей Ян. Может быть, и войны никакой пет, а просто пошли в лес по бруснику и промокли? И долго дети бродят меж стволов, а женщины сидят неподвижно и ждут. Ждут, когда вернется отец. Когда ж вернется отец? Может быть, час прошел, может быть, два. Не попять, сумерки это надвигаются или тучи сгустились. Здесь, внизу, пет дождя, по наверху звенят и стучат дождевые капли. И вдруг в этот дробный звон врывается звук выстрела. Нет, это не один был выстрел! Это сразу выстрелило несколько человек. Ян смотрит на маму: что это с нею? Бегает, хватается за стволы, платок с головы свалился, волосы растрепались. — Я говорила, чтоб он не ходил! Я говорила, чтоб он не ходил! — задыхаясь, кричит она. — Это с той стороны, куда еврей пошел! — говорит бабушка. — Нет, с той, куда мой муж пошел, мой муж, мой муж! — рыдая, кричит мать. А Яну как раз самые крупные ягоды стали попадаться. То он ягоду нагибается поднять, то на мать смотрит. Стася, как в столбняке, стоит, и на губах у нее, как кровь, краснеют ягоды. — Мама, скушай ягодку! — угощает Ян. Но мать не слышит его; она рыдает и кричит, и мечется. — Не кричи, а то услышат! — шепотом говорит бабка, и мать утихает. — Возьми же ягодку! — шепчет Ян, — Очень сладкие. И он сам сует ей в рот самую спелую и не может попасть, потому что губы у мамы трясутся. Бабушка знаками подзывает Стаею, и все сидят кучей под деревом. Молча сидят и ждут, когда вернется отец. Ветер пролетает над лесом, дождик перестал идти, посветлело небо. Стася опять увертывает в мокрые тряпочки свою куклу, а куклин румянец пачкает ей пальцы красной краской. — Отчего ты не взяла фарфоровую? — укоризненным шепотом спрашивает Ян. Бабка дремлет с открытыми глазами, голова ее качается. И вдруг шорох, шаги, голоса, одновременно с разных сторон. Ян слышит невыносимый, страшный крик своей матери, визг Стаей и хриплый стон бабки. Он оглушен этими криками. Из глубины леса с непонятным, громким говором выбегают какие-то люди, озираются и бросаются к дереву, под которым Ян сидит с матерью, сестрой и бабкой. Ян с трудом поворачивает голову, вырываясь из крепких объятий матери, чтобы лучше разглядеть, кто пришел. Он видит толстые, красные лица, рыжие усы и звонким своим детским голосом пересиливает материнские вопли: — Мама! Чего же ты кричишь? Это просто немцы!Б. А. ПИЛЬНЯК

МОРЯ И ГОРЫ
I
Окопы — совсем не там в Литве, в Полесье: в дождливую ночь на Виндаво-Рыбинском, в поезде, как окоп, — окопы в самой Москве. Рядом в соседнем купе говорят: — А вы в какой части? — «Да-да, как же! помните, там еще овраг, весь в валунах, и озеро внизу, много в этом озере народу уплыло в царствие небесное». — «Командир третьей дивизии, позвольте представиться». — Братушка, дай закурить, пожалуйста. Из побывки мы. Поезду идти в ночь на Ржев, на Великие Луки, на Полоцк. Вон братва забилась под скамью, пьет чай, очень довольна. За окном газовые фонари, в дожде — Виндаво-Рыбинского, и глаза у женщин под дождем под окнами, — как фонари в дожде. Пахнет нафталином. — «Где вагон коменданта?» — Женщинам в вагон — нельзя, — тут на войне — одни мужчины, и пахнет уже кожей, дегтем и портянками, мужской запах. — Да-да, да-да, хо-хи! Врет, вре-от. Нет-с, красавица, такого человека, который шел бы в атаку не сумасшедшим! — хохочет и говорит басом, очень довольно. Третий звонок. — «Где вагон коменданта?» — «Что же, прощай!» — «Хо-хо-хо-хо! Вре-от, вре-еот-с, сударыня». — «Мозоль я себе натер, бутсы новые выдали, вот и натер обратно», — это из-под лавки и на лесенке, по которой взбираются на верхнюю полку, повесили новые портянки, со свежими казенными ярлыками и все же пропахнувшие уже потом. Сдвинулись лакфиолевые фонари по дебаркадеру в ночь, сползли женщины и носильщики, козырнул дежурный, дождь стал косым, в смене стрелок ночь стала такой. Ночью в дожде во Ржеве через окно лазили за чаем, в окно налезли отставшие с винтовками, поезд гремел манерками. Дождь хлещет, как веник в бане. В коридоре братва недовольна поверкой документов. Под лавкой беседуют, военные пустяки. А утро — в розовых облаках, — с деревьев капают капли, дождь прошел, светло, благоуханно. Великие Луки, Ловать, на станции кофе и солдаты, нет женщин. Поезд обходит контрразведка. Солдаты, солдаты, солдаты, — винтовки, винтовки, — манерки: братва. И это уже не Великороссия, кругом еловые леса, холмы, озера, и всюду на земле навалены круглые точеные камни, валуны, — а на станцийках из-под елей выползают молчаливые люди, летом в овчинных тулупах и шапках, и босиком: литва. Контрразведка — как развлечение, длинный-длинный, пустой день, как праздник, и все уже знаемо: какой части, сколько ранен, в каких боях. В Великих Луках многие сошли, — нет новых. Весь день тихо и празднично. А к ночи — Полоцк, белые стены монастыря ушли назад, Двина, прогремели по мосту. Здесь ездят уже только ночью, без расписания, без огней, и опять мелкий дождичек. Без свистков останавливается поезд, без свистков идет, и кругом тихо, как в октябре, — над землей же — ночь. С Полоцка на каждой остановке только слезают, никто не садится вновь, от каждой остановки по декавыльке до окопов тридцать верст. Такая усталость — после Москвы, слов, проводов, после бесконечного дня! Едва-едва светает, небо как бутыль из зеленого стекла, там сзади, на востоке. — Вставайте, приехали. Станция. Будслав, крыша у станции съедена бомбой с аэроплана. На асфальте перрона, под кротегусами, в садике спят вповалку солдаты, книжная лавка к приезду поезда открыта, стоит заспанный еврей: Чириков, фон-Визин, Вербицкая. И где-то в отдаленье, почему-то так четко слышно, как хлопают руками в рукавицах, — «Что такое?» — «Это долбит тяжелая артиллерия». — «Где комендант, где тут комендант?» — «Спит комендант»…II
Неделя проходит в окопах, идет другая. Надо было бы записать все в первый день: теперь все сгладилось, вот это, что там на луговине на проволоке висит человек и у него постепенно отваливается голова. Впрочем, я мало вижу. Днем не спим. Почти нет ночей — июнь, о вечере я узнаю вот почему. Я живу в землянке, и когда приходит семь часов, минута в минуту, — оттуда из-за болота начинают обстреливать землянку: через каждую минуту шлют пулю — чик. Еще минута, и опять — чик. Выстрела не слышно за гулом остальных выстрелов, слышно, как пуля втирается в землю и бревна на крыше. И это всю ночь, до семи часов утра, минута в минуту. В землянке нас трое, они двое играют в шахматы, я все перечитал, мне надоело и лежать, и ходить, и спать. Жизнь человека чрезвычайно скудна, потому что в три дня — троим — можно все рассказать. Вчера прибежал солдат, ему в разведке оторвало кисть, он мотал огрызком руки и молил бестолково: — Приколи, приколи-и, касатик!.. Иногда ночью мы выходим полюбоваться фейерверками. В землянку — это стреляют в нас или чтоб нас нервировать, — втираются пули: чик! чик! чик! Мы стоим и любуемся. Вдалеке тявкают орудия, и вот весь горизонт дрожит зеленым светом. Ракеты поднимаются непрерывно. Здесь были такие, какие пускали мы на Оке, были разрывающиеся на два медленные, шара, были огромные диски, состоящие из сотни огней. Но ракеты исчезают, из-за леса ползут три световых пальца. Сначала они протянулись в небо, судорожно сжались и падают лихорадочно на нас, на окопы, вправо, влево. Наши гимнастерки в их свете кажутся белыми. В Полесье на могилах ставят огромные деревянные кресты, большие, как у Гоголя в «Страшной мести»: сзади на холме стоят два креста, один скренился, повис на другом. Все солдаты, солдаты, солдаты. Ни одного старика, ни одной женщины, ни одного ребенка. Ни одной женщины я не вижу уже третью неделю. Вот о чем я хочу рассказать — о том, что значит — женщина. На пункте, вне зоны обстрела, мы обедали, — и за фанерной стеной засмеялась сестра: я никогда не слышал лучшей музыки. Других слов я не нахожу: лучшей музыки. Это сестра пробиралась к госпиталю, ее платье, ее прическа — какая радость! Она что-то говорила заведующему пунктом — я не знаю лучшей поэзии, чем ее слова. Все прекрасное, все красивое, все целомудренное, что есть во мне, что дала жизнь — женщина, женщина. Вот и все. Вечером я пошел в штабной кинематограф, я сидел в ложе. Когда потушили электричество, я написал на барьере синим карандашом: «Я — блондинка, 22-х лет, с голубыми глазами. Но — кто же ты? Я жду?» Я сделал жестокую вещь. Это написал я, но у меня защемило сердце, я не мог сидеть в кинематографе. Я стал бродить меж скамеек, ушел на поселок, ходил вокруг костела, у которого не уцелело ни одного окна, и собрал букетик незабудок в канавке у кладбища. Когда я вернулся в кинематограф, я увидел, что в набитом кинематографе ложа была пуста: при мне вошел офицер, сел беззаботно, чтобы наслаждаться, прочел написанное мною — и стал другим человеком, я влил в него страшный яд, и он ушел из ложи. Я вышел За ним — он пошел к костелу. Я сделал жестокую вещь. Это я написал о блондинке с голубыми глазами, — я шел и видел ее, и ждал ее, я, написавший. Во мне играли сотни оркестров, но сердце было сщемлено, точно его взяли в руки. Больше всего — больше всего во всем мире — я любил и ждал несуществующую блондинку, которой я отдал бы все мое прекрасное. Я не остался в кинематографе и поплелся в окопы. На холме стояли два громадных креста, я сел под ними и шептал, сжимая руки: — Милая, милая, милая. Любимая, нежная. Я жду. Там, вдалеке, взлетали зеленые ракеты, такие же, какие мы пускали над Окой. Потом забегали пальцы прожектора, моя гимнастерка стала белой, — и сейчас же около крестов упал снаряд: это заметили меня и стреляли по мне. В землянку чикали пули: чик! — чик! — чик! Я лег на нары, зарылся головой в подушку. Мне было очень одиноко, и я шептал, вкладывая в слова всю нежность, какую имел: — Милая, милая, милая…III
Любовь. Верить ли романтике, — что вот, через моря и горы и годы есть такая, необыкновенная, одна любовь, — всепобеждающая, всепокоряющая, всеобновляющая — любовь. В штабном поезде, что стоял у Будслава и где жили штабные офицеры, знали, что такая любовь у поручика Агренева одна, на всю жизнь. Жене, женщине, девушке, любящей один раз, когда любовь — прекраснейшее и одно в жизни, — принять героические меры, пройти все штабы, все контрразведки, чтобы пробраться к любимому, чтобы увидеть любимого, ибо — одно сердце, огромное, в мире и больше ничего. Купе поручика Агренева было в дальнем вагоне № 30–05. • • • Штабной поезд стоял за прикрытием. Огня зажигать не позволялось. По вечерам, занавешивая окна одеялами, собирались в вагоне командующего XX корпусом играть в железку и пить коньяк. Кто-то сострил, что между фронтом и мужским монастырем много сходства, и тут и там говорят только о женщинах, поэтому нет причин не посылать монахов на фронт для поста и молитвы. Банк купил и держал ротмистр Кремнев. Вошел проводник пан Понятский и позвал ротмистра. Остальные остались за картами. Пан сказал ротмистру, что есть женщина, очень дорого. У ротмистра задрожали колени, он сел беспомощно на подножку и достал папиросу. Пан Понятский предостерег: нельзя зажигать огня. Пушки вдалеке гудели, точно приближалась ночная гроза. Ротмистр Кремнев никогда не испытывал большой радости, чем в эти минуты, когда сидел на подножке, — физической радости бытия, физиологической. Пан Понятский повторил, что это очень дорого, что она — ждет, медлить нельзя. Пан Понятский вел его вагонными коридорами, во мраке. В вагонах пахло мужчинами и кожей, за дверками громко смеялись: должно быть, за картами. Так прошли пол-поезда. Когда переходили из вагона в вагон, вдалеке вспыхнула ракета, и в зеленой мути блеснул желтый номер вагона 30–05. Пан Понятский отпер своим ключом дверь купе и сказал: — Здесь. Только, пожалуйста, тише. Пан же замкнул ключ за ротмистром Кремневым. Это было офицерское купе, пахло духами, на скамейке, внизу кто-то дышал. Ротмистр Кремнев скинул тужурку и сел рядом. На диване спала женщина. У ротмистра закружилась, онемела голова, сердце и купе покатилось, — ротмистр взял онемевшей рукой колено женщины. И тогда женщина потянулась, просыпаясь. — Это ты, родной? — спросила женщина. — Вернулся? — Да — я, — ответил ротмистр. И вдруг женщина вдвинулась в угол дивана, беспомощно, раздетая, протянула вперед руки, обороняясь. — Кто тут? Уйдите! Уйдите, ради бога! — Что-о? Не ломай дурака! Дверь приотворилась, в дверь втиснулась голова пана Понятского, прошептала: — Не стесняйтесь, ваше-ст-во, она так… Только потише, — и исчезла. Больше не было слов, потому что в ротмистре, как во всех, сидел еще тот человек, который выходил у станций из лесов, в овчине и босиком и который — «любил» женщину, глуша ее дубиной. Тогда, в купе, женщина бессильно сопротивлялась, и потому, что сопротивлялась, ему хотелось придушить ее, вдавить в подушки, еще больше насиловать, пока не постучал пан. Уходя, ротмистр засунул в чулок женщины две двадцатипятирублевки. • • • Любовь! Любовь через моря и горы, и годы. У пана был ключ, одинаковый для всех купе. Проводники проследили, что к поручику Агреневу пробралась женщина. Поручик на сутки был откомандирован в дивизию. Кто в темноте разберет, какой проводник отпер дверь и какой офицер насиловал? Да и посмеет ли кричать женщина, раз она там, где нельзя ей быть, откуда ее просто выгонят, — и скажет — и скажет ли она об этом мужу — или любовнику? — разве знал Понятский о любви через моря и горы? — скажет ли она об этом мужу, другому мужчине?! — рассчитает, поди, обдумает, вымоется, — и никогда, никому не расскажет… женщина… Почему не содрать лишнюю полсотни пану Понятскому?IV
Третьего дня, вчера, сегодня — бой, отступление. Штаб армии уехал в поезде, но штабные офицеры идут пешком. В каше человеческих тел, повозок, лошадей, пушек, ординарцев, извещений, приказов — ничего не разберешь. Пулеметного и винтовочного огня не слышно. Хлещет дождь. К вечеру кто-то сказал — проорал, что остановили. Застряли в лесной сторожке. Ротмистр Кремнев в погребе нашел молоко и творог, — он, Агренев с женой, командующий дивизии, фендрики — пьют молоко. Братва разыскала в лесу корову, зарезала, жарит и ест, притащили каких-то двух местных девок, их насилуют в очередь, они очень покойны. Все говорили, что надо лечь отдохнуть, — и не заметили, как пришел рассвет, — заметили же потому, что через сторожку загудели снаряды, завопила поблизости русская батарея. Дали приказ идти в контратаку. Потащились обратно, в дождь, неизвестно почему — Агренев, Кремнев, три женщины, братва.Примечания
1
Золотое Руно. — 1907.— № 11–12.— С. 61. (обратно)2
Цит. по: Иванов В. В. Звездная Вспышка//Взгляд. — М., 1988. — С. 354. (обратно)3
Брюсов В. Я. Земная ось. — М., 1907.— С. 4. (обратно)4
Венгеров В. А. Этапы неоромантического движения//Русская литература XX в. (1890–1910). — Ч. 1,— М., 1914.— С. 18. (обратно)5
Брюсов В. Я. Далекие и близкие. — М., 1912. (обратно)6
Золотое Руно. — 1908.—№ 3–4.— С. 120. (обратно)7
Чуковский К. От Чехова до наших дней. — Спб., 1908.―С.14. (обратно)8
К у з м и н М. К. А. Сомов. 1916//Константин Андреевич Сомов. Письма. Дневники.Суждения современников. — М., 1979.— С. 471. (обратно)9
Вопросы литературы. — 1987. —№ 2.—С. 275. (обратно)10
Состояние это в русской поэзии более всего описано А. Апухтиным (см., напр., стихотворение «Исход»: «Друг друга ищем мы и сердцем и очами, Но встретиться нам, верь, не суждено…»). (обратно)11
Так, например, в новелле Т. Готье «Аррия Марцелла» в своеобразной форме излагается теория сосуществования различных времен в едином космосе: «Материальная форма исчезает лишь в глазах обывателей, в то время как призраки, отделяющиеся от нее, заселяют бесконечность. В какой-нибудь неведомой области пространства Парис по-прежнему похищает Елену…» (обратно)12
Вопросы литературы. — 1969,— № 7.— С. 192. (обратно)13
Летопись жизни и творчества М. Горького: В 4 т. — М., 1958.— Т. 2. — С. 450. (обратно)14
Consors paterni luminis (лат.)… — О, сопричастник радостный Сияния отцовского. Ты светоч светочей дневных. Тебе поем в ночной тиши. Рассей мрак заблуждения и злые рати демонов. Дремоту прочь от нас гони, Она для нерадивых — смерть. (Римский молитвенник. Стихира третья: К заутрене) (обратно)15
«Те spectem suprema mipi…» (лат.) — Перевод: «Видеть бы только тебя на исходе последнего часа И, умирая, тебя слабой рукой обнимать». (Перевод Л. Остроумова. Цит. по изданию: Зайцев Б. К. Голубая звезда. — М., 1989.— С. 80). Цитата из «Элегии» римского поэта Альбия Тибулла (около 60–19 до н. э.). (обратно)16
Fermeture… ouverture… (фр.) — Закрытие…открытие. (обратно)17
parbleu (фр.) — черт побери. (обратно)18
Que voulez — vous? Une artiste! (фр.) — Что вы хотите? Художница! (обратно)19
éntange figure… (фр.) — странная внешность. (обратно)20
femme dr menage (фр.) — прислуга. (обратно)21
Гумилев познакомился с молодой поэтессой Л. А. Горенко (Анной Ахматовой) в Царском Селе и на первых порах считал себя отчасти се поэтическим наставником, печатая ее стихи па страницах своего парижского журнала «Сириус». В 1910 г. А. А. Горенко стала женой Гумилева. (обратно)22
Строки из стихотворения Поля Верлена «Мой давний сон»: «Я свыкся с этим сном, волнующим и странным, В котором я люблю и знаю, что любим» (пер. А. Гелескула). (обратно)23
Самое серьезное занятие человека, это угадать, женщина. Crébillon II (обратно)24
но вот маленькая женщина, которая нашла способ быть одновременно добродетельным и очаровательной (обратно)25
(обратно)
26
(обратно)

Последние комментарии
4 часов 19 минут назад
16 часов 25 минут назад
17 часов 16 минут назад
1 день 4 часов назад
1 день 22 часов назад
2 дней 12 часов назад