НФ: Альманах научной фантастики. Выпуск 19 [Дмитрий Александрович Биленкин] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
НФ: Альманах научной фантастики Выпуск № 19 (1978)

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
За минувшие двадцать пять лет наша цивилизация — главным образом благодаря телевидению — удвоила радиояркость Солненной системы в метровом диапазоне волн: будто зажглась новая яркая лампа. Разумеется, это свидетельствует не столько о качестве телевидения, сколько о мощи поступательного движения НТР. Как бы то ни было, а мы стали космической цивилизацией. Экспансия в космос — процесс необратимый, разум с неизбежностью должен выйти из земной «колыбели». Казалось бы: столько дел, столько нерешенных проблем на Земле, — что нам до «черных дыр», до странностей поведения К-мезонов, до загадки «начала» — той точки с бесконечной плотностью вещества, откуда «есть-пошла» Вселенная? Но все это очередные вехи великого процесса познания, — а не познание ли себя и окружающего мира с целью его переустройства является главным назначением человека? В современном мире научная фантастика занимает «пограничное» место — в смысле ее причастности и к литературе, и к науке, — ее развитие, ее взлеты и спады в известной мере определяются сложностью самого процесса познания. И не оттого ли фантасты подчас отсекают от двуединого определения жанра слово «научно», оставляя менее обязывающее «фантастический», что новейшие проблемы науки оказываются «не по зубам»? Поистине нужна высокая температура для возникновения органического сплава литературы и науки, для того, чтобы ярким светом вспыхнула новая «лампа»… Не ставя себе целью определять сравнительную яркость «ламп», я хотел бы все же воздать должное фантастам, сохраняющим верность научной фантастике. Нам, живущим в мире больших скоростей, постоянно не хветает времени — для работы, для творчества, для развлечений. Время неумолимо несет нас в мощном своем течении. Но позвольте, разве не доказана Эйнштейном относительность времени, его зависимость от скорости, от массы? Вот, значит, рычаги, посредством которых можно воздействовать на время. И уездный учитель арифметики Иван Аникеев, полунищий мечтатель и прожектер, в начале века впервые формулирует задачу: «Пришла пора укротить и своевольное время, — пишет он в своем наивно-высоком стиле. — Наш гордый потомок, будет по своему усмотрению ускорять или замедлять бег времени…» Иван Аникеев — вымышленный персонаж из повести-хроники Георгия Гуревича «Делается открьттие», с которой начинается этот сборник. Вымышленны и остальные герои повести — математики, изобретатели, испытатели, на протяжении столетия разрабатывающие теорию и воплощающие в практику науку об управлении временем — темпорологию — тоже (пока!) вымышленную. Но как реальны в свете истории нашего века — судьбы этих людей и как, при всей фантастичности, достоверен сам процесс «делания открытия» в этой интересной и крупномасштабной повести. Научно-фантастическая проблема лишь тогда становится фактом литературы, когда наполнена человеческим содержанием и имеет прямое отношение к современной духовной жизни общества. Чем больше на Земле механизмов, машин, тем яснее становится, что главная функция настоящего человека — нравственная, — справедливо пишет в своем рассказе «Черный камень» Север Гансовский. Эта нравственная функция определяет поведение героев из сегодняшней жизни — художника из упомянутого выше рассказа, бухгалтера из рассказа Геннадия Мельникова «Лекарство от автофобии» и героев из коммунистического будущего космонавтов из повести молодого фантаста Виталия Бабенко и школьников из рассказа Дмитрия Биленкина «Проба личности», вершащих строгий суд над… Фаддеем Булгариным, вызванным из глубины веков методом «фантоматического» моделирования Так научная фантастика осуществляет своего рода «службу времени», экстраполируя в будущее лучшие нравственные качества ныне живущих людей.Е. ВОЙСКУНСКИЙ

Георгий Гуревич ДЕЛАЕТСЯ ОТКРЫТИЕ
Повесть в 12 биографиях[1]

Вам нужен свет. Синие сумерки за окном, трудно различать буквы. Вы протягиваете руку, легкое движение пальцем, и тьма отступила за окно, тени заползли под кусты. Подправили движок, отрегулировали яркость и оттенок. Какой вам свет по душе: дневной, резкий и трезвый, желтоватый вечерний — мягкий, интимный, успокаивающая голубизна для ночи или красноватый цвет — праздничный, будоражащий? Всего два движения пальцем. Вам нужен совет. Тут уже больше движений, целых девять, потому что у друга девятизначный номер, девять клавиш надо нажать. Ну и вот он — на экране, улыбается, кивает. «Надо помочь?» — «Помоги, если не занят». — «Ну, показывай!» — «Вот посмотри, я сделал график. Должна быть плавная кривая, а получается зигзаг…» Вам нужен обед. Тоже девять движений. Другой девятизначный номер. На том же экране милая девушка, диетолог, хозяйка вашего стола. «Леночка, чем вы накормите сегодня? Блинчики вчера были просто великолепны». — «Я бы не советовала, при сидячей работе не стоит каждый день мучное». — «Ну, все равно, пришлите что-нибудь на ваше усмотрение. Некогда заниматься гастрономией, голова занята…» И через пять минут звоночек пневмопочты извещает, что обед подан, прибыл по трубопроводу. Вы не удивляетесь, привыкли. Так оно и полагается. Щелк-щелк-щелк и звоночек. Получаете все, что требуется. Но не так давно, даже в начале прошлого века, нередко все это выглядело иначе. Когда за окошком сгущались сумерки, прадеды ваши, чиркнув вонючей спичкой, зажигали свечу — желтый цилиндрик, восковой или жировой. И, прикрывая хилый огонек от дуновения, несли эту свечку на стол, потрескивающую, оплывающую, капающую жиром, чтобы, осветив кусочек стола, а неверном пляшущем свете разбирать нечеткие буквы. А чтобы посоветоваться с другом, отложив все дела, надевали пальто, шапку, калоши и пешком шлепали через весь город, тратя час или два на дорогу. Люди обеспеченные могли заложить карету или оседлать лошадь: затолкать ей железо в рот, седло взгромоздить на спину, затянуть подпругу, коленкой упираясь в лошадиный живот, переодеться для верховой езды, сапоги натянуть специальные, шпоры к ним прицепить: все равно, добрый час на сборы. И ехали наугад, могли и не застать дома. Тогда приходилось поджидать, пока друг вернется неизвестно откуда. И, вернувшись, он, естественно, приглашал пообедать; полдня прошло уже. А для обеда надо было наколоть дрова. Кряхтя и крякая, толстые чурбаки разбивали тяжелым топором — колуном. И особо собирали щепки, от щепок откалывали тоненькие лучинки, потому что печку растопить было не так просто: огонь загорался не сразу. Сначала спичкой поджигали бумагу, от бумаги загорались лучинки, от них щепки посуше, а потом уже, треща и пуская смоляные слюни, начинали гореть поленья, пламя с протяжным гулом устремлялось в трубу, плита раскалялась постепенно. Вот тут можно было ставить на нее кастрюли, чтобы кипятить воду, в в кипящей воде варить мясо или овощи. И не пять минут, часа два проходило до обеда. И не пять минут, весь день уходил, чтобы посоветоваться с другом. Удивительная растрата времени. Мудрено ли, что жизнь развивалась так неторопливо тогда? Сегодня вам некогда. Дел по горло, а времени в обрез. К утру обязательно, хоть трава не расти, надо подготовить доклад, закончить расчеты, перечитать материалы, да еще одной девушке надо помочь, милой девушке, которая без вас ни за что не разберется. Ну что ж, вы знаете, как управиться со всеми делами. Вы неторопливо собираете книги, складываете дорожный чемоданчик и шагаете через улицу, в ближайший Дом срочности. Есть свободная комната? Пожалуйста. Набираете на двери отношение 1:4, или 1:10, или 1:24. Переступаете порог, и в вашем распоряжении ускоренное время. В большом мире проходит час, у вас — сутки. За двадцать минут выспался, сорок минут поработал, выспался еще раз. И через два-три часа вы подготовлены. Можете бежать к той девушке, которая без вас нипочем не справится. Каждый из нас — хозяин времени. Студенту не хватило дня перед экзаменом. Забежал на два часа, получил дал дня. Девушке не хватило часа, чтобы принарядиться. Заглянула на часок, новое платье склеила. Ночной дежурный зашел выспаться перед сменой. Выспался за двадцать минут. Вообще, десять смен подряд — не подвиг. Можно поспать перед каждой. Сколько здоровья сохраняется, сколько снято напряжения! Поэт отошел от праздничного стола, сочинил мгновенный экспромт, почеркал, поправил, проверил на слух, выучил наизусть. Актер повторил роль перед действием, или новую выучил, чтобы заболевшего заменить. Или сам заболевший ложится в срочную больницу. Там и вылечится и отлежится и сил наберется за сутки. Впрочем, вы все это знаете. Частенько заглядываете сами в Дом срочности. Даже злоупотребляете, упрекают вас иногда, что не умеете организовать свое естественное время. Но так было не всегда. Было время, когда люди сами покорялись времени. Время плыло величавой рекой, а люди томились на берегу, ожидая своей очереди, или же, захлебываясь и суетясь, торопились переплыть, пока не унесло невесть куда. Даже поговорка была: «хуже нет — ждать и догонять». Ожидающие, тоскуя и зевая, придумывали способы убивать лишние часы: бессмысленными разговорами, бессмысленной игрой, бесцельными прогулками. А другие, нервничая, метались от одного дела к другому, комкая, бросая на полпути, небрежничая, что-то упуская, суетой изматывая себя больше, чем работой. Казалось бы, так просто; сожми время ждущему, растяни перегруженному. Но даже идея такая в голову не приходила. Людям прошлого тысячелетия все казалось, что законы природы непреодолимы. Умирать обязательно, стареть обязательно, горевать обязательно и обязательно подчиняться времени. Непреодолимо его своевластие. Недаром у античных греков бог времени Кронос был отцом всех богов, и жесточайшим: пожирал своих же отпрысков. И время пожирало своих детей до той поры, пока…
1. ЗАДАЧА (ИВАН АНИКЕЕВ)
Этот человек жил в двух эпохах одновременно: мысленно — в третьем тысячелетии, а физически — в начале XX века, в царской России, в уездном городишке на Средней Волге. Напрягите свое воображение, попытайтесь представить себе жилище того времени, так называемую «избу». За крошечным коридорчиком — «сенями» — одна-единственная комната — «горница». Половина ее занята громоздкой выбеленной мелом печью, наверху тряпье и старые шубы — это постель. Вдоль щелястых бревенчатых стен сундуки и широкие скамьи — лавки. На них сидят, на них и спят. В углу несколько икон, перед одной зажженная чашечка с маслом — лампадка. Левее шаткий столик, керосиновая лампа, которая громко называлась «молнией». Полочка для книг на клинышках, вбитых в деревянную стену. Вот в такой обстановке рождалась темпорология — одно из высших достижений XXI века. А за подслеповатым окошком простор: величественная река и заливные луга до самого горизонта. Река была оживленно-суетливой во времена Аникеева: масса лодок, лодчонок, парусников, баржи нагружались, баржи разгружались. На берегу громоздились бочки с керосином, связки вонючих кож, пирамиды полосатых арбузов. Грузчики вереницей бежали по сходням, неся мешки на собственном горбу, незанятые дремали тут же на берегу, привязав к босой ноге бирку: «Меньше чем за полтинник не будить». Пьяные дрались у кабака, упившиеся дремали в канаве. Нищие гундосили у церковных ворот. И надо всем этим плавал колокольный звон: басы, густые, как мед, и мелкие колокольцы, словно мухи над медом. Дремучая жизнь. Дремотное время. И в такой обстановке — думать о том, чтобы пришпорить секунды! Выдавала Россия такие чудеса. А откуда пришли в науку Ломоносов, Циолковский, Мичурин? Откуда пришли в литературу Горький или Есенин? Иван Аникеев из этого ряда. Он обожал книги, не любил, а обожал, читал молитвенно и восторженно. Всю жизнь его восхищала и утешала возможность уйти из тусклой жизни в праздничный мир мудрых мыслей. Он так был благодарен авторам, всем авторам до единого, за то, что они, не чинясь, делились с ним — полуграмотным мальчишкой, откровенно беседовали о вещах серьезных и задушевных. И правда, есть великий демократизм в книгопечатании, в слове, обращенном к каждому, к кому угодно. Отец Ивана работал на пристани слесарем, на ремонте судов. Некоторый достаток был у него, сына он отдал в школу. К сожалению, как все мастеровые вокруг, старший Аникеев пил, даже запивал, спуская вещи в кабаке, и однажды замерз, не добравшись до дома. Упал в сугроб и заснул навеки. Четырнадцатилетний мальчишка оказался главой семьи, с кучей братишек и сестренок на руках. Он работал жестянщиком, работал половым, работал грузчиком на пристани. И все равно учился, мечтал стать ученым, таким ученым, чтобы других детей учить. Настойчивости хватало у него, характера хватало, хватало трудолюбия и способностей. Времени не хватало. Как раз когда он готовился поступать в учительскую семинарию, его призвали в армию, «забрили лоб», как говорилось тогда. Вроде бы по тогдашним законам кормильца семьи не должны были мобилизовать, но какой же уездный начальник считался с законами в царской России? На просьбу об отсрочке пристав сказал, усмехаясь: — Ты, братец, из хитрых. Отсрочка? Дам тебе три дня отсрочки. Мало? Тогда ничего не поделаешь, доучишься после войны. Три дня на семинарию! Насмешка. Барское остроумие. Но сколько раз думал потом Аникеев про эти три дня! Все это происходило в 1904 году. Россия ввязалась в войну, потому что русские капиталисты, не используя как следует богатства Велико- и Малороссии, мечтали еще и о Желтороссии. И царь сам считал, что небольшая победоносная война укрепит его шатающийся трон. Война оказалась позорной. Царь потерял флот, половину армии и чуть не потерял трон. Потерял попутно несколько десятков тысяч подданных убитыми, да еще несколько десятков тысяч потеряли глаза, руки, ноги или только здоровье. Среди этих тысяч и тысяч, сброшенных со счетов, оказался и рядовой Аникеев Иван. Орудие упало на него, перешибло позвоночный столб. Год он лежал на животе, потом кое-как волочился на костылях. Ноги так и не повиновались ему до конца жизни. Год лежал. Вот теперь времени было сколько угодно. Безнадежность. Приступы дикой боли. Нищенское пособие. Семьи нет и не будет. Молодость украдена, растоптана, раздавлена. Есть отчего прийти в отчаяние. Другие, отчаявшись, шли в церковь, чтобы молитвами выпросить себе на том сеете жизнь без костылей, или плелись в кабак, чтобы забыть о костылях на этом свете. Аникеев не пил и не молился. Он учебники читал, лежа на животе. Всякие книги читал, чаще всего научно-популярные журналы той эпохи: «Вестник знания», «Природа и люди», «Вокруг света». И решал задачи в уме. И думал о прочитанном. Слабых людей болезнь губит, сильных закаляет и возвышает. Как не вспомнить Николая Островского, автора книги «Как закалялась сталь». Или же фантазера Александра Беляева. Тоже лежал с больным позвоночником месяцами. Лежал, думал, придумывал. Его повесть о живой голове без туловища была навеяна болезнью. Муха ползает по лицу, больной не мог согнать ее. Он сам был головой без туловища. Муха подсказала идею Беляеву… а мышь — Аникееву. Мус мускулус — обыкновенная мышь домашняя, которая приходила подбирать крошки возле койки Аникеева. У лежачего больного впечатлений мало, даже мышка — приятная гостья. Вот Аникеев и хотел приручить ее, просыпая крошки. А однажды попробовал протянуть руку, погладить. Но мышка не далась. Метнулась через комнату, в мгновение ока исчезла в дальнем углу. И в голове мелькнуло: «Вот это скорость! До норки сажени три; сколько мышиных шагов а трех саженях? А мышка должна каждый шаг ощущать, без этого не сделаешь следующий. У человека не более 16 впечатлений в секунду — все, что мельче, сливается, на том основан синематограф. Сколько же впечатлений у мыши? У пташки, лавирующей в листве? У мухи, взмахивающей крыльями раз пятьсот в секунду? У ласточки, которая ловит эту муху, пролетая добрых десять сажен в секунду? Ведь ей надо на этом пути заметить муху, прицелиться, уточнить направление, клюв раскрыть и захлопнуть вовремя. Так, может быть, у этой мелкоты время течет быстрее? Нам кажется, что мышка метнулась. А она работает ногами, скачет во весь опор по бесконечному дощатому простору, трепещет, напрягается, уповает до убежища доскакать. Успеет ли?» И связались эти мысли с давнишним: «Дам тебе три дня отсрочки. Успеешь?» Успел бы, если бы время растянул по-мышиному, по-мушиному. Вот так пришла к Аникееву главная идея его жизни. Время течет по-разному для разных существ: для малых быстрее. Чтобы жить в быстром темпе, надо уменьшиться. Был бы Аникеев человеком поэтического склада, возможно, он придумал бы волшебные сказки о мальчиках и девочках, которых мышки уводили в свои норки и оттуда, пожив недельку в мышином темпе, детишки возвращались бы взрослыми. Написал бы, как сам он, получив три дня отсрочки у усатого пристава, явился бы к нему с дипломом через три дня. Но Аникеев ценил арифметику выше стихов. В книгах он искал основательные знания, а не крылатые мечты. И позже, вставши на ноги, точнее, взгромоздившись на костыли, он настойчиво искал книги о времени. Какое оно: стальное или резиновое? Нельзя ли как-нибудь его растянуть? И вот, года через два-три до уездного городка доходит журнал с заметкой о том, что какой-то немец Эйнштейн доказал будто бы, что время относительно. Относительно? Значит, растяжимо? Осуществима мечта! Аникеев проявляет, как обычно, бездну трудолюбия, терпения и настойчивости. Накопив денег, едет в Москву, в Румянцевской библиотеке достает немецкие журналы. Не зная языка, списывает буква за буквой. Учитель из губернской гимназии переводит ему текст, в формула)! Аникеев разбирается сам. И узнает суть теории. Да, время растяжимо, да, время зависит от скорости. Но, к сожалению, когда скорость растет, время замедляется. Эйнштейн нашел решение для ожидающих. Чтобы убивать земное время, надо садиться в субсветовую ракету. Ну, а как помочь торопящимся? Очевидно, тут скорость надо снизить, снизить ниже нуля. Но что такое скорость ниже нуля? Такой не бывает. И тут скромный учитель арифметики (за эти годы Аникеев все-таки получил диплом) позволил себе не согласиться с заморским ученым. Правда, они были почти ровесниками. Аникеев всего на четыре года моложе, для него Эйнштейн еще не был корифеем физики. Аникеев предположил, и ошибочно, что изменение времени зависит не от скорости, а от ускорения. Задумал аппарат для испытания ускорений, плавных, порывистых, медленно и быстро нарастающих, — сложное сочетание центрифуг. Любопытно, что исходя из неверных предпосылок Аникеев наметил путь, который мог бы дать и результаты. Правда, для этого надо было построить центрифугу не из металла и раскручивать ее не электромотором. А у Аникеева не было средств даже на мотор. И вот началась двойная жизнь у уездного учителя арифметики. Днем, проковыляв в класс на костылях, он втолковывал замурзанным озорникам, как разобраться, если купец продал столько-то аршин сукна по такой-то цене и полстолька в полтора раза дороже и при этом получил прибыль — 104 рубля 44 копейки. По вечерам же, проверив расчеты озорников, тот же учитель писал бесконечные письма купцам-аршинникам, фабрикантам, слывшим меценатами, чиновникам и сановникам, убеждая и умоляя отпустить от своих достатков хотя бы сто рублей на опыты с непокорным временем. Писал, подыскивая самые убедительные доводы для имущих и власть имущих.«Милостивый государь! Осмелюсь обратиться к Вам с предложением, сулящим неслыханные выгоды…» «Милостивый государь! После того, как мировое общественное мнение так высоко оценило Ваши заслуги в деле…» «Милостивый государь! Зная Ваше внимание и интерес к чести и славе…»Никого не убедил Аникеев. Никто не дал ни единой копейки. Писал он и ученым — немногочисленным математикам и физикам того времени. Письма его сохранились, некоторые найдены в архивах. Но, видимо, ученые сами с трудом отстаивали существование науки в консервативной помещичьей России, не могли поддержать еще и мечтателя. А кое-кто ответил с раздраженным высокомерием. Судим по тому, что в поздних письмах Аникеев с обидой ссылается на каких-то г-на К. и г-на П., написавших ему, что «даже и европейские светила не помышляют ни о чем подобном». Богатые не помогли, ученые не поддержали. Аникеев пробует обратиться ко всему свету, «к широкой публике». Он пишет статьи и научно-фантастические повести для журналов. Но и повести не удались. У Аникеева не было таланта к изображению людей, пожалуй, и особенного интереса не было. Ведь сам-то он отворачивался от действительности, прятался в благородную науку от житейской грязи. Поэтому герои его главным образом читали лекции друг Другу. И вот выдержки из статьи, опубликованной в журнале «Природа и люди» в 1910 году.
«В нашу эпоху, когда человек дерзновенно проник в самые отдаленные уголки Земли, даже к полюсам протягивает руку с древком флага, когда силы природы покорились смертным, пар и электричество исправно трудятся в фабричных зданиях, пришла пора укротить и своевольное время. Наш гордый потомок, подобно вагоновожатому, вращая рукоятку, будет по своему усмотрению ускорять или замедлять бег времени. На Всемирной выставке в Париже посетителям демонстрировали улицу будущего с движущимися тротуарами. Улица разделена на полосы; крайние движутся неторопливо, центральные мчатся стремительно, как курьерский поезд. Но разница между смежными лентами невелика. Даже дамы, подобрав платье, могут без опаски перейти на середину улицы и, заняв место в удобных креслах, засчитанные минуты добраться до цели. Автор этой статьи представляет себе мир отдаленного будущего разделенным на временные полосы. Полоса уплотненного времени для ожидающих, полоса нормального времени, полоса растянутого для торопящихся. Для начала же в каждом городе и селе могут быть созданы дома, усадьбы, даже комнаты для ждущих и неуспевающих. В сельским домах ожидания крестьяне охотно будут проводить предвесенние месяцы, когда зерно прошлогоднего урожая съедено, закрома подметены, хлебушко идет пополам с мякиной, да и того не в достаток. Так хорошо ужать, уплотнить эти постные месяцы. Перебился недельку, глядь, уже зелень… А осенью в страдную пору тот же мужичок запросится в дом успевания. Ниву-то не упрячешь в дом, жать и стога метать придется в поле, но выспаться можно за полчаса. И день твой, и ночь твоя для страды. Догадываюсь, что господа фабриканты первыми заведут дома успевания при своих цехах. Даже и против 10-часового рабочего дня возражать не будут больше. Так славно получится: в сутках две полновесных смены и дважды по два часа для отдыха, растянутых сколь угодно…»Конечно, читатель XXI века не сможет без улыбки читать эти строки. Улыбке снисходительная и печальная. Так наивно сочетает Аникеев власть над законами природы, науку далекого будущего и голодающую деревню, или двойную эксплуатацию фабричных. Но что он мог сделать — человек двух эпох? Мысленно он жил с нами, а физически — в царской России, обращался к своим современникам. Статья Аникеева кончалась такими словами:
«Это был сон, дорогой читатель, сладкий сон. Проснись. Но если ты очень захочешь, чтобы сон стал явью, не пожалей усилий. А для начала напиши по адресу…»Никто не поверил. Никто не написал. Что делал Аникеев? Продолжал. Строил этаж за этажом свой воздушный замок. Можно поражаться его мужеству. Другой мог бы и опуститься, махнуть рукой, ныть, жаловаться на судьбу. Но что приятного в нытье? И Аникеев делал то, что он мог. Мыслил. Мысленно строил темпорологию. Доказательств нет. Средств на опыты нет. Фактов нет. Аникеев вводит «допустим». Допустим, фундамент построен. Что дальше? Соорудив темпокамеру в своей голове, Аникеев внимательно обставлял ее, продумывая все детали быта в ином времени. Например, связь с внешним миром. Телефон не годится. В темпокамере время идет быстрее, допустим, в десять раз. Значит, слов в десять раз больше и звуки выше, вы тараторите тоненьким голосом, а внешний мир басит, растягивая слова. Пять секунд на слово, ничего не поймешь. Аникеев предлагает сочетать телефон с граммофоном. Сначала записывать речь, потом прокручивать в другом темпе. Для его эпохи это почти изобретение. Электромагнитные волны изменятся тоже. Мир предстанет в иных красках. Темпокамера видит внешний мир в инфракрасном освещении, внешний мир темпокамеру — в ультрафиолетовом. Столько технических проблем и столько возможностей для наблюдений! Время ускоряется раз в десять, размеры уменьшаются раз в десять, масса же убывает пропорционально кубу длины, а мускульная сила — пропорционально квадрату. Ускоренно-уменьшенные люди будут сравнительно сильнее. Они смогут прыгать как блохи, смогут даже летать, махая руками. Правда, в пределах своей темпокамеры. Время идет быстрее, а сила притяжения все та же, и такое же ускорение падения. В темпокамере все будет падать очень медленно. Практически там будет невесомость. О быте в невесомом мире тогда никто не размышлял, кроме Циолковского. Аникеева занимают не только технические, но и психологические проблемы. Он пишет трактат «Семья в многополосном времени». Муж работает в срочной полосе, он стареет быстрее, чем жена, не успевает вырастить детей. Не изменится ли институт брака? Далее, проблема демографическая. Для уменьшенных людей планета наша станет просторнее. Каждая страна как бы приобретает новые территории. Может быть, таким образом разрешатся, наконец, бесконечные споры держав из-за границ и колониальных владений? Аникеев пишет трактат о расширяющейся Земле. Если же и на Земле места не хватит, то когда-нибудь можно переселиться в атомы. Как раз в те годы было открыто атомное ядро (1911) и создана планетарная модель атома (1913). Электроны представлялись в ту пору крошечными планетками. Серия статей о колонизации атомов. Но переселенцы будут жить в ускоренном времени, легко обгонят своих прародителей. Беспредельная Атомамерика оставит за кормой медлительную земную Британию. «Наши атомные правнуки». Следующий этап размышлений: если атомы пригодны для жизни, возможно, жизнь есть и там, своя собственная и, конечно, быстротекущая, энергично развивающаяся, целые эпохи вмещающая в одну секунду. А вдруг эта жизнь захочет вторгнуться на Землю и явится в наш мир неожиданно, как жестокие марсиане Уэллса? Статья «Враждебный микрокосм». Аникеев считает, что этот страх необоснован. «Туатомоземцам» (так он называет атомных аборигенов) нет смысла вторгаться в наш сонный мир, где каждый шаг человека равен миллионам миллиардов их лет. Смешно начинать войну, нелепо даже в гости ехать, если вернешься в немыслимом будущем. Нет уж. Если и в атоме тесно, местные жители будут углубляться внутрь, еще глубже, где время течет еще быстрее. А что глубже атома? Есть ли предел? Ответ добудет та же темпорология. Можно представить себе путешествие в глубь материи. Путники все уменьшаются, время все ускоряется Вот они на уровне насекомых, амеб, бактерий, молекул, атомов, электронов… Темы рождают темы. Ветвится тематика размышлений. Пожалуй, сам Аникеев испробовал жизнь в двухполосном времени. Мысленно уходил в конец XX века, в XXI век, в XXII и XXIII. И по сей день не все еще выполнено, что он обдумывал. А сам существовал в уездном городке на Волге, где плавал в воздухе медовый звон колоколов и нищенки гнусавили на паперти, а пьяные орали песни у кабака. Конечно, Аникеева не понимали современники. Ведь он-то строил свой воздушный замок последовательно, этаж за этажом меблировал… а люди и фундамента не видели. Не было еще фундамента. И строительной площадки не было. Места не отвели. Отчасти Аникеев понимал это. Чувствовал, что сначала нужно старый мир разрушить до основания, потом уже строить. Но вместе с тем уповал на какие-то проблески разума у сильных мира сего. С грустью читаешь его сверхнаивные обращения к императорам, королям и президентам в августе 1914 года. Их он убеждает, что незачем воевать из-за земель, лучше изобрести уменьшение. Атомов хватит на всех. И даже дешевле обойдется. Последнее письмо Аникеева датировано октябрем 1916 года. Мы даже не знаем года смерти пионера темпорологии. Современники не признали его и не знали о нем. Он слишком вырвался вперед; в погоне за временем оторвался от своего времени. Извечная судьба российских изобретателей. Уроженцы экономически отсталой страны, они были знакомы со всеми достижениями мировой науки, мыслили на самом высоком уровне и могли уйти далеко вперед, выше всех. Пожалуй, отсутствие индустрии и толкало их на создание величественных теорий. Была бы индустрия, застряли бы на задачах первого этажа. И мы не знаем года смерти пионера темпорологии. Впрочем, такова естественная судьба всяких пионеров. Самые первые начинают, как правило, раньше времени. Пионер потому и опережает, что он выскочил раньше всех. Потребности еще нет, возможностей еще нет, идеи еще не носятся в воздухе, техника не готова и наука не готова. Мысли можно готовить. Но мир еще не способен воспринять их. А когда будет способен, тогда явятся тысячи… тысячи исследователей, целые отряды. Самый первый, увы, должен готовиться к непризнанию.
2. ФОРМУЛЫ (ЧЕЗАРЕ ФРАСКАТТИ)
Вода голубизны неправдоподобной, голубее, чем апрельское небо. Только у берега она грязна и вонюча, там колыхаются дынные корки в радужных разводах нефти. На горизонте величественный вулкан; груда рассыпчатого губчатого шлака, пропахшего едким сероводородом. Нарядная набережная из белого и розового мрамора; за ней переулочки и дворики, увешанные мокрым бельем. Протяжные песни над морем, визгливая брань торговок на базаре. Чезаре Фраскатти родился в Неаполе. Люди, знавшие его лично, вспоминали прежде всего добрые глаза и добрую улыбку. Фраскатти был добрым человеком, очень доброжелательным, всегда готов был прийти на помощь кому угодно, даже тем, кто помощи не заслуживал. Близким эта доброте казалась слабостью. Фраскатти органически не мог отказать тем, кто просил жалостливо. У него вечно что-нибудь вымогали пройдохи, жулики, лавочники, пропойцы, нахальные притворщики, ленивые студенты. Даже не обманывали. Он все видел, но стеснялся в глаза назвать лжеца лжецом. Слабость? Но он был неуступчив в вопросах науки, жестко несгибаем в спорах с учеными мужами и с государственными — с сенаторами, губернаторами, премьерами и президентами даже. Может быть, потому, что мужи не выпрашивали, а давили. Семейные предания рассказывают, что Чезаре с детства был тихим и спокойным ребенком. Сосредоточенно играл сам с собой, на людях дичился. Другие мальчишки били его, даже если были вдвое моложе. Однажды на бульваре у него отняли трехколесный велосипед. «Да ты бы сдачи дал!», — крикнул отец с возмущением. — «У меня не бы-ыло сда-ачи», — ответил, размазывая слезы, маленький Цезарь. Ему было пять лет, когда родители повели его смотреть военный парад. Дело было в 1924 году, в первые месяцы итальянского фашизма со всей его помпезной театральностью: бантами, аксельбантами, барабанами и факельными шествиями после облав и погромов. Фраскатти-отец, торговец средней руки, сочувствовал (на свою голову, как оказалось позже) «защитникам права и порядка». Не без труда достал билет на парад, привел сына и наследника. Но когда загремели барабаны и черные колонны двинулись, тряся бантами и бряцая саблями, маленький Цезарь разревелся. На всю трибуну вопил: «Не хо-чу, боюсь… Они меня убью-у-ут». Учился он средне. Учителя тоже пугали его своей напускной строгостью. Интерес к математике проснулся у него позже — в старших классах. Став знаменитым, он говорил, что математика привлекла его своей неоспоримостью. Дважды два всегда четыре. У квадратного уравнения два корня, у кубического — обязательно три. Это истинная истина, и ее нельзя сжечь на костре, расстрелять, перекрасить, видимо, в зыбком мире 1930-х годов, когда диктаторы, выдавая черное за блистательно-белое, похвалялись искусством лжи, а либералы играли в поддавки с фашистами, добросердечному и чистосердечному юноше математика представлялась единственным прибежищем, островком чистой истины. Аникеев ушел в науку от тупого невежества забитых уездных мещан. Фраскатти ушел в науку от злобного невежестве мещан, захвативших власть. Математические способности развиваются рано. В 15 лет Фраскатти примяли в университет, в 16 у него уже были печатные труды, в 19 он повез новую теорию а Копенгаген. Оружием ученых всегда была логика. Ученые свято верили, что разум может объяснить все. Линия эта достигла высшего развития у последователей Декарта — картезианцев, пользовалась уважением у просветителей, у Руссо с его естественным воспитанием, у Робеспьера с культом Верховного Разума. Но разум, увы, был человеческим здравым смыслом, исторически ограниченным, основанным на предыдущем опыте. И когда дело дошло до работы на промышленность, разум начал спотыкаться, обнаруживая свое несовершенство. Пришлось писать «Критику чистого разума», ниспровергать самонадеянную Логику. А на опустевший трон был возведен Король Опыт — высший судья теоретиков. И Опыт властвовал в течение всего XIX века, пренебрежительно третируя умозрительные рассуждения болтунов-натурфилософов… пока не получился конфуз. Опыт стал открывать какие-то странные, непостижимые явления: ни словами описать, ни на графике нарисовать, разумом не постичь тоже. Тогда слово взяла математика. Уравнениями она описывала невнятные результаты опытов. Более того, математика сама сочиняла уравнения и диктовала пути для проверки. Отныне опыты скромно подтверждали математические озарения. Открытия начинали рождаться в расчетах, на кончике пера. Так Максвелл нашел электромагнитные волны, Планк — кванты, Эйнштейн — атомную энергию, Бор и вся школа Бора — законы квантовой механики. Наука XX века чутко прислушивалась к скрипу перьев. Открытия выуживались из чернильницы. И гениальные юноши, отважные колумбы новейшей физики, сочинив уравнение красоты неописуемой, спешили в Копенгаген — Мекку новейшей физики. Нильс Бор — пророк этой новейшей физики — с интересом выслушивал бредовые идеи, подкрепленные бредовыми уравнениями, потому что XX век был веком всесильной Математики. Сами видят: и в нашем повествовании формулам посвящена вторая глава, а опыт появится только в пятой. С интересом выслушивал Бор молодого Паули, и молодого Шредингера, и 22-летнего Дирака, и 20-летнего Ландау, и 19-летнего Гейзенберга… и 19-летнего Чезаре Фраскатти, который привез уравнения мнимомира. Исходная идея его была чрезвычайно проста. В теории относительности важную роль играет выражение V1/(1 — v2/c2) Когда v равняется с, знаменатель превращается в ноль, а все выражение стремится к бесконечности. Благодаря этому с ростом скорости к бесконечности стремится масса, а время — тоже к бесконечности, замедляясь постепенно. Корень сравнительно сложен и выглядит искусственно. Вот Чезаре и предложил рассмотреть другие выражения. Может быть, не в нашем мире, а в иных, или в прошлом, сто миллиардов лет назад, вместо минуса под корнем стоял плюс: V1/(1 + v2/c2) А получится это, если в том мире скорость мнимая и квадрат ее — величина отрицательная. Тогда с ростом той условной скорости масса не росла, а уменьшалась бы и время не замедлялось, оно ускорялось бы. Фраскатти рассмотрел еще несколько «миров». Он заметил также, что в мире замедленного времени (т. е. нашем) и в его противоположности — мнимомире время неоднородно, оно плавно изменяется в зависимости от скорости. Правомерно назвать оба мира — мирами плавнополосного времени. Ускорение и есть переход с одной полосы на другую. Становится понятной квадратная секунда, которая так мучает школьников в формулах. Ускорение — как бы второе измерение времени. Можно говорить о площади времени, вывести формулы этих площадей. Например, в антимире Фраскатти площадь эта треугольная. Фраскатти открыл свой зеркальный мир на кончике пера и не задавался вопросом, существует ли он на самом деле. Может быть, это некое Зазеркалье, изнанка атомов, а может быть — абстрактная величина. Ясности не было, и она казалась необязательной. Ведь Фраскатти был воспитан новейшей физикой XX века, где уравнения предшествовали реальным фактам, казались важнее фактов. Главное, есть красивое уравнение. Что-нибудь оно да означает. Пока властвовал Король Опыт, отношение было иное. В XIX веке, когда Лобачевский выступил со своими математическими идеями, его сочли чуть ли не сумасшедшим, придурковатым по меньшей мере. XIX век уважал только пробирку, XX был благосклонен к математическим фантазиям. Фраскатти выступил своевременно. Нет, пожалуй, опоздал года на два-три. Квантовая Мекка доживала последние дни. Европа готовилась ко второй мировой войне. Европейское содружество ученых развалилось. Италия накрепко связалась с Гитлером… и начала вводить, между прочим, гитлеровские антисемитские законы. Отец-то Чезаре был чистокровным итальянцем, но имел неосторожность жениться на еврейке. Чезаре получил телеграмму, что ему не стоит возвращаться в Неаполь. Годы скитаний. Десятилетия борьбы за кров и хлеб. Дания, Швеция, Англия, потом Соединенные Штаты. Чужие страны вовсе не торопились на помощь к эмигрантам. Бедняков не впускали, пробравшихся высылали, поселившимся не давали работы. Только года через четыре, пробившись к своему соотечественнику Ферми, Чезаре получил работу по специальности, видимо, связанную с «проектом Манхэттен» — с атомной бомбой. Середина жизни Фраскатти не представляет особенного интереса. Биографы обычно пересказывают ее скороговоркой. Постепенно он стал благополучным американским профессором (итальянского происхождения), купил в рассрочку коттедж. Женился на Джульетте Пуччи, американке итальянского происхождения. В ту пору в Штатах, очень внимательно относились к происхождению. Существовала иерархия наций, и итальянцы — «даго» — принадлежали не к элите. Женитьба на соотечественнице избавляла от лишней грызни в доме. Жена Фраскатти была домовита, умела вкусно готовить, была сентиментальна, криклива, но уважала мужа и, ничего не понимая в математике, не мешала ему витать в мире безупречной неоспоримости. Она родила мужу трех дочерей, вырастила их скромными и домовитыми, уберегла от соблазнов, от хиппи и хотроддеров, выдала замуж: одну на Аляску, одну — в Техас, а младшую — даже в Италию. И умерла, выполнив свой долг на Земле, так и не узнав, что была женой великого ученого. Оставила ему, одинокому, стареющему, сутуловатому и грустноглазому, одну математику в утешение. О работах его рассказывать трудно и даже невозможно. Трудно, поскольку автору никак не удается простыми словами объяснить всю важность интегрально-дифференциального уравнения с семью переменными, корни которого никак не удавалось взять, пока Фраскатти не дал удивительно изящное решение, по красоте сравнимое с лучшими достижениями Эйлера. И невозможно рассказать, потому что многие из этих уравнений ложились в папки с грифом «секретно» и «совершенно секретно». Да, Фраскатти работал по заданиям военного ведомства. Да, он работал на войну. А кто тогда в США не работал на войну? Даже женщины, корчась в родовых муках, работали на войну: солдат рожали. К счастью, атомная война не состоялась. Удалось предотвратить. Попутно Фраскатти публиковал в математических журналах статьи, развивающие его любимую тему: варианты физических антимиров. Работы не вызывали возражений, потому что математически они были безупречны, и еще потому, что не имели отношения к практике; не задевали интересов ни единого фабриканта. О трудах Фраскатти знали специалисты, узкий круг физико-математиков — и тоже относились без интереса, но с должным почтением. Известно было, что есть такой профессор, продолжающий линию Лобачевского и Римана, солидный, умеренный, умеренно талантливый, пожилой, ничего не обещающий. И сам Фраскатти ничего не ждал от будущего, хлопотал уже о пенсии, написал завещание, имущество распределил между дочерьми. И тогда пришла слева. Шумная, блестящая, мишурная, с барабанным боем, принятым в Америке прошлого века, с портретами на первой полосе, фотографиями дочерей на пляже, внуков в ванночке, с репортерами, хватающими за рукав, со статьями о развлечениях Фраскатти, о его игре на гитаре, о пеним неаполитанских песен, о том, что он не стрижется и не носит галстуков, о том, что сам себе готовит спагетти. Посыпались мешками письма просителей, предложения вдов и экзальтированных девиц, прожекты шизофреников, угрозы вымогателей. Гангстеры обратили на него внимание, пытались выкрасть техасских внуков. И какая-то психопатка стреляла в него (не попала!), крича, что всех ученых надо перебить, пока они не загубили мир. И все это произошло потому, что удалось доказать, что зеркальный мир Фраскатти действительно существует. И время в нем ускоряется. Доказали это другие люди; о них пойдет речь в следующих главах. Но одни из них уже умерли, а другие благородно ссылались на формулы Фраскатти. Что же касается Аникеева, на Западе основателем темпорологии его не признавали, даже когда и упоминали о нем. Выше говорилось уже, что XX век почитал выше всего высшую математику. Аникеев же был логиком, рассуждателем, натурфилософом в сущности. Натурфилософию XX век не считал наукой. Это мы в XXI веке изменили к ней отношение. Слава Фраскатти ширилась с каждым днем. Рядовые американцы не очень понимали, что такое зеркальный мир, но все подряд знали, что миры открывает Фраскатти. По данным института общественного мнения, Фраскатти считали первым ученым мира из числа живущих. Даже непонятная таинственность невнятных формул привлекала обывателя. Этакое колдовство, расчеты-пересчеты, а из них рождаются миры. И тысячи обывателей писали столпу Разума письма с просьбой указать им дорогу, просили дать советы: научные, житейские,экономические, моральные. Следует сказать, что Фраскатти с достоинством нес свои новые обязанности оракула. Он понял, что слово его приобрело вес, и не стал размениваться на мелочи. Рекламу не поддерживал, попусту не высказывался, настойчиво и вдумчиво выступал за мир, за разрядку, за переговоры, за терпимость, за равенство, за помощь многолюдным, слаборазвитым, развивающимся, голодным странам, за хлеб для голодных, лечение для больных, учение для неграмотных. И не жалел времени на выступления в комиссиях и комитетах, хотя больше всего ему хотелось сидеть в тихой комнате, наслаждаясь безупречной красотой чисел и кривых, выражающих все на свете. К сожалению, была и капля дегтя в бочке меда его поздней славы. Да, признание пришло к нему; не ко всякому, кто заслужил признание, оно приходит при жизни. Да, в старости он получил заслуженные награды… за открытие 19-летнего юнца. Но все-таки обидно, что самое главное ты сделал, будучи юнцом. А что лотом? Прибавлял, пожинал. В сущности, ты мог бы и умереть тогда в Копенгагене, ничего не убавив от биографии. И Фраскатти все старался превзойти самого себя, победить юного Чезаре глубиной и размахом. Все свободное время он посвящал грандиознейшей работе — составлял уравнения всевозможных миров и мнимых миров, сводил эти уравнения воедино и искал общие алгоритмы и алгоритмы алгоритмов, чтобы дать уравнение уравнений, формулы всех возможных миров, которые можно было бы открыть в будущем. Он посвятил этой работе три десятка лет, всю свою старость, но так и не довел до конца. Вероятнее всего, ее и нельзя довести до конца. Если мир бесконечен, свойства его бесконечно разнообразны, варианты бесчисленны. А бесчисленные варианты не уложить в ограниченные уравнения. Впрочем, как большинство физиков XX века, Фраскатти не считал Вселенную бесконечной. Возможно, что и другие миры, описанные им, еще будут открыты, так же как предугаданный им мир с мнимой скоростью, где время течет быстрее.3. ФАКТЫ (ВИНСЕНТ ЖЕРОМ)
Нельзя объять необъятное. Истина эта тривиальна, общепринята, общепризнана и закреплена афоризмом Козьмы Пруткова: «Плюнь тому в глаза, кто скажет, что можно обнять необъятное!». Но хочется. Разве не пытался объять всю природу Аристотель в своей «Физике» и «Метафизике»? Правда, тогда наука была в младенческом возрасте, ростом невелика. Возможно, и мог ее изложить один человек. А Гумбольдт со своим многотомным «Космосом»? Но труд этот имел значение только в свою эпоху, для нас утратил интерес. А Бокль? 19-летний юноша, богатый и обеспеченный, увлекается историей. И решает написать историю всего человечества. Двадцать лет терпеливо и трудолюбиво он собирает материалы. Ворох сведений, груды выписок, горы папок. Нет им конца. Полжизни прошло в перелистывании страниц. Когда-то нужно подводить итоги. Бокль выпускает всего два первых тома: «История цивилизации в Англии». Всего два тома, но сказано новое слово в истории. До той поры история была хроникой полководцев и королей. Бокль заговорил о влиянии природы и экономики на судьбы народов. И умер надорвавшись. Сил не хватило на продолжение. Казалось бы, подтвердил истину: «необъятного не обнять». — Ничего не поделаешь, обнять-то надо, — говорил Жером. Он был гостеприимен и общителен, любил застольные беседы без возлияний, но больше расспрашивал, чем рассказывал. Умел спросить. Охотно заводил знакомства на улицах, в бистро и в метро, умел вызвать собеседника на откровенность, выслушивал с жадностью и… расставался. У него были тысячи знакомых, друзей не было совсем. Для дружбы нужно сердечное сочувствие, а у Жерома было только любопытство. Раскусив человека, он терял к нему интерес. — Не человек, а соковыжималка, — сказал о нем один из учеников. — Душевыжималка! Он научился читать с четырех лет и с той поры читал везде. Читал в рабочее время, читал за едой и после еды, читал на сон грядущий, читал всегда, если не с кем было говорить. Любил книги? Можно ли сказать, что доменная печь любит руду, а жернова — зерно? Жером пожирал книги, перемалывал, соки выжимал. Они были почти современниками с Аникеевым — Жером моложе на восемь лет. Оба жадные читатели, но какая разница в чтении! Для Аникеева книга — светоч жизни, книга — отрада, книга — родник в пустыне. Он пьет знания восторженно и благоговейно, ищет книги, бережет, перечитывает по многу раз, обдумывает каждую строчку. Для Аникеева книга — драгоценный оазис в пыльной пустыне жизни. Жером живет в иных условиях. Он библиотекарь в университете. Вокруг море книг, и главное — не захлебнуться, не наглотаться воды. И Жером умеет плавать в море, умеет дегустировать книгу, не читая, выловить суть, даже понять, что читать не стоит. Не жаждущий, а гурман. — Это граф выучил меня читать так, — рассказывал Жером. Имеется в виду знатный граф Де ля Тур, владелец обширных поместий во французской и немецкой Лотарингии по обе стороны границы. Ему рекомендовали в качестве хранителя книг 16-летнего Винсента, сына местного учителя, уже проглотившего все книги лицейской и городской читальни. Подавая это как благодеяние, либеральный граф разрешил юнцу пользоваться своей личной библиотекой. На самом деле граф был скуп и расчетлив. Он хотел продать большую часть библиотеки, но так, чтобы она не утратила ценности. Нужно было отобрать книги, дублирующие Друг друга, оценить их по содержанию. Именно эта задача и была возложена на бесплатного хранителя. В первый же вечер граф потребовал отчет: что Винсент успел прочесть? О чем сказано в книге? Где еще сказано то же самое? Где сказано лучше? Приходилось читать много, читать быстро, читать подряд однотемное и сравнивать. Юноша увидел, что-книги повторяют друг друга. От одного автора к другому кочуют те же факты, те же примеры, те же иллюстрации, нередко — те же мысли. Море воды, а рыбы скудновато. — Не так много фактов добыто наукой, — говорил он позже, противореча всему ученому миру. — Планет всего девять, элементов — 92 и состоят они всего из трех частиц. Мнений много, это верно. На каждый факт сорок теорий. И постепенно возникло у Жерома желание составить картотеку фактов, выловить их, выжимая воду из книг. Цель жизни была сформулирована в 19-летнем возрасте, как у Бокля. Был составлен список наук, план чтения, форма карточек, программа на всю жизнь. И что самое удивительное, человек не отступил от этой программы. Пальцы проворно перелистывали страницы — до тысячи в сутки. В среднем заполнялось десять карточек, в год — тысячи три. Три тысячи весомых фундаментальных фактов, кирпичей науки… Окончив провинциальный лицей, Жером поступил в Парижский университет. Был, вероятно, самым странным из студентов: самым жадным, самым трудолюбивым и самым нерадивым. Посещал лекции на всех факультетах, читал бездну книг, не сдавал экзамены почти нигде. Ему жалко было тратить время на заучивание, прерывать увлекательную ловлю фактов. День без заполненной карточки казался пустопорожним. Жером так и не кончил университета, ушел со второго курса. Но жадный потребитель книг стал своим в университетской библиотеке, там и устроился. Он получал мизерную плату — едва хватало на кофе и булочку поутру, — но имел возможность с утра до вечера и по вечерам сверхурочно перелопачивать печатную руду, выбирал золотые крупинки фактов. Радостна жизнь коллекционера. Он подобен золотоискателю, промывающему золотоносный песок. Подобен скупцу, который может положить дублоны в сундук, «в седьмой сундук, сундук еще неполным». И каждый день по дублону, по пять, по десять… Факты — вечная монета. Они не теряются, не стираются. Правда, попадаются фальшивые, неполноценные. Но когда это выясняется, факт можно заменить. Жером был счастлив, хотя все считали его неудачником — в жизни и в любви. Его кратковременные романы с гризетками, как правило, кончались изменами. Девушки не слишком ценили вечного студента, который и угостить не мог как следует. Луиз — первая жена Жерома — бросила его, так и не сумев убедить, что одеяльце для ребенка важнее картонных карточек. Потом появилась Эмма — вдова с двумя мальчиками, пышная блондинка с сильно развитым материнским чувством. Эмма включила мужа в свое сердце и свое хозяйство в качестве третьего мальчика, самого безалаберного, окружила заботами, простила неприличное безденежье и ученый эгоизм. Впрочем, это было позже… после войны. В августе 1914 года миллион немецких юношей в касках были посланы во Францию, чтобы отнять нефранцузское Марокко, нефранцузскую Гвинею и еще что-нибудь для своих торгашей. Миллион французских юношей в касках послали на битву, чтобы отстоять нефранцузское Марокко, нефранцузскую Гвинею и прочие колонии для своих торгашей. Единичкой в миллионе был и коллекционер фактов Винсент Жером. Четыре года он провел в сырых окопах — лучшие годы молодости. Получил пулю в бедро, другую — под ребро. Нахлебался фосгена на Сомме — испортил легкие. Здоровье потерял. И потерял все труды юности — картотеку с 12 тысячами фактов. Она хранилась у родителей, а через городок прошла линия фронта. От дома даже стен не осталось. Другие теряли больше. Другие и жизнь потеряли. 28 лет было Жерому, когда он вторично начал с самого начала. Три тысячи карточек в 1919 году. Шесть тысяч — к концу 1920-го. Десять — к концу 1921-го… Радостна жизнь коллекционера. Собрание его растет, дело подвигается. Каждый день он становится богаче, никогда не беднеет. В общем Жером был счастлив. Тысячи и тысячи ученых в резных странах трудились на него, добывая стоящие факты. Тысячи и тысячи ученых торопились изложить эти факты и сдать их в печать. Тысячи и тысячи типографщиков и почтовиков работали, чтобы доставить факты в библиотеку. Жером был последней инстанцией. Он читая, оценивал и достойное заносил на карточку… очередную. Двадцать тысяч карточек… Тридцать тысяч… Сорок… Пятьдесят! Слух о картотеке распространился постепенно. К Жерому обращались за справками библиотекари, студенты, даже ученые, даже ученые из других стран. Студенты рассказывали легенды о пожирателе книг, глотающем по тысяче страниц в час (преувеличение, конечно). Просили научить их молниеносному чтению. Жером написал «Советы начинающему читателю». Кажется, это единственный его печатный труд.«Дорогой друг! Входи, не стесняйся. Мы рады тебе. Ты пришел к нам в читальню, чтобы понять мир и жизнь. Пришел полный отваги и растерялся чуточку. Тебя устрашили эти полки-полки-полки с корешками черными и цветными, тиснеными серебром и золотом, миллионы тонн человеческой мудрости, одетые в переплеты, бумажные, картонные, ледериновые, в свиную и телячью кожу. Ты подавлен. Как осилить тысячу книг по геологии, или тысячу по гистологии, или тысячу биографий для твоей монографии? Не хватит сил, не хватит времени, не хватит емкости мозга. Дружок, мужайся! Кое-что я скажу тебе в утешение. Сам себе ответь: для чего ты пришел, собственно говоря? Чтобы все прочесть или все понять? Это разные вещи. Вовсе не нужно знать все атомы наперечет, чтобы понять строение атома. И не нужно знать всех людей на сеете, чтобы понять человека. И не нужно прочесть все книги от корки, чтобы узнать все достижения науки. Дело в том, друг мой, что книги эти написаны людьми. Как исключение — гениальными. Изредка — талантливыми, толковыми и оригинальными. Нередко — знающими, чаще всего — обыкновенными, такими, как мы с тобой. А людям обыкновенным, впрочем, и необыкновенным тоже, присущи человеческие недостатки, лучше сказать — „черты“. Одни из них облегчают твою задачу, другие затрудняют. Черта затрудняющая — пристрастность. Авторы — народ пристрастный, у каждого своя точка зрения (на мир, жизнь, геологию или гистологию). Частенько они и берутся-то за перо, чтобы отстоять свою точку зрения, свои выводы представить как истину. И в пылу спора сливают в один котел факты, мнения, рассуждения, ссылки и выводы. Особенно грешат этим популяризаторы. Вот уж где мнение подается как истина в самой последней инстанции. Выцеживать приходится суть из книги. А черта, облегчающая чтение, — нормальная человеческая словоохотливость. Люди — существа общительные. Они любят поговорить, даже если им не о чем говорить. Вы и сами после библиотеки пойдете с другом в бистро посидеть за рюмочкой. Разве вы сообщите что-нибудь новое, особенное, что можно услышать только от вас? В лучшем случае перескажете прочитанное или услышанное. Так и в книгах. Личный вклад ученого в науку трудоемок и лаконичен. Может быть, вы знаете, что вся теория относительности была изложена в пяти крошечных статейках? Много ли ученых написали такие весомые странички? Ей богу, как правило, о всей жизни можно отчитаться на десяти страницах. Но десять страниц — это несолидно, даже на полке незаметно. Вот они и доливаются изложением материала, историей вопроса, предысторией истории, обзором литературы, чужими мнениями, мнением автора о чужих мнениях… И когда вы, друзья, отсидевши положенные годы в библиотеке, сочините свой научный труд, у вас тоже будет двести страниц гарнира к трем страничкам личного вклада — к резюме. Так вот, вовсе не нужно глотать весь гарнир, чтобы извлечь зернышко личного вклада… или шелуху найти под грудой слов. Но не начинайте самонадеянно с резюме. Первую вашу книгу, по геологии или по гистологии, обзорную, популярную, учебник, лучше прочтите от корки до корки. Первый десяток перелистайте, отбрасывая уже знакомое. К концу десятой вы будете знать девять десятых всех фактов. Дальше начнется шлифовка, уточнение… И размышление. И размышление, друзья!»Следуя наставлениям Жерома, и мы приводим не всю брошюру целиком, только две странички. «И размышление, друзья!» Ради размышлений пришлось перейти к следующему этапу. Разыскивать факты в 50 тысячах карточек было непросто. Над карточками нарастали каталоги. Для каталогов требовался некий принцип. Для сопоставления фактов — какие-то линии отбора. К карточкам пристраивались списки, потом графики, потом таблицы. Тасовать неудобно, раскладывая так и этак. Удобнее смотреть на таблицу, как бы видеть все карточки сразу. В таблицах вся суть. Начали у Жерома составляться таблицы наподобие Менделеевской. Таблицы для вещества, таблицы для энергии, таблицы для тяготения, для болезней, для животных, для чувств, для характеров, для всего на свете. Жером называл свои таблицы омнеологическими. Омнеология — наука обо всем. Жером сам придумал это слово. Но, пожалуй, омнеология — всеведение, такое название преувеличивает значение этой науки. В сущности это одна из сравнительных наук. Есть сравнительная анатомия, есть сравнительное языкознание… в данном случае — сравнительное природоведение. Казалось бы, необходимая отрасль знания. Но в эпоху узкой специализации, характерной для середины прошлого века, в эпоху расщепления, дробления и умножения мелких наук, сама идея сравнения была новинкой. Не принято было сравнивать планеты и атомы, людей и зверей, историю и палеонтологию, магниты и циклоны. Слово «аналогия» считалось ругательным. «Аналогия — не доказательство», — твердили повсюду. А в таблицах как раз и лезли в глаза аналогии. — Ничего не поделаешь, — говорил Жером. — В природе все переплетено. Это мы, библиотекари, расставляем книги на полках, а добрый боженька все валит в кучу. И нельзя понять гистологии без гидрологии, гидрологии без геологии, геологии без географии, географии без топографии, топографии без топологии и все вместе без омнеологии, а омнеологии — без таблиц. От таблиц Жерома пошла не одна наука. От таблицы первой — сравнительная физика, от таблицы второй — гравиномия — наука об управлении тяготением, а от таблицы третьей — темпорология — наука об управлении временем. Тема нашей книги! Но сам Жером наук не создал. Он только объявил о них, декларировал пришествие. И объявил-то устно, в беседах со студентами — читателями. Были таблицы, были методические советы, наглядные диаграммы, хлесткие афоризмы. Главного не было: написанного труда. Ученики и друзья уговаривали Жерома взяться за перо. Он все откладывал: вот наберу сто тысяч карточек, вот уясню то-то и то-то, вот жду сведений об атомном ядре: сейчас каскад открытий, вся физика шатается (дело было в 30-х годах прошлого века). Вероятно, Жерому скучновато было писать. В научном труде полагается соблюдать форму — ту самую, которую он осуждал и высмеивал: суконным невыразительным языком излагать историю вопроса, пересказывать водянистые, как жиденький бульон, сочинения, перемежая текст цитатами с указанием страниц. Страниц, а не фактов! Жалко было тратить время на писание. Жерома увлекал процесс узнавания, кладоискательство, а не сам клад. Хотелось бродить по дорогам, а не рассказывать о походах у камина. День без новонайденных фактов, без чтения и заполнения карточек казался пустым. Возможно, и отваги не хватило. Жизнь текла спокойно, труд приносил удовлетворение. Сундуки пополнялись, богатство росло. Жером сам знал, что он богач. И страшновато было кидать на стол все имущество, идти ва-банк: признают или осудят? Страшно было вступать в спор с умелыми, степенными (т. е. имеющими дипломы и степени), заведомо враждебными и подозрительными. Жером предпочитал копить оружие и откладывал войну. Однажды почитатели пришли к Жерому и, встав в дверях его кабинетика, пропели:
4. ВЫВОД (БРУНО ЯККЕРТ)
— Своей головой думайте, своей собственной! Крутолобый, взъерошенный, лохматый, с растрепанной бородой, сбычившись, смотрит на нас с портрета сердитый старик. Бруно Яккерт, австрийский физик, четвертый в ряду создателей темпорологии. Вот так он стоял на кафедре, наклонив голову, словно сейчас готовый ринуться в бой, сердито глядел на студентов поверх очков, покрикивал раздраженным голосом: — Своей головой думайте, своей! С виду боец, он и был в жизни бойцом, острым полемистом, язвительным и находчивым, грозой неповоротливых ретроградов, сонно пережевывающих достижения предыдущего века. Воинственность была в духе эпохи (не в науке, к сожалению). Гитлер был современником и соотечественником Яккерта, а воинственные ровесники Яккерта, нацепив стальные каски, шагали по дорогам Европы, горланя песни, убивая и не думая, поскольку фюрер взялся думать за всех. Но Яккерт был из тех, кто думает своей головой. В результате его однокашники, не утруждая головы, упивались награбленным шампанским, а сам он за колючей проволокой разгребал лопатой болотную жижу. Семь лет, всю свою молодость, провел он в тюрьмах и лагерях. Работал наравне с военнопленными русскими, сербами, чехами, голландцами, французами… В каком-то лагере лежал на нарах рядом с французским библиотекарем Жеромом, услышал рассказы (вечера долги в бараках) о выжимании воды из книг, о сухом веществе фактов и о том, что факты обещают великую власть над природой… над временем даже. Впрочем, историки науки спорят, сам ли Жером высказал идею управления временем. Возможно, он говорил о таблицах вообще, а таблицу времени составил Яккерт. Ведь карточки погибли, таблицы погибли, расчеты погибли. Остались только общие идеи в голове соседа по нарам. Он вспомнил о них не сразу. Вспомнил лет пятнадцать спустя, уже будучи профессором физики в университете в Граце. Студентов надо было направить: дать литературу и научить читать, потому что литературы было море. Вот тогда и всплыло жеромовское: «Друг мой, а для чего ты учишься, собственно говоря? Хочешь все знать или все понять?» Молодой (в ту пору еще молодой) профессор физики Яккерт считал, что студентов надо учить пониманию. Чтобы зубрили меньше, думали больше. Он вспомнил о Жероме вторично, когда, будучи уже солидным профессором со стажем, принимал участие в консультациях. Мы уже говорили, что это была эпоха засилья специалистов, знатоков узкого вопроса. Про них говорили язвительно, что «они знают все ни о чем». Но эти глубокие знатоки терялись, когда надо было решать что-то объемное, например, проблему использования всех вод Дуная, проблему чистоты атмосферы над всей Европой… И всплыли в памяти всеобъемлющие омнеологические таблицы Жерома. В том числе и третья. Она нужна нам, мы ее приведем с примечаниями Яккерта (см. таблицу).
Держите таблицу перед собой, поглядывайте, не ленитесь. Ведь в тексте у вас одна строка перед глазами, всего один факт в центре внимания. А на таблице выстроены все факты сразу. Все можно сравнить. Границы наук видны, и ограниченность каждой науки. И горизонты знания, даже то, что за горизонтом. Всем открывателям неоткрытого рекомендую составлять таблицы. Итак, таблица энергии: расход и приход. Приход в верхней половине. Здесь тела, куда поступила энергия, заприходовавшие добавочную порцию. Тела эти движутся: идут, бегут, летят на самолете, на ракете, химической, ядерной, фотонной, или носятся в пространстве, если это небесные тела. В нижней половине — расход энергии. Тела, утратившие часть энергии: газы, ставшие жидкостью, замерзшая вода, застывший металл, атомы, слипшиеся в молекулы, частицы, слипшиеся в атомные ядра. Здесь же и небесные тела: образование их и сжатие тоже связано с потерей энергии. Полученную энергию можно измерять скоростью, поскольку E = mv2/2 Утраченную энергию, видимо, тоже можно измерять скоростью, но особенной, мнимой скоростью v(i), тогда — E = mv(i)2/2 Согласно теории относительности, когда скорость растет, увеличивается и масса по формуле m = m0 V1/(1 — v2/c2) Когда же скорость уменьшается, когда энергия теряется, масса уменьшается. Уменьшается до нуля или ниже нуля. В ядерных реакциях массе действительно уменьшается — это доказано. Согласно теории относительности, когда скорость увеличивается и масса растет, — замедляется время. Вы прочли, наверное, сотни романов и рассказов о замедленном времени в субсветовой ракете. Теперь скажите сами, что произойдет со временем, когда масса начнет теряться, а энергия и скорость — убывать? Очевидно, время ускорится. Так вот, в ядерных реакциях синтеза теряются масса и энергия. Энергия и, вероятно, масса теряются при сжатии небесных тел. Вывод: время ускоряется там. Вывод: время можно ускорять, отнимая массу и энергию, или сжимая тела. Можно управлять ускорением времени! Для читателей этой книги, знакомых с биографиями Аникеева, Фраскатти и Жерома, вывод естественный, не удивительный. Но выступление Яккерта было встречено с возмущением, с негодованием, с яростью научными кругами Западной Европы и Америки. Яккерт принял на себя весь удар. Об Аникееве тогда никто не знал в Европе. О Жероме тоже. Ироничный скептик Жером прожил свою жизнь незаметно и спокойно. Спорил он с безответными книгами, высказывался перед теми, кто хотел его слушать. Все откладывал и откладывал бои в научных сферах, так и не вышел на поле боя. И добродушный теоретик Фраскатти тоже не вышел на поле боя. Он вывел формулы зеркального мира, но не доказал, что этот мир действительно существует. Формулы были безупречны, но воспринимались как некая игра ума. Игра необязательная и никого не задевающая, ни в теории, ни в практике. Яккерт же объявил, что никакая это не игра. Антимир существует, он рядом с нами, он в нас. Теоретики его прозевали, практики прохлопали. Надо срочно переписывать учебники, надо срочно осваивать. Конечно, все были возмущены, чуть ли не весь ученый мир. Невольно всплывает историческая аналогия. Коперник при жизни не опубликовал свою теорию. Книгу он увидел на смертном одре. Осторожные ученики снабдили ее предисловием, где было сказано, что эта теория — не теория, а только удобный метод расчета движения планет (этакая математическая игра), которые на самом-то деле вертятся вокруг Земли, как и сказано в Библии. С математической игрой, с удобным методом расчета церковь могла примириться. Но потом пришел Джордано Бруно и начал учить, что Коперника надо принимать всерьез, что Земля не пуп мироздания, излюбленный ветроград боженьки, что таких ветроградов на небе — пруд пруди. Вот с этим церковь никак не могла примириться; Джордано Бруно отправили на костер. И Бруно Яккерт (тоже Бруно! Такое совпадение!), объявивший, что время ускоряется всерьез, принял на себя огонь полемики. Увы, в ученом мире было полным-полно консерваторов, воображающих, что все великие истины открыты великими покойниками, а удел живых — разъяснять эти открытия молодежи. Яккерт раздражал их, потому что подрывал их авторитет носителей безупречного знания. Мало того, новые идеи, к сожалению, не всегда пристраиваются в затылок старым. Как правило, что-то принимают от прежнего, но чему-то и противоречат. Яккерт несколько иначе трактовал строение атомных ядер, физические поля, строение электронов и протонов. Его взгляды приходили в столкновение со взглядами (не с фактами!) физиков середины XX века. И многие физики встали на дыбы, отстаивая свою непогрешимость, ту точку зрения, которую они проповедовали на лекциях и семинарах. Хуже того, Яккерт публично, в отличие от незаметного Жерома, разоблачал своих коллег, обвиняя их не только в ошибках, но и в словоблудии, в том, что они наполняют свои «труды» бесконечным самоповторением и повторением чужих мнений, что из их книг нельзя выжать ни единого нового факта. Оскорблял коллег всенародно. И помимо всего, к студентам и читателям лохматый профессор обращался на каком-то простонародном неряшливом общепонятном языке, игнорировал утонченную речь посвященных, эмпирическое называл опытным, эклектическое — невыдержанным, разностильным. И даже невежливо заявлял, что мудрый язык специалистов служит для того, чтобы невнятными терминами прикрывать отсутствие мыслей. Друзья, пока у Яккерта были друзья, не раз говорили ему, что он зря нападает на всех и все подряд. Надо сосредоточиться на чем-то одном: продвигать науку о времени через обычные каналы, к профанам не обращаться, доказывать, даже кривя душой, что темпорология не противоречит ни единому из прежних законов, ни одной строчке учебника. Какое там! Яккерт ломился напролом, круша всех подряд, не считался ни с авторитетом, ни с влиянием. Его называли неуживчивым склочником и выживали отовсюду. Он побывал профессором в Граце, в Цюрихе, в Гейдельберге, еще раз в Граце, в Линце и в Вене. И из города в город ползла за ним слава скандалиста и чудака, маньяка, носящегося с бредовой идеей. Самый главный довод противников: Яккерт не мог доказать свои выводы опытом. Правда, и противники не могли опровергнуть его построения опытом, но это уж в расчет не принималось. Если говорить точнее, Яккерт мог бы доказать, но опыты, которые он предлагал, не признавались доказательными. Дело в том, что проблема измерения таких общих категорий, как материя, пространство, время, очень не проста во вселенских масштабах. Материю измеряют материей, длину одного тела длиной другого. Абсолютной, нематериальной линейки, увы, не существует. Знаменитый парижский платиновый метр, эталон всех длин — только разновидность материи — линейка из платины. И от тепла она удлиняется, укорачивается от холода.

Не существует и абсолютных вневременных часов. Темп природных процессов измеряют, сравнивая с темпом других процессов. В качестве шкалы выбирают самые равномерные: раскручивание стальной пружины, качание маятника, колебание кристалла, световую волну. Но физики-то знают, что в иных условиях, на других планетах, например, маятники качаются иначе и даже свет распространяется иначе. Яккерт считал, что всюду свое время. «Нет, — отвечали ему, — время такое же, а процесс иной». Только один физический процесс считали в XX веке совершенно не зависимым от внешнего мира — радиоактивный распад. И когда удалось установить, что быстрые мезоны распадаются медленнее, это и было сочтено доказательством того, что при высоких скоростях время течет медленнее. От Яккерта требовали; докажите, что радиоактивный распад у вас где-то пойдет быстрее. Яккерт не мог доказать. Отчасти потому, что он был теоретик, а не экспериментатор. Его дело было — путь указать. Он указал в конце концов. Но главное, он был погружен в яростную полемику со всеми, кто ему возражал. Он сражался, сражался, сражался… и устал от сражений. Годы взяли свое. А тут еще пришел удар с неожиданной стороны. Ведь Яккерт апеллировал к студентам, к молодежи… И вдруг научная молодежь ополчилась на него. Как раз в те годы в Европе выступила когорта философствующих физиков, задним числом их называли «стыдливыми спиритами». Да, они вроде бы изучали физическим мир: атомы, ядра, частицы и поля, но всячески старались подчеркнуть ненаглядность атомов, необъяснимость ядер, условность полей, слабость человеческого ума, неспособность понять и представить себе микромир. Им все хотелось вытеснить из физики физику, заменить ее игрой уравнений в духе Фраскатти. Настроения эти были связаны с историей науки в XX веке. В физике основные открытия пришлись на первые десятилетия: атомное ядро, кванты, частицы, нейтрон, распад ядер — все было найдено до 1940 года. После этого шли уточнения, а непонятное так и оставалось непонятным. Зато мир увидел результат открытий — атомную бомбу. И результат этот показался таким страшным, что обыватель усомнился в науке и разуме вообще. Это сомнение в разуме и отражалось в настроениях молодых физиков. И разумные рассуждения Яккерта они объявили устаревшим путем в науке. В душе они жаждали покоя, мечтали о доатомной старине, размеренной жизни до всех этих взрывов: термоядерных, демографических, информационных. Но, как все сторонники старины, они не признавались в тяге к прошлому. Наоборот, считали и называли себя «новой волной», поборниками подлинной истины. И они обвиняли Яккерта в том, что он устарел со своим примитивным атомизмом, его называли «призраком рационального прошлого». На беду Яккерта, «стыдливые спириты» были молоды, полны сил, речисты, не менее остроумны, чем Яккерт, и гораздо более энергичны. Главное, молоды. Всякий непризнанный гений утешает себя тем, что он обращается к будущим поколениям. Но вот будущее поколение объявляет тебя отжившим, ненужным, старомодным чудаком. Яккерт не знал психологического правила: дети отрицают мудрость отцов, а внуки, отрицая мудрость своих отцов, смыкаются с дедами. Но внуки еще не вступили в науку, а голос детей звучал громко. Яккерт поверил, что он отживший ненужный чудак. И покончил с собой в минуту душевной усталости: принял смертельную дозу снотворного, не зная, что в соседней стране, всего за тысячу километров от Вены, его идейные внуки уже приступили к доказательному опыту.
5. ОПЫТ (ЙОВАНОВИЧИ НИКОЛА И ЛАКШМИ)
В этой главе три места действия. Главное; Базель — небольшой готический городок на излучине реки, тесно заставленный старинными домами с крутыми остроконечными крышами и коричневым фахверком. До того — экзотическая Калькутта, наводненная людьми. Пальмы и мусорные кучи, небоскребы и шалаши, дворцы и трупы голодных на асфальте, яхты и изуродованные дети нищих, искалеченные, чтобы им подавали лучше. И кроме того — Ядран. Ядран — это Адриатика по-сербски. Удивительная трехцветная страна — сине-красно-серая. Синее — это сверкающее южное море, красное — черепичные крыши, а серое — бесплодные камни продолговатых островов, каменные хребты гор, погрузившихся в море, словно стадо буйволов, истомленных зноем, серое — это стены каменных домиков возле пыльно-серых тощих олив в саду. Страна нарядная, великолепная и скудная. Купанье дивное (если не наступишь на морского ежа), но хлеба своего нет. Рыба и маслины — вот и все питание. Местные жители пробавляются «угостительством», туристов угощают великолепной природой. Гостиницы, пансионаты, морские прогулки, сувениры… Семья Йовановичей жила сувенирами. Из раковин, подобранных на пляже, нежных, белых, розовых и перламутровых, так беспомощно хрустящих под каблуками, сооружались коробочки, вазочки, пепельницы, пудреницы в форме цветка, букета, домика или парусника с надутым гротом и развевающимся вымпелом. Два динара за коробочку, шесть — за парусник. С раннего детства Никола стал ракушечным скульптором. У него был зоркий глаз, тонкие пальцы и бездна воображения. И ему нравилось составлять скульптурные композиции из полупрозрачных известковых блюдечек. Увы, спрос на корабли был не так уж велик. Ракушечный флот и три маслины у дома не могли прокормить семью Йовановичей. 17-летний Никола отправился на заработки в Швейцарию. В Базель! В ту пору Западная Европа охотно ввозила чернорабочих. Чистый труд оставляла своим, тяжелый и грязный давала приезжим. Никола работал землекопом на строительстве тоннеля, простудился в подземном болоте; устроился истопником, не сдюжил. Он был тощий, худо кормленный юноша, с узкими плечами и плохими легкими. Но тут ему повезло. В котельной университета оценили его тонкие пальцы, зоркий глаз и интерес к починке приборов. В конце концов Никола осел в лаборатории приборостроения. И здесь он нашел себя. Пригодились и глаз, и тонкие пальцы, и воображение. Никола составлял невероятнейшие конструкции из тончайших проволочек, стеклянных трубочек, микроскопических емкостей, сопротивлений, триггеров и триодов. Ему нравилось превосходить своих учителей и самого себя. Никто и не поверил бы, что этакая воздушная конструкция будет работать, параметры выдавать. Не пересчитать всех приборов, которые он соорудил, главным образом, для измерений. Пожалуй, Николе повезло, что он со своим талантом поехал именно в Швейцарию, в страну малой техники, часовой, приборной. Впрочем, и Швейцарии повезло, что Никола приехал именно туда. Вообще-то в XX веке наука стала индустрией. XX век гордился синхрофазотронами, обширными, как цирковая арена, — этакими стадионами с беговой дорожкой для стремительных частиц, гордился башнями телескопов и неводами радиотелескопов, гордился космическими кораблями и космодромами. Но только могучие державы — Советский Союз и Соединенные Штаты — могли позволить себе этакий размах. Малые страны вынуждены были ограничиться обсуждением фактов, добытых русскими и американцами, или же уточнением деталей с помощью точных приборов. Такое разделение труда наметилось еще в начале XX века. В богатой Англии драгоценным радием Резерфорд расщеплял атомное ядро, а в маленькой Дании Бор создавал математическую теорию атомной оболочки. Для расщепления ядра нужна была мощь, для теории даже приборы не требовались. Итак, Никола Йованович строил точнейшие приборы для тончайших исследований. С годами он стал авторитетом в области точных измерений. К нему приезжали консультироваться видные ученые, специалисты по измерению пространства, энергии, времени. И удивлялись, узнавая, что уважаемый коллега не физик, у него ни звания, ни диплома даже. Еще больше удивлялись, слыша, что коллега не хочет получить диплом. — Но жизнь так коротка, — говорил Йованович. — Жалко тратить время на побочные цели. Три года на диплом, три года на диссертацию! Столько хороших приборов можно сделать за шесть лет! И разве я научусь работать лучше, написав сто страниц о методике приборостроения? На этом свете каждый должен делать свое дело. Я способен поставлять миру рекорды точности, я обязан их поставлять. «Жизнь так коротка!» Словно он чувствовал, что проживет недолго. И вот однажды, после того как в Базеле отбушевал Яккерт, сокрушая сомневающихся и провозглашая торжество темпорологии, кто-то из слушателей сказал: — Только Йованович может провести доказательный опыт. Историей не установлено, кто именно произнес эти слова. Впоследствии семь базельских профессоров спорили, приписывая себе честь инициативы. Так или иначе, слова дошли до виртуоза измерений. Никола загорелся: кто, как не он, обязан измерить неизмеримое? Идея опыта была просто сформулирована Яккертом: надо создать сильные положительные заряды, поместить между зарядами радиоактивное вещество. Если оно начнет распадаться быстрее, значит время ускоряется. При чем тут положительный заряд? Можно пояснить и это придирчивому читателю. А читатель, не склонный к придиркам, пускай пропустит страничку. Яккерт предлагал подражать природе. В природе, когда из двух атомов водорода образуется двухатомная молекула водорода, их положительно заряженные ядра сближаются, при этом выделяется энергия — около 4 электрон-вольт — и теряется малая доля массы (опять посмотрите на таблицу) — примерно одна двухсотмиллионная. Когда из двух ядер водорода, положительно заряженных, образуется положительно заряженное ядро тяжелого водорода — дейтерия, частицы сходятся гораздо ближе, теряется порядочная доля энергии — два миллиона электрон-вольт, уходит две тысячные доли массы… и время должно бы ускориться на две тысячные доли. Положительный заряд — техническое подобие ядра водорода. Расстояние играет громадную роль: сила взаимодействия растет в квадрате, когда расстояние уменьшается. А радиоактивное вещество между зарядами — это часы. Беда в том, что техника не могла дать Яккерту достаточно мощного положительного заряда. Йованович же в маленькой стране, конечно, не мог надеяться превзойти сверхиндустрию. Мог возлагать надежды только на тонкость опыта: не на сверхмощный заряд, а на минимальное расстояние, мог вести борьбу за миллиметры, микроны, миллимикроны и лучше бы — за ангстремы — за десятые доли миллимикронов. Ибо сближение в десять раз увеличивало чувствительность в сто раз. Так началась борьба за доли миллимикрона. Весь стиль местной жизни, собственное мастерство и собственный опыт толкали Йовановича на этот ювелирный путь. Первая схема: заряд, ампула с радиоактивным веществом, счетчик. Вот первая остроумная рационализация: без ампулы можно обойтись, если сами электроды сделаны из радиоактивного металла. И вот уже не нужна ампула со своими стеклянными стенками, не нужен промежуток для порошка в ампуле. Выиграно несколько миллиметров. Из какого же вещества сделать электроды? Йованович перебрал мысленно все радиоактивные изотопы и остановился на экаэкарадии, гипотетическом элементе N184. Он еще не был открыт тогда, но свойства его были предсказаны: сравнительно устойчивый элемент из числа магических, и наверняка заряжен положительно, потому что такие громоздкиеядра не способны удержать отрицательные электроны внешней оболочки. Но экаэкарадия в лабораториях не было. Просто предполагалось, что он существует. Вероятно, существует в рудах в виде ничтожной примеси, вероятно, существует в морской воде, как все элементы на свете. Если имеется там, можно и извлечь, проявив великое долготерпение. К ювелирному мастерству Николы надо было прибавить великое долготерпение. Его принесла Лакшми. Лакшми была младшей, четвертой дочерью скромного учителя из Калькутты. Это она выросла в громадном городе, затопленном людским потоком, городе, где небоскребы высились среди шалашей, факиры заклинали змей во дворе университета, а нищие умирали от голода под окнами мраморных дворцов. Отец Лакшми был образованнейшим человеком, знал двенадцать языков, в том числе семь индийских, а кроме того, английский, русский, французский, немецкий и тибетский. Он был образованным человеком, но ценил национальные традиции. По традиции сын должен закрыть глаза умирающему отцу. Увы, сын был один, а дочерей четверо. Сыну были отданы надежды, заботы и достояние, дочерей приучали жертвовать собой ради брата. И чтобы они помогали брату, отец обучал их языкам: одну английскому, другую — русскому… немецкий достался Лакшми. Все они стали учительницами или переводчицами, все должны были помогать брату сделаться великим ученым. Брат, к сожалению, не оправдал надежд. Он стал гулякой, игроком и наркоманом. А вот девочки мечтали об образовании. И заключили между собой договор: сначала младшие помогают старшим, потом старшие — младшим. Три года Лакшми служила гувернанткой в семье богатого купца, обучала его ленивых детей грамоте и арифметике, пока старшая из сестер в Англии осваивала тонкости шекспировской стилистики. Еще три года Лакшми работала в сельской школе, где ходить надо было с оглядкой, потому что змеи ползали по саду, заползали и в класс. В это время другая сестра училась в Сорбонне, осваивала тайны математики. И все годы каждая рупия делилась на три части, одна часть посылалась в Лондон, другая в Париж. Дальше пошло легче. Английская сестра вышла замуж, французская начала зарабатывать сама, русскую зачислили на стипендию в университет Патриса Лумумбы. Как и прежде, каждая рупия делилась на три части, но две откладывались на дорогу. Семь лет долготерпения! Как в сказке, как в библейской истории о влюбленном Иакове. Там семь лет труда за жену, тут — семь лет труда за право ученья. Знание немецкого языка определило маршрут; Германия, Австрия или Швейцария. Судьба зависела от решения отца, младшую дочь обучившего немецкому языку. Ах, с каким восторгом она училась! Как впилась в книги и пробирки! Работала до полусмерти, до обмороков… в прямом смысле. Обмороки были от голода. И не потому, что денег не хватало. Лакшми жалела время на обед и ужин. Иногда забывала о еде, а вспомнив, откладывала: ладно, как-нибудь до утра можно потерпеть. Семь лет терпела. Что там одна голодная ночь? Вот ей-то, долготерпеливой, и предстояло добыть экаэкарадий для опыта Николы. Кто это предложил, наука не установила. Впоследствии семь профессоров приписывали себе честь инициативы. Предложили как тему для диссертации, потому что у Лакшми, в отличие от Николы, был диплом — диплом химика. Вскоре через альпийские перевалы прибыла автоцистерна с морской водой. Три тонны соленой воды, и в ней, как предполагалось, три сотых миллиграмма желанного элемента N184. Чтобы добыть его, надо было прежде всего эти тонны вскипятить, воду выпарить. Затем предстояло переработать осадок — сто десять килограммов солей — добрых два мешка; сначала удалить одновалентные нежелательные соли натрия и калия, затем разобраться в двухвалентных, отделить легкие соединения магния и кальция от тяжелых солей бария, стронция и прочих с их примесями. Барий освободить от примесей, примеси обогатить и добыть из них радий. Радий же предстояло распылить и пропустить через масс-спектрограф. Там и мог осесть, наконец, тяжеловесный N184. Цистерна за цистерной, цистерна за цистерной. Столько ведер воды, столько лопат угля! Сначала они носили воду и кидали уголь вдвоем: тощий узкогрудый мужчина и маленькая смуглая женщина с кружочком на лбу. Но как только появились первые пылинки новонайденного элемента (Никола хотел назвать его далматием в честь своей родины, а Лакшми — бенгалием в честь своей. И мужчина уступил, как полагается)… Итак, когда появились первые пылинки нужного вещества, Никола занялся тонкой работой. Радиоактивная пыль вносилась в паутинные петряновские нити, в волокна толщиной в несколько микронов. А волокна эти, с помощью особых придуманных Николой же приборов натягивались на рамки. И тут требовалась сверхювелирная точность, потому что малейший узелок или изгиб нитей или рамки увеличивал бы просвет, то самое расстояние, квадрат которого определял успех опыта. Микронные нити, миллимикронный просвет. Все это выверялось под микроскопом. А пока Никола манипулировал микровинтами, вдавив бровь в окуляр, его миниатюрная помощница терпеливо таскала ведра с водой и углем. Ничего не поделаешь. Наука требует тонкости, требует и черной работы. Но не надо вульгаризировать, как это делают некоторые биографы: дескать, Никола был мастером-виртуозом, а образованная химичка — его кухонным мужиком. На долю Лакшми пришлись и все расчеты, все формулы и все отчеты впоследствии. Сами они не делили ни рабочих часов, ни заслуг. Они сошлись характерами, своей фанатичной страстью к труду — терпеливо-настойчивый славянин и терпеливо-настойчивая индианка. Сошлись, подружились, полюбили друг друга, стали мужем и женой. И провели медовый месяц все в том же подвале, где пахло паром и угольным чадом. Труд и любовь насыщали их жизнь вполне, не хотелось добавлять никаких гостиниц, поездов и ресторанов. Тем более что подвал преподнес им свадебный подарок. Именно в эту пору появился намек на успех. Счетчик микросекунд еще не был готов, да и заряд был недостаточно велик, но рамка подрастала постепенно, на ней накапливались пылинки бенгалия, протоны, невидимые, никем не подсчитанные, выскакивали из ядер и попадали в заряженное поле. И поле воздействовало на них. Однажды вечером, уходя из подвала, Лакшми погасила свет, обернулась… и увидела, что рамки окружены неярким сиянием. В глухой черноте подвала плавало темно-пурпурное пятно, словно ночник прятался за силуэтом прибора. Лакшми подумала было, что бенгалий разогревает нити, встревожилась, как бы не перегорели волокна, позвала муже. Никола оказался догадливее. Он нащупал в темноте микровинт, сблизил рамки… и сияние изменило оттенок, пожелтело, потом позеленело, стало голубоватым. Суть в том, что в просвете между рамками в напряженном поле случайно залетевшие атомы теряли малую часть массы, и эта потерянная масса превращалась в лучи — красные, желтые, зеленые, голубые, в зависимости от напряжения, от доли потерянной массы. Так оправдалась частично гипотеза Жерома — Яккерта. Масса действительно убывала в положительно заряженном поле. Убывали стомиллионные доли. К сожалению, стомиллионные сдвиги времени не поддавались измерению. Для этого надо было увеличить заряд во много-много раз, переработать много-много цистерн морской воды. Но теперь супруги были уверены в успехе. И терпеливо трудились в своем сыром от пара подвале, разрешая себе одно-единственное развлечение: в конце рабочего дня посидеть в темноте, обнявшись и глядя, как меняет цвет таинственное сияние, послушное легким поворотам микровинта. Впоследствии Лакшми говорила, что это были самые счастливые часы ее жизни. Счетчик был готов через полгода, еще год накапливался достаточный запас бенгалия, а вскоре после этого Лакшми выложила на стол пачки осциллограмм и магнитных лент. И каждый понимающий мог убедиться, что сдвиг времени действительно существует. Научный мир с сомнением относится к рассуждениям (а Яккерт рассуждал, и Жером рассуждал), но ценит измеримые факты. Бенгалий был фактом, свечение — фактом, осциллограммы и магнитограммы — тоже. Работу супругов признали почти сразу. Кое-кто пытался ее опорочить, но опыт есть опыт, его можно проверить. Посыпались приглашения на лекции, заказы на статьи, почести, премии, ордена. И через два года несколько растерянный долговязый далматинец, ведя под руку столь же растерянную жену, взошел на трибуну, чтобы получить Нобелевскую премию. Они были недолго счастливы вместе. Годы в сыром подвале окончательно подорвали здоровье Николы. Он простудился и умер от воспаления легких, оставив вдову с годовалыми близнецами — мальчиком и девочкой. Уроженка тропиков оказалась куда выносливее. Она прожила еще много лет, покорно и с благородством неся свой вдовий крест. И одна вырастила детей, и одна написала множество статей и книг, и одна продолжала опыты с рамкой, делая новые открытия. Она могла бы стать и богатой. Ловкие люди упорно твердили Лакшми, что есть смысл взять патент на бенгалий и на рамку Николы и, особенно, на универсальный лазер, выдающий лучи любого цвета (в изменении времени тогда не видели практического смысла). Но Лакшми неизменно отказывалась от денег, от всего, кроме платы за научный труд. Даже премии неизменно жертвовала в пользу молодых девушек, желающих и не имеющих возможности учиться. От патентов отказывалась категорически. Говорила, что открытия принадлежат всему миру… при условии, что мир употребит их на мирные дела. И выступая на конференциях, собраниях, на лекциях, маленькая, суровая и строгая, Лакшми твердила неустанно: — Всему миру, всему миру… на дело мира. Она знала, что атом сработал на войну. Ей не хотелось, чтобы на войну работало время.6. РОССЫПЬ ОТКРЫТИЙ (ТОМАС БЛЕКВУД)
Лауреат четырнадцати премий, Нобелевской в том числе, действительный или почетный член всех академий мира, кавалер орденов (перечислить нет возможности), президент Королевского общества Томас Блеквуд, лорд оф Лабрадор, был девятым сыном канадского лесоруба. «Лорд от сохи», — так сказали о нем однажды. «Лорд от топора» — было бы еще точнее. Двенадцать сыновей было у его отца. Все как на подбор: длиннорукие, длинноногие, долговязые, жилистые, руки лопатой. Хилые не выживали в северных лесах, хилые давно перевелись в Лабрадоре. Все двенадцать отличались могучим здоровьем, энергией и хваткой, но восемь старших и трое младших так и остались при топоре, а Том стал знаменитостью. Почему именно девятый? Судьба или гены? А почему великим стал Дмитрий Менделеев, семнадцатый ребенок в своей семье? Почему не проявили себя остальные шестнадцать? Так или иначе, Томас врубился в науку. Именно врубился, вломился, сокрушая препятствия. Дорога в науку не была выстлана коврами в Канаде. Первым барьером было безденежье. Образование стоило дорого: 4 тысячи долларов в год с пансионом, полторы тысячи на своих харчах. У многодетного лесоруба таких денег не водилось. Но Том узнал, что для выдающихся студентов есть стипендии — одна-две на факультет. И сумел быть выдающимся пять лет подряд, раз за разом отхватывая первую премию на конкурсах. — Секрет простейший, — рассказывал он позже. — Я прошел все предметы на два года вперед, мне легко было превзойти однокашников. И всю жизнь он использовал этот секрет: работал вдвое больше, чем требовали, делал вдвое больше, чем ожидали. Блеквуду даже не помешал резкий поворот на полпути. Сначала он собирался стать медиком, но после второго курса перешел на физический факультет. Его влекло в самые глубины природы, к фундаменту вещества. Медицина ведала вещами сложными, слишком сложными, чтобы быть определенными. В ней не было ясности, дорогой сердцу Томаса. Ясность зависела от самого дна, а на самом дне копались физики. К элементарным частицам решил прорубиться лесоруб. Он кончил с отличием, но это был не конец, а начало пути в науку. Ученый мир был уже густо заселен во второй половине XX века; узкую лестницу славы штурмовали толпы. Ухватившиеся за перила обязаны были взбираться со ступеньки на ступеньку, переходить с площадки на площадку. Площадками были ученые степени, ступеньками — печатные труды. Только выпустив несколько книг, можно было завоевать авторитет, достаточный, чтобы тебе поручили самостоятельное исследование. Что ж, Блеквуд прошел эту лестницу энергичнее и быстрее других. Метод применял все тот же; работал вдвое быстрее, делал вдвое больше, чем спрашивали. Годам к сорока добрался до вершины… и тут оказалось, что вершина-то не из самых высоких. Дело в том, что его родная Канада в ту пору была сырьевой базой своей богатой соседки, продавала в Штаты лес, руду и даже пресную воду, а машины получала из Штатов. Местная промышленность почти вся зависела от американцев, если не принадлежала американским фирмам. Естественно, и наука была здесь филиальной, у нее и средств не было для настоящего размаха. В Штатах было куда больше лабораторий, оборудование куда мощнее, гораздо больше видных ученых. Вообще Америка тянула к себе ученых из других стран. Это называлось «выкачиванием мозгов». И многие канадцы поталантливее продавали свои мозги. Продал и Блеквуд. И не по дешевке, и не куда попало. Присмотрел самое удобное для себя место — Принстон. Там еще со времен Эйнштейна существовали персональные дотации для ученых с именем. Им разрешалось заниматься чем угодно, по своему усмотрению. Что же усмотрел Блеквуд? Бенгалий и рамку Йовановичей. Это были как раз годы «бенгальского бума» в физике. Опыты Йовановичей произвели впечатление, подобно опытам Рентгена. Каждому хотелось повторить, проверить, уточнить. На всех материках кипели котлы с морской водой, прокаливались соли, шипели кислоты. Было предложено (и запатентовано) несколько новых способов получения бенгалия, и особенно удачный — из канадской урановой руды. Именно из канадской, это имело значение для Блеквуда. И а Америке были добыты уже целые граммы бенгалия. Принстонский новосел, проявив завидную энергию, добился, чтобы эти граммы были переданы ему. Добился не без труда. Надо было обладать его «дикарским» напором, чтобы заполучить в свои руки граммы бенгалия, в то время как у других ученых были всего лишь миллиграммы. Когда же другие накопили граммы, у него были уже сотни граммов. Самый сильный заряд у Блеквуда. В результате другие повторяли и проверяли, а открытия делал он. Практически открыл все, что можно было открыть с рамкой Йовановичей. Что же именно? Поглядите еще раз на таблицу Жерома — Яккерта, и вы догадаетесь сами. Накапливая бенгалий и постепенно усиливая заряд, Блеквуд продвинулся в каждом столбце от минус четырнадцатой до минус второй доли. Сначала он отнимал биллионные и миллиардные доли массы, в дальнейшем — миллионные и тысячные. Отобранные доли превращались в лучи (столбец — электромагнитные волны), в лучи любой длины и частоты — инфракрасные, видимые, любого цвета и оттенка, ультрафиолетовые, рентгеновы. Регулируя цвет поворотом винта, Блеквуд рисовал светом красочные картины. Это понадобилось в телевидении, в рекламе, в дизайне. Вообще с той поры пошла блеквудовская светоживопись. Столбец превращений. Поворотом винта вызывались любые превращения, связанные с выделением энергии. Между рамками бенгалия застывал пар, выпадал иней, атомы соединялись в молекулы, даже удалось (и это было высшим достижением) получить углерод из водорода. Практически, конечно, пользы тут не было, но газеты в ту пору очень шумно и восторженно писали о том, что наконец-то сбылась мечта алхимиков. Столбец притяжения. Блеквуд прошел его сверху вниз — от уровня гравитации астероидов до притяжения Солнца, звезд-гигантов и белых карликов. К сожалению, эти опыты были не столь наглядны. Все события происходили в узеньком микронном просвете. Микрофильмы демонстрировали стремительное слипание пылинок в комочки. Вся гравитехнология пошла от тех опытов. Но управление тяготением это другая тема, сейчас мы ведем разговор об управлении временем. Наконец, столбец времени, Блеквуд тоже прошел его от минус четырнадцатой до минус второй доли и добился ускорения времени на доли процента. Для практики — маловато, но достаточно, чтобы рассмотреть много важных подробностей. Ведь до того, до середины XX века, время представлялось этаким вселенским потоком, могучим, плавным, однородным, чуть-чуть замедляющим течение только на дальнем берегу — возле скорости света. В опытах Блеквуда время предстало в ином виде. Если это поток, то не плавный, а ливневый, бурный, с завихрениями и водоворотиками, весь рябой от капель. Оказалось, что в каждом атоме время идет по-своему, в ядрах быстрее, чем в оболочках, в электронах в 300 раз быстрее, чем в фотонах, а в протонах раз в 50 быстрее, чем в электронах. Оказалось, что где-то время изменяется плавно, а где-то рывками. И все удавалось регулировать. Более двухсот статей за какие-нибудь десять лет, ни одной пустопорожней — веские отчеты о важных опытах. Все эти статьи вошли в золотой фонд науки. Четыре науки начинали все рассуждения со слов: «Опытами Блеквуда… такими-то… доказано, что…» Две сотни открытий за десять лет! Биографы восторженно писали о «золотой россыпи открытий». Одна из биографий называлась «Счастливчик Том». Золотая россыпь? Пожалуй, доля истины есть в этих словах. Не принято, даже не педагогично писать, что на каком-то этапе открытия достаются легко. Но ничего не поделаешь, бывают и такие периоды. Действительно, новое месторождение найти трудно, но когда оно найдено, велик ли труд удачников, наткнувшихся на самородок? Трудно навести переправу через бурную реку, но так ли велик подвиг тех, кто перешел и на том берегу сделал открытия? Переправу через Атлантический океан начел Колумб, а после этого любой корабль, взявший курс на запад, открывал полуостров, или архипелаг, или неведомую страну. Получив в руки первый в мире телескоп, Галилей за несколько вечеров открыл горы на Луне, четыре спутника Юпитера, кольцо Сатурна. Любое из этих открытий обессмертило бы имя астронома. То же было с микроскопом, со спектральным анализом, с фотографией. Новый прибор, новый метод тянули за собой вереницу открытий. Мост проложен… надо спешить подбирать самородки. Тут не только гениальность нужна, но и проворство… Блеквуд получил как бы новый телескоп (темпороскоп) в свои руки. В темпорологии он был Галилеем… но без отречения. Наоборот. Газеты писали о Блеквуде только в превосходной степени. Величали его волшебником света, и современным алхимиком, и творцом второго космоса, и повелителем времени. Эпитеты, конечно, преувеличенные, но в тогдашней прессе они были в ходу. Вероятно, Блеквуд был самым популярным ученым в свое время. Даже в комиксах вместо сутуловатого добродушного старика с шапкой седых кудрей (прообраз — Эйнштейн) появился долговязый раздражительный великан, одной рукой выкидывающий журналистов за окошко. Блеквуд действительно не любил журналистов. Ему — мастеру научной точности — претили преувеличения, да еще нарочитые, да еще крикливые. Не раз выступал он в печати с уточнениями, опровержениями, тратил на статьи свое драгоценное время. Все старался объяснить истинное положение вещей. Никаких чудес, никакой алхимии, никаких рычагов времени нет и не будет. Есть микронный просвет, щелочка, позволяющая подсмотреть некоторые тайны природы. Тайны, не имеющие никакого отношения ни к политике, ни к войне, ни к экономике, ни к быту. Тайны для любознательных ценителей природы, чисто теоретические. Темпорология — чистейшей воды наука для науки. Она никогда не принесет практической пользы, — уверял Блеквуд. Сколько раз эти слова приводились как пример недальновидности большого ученого. Блеквуд, конечно, служил только науке, служил честно, преданно и яростно. Людей он делил на полезных науке, бесполезных и вредных. Был безжалостен к тем, кого считал бесполезным. Был безжалостен к ученым словоблудам, заселяющим полки библиотек пустопорожними томами. Был безжалостен и к теряющим силы, стареющим, высмеивал их, не считаясь ни с возрастом, ни с прежними заслугами. Разил, язвил, издевался, громил… — Должен ли хороший ученый быть скромным и вежливым? — спросили его однажды ехидные журналисты. — Хороший ученый должен быть прежде всего хорошим ученым, — ответил Блеквуд без запинки. — Вежлив-невежлив, воспитан-невоспитан — это имеет значение в гостиной. А хороший ученый не тратит часы на салонную болтовню. Скромность? Скромный не решится спорить с великими предшественниками. Как же он будет продвигать науку? Блеквуд был безжалостен и к своим собственным сотрудникам, не считался ни с личными делами, ни с переживаниями, ни с настроениями. Увольнял требующих отпуска в разгаре работы, увольнял стареющих, увольнял многосемейных. Был случай, когда помощники очень упрашивали его оставить в лаборатории старательного, но неудачливого и бездарного работника, обремененного большой семьей. Блеквуд выдал ему жалованье за год вперед из своих личных денег… но все равно уволил. Ибо превыше всего — интересы науки. Нет, злым он не был. Бывал и заботлив, предупредителен, мягок, но только с самыми даровитыми. Бывал даже снисходителен — к тем, кто хоть раз подсказал интересную идею. Один хитроватый малый купил у товарища стоящую мысль, выдал за свою и бездельничал года два, все уверял, что у него носится что-то в голове. Блеквуд уволил его в конце концов, сказав на прощание: «Если придумаете что-нибудь новое, приходите опять. Я приму вас и оплачу задним числом все пропущенные месяцы». Интересы науки не допускали исключений. Пожалуй, безжалостнее всего Блеквуд обошелся с самим собой. Годы взяли свое. Он стал стареть, часто простуживался, простуды дали осложнение на мозговые оболочки. Блеквуда донимали головные боли, он быстро уставал, да и память слабела. Теперь речи не могло быть, чтобы взять на себя тройную нагрузку — треть хотя бы вынести. Блеквуд болезненно переживал свои упущения; помощники же, приученные к честности, а не к деликатности, то и дело с радостью указывали шефу на ошибки. Существовало такое правило: каждый переспоривший шефа получает недельное жалованье в награду. Теперь все ходили с прибавками и старались изо всех сил. Однажды, ввязавшись в безнадежный спор, Блеквуд вспылил, накричал на своего ученика, а на следующее утро извинился по телефону и сообщил, что уезжает на полгода в Канаду… впервые в жизни взял долгосрочный отпуск. Через полгода Блеквуд отложил возвращение еще на шесть месяцев. А затем пришло страшное известие: ученый покончил с собой: выстрелил в сердце из охотничьего ружья. На столе лежала записка: «Увольняю себя из жизни, потому что чувствую себя бесполезным. Старею, хирею, память слабеет, мышление стало заскорузлым. Не способен вести за собой, могу только плестись в обозе науки. Быть обозником Блеквуду не к лицу». Вот и второй самоубийца в краткой хронике темпорологии. Видимо, люди выдающиеся, играющие роль в истории, особенно болезненно переживают, когда роль подходит к концу. Блеквуд ушел из жизни как рачительный хозяин. В последние месяцы, постепенно теряя надежду на выздоровление, он писал подробнейшую инструкцию — научное завещание для своей лаборатории, план на добрых двадцать лет вперед. Работы эти были старательно выполнены учениками, но не сыграли роли в темпорологии, потому что вскоре после смерти Блеквуда наука эта свернула на совсем другой путь.7. ТЕОРИЯ (ХАРЛУФ КНУДСЕН)
Глава школы темпорологов, создатель теории и геометрии времени в детстве считался неспособным ребенком. Был он вял, задумчив, медлителен, казался унылым и угрюмым. И совершенно терялся рядом со своим старшим братом, живым, обаятельным и бойким ребенком (впоследствии он стал цирковым артистом). Сохранилось семейное предание: старший брат предложил игру — кто кого передразнит? Каждому разрешалось измываться над братом три минуты. И три минуты старший изощрялся, высмеивал Харлуфа. Когда же наступила очередь младшего, тот долго сопел, наконец выдавил: «А ты сам такой же. А еще старше…». Харлуф был тугодумом. Внешние впечатления не сразу доходили до него, долго-долго копошились в голове, как бы пристраивались, подыскивая подходящее место, зато оседали прочно, навеки. Даже и в зрелые годы, будучи ученым, он любил ходить в кино, но суть ухватывал медленнее всех, все переспрашивал: «А это он? А кто это? Это она или другая?». И любил, чтобы ему пересказывали просмотренный фильм. Другие схватывали быстрее. Но для науки не так уж важна быстрота. Важнее окончательный итог, глубина. Кнудсен долго копался, так и этак ворочая мысли, зато и копал глубже всех. Ему нравилось думать, хотя он думал так тяжело. Чаще люди предпочитают путь наименьшего сопротивления, охотно делают то, что им дается легко, к чему душа лежит. Харлуф предпочитал браться за то, что ему давалось тяжко. Вся его жизнь — победа над самим собой, решение нерешаемых задач, хитрых головоломок природы и каверзных вопросов оппонентов, более остроумных, более одаренных соперников. Он очень любил научные споры, хотя для споров ему не хватало находчивости. Лучшие возражения ему приходили в голову ночью, или на следующий день, или в воскресенье на лыжной прогулке. Тогда спор возобновлялся… И если Кнудсена разбивали вторично, он кидался в атаку в третий и четвертый раз. В конце концов побеждал или же выявлял истину. Истина была ему дороже всего, дороже авторитета и собственного самолюбия. В отличие от Блеквуда он был очень скромен. Сознавал свои недостатки, склонен был преуменьшать заслуги и преувеличивать чужие таланты. Будучи уже знаменитым ученым, главой школы, встречал самонадеянных юнцов словами: — Мы с нетерпением ждем, что вы расскажете нам интересного. Блеквуд тоже жадно искал таланты, но иначе. Искал способных помощников, чтобы запрячь, нагрузить, заданий надавать. Кнудсен же старался разделить с другими непосильный труд создания новой теории. По скромности своей считал, что один не поднимет груз. Итак, невыразительное детство вялого кабинетного ребенка. Родители с достатком: отец был инженером-судостроителем, обеспечил детям образование. Университет в Осло, потом — Кембридж и стажировка в Принстоне у самого Блеквуда. Естественно, в центре внимания — темпорология. Тему диссертации подсказывает шеф: формулы струй времени в электроне. Это первая попытка дать временную модель частицы. Первая в мире работа по математическому моделированию струй времени. Кнудсену 27 лет, а у него уже мировая известность… в мире теоретической физики. Есть возможность остаться в Принстоне у Блеквуда, стать ведущим помощником знаменитости, наследником в будущем. Но Кнудсен возвращается на родину — в Норвегию. Место работы определяет и направление работы. Норвегия — небольшая страна, приморская, рыболовецкая, без значительной индустрии. Создать промышленность для добычи бенгалия она не может, строить лаборатории лучше блеквудовской не может, способна только обеспечить своего прославленного сына: дать ему домик у залива, приличную стипендию и предоставить возможность сколько угодно думать в тиши. У каждой страны — своя гордость. Великие страны гордятся величиной и мощью, древние — древностью, молодые — молодостью. Норвегия, в недалеком прошлом духовная и политическая провинция Дании и Швеции, гордилась самостоятельностью своих уроженцев, их личными достижениями. Конькобежцы мирового класса, писатель мирового класса — Ибсен, знаменитейшие путешественники: Нансен, Амундсен и Тур Хейердал. А теперь вот еще и Харлуф Кнудсен — знаменитый физик. Думай же, Харлуф, думай, строй свою темпорологию, думай для славы Норвегии! Тут опять последует трудная для читателей страница. Ничего не поделаешь, темпорология непривычна. Даже физикам XX века, уже притерпевшимся к парадоксам теории относительности, трудно было взять в толк, что время в нашем мире — не единый плавный поток, а нечто полосатое, пятнистое, что в нем есть пороги, быстрины, заводи, что есть островочки собственного времени в каждом атоме. — Время у нас рябое, как озеро после дождя, — пояснял Кнудсен. И чтобы вычислить и описать перемещение из одной временной зоны в другую, потребовалась геометрия времени. Выяснилось, что на Земле секунды треугольны, в космосе похожи на корень квадратный, а в атоме ступенчаты. Все это трудно представить. Но тысячи страниц исписаны, чтобы доказать все это ученым, и тысячи тысяч — чтобы растолковать студентам. Прямая — кратчайшее расстояние между двумя точками — так утверждает классическая геометрия. Эйнштейн поколебал эту простоту: установил, что в физической вселенной прямая слегка искривлена. В пространстве-времени Кнудсена кратчайшие расстояния бывали ступенчатыми, зигзагообразными, волнистыми, чаще всего — с мелкими неправильностями, как осциллограммы. И всю эту сумасшедшую геометрию с дрожащими и ломающимися прямыми надо было создавать всерьез, потому что в таком мире мы живем, получаем и транспортируем энергию. За темпогеометрией последовала темпофизика — надо было описать поведение лучей и тел в этом запутанном времени, запутанное строение атомов, атомных ядер и частиц и в конечном итоге — понять причину этой путаницы, установить саму суть времени. Но сложная эта тема — далеко за пределами возможностей популярного рассказа. Говорилось уже, что Кнудсен создавал теорию времени не в одиночестве. В голубенький коттедж на хмурых холмах у хмурого фиорда съезжались талантливые юнцы со всех концов света. Каждый привозил свои формулы и идеи, чем безумнее, тем лучше. И всех Кнудсен встречал на дощатой пристани, ласково выспрашивал, тут же вступал в спор, сначала восхищался, соглашался, потом высказывал сомнение, разбивал в пух и прах… а осколки включал в изящный храм новой теории. И юнец уезжал через полгода-год, не обобранный, наоборот, обогащенный. Ибо Кнудсен, как никто, чувствовал перспективу. Ощущал и перспективу идеи, как она разовьется, как ляжет в общий труд, какие даст ростки. И, что важнее, ощущал перспективность человека: что он может дать в будущем? Он не раздавал задания, но мягко подсказывал направление. И, неторопливо рассуждая, устно проходил полдороги до цели. А потом шумно расхваливал учеников, искренне уверенный, что сам он не принимал участия, что даже не способен принять участие в решении такой сложной проблемы. Талантливый юнец все сделал самостоятельно. Наверно, если бы Кнудсена спросили: «Должен ли хороший ученый быть скромным человеком?», он ответил бы: «Да-да, обязательно, во что бы то ни стало». Он сказал бы: «Нескромный ничего не добьется. Он будет упрямо держаться за свою первую мысль, не захочет исправить ошибки». Блеквуд считал, что он обязан на голову возвышаться над всеми помощниками. Кнудсен же на учеников смотрел снизу вверх, не сомневаясь, что все они талантливее, чем он. Выше приводились слова Блеквуда: «Секрет моего успеха прост. Я делаю вдвое больше, чем требуется, и успеваю вдвое больше». «А в чем ваш секрет?» — спросил журналист у Кнудсена. «Мы не стесняемся задавать вопросы, — сказал ученый. — Охотно признаемся, если не знаем чего-нибудь, спрашиваем у всех, кто хочет ответить». Два человека и две правды! Может быть, разная правда зависит от разных задач в жизни. Блеквуд был разведчиком в науке, главой исследовательского отряда. Его место было во главе, впереди учеников. И когда силы исчерпались, когда он не смог больше прорубать дорогу, Блеквуд сем себя приговорил к смерти. А Кнудсен был главой школы. Как всякий учитель, сегодня он был сильнее своих учеников, но не сомневался, что они превзойдут его в будущем. И его нисколько не смутило, когда школа распалась, выполнив свое назначение. Птенцы оперились, летают самостоятельно, таков порядок вещей. И Кнудсен продолжал работать, писать, выступать, консультировать, оставаясь почетным патриархом темпорологии. Школа же распалась, потому что теория была создана. Больше нечего было обсуждать, полагалось бы перейти к практике. Но жалкие граммы бенгалия на жалких рамочках сдерживали технический размах. С граммами можно было только изучать, уточнять, заниматься окончательной отделкой. Об окончательной отделке теории — следующая глава.8. ОТДЕЛКА (БРАТЬЯ КАСТЕЛЬЯ, МАУРИЧО И ЯГО)
Наука, как любовь, проходит через несколько этапов. Сначала робкое знакомство, неуверенные надежды и горечь непонимания, потом объяснение, признание, свадьба и медовый месяц, потом зрелая страсть… а потом бывают и вялые будни, когда все лучшее — в воспоминаниях. Пожалуй, можно считать, что медовый месяц выпал на долю Блеквуда, эпоха зрелости, созревания теории досталась Кнудсену. А потом пошли затянувшиеся будни доделок и уточнений. Но люди, как известно, не выбирают эпоху, они рождаются… и оказываются в готовом мире. Эпоха уточнений. Тут нам предстоит рассказать о братьях Кастелья, Мауричо и Яго, математиках из Аргентины. Мауричо, младший из братьев, был без сомнения самым блестящим из учеников Кнудсена. Сейчас имя его немножко потускнело, но при жизни он считался великим человеком, о нем писали книги, каждое высказывание его повторяли с почтением, восхищались каждым поступком, ставили в пример юным. Дело в том, что XX век призывал подражать великим людям. Не знаю, может, и стоило подражать Блеквуду с его неистовым напором, или Кнудсену с его скромной терпимостью, вниманием к чужой мысли, хотя неистовый напор и внимательная терпимость как-то исключают Друг друга. Но Мауричо подражать было бы просто невозможно. Он был гениален от природы. Врожденной гениальности подражать нельзя, можно только копировать грехи и слабости гения. Однако что простительно Юпитеру, быку не простят (перелицуем латинскую пословицу). Вот четырехлетний мальчик забавляется, выписывая ряды цифр на песочке и складывая в уме. Этому можно подражать? Двенадцатилетний, прочтя учебник тригонометрии, идет сдавать экзамен в следующий класс. Просто так, для развлечения. Этому можно подражать? А если нельзя подражать достоинствам, стоит ли подражать недостаткам? Он учился неровно, хватал все награды по математике, но гуманитарные предметы сдавал кое-как. Читать любил, но презирал сочинения. Однажды написал о Дон Кихоте: «Читать о нем скучно. Шизоид с бредовыми галлюцинациями. История болезни, растянутая на два тома». Естественно, получил низший балл. Впрочем, избыток откровенности еще не недостаток. Но временами откровенность переходила у Мауричо в невежливость, не столь желательную для ученого. По обыкновению Харлуф Кнудсен встретил новичка радушным приветствием: «Мы надеемся услышать от вас много интересного». Новичок ответил: «Постараюсь рассказать интересно. Но новейшая физика трудна, не всякий способен ее поняты». Математическая физика — молодежная наука, здесь, как и в музыке, полно вундеркиндов. В физику вошел стиль задорной шутки, пришел из Кембриджа — от Томсона к Резерфорду, потом во все школы — копенгагенскую, ленинградскую, обнинскую. Мауричо внес в эти шутки оттенки издевки. Его насмешки бывали жестоки. Он был полон презрения к серым бездарностям и не стеснялся выставлять бездарность напоказ. Но ему прощали высокомерие и язвительность. Прощали за редкостную способность мыслить уравнениями. Ибо физика XX века была наукой уравнений. Формулы затмевали и логику, и опыт, и факты. Физики мыслили формулами и склонялись перед мастерами математического мышления, такими, как Мауричо Кастелья. К нему обращались как к консультанту, с неразрешимыми задачами — он давал изящные уравнения. Обращались с неразрешимыми уравнениями, он изящно находил корни. Шли со своими затруднениями не только физики, но и кибернетики, и футурологи, и метеорологи. Всех он выручал, всем подсказывал решение. Однажды в день рождения ему преподнесли гигантский торт в форме буквы «Т» (символ темпорологии). На нем шоколадным кремом были выписаны десять формул Кастелья, десять уравнений, вошедших во все руководства, во все учебники темпорологии, в том числе: 1. Основная формула сингулярного темпополя с учетом полярности, возникающей при гравитационных воздействиях. 2. Алгоритм условий дельта-перехода темпосистем при взаимодействии. 3. Доказательство неопределенности систем в n-мерном континууме при n — больше трех и t — больше двух. 4. Система уравнений… Но стоит ли продолжать? Для того чтобы объяснить заслуги Кастелья, нужно долго рассказывать с самого начала, что такое темпополе, почему оно бывает сингулярным и каким еще, что именно вносит в темпополе гравитация, какая тут полярность, что такое дельта-переход и почему он сложнее альфа, бета- и гамма-переходов, уравнения которых ранее дал Кнудсен, и почему на дельта-переходе забуксовала вся норвежская школа, пока Мауричо не выручил ее блестящей догадкой и достроил незавершенную теорию, проявив свойственную ему гениальность. Только ему свойственную! Вот тут было и счастье и горе Мауричо Кастелья. Он делал то, что другим было не по зубам. Выручал, завершал недостроенное, клал последние мазки… на картину, созданную до него. Строители все одинаково называются строителями, хотя среди них есть землекопы, каменщики, закладывающие фундамент и возводящие стены, бетонщики, арматурщики, штукатуры, кровельщики, маляры, плотники и верхолазы. Ученые все одинаково называются учеными, хотя одни из них кладут фундамент, другие возводят стены, третьи занимаются отделкой, Мауричо был отделочником, он лепил украшения под карнизом, работал на самом верху, на головокружительной высоте, куда другие и забраться не сумели бы. Здание темпорологии заложил не он. Здание заложили до него герои предыдущих глав: Аникеев, Фраскатти, Жером, Яккерт… Но ему нравилось лепить украшения под карнизом, нравилось продолжать, это соответствовало его способностям. Он охотно работал с соавторами, чаще всего с Яго — своим старшим братом. Яго готовил материал, писал каркас книги, указывал на трудности, а Мауричо наводил лоск, блеск, разъяснял противоречия, вносил озарения. Он любил не слишком трудоемкие и быстро решающиеся задачи («то, что приносит очевидную пользу»). Говорил о себе: «Я люблю делать дело, а не блуждать в темноте». Но может приняться за дело тот, кому подготовлено рабочее место. Ищущий новую дорогу блуждает в темноте. И Мауричо не открыл новых дорог. Эйнштейн говорил: «Как делаются открытия? Есть тупик, все знают, что тут ничего не найдешь. Приходит дурак, который этого не слыхал, он-то и делает открытие». Иначе говоря, открытия делаются в поисках выхода из очевидного тупика. Но прежде всего надо оказаться в тупике, упереться в глухую стенку. Так вот, Мауричо при своих талантах не ощущал тупика. Другие упирались в глухую стену, как им казалось, не могли продвинуться ни на шаг. А Мауричо продвигался всем на зависть. Он продолжал, а другие искали новые дороги… иногда находили. Говорилось уже, что физика XX века была математизированной наукой. С атомов началось. Атомы были невидимы, непредставимы и непонятны. Пришлось описывать их не представляя, рассчитывать неизвестно что и непонятно что. И целый век целая наука работала на ощупь, зажмурив глаза. Мауричо Кастелья был мастером этой игры вслепую. Свободно играл, не глядя на доску природы, не ощущал затруднений, не видел тупика… и не искал выхода из него. Горький сказал: «Рожденный ползать летать не может». Можно добавить: рожденный летать не изобретет ракету — он и так летает… Но к звездам он не улетит: к звездам не улетишь на крыльях. Претензии тут неуместны. Летать надо везде: сегодня над облаками, завтра — над звездами. Но история не равно справедлива ко всем профессиям. Есть профессии сегодняшние и есть завтрашние, профессии прижизненной и посмертной славы. Артисты — звезды сцены и экрана — легко забываются после смерти; среднего драматурга помнят дольше. Забываются великие исполнители, и великие шахматисты, и великие врачи, и министры, и цари. Кто такой Николай I для среднего читателя? Тот паразит, который Пушкина угнетал. А при жизни? Его императорское величество… Мауричо был великим виртуозом слепой физики XX века и не смог стать композитором зрячей физики третьего тысячелетия. Теперь о Яго. Имя это опорочено Шекспиром, всякого Яго подозревают в злодействе. Но по-испански Яго это просто Яков. Этот Яша был старшим братом Мауричо, солидным, добрым, заботливым, благоразумным, благонадежным братом. Работали они совместно и прекрасно дополняли друг друга. Мауричо выдавал гениальные озарения, все остальное делал Яго. Работу направлял он. Он выбирал и отвергал темы. Отбор шел по коммерческому принципу: в первую очередь — хорошо оплачиваемые задания американских промышленников. Выбирал Яго и то, что поддерживало славу: спортивно сложные задачи, на которых сломали себе шею другие математики. Но самого сложного не брал, чтобы и Мауричо не сломал… репутацию. Говорят, что в каждом открытии 99 % пота и 1 % озарения. Яго проливал пот за двоих, озарять предоставлял младшему брату. Результат был хорош. За считанные годы они выпустили шеститомную «Темпорологию». Позже ее дополнили, но первые тома там и остались классическим учебником и по сей день носят имя братьев Кастелья. Мауричо рано погиб глупейшим образом — попал в автомобильную катастрофу. Тогда еще не было личных крыльев, почти все ездили по суше, на колесах, а колеса были привязаны к непомерно узким гладким бетонным полосам; машины мчались по этим опасным полосам, прижимаясь друг к другу почти вплотную. Аварии происходили часто. В Америке на дорогах погибло больше народу, чем во время войны на фронте. Яго остался научным вдовцом в сорок два года. И не было никакой надежды на нового соавтора. Такие, как Мауричо, рождаются раз в столетие. Яго дописал начатый шеститомник, дописал толково, внятно, но на всякий случай исключил все темы, требующие озарения. Написал длинный панегирик: «Воспоминания о брате», правда, невольно подчеркивая легкомыслие брата и свою направляющую роль. Написал сценарий: «Брат мой, друг мой». Но невозможно и несолидно всю жизнь жить процентами от таланта брата. И Яго нашел свою собственную стезю — перешел на популяризацию; стал писать о темпорологии вообще, о физике вообще, о науке вообще. Писал он о величии природы, о том, что природа логична и лаконична, обходится немногими фундаментальными законами и что законы открытывеликими людьми прошлого, надо эти законы знать твердо, уважать, ценить, каждое новшество проверять досконально, прежде всего выяснять, не идет ли оно вразрез с фундаментальными законами. Писал о том, что на долю нового поколения ученых остались мелкие доделки. Основное открыто, крупных неожиданностей быть не может («Если я увижу камень, взлетающий к небу, только тогда я поверю в чудо»). И еще писал, что даже и скромных открытий не могут сделать дилетанты или зеленые юнцы, потому что «наука в наше время так сложна, так разрослась, дала столько разветвлений, что ум может охватить только одну малую отрасль». И потому ум надо развивать постепенно, получить диплом, написать диссертацию, заслужить звание профессора, поработать лет двадцать… после этого можно надеяться и открыть что-либо полезное науке. А работы юнцов даже и рассматривать не стоит, время зря терять. Все это охотно публиковалось, распространялось и читалось людьми заурядными, заведомо бесплодными. Им приятно было, что выше их никто не поднимется. «Кому положено по должности, пусть и делает открытия!» А прочим и тужиться не надо. Да, великие дела делают великие люди. Но известно ли заранее, кто будет великим? Уж во всяком случае не тот, кто не примется за дело. Да, учиться надо, да, трудиться надо. Но возраст тут ни при чем. Кнудсен в 27 лет предложил темпомодель электрона, а Мауричо было 19, когда он явился к Кнудсену со своими уравнениями. — Мой брат был гением, — возражал Яго. Но и гении бывают разные. Бывают прирожденные, вроде Мауричо. Этим все достается легко, вольно или невольно они смотрят свысока на «заурядов», потеющих там, где можно взлететь. А бывает и гений, заработанный трудом, выстроенный. Такие ценят труд, уважают трудолюбивых, думают, что и каждый, потрудившись, может стать рядом. Наверное, Кнудсен и Блеквуд принадлежали к этому числу. А Яго просто не был гением, ни урожденным, ни заслуженным. Он поднялся, держась за руку брата, выше подняться не мог и сейчас доказывал, что подняться никто не может, все уже сделано, науке завершена… почти. Завершена была, конечно, не наука. Завершена была теория времени, осмыслившая опыты с рамкой и бенгалием. Но застой мог смениться, новым взрывом открытий, если бы вместо рамки появилось нечто более могучее: не очки, а телескоп. И еще един выход был возможен: из теории — в практику. О нем и пойдет речь в следующем главе.9. ИНДУСТРИЯ (ДМИТРИЙ ГУРЬЯНОВ)
Как раз в те самые дни, когда в магазинах Америки начали продавать новое роскошное издание книги Кастелья-старшего «Храм Кроноса уже облицован» (т. е. темпорология выстроена и отделана окончательно), на другом конце света, в другом полушарии, в Академгородке, что близ Новосибирска, в кабинете директора Института теоретической физики сидел спортивного вида, подтянутый и стройный мужчина среднего возраста, с остроконечной черной бородкой. — Ну, поздравляю, поздравляю, — сказал директор, вертя а руках нарядный диплом доктора наук. — Читал твой реферат, читал. И за защитой следил. Значит, к нам опять? На прежнее место — на сверхпроводники? — Естественно, — кивнул чернобородый. — А у меня другое предложение. — Директор все еще вертел диплом, явно смущенный. — Мы создаем сейчас лабораторию темпорологии. Дело новое, неизученное. Есть возможность наткнуться на что-нибудь невероятное. Тебе не хотелось бы попытаться? — Вы не хотите смещать моего заместителя? — догадался доктор наук. — И это есть, — признался директор. — Но главное: интересы дела. Твой зам — добротный заместитель. Он надежно продолжает налаженное исследование. А ты хорош как инициатор. Темпорология — пустое место в науке, терра инкогнита. Там все надо с азов начинать. — Не такая уж терра инкогнита, — пожал плечами доктор. — Теория отработана школой Кнудсена, все важные опыты поставлены Блеквудом. Перепроверить? А это очень нужно? — Никому не нужно, — тут же согласился директор. — Вот и предложи новое направление. Подожди, закрой рот, не говори «нет». Сейчас я еду в отпуск, в Гималаи, подышать качественным воздухом, через месяц вернусь и выслушаю соображения. Даже если откажешься от темпорологии, захочешь вернуться на старое место, все равно, соображения подготовь. Впоследствии Гурьянов говорил, что судьбу его решил гималайский отпуск директора. Если бы на раздумье дали три дня, Гурьянов отказался бы решительно, поискал бы работу по своей докторской теме, по сверхпроводникам. Но месяц он думал о темпорологии, и соображения появились. Нащупал новое направление, составил план работ. И ему неудержимо захотелось этот план выполнить. Дмитрий Алексеевич Гурьянов умер не так давно. Еще живы многие его ученики, соратники, друзья. Одного из них я спросил: — Что было главным в характере Гурьянова? — Главным? — переспросил мой собеседник. — Главным было умение видеть главное. Допустим, идет обсуждение. Десяток выступающих, десятки соображений, сомнений, советов, протестов и просто словес. Ведь каждый смотрит со своей колокольни, рассуждает исходя из интересов своего дела. Иной раз о пустом говорят многословно, о важном — между прочим. И так легко вступить в спор по пустякам. Гурьянов никогда не разменивался на мелочи, бил только в самый центр. То же и на работе. Вот приемные часы, каждый со своим делом: у кого идея, принципиально новый метод, а кому надо отпроситься на день, тещу на дачу перевезти; кто просит чертежника, а кто — синхрофазотрон. У Дмитрия Алексеевича была идеальная четкость: это решает секретарша, это — завхоз, а это — я сам. Насчет чертежника — к заму, насчет нового метода — ко мне. «Завтра с утра, посидим, подумаем». С утра думать любил. С утра никого к себе не пускал, нужных сам вызывал. А посетителей принимал под вечер, чтобы не они ему расписание диктовали. — Что было главным? — переспросила племянница Гурьянова. — Вкус к жизни, вот что главное. С увлечением жил, все делал с увлечением. Ел с аппетитом, кости грыз с хрустом, спал, как убитый, спорт выбирал самый головоломный: парашют, горные лыжи, водные лыжи. Носился по волнам так, что дух захватывало. И танцевал, чтобы дух захватывало. Женщин любил (племянница застыдилась). Вообще, любил людей. Самый интересный разговор для него был о людях: кто как себя проявил, чем славен, какие недостатки? И сразу следовал вывод: «Этого я пристрою к делу. Пригодится для…». А годился всякий. Каждого заставлял помогать. Иные упрекали: «У вас, Дмитрий Алексеевич, утилитарное отношение к человеку. Не дело для людей, а люди для дела. Люди-винтики». Он только отмахивался: — Винтики! Сказали тоже. Сказали бы еще, что актеры — винтики сцены. Да настоящий актер только на сцене и живет полноценно, только там горит, талант разворачивает. Вот наш институт и есть сцена, где человек проявляет таланты, блещет, а не чадит. А я помогаю проявить. Ищу, что может проявиться. Подсказываю. Иной и сам не догадывается, какие у него таланты. И знаете, нашел я… Затем следовал вдохновенный рассказ о людях лаборатории. Будущее куется в научных институтах, и поскольку будущее интересует всех, ученым частенько приходится принимать журналистов, знакомить с перспективами, чертить для профанов схемы, водить фотографов к новым аппаратам. Но все журналисты отмечали, что Гурьянов никогда не чертил схем и не хвалился аппаратами. Гостей он обычно выводил на хоры и начинал рассказывать про людей, благо они тут все толпились, покуривая в вестибюле. — Вот обратите внимание на того человека, — говорил он, — на того, костлявого и седого, в мешковатом костюме. Мой зам по науке. Светлая голова, генератор идей, отвага в мыслях необыкновенная. Но отвага эта кончается на краю письменного стола. Первый же консультант, первая же секретарша, какая-нибудь заносчивая девчонка — для него непреодолимый барьер. Глубоко и заслуженно верит в свои силы, верит, что способен все придумать и все рассчитать, и столь же глубоко не верит в свои силы, потому что никого не способен убедить. Вот и приходится нам подбирать его идеи и бережно нести в мир. А собеседник его, в очках, лысоватый и упитанный — из тех, кто знает, как и что сделать, как расставить, организовать, с кем договориться. Поручить можно что угодно: организует новую лабораторию, мастерскую, цех, завод. Но надо поручить. Надо дать задание, и не сразу, а порционно, поэтапно. О заводе сначала и не заикайся. «Нет-нет, что вы, не под силу, сорвусь, оскандалюсь». Удивительное сочетание деловитости с робостью, напора с нерешительностью. Инициативен в каждой части и никакой инициативы в целом. Ну вот и даешь задание по частям. Вытягивает. А тот — горбоносый и узколицый — ничего не вытягивает и не вытянет. Но у него кругозор. Мгновенно охватывает картину, видит все недочеты… и ни шагу вперед. Остроумие, дерзость, быстрота мысли… и скептицизм. Разрушительный ум, не конструктивный. Ну что ж, в коллективе и скептики полезны. Пусть развенчивает радужные надежды, пусть выпячивает слабости — мы заранее о них подумаем, предусмотрим контрмеры. Полная женщина с лиловатой прической — это самый надежный у нас работник — королева точности. Становой хребет лаборатории: точность и терпение, терпение и точность. Сто измерений, тысяча измерений, тысяча первая проверка. Даже поторапливаем ее, говорим: «Достаточно. Переходим к следующей теме». В исследовании трудно начать и трудно остановиться. Наша королева точности не умеет остановиться. Не решается. Как видите, всякие у нас находят место: вдумчивые и деловитые, активные, неактивные, скептики, мечтатели, решительные и нерешительные… Звонок? Да, перерыв кончился. Почему не торопятся в кабинеты? А у нас разрешено болтать. Курить, и болтать, но думать. Только три запретных темы: футбол, моды и секс. Мужчинам запрещено говорить о женщинах, женщинам о мужчинах. Рекомендуется рот раскрывать для полезной информации: «Я узнал, вычитал, высчитал, придумал, в опыте получилось…». Можно говорить и о том, что не получилось. От неудачника тоже польза. Он спотыкается на малейшем бугорке, первый указывает, где не идеальная гладь. Взывает о помощи, всех заставляет думать. — Значит, вы считаете, что главная ваша заслуга — в создании коллектива? — обычно спрашивали журналисты. — Ну что вы, наука всегда была коллективной. Кто создал космогонию? Коллектив. Это общий труд Коперника — Кеплера — Галилея — Ньютона и многих-многих, чьи имена мы забыли неблагодарно. Кто создал атомную энергетику? Это коллективный труд Беккереля — Кюри — Резерфорда — Бора — Гана — Ферми — Жолио — Иоффе — Курчатова — Флерова и многих других. Да, они работали в разных странах, а мы в соседних комнатах. Расстояние ближе, связь теснее, быстрее итог. — А ваша роль все-таки? — настаивали журналисты. Гурьянов запинался. Не от излишней скромности, он был не так уж скромен. Но о себе мало думал. Не видел полезной информации в самоанализе. — Я? Я — диспетчер, наверное. Направляю, кому на каком пути стоять, когда трогать… Итак, продумавши месяц, Гурьянов принес своему шефу, посвежевшему от кондиционного гималайского кислорода, диспетчерскую схему будущей темпорологии. Кого, куда и на какой путь? Куда предлагал он двигаться? К индустрии. Предлагал переходить от пробирок к котлам, от лабораторных столов к комбинатам, от граммов и миллимикронов к тоннам и метрам. Масштаб позволил бы переправлять в быстрое время не пылинки и капельки, а приборы, аппаратуру, автоматы… человека — в перспективе. Для всего этого надо было прежде всего отказаться от скудного и дорогостоящего бенгалия, перейти к какому-то иному, широко распространенному в природе материалу. Гурьянов наметил четыре пути: 1. Получить положительный заряд на термоядерных электростанциях. Ведь плазма-то заряжена положительно. 2. Получить положительный заряд с помощью индукции от мощного отрицательного заряда. 3. Уменьшать массу и ускорять время, сжимая тела. Это подражание сжимающимся звездам. 4. Использовать электричество и сжатие в сочетании. В дальнейшем к успеху привел четвертый путь, но тогда Гурьянов не знал этого, — он предложил сразу создать четыре лаборатории. И кроме того пятую: лабораторию возвращения. Ведь при ускорении времени энергия выделяется, тут затраты не нужны. А на обратном пути, при замедлении времени, энергию надо вложить. И немало — миллиарды киловатт-часов на каждый килограмм. Откуда ее взять? Электростанции пристраивать? Или же хранить энергию, выброшенную при ускорении времени, какой-то аккумулятор изобрести на миллиарды киловатт-часов? Директор слушал, покачивая головой: — Однако размахнулся ты, братец. Тут на сто лет работы. От миллиграммов к тоннам. Девять порядков. Целая эпоха. — Атомщики прошли эту эпоху за семь лет, — напомнил Гурьянов. — В 1938 году открыли деление атомов урана, в 1945-м — испытали бомбу. — Тогда война была. Вопрос жизни и смерти. — А сейчас твердый мир. Мы богаче и щедрее. И если не станем скупиться на науку, результат будет вот когда… Он подвинул к шефу листочек с формулой: n = 10*ЛД + 3 — Что обозначил буквами? — n — годы, Л — люди, Д — деньги. Если нам дадут сто миллионов и сто тысяч человек в год, через десять лет будет темпокамера. Плюс три — это три года на хлопоты: убеждать, чтобы дали людей и деньги. — Однако размахнулся ты, парень, — повторил директор. — В сущности, как я могу решить? Л не в моем распоряжении и Д — тоже. Но тройку дать могу. Получаешь три года на хлопоты, давай, начинай убеждать. Остальное можно изложить в одной фразе: Гурьянов выполнил план Гурьянова; убедил за три года, получил Л и Д и за n лет изготовил темпокамеру. Можно рассказать и чуть подробнее — на двух страничках. Можно и в ста томах — материала хватит. Действительно, около трех лет Гурьянов выступал как адвокат идеи; устно — с пламенными речами и письменно — с пламенными статьями: убеждал мир и Госплан, что пора браться за покорение своевольного времени. Мир и Госплан высказывали сомнение. И винить их нельзя. Сто тысяч человеко-лет и сто миллионов на улице не валяются. Но все же средства поступили и люди вдохновились. И в результате через n лет (при n, равном 13) была создана модель темпокамеры: маленькая бутылочка, как бы флакон для духов, обвитый тончайшей золотой паутинкой (золото — наилучший проводник и плотный металл — компактный склад массы) и на ней совсем маленькое горлышко, тоже обвитое золотой проволочкой. А весь показательный опыт, на который были затрачены десять миллиардов рублей и миллион человеко-лет, свелся к тому, что бутылочка как бы вывернулась наизнанку: сама стала в десять раз меньше, а горлышко в десять раз больше. Потом, час спустя, ее еще раз вывернули наизнанку и вынули положенные внутрь ручные часы. За час часы ушли на десять часов вперед. Надо пояснить? Вы не догадались? Когда бутылочка уменьшалась в десять раз, время в ней ускорилось. При этом выделялась масса. Массу поглощало горлышко, раздуваясь. Потом из горлышка масса поступила обратно, бутылочка выросла до нормального размера, время вернулось к нормальному темпу. В сущности, модель решила все. Теперь нужны были только масштабы: больше золота, больше энергии… но никаких новых проблем. В других случаях переход к иному масштабу был нелегок. В других случаях не удавалось сделать модель. Модель атомной бомбы не взорвалась бы. Модель космической ракеты не вылетела бы в космос. Темпокамера допускала плавную постепенность. Бутылочка, стакан, ведро, бак… Уменьшение в полтора раза, в два, в три, в пять, в двадцать раз… Вслед за часами в мир высоких скоростей отправили приборы, модели машин, пробирки с разными веществами, с бактериями, цветы, насекомых, мышей, собак… И вот настал день, когда Гурьянов сказал: — Товарищи, подходит очередь человека. Продумайте требования и подбирайте кандидатов.10. ИСПЫТАНИЕ (АЛЕКСАНДР КУНИЦЫН)
Испытание было назначено на 12 апреля — в честь Дня космонавтики, в память о полете Юрия Гагарина. Примерно за месяц до срока Гурьянов приехал в зимний лагерь, где тренировались будущие темпонавты. Инструктор выстроил их на линейке — одиннадцать крепких румяных парней, отрапортовал: «Группа готовится к лыжному походу с ночевкой. По списку одиннадцать, налицо — одиннадцать. Больных нет». Здоровые, румяные, молодые и все разные. На правом фланге долговязый жилистый, рядом с ним богатырь — тяжеловес, косая сажень в плечах, на левом — маленькие, подвижные, улыбчивые. В космонавты брали сначала только летчиков. Естественно: там полет и тут полет. Нужны были быстрые, активные, с хорошей реакцией, крепкие люди. Для темпонавтики важнее была выносливость, привычка работать в непривычных условиях. В группе собраны были подводники, водолазы, шахтеры, металлурги. Подводники — малогабаритные, водолазы — могучие, сухопарые — литейщики, жилистые — шахтеры. Но кто из них самый надежный? «Одиннадцать неизвестных в одном уравнении», — подумал Гурьянов. — Разрешите продолжать подготовку? — спросил инструктор. А день был такой веселый — март, весна света. Солнце грело щеки, уже горячее, хотя и не способное растопить снега. И небо было голубое, и снега ярко-голубые, исчерченные голубой лыжней, уходившей за бугор к синим сопкам. Так манила даль, так хотелось, взмахнув палками, пуститься во весь опор к горизонту. — Продолжайте подготовку, — сказал Гурьянов. — Я сам поведу их, без вас. Где намечена ночевка? И, повернувшись, услышал, как курчавый левофланговый говорил: — Ребята, передайте по цепочке; не нажимать чересчур. Не надо обгонять, старик обидится. Он не подозревал, что их поведет мастер спорта. И Гурьянов «выдал темп». Палки так и мелькали, лыжи славно стучали по лыжне. И день был безветренный, а лицо обжигало. Лыжники сами мчались как ветер. Одиннадцать сразу растянулись по лыжне. Только долговязые не отставали, да еще маленький кучерявый подводник. А грузные вскоре оказались в хвосте, на всех поворотах сбивались, проваливались в снег. Впрочем, Гурьянов знал, что в конце концов молодость возьмет свое. Мастерство мастерством, а сердце уже не то, что у двадцатилетних. Было бы сердце прежнее, сам себя послал бы на испытание. И он повел команду к оврагам. Там надо было нырять между стволов. Умение решало, а не сила. И переоценил ведомых. Вошел в азарт, выбрал слишком трудную трассу. Конечно, все кинулись вслед, спеша, опасаясь отстать. И тут послышался треск: самый грузный сломал лыжу. С другим было хуже — ударился плечом. Пришлось отправить обоих на базу. Девять неизвестных остались в уравнении. Гурьянов гонял их весь день, пока солнце не повисло на колючих сопках, гольцы стали палевыми, а долины наполнились сумрачной дымкой. Тут он воткнул палки в сугроб, отер пот и сказал: — Костер, палатки и все прочее. Здесь ночуем. Здорово устали? Конечно, устали все, хотя никто не признался. У всех ввалились глаза, посерели лица. Свежее других выглядели долговязый горновой и маленький подводник. Гурьянов мысленно поставил им плюс. Оказалось, кроме того, что подводник — всеми признанный командир (он и был офицером раньше). Тут же он распорядился; кому палатки ставить, кому лапник рубить, сучья ломать, костер разжигать, кому долбить прорубь, чтобы добыть воду. Он весело покрикивал, сыпал насмешливые шутки, сверкал зубами, а сам косился на Гурьянова: производит ли впечатление? И не знал, что заработал минус, потому что испытателю в темпоскафе не нужна распорядительность. Он один будет, должен сам на себя надеяться, там некому поручения давать. Зато второй плюс достался горновому. Этот ладно работал: молча и споро. Когда у других не ладилось (горожане в XXI веке отвыкли от ночевок в лесу), отодвигал и сам брался за дело. Казалось, материал слушается его: дрова сами собой колются, поленья сами складываются, огонь только и ждет, чтобы взвиться вверх. Каша уже пузырилась в котле, когда уравнение усложнилось. Явился десятый, тот, что сломал лыжу. Проводил товарища в больницу, взял его лыжи и один прошел весь маршрут. Уже во тьме разыскал лагерь по огоньку. — Эгей, Сашок, — встретил его подводник. — Ты хитрец у нас. На готовый ужин пришел с большой ложкой. Так не годится. Штрафная порция тебе: принесешь два ведра воды и две охапки дров на ночь. Сначала работа, лотом каша. Богатырь, ни слова не сказав, взял топор и пошел в лес. Принес дров, принес воды. «Мало», — сказал жестокий подводник. Даже Гурьянов вступился: «Дайте же поужинать». — А мне невелик труд, — сказал десятый. — Я таежник, привык топором махать. Это городские считаются: две охапочки или три. Слабенькие. «А в этом парне есть что-то, — подумал Гурьянов. — Но увалень. Лыжи поломал, аппаратуру разнесет еще». У костра сидели долго: ели пропахшую дымом гречку, запивали какао, просили добавки. Зубоскалили о том, о сем. Потом Гурьянов предложил каждому по очереди рассказать случай из собственной жизни — то, что больше всего запомнилось. Предложил не случайно. Ведь испытатель темпоскафа — как бы разведчик в мире чужого времени. Должен быть наблюдательным, должен быть и речистым. Обязан не только увидеть, не только почувствовать, но и рассказать обо всем, подробно, выразительно и точно. Вот Гурьянов и испытывал умение рассказывать, в программе тренировок не предусмотренное. Пожалуй, подводник оказался самым лучшим рассказчиком. Его даже просили продолжать, еще что-нибудь добавить. Целая повесть у него получилась: подводная авария, лодка на дне, связь потеряна, люди задыхаются, пишут прощальные письма. Кто падает духом, кто проявляет самоотверженность. Единственная надежда — выстрелить одного на поверхность. Выбирают самого верного: рассказчика, конечно… Явный был намек, что лучше не выбрать и тут. «Приукрашивает, — подумал Гурьянов. — Нет научной точности». Но другие говорили заметно хуже. И тоже неточно: кто рисовался геройством, а кто — преувеличенной скромностью. А долговязый металлург вообще отмолчался. — Я на байки не мастер. Да мы, уральские, и не любим языком зря хлопать. Сделал дело — молчи. Для кого делал — тот знает. «Не подойдет, — подумал Гурьянов. — Не для того миллиарды тратим, чтобы услышать горделивое: „Ничего особенного“». Последним рассказывал десятый, опоздавший. Вспоминал, как они с отцом осматривали заповедник после бури. Лезли через бурелом и наткнулись на медведя. Видимо, того упавший сук выгнал из берлоги. Рассказывал парень медлительно, тянул слова… но вытягивал самые точные. Сумел передать и колорит сырой весенней свежести, вспомнил гомон пташек, «как в детском саду», сварливый крик сойки, мягкое чавканье непросохшей почвы, острый запах хвои. Вспомнил мерное колыхание вещевого мешка на отцовской спине, ерзающий ствол ружья. И вдруг — оскаленная морда зверя… — Здорово испугался, Сашок? — перебил подводник, ревниво следивший за чужими успехами. — Не без того, — признался парень. — И главное: недоумение. Брюхо распороть проще всего. Но ведь мы бережем зверя — в заповеднике. «Основательным парень, — подумал Гурьянов. — Жалко, что неуклюжий». Сидели далеко за полночь, потом разбрелись по спальным мешкам. Гурьянову, однако, не спалось. Переутомился, видимо. Поворочался, вылез к костру. Застал того же Сашка. — Сидеть будете? — спросил тот. — Тогда я подложу дров. А если нет, лучше гасить. Пожары и зимой случаются. — Лес любишь? — Родился в лесу. Только в лесу и дышится как следует. — Зачем же пошел в водолазы? Разнообразия искал? — Какое же разнообразие под водой? Верно, на мелководье подводные сады, а в глубине — тьма и скука. Водолазное дело — тяжелое. Но у нас, таежников, так говорят: если ты мужик, вали тяжесть на свои плечи. Я знал, что под водой тяжко, на то и шел. — Но ведь это так безрадостно: всю жизнь делать тяжелое и скучное, — допытывался Гурьянов. — Не дело скучное, а темнота скучная, — уточнил водолаз. — Да я не представляю, как это при деле скучать. Свои тонкости есть, свои хитрости, если хочешь превзойти других и себя. Когда на пределе возможностей, скучать некогда. Если спустя рукава, тогда и скрепя сердце можно. Но под водой халтурщиков нет. Не выживают. Я так понимаю: и темпоскаф — не санаторий. «Не послать ли нам этого парня? — подумал Гурьянов. — Надежность в нем чувствуется. А ловкость так ли важна?» Поутру провел последнее испытание. — Ребята, — сказал он. — Есть такой вариант: в первый рейс послать двоих сразу (на самом деле этот вариант был отвергнут). Вы друг друга знаете лучше всех. Конечно, каждому хочется быть самым первым. Но напишите, кого бы вы взяли себе в напарники. Семь из десяти назвали Сашу Куницына — водолаза, двое, Саша в том числе, — Виктора Харченко — подводника. Так и было решено: Александр Куницын — темпонавт номер один, Виктор Харченко — его дублер, темпонавт два. В ночь на 12 апреля, в 2 часа 55 минут Куницын вошел в темпоскаф, в широкий, обвитый золотой проволокой бак (3 метра в высоту, 3 метра в диаметре) — в странный бак с золотым бочонком на боку. Всем вам знакомая, доныне сохранившаяся форма темпокомнаты. Куницын помахал рукой на пороге, закрыл за собой дверь… и остался у всех на виду. Его можно было видеть и на экране, можно было и заглядывать сверху в его комнату. Как и нынешние темпокамеры, в потолке она не нуждалась. Была прикрыта силовым полем, а стеклом — на всякий случай. Всем видно было, как он уселся в свое кресло-кровать, положил руки на стол, развернул журнал, заполнил первую строку: «2 ч. 58 мин. К старту готов». Прожекторы заливали темпоскаф голубым светом, отгоняя ночь за ограду. Десятки объективов, теле- и фото-, нацелились на золотой бак. Волнуясь, в первый раз за эти тринадцать лет, Гурьянов нажал стартовую кнопку. — Поехали, — сказал Куницын, повторяя знаменитое гагаринское. И не сдвинулся с места, конечно. Космический старт был куда красочнее. Гигантская башня окутывалась клубами цветного дыма и, вздрогнув, как бы опираясь на эти клубы, подтягивалась вверх, взвивалась, сверлила высоту, серебристой стрелкой пронизывала облака. Старт поперек времени — никакое не зрелище. Все остается на месте: бак и бочонок и темпонавт в своем кресле. — Как самочувствие? — спросил Гурьянов по радио. Мог бы и крикнуть сверху. — Нормально. — Как самочувствие? — через три минуты. — Порядок. Настроение бодрое. И через шесть, и через девять, и через пятнадцать минут: — Бодрое настроение. В конце концов Гурьянов рассердился: — Вот что, парень, ты мне тут бодрячка не разыгрывай. Меня не утешать надо, а информировать. У меня датчики перед глазами. Где там норма? Докладывай точно, по-честному. — По-честному, как в бане, — признался Куницын. — Печет изнутри и снаружи, словно каменка рядом. — Ослабить? Выключить? Сделать паузу? — Нет-нет, я не к тому. Терпеть можно. Но печет. Ужасно хочется холодного пива. — Воздержись. Сок пей. Еще лучше не пить, полоскать рот. Обтирай тело губкой. И не геройствуй. Почувствуешь себя плохо, сам отключай, пульт под рукой. — Ничего, терпеть можно. Но лучше дайте задание. А то сидишь, сам себя выслушиваешь. — Задание в журнале, — напомнил Гурьянов. — По заданию спать ложиться в 3:30. Сейчас 3:24. — А на Земле 3:22. Уже разошлись на две минуты. Вот так началось движение поперек времени — с минутных расхождений. Но смотреть и снимать тут было нечего. Корреспонденты начали расходиться. Всем хотелось соснуть. И темпонавту полагалось спать до 7 утра по земному времени, до той поры, пока не завершится процесс ускорения — уменьшения. И в 7 утра, когда все собрались снова, на площадке стоял золотой бак с бочонком-почкой. Но теперь они поменялись местами. Бочонок был слева, очутился справа. Освещен он был странно: темно-фиолетовым светом. И можно было различить сверху, что в этом черно-смородиновом сиропе мирно спит на миниатюрной кроватке миниатюрный человечек — уменьшенная в десять раз копия Саши. Гурьянов, осунувшийся после бессонной ночи, приблизил микрофон к губам: — Вставай, Саша! Пора! И начались чудеса. Человечек подпрыгнул и заметался туда-сюда по своему бочонку. Раз-раз-раз, зарядка: приседание, нагибание, выжимание. Ручки-ножки так и мелькали, так и дергались, словно на пружинах. Вверх-вниз, вверх-вниз, глаз не успевал следить. Затем человечек метнулся к умывальнику, плеснул воды, схватил и кинул полотенце, вдруг очутился у кровати, секунда, другая, третья — и вот уже кровать застелена. Что-то поколдовал у ящика, что-то бросил в рот. Все вместе заняло три с половиной минуты. — Приятного аппетита, Саша. Как самочувствие? Тоненьким тенорком экран зачирикал что-то невнятное. Куницын говорил в десять раз быстрее и звук получался в десять раз выше — разница в три октавы с лишним. — Дайте же запись в нормальном темпе, — потребовал Гурьянов. Подключили магнитофон. Через некоторое время можно было услышать басистое и членораздельное: — Добрый день, товарищи. С трудом догадался, что спрашиваете. Тянете каждое слово: сааа-амочу-уууу… на добрых полминуты. Чувствую себя превосходно, даже легкость особенная. Никакого воспоминания о вчерашней бане. Сейчас включаю запись, чтобы слушать вас. Но и с записью беседа не получилась. Темпонавту все время приходилось ждать. Сказал несколько фраз, потратил своих полминуты. Ждет пять минут, чтобы магнитофон изложил его фразы внешнему миру. Ждет еще пять минут, чтобы внешний мир высказался. Многовато приходится ждать. И Гурьянов коротко распорядился: — Действуй по программе, Саша. По программе шли наблюдения внешнего мира. Куницын смотрел и наговаривал диктофону: — Вижу вас на экране и через потолок. Одно и то же, но выглядит по-разному. На экране условно-естественные цвета, а через стекло цвет на три октавы ниже, инфракрасное освещение, как и предполагали. Все светится: земля, деревья, люди. Лица ярче всего, а на лицах — глаза, губы и уши, представьте себе. Самое тусклое — снег. Негатив своего рода. Движения у всех странные. Не говорите — зеваете. Не ходите — вытанцовываете. Руки как в балете. Здороваетесь, словно нехотя, словно сомневаетесь: пожимать руку или не стоит! Позы неустойчивые. Падаете все время, так и хочется поддержать. Но глядишь; сами успели поставить ногу. Впрочем, картина знакомая; замедленная съемка в кино. И масштабы как в кино: лицо во весь экран. Неэстетичное зрелище: бугры какие-то, дырочки, щетина, борозды. Гулливеровы великаны, вот вы кто. Кто хочет выглядеть красивым, держитесь на расстоянии. Куницыну демонстрировали экспонаты по списку: минералы, насекомых, птиц. Все это производило впечатление, выглядело живописно и непривычно, но для науки пользы пока не было. Масштаб 1:10 не так уж разителен. Научные открытия посыпались позже, когда наблюдатели углубились порядка на три-четыре, уменьшились в тысячу и десять тысяч раз, намного превзошли Куницына. Да, превзошли намного. Но Куницын сделал первый шаг. Кое-что он мог наблюдать и не выглядывая из своей камеры. Ведь время в ней ускорилось… а тяготение не изменилось. Тела падали в результате в десять раз медленнее, чем на Земле. От потолка до пола — восемь местных секунд. До космической невесомости далеко, но вес меньше, чем на Луне. Вода вытекала из крана, будто колебалась: стоит ли ей перемещаться в стакан. Стакан упал со стола: Куницын успел его подхватить в воздухе и подобрал на лету падающую воду. Для пробы сам он залез под потолок, позволил себе свалиться. Падая, успел сосчитать до пятнадцати, успел перевернуться и приземлиться на четыре точки — как кошка. Успел спружинить, не ушибся нисколько. Успел, успел, успел! — вот что больше всего поражало тогда. Он успел записать с диктофона (люди не могли диктовать в достаточном темпе) две страницы за две минуты. За десять минут осмотрел полсотни экспонатов. Описывал их устно и наговорил сам диктофону пятьдесят страниц. Решал уравнения (проверялась умственная деятельность). За четыре минуты решил четыре достаточно сложных — норма на урок. Рисовал (проверялась координация тонких движений). За четыре минуты скопировал голову Аполлона. Норма урока рисования. (Конечно, голову с собой не вез. Было стереоизображение). Приготовил себе обед за три минуты, за полторы — пообедал. Шесть минут отдыхал после обеда. Не спал, но прочел за это время сорок страниц. И опять шли задания по длинному списку. На одно задание — минута-две, иногда полминуты, двадцать секунд… Час в общей сложности. Целый том отчета об этом часе. В 8:00 по земному времени была подана команда на возвращение. Обратный путь выглядел несколько иначе. Заметно, прямо на глазах, сразу же начал съеживаться большой бак, отдавая назад накопленный материал бочонку, где начал расти и замедляться темпонавт. Теперь он не жаловался на духоту. Наоборот: мерз всю дорогу. Атомы его тела жадно поглощали энергию, в том числе и тепловую, заимствуя ее у клеток. — Льдинки повсюду, — жаловался Куницын. — В желудке лед, в жилах иголочки, мозг стынет. Он пил горячий чай, растирался то и дело, прыгал, приседал. Грел воздух, кипятил воду, вдыхал горячий пар. В кабине было плюс шестьдесят, а легкие ощущали мороз. Гурьянов снизил темп вдвое. Несколько раз вообще приостанавливал замедление времени, давал возможность адаптироваться. Так и водолазов поднимают с глубины — поэтапно, дают крови приспособиться к малому давлению. Здесь надо было приспосабливаться к новым размерам. Последний этап был самым томительным. Вот уже и темпоскаф полноразмерный, и темпонавт превратился в прежнего богатыря, говорит естественным баритоном, движется как человек, не дергается, словно на ниточках. На глаз в порядке, но продолжается точная подгонка. Выход из темпоскафа — самый опасный момент, подобно приземлению у космонавтов. Ошибка в одну миллиардную долю — смертельно опасна. Не добрал: мгновенное обледенение, перебрал миллиардную — вспышка со взрывом. Сейчас все эти перемещения и подгонки выполняют автоматически. Но первый шаг — самый трудный. Лиха беда — начало. Тогда выверяли схождение параметров термометрами. Первый из них расплавился; второй показал разницу в двести градусов, третий — только четырнадцать сотых градуса. — Разрешаю выход, — сказал Гурьянов сдавленным голосом. И Саша Куницын вышел из темпоскафа, слегка пошатываясь, бледный, истомленный, с серыми губами. Друзья-темпонавты кинулись к нему поддержать под руки, дублер первым. — Ну, как, Сашок? — спросил он с некоторой почтительностью. — Можно и живым вернуться, — ответил тот мрачновато. — Если упорство проявишь… — Ну и как там, в быстром времени? Тысячи и тысячи раз приходилось Куницыну отвечать на этот вопрос ученым и неученым, журналистам и читателям, телезрителям, радиослушателям или соседям по столу во всех странах мира. Бывший таежник, бывший водолаз, первый темпонавт стал кроме всего и лектором. Он терпеливо выступал в своем новом амплуа, старательно выискивал новые слова для описания много раз пересказанных, устоявшихся в языке событий. — Вы герой! — говорили ему на всех языках мира. — Такие рождаются раз в столетие. — Ну зачем же преувеличивать? — отмахивался он. — Все наши ребята были подготовлены не хуже. Гурьяныч долго колебался, кого выбрать. Все годились. Но мне повезло. Повезло, поскольку я лыжу сломал. Вот ковылял я и думал: «Главный не зря к нам приехал. Он очередь устанавливает, теперь мой номер последний». И такое зло взяло на этот пень, куда я врезался. «Эх, думаю, — была не была». Добыл другие лыжи и — вдогонку. Ну вот, Гурьянычу и пришлось по душе, что я характер показал. У других не было такой возможности. Может быть, Куницын и прав в какой-то мере. Ему удалось показать характер. Но чтобы показать характер, нужно его иметь.11. ПОТРЕБИТЕЛИ. БЫТ (ВСЕ МЫ. Я)
Книга эта написана за одну ночь. Вчера к концу рабочего дня в моем кабинете раздался экранный звонок. Лично я люблю экранные звонки. В них обещание неожиданности. Вдруг вспомнил тебя друг детства, вдруг позовут на край света, вдруг путешествие, вдруг приключение, нарушающее размеренный ритм работы за письменным столом. И хотя обычно мне звонят родные или редакторы, я всякий раз тянусь с волнением к экрану. Редактор был и на этот раз. Голос его звучал жалобно. — Голубчик, выручай. Получил рукопись, ни в какие ворота не лезет. Тягомотина неудобоваримая. То есть это все основательно, добротно, выверено, но читать невыносимо. Формула на формуле, формулировки и уточнения. Специалист написал для специалистов, стеснялся понятные слова употреблять. А мы же популярные, всеобщие. Дружок, сделай милость, напиши для нас. Тема твоя, ты в материале, темпорология — твоя стихия. Выбери из своих трех томов три печатных листа. Что тебе стоит? Я ответил в том смысле, что на три листа мне нужно три месяца. Сейчас я занят, потом поеду в отпуск на Новую Землю, отдышусь в прохладе, а вот осенью… — Осенью? Об осени не может быть и речи. Рукопись нужна мне завтра в 9 утра. — В 9 утра? То есть ты хочешь, чтобы я… — Да, я хочу, чтобы ты написал книгу в Т-граде. И не спорь, пожалуйста, друзей надо выручать. Место есть, запрос я сделал. Т-град принимает тебя в 22 часа 48 минут. Отправление в 22:28. Милый, сам понимаешь, не к кому обратиться. Не так много на свете темпоисториков, способных писать на внятном языке. К кому еще толкнуться? Не к кому. А ты наш постоянный автор, наша надежда (на лесть дело пошло!). Не подводи. План есть план, серия идет, и читатель должен получить третий выпуск после второго. И я согласился. Отчасти потому, что ни разу не был в Т-граде. Интересно было попробовать, как там работается. Экран погас. Я взглянул на часы. 16 часов 03 минуты по московскому времени. Запомнил и три минуты. Отныне каждая шла в счет. Вечер на сборы. Ну, для литератора срочный выезд — дело привычное. Тем более еду в благоустроенный город, нет заботы о пище, одежде, крове. И еду на одну ночь: нет истерических предотъездных дел — дозвониться, извиниться, посетить, уладить, доделать, распорядиться. Улажу, доделаю и распоряжусь завтра. Одно-единственное дело: ничего не забыть для работы. Картотека, выписки, расчеты, черновики, микробиблиотечка (проекторы есть в Т-граде, конечно), написанный том, недописанный второй том. Что понадобится для размышления? Ведь из Т-града запрос не пошлешь. Пока пришлют ответ, пройдет вся ночь до утра. Ну вот и все вроде. Такси заказываю на 21:10. Успею за час с лишним. Еще записка жене: «Уезжаю на ночь…» Написать, что уезжаю в Т-град? Не стоит, пожалуй; она у меня впечатлительная, ночь не будет спать от беспокойства. Лучше неопределенное: «Срочная командировка километров за двести. К утру вернусь… Целую». Еще остается время посидеть, подумать, припомнить забытое. В 21:10 на экране возникает металлическая морда робота-диспетчера: — Ваш дом восемь? Вы заказывали такси? Поднимайтесь на крышу, машина ожидает вас. Действительно, аэротакси на крыше. Подрагивают крылья, шипят струи газа, уходя к небу. Машина плотно прижата отдачей к пластику. Привычно забираюсь в кресло, пристегиваюсь, пристраиваю чемодан с микробиблиотечкой. Честно говоря, не люблю эти аэроавтоматы. Сидишь, словно наказанный, в одиночестве, перемолвиться не с кем. Говорят, они надежнее летчиков, быстрее реагируют на сигналы. Ну ладно, не для своего удовольствия лечу. Где тут адресный код? Р… С… Т… Вот он, Темпоград-31-91-46. Набираю цифры на диске. Все. Лети, машина! 21 час 23 минуты. Сколько раз летал над Москвой, не устаю любоваться. Прекрасно это придумано: покрывать крыши светящимися красками. Не город — узорный ковер. Ярко пылают магистрали. Цвета их традиционны: Юго-Запад — Северо-восток — алый, Северо-Запад — Юго-Восток — зеленый. Раскрутившись над жилыми голубоватыми кварталами, машина уверенно выбирается на сиреневую полосу — Рязанское направление. Полоса постепенно становится тоньше, превращается в черту, в ниточку. Сиреневая ниточка выводит нас (машину и меня в машине) на край города и там ныряет в темные леса. Ковер разлохматился, сменился цветными лоскутами и шнурками, брильянтовой пылью огней, диадемами. Каждая диадема — город. А между ними матово поблескивают полосы рек — сначала Москва-река, потом Ока. Красок все меньше, темнота все обширнее. Все-таки есть еще немножко природы на Земле. И вдруг в черноте ослепительно яркое желтое «Т» — крыша Т-града. «Т» растет, расползается, падает на меня, или я падаю. Пружинистый толчок. Струи перестают гудеть. Прибыл. 22 часа 07 минут. Двести километров за сорок минут. От автомата больше не потребуешь. Типичная атмосфера вокзала. Много коридоров, отделанных неуютной плиткой, желтой и черной. По коридорам спешат озабоченные и распаренные люди, слишком тепло одетые, слишком перегруженные. Конечно, неудобно бегать по коридорам в неуместных шубах. Желто-черный коридор приводит в зал ожидания, где другие распаренные люди сидят на скамьях с озабоченными лицами. Видимо, припоминают, что забыли дома. И я присаживаюсь на краешек скамьи, начинаю припоминать. Зал как зал, вокзал как вокзал. Таких тысячи на авиатрассах планеты. Но у этого одна особенность. За прозрачной стеной здесь не просторное бетонно-травянистое поле, где ветер вздувает полосатые мешки, а город: на вид не настоящий, игрушечный город, модель в масштабе 1:360. Дома в нем не больше записной книжки, этажи — как строка в тетради, окошечки словно буквы. И все они мигают, зажигаются и гаснут, зажигаются и гаснут. Есть там и улицы, и пандусы, и какие-то заводы с кубами, цилиндрами, шарами, есть парки с деревцами и скамеечки, как бы сделанные из спичек. Тысячи и тысячи деталей — и все крошечное, кукольное. Только куколок не видать. Что-то вроде бы и мелькает, но тут же исчезает незаметно. А надо всем этим нагромождением, над игрушечным хозяйством невидимых куколок, словно лучшее украшение — старинные настольные часы, позолоченные и со стрелочным циферблатом. А перед ним целая галерея позолоченных фигур. Аллегория, что ли? Двенадцать фигурок насчитал я. Стрелки на позолоченных часах показывают 22 часа 16 минут. — Каков наш Т-град? — с гордостью спрашивает дежурный. И, приблизив микрофон к губам, объявляет: — Следующая очередь Лолиты Торрес из Лимы. Пройдите в левую дверцу, пожалуйста, сеньора. Хорошенькая,но чересчур уж намазанная женщина суетится, собирая свои сумочки. Торопливо целуется с провожатыми, оставляя краску на их щеках. Волнуется, но не забывает придерживать боа на шее. Видимо, певица, боится горло застудить. И что нужно ей в Т-граде? — Приготовиться товарищу Мантыкову из Улан-Удэ. Так каждые четыре минуты. Одному пройти в дверцу, другому приготовиться. А вот и моя очередь. — Приготовиться товарищу… из Москвы. 22 часа 28 минут. Два места у меня: чемодан и портфель. Провожающих нет. Шествую вдоль скамеек, замечаю взгляды ожидающих: у бывалых завсегдатаев — снисходительные, у новичков — соболезнующе испуганные. Может быть, и я так смотрел на Лолиту из Лимы и товарища Мантыкова. Тесноватая кабинка, как раздевалка в душевой. Полка, вешалка, лежанка, рупор. Опять, как в такси, я наедине с автоматом. Преувеличенно вежливый и от старания равнодушный голос распоряжается: разденьтесь, положите одежду в ящик, закройте глаза, встаньте под душ. Не открывайте глаз, пожалуйста. Теперь ложитесь на койку. Если готовы, говорите вслух внятно: «Я готов». Повторите трижды, пожалуйста. Вдохните, выдохните и не дышите. Фухх! Словно сквозь костер прыгнул. Все горит, все жжет, каждой клеточке досталось. Но это рассказывается долго. На самом деле — единый опаляющий миг. «Фухх» говоришь, когда уже все позади. А каково было Саше Куницыну, первому из первых темпонавтов? Тогда не было этой мгновенной передачи. Из него полдня выжимали соки. Терпел. Тот же безликий, старательно-вежливый голос: — Поздравляем вас с прибытием в Темпоград. Если чувствуете себя хорошо, опустите ноги. Садитесь. Встаньте. Примите душ, пожалуйста. Простыни в левом шкафчике. И тут же добавляет настораживающе: — Если плохо себя чувствуете, не старайтесь встать. Под правой рукой у вас кнопка с красным крестом. Нажмите ее. Не волнуйтесь, врач прибудет сейчас. Не надо торопиться. Теперь у вас сколько угодно времени. Как так, не надо торопиться? Мчался сломя голову, минуты считал… Вот эта неторопливость — первое впечатление от Темпограда. Выхожу из кабины. Зал как зал, вокзал как вокзал. Тоже желтая и черная плитка в шашечку. Но очень, просторно, пусто, ни провожающих, ни встречающих. Сидит за окошком одинокая девушка, читает учебник химии. — Ах, вы прибыли? — говорит она без волнения. — А я ждала вас через полминуты. И добавляет, повторяя слова автомата: — Не торопитесь. Теперь у вас сколько угодно времени. — Как так, «не торопитесь»? Каждая минута на счету. Мне надо книгу написать до утра. — Наша минута равна шести земным часам, — напоминает девушка наставительно. Она дает мне ключ от номера, объясняет, как пройти («Через парк к часам, направо к корпусу „Д“»). Я взвешиваю багаж в руках, спрашиваю такси. — Такси у нас нет. Расстояния близкие. Все ходят пешком для здоровья. А багаж вам доставят (она смотрит на вокзальные часы) секунд через двадцать. Секунды подразумеваются московские. В каждой местных шесть минут. Иду пешком для здоровья. Иду через парк, чрезмерно ухоженный, с дорожками, посыпанными толченым кирпичом, с ненатурально яркой зеленью на лужайках. Иду к часам. Они возвышаются над деревьями. Не настольные, а целый дворец с золоченым фасадом и гигантскими, словно копья, стрелками. Те самые часы, на которые я глядел из окна вокзала. Они показывают: 22 часа 48 минут. Подхожу ближе. Дивлюсь величине, обилию лепнины, всяческих украшений. Ко дворцу часов идет изогнутая парадная лестница и вдоль нее стоят скульптуры: все герои моей будущей книги; изможденный и упрямый Аникеев на костылях, мечтательный Фраскатти, Жером, зарывшийся в книги… Встрепанный Яккерт яростно доказывает что-то, потрясая кулаками… Все двенадцать, вплоть до могучего Саши Куницына, уверенного, что выносливый мужчина должен нести больше всех. Обхожу скульптуры, оценивая портретное сходство, выразительность, характеры. Ну, хорошо, буду приходить вдохновляться. Который час? 22 часа 48 минут! Стоят часы, что ли? Ах да, здесь время такое. Весомые минуты. А если такие весомые, то спешить незачем. Сбавляя шаг, иду в корпус «Д», получаю ключи от номера, отыскиваю свои апартаменты на четвертом этаже. Багажа еще нет. Ну и ладно. Выспаться надо для начала. Когда просыпаюсь, ищу глазами часы на дворце. 22 часа 50 минут. Поздний вечер по-московски. Вся долгая ночь в моем распоряжении. А дальше литературные будни. До завтрака — письменный стол, после завтрака — стол и после обеда — стол. Справа папки, слева папки, на стульях и на полу папки. Стержень-то в голове, общие идеи продуманы заранее. Главная трудность — в обилии материала. Два века истории, дюжину биографий, характеры, науку, борьбу идей — все надо втиснуть в заданные три листа. И столько красочных деталей, каждую хочется дать. Но боязно красочными деталями заслонить стержень. Отбрасываю и вычеркиваю, отбрасываю и вычеркиваю. Потом и общелитературные мучения. Какими словами выразительнее выразить мысль? Существительные так многозначны, подразумеваешь одно, понимают иначе. Вот и подкрепляешь подлежащее определениями, дополняешь дополнениями, строишь сложно-сочиненные и сложно-подчиненные предложения. Построил, прочел. А где мысль? Утонула в прилагательных. Стала неясной от пояснений. Зачеркнул. Начинаешь заново. До обеда у стола и после обеда у стола. После ужина тоже у стола. Темпоград задуман и приспособлен для работы, не для отдыха. Природы нет. Город комнатный и воздух в нем комнатный, затхловатый. Солнца электрические. Ветра и дождя не бывает. Для отдыха гуляют в парке по аллеям. Ну, теннис, волейбол. Театр местный, любительский. Фильмы все старые. Новые же не появятся за ночь. В газетах последних новостей нет (что произойдет за 4 минуты?) Ощущение такое, будто весь мир задремал. Телевидение тоже местное, а интервидение превращается в фотовыставку. Каждая секунда у нас — десять минут, а что изменится за секунду на экране? В Миланской опере примадонна тянет верхнее «ля». Целый вечер (наш — темпоградский) можно смотреть в открытый рот. На пляжи в Гаваях набегает волна цунами. Нависла, замерла: никак не разобьется. Главное развлечение — хоккей. Наши играют с канадцами в Монреале. Передача шайбы. Все замерли в нелепых позах, все падают, никак не упадут. Двое тянутся к шайбе с клюшками. Болельщики спорят: кто успеет? Шайба лениво ползет через весь экран. Так хочется взять ее пальцами, подать на клюшку. Или послать телеграмму нападающему: «Друг, развернись влево, промажешь». Ну вот, посмотришь на все это, усмехнешься — и опять к столу. Написал страничку-другую, вышел проветриться. Глядишь, защитник промазал и нападающий промахнулся. Шайба ползет в обратную сторону. Нельзя ли то же сказать выразительнее? Можно, вероятно. Но вот наступает минута, когда я дохожу до своего потолка. Чувствую, что не улучшаю, начинаю портить. Мусолю, теряю свежесть. Вообще притерпелся; не различаю, что лучше. И надоело. Скучно самому, и скука сползает на страницы. Значит, надо кончать. Отработал сотню рабочих смен, сто раз спал, сто раз обедал. 5 часов 37 минут по московскому времени. О возвращении нет смысла рассказывать так же подробно. Все повторяется, в 5:52 вхожу а кабину Т-транспорта, слушаю советы автомата, в 5:54 — я в нормальном времени, в 6:09 выхожу в знакомый зал ожидания. Снисходительно гляжу на испуганные лица новичков. И кидаю прощальный взгляд на кукольный город за стеклом, со всеми его домишками, деревцами, скамеечками, как бы сделанными из спичек, с золочеными фигурками возле старинных настольных часов. Неужели я прибыл из этого игрушечного мира? Суетливым мурашом бегал по тем дорожкам. Неправдоподобно. Странновато… и грустновато. Грустновато, потому что все наши дома мы покидаем и с радостью и с грустью. Хочется оставить… и оставляешь частицу себя. Но поработал я там основательно. Много сделал. Хорошо ли? Не мне судить. Выхожу на крышу, где дремлют аэротакси. 6 часов 22 минуты. В 7:08 я дома. Заспанная жена с сомнением смотрит на мой потертый костюм. — Где это ты изгваздался так? На голой земле ночевал, что ли? А рубашка то… боже мой, неси скорей в мусоропровод. И борода? Откуда у тебя борода? За одну ночь! Но все объяснения после. Главное — я успел в срок. В 9:00 кладу на стол редактора рукопись. Эту.Виталий Бабенко ПЕРЕПИСКА

ОТ РЕДАКТОРА-СОСТАВИТЕЛЯ
Как известно, первое путешествие человека к звездам на космолете класса А «Гонец» дало колоссальную, просто-таки баснословную пищу как современной науке, так и искусству. Не будем вдаваться в подробности и напоминать читателю об открытиях, давших мощные толчки астрофизике и физике вакуума, теории поля и квантовой механике, релятивистской космогонии и теории временных зон и напряжений, биологии и даже самой земной из земных наук — геологии, не говоря уже о прочих отраслях нашего знания. Обратимся лишь к литературе. Кто не помнит прекрасной трилогии Н. Баженова «Гонец», дважды экранизированной за последние годы? Или первоисточника — самого драгоценного, что осталось у нас, — «Дневников Капитана „Гонца“»? Если учесть всевозможные рассказы и повести, вызванные к жизни беспримерным Прыжком, а также стихотворные произведения, навеянные сказочными картинами чарующей планеты Славии (картинами, запечатленными — в первую очередь — в полотнах самого Капитана), то список продолжится практически в бесконечность. Ныне мы публикуем поистине уникальные документы, связанные с Прыжком, — переписку Капитана с семьей. Разрешенные к публикации — как мы знаем из завещания — только после смерти героя, эти письма проливают совершенно новый свет как на сам подвиг, так и на личности людей, совершивших его. По-новому читатель взглянет и на фигуру жены Капитана, Светланы, споры о которой не смолкают до сих пор. К сожалению, переписка кончается письмом, датированным 30 апреля 85 года. В это время «Гонец» был уже на подходе к системе Каптейна, но до возвращения на родную планету оставалось еще больше четверти века. Как сложились судьбы героев космоса после приземления? — не такой вопрос письма не дают ответа. Для тех молодых читателей, которые не знают этого, сообщаем: все трое ушли из космонавтики. Капитан «Гонца», Сергей Никитин, остаток дней провел в Крысу, в Коктебеле, где жил с дочерью Марией до самой смерти, занимаясь структурной киберлингвистикой. Владимир Шебанов опубликовал несколько — ныне широко известных — исторических романов, написанных во время полета, оставил литературное поприще и поступил на работу в Институт физики времени Академии наук. Его монография «К вопросу о временных скачках в кварковом поле» до сих пор остается основополагающим трудом в этой области знания. Что касается Андрея Котковского, то и он не стал композитором цветомузыки, несмотря на серьезные музыкальные успехи в космосе. Вернувшись на Землю, он увлекся климатоинженерией, и его лаборатория в Метеоцентре сделала решающие шаги на пути ликвидации сезонных дисфункций климата. Работа составителя при подготовке данной публикации была самой минимальной. Мы исключили из сохранившейся части переписки наиболее интимные послания, издание которых можно было бы расценить как неуважение к корреспондентам, а также те письма, которые повторяют предыдущие. Как известно, и сам Капитан, и его супруга не приурочивали письма к сеансам связи, они писали их постоянно, и с каждым импульсом шла целая серия посланий. Именно это позволило нам безболезненно опустить часть писем и выбрать из каждого сеанса лишь по одному наиболее интересному, на наш взгляд, документу, сохранив некоторую «сюжетность»: каждое письмо в данной публикации можно рассматривать как ответ на предыдущее. Единственная «вольность», которую мы допустили, — это расстановка знаков препинания в последнем письме серии. В оригинальном тексте они отсутствовали. К великому сожалению, значительное количество писем не уцелело. Капитан уничтожил более половины их, и по неизвестным причинам коснулось это, главным образом, переписки с сыном, из которой осталось в целости только одно письмо. Еще от одного послания сохранилась лишь последняя страница (ее мы не публикуем) с приветствиями Ярослава экипажу и неожиданной концовкой не латыни: «Vale!» Некоторые ученые склоняются к мнению, что в этих письмах содержались разрозненные сведения о загадочной Теории Большой Волны, разрабатывавшейся Ярославом Сергеевичем (см. письмо от 30.04.85) в последние годы жизни. Автор этих строк, как и многие другие литературоведы, оспаривает данную точку зрения, ибо она — в ряду прочих «невозможностей» — порочит славное имя героя звездоплавания. Мы обращаемся ко всем читателям, кто каким-либо образом владеет дубликатами этих писем, с просьбой предоставить последние в наше временное распоряжение, ибо значение их для макрофизики, равно как для литературоведения и истории, трудно переоценить. В заключение мы спешим порадовать читателей следующим известием: в ближайшем будущем увидят свет и письма двух других членов экипажа «Гонца», не так давно переданные родственниками в редакцию. Москва, август, 129 год.26 мая 63 года. Здравствуй, мой милый, далекий! Нет, не далекий — удаляющийся. Вот видишь, прошло всего десять дней, а я уже не могу найти себе места — страстно хочу отправить тебе послание. Хотя что такое десять днем в сравнении со сроком нашей разлуки? Так, мелочь… Как быстро все случилось! Да-да, быстро. Ты скажешь, я преувеличиваю, ведь не неделю, не месяц — ты готовился больше года. Но что такое год в сравнении с нашей разлукой? Не подумай, будто я кощунствую, но все эти десять дней я просыпалась с одной мыслью (что десять! — уже можно не скрывать: целый год): «Ну почему, почему Выбор пал именно на него?!» Ведь были сотни, тысячи кандидатов, все — равно способные, равно талантливые, равно мужественные, у-равно-вешенные, с железной психикой, здоровьем, волей… Но именно мой муж первым взошел на корабль, и именно он уносится сейчас с невообразимой скоростью к невообразимо далекой звезде. А вернется — о боже! — больше чем через полсотни лет. Нет, я не ропщу. Мне просто больно. Конечно, я вынесу разлуку. Ведь когда мы встретимся, мы еще не будем стариками. Мне будет под восемьдесят, тебе — семьдесят четыре. Начало последней трети жизни — далеко не возраст. Правда, треть-то эта среднестатистическая, но все равно «интересно»: я «перерасту» тебя на целых шесть лет, хотя ныне — и долго буду еще — моложе. Такие вот у нас с тобой, любимый, начинаются парадоксы. И тем не менее (в который раз ужасаюсь!) — полвека! Проклятая, проклятая, проклятая звезда… Прости меня… Я ведь знаю: только ты один прочтешь эти строки, а перед тобой мне не стыдно. Здесь же, на Земле, я по-прежнему жизнерадостна, неизменно весела на людях, и это дает всем повод заключать о моей горделивости. Еще бы — Жена Пилота! Да, я горжусь, но совсем не этим. Горжусь тем, что не плачу… Ты не поверишь, когда наш «автотип» выбросил мне на стол «Новости» на следующий день после старта, я была вне себя от ярости. То, что шесть полос — тебе, это еще полбеды. Твое фото, наш семейный портрет, твоя каюта, инициальная вспышка — ладно. Но интервью! Если бы ты видел это интервью! Писаке, который состряпал его, я готова была выцарапать глаза. Уж ты и «пионер межзвездных рейсов», и твой «звездный час», и «звезда первой величины» и черт знает что накрутил. А твои ответы! Тот деятель, оказывается, ухитрился вклиниться в канал связи в первые часы и играл на запаздывании, как Паганини на одной струне. Вот сигнал летит полчаса, вот два часа, и так далее — словом, ни на секунду не давал забыть о твоей скорости и собственной оперативности. Я, честно говоря, до сих пор не могу понять, как у тебя хватило терпения с ним «беседовать». Половину ответов он, конечно, понавыдумывал. Твоя «любимая книга», «хобби», «что бы вы взяли в полет из вещей, не положенных по диспозиции?», «талисман», «не страшно ли покидать?..» и прочее, и прочее. Откуда ему, бедняге, знать, что у тебя, как и у всех нормальных людей, не одна «любимая» книга, а сотни, и что «хобби» — придумка для бездельников вроде него, и что я — вовсе не «вещь», а вот то, что я «не положена по диспозиции» — это уж точно! А ведь ты бы меня взял, верно? И я бы сама полетела, если бы была хоть малейшая возможность. Даже несмотря на маленькую (она уже шевелится, да-да, слышишь?!). Даже несмотря на то, что я жуткая трусиха. Конечно, трусиха. Знал бы ты, чего мне стоило вылететь и месту старта! Это мне-то, заядлой домоседке. А тут — пожалуйста! До самой орбиты Марса добралась и весь твой корабль облазила. Как сейчас помню, ты водил меня по нему, хвастался, гордился каждым винтиком, показывал голотеку, книгохранилище, машину, информаторий, бассейн… Меня больше всего рассердил этот бассейн: можно подумать, будто без барахтанья в зеленой луже и свет не мил, и полет не полет, а вот об оранжерейке ты и двух слов не сказал, глупый. Не раз ведь помянешь добрым словом конструкторов. Я даже загляделась: надо же, умные головы, и о цветничке не забыли… Так вот, ходила я по кораблю и удивлялась: как же можно в этой конуре (ради всего святого, прости!), как можно в этой конуре, в этой самой совершенной из тюрем целых сорок четыре года провести? Ведь полжизненное заключение — другим словом не назовешь… Ну да ладно, это не письмо получается, а не поймешь, что такое: и тебя травлю, и себе на раны соль сыплю. Не дело это, в следующий раз буду осторожнее. Кстати, вот я слово «письмо» упомянула. Ведь неспроста. У нас с тобой действительно «почтовая переписка» получится. Как в старые добрые времена. Только идти письма будут все дольше и дольше. Хорошо хоть, что рассчитывать сроки просто: это письмо ты получишь через десять дней, а ответ у меня на столе будет через три недели, потом придется ждать два с лишним месяца, потом больше полугода… Так все и пойдет. Умницы ваши связисты. Я не знаю, что было бы, если б каждый сеанс могла видеть твое лицо, слышать твой голос, как в обычном видео. Наверное, сошла бы с ума. А так — все очень мило: фотописьмо, знакомый почерк. Ты знаешь, какая мысль пришла мне в голову? Все-таки техника крадет у нас большую долю человеческого. Ведь вот, скажем, эпистолярный жанр. Утеряли мы способность к нему (пример тому — это письмо: сумбурное, бессвязное, утяжеленное какое-то, попросту некрасивое), утеряли напрочь. Возьми, к примеру, XVIII век прошлой эры. Почитаешь чью угодно переписку — завистью исполнишься. Настоящее искусство было — писать письма: близким, друзьям, возлюбленным. Но прошло каких-нибудь двести лет, и телефон быстренько свел его к абсурду. А уж видео и вовсе прикончило. Но что прикончило, если разобраться? Великое благо письменного общения, можно ведь и так повернуть? Именно великое благо. Словом, нет, никакой не пережиток наша с тобой переписка — чудный подарок разлуки. Я даже думаю, зря написала, будто знать сроки ответов — приятно. Скучно, а не приятно. Вот если бы письма приходили неожиданно! Я б даже почтовый ящик завела и от автотипа отказалась: так и бегала бы каждый день к двери — не пришло ли? Не видно ли белого уголка? А на штемпеле значилось бы: «Космос… Гонец»… Смотри-ка! Написала уже вон сколько, а о малыше нашем — ни слова. Интересно, кстати, долго мы будем его малышом звать? Он ведь большой уже. А теперь, как ты улетел, и вовсе взрослеть будет по часам. Может быть, это взросление уже началось: последнее время он сам не свой ходит (как ты понимаешь, и я тоже, или я об этом уже писала?). Первые дня два гордился и заносился страшно. Один раз даже подрался — впервые за девять лет жизни! Кто-то там из его приятелей как-то не так о тебе отозвался, ну и наш Славик измолотил его — будь здоров. Я, естественно, сына отругала, с матерью того мальчишки пришлось объясняться, но в душе все-таки порадовалась: значит, умеет за отца постоять. Домой-то пришел — я ахнула: весь в синяках, глаз заплыл, прихрамывает (немудрено, что досталось; комплекция, сам знаешь, хилая, не в тебя — в меня), зато сияет, как месяц ясный. Однако гордости и ликования его ненадолго хватило. Все больше унылый ходит, тоскливый такой, ест мало, спит плохо — смотреть жалко. Я даже побаиваюсь за его успехи в школе: конец седьмого семестра на носу, а он вроде бы заниматься меньше стал. Разумеется, я не устаю твердить ему, что теперь он должен еще лучше учиться, что слава отце только новые обязательства накладывает, что астрономия — само собой (он ведь после твоего старта телескоп вздумал сооружать — чтобы следить за «Гонцом»), но остальные предметы запускать не следует… Вроде бы призадумался Славик, а все-таки вижу я: какая-то мысль его особенно занимает, но какая — не говорит. Что тебе еще написать? Жду июля. По всем расчетам, малышка числа 18-го должна родиться. А до той поры буду жить двумя заботами — о Славике и о тебе, милый, если, конечно, моему отважному звездоплавателю не будут а полете обузой ничтожные земные помыслы его далекой и нежно любящей (концовка — в духе Голдсмита) — супруги. Р. S. Ребятам — привет!
3 июня 63 года (по корабельному календарю) Любимая! Не было пока для меня большей радости, чем твое первое письмо. Андрей стоял на вахте («стоял» — это, конечно, эвфемизм; если по правде, то — сидел в навигаторской и читал учебник молекулярной биологии), а мы с Володей должны были спать, но я не спал. Конечно, не спал! Разумеется, не спал!!! Перечитывал и перечитывал и перечитывал. Есть у меня к тебе такое предложение: давай не будем отсчитывать в письмах дни до очередного сеанса и годы до встречи. Эти провалы времени — уже внутри нас, от них не уйдешь, но, приняв форму письменной речи, они действуют странным, коварным образом: расслабляют, понуждают к безволию. Гнетут — верное слово. Не подумай, будто у меня уже сдают нервы. Все дело — в бездонности той пропасти пространства, что разверзается и с каждой секундой ширится между нами. На Земле нас об этом предупреждали, предлагали отказаться, если заподозрим в себе страх перед временем и расстоянием. Страха не было, нет его и сейчас. Но и радости первооткрывательства нет тоже. Она придет, только случится это очень не скоро. Самое удивительное ощущение, на котором я постоянно ловлю себя, — это, если так можно выразиться, «чувство скорости без скорости», даже так: «чувство умозрительной скорости». Видимо, во веки вечные не избавиться от него звездолетчикам. Чувству этому у меня есть более простое — земное — название: раздражение. Володя именует его «неуютностью». Андрей — по-разному: иронически — «эффектом Марсия» (помнишь мифического самонадеянного глупца, с которого за какую-то провинность содрали кожу? Так вот, под эффектом Марсия следует понимать высшую степень обнаженности, проще — беззащитность), саркастически — ситуацией «зрячей кожи» (кто-то сверлит взглядом спину). За всеми этими отвлеченными словесными построениями скрывается вот что: скорость есть, и — скорости нет. Мы пронзаем пространство с сумасшедшей быстротой: «полусвет» — такое ведь словечко теперь в ходу на Земле? (впрочем, действительно удобнее и короче, чем скучное «половинная скорость света»), но как бы ощутить эту стремительность?! Н-и-к-а-к. Нет ни вибрации, указывающей на мощь корабля, ни каких-либо биологических изменений (и прекрасно!), связанных с бешеным движением. «Посинение» звезд впереди по курсу и «покраснение» за кормой — и только. Но разве привыкли мы связывать чувственное восприятие допплерова эффекта с его сущностью? Вот и «стоим» на месте. Недвижимы. Вморожены в пространство. Чертов релятивизм… Одно указание на скорость могло бы быть: свечение распадающегося межзвездного водорода на обшивке. Но нет и его: скорость слишком велика. Энергия выплескивается вне жалкой октавы видимого света. А попадись нам на пути нечто помассивнее, чем атомарный водород? Вот прямо сейчас, сию минуту? Уклониться мы не сможем. Вероятно, лоцировать — тоже. Результат? Вспышка, о которой на Земле узнают через десяток дней. Вот такой вот «эффект Марсия»… Мрачное получается письмо? Вижу. Но поделать ничего не могу. Видимо, в дальнейшем будет светлее. И уж совсем хорошо станет на душе, когда безо всякой развертки увеличения сможем различить на экране нашу звезду. Звезду Каптейна. Но это будет ох как не скоро! …Очень часто у меня в памяти «Пер Гюнт», не словами — музыкой. И каждую ночь я вижу тебя во сне. А называю — Сольвейг… Крепко поцелуй Славку. И береги себя, родная. Кланяйся от всех троих «нашим»: Саше с Юлей и Коле с Галочкой. Прощай.
17 июня 63 года. Какое страшное и жестокое слово поставил ты в конце! «Прощай». Я даже не хочу начинать письмо с привычного обращения — так мне обидно. Как будто в русском языке мало формул для заключительного приветствия! Приветствия — имей в виду! — а не прощания. Неужели трудно было написать «До свидания!», или «До встречи», или там «Приветствую тебя!», если уж не самое простое: «Пока…» Впрочем, я на тебя не слишком сердита. Письмо твое действительно вышло мрачное, так что концовку — со скидкой на фатализм — можно считать вполне естественной. А насчет Сольвейг ты очень правильно написал, милый. Ты, к счастью, не Пер Гюнт, но я себя ощущаю именно Сольвейг. Больше того: ты не просто правильно написал, ты уловил тайные мои мысли. О, мой стремительный, фантастически стремительный «телепат»! Как ты считаешь, случайно ли я обратилась к тебе в первом письме — «милый, далекий»? А ведь это слова из песни Сольвейг: «Горенку к троице я убрала; жду тебя, милый, далекий, жду, как ждала…» Ладно, если я и в дальнейшем буду к тебе так же обращаться — «милый, далекий»? Не наскучит? А потом-то какие слова! «Труден твой путь одинокий — не торопись, отдохни, ждать тебя, друг мой далекий, буду я ночи и дни…» Чудесная песня!.. Вот не знаю, о чем тебе лучше писать. Чем делиться — радостями, горестями ли? Радости тебе нужнее, горести (ну, не горести — «нервности»), пожалуй, должны оставаться при мне. Однако вправе ли я скрывать от тебя то, что составляет хоть малую, но часть моей жизни? Не знаю… Поэтому напишу и о том, и о другом, но начну с радостей. Их у меня не так уж много. И главная — Славик. Он просто бредит тобой, любимый. Поверишь ли, ночью вскакивает с кровати и бросается к своей «трубе»: как-то там папа? Не случилось ли чего? Сам посуди: могу ли я в такие минуты сердиться на него? Ни в коем случае! Я тоже встаю и подхожу к телескопу. И терпеливо жду, когда освободится окуляр. А потом смотрю, и смотрю, и смотрю; где-то там в небе — крохотная звездочка, за которой… в которой… которая — ты! И пытаюсь представить себе невообразимый рев, вой, грохот плазмы (может, свист?), что сопровождает тебя в полете. И знаю ведь: нет ни грохота, ни свиста — тишина. И внутри, и тем более снаружи, — лишь кинжал ослепительного света за кормой. А все-таки: в ушах — грохот. Не может не быть грохота, говорит мне сознание. И по-своему оно право: земные мерки, земные представления. Куда от них денешься?.. А результаты у Славика, как я и предполагала, весьма посредственные. Седьмой семестр еле-еле вытянул. Но — что ты ни говори — не могу я ругать его. Вдруг он сейчас (хоть и мал еще, но все-таки?) выходит на свою дорогу? Может быть, следовало и одернуть, и воззвать к здравому смыслу, и наказать как-то, но вот ведь какая мысль приходит: а не сделаю ли я ошибки? Не закрою ли путь, которым только и приходят в большую науку — путь одержимости? Видел бы ты, что он сейчас читает! Я не говорю уж о трудах по высшей математике (тут и тензорная алгебра, и топология, и вероятностный анализ), по астрономии, — но ведь он обложился трактатами по высшей физике; Эйнштейн, Курбатов, Дюбуа… Вот и рассуди: как мне быть? С одной стороны, я в этом ни грана не понимаю, следовательно — «не суйся!», но с другой — что если он забьет голову непомерными знаниями? попросту свихнется? Ох, не знаю, не знаю… А тут еще моя раздражительность. Она и так во мне всегда сидела, не таилась, а здесь вовсе распоясалась. Видимо, главная причина — беременность, а может, и еще что… Вот взять, скажем, вчерашний день. Славик куда-то запропастился, мне надоело сидеть дома одной, вышла я на улицу и отправилась в наше кафе на углу — пообедать. И что бы ты думал? Входные фотоэлементы отказали, и дверь — ни туда, ни сюда. Разумеется, собралась толпа — многие ведь на обеденный перерыв отлучились — человек тридцать: недоумение, возгласы, ропот, кое-кто побежал к задней двери в обход квартала, кто-то звонить вздумал — ни малейшего результата. Полчаса мы так простояли, пока электронщики дверь не «вразумили». Ну, я и взорвалась. Накинулась на этих парней, хотя они-то, конечно, ни в чем не виноваты, повздорила с женщинами в «очереди» (слово-то какое дурацкое! — позавчерашнее): они пытались меня урезонить, вот им и досталось. Плюнула я на все и вернулась домой, не пообедав. Посидела минуты три-четыре, и так стыдно мне стало… Я просто ситуацию себе реально представила: стоит в толпе тетка «с пузом» и ругается — ну куда это годится? Вот какие со мной мелкие разности происходят, ты уж меня не вини. Надеюсь, как маленькая родится, все в норму придет. А до тех пор остаюсь твоей глупой, верной, неразумной, ждущей, раздражительной, веселой (все-таки!); тоскующей, гордой (несмотря ни на что!), пузатой — женушкой. Р.S. Очень прошу тебя: напиши особое письмо Славику. Он прямо-таки бешено ждет. Всеми силами любви моей, родной, всеми затаенными помыслами души — закликаю: вернись!!!
11 июля 63 года (по корабельному календарю) Исполать тебе, свет Васильевна! Не суди меня, грешного, за прошлое посланьице. Пребывал я в сумрачном расположении духа, понеже и сказание о жизни моей вышло невеселое. А коли на сердце осень, и серая непогода в мыслях, то и речам неоткуда взяться медоточивым, и слово «прощай» просится на язык, пусть даже не вложено в это слово никакого рокового смысла. Нынче все не так. Душа свободна от тоски и предчувствий, вера в благополучный исход затеянного укрепилась, потому слова льются вольно и прихотливо, а настроение спокойное, хотя нет к этому никаких особых знамений: все по-прежнему однообразно, и малозаметно течение дней, по-прежнему «стоим» мы в пространстве бескрайнем и о том, что несемся стремглав, порой не вспоминаем. Прозорливая истина была в твоих давнишних словах, любезная, — о цветнике. В свое время не взяли мы в разуменье неизъяснимую прелесть его, предоставили самовольному произрастанию, а теперь спохватились и рады ему, как четвертому собрату нашему. Дня не проходит, чтобы не оделяли мы его щедро своей заботой, и хотим дать ему большее пространство, дабы свежесть, благоухание, а также красота цветов новых, кои мы вознамерились здесь вывести, сопутствовали нам на всем долгом пути нашем. Содружество наше в путешествии прочное, предрасположений к распрям в заводе нет, разве только кто почувствует тоску великую и удручение, и пристанет ему оные депрессалии в виде небрежения на товарищах вымещать, тогда двое других объединяются и учиняют тому подъятие духа. К примеру, условлены у нас такие правила: разрешать приунывшему большую работу выполнять, чем потребно по распорядку; item: задавать ему курс какой-либо невелико пригодной дисциплины проштудировать, а впоследствии проверять, сколь надежно он тот курс усвоил; item: вменяем ему доскональный осмотр и контроль корабля нашего произвести, и беда, коли где какую малость не усмотрит, — не получит в ближайшее празднество известной порции кушаний деликатесных; item: полагаем ему врачебный надзор отправлять вне очередности — долг нудный, кропотливый, но гораздо обязательный, и прочее, и прочее. Благодаря сему кодексу, «телемская обитель» наша пребывает в здравии, покое и разумной веселости, и не видим мы повода к тому, чтобы столь благое круговращение жизни нашей чем-либо и почему-либо нарушить. Как из вещей поучительных в запасе у меня ничего более не осталось, а посланий, помимо этого, набралось уже великое множество и кибитка ямщика, именуемая по нынешним временам «гамма-пакетом», готова пуститься в путь, то депешу сию короткую, красивым штилем написанную, я заканчиваю. И про… Нет, не прощаюсь. Вовсе не будет «формулы заключительного приветствия». Вместо нее — одно слово: ЛЮБЛЮ!
11 июля 63 года (по корабельному календарю) Сергей шлет привет Ярославу! Земная жизнь споспешествует сдержанности и краткости мыслей, великий космос — витиеватости и велеречивости. Забот у нас много и мало одновременно, и главная среди них — чтобы на всякий час и день пути было занятие. Корабль наш уверенно держит путь вперед, и все явные и тайные знаки сулят нам благополучное плавание, труды же наши, с походом связанные, хотя и обязательны, но незначительны, ибо ветры нам благоприятствуют… Как ты думаешь, Слава, кто мог так написать? Подобным стилем писали письма древние. Ты спросишь: зачем это в нашей переписке? Сейчас поясню. В старинной прозе — например, античной — можно отыскать много чего любопытного. Да-да, и не только взрослому, а человеку любого возраста. Сейчас древняя литература не в особенном ходу, тем паче среди мальчишек, а это очень жалко. Полагаю, ты и до мифов-то Древней Греции еще как следует не добрался, не говоря уже о поздней античной повести. Мой тебе совет: пора. И не делай скидку на возраст: «рано», мол. Если сможешь понять хоть половину и если не наскучит сразу, — значит, не рано. И имей в виду: оглянуться не успеешь, как будет «поздно». Объяснять тебе смысл этих слов не буду: разберешься сам. Ты уже достаточно смышлен, во всяком случае, я в твою разумность верю. Что же касается тензоров и топологии (как видишь, это мне известно, и тебя не должно удивлять — откуда), а также прочих «премудрых» вещей, которыми ты сейчас увлечен, то могу сказать следующее. Я не поражен твоими способностями, а скорее — насторожен. Видишь ли, понять высшую математику и усвоить азы высшей физики — не сложно. Для этого достаточно обладать — в той или иной степени — известной отвлеченностью мышления. Больше того, в молодые — даже юные — годы восприимчивость к абстракциям весьма высока. Здесь важно понять следующее: переход к практическим обобщениям и конструктивным построениям, скачок от простого восприятия символов к автоматизму в овладении математическим аппаратом, взятие барьеров между ученичеством и гипотезой, с одной стороны, и между гипотезой и созданием теории Нового — с другой, — все это осуществится для тебя отнюдь не скоро. А ведь дистанция между горячим, хотя и трудолюбивым, мечтательным, хотя и жаждущим новичком и истинным ученым столь велика, что не у всех, ох как не у всех, достает воли дойти до финиша. Одно из свойств этой дистанции — на всем протяжении ее раскиданы крупицы опыта, и труд как раз не в том, чтобы одолеть расстояние в кратчайший срок, а в том, чтобы собрать крупицы все до единой, не жалея сил и времени. Какого опыта? — ты, наверное, спросишь. Отвечу: любого. Научного, который состоит, в основном, из неудач. ОБЩЕобразовательного. Жизненного. (Не все это, к сожалению, понимают). Как ты знаешь, гениев в пять, десять и даже пятнадцать лет не бывает. В этом возрасте бывают вундеркинды, но залогом их будущего успеха являются не способности, а характер. Кто-то из великих людей прошлого сказал: «Гений есть терпение в высочайшей степени». Запомни это: терпение. Теперь ты, наверное, поймешь, почему я начал с античности. В твоем возрасте нужно очень много читать. Не обязательно Эйнштейна, Курбатова и Дюбуа — читать вообще. Именно из мириад крупиц-книг рождается база любого научного знания: знание человеческое. Вот ты получил мое письмо. Я получил твои и буду получать дальше. И ты знаешь, с какой скоростью летят эти послания — со скоростью света. Знаешь, как они летят — пучком гамма-лучей. Но ведь книги — те же письма. Только движутся они со «скоростью истории» и летят «пучком мысли». Как свет от звезды Каптейна, который доходит до тебя почти за тринадцать лет, как свет от прочих звезд, так и свет от великих книг достигает тебя и через тринадцать, и через сто, и через тысячи лет после того, как их написали. Какие великие — и великолепные! — пространства открываются перед тобой в книгах. Что по сравнению с ними время, разделяющее нас ныне! Смело путешествуй по космическим просторам человеческих мыслей и чувств. Это же чудо из чудес: открыл том Хемингуэя — шагнул за сто лет, прочитал том Толстого — двухсот лет как не бывало. Удвоим интервал — и вот перед тобой Мольер и любимый еще с дошколярства Дефо. Шекспир и Сервантес — пятьсот лет исчезли без следа, величественный Данте — восемьсот, шагни в царство «Тысячи и одной ночи» — тысячелетие ужимается до мига, из двухтысячелетней дали тебе пишет Плутарх и шлет послания «Хион из Гераклеи» (кстати, знаешь ли ты, что это первый в истории роман в письмах? И какой роман!), из четырехтысячелетней — доносится голос Гильгамеша. Читай, мой мальчик, и да будешь ты осиян прекрасным звездным светом книг! Напоследок хочу сказать одно: береги маму. Будь ей опорой и стань хорошим братом сестренке. Сейчас ты — и долго еще останешься — Главный Мужчина в семье. Помни об этом, учись воле, терпению и мужеству, и тогда Час Науки пробьет сам собой. Будь здоров!
22 августа 63 года. Здравствуй, мой милый, далекий! Сразу же спешу сообщить тебе о большой-большой радости. Новость эта, в сущности, не будет для тебя новостью: все давно рассчитано. Но тем не менее: у тебя дочка! У нас дочка, наша долгожданная маленькая Машенька. Мне особенно приятно, что известие это ты получишь к своему дню рождения. Ведь никакого другого подарка я тебе сделать не могу, вот и решим: письмо с телефото — подарок для тебя, дочурка — для меня: ты же ее так долго не увидишь въяве! Ты, наверное, хочешь знать все подробности? Они просты. Дочурке уже больше месяца (как мы ни противимся, а не в наших силах сладить со временем и расстоянием: мне очень хотелось прямо в тот же день, 20 июля, «отбить» тебе «телеграмму», но кто же позволит такой расход энергии в «неурочный» час?! Пришлось ждать обычного обменного сеанса), она, как водится, здорова, весит четыре сто, и рост немаленький — пятьдесят пять. Походит… скорее всего, на тебя. Ты же знаешь, я никогда не умела определять сходство, всем этим разговорам — «глазки в папу, ротик в маму» — не верю, но я каждый день вглядываюсь в Машеньку и, видимо, потому что хочу этого, отыскиваю в ней все новые и новые твои черты. Только, ради всего святого, пусть никогда не будет звездолетчицей! Не женское это дело. Да и не мужское, впрочем, тоже… Это я так, к слову… Когда я вернулась из роддома… Нет, не так. Даже когда рожала, меня почему-то не покидало какое-то угнетенное настроение. Я долго не могла понять, в чем дело: вроде бы, счастливое событие, желанный миг, и вдруг — новые выкрутасы психики. А потом разобралась и теперь не знаю, что делать: смеяться над собой или грустить над всеми матерями. Такое со мной — в первый раз. Ведь когда рождался Славик, подобных мыслей и в помине не было. Соображения же мои вот какие: не годится это, чтобы при родах мы боли не чувствовали. Как-то противоестественно это. Чуть схватки начнутся — сразу же инъекция, и — все… Такое ощущение, будто бы объелась сверх меры, не больше, честное слово! А уж самих родов и вовсе не чувствуешь: цветные сны, музыка… Не знаю, как другие, а мне было противно. Должна женщина боль чувствовать, должна, хотя бы там мильон профессоров о гуманности рассуждать принялись! Я не говорю о предупредительной роли боли, об обратной связи и прочем — в медицине я не сильна. Чисто по-женски думаю: роды — это муки, это материнская память на всю жизнь, это связь с ребенком и через страдание тоже. Такая уж наша «бабья» доля, и ничего не поделаешь, и делать никому ничего не нужно: нельзя лишать человека — человеческого, женщину — женского. И потом: малышке-то разве не больно на свет появляться? Разве не мучается она, выдираясь из тела материнского в холодный и ослепительный мир? Ее ведь не обезболишь, укольчик ей не сделаешь, почему тогда я должна оказываться в лучшем положении, я — мать?!! Игра не на равных. Ах, какие-то нездоровые у меня мысли, какая-то не такая я, как раньше. Тебя нет — в этом причина. Ты все дальше, дальше, дальше… А знаешь, Славик-то, оказывается, ревнивый! Никогда бы не подумала, что мальчишке в девять лет свойственны столь сильные «взрослые» эмоции. Поверишь ли, в первые дни, как я вернулась, — ни за что не хотел к кроватке подходить! Даже в детскую не заглядывал, даже на личико посмотреть отказывался: не хочу, мол, и все, не нужна мне она, можешь обратно отнести а свой роддом, там с ней и сиди. Представляешь?! Разумеется, я все понимаю: он чувствовал себя твоей полноправной заменой, жаждал нераздельного внимания, любви и заботы, считал годы до совершеннолетия, когда семья на него целиком ляжет, а тут — на тебе: новый человек (к тому же девчонка!), мама все время с ней, дом полон крика, суеты, «слюнявых» (его словечко) хлопот и прочее, и прочее… Словом, я понимаю его, но все равно обидно! Однако «воспитательная работа» моя хоть малым успехом, но увенчалась! Вдолбила-таки я Славке мысль, что у него — крохотная, слабенькая сестренка, что ей нужен защитник — снисходительный, но надежный опекун, старший брат. По-моему, его проняло. Теперь он и укачивает ее иногда, и гуляет с ней время от времени, но на меня все-таки дуется, бывает сердит без причины, нервозен. Кстати, к телескопу-то своему он все реже и реже подходит! Нет, не потому, что начал тебя забывать, скорее всего, твое последнее письмо на него очень сильно подействовало. Я, правда, не знаю, что ты ему написал — он не показывал, а я, разумеется, не подглядывала, — но что-то «внушительное»: впервые в жизни Славик по-настоящему заинтересовался нашей библиотекой, читает, читает, читает дни и ночи напролет. Я тут на днях заглянула ему через плечо, когда он около маленькой сидел, — и тихонько так ахнула. Чем бы, ты думаешь, он увлекся? «Энеидой», ни больше, ни меньше! Словом, не знаю, что и делать: то физика с математикой, то классическая литература. Как его от крайностей уберечь — ума не приложу. А может, не надо уберегать, может, сам во всем разберется? Знаешь, чем я занималась в роддоме, в предродовом отделении? Смотрела ночами в окно и все пыталась твою звезду отыскать. Представляешь, какое сумасшествие! И знаю ведь, что она на нашем небе не бывает, а если бы и оказалась я на экваторе или в Южном полушарии, — все равно толку бы мало было: не видна она, не хватает зрения, мала величина. И все равно звезды разглядывала! Я по очереди — ночи-то для меня длинные были — каждуюискорку звездой Каптейна представляла и прямо-таки видела — видела! — как ты к ней несешься… Что бы ты ни подумал, а осенью я обязательно на юг соберусь. В южных широтах, зимой, она бывает видна, я точно знаю. Приду в какую-нибудь обсерваторию (мне-то разрешат!), отыщу Живописца и уж разгляжу твою звездочку «во всех деталях». И Славика с собой возьму (идея-то, если честно признаться, — его!). Ну, хватит, хватит, хватит) Разболталась я — сверх всякой меры. Пора и честь знать. До следующих писем, любимый. До следующего, очень не скорого нашего «разговора». Обнимаю и целую тебя тысячу раз! Володю и Андрея — по разу (если считают такое решение несправедливым — пусть напишут мне особо).
3 ноября 63 года (по корабельному календарю) Да, это действительно подарок! И еще какой!!! Мы даже не стали ждать моего дня рождения, а перенесли его на день получения письма. И закатили пир горой! И забросили к черту все наши текущие и нетекущие дела и сутки бездельничали. Каково?! Вот так! А Володька, войдя в раж, во всю стену нашей «залы» намалевал краской: «Машеньке — виват!» И мы веселились и распевали песни так, что наш «Гонец» трясся от носового излучателя до реактора и, по всей видимости, сошел с курса. Пусть там Центр смотрит в оба! (Перечитал написанное и понял, что я малость повредился рассудком от восторга: даже не поприветствовал тебя, любимая. Поэтому прости и — Здравствуй!) Ну, что тебе еще сказать по счастливому поводу? Наш корабельный совет обсудил ситуацию и вынес решение: если первая обнаруженная планета системы Каптейна будет называться Славией (вердикт вынесен давно), то вторая — Марией. И точка!!! Береги маленькую, не спускай с нее глаз и целуй за меня ежечасно. Надеюсь со следующим сеансом получить ее «взрослое» телефото. Да, именно так: она будет уже совсем большой — семь с половиной месяцев. Дьявольское пространство и дьявольская скорость света!.. Не успеешь оглянуться, как дочка уже выросла, а ты ее еще ни разу не обнял, а вернешься — страшно подумать, сколько ей будет лет. Но — молчу… Получил от Славика хорошее письмо. Вроде бы образумил я его. И теперь сомневаюсь — надо ли было? Он пишет: «прав ты, папа. Наверное, прав. В общем, Серьезная Физика на время отложена». Уж не знаю, хорошо ли, что «отложена»? К счастью, слова «на время» подчеркнуты, и угрызения совести меня мучают не свирепо. А ведь, судя по некоторым идеям (в его-то годы!), физиком он будет. Сомнения мои я постараюсь ему не выдать, но тебя попрошу: будь крайне внимательна к его занятиям наукой. Я совсем не пишу тебе о нашем житье-бытье. Это и понятно: интересного давно уже мало. Зато вот о психике — моей и ребят — можно кое-что рассказать. Я намеренно не писал тебе о нездоровых снах, что мучили нас первое время. Видения те были малоинтересными, но одновременно тревожными и симптоматическими: указывали на изъян в психозащите. А ныне о тех же снах вспоминаю с тоской: то были цветочки. Ягодки же… Это уже не изъян, а чуть ли не провал всей методики нашей подготовки. Провал, к счастью, «ремонтабельный». Словом, ягодки следующие. Я. Стоял недели две назад на вахте, и вздумалось мне ни с того ни с сего включить видимость СМИ — стеклометаллического иллюминатора. (До сих пор не знаю, какому дураку понадобилось встроить в носовую обшивку эту стекляшку. Будто мало нам телеэкранов внешнего обзора!) Включил — и понял: сошел с ума. Баста! Отлетался! Через СМИ на меня с той стороны человек смотрит. Самый натуральный человек. Из межпространства. Без скафандра. Вид — донельзя дикий: волосы разметались, взгляд — горящий, рот оскален, так и шныряет глазами, и губами шевелит. Подобной рожи в жизни не встречал, это уж точно! Что делать прикажете? В обморок падать? Ну нет, до этого еще не дошло, думаю (хотя и трясусь); на всякий случай поднял тревогу. Ребята вмиг прибежали: Андрей из постели выметнулся, Володя со «считалочкой» в руках ворвался. Смотрят на меня, как на идиота, я — на них и на СМИ. Там, сама понимаешь, — никого. Я бормочу что-то покаянно и только чувствую, струйка по подбородку бежит, теплая и липкая. Это я себе губу прокусил… Владимир. В библиотеке паука обнаружил. Слыханное ли дело: на «Гонце» — паук? Так сказать, самозародился. Водил нас Володя паука показывать. Тычет пальцем, сигнальную нить дергает, чтобы показать, какой шустрый паучок попался. Мы же с Андреем, хоть убей, ничего не видим. А Володька сердится. Стали думать, кто псих — он или мы? Наконец, я решился на эксперимент: махнул рукой по тому месту, где «паутина» была. Владимир взвился, чуть мне по зубам не влепил, вдруг смотрим — улыбается. «Ишь ты, — говорит, — а ему-то хоть бы что. И паутинка целехонька, и паучок жив-здоров». Андрей. Две недели ничего не ел. А нам объяснял так: «Я, братцы, открытие сделал. Музыка, оказывается, питательна! Вот слушаю ее и чувствую, что сыт. Причем разные инструменты разным вкусом обладают, но оргáн лучше всего». Мы с Володей руками развели. А Андрей сидит в кресле, слушает Генделя, блаженствует, и только кадык у него ходит — слюну сглатывает. Я Володе подмигнул, тот сразу все понял и незаметно октафон обесточил. Поверишь ли, никакого результата! У Андрея все та же райская улыбка на губах и по-прежнему рукой в такт помахивает… Вот такие у нас, Светланка, пироги, как мы в детстве говорили. И все же причин к беспокойству, на мой взгляд, нет. Это я для пущего эффекта все три случая вместе собрал. На самом деле они были в разное время, и в конечном итоге мозги мы себе вправили. (Не дай бог, обо всем в Центре узнают — ведь прекратят полет, с них станется! Такие случаи предусмотрены программой: посылается импульс на усыпление, и корабль автоматически ложится на обратный курс. Я бы тебе ни слова не написал, если бы не гарантированная великая «тайна переписки».) Физиономия «в окошке» больше не появляется, «паучок» тоже растворился без следа, а Андрей, как и прежде, заказывает на обед монументальные эрзац-бифштексы с кровью и с великой любовью их поглощает, музыку же слушает без гастрономического вожделения. Иначе — выкрутились. Но что дальше подкорка выкинет, честно говоря, не представляю, да и представлять не хочется… Ну-ну, успокойся. Все будет хорошо. Звезда Каптейна по-прежнему манит нас и тащит к себе с неизменной скоростью в 150000 (округленно) километров в секунду. Мы не против; пусть «тащит» и дальше. Щелкни по носу Славку, крепко поцелуй Машеньку и шепни ей на ушко, что о ней ни на секунду не перестает думать далекий, пропахший мезонами и нейтрино, любящий — папа.
7 марта 64 года. Сереженька, милый, как же ты меня напугал! Разве так можно, несчастный мой? Я теперь долгие-долгие ночи не смогу спать. А если засну — обязательно приснится та самая «рожа». Тьфу, напасть! Все-таки очень хорошо, что вас там трое. Конечно, я верю тебе, что рассудки ваши вошли в норму, и всей душой уповаю на то, что подобное не повторится. Ибо результат может быть только один; если ты там лишишься разума, в беспредельной и страшной пустыне, то я здесь — в пустыне моей — и подавно. Нет, соврала… Не лишусь… Уберегут меня Славик и Машенька (нас ведь тоже трое здесь) — своими глазенками светлыми уберегут, будущим своим, болезнями прошлыми, счастьем ожидаемым, беспомощностью нынешней. А вот кто ТЕБЯ спасет, любимый? Ни от кого помощи не жду, только на себя надеюсь. Любовь моя да охранит тебя, Сереженька! Верю… А помнишь, как мы встретились? Не забыл еще? Да-да, на светомузыке. Я до сих пор помню, что давали тогда — Гершвина, это точно. А мы с тобой не дослушали и ушли, верно? И гуляли до рассвета. И никакого «Гонца» еще и в помине не было, а если кто его и разрабатывал, то мы с тобой об этом ведать не ведали. Могли ли мы тогда предположить, что всего через двенадцать лет расстанемся — и на какой срок?! А свадьба?! Что за прелесть была наша свадьба! Я ведь так и не знаю, каким образом ты раздобыл тогда орхидеи. А свадебное путешествие на Курилы? Как давно все это было! Ты знаешь, я снова стала ходить на светомузыку. Не очень часто, конечно, но раз в месяц мы со Славиком выбираемся. И потому, что тот день все чаще вспоминаю, и из-за Славика тоже. Ему уже пора в искусстве разбираться. Машенька растет, как на дрожжах. Если поставить ее в манеже, то ухватится ручонками за перекладину и стоит долго-долго. Наверное, скоро пойдет. И здесь у нее главный учитель — Славик. Он взял над ней, как он выражается, «шефство» и обещал к девяти месяцам «поставить на ноги». Я смотрю, как они возятся, и мне очень радостно, и даже на время забываю о тревогах, а боль разлуки чуть-чуть да смягчается. Машенька почти совсем не плачет и очень любит улыбаться. А первые слова, которые она произнесла, какие, как ты думаешь? «Папа» и «мама»! Твоя фотография висит на стене как раз над ее манежем, и ей нравится подолгу тебя разглядывать. Целуем нашего папу по очереди и все разом — Светлана, Славик, Машенька. Р.S. На днях возвращается из экспедиции твоя мама, и переезжает к нам мой прадед. Надеюсь, будет полегче. Р.Р.S. А ведь скоро год, как ты улетел. Ужас! Но время все-таки бежит… Р.Р.Р.S. Только сейчас обратила внимание на даты. Снова парадокс всплыл, откуда ни возьмись. Этот импульс придет к тебе, как и прошлый, 28 ноября, если отсчитывать по земному времени, чего вы, конечно, не делаете. Ну что ж, следовательно, сегодня у тебя 9 октября, и до дня рождения чуть меньше месяца. Одновременно задним числом и загодя поздравляю!!!
10 октября 64 года (по корабельному календарю) Милая моя Светушка! Получил целую пачку твоих писем и обалдел от радости. Как все же редки стали эти сеансы связи! А ведь дальше — хуже: придется ждать годы. С ума сойти!.. За поздравление — спасибо. И за фотографию дочурки нашей — огромное спасибо. И за «первые слова» Машеньки — тысяча тысяч спасибо. Надо быть здесь, чтобы понять, что это такое — простое слово «папа», произносимое крохотным существом при виде «дядьки на стене»! А для детей Машеньки, когда она вырастет и выйдет замуж, этот «дядька» будет уже «дедом». И она сама станет бабушкой, когда «отец-дед-прадед» наконец сойдет со стены — вернется на Землю. Его окружат дети его детей, большие и маленькие потомки, будут с интересом дергать за седую бороду, в он усадит на колено самого маленького и, еще плохо разбираясь, кто ему кем приходится, начнет рассказывать небывалые звездные истории. Словом, «Возвращение блудного патриарха»… Не думай, будто я иронизирую. Твои письма приносят мне сумасшедшую радость, но и бередят душу горьким дыханием разлуки… Светомузыка… Разумеется, я отлично помню тот вечер, и Гершвина, и Концертный зал имени Чайковского, и тебя — в золотистом свитере. И знаешь, что мне пришло в голову? Не заняться ли нам светомузыкой здесь — на «Гонце»? Ведь мы — «самые великие бездельники» в истории. Андрей неплохо музицирует, вот пусть и сочинит что-нибудь гениальное, а уж светотехнику мы ему организуем. Ведь такая работа — надолго, и это хорошо. Сочинение мы посвятим, конечно же, нашему талантливому вдохновителю Светлане Васильевне, коей весь экипаж передает нижайший поклон. В этом письме, пожалуй, можно написать кое-что о наших былых страхах, которые, к счастью, не оправдались. Раньше я об этом ни разу не упоминал, да и правильно: необходимо было проверить, выяснить все досконально и не тревожить попусту близких на Земле. Теперь все вроде бы позади. Я имею в виду клаустрофобию. Именно ее мы и опасались. Видишь ли, различные эксперименты проводились неоднократно и на Земле, но там никто никогда не мог устранить момент «временности», или, если хочешь, «элемент моментности». Ситуация носит разные названия, но смысл один: любой из «подопытных» в каждый данный период времени уверен: случись что с его механизмом восприятия пространства, — тяжелая дверь моментально отодвинется в сторону, и эксперимент будет прекращен. Потому и все опыты проходили более или менее успешно: вера в преходящесть «клаустро» предупреждала «поломку» психики. Больше того, вспомни: опасности, подобной нашей, не было и при межпланетных полетах. Эксперимент, будучи вынесен в космос, изжил сам себя. Ни одно путешествие человека внутри Солнечной системы не длилось еще больше года. Росли расстояния, но росли и скорости. Наш «Гонец» потратил бы на прыжок к Плутону — учитывая разгон и торможение — сутки. Самые медлительные из нынешних кораблей — транспорты — достигают окраин Солнечной системы в считанные месяцы. Какая уж там клаустрофобия, это слово уже забывается. И вот — мы. Мчимся по Вселенной почти полтора года, а замкнутое пространство не напоминает о себе ни в малой степени. Учтем: подготовка — раз, индивидуальные особенности, предопределившие Выбор, — два, психозащита (не раз, впрочем, уже нас подводившая, но тем не менее) — три. И все-таки опасность была, мы знали о ней и искали способы, чтобы встретиться с врагом во всеоружии. Оказалось — напрасно. Мы торжествуем — ура! — и верим, что ни два, ни три, ни двадцать лет нас не сломят! (Тьфу, тьфу, тьфу, чтоб не сглазить!) Так уж получается, что в каждом письме я рассказываю тебе о психике. Это, наверное, скучно, но что поделаешь: она — предмет наших постоянных бед, от нее одной зависит успех нашего «предприятия», она устанавливает «законы игры», мы же только подчиняемся, она — сеньор, мы — вассалы. И всем звездопроходцам, что пойдут по нашим следам, я скажу: будьте в ладу с душой или оставьте звезды в покое. Будьте жизнелюбивы, но без излишней жизнерадостности: от чрезмерного оптимизма до уныния — один шаг. Будьте рассудочны, но без рефлексии: самокопание открывает такие тайники души, что лучше всю жизнь вглядываться в бездны космоса, чем хоть мгновение — туда. Будьте уверены в себе, но надейтесь на друзей: один среди звезд — человек обреченный. И еще: любите космос. Нам, первым, здесь трудно. Нас никто не учил любить пустоту, мы полагали: любить можно ЧТО-ТО. Нам с детства вдалбливали мысль о недостижимости звезд, — мы их достигнем, но пересилить вдолбленное было не просто. Нас толкнула в космос не тяга в космос, а желание выйти за пределы — это разные вещи. Да не изведать вам, будущим, жадной космической тоски. Нам от нее уже не избавиться, и мы только дивимся ее эластичности: невидимой нитью привязывает она нас к Земле, и чем мы дальше, тем только крепче она, хотя и растягивается, растягивается… Эти слова — прежде всего тебе, милая моя, далекая Светланка. «Будущие звездоплаватели» — жалкая риторика. Те, кому мой опыт необходим, узнают об опасностях космоса в свой час, ты одна — в МОЙ! В каком-то из писем я писал тебе, что веду дневник. Вот там все по-другому! Он-то как раз для Центра, «для публики», для жаждущих героики. Там я — «такой, как надо»: мужественный Капитан Первого Звездного, уверенный в себе и экипаже, отринувший все земное, готовый к любому риску и любой опасности, с железными нервами, дисциплинированный и требующий дисциплины, в меру самонадеянный, хитроумный, даже не очень разборчивый в средствах и, кстати, без особого воображения. Нравлюсь я тебе таким? Думаю, что нет. Себе, впрочем, тоже. Но, как поддержал меня Володя, вывесив очередной плакат над моим рабочим столом, — «Создание мифов — дело рук самих Одиссеев!» Так что, даже если дневники эти попадут на Землю до моего возвращения, прошу тебя: не читай! Просто помни: твой муж остался таким, каким был на Земле. Он скучал по дождю и яркому солнцу, воображал шум деревьев и грохот прибоя, «смотрел» на Луну и «разглядывал» былинки, «вдыхал» ароматы цветов и «терял сознание» от лесного озона, «слушал» птиц и «внимал» журчанию ручьев, «подставлял лицо» морским брызгам и «обжигался» ветром пустыни. Кстати, все это — почти все — воспроизводимо в нашей голотеке, но… ты, конечно, удивишься: мы давно ее крепко-накрепко заперли и не открываем. Суррогаты непереносимы! Пусть об этом тоже знают «будущие звездоплаватели», среди которых, надеюсь, никогда не окажутся ни Славик, ни Машенька. С тем и расстается с вами теперь уже на три года ваш любящий — С.
22 октября 65 года. Здравствуй, мой милый, далекий! Когда-то — давным-давно! — я обещала начинать этими словами каждое письмо к тебе. И — увы — обещания не выполнила. Начинала письма по-разному. В сущности, греха в этом большого нет, но, видимо, не надо было обещать… Два с половиной года… Даже чуточку больше… Нет, ты был не прав, говоря, что отмеривать прошедшее время и считать годы до встречи — занятие пустое и бессмысленное. Я, например, только этим и живу, и мне даже легче. Я могла бы сказать — «прошло всего-навсего два с половиной года». Но вместо этого я с удовлетворением отмечаю, кричу даже: УЖЕ два с половиной года. Это ли не радость? День прожит — прекрасно! Значит, еще на день мы ближе (хотя — ох! — на самом деле почти на тринадцать миллиардов километров дальше… Это я только что подсчитала, чтобы немного отрезвиться…). Вижу перед собой твое письмо… Твои слова о клаустрофобии… Очень хорошо, просто здорово, что вы — все трое — не боитесь ее. Преодолели. Но… веришь ли, любимый, клаустрофобией заразилась… я. Да-да) Мне порой бывает так тяжело, так душно, так СТРАШНО в стенах дома, так одолевают в одиночестве мысли о тебе, что я готова забросить все дела и бежать куда угодно. Пойми меня правильно: Славик в школе, Машенька спит, очередного сеанса связи ждать месяц, или два, или полгода, твоя мама снова в экспедиции (кстати, пока жила у нас, очень помогала мне с Машенькой), прадед мой — совсем старенький: подолгу сидит у проигрывателя и вспоминает детство — слушает «Битлз» или еще что-нибудь, а я… а у меня все из рук валится. Раз пять уже это чувство накатывало: вызывала к нашей «буньке» няню и убегала из дома. Бродила по улицам, шла в парк, или в кафе, или в кино, или в светоконцертный зал, не досиживала до конца, снова шлялась по улицам, заходила к знакомым, там — злилась по пустякам, на меня все дивились, кто утешал, думая: хандра обуяла, кто пытался развлечь, полагая: скучаю без дела, — и я бросалась к выходу, и снова — улицы, улицы, улицы… Не казнись, милый, не сокрушайся и постарайся… не понять, нет… ощутить: это не хандра и не скука, и не тоска, и не уныние. Это какое-то особое состояние, которому и названия еще не придумали и не придумают никогда. Это — вернусь к начальной строке письма — песня Сольвейг, которую невозможно пропеть вслух. Это — слитые во мне женщины разных эпох, ожидающие любимых: безвестные жены моряков парусных судов и водителей первых межпланетных кораблей, и Изольда, и Пенелопа, и Гретхен, и — помнишь? — та безымянная «мама» у Бредбери, которая возненавидела солнце… Весь мир любви и разлуки наполняет мое сердце, и нет более гамма-связи между нами, есть связь моего ожидания и удаляющегося твоего возвращения. А во время последнего «бегства от клаустрофобии» произошло вот что. Я навестила свою давнишнюю подругу Леночку, у которой не была уже, наверное, лет сто. Мужа ее, Николая, ты должен помнить — такой полный, лысоватый (сейчас уже совершенно лысый), смешливый человек. По профессии он этнограф. Часто выезжает в экспедиции, а когда возвращается — привозит мессу всяких баек. Балагур и весельчак. Слушать его можно часами. Вот мы и слушали. И смеялись от души. И слушали музыку и пили вино. По правде, я совсем потеряла счет времени. Верно говорят: когда много смеешься — к слезам. В какой-то момент мне вдруг разом все надоело, шутки потеряли соль, стало горько и непонятно отчего противно. Я расплакалась и стала собираться домой. Леночка с Колей опешили, начали успокаивать меня, дали выпить чего-то «сердечного». А я посмотрела на часы, перепугалась — вечер уже! — тут и вовсе истерика началась. Выбежала из квартиры и опрометью понеслась к себе. Дома Славик: волнуется, ждет меня, места себе не находит. Я-то ведь, дуреха, браслет телевокса дома забыла, а предупредить сынулю из головы выскочило. Короче, рассердился он. Хотел меня хорошими отметками порадовать, а мне вроде бы и не до него. (Отметки у Славика в последнее время действительно прекрасные, и вообще он стал каким-то собранным, серьезным, на улице кто увидит — ни за что 12 лет не даст, выглядит — на все 16.) Хороший урок он мне в тот день преподал. Я вхожу в дом, а сын-то, оказывается, няню отпустил, обед сам заказал, прибрался — и сидит с Машенькой, играют они. На меня — демонстративно — ноль внимания. А разговаривают они друг с дружкой — просто прелесть. Он ей что-то серьезное втолковывает, что-то там: мол, плакать нельзя, это только плохие девочки плачут, а хорошие — никогда, даже если им больно, они назло всем улыбаются, ни за что не покажут, что у них неприятность, а потом, когда все отвернутся, можно наклониться к «мистеру О'Фланнегану» (это у нас слон такой есть поролаксовый — большой-пребольшой) и с ним пошептаться, он все поймет, пожалеет, и боль тогда отпустит. А эта глупышка устроилась возле брата, глазенки блестят, щеки в разводах, на ножке — ссадина (верно, бегала и налетела на что-то), но мордаха уже счастливая, рот до ушей. Гляжу я на эту сцену, и такая боль сладкая в сердце, так щемяще-радостно — я опять разревелась… Стою — ничего с собой поделать не могу: слезы так и бегут. А эти двое подскочили: «Мамочка, ну что ты? Мамочка, ну не плачь! Ну, кто тебя обидел? Мамочка, ты у нас хорошая, мы тебя ждем-ждем, а ты плачешь, ну пожалуйста, мамочка!» А у Машутки тут же лицо скривилось, вот-вот мы с ней дуэтом зальемся, но она себя пересилила, щеки надула и — вовсе неожиданное: «Мамочка, я бойсе так не бу-уду-у…» Глупая, глупая «бунька»! Готова на себя какую-то несуществующую вину взять, лишь бы я не плакала. Вот так мы и живем; твой «верноподданный» Славик, твоя «заочно-без-ума-любящая» Машенька и твоя истеричная женушка. Я даже не винюсь перед тобой: просто у меня такой сейчас период — глаза на мокром месте. Это пройдет. Вот видишь — здесь слезинка, я ее даже обвела, и нисколечко не стыдно. Целуем, целуем, целуем, целуем, целуем, целуем, целуем… Светлана, Славик, Машенька.
4 августа 67 года (по корабельному календарю) Обнимаю и целую тебя, далекая любовь моя! Подумать только, почти три года пролетело со времени прошлого сеанса! А если точнее — два года девять месяцев двадцать двое суток четырнадцать часов пятьдесят три минуты корабельного времени я ждал этого сигнала («считалочка» не соврет!). И дождался. И какой роскошный импульс — сразу двадцать писем от тебя, четыре от Славика и листочек каракулей от Машеньки — «буньки», как ты говоришь. Естественно, сразу же бросился читать. Что-то развеселило, что-то удручило, но в целом — впечатление хорошее, нет — счастливое, вот верное слово. Ты пишешь чудные письма, милая, и по-прежнему любишь меня, хотя твой «моряк-капитан-Тристан-Одиссей-и-так-далее» этого не заслуживает. Конечно, я не могу сказать, что твое письмо, где ты говоришь о клаустрофобии, мне понравилось. Но тем не менее относиться к нему серьезно я не считаю нужным: оно — единственное такого рода из всей пачки, стало быть, — случайное. Ведь все остальные — прекрасные, жизнерадостные письма, кусочки твоей жизни, которым я и завидую немного, и которыми горжусь. (Самое лучшее, по-моему, то, где ты описываешь своих коллег из нового института и где длинный-предлинный список смешных Машенькиных фраз и словечек.) А клаустрофобия… Я, разумеется, понимаю тебя, но ведь это временное, преходящее, настроенческое. Подобного рода срывы неизбежны здесь, у нас на «Гонце», в нашей скорлупе, но ведь вокруг тебя — прекрасный солнечный мир, Москва, Земля, целая вселенная добрых друзей (о которых ты, кстати, почти ничего не пишешь) и старых привязанностей. Если ты — «в пустыне» (честно скажу, жутко становится мне, когда встречаю у тебя эти слова), то что говорить о нас? В общем, давай условимся: мы здесь боремся с пустотой, борись и ты, тебе легче. Ты, наверное, часто бываешь в нашем старом-прекрасном Лефортовском парке? Вот видишь — ты в выгодном положении. Мне этого не дано. И даже в корабельной видеотеке подходящих документальных записей нет. А побывать там, очутиться хоть на часок (как и вообще — НА ЗЕМЛЕ!) — очень тянет. Посидеть — с тобой! — на берегу пруда. Прогуляться возле Петровской беседки. Постоять у Космического Обелиска. И этот восхитительный «садик тюльпанов» у входа. И лотосы в дальнем пруду!.. Ах, да что говорить… Почти в каждом твоем письме — полушутливый вопрос; что у нас новенького? Вопрос, который нужен скорее нам, чем тебе: ответ-то ты всегда можешь предугадать. Но если мы отнесемся к этим словам не полушутливо, а полусерьезно и попытаемся задуматься, что же у нас на самом деле «новенького», то окажется… много! По крайней мере, последние годы время наше было заполнено до предела, и «убивать» оное нам не приходилось. В двух словах: много учились и много читали. Андрей, помимо занятий, работал над светомузыкой. Володя писал чудесные рассказы и подступил к «толстому» (по его словам) историческому роману: куски, которые он нам регулярно читал, заслуживают, по-моему, самой высокой оценки. Я вспомнил былое увлечение: живопись. «Богема», одним словом. Тебя не удивляет, что все это я пишу в прошедшем времени? Увы, Светка, заботы у нас сейчас другие. Помнишь, в начале письма я упомянул о «срывах»? Это — очень серьезно. Очень и очень. Света, мы… поссорились! Нет, не совсем так: разладились! Можешь ты представить себе что-либо более ужасное? Наверное, можешь. Ибо ты — единственная из людей, которая ЗНАЕТ, что это такое — четыре года жизни на корабле класса А «Гонец». Все прочие — предполагают, умозрительно понимают, домысливают, ты одна — чувствуешь. Надеюсь, ты не станешь слезливо ахать или же распекать меня, удержишь в себе. Видишь ли, есть ощущение, которое только в длительном полете и может родиться: ощущение выжженности и черноты. Выжженности — возникающее от бесконечного общения и соседства и ненависти к хитрому, неутомимому, опаленному металлу оболочки — Другу и врагу, спасителю и тюремщику. Черноты — от долгого вглядывания в обзорный экран, столь долгого, что кажется: эти мерцающие точки — не звезды вовсе, нет никаких звезд в мире, нет и не будет, а есть лишь усталость роговицы, или радужной оболочки, или сетчатки, или чего там еще, и роится эта усталость светлячками, и покалывает лучиками, и лучше эти светлячки за звезды считать, чем за признак того, что слепнешь. Или сходишь с ума. Или уже умер. Поверь: не сам полет страшен, страшны эти выжженность и чернота, которые оборачиваются ожогом души и слепотой жизненных сил. У меня такое было, но я — худо-бедно — справился, переболел. Володя — тоже. Андрей — нет. Три дня назад после ужина произошел «взрыв». — Ну что вы на меня уставились?! — внезапно заорал Андрей, хотя «уставились» мы вовсе не на него — каждый занимался своим делом. — На что я вам сдался? Таких идиотских рож я в жизни своей не видел! Вы только посмотрите на себя в зеркало — обезьяны! Нет, как же вы оба мне надоели. Обрыдли! И с этими уродами я должен делить жалкие метры жизненного пространства! Вот ты, командир, ты что же о себе думаешь? Художник, да? Так ведь мазня все это. Бездарная мазня! И у тебя, кретин (Володьке), думаешь, что-нибудь получается? Лепет, шизофрения, дерьмо, словесный понос! Не-ет, с этим надо кончать. Немедленно! К чертям! Могу я, наконец, остаться один?! Мы с Володей остолбенели. И тут этот безумец бросился к шлюзовой камере. Естественно, никакой обиды у нас не было, мы прекрасно поняли, что это — приступ, надо было срочно вколоть Андрею релаксант, но… асе произошло слишком внезапно. Мы не успели. Когда я выскочил в коридор, «раздевалка» была уже заперта изнутри, над входом горел красный огонек блокировки. А спустя секунды приборы пульта показали: Андрей оделся и вышел в открытый космос. Как быть? Я даже не стал советоваться с Володей, пихнул его в командирское кресло, приказал подготовить к выбросу «люцифер» и влетел в освободившуюся «раздевалку». (Если не знаешь, «люцифер» — это мощный автономный источник света: при внешних ремонтных работах в кромешной тьме межпространства без него — как без рук.) Дальше началось и вовсе невообразимое. Представь себе: ослепительный белый шар в чернильном вакууме, блики на скафандрах — моем и Андрея, волшебно сверкающий «Гонец» — словно бы кружево кривых зеркал — и… рукопашная. Да, я дрался в космосе с Андреем! В невесомости. Во что бы то ни стало я хотел увлечь его в корабль. Мы разлетались, включали движки и снова сходились. Он сбрасывал мои захваты и пытался повредить мне внешние регуляторы системы ориентации. Мы бешено ругались, в шлеме было гулко от злобных слов. И вдруг в его руке угрожающе вспыхнул ремонтный резак. Поверь, Светка, впервые в жизни мне стало страшно: один на один с маньяком в космосе. Короткое движение — и он вскрыл бы меня, как консервную банку. Я сдался. Два дня мы молча слонялись с Володей по кораблю. Выходили на связь — безрезультатно. Торчали у обзорного экрана, глядя на крохотную бледную точку. Это в двухстах метрах от нас безмолвно «висел» Андрей. Индикаторы шлюзовой камеры зажглись только вчера. Он возвращался. Долго возился в «раздевалке». Долго шел по коридору. Медленно отворил дверь в навигаторскую. Сказал: «Ребята, простите меня!» И еще: «Сережа, только за то, что я поднял на тебя резак, я должен был тут же располосовать себя вдоль и поперек. Но нас всего трое. Если можешь, прости меня. Больше это не повторится». Конечно, я простил его. Даже «простил» — не то слово. Ситуация понятная: с каждым может стрястись. Одиночество — страшная штука. Нас трое, и все равно — одиночество. Мы давно уже превратились в единый организм — правда, о трех головах, шести руках и шести ногах, но ведь — единый! Трехглавому дракону из детской сказки не легче от того, что головы его могут разговаривать друг с другом. В своей заколдованной пещере он безутешен. И от этого головы могут ссориться. Так и у нас. Только изрыгать друг на друга пламя все же не обязательно. Вот и весь эпизод. Не придавай ему значения. В Центре не узнали — и дело с концом. Ведь все обошлось, так же будет обходиться и дальше… Ну вот, дописался: извел кучу бумаги на «р-р-роковую историю», время на исходе, а о Машеньке, о ее каракулях, о фотографиях так ничего и не сказал. И Славке даже двух слов не посвятил. Впрочем, это дело поправимое: ты ведь, Светланка, не одно письмо получишь, а целую пачку. Вот там много всего — и никаких «страстей-мордастей». Сама понимаешь: если не считать последних дней, времени много было, для писем-то… А чтобы ты лишний раз убедилась, что такое для меня время и чего не может дать ни одно письмо, закончу стихами известного тебе поэта: «Не утоляет слово Мне пересохших уст, И без тебя мне снова Дремучий воздух пуст». Не смею править автора, но вместо «воздуха» — «космос» — было бы вернее. Сергей.
8 сентября 70 года. Любимый мой! Ты — кончил стихами, я — начну ими; «Рас-стояния: версты, дали… Нас расклеили, распаяли, В две руки развели, распяв, И не знали, что это — сплав…» И еще: «…Так, руки заложив в карманы, стою. Меж нами океан. Над городом — туман, туман. Любви старинные туманы». (По твоему же методу заменяю: «городом» на «космосом».) И — не могу остановиться — опять та же давняя, волшебная поэтесса; «…Так влюбливаются в любовь: впадываются в пропасть». Это очень верно, милый: влюбливаться в любовь. Я — влюбливаюсь… Уже семь лет… Как ты и просил, на «разлад» ваш реагировать не буду. Но все же знай: этот резак я Андрею никогда не прощу. НИКОГДА! Все причудливее и причудливее становится наша переписка: долголетнее. Я уже с трудом вспоминаю, о чем писала тебе полгода назад, год и более того. Но письмо, которое тебя расстроило — «нервозное», — помню хорошо. Прости меня! За что? Не за былую истеричность (я справилась, и ее давно уже нет и в помине), не за боль, которую ношу в сердце (разве от нее избавишься?!) — за то, что доставила тебе несколько неприятных минут (дней? месяцев?). Как в далеком-далеком детстве говорила я и как сейчас говорит Машенька-второклассница: «Я не хотела и больше так не буду…» Боже мой, любимый, как же мне тебя не хватает! Никогда не думала, что разлука так обостряет чувства, полагала — наоборот: притупляет. Когда «накатывает» (я это так называю), я могу плакать целыми днями, не стыдясь. Не выходить на работу. Писать тебе письма многие-многие часы, а потом рвать их. Читать книгу и между строчек видеть — тебя! Это ужасная сентиментальность, но я… целую твою фотографию, исцеловываю ее до дыр. Когда «накатывает»… …Так много хочется сказать тебе, а говорю все не то. Все совсем не то… И не так… Славику скоро стукнет семнадцать. А когда ты получишь это письмо — будет уже двадцать четыре. Наверное, появится и семья, пойдут дети. Мы с тобой станем дедушкой и бабушкой, хотя до «блудного патриарха» тебе еще далеко. Но все равно — безумие какое-то! Помнишь наши страхи по поводу выбора Славиком профессии? Так вот: можно уже ничего не бояться. Он — физик несомненный. Дело даже не в том, что он на первом курсе Института физики поля (поступил — с блеском!), а в том скорее, что держится в нем неколебимая воля, причем никак не разберусь, чего здесь больше — талантливого фанатизма или фанатического таланта (вещи, по сути, глубоко разные, но равно неодолимые). Еще на подготовительном семинаре защитил он работу, которая произвела настоящую сенсацию. Я уж не говорю, что она была опубликована в «Ученых записках», дело не в этом: о Славике заговорили. А называлась работа так: «Непостоянство так называемой „постоянной Хаббла“ и рентгеновское смещение галактических гамма-лучей». В чем существо ее, я так и не знаю: разобраться, понятное дело, не смогла, но какой-то подвох Авторитетам наш Славик определенно учинил. В общем, я имею право им гордиться и помогать буду «юному ученому» нашему — всесильно. Мать — «секретарша» у сына… Что еще написать? Ты коришь меня, что о работе своей мало говорю. Так ведь писать нечего: за последние два года сменила три лаборатории, а толку от этого мало. Сам посуди: ну какой из меня химик? И раньше-то профессия не нравилась, а теперь — разлюбила напрочь. Плохо я себе специальность выбрала, очень плохо, но… разве исправишь? Другие, конечно, переквалифицируются, а у меня почему-то сил для этого НЕТ. Когда-то врачом мечтала стать, теперь и в мыслях этого не держу. Словом, нет у меня Дела в жизни, кроме тебя да Славика с Машенькой. И за это судьбе — спасибо! Тебя — люблю и жду, Славика — поддерживаю и тоже люблю, Машеньку — воспитываю и обожаю. Что еще требуется Жене Капитана Первого Звездного? Ни-че-го… Погода у нас стоит отвратительная. Причем все последние годы подряд. Все-таки здорово мы в прошлом веке с экологией напортачили. Интересно, думали ли тогдашние фантасты, что до такой катавасии дело дойдет? Вряд ли, они все больше об управлении климатом мечтали, знать бы им, что это такое: «кумулятивный эффект отрицательных воздействий» и «принцип необратимости»! Кстати, после того как ты улетел, Сереженька, дела еще хуже пошли: «кумуляция» работает вовсю. Сейчас, например, снег лежит (это в сентябре-то!), а на октябрь обещают солнце, и безветрие, и «плюс двадцать», в декабре же, говорят, будут сплошные ночные дожди. Да, летом тоже чудеса были! Писала я тебе или нет об ураганах? Не помню. Словом, весь сезон — ужасные сухие ветры, причем в точнейших суточных границах: от десяти утра до трех пополудни. Вам, на «Гонце», небось, такое и не снится… А вот с водой — лучше стало. По крайней мере, водяные счетчики сняли. Ввели, наконец-то, в действие рентабельные термоядерные опреснители и очистители, и — никаких тебе «расписаний подачи», призывов «экономьте воду!», цикломоек. Красота!.. Я понимаю, ты уже отвык от этого: на «Гонце»-то — и абсолютная регенерация, и реакторный синтез, и то, и се, но припомни, в какую сумму обошелся проект водоснабжения кораблей класса А (я ведь тоже посильное участие в том проекте приняла; не забыл еще мои ночные бдения над адсорбцией, над вакуум-цеолитами?), а у нас теперь — все «дешево и сердито». Так что нос вам мы кое в чем утерли! Еще один «пустячок» вспомнился. В письмах за прошлый год я об этом, конечно, не писала, а теперь можно. Болела я сильно, Сереженька. Врачи нашли у меня рак, так что пришлось полгода в санатории проторчать. Поначалу весьма серьезно все выглядело (Славик — тот изболелся весь, субботы и воскресенья проводил у меня неизменно, Машенька тоже приезжала, но, к счастью, не понимала ничего, глупышка), однако медики справились довольно быстро. Тек что теперь я полностью здорова (учти, это официальное заключение), рецидивы исключены (и это — тоже), о том времени вспоминаю только с усмешкой. Хоть я потеряла в весе десять килограммов, зато потом прибавила шестнадцать, и твоя женушка нынче — толстуха! (Последнее заключение не официальное уже, а личное, с коим ребята наши не согласны: считают, так мне даже больше идет.) На этом обрываю. Слово решительное, но что поделаешь: само письмо никак не хочет кончаться. Целую столько раз, сколько позволит твой график вахты! Светлана.
12 января 76 года (по корабельному календарю) Женушка ты моя милая! Несчастная моя! Да разве можно так? Все ничего-ничего — и вдруг рак! Это же очень страшно — в нашем-то с тобой положении. Тут чего только не передумаешь. Ведь импульс ко мне семь с половиной лет шел; самые жуткие мысли в голове крутятся: вдруг за этот срок у тебя рецидив был? Вдруг ты давно уже в госпитале лежишь? Вдруг… Нет уж, больше предположений не надо. Понимаешь, умом-то я сознаю, что рак — это не страшно и что от него сейчас мало кто умирает, но сердце… сердце умом не уговоришь. В сердце — ночь. Ты спрашиваешь, почему я не высылаю свое фото? Отвечаю: страшновато было. Стареем все же, вот потому и не высылал. С этим письмом, однако, ты его получишь. Видишь, каким стал твой муж? Ему уже скоро сорок три, виски седые целиком, борода — с серебряными нитями, морщинки возле глаз разлапились, кожа бледная. Нет, не скажешь, что облик немочный, но… все-таки двенадцать с лишним лет — без тебя. Почти тринадцать! Из прожитой жизни — чуть ли не треть в космосе распылилась. А когда вернусь домой — окажется, что я «провисел» в пустоте в полтора раза больше времени, чем прожил на Земле. Впрочем, жизнь нашей троицы здесь — дело понятное и нехитрое. Но вот все удивляюсь я — как ты-то там справляешься? Как держишься?! Нет, все-таки недостоин я тебя. По-моему, другой такой верной и преданной женщины — любящей женщины! — просто нет и быть не может. Я горжусь тобой безмерно и… с каждым годом все более ужасаюсь: страшно подумать, на что я тебя обрек! Милая моя, любимая Светланка, может быть, не нужно так уж держаться, а? Я — не пример, со мной совсем другая история: звездный человек, без пяти минут серафим… Фу, по-моему, что-то гадкое я написал. И стыдно, и больно, но… Ладно, чтобы не завраться окончательно, — молчу… Лучше расскажу тебе, что сделано за последнюю треть жизни. Похвастаюсь: сделано немало. Твой Сережа теперь — не только астрофизик, космонавигатор и пилот высшего класса, но еще и планетолог, и лингвист (экзамены давно сданы). Володя к своей кибернетике и геофизике приплюсовал физику времени и квантовую механику. Андрей имеет целых шесть «дипломов» (рекорд!): земные — медицина, общая химия, психология; космические — физика твердого тела, молекулярная биология, климатология. Если наш полет — не дай бог! — по каким-либо причинам продлится сверх положенного, мы, чего доброго, вернемся из странствия этакими убеленными сединами энциклопедистами: так сказать, три «космических Леонардо». Надеюсь, до этого не дойдет. Ведь наши знания нужны только звезде Каптейна. Землю наши «ученые подвиги» не интересуют. Да и потом: анахронизм «длиной» в пятьдесят лет — дело не страшное, но он же, возведенный в п-ю степень путем изучения устаревших наук, превращается в трагифарс. Так что, пока мы летим к звезде — то бишь еще 112 месяцев, грызть «гранит» будем неустанно. Это, как ты помнишь, входит в программу полета. Но на обратном пути — мы будем «догонять» Землю: информационных импульсов к тому времени накопится предостаточно, да еще темп новых сигналов начнет прибавляться. В плане досуга — опять-таки много нового. Я измарал кучу холстов, пачки картона и бумаги, и кажется, из всего количества можно отобрать штук пять-шесть неплохих работ. Голокопии двух из них ты получишь с этим письмом. Впрочем, это так, забава. Вот у Андрея — настоящее достижение: «Лучистая симфония cis — moll». У нас, конечно, симфонического оркестра нет, но, поверь, машина в сочетании с октафоном исполняет не хуже, да еще изумительно организует цвет. Если бы ты видела, что звучит финале: прозрачнейшая золотистая рондо-соната, а рефреном в ней (в основной тональности) — фантастическая по своей земной реальности картина: спокойное море, рассветное небо, ты стоишь то ли на плоту, то ли просто на волнах — покачиваешься! — а на востоке — по нежной лазури — розовые, золотистые, перламутровые, палевые лучи, бьющие вверх из тонкой дымки над горизонтом: веер зари. Что касается Володи, то он удивлял нас и удивляет до сих пор. Бедняга по уши залез в историю: в XIV и XV века. Первую книгу свою, как ты помнишь, писал не таясь и постоянно читал нам отрывки. По-моему, я тебе сообщал уже, что там шла речь о Николае Кузанском. Зато когда наш историк принялся за второе произведение, его словно подменили: стал отшельником, ни строчки никому не показывал и даже написанное куда-то прятал. И вот на днях устроил читку. Мы с Андреем прямо-таки ахнули: роман об Агриппе Неттесгеймском, и какой! Впрочем, может быть, я ошибаюсь и смотрю на вещи предвзято, может быть, просто переоцениваю Володьку. Жаль только, что до нашего возвращения тебе так и не удастся почитать ни то, ни другое, ни (если появится) третье. Такова воля автора и таково наше — не зависящее от него — решение. О расходе энергии тоже надо помнить. Представляешь, как в Центре удивились бы, если б из гамма-приемника ни с того ни с сего пополз такой текст: ЧЕРНЫЙ КНИЖНИК (роман) 1. Макабр «В тот год в Роттердаме куражилась потаскуха-чума. Она упоила смерть, выхватила из ее безвольных рук косу и, потная, рыгающая, пошла по городу в поисках любви. Чума не знала, зачем она это сделала. Коса не нужна была ей: от одного вида смертной девки люди падали и чернели. Дыхание убивало на месте. Любви не было. Между тем ясная погода все еще стояла и по ночам пели соловьи. Генрих Корнелис стоял на берегу Лека и бросал в воду камешки. Камешки падали со смешным звуком. Плюх. Плюх. Плюх. Поднимался небольшой фонтанчик и разбегался геометрически точной окружностью. Камешков было много, и воды было много, и кругов было много. Но даже когда вода успокаивалась, Генрих не находил в ней своего отражения. Отражалосьтолько небо — глубокое, непонятное, серебряно-голубое, и он этому не удивлялся. Он удивлялся лишь тому, как это между вечным небом и нервной водой нашлось место для него, бренного и спокойного…» И так далее. Интересно? Слушай, а ведь Славка-то молодец! Большой молодец. Я ему написал особо, но и ты передай ему от моего имени: поздравляю от всей души! Понимаешь, то, что ты мне сообщила, оказалось новостью ошеломляющей. Сам он, скромник этакий, ни словом не обмолвился ни о защите, ни о теме работы. Написал только, что у него есть какая-то идея. Все очень туманно и неясно: Теория Большой Волны. Что это такое — не постигаю. А вот «постоянная Хаббла» — это Нечто. Не знаю сути работы, но если выводить из названия, то получается, что сын наш, изучая допплеров эффект у жесткого излучения, каким-то образом сформулировал возможность не «постоянной», а «переменной Хаббла». Если это так, то он — без лишних слов — настоящий «маленький» ученый. Только вот зачем от меня скрывать — все равно не понимаю. Я тут внимательнейшим образом просмотрел всю информацию последнего импульса: о его сенсационном выступлении на семинаре и о статье в «Ученых записках» — ни черта не сказано. Забыли включить? Не учли? Посчитали гипотезу скороспелой, маловозможной, ошибочной? В любом случае Центр не имел права молчать. Я ведь астрофизик, мне это интересно и важно, да и о том, что я отец как никак, не следует забывать. Ты там, в Центре, скажи, что я недоволен. Крупно недоволен. Ох, вот так ересь получилась! Все время забываю о расстоянии. Ты-то это письмо получишь через семь с половиной лет, если от нынешнего дня отсчитывать. А от того письма оно будет отстоять уже на пятнадцать лет. Славка, небось, за это время такое понавыдумывает, что о первой его работе никто и вспоминать не станет. А звезды Каптейна пока на экране не видно… Развлекаемся тем, что даем на сетку увеличения максимальное напряжение и разглядываем появившуюся маленькую точку. Вчера Андрей разыграл меня. Разыграл и рассердил одновременно: ворвался ко мне, спящему, и со счастливо-блаженным видом заорал: «Планеты в поле!» Я, дурак, поверил со сна и ринулся к экрану. Конечно, никаких планет и в помине не было, да и развертка снята с триггера, вот злость меня и взяла. Даже выругался, хотя — если разобраться — сам виноват: какие к дьяволу планеты, коль скоро до их появления еще лет шесть! Звезду мы увидим невооруженным глазом гораздо раньше. «Всего-навсего» года через три с чем-то… «Взрослой» Машеньке — мой самый сентиментальный привет. Славику — привет мужской. Для тебя у меня осталось только два слова: Я ВЕРНУСЬ! Сергей.
30 апреля 85 года. Милый, прости меня! Прошу, нет — умоляю: прости!!! Господи, что я совершила! И как не хочется писать это письмо! Но — надо. Меня ждут. Ждут, когда я закончу, и тогда я покину наш дом. Может быть — навсегда. Все не так… Не так… А ТЫ разве не ждешь письма? Тоже ждешь — больше всех остальных. И волнуешься: почему нет импульса? А сеанс отложили. И виной всему — я. Решали, что со мной делать. Так и не решили… Сейчас, сейчас… Приготовься, Сереженька. Мой милый, бесконечно милый и любимый Сережа… Стисни сердце. Зажми рот. И читай. Невыносимо страшно делать тебе больно. Может быть, ты и не поймешь. Хотя понимать тут нечего: я — преступница! Убийца… Боже, какое страшное слово я написала. И все-таки, это так. Прошел уже месяц, а я не могу свыкнуться. Не со словом, не с собой: с фактом. В наше время кто-то совершил ПРЕСТУПЛЕНИЕ. Кого-то будут СУДИТЬ. Этот «кто-то» — я. А теперь — как с обрыва в воду: нашего Славы больше нет. Нет нашего Славика, и не вернешь его. Вина — моя. Вина матери. Ему был бы тридцать один год. Он уже совсем взрослый. И великолепный ученый. БЫЛ ученый… Нет, погоди: мы ведь с тобой не «разговаривали» целых пятнадцать лет. Погоди… Лучше — вот так: все эти годы Слава работал над невероятно сложной и грандиозной теорией. Он ее называл Теорией Большой Волны. Я была у него верным секретарем. Перепечатывала труды, считала на машине, вела переписку, хранила архив. Ничего не понимала в его физике, но все равно стала помощником незаменимым. Семью он так и не завел… Очень поздно я поняла, что это за теория — только в этом году. Поняла — и ужаснулась. Оказывается, он добивался МГНОВЕННОГО скачка через пространство. Не знаю опять, поймешь ли… Нет, не идею Славика — мои чувства. И он добился. Опять же — в этом году. И ведь самое страшное: он не только теоретиком был, но и практиком. И мечтал, оказывается, прорваться к звезде Каптейна, чтобы ТАМ ВСТРЕТИТЬ ТЕБЯ! Он очень радовался, когда на бумаге все подтвердилось. Считал, что и ты будешь счастлив: на далекой планете, у невообразимо далекой звезды Пилота Первого Звездного встречает сын. Сын — ученый. Сын, покоривший пространство. Он ничего, абсолютно НИЧЕГО не понимал. Что твой полет тогда — впустую. Что ты с твоим «Гонцом» уже никому не нужен. Что все эти годы — напрасные годы. И разлука наша… наша с тобой, Сереженька, мучительная, вечная, бессветная разлука — тоже напрасная. А любовь? Неужели тоже — зря? И… жизнь? Верь мне, любимый мой. Умом я все-все осознаю. Разум — штука холодная, как кусок стекла. Я знаю: Славик вернулся бы только с тобой. Ты должен быть в системе Каптейна в сентябре восемьдесят восьмого… то есть, по твоему календарю — в мае восемьдесят пятого. Тогда же там оказался бы и Слава. И через три с небольшим года мы встретились бы… Совсем не старые. Ты — старее прежнего всего на двадцать два года; я — немногим больше. То есть разлука сократилась бы вдвое, а годы жизни — остались… Но это письмо ты получишь уже на обратном пути. Звезда уже будет твоя. И в этом — какое-то для меня утешение. Знаю и другое: не Славик, так кто-нибудь другой откроет эту Большую Волну. В науке давно нет гигантских опережений. Может быть, даже сейчас кто-то из физиков вынашивает эту же теорию, и отбросила я ее всего на несколько лет. Пусть… Пусть так! Но только не Слава. Не сын! Словом, месяц назад я сожгла весь его архив. ВЕСЬ. До последней бумажки. До последней голографии. Прости меня! Сколько мне осталось жить — не знаю, но все оставшееся время буду молить тебя: прости! Я не могла иначе… Славик поседел в одну ночь. А через два дня… его не стало. Постой, сейчас соберусь с духом еще раз: он… покончил… с собой… Вот. Но может быть, он совершил такое не потому, что погибла теория? Ведь теории не погибают, верно? Может быть, он наконец ПОНЯЛ? Понял, почему я это сделала?.. Наверняка понял. НЕ МОГ НЕ ПОНЯТЬ!!! С этой мыслью… Эта мысль меня спасает. Если я жива еще, так только потому, что в воображении — эта соломинка. Но… та же мысль… убила его. И я — как ни крути — преступница. Ведь сгорели не бумажки. Сгорел Славик. Сгорела я. Сгорела наша любовь. Разве не так? Ведь ты меня теперь возненавидишь, правда? На днях меня обожгло такое предположение: что если я спалила бумаги Славика из чистого эгоизма? Да, это можно назвать эгоизмом: охраняла нашу разлуку, сиречь — себя. А охранять нужно было Славу. Получается-то, что я в тебя не верила! Может, его полет не был бы для тебя КАТАСТРОФОЙ? Может, это только мои страхи? И вот результат: воображаемую катастрофу я заменила реальной. Жутко реальной… И ничегошеньки-ничего теперь не вернешь… Не хочу видеть ни одной живой души. Я — мертвая. А вокруг — люди… Толпятся… Ждут, когда остановится рука. А она не хочет останавливаться. Мне все кажется, что чего-то самого главного я не написала. Упустила… Слез уже нет. Все слезы выплакала. Глаза — сухие… О, эти лица… Еще месяц назад — все добрые. Теперь — все злые. Уйдите! Ну, дайте, дайте мне попрощаться с Сереженькой. Это ведь последние мои слова к тебе, любимый. Далекий мой, как же я тебя люблю. Завтра суд. Что будет со мной — не знаю. Это уже давно не важно. Что будет с тобой, милый? Как ты там — и здесь тоже — без меня? Без Славика? Ох, сыночек мой, Славик, Славочка… Маленький, глупый мой Ярик…
Север Гансовский ЧЕРНЫЙ КАМЕНЬ

Да, пришельцы… Занимательный фильм, вы согласны? Жанр, впрочем, не очень ясен. К научному кино не отнесешь, к художественному тоже. Фантастическая натурфилософия, что ли? И название «Воспоминания о будущем». Как понимать — что, мол, древние свидетельства о посещении Земли инопланетянами намекают на новые контакты завтра?.. Но при чем тогда «воспоминания»? Нет-нет, не стану спорить — снято красиво. Баальбекская веранда, рисунки эти в пустыне. Но мне, честно говоря, кажется, что огромные камни Баальбека не о том говорят, что некогда к нам являлись высокоумные гости со звезд, а наоборот: что люди всегда стремились к к звездам, жаждали войти в соприкосновение с какими-то высшими истинами. Такие глыбищи вырубить, обтесать и доставить на место — немалый труд. И те, кто его выполнял, занимались им не только под страхом наказания, но еще потому, что верили, будто он приближает их к-чему-то, стоящему над повседневной заботой о хлебе. Естественно, это происходило в религиозной конструкции, однако по древним временам иного и быть не могло. Кстати, в самом своем начале религии играли другую роль, чем позже. В их истоке попытка разума опровергнуть видимый хаос бытия, найти в нем законы, подняться к синтезу. Сила религиозного обряда была в том, что он придавал существованию античного или, например, средневекового человека хоть и обманчивый, но возвышающий смысл. Отсюда вдохновение тех, кто строил храмы удивительной красоты, писал музыку… Это при том, что святилища уже были центрами угнетения… Что вы говорите — «ничего не следует»?.. Конечно, ничего. Вот посмотрели мы с вами фильм, где толкуется, будто Землю в прошлом посещали некие пришельцы. Допустим даже, что так. Ну а дальше? Разве хоть на волосок по-другому мы можем рассматривать стоящие перед людьми проблемы? Позади нас здание Московского университета, утром аудитории все равно заполнятся абитуриентами. Внизу лежит, раскинулась Москва, и через несколько часов, как обычно, покатят автобусы, троллейбусы, тесно станет в переходах метро. Были когда-то на нашей планете чужие космонавты, не были, жизнь та же самая. Ничего не снимается с повестки дня. Поэтому, мне кажется, интереснее поговорить не о том, прилетал ли кто на нашу планету тысячи лет назад, а о тех пришельцах, которые вот сейчас живут среди нас. И неплохо устроились, между прочим… Нет-нет, не надо так недоверчиво улыбаться. Лучше скажите, приходилось ли вам слышать о «Феномене X»? Особенно об этом пока не распространяются, но знающие знают… Ага, значит, слышали!.. Нет, как раз этот человек ничего не ломал и не портил. В том-то и штука, что он старается держаться подальше от рентгенной аппаратуры, так же как и вообще от медицины. Это до вас просто слухи дошли. А на самом деле все иначе. Представьте себе сорокапятилетнего рослого и плотного гражданина, занимающего пост коммерческого директора галантерейной фирмы. Кажется, она называется «Эпоха», а может быть, «Вселенная» — там любят некоторую помпезность. Фирма выпускает ножницы, портсигары, парфюмерию, кожгалантерею, в том числе и те дорожные сумки со множеством латунных блях, что стоят пятнадцать рублей, однако начинают разваливаться, пока вы еще в автобусе добираетесь до аэропорта. Так вот, наш Шуркин (его зовут Шуркин) успешно занимается своей коммерцией, и как-то ему выделяют туристскую путевку во Францию. По профсоюзной линии, со скидкой. Раз путевка, значит, обязательно и справка о состоянии здоровья. Надо так надо. Шуркин Солидно (он все делает солидно) приходит в поликлинику по месту жительства, и выясняется, что там нет его карточки, поскольку за свою жизнь он ни разу не болел. Прекрасно! Карточка заведена, ему дают направление на флюорографию. Небольшая очередь, коммерческий директор авторитетно возвышается в коридоре, авторитетно сидит у самой двери. Строгая служительница наконец впускает его, он становится к аппарату. А через два дня служительница в расстройстве стучится в кабинет главного врача. Машина не сработала! Почему? Ответа нет. Не сработала, и точка. У всех, кто залезал в рентгеновский закуток до директора и после, превосходно отпечатались на пленке легкие, сердце и прочие внутренности. А на Шуркине лучи дали осечку: только серый силуэт, как если бы наш герой состоял из совершенно однородной ткани. Даже позвоночника и того нет… Еще раз рентген, снова то же самое. С огромным трудом удается уговорить Шуркина в третий раз поместиться перед экраном. В дело уже вступили рентгенорадиологический НИИ, Институт биохимии имени А. Н. Баха, Институт биофизики, Институт антропологии. Возле директора сгрудились седовласые академики, доктора наук затаили дыхание, кандидаты стоят на подхвате. Гаснет свет, короткий звоночек, вспыхивает экран, но там опять ровная серая тень, будь то фас или профиль. Именно тень, а не чернота, как получилось бы, если б лучи сквозь Шуркина вообще не проникали. Они-то проникают, но не дают деталей. Срочное совещание на высшем медицинском уровне, Шуркину предлагают лечь на исследование. Однако не на того напали: коммерческий директор качает права, требует справку. Ее в конце концов дают, Шуркин отправляется в Париж, привозит оттуда положенное количество газовых зажигалок, кофточек, каких-то особенных галстуков и в своей фирме приступает к исполнению обязанностей. «Исследование?.. Какое исследование?» Шуркин пожимает плечами. Да, он согласен, что интересы науки требуют. Но у него, между прочим, тоже интересы. Во-первых, работу запускать нельзя, а что касается вечеров, то сегодня матч ЦСКА — «Динамо», завтра он встречается с одной знакомой, на послезавтра есть договоренность расписать пульку — он не может обманывать людей, в четверг надо отогнать машину на техосмотр, а в пятницу он на два дня едет на дачу. Штука-то в том, что хотя наш приятель на работе неулыбчив, со всякими посетителями холоден и даже к ним враждебен, но в ресторане он может расхохотаться неожиданно громко, и его равнодушные глаза оживляются блеском при виде хорошо приготовленных киевских котлеток или, скажем, красивой официантки. Собственно, это тот самый тип, которого в Америке называют плейбоем, кто в дореволюционной России шел как «бонвиван», а у нас за неимением более краткого определения описывается в качестве человека, любящего пожить в свое удовольствие. И последнее Шуркину вполне удается, так как к его услугам «Волга» в экспортном исполнении, двухэтажный коттедж в Подмосковье (на тещу), еще одна дачка с участком под Ялтой возле санатория «Массандра» (на престарелую бабку), магнитофоны «Нешнл» и «Микадо», гобелены «Бурбон», ковры фирмы «Фландерс», мебельный гарнитур «Рамзес». Шуркин выхоленный, лощеный, от него пахнет дорогим французским одеколоном, и хоть на чужих языках ни звука, ни единого слова, но больше похож на знатного иностранца, чем любой на выбор из самых знатных иностранцев. На отвороте английского пиджака у него непонятный элегантный значок, он отлично разбирается в коньяках, курит «Герцеговину Флор», с чужими всегда подозрителен и насторожен, за словом в карман не лезет, к нему ни с какой стороны не подкопаешься. Академики в отчаянии, они готовы исследовать его и по ночам. Но коммерческий директор эту мысль решительно отвергает — его долг перед обществом ночью спать, чтобы утром являться в фирму свежим и работоспособным. У кого-то возникает идея устроить Шуркину новую путевку за рубеж, чтобы опять возникла необходимость в справке и рентгене. Устраивают, но тут оказывается, что старая справка действительна в течение года. Ничем директора не удается взять, «Феномен X» так нераскрытым и зависает в науке… Как вы сказали, «на депутатскую комиссию»?.. Да было, все было! Вызывали, просили. Но он потребовал указать статью в гражданском или уголовном кодексе, которая запрещала бы уклоняться от рентгена… Да нет, не пугается он никакого разоблачения. Просто слышал, что частое просвечивание вредно, и та ничтожная, неощутимая доля здоровья, которую он потерял бы, поместившись еще разок под лучи, Шуркину ценней всех вместе взятых интересов человечества. Короче говоря, он до сих пор загадка для окружающих. Но не для меня… Ну что ж, извольте. Но тогда давайте сядем… Вот сюда… Ночь теплая, звезды светят. Разрешите вам сказать, что сейчас я педагог. Семья. Жена не работает — у нас трое. Преподаю рисование и черчение в школе, классный руководитель, конечно, ну и еще кое-какие занятия. Официальных часов двадцать четыре в неделю, так что зарплата до ста шестидесяти. И представьте, хватает. В дополнительных доходах нужды не ощущаем, живем в полном согласии с самими собой. Дети здоровы, каждый день наполнен делом, какими-то событиями, и, в общем, каждый приносит радость. Говорю о зарплате, потому что была у меня эпоха, когда, если получалось шесть тысяч в год, считал себя неудачником и лентяем. Вот десять еще куда ни шло. Окончил я в свое время Суриковский институт живописи и здорово набил руку на пейзажах. Под Левитана, но погрубее, с изрядной долей этакого энергичного оптимизма. Помню, названия все почему-то получались однотипные: «На просторе», «На отдыхе», еще там на чем-нибудь. Трава у меня всегда зеленая, небо голубое. И брали мои просторы. Большие богатые клубы, Дворцы культуры, гостиницы-новостройки. Был даже сезон, когда на ВДНХ целых четыре моих полотна по разным павильонам. До того натренировался, за полмесяца способен был сделать картину три с половиной на два, причем вполне профессиональную. Денег девать некуда, и вот с женой хлопочем. В одной комнате хрустальная люстра за тысячу двести, в другую давай за две. Знакомые цветной телевизор купили, мы уже побежали наводить справки, не выпускают ли где экспериментальный объемный. Мастерскую себе отгрохал со специальной кладовкой, где березовые дрова для действующего камина. Ну член Союза художников, естественно, непременный заседатель во всяких комиссиях. Участник трех всесоюзных выставок, про республиканские не говорю. Была уже и персональная — рецензенты писали, что «молодой художник тонко чувствует красоту родной природы». Несколько нас таких было, расторопных, «перспективных». Всегда в делах, в заказах. Где-нибудь встретимся случайно, только и разговора, что один перед другим хвастать. Ты из Японии вернулся, я в Австралию собираюсь. У тебя три договора, у меня пять. И еще тема была — в каких ресторанчиках на Монмартре лучше кормят. Про собор Парижской богоматери даже неловко считалось — это для «чайников», кто раз в жизни вырвался. И вот в один прекрасный день я, такой, как вам описал, решаю, что не худо бы мне расширить номенклатуру своих изделий. А то кругом коситься начинают — что, мол, все себя повторяешь. До сих пор были просторы равнинные, российские с березками, почему не попробовать хотя бы горные? Сказано — сделано, беру творческую командировку в Алма-Ату. Такси, стремительный Ту разбегается по бетонной дорожке, удобное кресло, на откидном столике запотевшая бутылка холодного пива и снова ровный бетон. Посадка. Сами знаете, как одолеваются сейчас тысячи километров. Денек погулял по городу, на второй в республиканское отделение союза. Художники — народ компанейский, и, раз уж мне нужен простор, рекомендуют одинокий, принадлежащий Художественному фонду домик-сторожку на отроге Ишты-Алатау. Тут же в разговор вмешивается случайно забежавший в комнату веселый, скуластей маэстро — он как раз собирался ехать на своей машине в том направлении. Сразу все сделалось быстро и удобно. Дома у скульптора (маэстро оказался скульптором) обедаем по-раннему, в большом гастрономе набиваем багажник продуктами, у гостиницы кидаем на заднее сиденье мои вещи. Кончаются белые городские кварталы, по сторонам назад убегают горы, поросшие лесом, их сменяют пологие холмы с кустарником, потом ровные плоскогорья и глинобитные белые поселочки. Во всем своя красота, подчеркнутая быстрым движением, все откатывается, исчезает, не успевая надоесть, утомить. Дома в Москве у меня тоже машина, поэтому рядом со скульптором я не чувствую себя случайным незаконным пассажиром, при всем своем демократизме понимая, что мы оба принадлежим к тем представителям человечества, кому в силу таланта, энергии самой судьбой предназначено из мирового ресурса стравить каучука в протекторах автомобилей, сжечь бензина в цилиндрах больше, чем обыкновенным людям. Через три часа еще раз обедаем в городке у подножия высоких диких гор, заезжаем к другу скульптора, председателю колхоза. Тот мгновенно организует верховых лошадей, мальчишку-проводника. Алма-атинский благодетель хочет лично взглянуть, как я устроюсь, провожает до места. Поставленная еще в конце прошлого века сторожка — это двухкомнатный каменный домик, оштукатуренный изнутри, с зарешеченными окнами. Заботливый Худфонд пожертвовал сюда печку-«буржуйку», старинную медную кастрюлю с длинной ручкой. Тут же стол, шкаф, стулья и койка. В долине просторно, над головой масса неба, с трех сторон зеленые склоны хребта, с четвертой бойко прыгает между гранитными глыбами чистенькая, звонкая речушка Ишта. Обнялся со скульптором, побросал на полки в шкафу вермишель, тушенку, растворимый кофе. Установил прямо у дома свой этюдник, надавил на палитру побольше зеленой и голубой. И вот однажды поздним вечером — кстати, конец июля был — сижу, наработавшийся, на воздухе. В задней комнате сторожки уже десятка полтора крепких этюдов и один, на который возлагаю особые надежды. Это одинокая березка над обрывом, на ветру. В ней щекочущий намек на модное «отчуждение», а в голубом небе вокруг и в порывистых облаках масса оптимизма. В общем, глубокомысленно-непонятно. Размечтался, представляю себе, картина уже висит в выставочном зале МОСХа на Кузнецком мосту, люди смотрят на березку (ее, кстати, пришлось выдумать, так как она здесь не растет), и у некоторых при этом слегка отваливается челюсть. Почему отваливается?.. Да потому, что среди нас, пробивных и ловких, уже возникло такое соперничество, что о собственном успехе лучше всего свидетельствовало то, насколько сильно огорчился коллега. Даже мы больше желали этой досады, чем восхищения лица постороннего. Ночной ветерок повеял, над восточным краем гор уже звезды. Пойти, думаю, набросить пиджак — как раз простыл немного, слегка лихорадит. Вдруг за спиной резкий свист. Инстинктивно обернулся, успеваю заметить, как в двух шагах от меня что-то ударило в утоптанную тропинку и отскочило. Кто это, думаю, шалит, кто посягает на творческий покой известного столичного художника, члена всяческих комиссий? Встал, но долина кругом просматривается, и никого. Сходил в дом, зажег керосиновую лампу-«молнию». Вижу, в траве у самой тропинки черный камень размером в грецкий орех. Поднимаю его и тотчас отбрасываю, потому что он горячий. Камень этот треснул от удара о землю и теперь, когда я его кинул, раскалывается надвое. Метеорит! Помню, что, сообразив это, я глянул на небо, а потом вобрал голову в плечи и сжался, в страхе ожидая, что вот в этот миг оттуда свалится еще что-нибудь. Затем на ум все-таки пришло, что метеориты — очень редкое явление, я выпрямился и рассмеялся над своей глупостью. Подобрал большую часть, охладил, перекидывая с ладони на ладонь. Внешняя, оплавленная сторона метеорита была как бы в темном блестящем лаке, а на изломе камень был тоже черным, но матово. Происшествие это меня очень развеселило. Вот, говорю себе, какой же я все-таки удачник. Известность, общее уважение, заработки да еще такие случаи, как жемчужина (довольно крупная жемчужина в консервной банке устриц мне попалась), или этот гость из космоса прямо к моим ногам. Нет, точно во мне что-то есть необъяснимое. Решил, что в награду себе за такие качества устрою маленькие каникулы — завтра спущусь в городок, поймаю попутную, доставлю небесного посланца в Алма-Ату, в университет. Но следующее утро выдалось прекрасное, этюдник зовет, рука просится к палитре. Рассудил, что раз уж камень добрался, так сказать, до места, торопиться ему некуда. День провел за работой, на закате беру метеорит из шкафа просто поглядеть и убеждаюсь, что не заметил главного. Метеорит непростой. Серединка более крупного куска отличается от остальной поверхности среза. Тут камень принимает канифольный оттенок, и это местечко чуть липнет к пальцу. Из школьного курса астрономии в голове удержалось, что метеориты бывают железные, каменные и железокаменные, но с мягкой сердцевинкой не падало никогда. Значит, передо мной нечто, имеющее значительную научную ценность. Что ж, тем лучше, тем больше чести. Завалился на койку, размышляю, как удивительно все же устроена вселенная. Где-то в другой звездной системе, а не исключено, что в иной галактике, стартовал этот камень, миллиарды километров мчался затем в черной пустоте, где лишь редкий атом водорода испуганно отскакивал в сторону при его приближении, увидел голубую планету к финишу бесконечного путешествия, и все затем, чтоб успокоиться у меня тут в шкафу. Отклонись камень на пылинку еще там, вдалеке, его занесло бы к чужим созвездиям, отклонись на пылинку уже в земной атмосфере, мог бы стукнуть меня в темя, и вот уже Московская организация Союза художников недосчитывается одного из своих членов. Странно было, что столь далеко зародившееся развитие могло повлиять на весьма конкретную ситуацию здесь, у нас. Конечно, я знал, что на Земле всякая причина является лишь следствием более ранней причины, любое начало относительно, а конец условен. Понимал, что девушка, сидящая сейчас за коктейлем в кафе гостиницы «Юность» в Москве, обязана, быть может, своим существованием тому кокетливому взгляду, который в третьем тысячелетии до нашей эры бросила молоденькая египтянка на молодого пастуха, полудикого чужеземца-гиксоса. Однако все равно в камне было что-то особенное. Ведь он мог начать полет, когда на нашей планете еще не было человека или даже вообще жизни не было, пролетел такой путь, какого и представить себе нельзя. С этими мыслями начал задремывать, подтвердив себе, что завтра обязательно в городок. Однако через какой-нибудь час в глазах у меня стало мелькать, и, проснувшись, увидел, что комната то и дело озаряется фиолетовым светом, как от электросварки. Встал, подошел к окну. Небо крестят молнии, гром товарными поездами таскается взад и вперед. Какой-то стук снаружи — ветром опрокинуло мольберт. Утром открыл дверь, даже ближних гор не видно — все скрыто занавесами дождя. Делать нечего. Раскочегарил «буржуйку», благо запас хвороста был во второй, пустой комнате, кое-как перемыкался до обеда. Поел. Лениво достаю с полки шкафа метеорит. И разом сдернуло скуку. Потому что камень-то стал другим. То местечко, которое накануне вечером было мягким, теперь выпуклилось, пожелтело и пересеклось тонкой розоватой полосочкой. Кровеносный сосудик!.. Жизнь! Можете себе представить мои чувства. Перед глазами сразу телескопы Пулковской обсерватории, антенна Бюраканской, всякие там осциллографы, другие хитрые приборы, перед которыми обыкновенный человек, словно кошка возле арифмометра, целые библиотеки книг с умнейшими рассуждениями. И все задаются единственным вопросом: «Одиноки ли мы? Есть ли еще кто живой, кроме нас, во вселенной, на полях времени и пространства?» А маленький кусочек у меня на ладони говорит: «Да!» По спине мурашки, лоб и щеки загорячились. Ну, думаю, быть этой сторожке всемирно известным музеем. Пройдут годы, тут обелиск воздвигнут выше гор. Взял стеклянную банку из-под борща «Воронежская смесь», тщательно вымыл, ошпарил, кладу туда оба кусочка метеорита. Зажег лампу, подвинул к ней банку, чтобы зародышу теплее. Подумал, отодвинул лампу, чтобы зародышу не слишком жарко. Беру бумагу, записываю примерное время падения метеорита, сходил на то место, где он об землю стукнул, определил по памяти угол и высоту отскока — все, говорю себе, науке пригодится. В общем, заснул поздно, проснулся рано. Глянул с койки на стол, а в банке уже золотисто-оранжевый плод вроде мандарина. Черный камешек, откуда все выросло, висит на боку. Ну, думаю, ребята, все! Теперь не терять ни секунды лишней. Вниз, в городок, телеграмма-«молния» на сто слов, и чтобы к вечеру Академия наук СССР в полном составе вся была здесь. Вскакиваю, неумытый, небритый, поспешно одеваюсь, открываю дверь. Сразу с крыльца огромная лужа. Дождь лупит холодный, будто не июль, а октябрь. Скинул ботинки, засучил брюки, пальцы сводит в воде. Шагаю к Иште, впереди какой-то рев. Подошел — нету моей веселой речушки. Десятиметровой ширины мутный поток крутит водовороты между гранитными надолбами. И подумать страшно, чтобы туда соваться. Постоял, зубы выбивают дробь, положение до невозможности дурацкое. У меня новость, важнейшая, пожалуй, из всех, что получали люди за тысячелетия своей истории, а сделать ничего нельзя. И почему?.. Потому что, видите ли, взбунтовалась природа. А между тем куда ей, природе, теперь до человека-то?! Возвращаюсь, плод еще распух, осколок камня уже отвалился. Осторожно вынимаю зародыша из банки. Поворачиваю так и этак, осматриваю, осторожно ощупываю. Он тяжеленький, с поверхности мягкий, слегка пористый. Кладу на стол, сажусь его рисовать. А он меняется почти на глазах — пока один набросок кончаешь, надо следующий начинать. Постепенно вытягивается. К вечеру передо мной не мандарин, а что-то вроде булки или очень толстого червя. С одного конца возникает что-то вроде неглубокого разреза — как раз там, где розовая полосочка. Ротовое отверстие?.. Положил рядом кусочек засохшего хлеба, червь как будто слегка вздрогнул. И тут, знаете, сердце сжимает какая-то тревога. В уме все еще называю это существо зародышем, но теперь начинаю сознавать, что у меня ведь и представления нет, что (или кто) из него должно развиваться. Закусил в задумчивости губу, поднялся, подхожу к двери. Долина вся скрыта, мрак начинается от порога, только капельки воды, падая, отражают свет лампы. Непроницаемость ночи шуршала дождем. И вдруг я говорю себе, что червяка можно в крайнем случае раздавить, затоптать ногами, растереть. И сразу спохватываюсь. Почему? Зачем? Идиотизм же полный! Разве поняли бы меня? Разве простили бы когда-нибудь? Да ведь если б никому о нем не рассказал бы, все равно целую жизнь носил бы в себе страшный упрек. И наконец, по какой такой причине его уничтожать, чем он грозит? Остыл несколько на сквознячке, успокоился, затворил дверь. Но дотронуться до червя уже не решаюсь. Взял алюминиевую миску, спихнул его туда куском картона, отнес во вторую комнату. Лег, руки за голову, не могу заснуть, пялюсь в темноту. Часа в два ночи за стеной вдруг: «Шлеп… шлеп!» Кто-то мягкий прыгает. Поднимаюсь, зажег лампу, заглядываю. С полу на меня смотрит лягушка или жаба, но размером в добрую собаку. Какая-то недоформированная. Задние ноги вроде есть, вместо передних неопределенные выросты. Пасть приоткрыта, под ней шея дрожит мелким частым дыханием. Покачал головой, ватными руками закрыл дверь, задвинул засов. Накапал корвалола, кое-как успокоился. Так под это шлепанье и заснул. С рассветом в окне бегут по небу клочья белого тумана. Ветер. Подхожу к двери во вторую комнату, прислушиваюсь, осторожно открываю. В комнате никого. Только миска пустая сиротливо на полу. Делаю шаг вперед, на уровне моей головы кто-то рядом шевельнулся. Скашиваю глаза. В упор смотрит морда вроде крысиной. И принадлежит она животному величиной с рысь, которое вцепилось когтями в неровности стены. Совсем близко черные усы, белые клыки, розовая губа. Взгляд выразительный — строгий и с подозрением. Не знаю даже, как меня вынесло вон. Просто вижу, что стою на поляне у сторожки посреди лужи. Но существо это меня не преследовало. В задней комнате тяжелые прыжки. Определяю по слуху, что зверь удалился к окну. Потом тишина. Набрался смелости, шаг за шагом вернулся в дом, рывком захлопнул дверь. В дальнейшем день как-то промелькнул. Входить во вторую комнату больше не решался, заглядывал снаружи через решетку. После обеда вынес стул, чтобы получить больший обзор, поставил снаружи у окна, забираюсь. В плохо освещенном углу какая-то борьба. Пригляделся, еле на ногах устоял. Существо еще увеличилось, но теперь оно как бы не в единственном числе. Мелькают почти человеческие руки, не две, а четыре, которые сцепились в схватке, стараясь оттолкнуть одно от другого два тела с общей единственной головой и общей же парой конечностей. Эта попытка расщепиться требует, видимо, огромных усилий, потому что мышцы всех рук напряжены, и сооружение целиком ездит по полу рывками. Впечатление, будто пришелец собрался размножиться, причем самым примитивным способом — делением. Но, по всей вероятности, эксперимент был признан неудачным. Когда через несколько часов, набравшись мужества, я опять влез на стул, инопланетник был в комнате один. Но зато он уверенно продвинулся вверх по эволюционной лестнице. Тучи как раз разредились, открыли закатное солнце. Освещенная его лучом, у стены сидела на корточках большая обезьяна. Широкоплечая, длиннорукая, жилистая. С непропорционально высоким лбом, со злыми, глубоко посаженными глазками. Посмотрел я на нее, посмотрел, этак не торопясь слез со стула, вошел в дом, надел плащ, сунул в карман туристский компас, хватил полстакана коньяку. Ясно было, что период благодушия, цветов и оркестров кончился. Дело стало серьезным. Не удастся, думаю, через реку, пойду прямо в горы, авось наткнусь на овечью отару с пастухами, как-нибудь от них буду связываться с цивилизацией. На моих глазах гость из космоса от первоначальной клетки-комочка дорос едва ли не до высшего звена в цепи живого на Земле — сорок восемь часов на ту эволюцию, которая от земной жизни потребовала четыре миллиарда лет. При таких темпах куда он может вызреть еще через сутки? И что вообще там дальше по развитию за человеком? Спускаюсь к Иште. Она уже не ревет. Обрадовался. Однако напрасно, потому что река попросту затопила самые высокие камни, похоронив шум в глубине. У самого берега течение и то быстрое, а уж в середине вода несется отдельными нервными полосами, которые то расширяются, то сужаются или гнут вбок, потесняя одна другую. Тут и бульдозер снесет, поволочет, не то что человека. На всякий случай вынул ногу из ботинка, попробовал воду — ледяная! Ладно, что делать — начинаю подниматься вдоль Ишты. Озноб бьет все сильнее. Видимо, на первоначальную простуду наложились прогулки по холодным лужам. Вхожу в лес. Темно. Вынимаю компас, намечаю себе строгий юг, как, собственно, и положение долины подсказывает. Однако прямой путь поминутно перегораживается зарослью, упавшим деревом, каким-нибудь оврагом. И когда проверяешь светящуюся стрелочку, она обязательно смотрит не по направлению твоего хода. Попробовал вовсе не убирать компас, но если держать циферблат у самого носа, не видишь у себя под ногами, спотыкаешься, падаешь. Ветки колют, непривычные к мраку глаза отказываются предупредить о том, что камень впереди, пень. Поневоле думаю, как избаловал нас всех городской комфорт, в объятиях которого житель удобной квартиры даже на пять секунд, чтобы налить на кухне стакан воды, зажигает ослепительную стосвечовую лампочку. Окончательно замучился с компасом, но между стволами просвечивает явившийся из туч, побледневший и никак не соглашающийся убраться диск солнца. Ориентир! Ладно, говорю себе, какая разница — буду идти точно на запад. Мне ведь не направление важно, а чтобы двигаться по прямой, не плутать, кругов не делать. Компас в карман, продираюсь сквозь густой кустарник. То вверх, то вниз. Однако прошло с полчаса, как впоролся в этот лесок, солнце же за ветвями не только не садится, а будто опять поднимается. У меня сердце сжалось — с ума, думаю, схожу. Выбрался на каменную осыпь — мать дорогая, это и не солнце вовсе, а луна! Теперь непонятно даже, в какой стороне остались долина со сторожкой. Тучи, луна скрылась, снова налетает дождь. Дальше трех шагов не видно, бреду наобум, лишь бы не стоять. Не сам выбираю дорогу, а детали местности ведут неизвестно куда. Весь изодрался, побился, в голове кошмар. Представляю себе эту обезьяну. Во что она теперь превращается там, в комнате? Может быть, разделилась на два, может быть, на два десятка чудищ, и они создают странные, ужасные аппараты, готовясь колонизовать нас. Действительно, так беспощадно энергичен заряд развития, с жуткой скоростью протолкнувший зародыша через червя, земноводное к млекопитающему, что на доброе и надеяться трудно. Одна за другой в сознании леденящие картины. Вижу, как смертельный луч исторгается с вершины горы, шарит, оставляя за собой полотнища огня и дыма, вижу облака непонятного газа, накатывающие на столицы государств. Цивилизация гибнет, и последние одиночки, укрывшиеся в канализации, в подвалах, с отчаянием спрашивают себя: кто же был тот мерзавец, последний идиот, который имел возможность, но не пресек в самом начале надвинувшийся на планету кошмар? Почему он не спалил в печке ужасного посланца, пока тот был еще комочком, червяком?.. А с другой стороны, как спалить? Вдруг это все-таки не десант, а мирная, дружеская делегация, от которой последуют бог знает какие технические блага? А затем новые мысли. Куда я иду, грязный, оборванный, с воспаленным взглядом и коньячным запахом? Был бы сам дежурным в исполкоме, в милиции, разве поверил бы в пришельца? Наверняка отправил бы проспаться, а то и запер бы до утра, чтобы человек в себя пришел. Это одно. И во-вторых, какое же я имею право общаться с людьми при том, что весь наверняка в микробах и вирусах иного мира? Ведь насчет Луны наши исследования, советские, уже доказали, что жизни там нет и не пахнет. Но все равно американцев, которые там высаживались, сколько потом выдерживали в карантине. А я-то общался, в руки брал, чуть ли не на вкус пробовал, пока зародыш еще совсем маленьким был. Короче, как стоял, так и повернулся на сто восемьдесят градусов. Назад! Сам должен все решить. Либо поджечь пришельца и сгореть вместе с ним, чтобы заразы не было, либо… не знаю что. И при этом представления даже не имею, где Ишта, какое конкретное направление мое назад означает. Снова лес. Но другой, высокий. Сосны и ели. Прошлогодняя хвоя слежалась между корнями в плотные, гулкие, затейливо вырезанные ковры. Оскользаюсь на них, падаю, кровь стучит в висках. И чувство, будто в чем-то страшном виноват — не тем, что вот сейчас выпускаю пришельца, а всей своей жизнью, потому что таков, какой я есть, не мог не упустить. Часов пять уже плутаю, начинает светать. Лес кончился, тащусь куда-то на подъем. Пригорки, кустарники, высокая трава — то, что прежде так приятно пролетало за стеклом автомобиля, — обретают теперь зловещую самостоятельность, держат, оборачиваются враждой и сопротивлением. Впереди каменный гребень, лезу, дыхание оборвало. Взобрался, стою шатаясь. Передо мной провал. Там, внизу, посреди поля, что-то темное с тусклым пятнышком желтоватого света посерединке. Не сразу сообразил, что это окно сторожки, где в первой комнате горит так и не погашенная мною керосиновая лампа. Сел, упал, трясущимися пальцами вынул из пачки папиросу. Что делать, как поступать? Ответственность Александра Македонского за час до битвы у Граники, колебания Наполеона перед полем Ватерлоо ничто в сравнении. Ничего не выдумал. Спускаюсь. Небо быстро светлеет, а с ним и вся долина. Возле сторожки все пока спокойно. Вошел, тихонечко взял со стены туристский топорик с черной ручкой, подкрадываюсь к двери. Оттуда легкий звук, будто материю чистят мягкой щеткой. Ну, спрашиваю себя, кого же сейчас увижу — уэллсовского марсианина с щупальцами или гения добра с сиянием вокруг макушки? Откидываю засов, удар ногой в нижнюю филенку. Мгновенно оглядываю комнату. Ни страшилища, ни гения! В углу возле окна стоит голый мужик. Плотного сложения, с чуть кривоватыми ногами. Очень обыкновенный, каких в бане навалом. Он не оборачивается на грохнувшую дверь, а усиленно растирает ладонями грудь, глядя прямо перед собой. Прислоняюсь к косяку. Топорик падает из руки. Откашливаюсь, хочу к нему обратиться, но в горле какой-то писк. Да и на ум ничего не приходит. Муторно. Чувствую, внутри бушует высокая температура. Человек трет грудь, смотрит на нее, склонив голову набок, опускается на корточки, привалившись спиной к штукатурке стены, принимается растирать бедро. Все так, будто, кроме него, в помещении людей нет. Поведение настолько нелепое, что на миг оно вытесняет из моего сознания чудовищную невероятность самого присутствия в сторожке этого субъекта. Еще раз откашливаюсь. На этот раз удается пролепетать, что вот, значит, я есть представитель земной цивилизации и рад видеть гостя из какой-то другой. В общем, что-то вроде «Здравствуйте, как доехали?». Но инопланетник занят своим делом, на меня ноль внимания. Ну, думаю, видал я пришельцев, но чтобы так… Делаю несколько нетвердых шагов к нему, замечаю, что кожа на груди мужчины отслаивается полупрозрачной пленочкой. Подхожу еще ближе. На бедре в том месте, где он трет, как бы из глубины появляется белое пятнышко, расплывается, постепенно превращаясь в бледный прямоугольник. Перевожу взгляд ниже, на лбу моем выступает пот. Инопланетник ни бос, ни обут, а наполовину. Пальцы ног срослись в одно, формируя носок полуботинка и планочки с дырками, куда продеваются шнурки. Но все это желтовато-розовое, как бы выдавленное в коже, все состоит из той же плоти, что и тело. На подошве намечен начавший образовываться рант, на пятке — каблук, который с одного боку потемнел, уже напоминая настоящий. Как если б, одним словом, обувь выращивалась тут же из организма. В глазах у меня все белеет, краснеет, затем возвращается в нормальное состояние. Гость между тем кончил тереть, принимается очень осторожно сдирать с бедра повыше колена тоненький прямоугольный участок кожи, теперь уже совсем побелевшей и покрывшейся какими-то точечками. Я наклоняюсь и вижу, что это… справка с места жительства. Форменная справка на типографском бланке с подписью и круглой печатью! Фамилии не разобрать, но документ точно такой же, как я недавно получал у себя в Москве на улице Усиевича в жилкооперативе «Драматург». А под справкой опять нормальная кожа. Комната еще раз покраснела. Вздыхаю и, к удивлению своему, убеждаюсь, что потолок ушел вбок, а я стою на горизонтальной стене, прижавшись щекой к полу, который принял теперь вертикальное положение. Пытаюсь оторваться от грязных шершавых досок, не позволяет какая-то прижимающая, давящая сила. Запаниковал, вскрикнул, а потом соображаю, что вовсе не наногах стою, а лежу. Видимо, грохнулся в обморок. И прижимает меня не что-нибудь, а сила тяжести. После того как понял это, в помещении все расставилось по местам. Свет уже не утренний, а далеко за полдень — значит, провалялся без сознания несколько часов. Смотрю, пришелец нагнулся, рассматривает полностью созревшие на ногах черные полуботинки. Скинул один, снял второй — под ними обыкновенные босые ступни. Быстро оглядел ботинки со всех сторон, ставит их прямо на мой этюд «Березка». Присаживается на корточки, начинает разглядывать темное пятно у себя на животе, трет его. Чувствую себя отвратительно, во рту медный вкус, дыхание порывистое. Тем не менее кое-как поднимаюсь, подхожу к инопланетнику. Этюд у меня, правда, написан на лаке и уже высох, но все равно весьма неприятно. Снимаю полуботинки с этюда, один ставлю на пол, другой рассматриваю. Ростовский обувной комбинат, сорок второй размер, цена двадцать семь рублей, внутренняя отделка из свиной кожи, верх телячий. Сам носил такую модель и могу поручиться, что даже товароведа-браковщика тут ничего не озадачило бы. Полуботинок, кстати, выращен не совершенно новым, а слегка ношенным. Черт знает что, одним словом! Не зная, что и думать, растерянно роняю странную вещь. Гость из небесной бездны упорно продолжает меня не замечать. Не вставая, он дотягивается, берет оба ботинка, кладет опять на этюд. Я опять снимаю их с «Березки», кладу в сторону. Посланец звезд, вставши на этот раз, возвращает их на место. Причем ни раздражения, ни досады — все так, будто не живой человек нарушает порядок рядом с ним, а бездумная природа, ветер, например. Но теперь я уже обозлен. Беру ботинки, швыряю в дальний угол. Вестник вселенной, бросив, впрочем, на меня косой взгляд, поднимается, шествует за своим имуществом, ладонью аккуратно оттирает следы штукатурки с кожи, ставит обувь, где она раньше была. Все до такой степени бытово, все так лишено торжественности, которая соответствовала бы моменту исторической встречи, что прямо оторопь берет. Но так или иначе, продолжать соревнование мне уже не по силам. Махнул рукой, вышел, стукнувшись о косяк, в свою комнату. Меня то жаром охватывает, то бросает в холод. На подоконнике зеркальце. Взял — язык обложен, вокруг носа и губ красноватая сыпь. К счастью, вспомнил, что захватил с собой в запас прозрачный листок с таблеточками олететрина. Отщипнул три штуки, проглатываю. Сел на койку. От соседа все время доносится шлепанье босых ног по полу и звук растирания. В проеме двери мелькает то и дело его белая фигура. За каких-нибудь полчаса он отрастил на ступнях безразмерные синие носочки, на корпусе — хлопчатобумажную майку и зеленые шерстяные трусики. Все, что возникает на нем, он сразу же снимает, кладет на мои этюды, на хворост, либо вешает на один из заржавленных гвоздей в стене и без перерыва принимается за что-нибудь новое. Бурое пятно на животе оказалось корочкой паспорта (старого образца, до обмена). Этот документ пришелец выращивал постепенно, отделяя листок за листочком, которые, скрепленные у корешка, так и болтались до времени возле пупа. Но досмотреть процесс до конца я уже не мог. Силы исчерпаны, сваливаюсь на постель в тяжелом, прерывистом, горячечном сне. Так вот, представьте себе, началось наше совместное житье, длившееся не более восьми дней. За этот срок, ни на минуту не покидая комнаты, ничем не питаясь, представитель чуждого разума взрастил из собственной плоти все необходимое, чтобы на среднем бытовом уровне скромно включиться в земную жизнь, и, во-вторых, духовно подготовил себя к тому же самому. Это трудно поддается объяснению, но по собственному почину он ни разу не прореагировал на мое присутствие в домике. При нем я опасно заболел, при нем чуть не умер, но этот тип даже взглядом на меня не повел, не подал стакана воды. А между тем у него вполне хватало внимания на все другое. Глаза даже вечером и ночью отлично видели нужный гвоздь на стене, руки прекрасно справлялись со всем тем, что ему было необходимо. В этой связи мне приходит в голову, что со стороны писателей-фантастов и ученых ошибочно сводить внеземной разум только к четырем обязательным категориям: выше нашего, ниже, враждебный или дружественный. Он, увы, может оказаться просто хамским разумом! Но об этом я думал позже. В момент первого шока не до того было. Как выяснилось, я перенес тогда жестокое воспаление легких, какой-то период находился между жизнью и смертью, поэтому все происходившее осталось в памяти только отрывками. Пожалуй, некоторую (но небольшую) часть того, что я видел, можно отнести на счет галлюцинаций. Не уверен, например, что на самом деле пришелец выдавил себе в рот тюбик кобальта зеленого и позеленел, скорее я сам до конца использовал этот наиболее предпочитаемый в моей тогдашней творческой палитре оттенок. Сомневаюсь также, что гость небесных глубин действительно вырастил из себя проигрыватель «Аккорд», пластинку с концертом Эдиты Пьехи, с удовольствием прослушал знаменитую певицу и затем врастил все обратно, растворив в организме. Сомневаюсь. Тут какая-то странность. Почему именно Пьеха, а не Синявская, скажем, исполнительница никак не меньшего дарования и женской прелести?.. Правда, о вкусах не спорят. Что твердо, так это инопланетник, окончивший биологическую эволюцию, совершил в течение недели столь же скорую социальную. И речь тут идет об овладении речью. Гость «заговорил» утром второго дня, как я вернулся в сторожку. Сначала то были прокашливания и продувания, какие делает оперный бас перед выходом на сцену, рычание, опробование всего голосового аппарата. Затем несколько часов от него доносились «а», «о», «у», взрывные согласные, смычные и прочие. К вечеру он произносил уже комплексы звуков вроде «дыр», «бул», «шел», потом пошли сочетания двух-трех комплексов, то есть почти слова, но бессмысленные, а ночью уже складывал из этих наборов целые предложения. В первые же сутки мною было замечено, что пришелец никогда не отдыхает, либо шагает из угла в угол, растирая себя, либо сдирает со своего тела новые предметы туалета и всяческие бумаги. Теперь к хождению прибавилось бормотание. Когда ни проснешься, засветло или в темноте, все та же непрекращающаяся речь. Иногда это вполне можно было посчитать за русский язык, потому что тонировка вскоре сделалась нашей, и невпопад стали проскальзывать русские слова. Я несколько раз напрягался, пытаясь разобрать, что именно высказано, и потом спохватывался. Но на третий день из комнаты вдруг отчетливо прозвучало: «Не подскажете, сколько времени?» Я в этот момент как раз дотащился к ведру с водой, чтобы запить лекарство, от неожиданности уронил свою таблетку. Очень обрадовался и заторопился к пришельцу в его комнату. Однако голый человек, глядя не на меня, а прямо перед собой в стену, сказал совсем неожиданное: «Сама уступи. Подумаешь! Сейчас все инвалиды». Затем бессистемный набор слов и опять связная фраза, но совсем другим тоном: «Прошу вас молчать, когда вы со мной разговариваете!» Видимо, это было овладение риторикой различных слоев общества. С этого времени инопланетник стал говорить осмысленными предложениями, которые, однако, не были связаны между собой. Голос звездного гостя сначала звучал как-то сухо, металлизированно, словно запись на некачественной ленте, но постепенно обрастал фиоритурами, делался естественней. Час от часу губы пришельца двигались быстрее — он начал примерно с десятка слов в минуту и довел их количество до четырех-пяти сотен и больше, так что это превратилось в жужжание, затем в гудение, потом в свист, негромкий, правда. Я притерпелся к этому звуку, как привыкают к неисправному холодильнику. Так было опять-таки суток трое, а может быть, и четверо, не помню. И вдруг гость выключился. Напрочь умолк. Вероятнее всего умолк потому, что выучился произносить все слова и комбинации слов, которые считал необходимыми для благополучного функционирования в нашей земной действительности. Во всяком случае, я сплю, и вдруг внезапная тишина. Это меня пробуждает. Обеспокоенный, встаю, держась за стенку, иду к пришельцу. И вижу, что он разлегся на полу врастяжку. В первый раз за все это время отдыхает. А по стенам гвозди все до единого заняты вещами, на моем эскизе «Березка» полуботинки, на другом — синие кеды и под окном две аккуратные стопочки. Это документы и деньги — главным образом помятые рубли и пятерки. Трудно поверить, что вся эта масса материи, включая самого человека, возникла, развилась из крохотной мягкой выпуклости на черном камешке. Однако факт, как говорится, налицо. Осматриваю, что же он из себя понавыращивал, замечаю, что некоторые предметы туалета повешены еще не вполне готовыми. Так, скажем, пуговицы на паре модных польских джинсов — знаете, недорогие, рябенькие — еще не опластиковались до конца, сохраняют тельный оттенок. А постромки парусинового вещмешка пока откровенно из человеческой кожи — со светлыми волосками и порами. Автоматически снимаю мешок с гвоздя. Инопланетник приподнялся, провожает его (вещмешок, но не меня) взглядом. Выхожу из дома на дождь, закидываю жутковатое изделие подальше в лужу. Все как-то импульсивно, без мыслей. Возвращаюсь в комнату. Посланец небесной бездны сидит на полу и энергично растирает себе спину над лопатками — собрался вырастить другой мешок взамен. И ни слова упрека, ни жеста в мою сторону. Как будто я такое существо, на которое не стоит тратить никаких эмоций, в том числе и гнева. Затем неожиданно, глядя в сторону: «Молодой художник тонко чувствует красоту родной природы». Не знаю, возможно, это болезнь, но скорее всего критической массы достигла у меня оскорбленность его хамским поведением. В мозгу что-то соскочило, кровь вскипает, хватаю топорик, благо он тут же валяется, бросаюсь на пришельца. Тот проворно вскакивает, протягивает мускулистые руки. У меня неизвестно откуда взявшаяся сила, наношу удар, метясь в голову. Не выходит — лезвие с хрустом вонзилось в плечо. Через миг топорик вырван из моей руки, отброшен. Но я и сам теперь в ужасе. Обмяк, разинул рот. Понимаете, удар развалил плечо чуть ли не надвое, но рана не заполнилась кровью. Вообще ничем не заполнилась, и срез не красный, а тот же канифольный, желто-коричнево-охряной, что и первичный комочек. При этом вестник вселенной не чувствует ни боли, ни страха. Выпятив челюсть, он брезгливо смотрит на разваленное плечо, сжимает это место пальцами, отчего края раны склеиваются. Садится на пол, по-азиатски скрестив ноги, закидывает руку назад, придерживая локоть другой рукой, и снова трет спину. После этого мы были вместе еще день, ночь и второй день — полтора суток, самые тяжелые в течение моей болезни. Кашель раздирает, царапает грудь и горло, легкие чем-то забиты, не берут воздуха, не успеваю отдышаться за редкие перерывы между приступами. В какой-то миг подумал, что умираю, и даже обрадовался — конец ответственности! Но сердце оправилось, и я устыдился. Именно на этот период падают галлюцинации, и тогда же я два раза бросался на инопланетника с намерением его задушить. Будучи неизмеримо сильнее, он, конечно, без труда отбивал мои атаки, но никогда не отвечал ударом на удар. И дверь в его комнату постоянно оставалась открытой. Смутно помню последние часы пребывания звездного человека в сторожке. Кажется, именно тогда, заметно торопясь, он вырастил из себя зеркальце и зубную щетку. Самый момент ухода я пропустил. Могу только сказать, что в полузабытье услышал над собой два спорящих голоса. Один собеседник требовал от второго, чтобы тот побыл в доме со мной до вечера. Другой, как будто бы пришелец, угрюмо отнекивался, ссылаясь на то, что «производство ждать не может». После этого у меня провал, а придя в себя, вижу возле койки скульптора из Алма-Аты и еще одного мужчину, который оказывается врачом. Запах спирта, укол, потом они усаживают меня на двуколочку, долгим кружным путем везут в город. И уже там, когда я на больничной постели, скульптор рассказывает, что, не получая обещанной открытки, решил проведать меня и нашел в таком вот состоянии. По его словам, в сторожке в тот момент был случайный путник, турист в польских джинсах, который в результате долгих уговоров дал-таки слово побыть со мной, больным, пока скульптор привезет врача. Но обманул, ушел, бросил. Алма-атинский маэстро возмущен, клянется разыскать незнакомца в столице Казахстана, публично дать пощечину, осрамить. Потом понемногу успокаивается и лишь повторяет: «Это ж не человек! Разве настоящий человек так сделает?» Я-то знаю, человек этот «турист» или нет. Но при моих попытках объяснить, как все было, врач начинает переглядываться со скульптором, сует мне успокоительное и заверяет, что все образуется. Прошу принести вещмешок, который хозяйственный маэстро не забыл выудить из лужи. Однако за прошедшие двое суток заплечные лямки там вполне дозрели и ничем не отличаются от настоящих… «Куда ушел?» Да просто жить!.. Нет, именно не завоевывать Землю, не колонизовать, не переделывать на какой-то другой лад, а как раз устроиться наилучшим образом и благоденствовать, отдавая поменьше, получая побольше. Насколько я теперь понимаю, где-то в безднах космоса плывет планета-кукушка. Не будучи в силах прокормить рождаемое ею живое вещество, она рассылает его в пространство запечатанным в камне. Эти комочки наделены поразительной способностью: попадая после долгого путешествия в тот или иной мир, они умеют мгновенно собрать информацию, какой вид является здесь наиболее преуспевающим. На Земле это человек, и поэтому мой сосед остановился именно на стадии человека. На Марсе, будь там жизнь, зародыш с планеты-кукушки обернулся бы марсианином, однако не просто, а марсианским вельможей, марсианским заведующим продскладом, директором торговой базы. Приходится также думать, что, когда посланец странной планеты формируется и вызревает у нас, допустим, на Земле, он ухитряется заменить собой кого-нибудь из землян точно так же, как птенец-кукушонок заменяет собой потомка сойки, например, выталкивая его из гнезда и из жизни. Было бы очень сложно для этих путешественников совсем заново внедряться в земную действительность, создавая себе вымышленную биографию, организуя людей, которые будто бы их прежде знали. Скорее всего такой субъект непостижимым для нас способом нащупывает в окружающем пространстве уже не худо устроенную личность, каким-то внутренним взрывом незаметно уничтожает ее, распыляя на атомы, и спокойно встает на ее место со всеми вытекающими последствиями. Поскольку я во всем этом разобрался, для меня «Феномен X», например, вовсе не загадка, как для всей академии. Конечно, это пришелец, причем совсем свежий… «Никогда не обнаруживали при вскрытии…» Да, не обнаруживали. Но, во-первых, посмертные вскрытия практикуются лишь последнее столетие. А что касается несчастных случаев, войн, то пришельцы как раз умудряются не попадать туда, где опасно и трудно. В средние века солдатами они не нанимались, и сейчас их среди летчиков-испытателей не встретишь, учителями шестых классов в среднюю школу они не идут. Но главное даже не в этом, а в том, что с течением времени у них развиваются внутренние органы, как у нормальных людей. Тот чужак, который внедрился в Шуркина, видимо, попал на флюорографию очень скоро после того, как заменил собой прежнего, настоящего коммерческого директора. Уверен, через годик у него легкие будут на месте, сердце, позвоночник и все другое. Не исключено, что и сам он постепенно станет порядочнее. Есть же масса примеров, когда в старости раскаиваются самые закоренелые преступники. Ну и среда, конечно, может действовать, воспитывать человеческие качества. Мне это хорошо известно, потому что сам из пришельцев… Да нет, вы не надо, не пожимайте так плечами… Да я же вижу!.. Ну вот, я и хочу рассказать. Понимаете, тогда, после всей эпопеи в сторожке, выписывают из больницы. Отвезли меня скульптор с врачом на аэродром, попрощался, обнялись, сажусь в самолет. И плохо на душе. Тоска, уныние, боль. Тревожусь, не навредит ли нам этот «турист». Вспоминаю, каким сам оказался беззаботным в создавшейся ситуации, нерешительным, неприспособленным, другой на моем месте поездку в Алма-Ату не откладывал бы на день, не дожидался, пока зародыш в целую обезьяну вырастет, в горы пошел бы не ночью, а раньше, не плутал бы там, спутав солнце с луной. Одним словом, ругаю себя, и вообще мир стал каким-то зыбким, сдвинутым, все понятия перевернуты. Бесперебойно гудят двигатели Ту, внизу откатываются облака, а мне стыдно самого себя. Кто я такой, для чего живу, за что мне себя уважать? Вот окружила пассажиров комфортом четкая служба «Аэрофлота». Тысячами тружеников, начиная от конструкторов машины, от тех, кто добывает нефть, кончая кассиршей, вручившей мне билет, обеспечивается современное технологическое чудо полета. А я?.. Лично я что же людям за это?.. Ведь почет, которым пользуюсь, деньги, поездки — все Левитану, собственно, адресовано, преподавателям в институте, которые меня учили. Сам-то ничего еще в мир не внес. Сколько продано картин, и за большие тысячи, а все ремесленное, все по схеме, играючи, легко, без сердца, без усилия, фальшивка. И, знаете, начинаю бояться разоблачения. Немедленного, вот сейчас, прямо на месте. В соседнем кресле пассажир дремлет, до меня ему никакого дела, а я жду, что поднимется сей момент и влепит пощечину. Стюардесса идет с подносом, а я думаю, возьмет стакан да выплеснет в физиономию. А мне возмутиться даже нельзя, потому что все правильно, потому что как раз так со мной и надо. В общем, охвачен сумасшедшей паникой. А потом вспоминается одно необъяснимое обстоятельство. Лет семь назад было. Лежим с женой утром в постели, про сынишку, про родственников говорим. И вдруг она мне: «У тебя сердце совсем не бьется!» Как так? Руку на грудь, действительно глухо. А чувствую себя отлично. Зарядка с гантелями, дважды в неделю в бассейн, и вообще на мне пахать. Однако Лена моя в страхе. Давай, мол, поднимемся наверх. А там в квартире врачи живут, так, полузнакомые — затопили нас однажды, вот и разговорились. Поднимаемся, позвонили. Она на работу торопится, он диссертацию подклеивает — стол весь в бумагах. Тем не менее достает свою трубочку. Лицо недоуменное, пытается нащупать пульс: «Давно это у вас?.. Болей нет?.. Одышки нет?.. Повернитесь так… Присядьте… Привстаньте». Поднимает плечи, разводит руки. Феномен исключительный, небезынтересно для науки. Очень хотел бы заняться лично сам, но днями защита. Не соглашусь ли походить пока так, не обращаясь в другое место? И тут, кстати, у меня выгодная работа, связанная с командировкой. Вернулся. Нашему врачу защиту отложили, вычерчивает дополнительные графики. Жена просто насильно в поликлинику! А там запись, там очередь. Эпидемия гриппа — еще в коридоре суют под мышку градусник. Терапевт сидит замученный, не поднимает головы, только в карточку пишет. «Температуру мерили?.. Слабость есть?.. Боли в пояснице?» Отвечаю, что температура нормальная, но вот сердце не бьется, пульса нет. «Сердце, говорите, не бьется? Вам тогда в похоронное бюро. А мне голову не морочьте. У меня еще двадцать человек на прием и пятнадцать вызовов… Следующий!» В общем, побольше года я тогда проволынил, а после начался слабенький стук в груди. Вспоминаю этот эпизод, двигатели звенят, и меня осеняет — черт возьми, а не подмененный ли я-то?! Действительно, ведь как сердце исчезло, и страдать перестал, что халтурю. Читать вдруг скучно сделалось. Консерваторию с женой совсем забросили. От нее только и слышишь: «Я на эту шубу больше смотреть не могу!» И сразу с ней соглашаюсь. Встречаться со старыми, еще студенческой поры друзьями перестал — только деловые, «нужные» связи. На выставке как-то наскочил на прежнюю компанию: «Тебя, Вася, как подменили». Размышляю дальше и обнаруживаю, что без шуток вся моя деятельность — какая-то хватательная поспешность. Гоняюсь за изобилием роскошных вещей, дорогих услуг, и, поскольку постоянно открываются новые возможности, насытиться невозможно. Я на свою «Волгу» чешские фары поставил, а знакомый едет на три месяца в Сомали. Идем с женой к соседям похвастать, как в самом лучшем берлинском отеле останавливались, а у тех на стене неведомо откуда взявшаяся коллекция псковских икон. Гонка и гонка, все равно хоть где-то, но отстаешь, поскольку всего охватить нельзя. И при этом же на фоне успехов где-то, далеко спрятанная, гнездится тревога. Вдруг ощущение, что занимаешь не свое место, но так уж получилось, что и сам и окружающие обязались пока этого не замечать. Пока! От этих мыслей весь мокрый стал. Хочется бежать, переменить что-то, немедленно действовать. А куда побежишь в самолете — восемь тысяч метров над землей? И в конце концов говорю себе, что есть единственное средство постоянно оставаться удовлетворенным. Это найти себя. Не спешить, не завидовать, а полной мерой осуществлять то, к чему у тебя способность. Приехал домой, начатую заказную вещь не стал продолжать, договоры расторг, этюды, сделанные в горах, забросил. В мастерской натянул холст на подрамник, сел перед мольбертом. Ну, думаю, только настоящее, заветное, за что меня в институте уважали, будущность прочили. Хвать-похвать, а в душе-то пусто! Когда-то были свежий колорит, свое видение предметов, фантазия. Но растерял. Искать, мучиться отвык, рука сама идет на схему. Пишу, соскребываю, опять начинаю, бился-бился, результатов нет. А уровень жизни уже установленный, высокий. Постепенно пораспродали с Леной люстры, всякие там суперклассные магнитофоны, «Волгу» отогнал в комиссионный. И все-таки хватило мужества признать, что поздно спохватился… Да, преподавателем. Это ведь у меня осталось — мастерство, ремесленный навык. Из своего прежнего окружения многих, конечно, удивил очень. Но доволен, даже счастлив. Спокойно стало на сердце, ничего не боюсь, за свое дело полностью отвечаю перед кем угодно, на собственном дворе, хоть маленький, но хозяин. Работы хватает. Студию для ребят организовал. Не все мои кружковцы выйдут в художники, но что они лучше от этих занятий делаются, не сомневаюсь. И жена, между прочим, начала писать, Лена. Тоже ведь Суриковский кончала, но при наших прежних деньгах то в магазин за чешским стеклом, то за финской мебелью. А теперь в свободную от хозяйства минуту присядет с кистью, оригинальные такие акварели получаются… «Вредят?..» Кто, пришельцы?.. Да зачем им вредить? Во всяком случае, сознательно вредить нет смысла. Кукушонок же не стремится разрушить гнездо, в котором так удобно устроился. И я не приносил вреда своими опусами, только мешал, загораживал дорогу настоящему. Шуркин тоже небось хочет, чтобы все было хорошо, а не плохо — ведь по его вкусам не разруха нужна, а чтобы в магазинах большой выбор дорогих товаров, в ресторанах изысканные блюда. Короче говоря, инопланетники субъективно не настроены портить что-нибудь на Земле. Но они чужие, холодные. Хоть мой приятель у речки Ишты. По его задаче, я был не нужен, он и смотрел как на пустое место. Вот равнодушие, чужесть и страшны. Вы разве не замечаете, как распространяются по миру эти безродность, пришельчество? Взять Запад. Террористы захватывают заложников — дай им миллион и авиалайнер, в противном случае всех перестреляют. Человеческая жизнь, словно разменная фишка, — нажал курок, и никакой достоевщины. Торговцы порнографией наполняют рынок цинизмом, грязью, коммерческие издательства — бросовой, тоже грязной литературой. И все это для денег, для прибыли. А вещи, материальные ценности! Прежде даже в зажиточной семье любую вещь донашивали до конца, в крайнем случае прислуге отдавали, а сейчас огромные массы сырья, неимоверные количества энергии тратятся, чтобы покупатель ежегодно менял костюмы, телевизоры, мебель, автомобили, выбрасывая на свалку все прежнее, почти новенькое. Все так, будто не было у нас предков, не предвидится потомков, которым ведь тоже понадобится мировой ресурс. Все так, будто сегодняшнее поколение последнее… А у нас! Бывает, важное дело, спешишь в учреждение, а там безразличная рожа инопланетянина. Или недавно в газете возмущенная статья. Помните, главный инженер небольшого завода открыл резервуар отходов и загубил по всей длине целую речушку. Концы у этого инженера что-то не сходились с концами, опасался премию упустить. А между тем на этих берегах когда-то славянские полки стояли против половцев, потом советские войны против фашистов. Сам инженер тоже из этой местности, значит, здесь же его мать и отец встречались первым свиданием, здесь он сам голопузым огольцом плескался с приятелями, ловил уклеек. Все так, а он одним махом превращает речку в черную, грязную канаву. Ясно же, что в действительности не человек, а инопланетник, у которого не было на Земле никакого прошлого. Или слова… Ну слова, которыми мы все объясняемся. Разве не попадались вам персонажи, чьи слова — только сотрясение воздуха? Верить нельзя, надеяться, что сделает, как сказал, не приходится. Вы удивляетесь, а штука-то в том, что он пришелец. Ему слова русского языка не с детства постепенно приходили в сердце, не жизнью он их постепенно постигал, а просто за какие-то двое суток, как мой знакомец, выучился произносить, не вникая в смысл. Тот же Шуркин наверняка частенько употребляет сочетания «долг перед обществом», «права гражданина» и тому подобные. Но это ведь только звуки, а вовсе не отражение его настоящих интересов… Инопланетники, строго говоря, всегда врут, даже если случайно правда выскочила. Сказал, например, «снег черный». Тут уж явная ложь. Но когда утверждает, что белый, все равно соврал, потому что такое заявление не жаждой истины рождено, а просто говорящий считает, что в данном случае так выгодней. «Не разрушили земную цивилизацию…» Да, не разрушили. И не могли с ней ничего сделать, потому что раньше и люди и страны были разрознены, технология слабенькая. Произошел казус, он и гаснет, затрагивая лишь маленькую сферу. Но сейчас-то иначе. Все связано со всем. Директор выдал липовую сводку, его перестали прорабатывать. Но на этом же не кончается. По его цифрам другому предприятию спускают план. Оно чего-то недополучает, тоже принимается мудрить, и все катится нарастающим комом. Вот поэтому и опасно — отдельного ничего не осталось. Дымят заводы в Детройте, производя ненужные лимузины, а копоть поднимается в верхние слои атмосферы, зависает над долиной Ганга, загораживая солнечные лучи, и, пожалуйста, неурожай. Прежнего разбойника одна кобыленка уносила, когда он путника ограбил, а теперь в моторах авиалайнера пятьдесят тысяч лошадиных сил хрипят, роняют пену. И если террористам удастся со складов НАТО украсть атомную бомбу, вполне могут превратить в пепел сразу всю Бельгию или Голландию — им-то что Тиль Уленшпигель, картины Рембрандта, если они пришельцы, если не на Земле родились, а с планеты-кукушки прилетели?.. «Не верится!..» Во что вы не верите?.. «Пригрезилось?..» Мне пригрезились и комочек, и выросший из него, человек, потому что я в лихорадке?.. Прекрасно! Ну-ка посмотрите наверх! Думаете, зачем я вас именно сюда привел, к университету? Затем, что здесь обзор большой и огромное небо. Смотрите, смотрите!.. Видали, звездочка с неба сорвалась?.. А теперь здесь, прямо над стадионом. Смотрите же!.. Вон еще летит. Правее. Да не туда! Куда вы смотрите, правее!.. Двадцать восьмое июля сегодня, правильно? Мой приятель в сторожке тоже двадцать восьмого июля явился. Вон оттуда они несутся, от созвездия Персея. В эту ночь Земля как раз пересекает их поток. Сейчас должен быть звездный дождь… Видите, видите, начинается! Вот две звездочки пролетели, погасли, вон три… нет, четыре!.. Вот еще одна… две… Как они сверкают на бархате неба! Ну, скажу вам, насыплется в эту ночь на Землю пришельцев. Конечно, из тех звездочек, что мы видим, почти все сгорают. Но которая до самого горизонта падает, уж будьте уверены. Так и знайте, через неделю, через месяц про кого-нибудь скажут: «Ну просто как подменили! Совсем другой человек стал!..» «Что с ними делать?» Как что? Мы же не можем обратно в космос отправить, которые нападали. Таких вот шуркиных. Я, собственно, поэтому и преподавать пошел, а не в сувенирный комбинат. Детей надо растить устойчивыми против пришельчества. А если уж подменили, то воспитывать, перевоспитывать. Чем больше на Земле механизмов, машин, тем яснее становится, что главная функция настоящего человека — нравственная. Важно, чтобы он неравнодушным был, заинтересованным, чтобы энтузиазм. Если чего не знает, не умеет, всегда найдется, кому показать. А когда с моралью слабо, он и спрашивать не станет. Сляпал кое-как, а что потом, ему все равно… Все-таки не верите?.. Ну и не надо. Только у меня совет. Допустим, у вас затруднение на производстве, в конторе или вообще в жизни. Предположим, вы стоите перед выбором, так поступить или этак. Вот прежде чем вынести решение, проверьте, не пришелец ли вы. Положите руку на грудь — бьется ли человеческое сердце?
Песах Амнуэль СТРАННИК
Что такое… странник? Странный человек… не похожий на других…М. Горький. «На дне»
ПРОЛОГ
Жил-был странник. Человек как человек: с открытым, немного грустным взглядом, тихим голосом и умными пальцами музыканта. Собеседнику часто приходилось переспрашивать его в разговору потому что голос его и рассказ будто уходили в себя. Он побывал во всех уголках Земли, во всех странах и городах, дышал мягким ароматом лугов и злой взрывчатой гарью вулканов, ходил по нежному песку Сахары и колючему цепкому снегу Антарктиды. Все знали его, все говорили, увидев его: — Вот идет странник. А потом он исчез. Ни на кораблях, ни в поселках не слышно было его тихого смеха, его неспешного рассказа. Кто-то видел его, кто-то говорил с ним, кто-то поведал миру: — Знаете, — сказал кто-то, — странник ушел к звездам. Так и ушел — в стоптанных ботинках. «Смысл жизни человека в том, чтобы быть всем и везде», — так сказал странник кому-то и добавил: «Земля это не все, и я ухожу». Кто-то не понял его, спросил удивленно: — Вы участник экспедиции? Летите на Марс строить оранжереи? Нет? Тогда на Плутон — взрывать горы? Тоже нет? Значит, в звездную? — Нет, нет и нет. Я ухожу пешком. Дойду до Веги по белой мгле Млечного Пути, наберу горсть воды из марсианского озера Сциллы, увижу грозы на планете звезды Альфарх, услышу тихий шелест аммиачной реки на Плутоне. Я смогу все, потому что умею мечтать, и нет звездолета мощнее. И странник ушел к звездам — по лунной дорожке, на которой до сих пор видны отпечатки его следов. Выйдите ночью на берег, вглядитесь, и вы увидите.1
Столы здесь были чуть более серыми, стены чуть более зелеными, а обучающие машины чуть более разговорчивыми. Это «чуть» было совершенно незаметно для взрослых, а Ким заметил, и в новом классе ему не понравилось. Ким понимал, что скоро освоится, расскажет ребятам, что приехал в город с отцом и будет здесь учиться, пока отец не закончит работу. В комнату вошли, слишком степенно, как показалось Киму, его новые одноклассники — трое ребят и две девочки. Ребята были ниже Кима, а один — Сережа — выглядел просто малышом для своих одиннадцати лет. — Тебе нравится у нас? — спросил Сережа. — Не нравится, — ответила за Кима Ольга — невысокая девочка, тоненькая, светленькая. — Разве вы не видите — он очень любит учиться. Тихо, спокойно. — А вы не любите? — удивился Ким. — Не-а, — весело подтвердила Ольга. — Нужно просто жить, смотреть по сторонам. Знание само придет. Тихо, спокойно. Ким не успел возразить. Серебристой змейкой прошелестел звонок, ребята мгновенно оказались у своих столов, одна Ольга не спешила: прошла вдоль рядов, посмотрела не контрольные экраны, стрельнула глазами в сторону Кима, и он смущенно отвел взгляд. Он не понимал причины, но чувствовал, что не сможет спорить с этой Ольгой. Она ему совсем не нравилась, задиристая какая-то, но говорила она с такой убежденной беспечностью, что возражать было бессмысленно. Учитель Игорь Константинович Астахов вошел в класс, поздоровался тихо, сказал: — Вы познакомились, ребята? Я отменяю урок. Мы покажем Киму школу и поговорим. Они вышли на школьный двор. Планировка его отличалась от той, к какой Ким привык за шесть лет. Справа мостик над быстрым ручьем, дальше учебно-расчетный центр. Слева вместо гимнастических снарядов покрытый невысокой травой луг, мальчики гоняли здесь мяч. Астахов привел класс к ручью, сел, поболтал пальцами в воде. — А знаете, — неожиданно громко сказала Ольга, — Ким на любит работать, ему бы только учиться. Ким весь вскинулся от такой несправедливости. — Мы построили школьный мотодром, — сообщил он. — Наш класс — все шестеро — и двое ребят из соседнего. — Мотодром? — загорелся маленький Сережа. — Здорово, дядя Игорь, верно? — Что ж, — согласился Астахов. — Только я предлагаю не мотодром, а, скажем… — Гравиплан, — выпалила Ольга, и все заулыбались, а Киму стало неловко — эта Ольга не понимала, что говорит. Серийный гравиплан собирают два месяца. Сердце мотора — вещество с анизотропным тяготением — выращивают на заводах годами. Астахов жестом успокоил ребят, начавших спорить о деталях конструкции. — Ким, ты знаешь разницу между желанием и умением? — Желания могут быть как угодно велики, — сказал Ким, — а умение конкретно. — Примерно так. И по-моему, Ким, лучше не принижать желания до твоего умения, а наоборот. Я за мечту, Ким. Нужно уметь то, чего никто не умеет. Знать то, чего никто не знает. Увидеть то, чего до тебя никто не видел…2
Ким опаздывал на урок. Подбегая к школе со стороны летнего бассейна, он увидел мелькнувшее в кустах золотистое платьице и перешел на шаг. — Подержи, — требовательно сказала Ольга и протянула Киму две большие биты. Пошла рядом, посматривая на Кима, чему-то усмехаясь. — Слушай, — сказал Ким, — а ты лично сделала какое-нибудь открытие? — Вот еще, — вскинула взгляд Ольга. — Я лентяйка. Тебе понравился папа? — Какой папа? — не понял Ким. — Учитель. — Он твой отец? Ким был окончательно сбит с толку. Отец, который требует необъятных стремлений, и дочь, уверяющая, что она лентяйка… — Сейчас принято, — рассказывал учитель Астахов, — делить историю космонавтики на два периода: планетный и звездный. Звездный ведет отсчет с момента, когда стартовал к Проксиме Центавра «Победитель», первый звездолет на кварковых двигателях. Экспедиция ушла к звездам, когда Кедрин на Марсе еще не закончил расчетов. Только пять лет спустя он доказал, что скорость света можно увеличить во много раз. Опыт Кедрина повторили, и очень скоро со стапелей сошла «Аврора» — первый звездолет с фотоускорителями. «Аврора» ринулась вслед «Победителю». Где-то среди планет Проксимы корабли встретились. Командиру «Победителя» Голованову и его экипажу предложили перейти на «Аврору». Голованов отказался, и звездолеты разошлись. Вскоре на «Победителе» вышел из строя реактор, и его катапультировали. До Земли корабль мог дойти и на втором реакторе, но о продолжении исследований не могло быть и речи. «Победитель» ушел к Солнцу, сообщив на «Аврору» об аварии. Люди боролись до конца и привели «Победителя» к базе на Плутоне. Они стали героями. Но подумайте, ребята, в чем же героизм Голованова? Его полет — типичный пример нежелания подчиняться диалектике жизни. Кроме того, на примере Голованова воспитываются миллионы ребят. Учатся идти до конца, когда разумнее остановиться… Вот все, что я хотел вам рассказать, прежде чем вы начнете изучать элементы кварковой техники. — Я знал, что ты подойдешь ко мне, — сказал Астахов. Занятия кончились, ребята разошлись, кто домой, кто в школьный интернат. — Разве Голованов не был прав? — ожидание притупило запальчивость Кима, он говорил теперь более рассудительно, чем сам того хотел. — Земля доверила ему корабль. Он не мог покинуть машину. Я читал, видел: раньше летчики спасали горящие самолеты, капитаны не уходили с тонущих кораблей. — Это другое, — покачал головой Астахов. — Героизм летчиков-испытателей выше головановского, потому что имел смысл. Люди всегда ошибались, но ошибки бывают разными. Мне потому и не нравится отношение к «Победителю», что из этой истории не извлекли нужного урока. Ким промолчал, его покоробила фраза «люди всегда ошибались». Учитель умен, но настолько ли, чтобы судить об ошибках всех людей Земли? Астахов по-своему расценил молчание Кима, сказал: — Я живу рядом. Пойдем, я покажу тебе, какие бывают ошибки. Киму сразу понравилось у Астахова. Поражала невероятная для жилой квартиры библиотека — десятки тысяч книгофильмов стояли на стеллажах, занимая всю площадь стен от пола до потолка. Ольга сидела в кресле и смотрела приключенческий фильм — в глубине стереовизора, покачиваясь, бродили динозавры, не обращая никакого внимания на опустившийся неподалеку дисковидный звездолет пришельцев. Увидев вошедших, Ольга выключила аппарат. — Сколько книг! — сказал Ким. — Это не книги, — тихо отозвался Астахов. — Это свалка. — Так папа называет свою коллекцию, — объяснила Ольга. — Здесь идеи, сверху донизу, и этажом ниже, в подсобнике. Астахов остановился перед стеллажами, любовно провел ладонью по выпуклым бокам капсул микрофильмов. Достал одну, включил проектор. Заструился морозный утренний воздух, где-то далеко внизу плыла река с городом на берегах, а Ким летел, стоя на палубе странного сооружения — это был корабль девятнадцатого века с узкой кормой, длинным форштевнем, с обитой железом палубой. Мачты уходили высоко вверх и не несли парусов — на их верхушках вращались пропеллеры, создавая подъемную силу. — Робур-завоеватель, — сказал Ким, воображая себя на палубе «Альбатроса», крепко стоящим на широко расставленных ногах, а город внизу, конечно, Париж, жители которого с ужасом следят за полетом таинственного корабля. Изображение распалось, Астахов отключил проектор. — Мертвая конструкция, — сказал он. — Направление было прогрессивно — аппараты тяжелее воздуха, и принцип геликоптерных винтов верен, а конструкция подвела. Здесь у меня все идеи, конструкции, проекты — мертвые. То, что не вышло. То, что не было додумано. То, что оказалось неверным в принципе. Все отрицательное, что наука сотни лет сбрасывала за борт. Шлак. Издержки. Понимаешь? — Д-да, — протянул Ким. — Ничего он не понимает, — насмешливо сказала Ольга. — Он просто очень воспитанный мальчик. — Я начал собирать ошибочные идеи из любопытства, — продолжал Астахов, будто не слыша слов дочери. — Я учился тогда в Институте футурологии. Да, Ким, по первичному образованию я футуролог… И как-то, изучая историю техники, предмет очень логичный, как внутренне логичен прогресс, я заметил, что кое в чем логика авторам изменяет. Прогресс — это гигантское дерево, и мы изучаем строение его ствола — столбовые идеи. А ветви, которые никуда не ведут, мертвые сухие веточки, мы на ходу подрубаем у основания. Мы изучаем логику становления новых технических идей, и не изучаем логики идей отвергнутых. Тогда возникла мысль: посадить рядом с деревом прогресса другое дерево, дерево неверных идей. У него то же корни — практика, наблюдение, опыт. А ствол, ветви? Куда они ведут?.. Астахов помнил себя в семнадцать лет. Он ощущал в мышцах силу, развитую годами тренировок, и твердо верил, что добиться поставленной цели может каждый. Но Земле не нужен был легион звездолетчиков. Не прошел отборочной комиссии и Астахов. Он получил голубой жетон, на котором был записан довольно лестный отзыв о его способностях и настоятельный совет: заняться футурологией. Астахов не представлял, что человеку можно сказать «нет». По аналогии с собственной неудачей его заинтересовали неудачи других — ошибки не жизненные, а творческие, технические, научные. Сначала Астахов собирал, что попало. Старые забытые проекты выкапывал из архивной пыли, из патентных библиотек, даже из романов. Выписки, чертежи, модели… Это был сизифов труд: ошибок у каждого ученого на поверку оказалось больше, чем верных решений. Астахов закончил институт, работал футурологом-методистом, ему очень помогала созданная им статистика ошибок. Но это и была вся польза от его увлечения. Стал ли он ближе к звездам, к которым стремился по-прежнему, — без надежды увидеть мечту осуществленной? Он решил сдать «свалку идей» в архив, но в это время ему пришла в голову мысль о перекрестном сравнении,3
— Папа редко рассказывает о своей коллекции, — сказала Ольга. Она провожала Кима домой. — Ты знаешь все идеи, которые собрал отец? — спросил Ким. — Не-а, — отмахнулась Ольга. — Зачем мне? — Как зачем? — удивился Ким. — А так. Почему мы раньше не могли жить как все? Эти дурацкие идеи — кому они нужны? Кима возмутила несправедливость упрека. — Твой отец учитель. Разве можно давать людям больше, чем он? Ольга вздохнула: — Папа стал учителем по ошибке. Мог бы и геологом… Все, понимаешь, все у него так! Иногда я думаю, — она понизила голос, говорила почти шепотом, — может быть, и я тоже ошибка… Ольга помолчала. — А все началось с того прогноза… Как-то Астахов готовил материалы для прогноза энергетики Прибалтийской экономической зоны. Один из вторичных прогнозов, которым пользовался Астахов, оказался неверен. Горел генеральный прогноз: новые данные — новые связи. Астахов, то ли со злости, то ли из присущего ему чувства противоречия, заложил в машину все, какие только смог найти, ошибочные прогнозы по Прибалтике. Ошибка на ошибке — он представлял, какая вампука получится из его затеи, и все же внутренне почти не был удивлен, когда машина выдала абсолютно точные данные за прошедший год. Случайность, совпадение? Астахов не знал. А решение зрело. Оно вынашивалось долго. Сначала мешала психологическая инерция, из-за которой Астахов не сразу понял: рождается новая наука. Эрратология — наука о научных ошибках. Не сразу понял он и то, что новая дорога может вывести его к звездам. Астахов шел ощупью, он еще не знал, верна ли его основная теорема. — Между мертвыми идеями науки, — утверждал он, — существуют мириады неощутимых связей, которые должны сыграть роль живой воды — должны оживить засохшее дерево. Вот принципиальное положение эрратологии, ее основная теорема: пользуясь только внутренней логикой развития ошибочных идей, изучая лишь ошибочные проекты, можно получить верное решение задачи. Неверных решений а истории науки накопилось так много, что появление нового качества неизбежно. В кризисной ситуации, когда правильных решений еще нет, существуют два способа выбраться из тупика. Первый: ждать, когда природа преподнесет открытие. Второй: применить методы эрратологии, найти новое самим. Первый способ эффективнее. Второй — надежнее… — Ошибки — хлам, — сказали Астахову. — От них нужно избавляться, вот и все.4
Яворский-старший ходил по комнате, некрасиво размахивая худыми руками, говорил увлеченно: в семье повелось, что о своей работе отец всегда рассказывал сыну. — Папа, — сказал Ким, прерывая рассказ. — Я познакомился с интересным человеком. — Знаю, — отозвался Яворский-старший. — Я говорил с Астаховым. Отцу не хотелось разбивать веру Кима в учителя. Он слышал об Астахове давно, ценил его увлеченность. Но Астахов противоречив, Ким, пожалуй, и не разберется. — Понимаешь, сын, — отец заговорил медленно, подбирая слова, — я намеренно отдал тебя в класс Астахова. Верность цели — вот чему ты должен у него поучиться. Целеустремленность Игоря Константиновича всегда вызывала уважение, все знали о его судьбе, о его странном желании найти зерно истины в ложных идеях. Знали, что Астахов ищет не просто любую здравую идею, но вполне определенную: новый способ полетов к звездам. Он не стал космонавтом. И решил, что без громоздких машин, без звездолетов и генераторов Кедрина достигнет звезд. Пешком. Очень давно у Астахова были помощники, лаборатория. Были даже энтузиасты новой науки — из молодых футурологов. Но среди всех методов работы Астахов выбирал только неверные. Это было нечто вроде научного знахарства. Знаешь, как это выглядело? С утра Астахов собирает летучку, сам садится в углу, держит в руках сброшюрованные данные за прошедший день. «Что это такое? — говорит он и сам отвечает. — Это анкеты по опросу „Бытовая химия через десять лет“. Кто же так работает? Здесь все верно! Что мне делать с этими бумагами?» «Как же быть? Фальсифицировать результаты опросов?» — недоумевают сотрудники. «Конечно! — кричит Астахов. — Вы должны неправильно вести опрос, должны тенденциозно подбирать группы. Заведомо неверно обрабатывать материал. Понимаете? Мне нужны СОВЕРШЕННО НЕПРАВИЛЬНЫЕ данные!» Отношения между Астаховым и его сотрудниками ухудшались. Люди привыкают к стереотипу поведения. Астахов ломал любые стереотипы, и ребята не выдерживали. А однажды Астахов собрал ребят и сказал: «Пора прощаться. Я сделал глупость, когда организовал лабораторию. Лаборатория — это принятая в науке форма объединения ученых, и поэтому она противоречит эрратологии. Прощайте». И ушел… Сложный это характер, Ким, — глубокий ум, обширные знания, верность мечте и странный способ ее достижения. Таков Астахов, твой новый учитель…5
Перед уроками Ким решил посмотреть лекцию по биологии. Но у пульта обучающей машины стояла Ольга, и Ким понял, что занятий не получится. — Ты не работаешь? — не очень вежливо спросил Ким. Ольга пожала плечами: — Не люблю заниматься одна. Неинтересно. — Вчера я говорил с отцом об Игоре Константиновиче, — выпалил Ким неожиданно для самого себя. — И что же? — отозвалась Ольга с напускным равнодушием. — Отец говорит, что это ненаучный подход. Из ничего и не получишь ничего. — Это не отец твой сказал, а еще Шекспир, — сказала Ольга с неожиданным презрением. — Что ты знаешь, чтобы судить папу? Он лучше всех! Ольга присела на кончик стула, и губы ее мелко задрожали. Ким не знал, что делать, а Ольга едва проговорила сквозь слезы: — Ты думаешь… легко… быть ошибкой? Астахову вовсе не нравилась Лена. Он не мог сделать более неудачного выбора. Высокая, пышноволосая студентка-лингвист, она любила веселиться — до упаду, путешествовать — на край света, а работать — до крайней степени усталости. В то время Астахов уже понимал, что для создания истинной эрратологии необходима полная систематика ошибок: глубокий анализ неудач любого рода. И он признался Лене в любви. Отказ он занес в картотеку «Личные ошибки» под первым номером. После восемнадцатого номера Лена сдалась. Конечно, их брак был ошибкой. Но первые месяцы все шло как нельзя лучше: на какое-то время Астахову удалось увлечь жену идеями эрратологии. Лена помогала ему систематизировать сведения о научных ошибках, которые поступали к Астахову со всех концов Земли. Они провели нескончаемый медовый месяц, разъезжая по материкам и странам, встречаясь с неудачниками, терзая их каверзными вопросами. Но, насмотревшись на молодых и старых неудачников, Лена однажды поняла, что нет никакой смены впечатлений: все они на одно лицо, все одинаково реагируют на вопросы, дают почти одинаковые ответы. И ей стало скучно. Они начали ссориться — чаще и чаще. Родилась Оля, и это тоже было ошибкой, потому что из-за дочери они продолжали жить вместе, мучая Друг друга одним своим присутствием. Однажды утром Лена ушла. Не сказала ни слова, но оставила записки, просто исчезла: жизнь по теории ошибок была вовсе не такой радужной, какой казалась вначале. Только тогда Астахов понял, что успел полюбить свою веселую строптивую жену. На добрых полгода он забросил эрратологию: ездил с Ольгой по Земле без всякой видимой цели, дочь стала для него единственным смыслом жизни. Если бы Лена вернулась… Через полгода он пришел в себя. Записал в картотеку «Личные ошибки»: ушла жена. И принялся за работу,6
— Папа любил комбинировать идеи в разных сочетаниях, — Ольга водила пальцем по матовой поверхности контрольного экрана, Кима она будто и не замечала, разговаривала сама с собой. — Он программировал данные, и машина синтезировала из ошибок новые идеи. Папа не специалист по межзвездным полетам. Он обращался к экспертам, и ему говорили: что за бред… А однажды… Однажды мы встретили маму. Астахов крепко держал дочь за руку, будто думал, что она бросится к матери, исчезнет вместе с ней, Лена не изменилась: озорной блеск в глазах, высокая прическа, из-за которой Лена казалась старше на несколько лет. …В кафе было уютно: столики, похожие на панцири черепах, кресла-улитки. На стенах изображения океана. Ольга забралась в кресло, свернулась клубочком, чувствовала, что отцу предстоит нелегкий разговор, и старалась не попадаться на глаза. — Я звонила тебе, — сказала Лена, — это было год назад. Хотела сказать… Потом раздумала — зачем мешать твоим планам? — Ты искала меня? — Да. Хотела сказать, чтобы ты не считал ошибкой все, что было. Мне так нравилось, а я всегда поступала по-своему. — Оленька, пойди погляди на кальмаров, — сказал Астахов. Ольга не пошевелилась в кресле, будто ее и не было. — Хочу, чтобы ты понял, — продолжала Лена. — Многое из того, что ты считал ошибкой, — истина. Для меня истиной была любовь — ты записал ее на карточку под индексом «личные неудачи». Эти крабы на стенах — парень, который их рисовал, считал, наверно, что за три тысячи километров от океана людям будет приятно посидеть в клешне краба и пить сок из раковины улитки. Понимаешь? Ошибок нет вообще — все зависит от точки зрения. Астахов молчал. Ерунду говорила Лена. Есть критерий для оценки ошибок — мир, в котором мы живем. Но в чем-то Лена была права. В чем-то малом, в очень важном малом. Додумать это. — Мой рейс, — сказала Лена. — Киев, — повторил Астахов слова диктора. — Нет, — Лена усмехнулась. — Не хочу заставлять тебя ошибаться. Киев — только пересадка… Знаешь, Игорь?.. Вспомни софизм о критском лжеце. Разве ты не похож на него? Если эрратология не ошибочна, то она истинна, а если она истинна, то она не отвечает своей цели, и значит, она ошибочна… Астахов смотрел в одну точку, думал. Критский лжец. Ерунда. Он потерял мысль. Ага, вот она: относительность ошибки. Он строил эрратологию по классическим канонам науковедения. Нужны иные методы. Нужно учесть долю истинности в любой ошибке, учесть и отбросить. Сделать ошибку абсолютной. Значит — все сначала? Ольга тихо плакала, опустив голову на гриву морского конька, по ошибке попавшего в далекое от океана горное кафе…7
Впереди показался лес, и дорога пропала. Ким ушел совсем недалеко от дома, но здесь кончался город — дальше лежало засеянное поле, лес, пахло свежестью, как в цветнике на площади. Подошвы липли к земле, будто покрытые магнитным составом, грязь под ногами хлюпала и чавкала. Сегодня в классах пусто — день спорта, и Ким сбежал. Он уже выиграл у Сережи в теннис, и ему стало неинтересно. Ким краем подошвы начертил на земле стрелки. Астахов, Ольга, Лена. Круг — эрратология. Подумал и дорисовал стрелку — Ким Яворский. Стрелка получилась на отшибе, потому что Ким, хотя и знал методы социальной психометрии, но отношения своего к эрратологии пока не определил, а без этого схема теряла смысл. Отец считает эрратологию чепухой. Лена — тоже. Ольга любит отца и готова признать даже то, во что не верит. А сам Астахов? Ну, тут ясно. Что ясно? Если Астахов считает, что методы эрратологии верны, то почему бросил поиски, почему стал учителем? А если его постигла неудача, то для чего хранить десятки тысяч ненужных книгофильмов? Остается третье… Ким проверил свое рассуждение и не нашел в нем ошибки: Астахов завершил работу. Вывел идею идей. Так. Но тогда — почему он молчит?.. — Учитель! — сказал Ким с порога, и Астахов, размышлявший о чем-то у окна, обернулся. — Я хотел спросить, — Ким заговорил сбивчиво, ему пришло в голову, что это бестактно — спрашивать человека о том, о чем он говорить не хочет. Но отступать было поздно, и Ким, неловко подбирая слова, чтобы не обидеть учителя, рассказал о своих сомнениях. — Пойдем, — сказал Астахов. Он включил стереовизор в кабинете, прошелся вдоль стеллажей. Ким почувствовал волнение. Подумал: это оттого, что сейчас он соприкоснется с чужой жизнью, в которую влез без спроса. Но нет — он просто боялся разочароваться. — Семьсот тридцать две тысячи двести сорок идей, — сказал Астахов. — За три века. Труднее всего было отсеять лишнее. Далеко не все идеи пригодны для обработки. Одни не имели отношения к космосу. В других была невелика доля заблуждения — это почти верные идеи, для меня они не годились. Третьи — особая категория. Идеи, выдвинутые из тщеславия. Единственная их цель — самоутверждение автора. Их тоже пришлось отбросить. Так появилась системология ошибок. Идей в результате стало втрое меньше, работать с ними — втрое интереснее… Астахов перебирал книгофильмы, он был наедине с ними, с этими идеями, которые составляли всю его жизнь. Он перебирал и вспоминал, а Киму уже не хотелось спрашивать. Ему показалось, что он, наконец, понял Астахова. Движение к цели, полное надежд, отрадней самого прибытия, — так писал Стивенсон. Астахов ищет свой Остров сокровищ. Может быть, у него уже есть карта, но никогда не хватит воли сесть на корабль и выйти в океан, чтобы отыскать остров в безбрежных просторах. — Что с тобой, Ким? — сказал Астахов. — Ты не слушаешь. Я говорю, что три года назад мы жили с Олей в Минске. Тогда-то я понял: пришло время сделать последнюю пробу. «О чем он говорит, — подумал Ким, — какую пробу? Астахов — эрратолог, он создал новую науку. Зачем ему звезды?» — Опыт я провел на Минской статистической станции. И получил результат. Верную идею. Работа моя закончилась. Я не сказал об этом никому — даже Оле. Не мог заставить ее ездить со мной, начать все сначала. Говоришь себе: дело прежде всего. А потом проходят годы… Жена. Дочь. Друзья. Ученики. Опять все бросить. Уйти… Астахов улыбнулся, и Ким, сам того, может быть, не подозревая, позавидовал Ольге. Трудно им вдвоем, невидимая стена эрратологии стоит между ними, и все же им хорошо. Ким подумал, что ему с отцом приходится труднее, хотя внешне все прекрасно. Но ни отцу, ни матери не придет в голову взвалить на сына часть своих забот. Когда родители переживают какую-нибудь неудачу, осложнение, он в стороне. Ольга — нет. Может быть, ей нелегко, но он, Ким, хотел бы… А Астахов боится. Все они, родители, одинаковы. Они думают, что так — тихо и спокойно — жить легче? Да, наверно, — внешне. А стена между ними станет расти, потому что все, что любит Ольга в отце, — увлеченность, безумие стремлений — Астахов старается теперь запрятать: для ее же блага. Стена вырастет до неба, и когда-нибудь Ольга скажет отцу, как Ким скажет своему: — У нас все разное, папа, даже сложности… И неожиданно Ким, будто со стороны, услышал свой голое — напряженный и тихий: — Вы трус, Игорь Константинович…8
Отец стоял у люка доставки и вкладывал в его разинутую пасть книгофильмы и личные вещи. Ким взглянул на приборный щиток: шифр Уфы. Отец захлопнул крышку, обернулся. — Едем домой, — сказал он. — Рудник мы сегодня пустили, контроль теперь понадобится лет через пять. — Мы уезжаем, — сказал Ким. — А школа? — Вернешься в старый класс, к учителю Гарнаеву. Помолчали. — Ты встретишь другого Астахова, — мягко сказал отец. — Наконец, существуют стереовизоры. — Конечно, — вздохнул Ким. Как же так, сразу? Он еще не додумал. Это очень важно для него — понять все, что связано с Астаховым, с Ольгой. Он не может так уехать. Что подумает Ольга? Укатил домой — тихо, спокойно. — Я хотел бы остаться на несколько дней, — нерешительно заговорил Ким. — Оставайся, — неожиданно легко согласился отец. — Оставайся до конца семестра. А я не могу — работа… Утром, когда Ким с ребятами ждал Астахова, в класс вошла высокая женщина, педагог старшей группы. Ким понял сразу, сказал: — Можно мне выйти? Он побежал через корт — так было короче — и сорвал у кого-то игру. Ольга сидела на ящике с моделями непостроенных космолетов. — Не могла сообщить? — сердито спросил Ким. — Куда вы едете? Зачем? — Кому сообщать? Папа сказал, что ты улетел вечерним рейсом. Я сама не знаю точно, куда мы едем. Кажется, на Фиджи… И все из-за тебя. «Вы трус, Игорь Константинович». — Не понимаю, — сказал Ким. — Будто? Ты наговорил вчера столько глупостей. Целый вечер папа ходил по комнате. Потом спросил: «Ты тоже считаешь, что я трус?» Представь, что твой отец спросит у тебя такое. Пока я соображала, папа пошел говорить по стереовизору. Тогда ему и сообщили, что Яворские уехали. Наверно, твой отец сдал местный номер. Папа связался с Фиджи. Там работает Годдард… — Годдард. Направленные мутации человека, — вспомнил Ким. — Это тебе, — Ольга протянула Киму капсулу с микрофильмом. — Я должна была отослать в Уфу, но раз ты здесь… «Не может быть, что это только из-за меня», — подумал Ким. — Конечно, Астахов хотел вернуться к работе, хотел и не решался. Неустойчивое равновесие — достаточно было малого толчка, одной не очень умной, но злой реплики, и решение принято. — Ты рада, что едешь? — спросил Ким. Ольга пожала плечами: — Будет трудно… Ким видел: она и смеется, и плачет. Губы дрожат, а глаза улыбаются. Пусть Ольга не отвечает. Она считает, что отец прав, и это главное. Ким вставил капсулу в проектор.9
— Из трехсот тысяч идей машина выбрала одну и сделала ее центром новой гипотезы… Голос Астахова будто раздвинул невидимую преграду. На скале у обрыва стоял гигант, закованный в цепи. Он пытался сбросить путы, но тяжелая цепь лежала недвижимо. — С прикованным гигантом сравнил человека автор идеи, — сказал Астахов. — Человек покорил природу, но не научился управлять собственным телом. Можем ли мы усилием воли изменить цвет глаз? Замедлить рост ногтей? Регулировать работу сердца? Нет, потому что не хватает сил — биотоки слишком слабы, они могут передать в клетку сигнал, но заставить ее работать в ином режиме биотоки не в состоянии. Нужно усилить сигналы мозга! Скала дрогнула, гигант распрямил плечи и, неожиданно освободившись от цепи, мощным движением бросил ее в пропасть. — Ошибочная, наивная идея, — сказал Астахов. — Дело не в слабости биотоков. Аппарат наследственности исключительно сложен и устойчив. Наследственность — вот наши цепи. Природа поступила как инженер прошлого века: создала механизм очень надежный, но не способный к быстрым изменениям. А вот вторая ошибочная идея. Изображение подернулось туманом, и Ким, будто на объемной модели, увидел длинную извивающуюся спираль. — Наше тело построено из кирпичиков-молекул. Какое расточительство! Все равно, что закладывать в фундамент дома не кирпичи, а электронные осциллографы. Молекула сцеплена из атомов, атомы — из элементарных частиц. Природа искала и ошибалась, конструируя живое, и выбрала кирпичи слишком массивные и сложные. Двойная спираль — молекула ДНК — на глазах у Кима рассыпалась, брызнули осколки, невидимая пушка разбивала их на атомы, на отдельные частицы. — Нужно строить живое из элементарных частиц. Поручить хранение наследственной информации спрессованным в плотный комок нейтронам, протонам, электронам… Ошибочная идея. В мире элементарных частиц глава — принцип неопределенности. Наш элементарный ген окажется подвержен самым неожиданным мутациям. Попробуйте хранить что-то в сосуде, который вечно меняет форму, размеры, а то и просто расплывается лужицей не столе… Голос Астахова на секунду исчез, из глубины проектора будто полилось пространство: черное, огромное — вся Вселенная со звездами и галактиками. Ким мчался куда-то, он не видел себя, но знал — он не в звездолете, он просто бродит среди звезд с вещмешком за плечами, в стоптанных ботинках… — Две ошибки. Машина объединила их. И еще тысячи… Появилась идея. Построим ген из элементарных частиц и будем управлять им с помощью биотоков. Принцип неопределенности станет союзником, он будет расшатывать систему, помогать слабым сигналам мозга. Человек сможет стать камнем, или птицей, или лучом света… Местом его странствий будет Вселенная… — Помоги, — сказала Ольга, и Ким поднял тяжелый ящик, отнес к махолету. У кабины, под ветром трепещущих крыльев, постояли. — Ты сообщишь свой адрес? — спросил Ким. — Не-а, — протянула Ольга, глядя вверх, крылья выходили на рабочий режим. — Зачем? Ты и сам знаешь, чего хочешь…10
Звездолет был птицей — огромным бело-черным лебедем с распростертыми крыльями звездных датчиков, с длинной гибкой шеей, отделявшей генераторные отсеки от жилых помещений, и с маленькой изящной головой, в которой все давно было знакомо и привычно, от слабого серого налета на пультовых клавишах до зеленого чучела скалистой горлянки, привезенной Кимом с Марса еще в бытность студентом. Это был его корабль, его душа и тело. Ким стал капитаном «Кентавра» больше десяти лет назад и теперь собирался покинуть его — не на Земле, а здесь, в космосе. Капитана Кима Яворского ждали. В рубке «Кентавра» — чтобы проститься, а там, в полупарсеке, на второй планете Росс-775 — чтобы встретить. «Не стану прощаться», — решил Ким. Шагнул в тамбур, задраил внутренний люк, ощупал лямки биогенератора на плечах, потопал ногами, убеждаясь, что ботинки-ускорители надежно закреплены. «Странник», — подумал он. Вот так и мечтал учитель отправиться к звездам — с котомкой за плечами и в стоптанных ботинках. Ким произнес контрольный набор слов, и внешний люк исчез, оставив неожиданную черноту и усыпанный жаркими точками звезд холод пространства. Ким шагнул за борт. На миг он ощутил себя парашютистом из старого-старого фильма. Сейчас он спрыгнет с крыла и понесется к земле, и ветер засвистит в ушах, и нервы напрягутся до предела, и пальцы стиснут кольцо, но ты летишь и знаешь, что не раскроешь парашюта, а над самой землей, когда остриями копий протянутся к тебе верхушки елей, ты взмоешь в голубую высоту, легко управляя своим телом и всей планетой, которая, вдруг испугавшись тебя, ринется прочь. «Учитель не успел, — подумал Ким. — Сколько прошло лет — тридцать? Чуть меньше, пожалуй». «Вы трус, Игорь Константинович». Эти слова изменили тогда три жизни. Его, и Ольги, и Астахова. Учитель не увидел звезд вблизи, но довел свою науку — эрратологию — до изящества и совершенства, с которыми нельзя было не считаться. Из множества ошибок и заблуждений, как легендарная птица-феникс, возродилась Истина. И он, Ким, ставший к тому времени звездным капитаном, услышав о смерти Астахова, явился в Институт эрратологии и рассказал странную притчу. Притчу о Страннике… Ким оттолкнулся ногой от обшивки и поплыл от «Кентавра». Он прислушался к своим ощущениям — тело было послушно, готово а миг приказа стать невидимым и всепронзающим лучом или, наоборот, плотнейшим комочком материи, для которого не страшны самые горячие звездные недра. «Странник идет к звездам», — подумал Ким. Корабль превратился в блестку и спрятался в звездной стае. Ким остался один — он и звезды. Щелкнул переключателем на плече и ощутил в себе великую силу — силу Человека… В рубке «Кентавра» стереоэкран на миг полыхнул ярким пламенем, и человек, только что паривший в пространстве, исчез. Люди вздохнули облегченно, но работа только началась, и они перевели взгляды на другую группу приборов, контролирующих полет Странника. «Все в порядке, — утверждали сигналы. — Странник идет к звездам. Ждите его».Дмитрий Биленкин ПРОБА ЛИЧНОСТИ
Внимание Поспелова привлекли голоса за дверью. Он приостановился. Вечера в интернате не отличались тишиной, дело было не в шуме, который доносился из кабинета истории, даже не в том, что ребята, похоже, занялись там чем-то скрытым от глаз учителя. На это они имели полное право. Кому, однако, мог принадлежать фальцетом срывающийся, явно старческий и, судя по интонациям, перепуганный голос? — Помилосердствуйте… Все пакостные наветы недругов моих, клевещущая злоба завистников… Что за странная лексика! Впрочем, это кабинет истории, там все может быть… — Нет, Фаддей Бенедиктович, — послышалось за дверью. — Вы, пожалуйста, ответьте на наш вопрос. Фаддей Бенедиктович? Поспелов сдвинул брови. Какое необычное имя! И почему-то знакомое. Фаддей… Бенедиктович… «Так это же Булгарин! — ахнул Поспелов. — Девятнадцатый век, Пушкин, травля, доносы… Ничего не понимаю!» Уже давно вид закрытых ребятами дверей не мог навести педагога на мысль о чем-то дурном, но так же точно в подобной ситуации и педагог не был для ребят нежеланным гостем. Без долгих размышлений Поспелов толкнул дверь и, войдя в помещение, тихонько притворил ее за собой. Семеро мальчиков и девочек не заметили его бесшумного появления. Они были так увлечены своим занятием, что отвлечь их, чего доброго, не смогло бы и нашествие инопланетян. Слова вопроса, с которыми Поспелов хотел к ним обратиться, остались непроизнесенными. И немудрено! Там, где он очутился, был самый обычный, погруженный в полумрак школьный кабинет, в котором сидели столь же несомненные, хорошо знакомые учителю подростки двадцать первого века, — голоногие, голорукие, весьма взволнованные и привычно сдержанные. Но такой же несомненной, такой же подлинной была смежная реальность — уставленная громоздкой мебелью, как бы продолжавшая аудиторию комната, изразцовое чело печи в простенке, конторка с впопыхах брошенным поверх рукописи гусиным пером, шкаф с темными корешками книг на полках, узкое и высокое окно, в которое падал хмурый свет дня, явно петербургского, потому что над крышами вдали восставал шпиль Петропавловки. И ничто материальное не отделяло эту комнату от действительности двадцать первого века: просто в двух шагах от ребят акмолитовое покрытие пола кончалось, как обрезанное ножом, и сразу начинался навощенный паркет. Вот только свет из окна, озарявший фигуру у конторки, не проникал за черту, хотя в воздухе ему не было никакой видимой преграды. Но не эта реальность состыковки двух эпох поразила учителя. Будучи физиком, он прекрасно понимал, что все находящееся там, за чертой, столь зримое и очевидное, на деле было произведением фантоматики, неотличимой от настоящего моделью прошлого, сотканной компьютером голограммой. Парадокс, обратный тому, который возникает при быстром мелькании спиц в колесе: там грубая сталь, оставаясь веществом, расплывается в призрак; здесь призрачное ничто превращалось для взгляда в самую что ни на есть подлинную и телесную материю. Туда, в девятнадцатый век, можно было даже шагнуть, потрогать предметы, но лишь затем, чтобы убедиться в мнимости и этой конторки, и этого массивного, с завитушками шкафа, и этих резных кресел, столь же проницаемых для взмаха руки, как самая обычная тень. И в том, что среди всей этой иллюзорной обстановки находился прилизанный, с лоснящимся от пота лицам Фаддей Бенедиктович Булгарин (Видок Фиглярин, по нелестной аттестации современников), тоже не было ничего исключительного. Как все остальное, компьютер и его моделировал по рисункам, запискам, воспоминаниям той эпохи, воссоздал облик, душевный склад, характер мыслей, наделил фантом самостоятельной, насколько это вообще возможно, жизнью доподлинного Фаддея Бенедиктовича, так что фигура у конторки могла слушать, думать, говорить и чувствовать, как сам Булгарин. Нового для Поспелова тут ничего не было. Всего несколько лет назад шальная жажда справедливости толкнула его, тогда еще студента, подобным образом воссоздать Лобачевского, чтобы хоть тень великого человека услышала благодарность потомков, ведь Лобачевский при жизни не дождался ни единого слова признания, даже простого понимания своего труда. Однако уже ослепший старик сразу перебил его излияния: «Благодарю вас, сударь, но я и так знал, что моя воображаемая геометрия будет нужна». Однако сейчас от Поспелова ускользал самый смысл затеи, и он не мог понять того странного разговора, который завладел его вниманием. — Повторяю вопрос, Фаддей Бенедиктович. Вы понимали значение Пушкина в литературе? Поспелов сразу узнал говорящего: Игорь, конечно, и тут был главным! — Понимал-с, прекрасно понимал, ваше… — Напоминаю: без титулов, пожалуйста! — Хорошо-с. — Казалось, что Булгарин при каждом слове мелко раскланивается, но это впечатление создавал его ныряющий, с придыханием голос, потому что телесно он держался со смиренным достоинством. — Если вы понимали, кто такой Пушкин, то почему вы его травили? — Ложь сплетников и низких клеветников! Я, я — травил?! Господи, пред тобой стою, всегда желал Александру Сергеевичу добра, стихи его с восторгом печатал, мне он писал приятельски, сохранил, как святыню… могу показать… Рука Булгарина дернулась к конторке. — Не надо, — в голосе Игоря прорвалась брезгливость. — Эти письма двадцатых годов нам хорошо известны. Скажите лучше, что вы писали о Пушкине, например, в марте и августе 1830 года. — Не отрицаю! — поспешно и даже как-то обрадованно воскликнул Булгарин. — Случалось, пенял достопочтенному Александру Сергеевичу, звал, некоторым образом, к достойному служению царю и отечеству. Не понят был, оскорблен эпиграммами, поношением литературных трудов моих, недостойным намеком на прошлое супруги, но зла — упаси боже! — не сохранил, ту эпиграммку сам напечатал, рыдал при безвременной кончине Александра Сергеевича… Заносчив был покойный, добрых советов не слушал, ронял свое величие поэта, так все мы, грешные, ошибаемся! Господи, отпусти ему прегрешения, как я их ему отпустил… От обилия чувств лицо Булгарина покривилось; он сконфуженно утер слезу. Шелест возмущения прошел по залу. Одна из девочек даже вскочила, готовая броситься, выкрикнуть потрясшее ее негодованием. Остальным удалось сохранить спокойствие, только взгляды всех сразу устремились на Игоря. Девочка, помедлив, села. Губы Игоря сурово сжались. «Да, — сочувственно подумал Поспелов. — Вот это и есть демагогия, с которой вы, ребятишечки, никогда не сталкивались. Такого ее мастера, как Фаддей, голыми руками взять и надеяться нечего… И чего, интересно, вы хотите добиться, милые вы мои?» — Значит, добра желали, — слова Игоря тяжело упали в зал. — Тогда поясните, как это ваше утверждение согласуется с тем, что вы секретно писали и говорили о Пушкине Бенкендорфу? Сжав пальцами край конторки, Булгарин подался вперед, будто желая лучше расслышать. Его глаза, в которых еще стояли слезы, моргнули, совсем как у старого, привычного к побоям пса. Никакого звука он, впрочем, не издал. — Забыли? Может быть, напомнить вам некоторые ваши доносы? Этот, например: «К сему прилагаю все тайно ходящие в списках стихи г. Пушкина, содержание которых несомненно изобличает вредный уклон его мыслей…» «Ого! — изумился Поспелов. — Где они нашли такой документ? Впрочем, что я… Это же артефакт, иначе в учебниках было бы. Конечно! Такого доноса Булгарина не сохранилось, но как палеонтолог по одной кости способен реконструировать скелет, так и центральный компьютер, к которому ребята, несомненно, подключились, может по известным фактам и записям воссоздать утраченный текст. Не дословно, но вряд ли и сам Булгарин хорошо помнит написанное им когда-то… Рискованно, но, кажется, ребята попали в самую точку». — …Назвать день, когда вы это написали? Ответа не последовало. Что-то шепчущие губы Булгарина побелели, он пошатнулся, криво оседая в ближнее кресло. — Страховочный импульс!!! — бешено крикнул Игорь. — Упредить не могли?! — Спокойно, спокойно, — ломким басом отозвался второй, с края подросток. Его короткие пальцы проворно коснулись чего-то на пульте дистанционного управления, который он держал на коленях. Склоненное лицо подсветили беглые огоньки индикатора. — Это не сердечный приступ (Поспелов невольно вздрогнул), даже не обморок. Просто испуг и ма-аленькая игра в жука-притворяшку. — Но ты хоть сбалансировал тонус? — Еще бы! Пусть посидит, отдохнет, поразмыслит… — А обратная связь? — Отключена. Не видит он теперь нас и не слышит — эмоционируй как хочешь! Поспелов вжался в тень, ибо ребята тут же повскакали с мест. Всех прорвало. Всем не терпелось высказаться, все спешили высказаться и кричали наперебой, как только возможно в их возрасте. — Вот тип!!! С таким слизняком возиться — потом год тошнить будет… — Игорь, чего ты: «Пушкин да Пушкин!» Надо по всему спектру, исподволь, а ты — бац!.. Я тебе медитировал, медитировал… — Нет, ты представь, каково было Пушкину! Вот только он написал «Пророка», в уме еще не остыли строчки «И внял я неба содроганье…», а в редакции к нему с улыбочкой Булгарин, и надо раскланиваться с этим доносчиком, руку жать… — Раскланивался он с ним, как же! Он в письмах его «сволочью нашей литературы» называл… — То в письмах! А в жизни от него куда денешься… — …Ленка, ты заметила, какие у Булгарина стали глаза? Печальные-печальные… — А я что говорила! Жизнь у него была собачья, может, не так он и виноват… — Кто не виноват?!. Булгарин?! — Ну о чем вы… Надо разобраться, выяснить… — Нет, вы слышали?! Она ему сочувствует!!! — Почему бы и нет? Надо по справедливости. — А он к кому-нибудь был справедлив? — Так это же он! Уподобиться хочешь? — Что, что ты сказала? Повтори! — Ничего я не сказала, только булгарины и позже были. Гораздо позже, а раз так… — Увидите, каяться он сейчас будет. Возразить-то нечего. Даже скуч… — Тихо! — Игорь предостерегающе вскинул руку. — Приходит в себя. По местам, живо! Петя, готовь связь, а вы думайте, прежде чем советовать… Все тотчас смолкло. Будто и не было суматохи, крика, задиристой перепалки, привычка к самодисциплине мигом взяла свое. Свободно и непринужденно, в то же время подтянуто и достойно в зале сидели… Судьи? Нет. Но и не зрители. И уж, пожалуй, не дети. Исследователи. У всех в ушах снова очутились медитационные фоноклипы, которые позволяли Игорю улавливать мысленные советы, отбирать лучшие, так что мышление становилось коллективным, хотя разговор вел только один. Поспелов невольно залюбовался знакомыми лицами, на которых сейчас так ясно отражалась сосредоточенная работа ума и чувств. Вмешиваться не имело смысла. Какой бы ни была поставленная цель, ребята подготовились серьезно, с той ответственностью и внутренней свободой, без которой не может быть гражданина. Веки Булгарина меж тем затрепетали. Он исподтишка кинул быстрый, опасливый взгляд. Помертвел на мгновение. Вялая рука сотворила крестное знамение. Лицо его как-то внезапно успокоилось, он тяжело поднялся, старчески прошаркал вперед и выпрямился с кротким достоинством. — Сидите, если вам трудно, — поспешно сказал Игорь. — Не слабостью угнетен, — тихо прошелестело над залом. Губы Булгарина горестно дрогнули. — Тем сражен и повержен, что и тут настигла меня клевета… — Вы хотите сказать, что никогда не писали доносов на Пушкина? — То не доносы… То крик совести, то служба подданного, ради которой страдал и страдаю. Никем, никем не понят! — Голос Булгарина надрывно возвысился, руки широко и моляще простерлись к залу. — Тебе, всеблагий, открыты истинные порывы моей души, суди справедливо! Голос упал и сник. Поспелова точно обдало холодом, ибо теперь, после этих слов, ему с пугающей ясностью открылось то, о чем он уже смутно догадывался, но от чего, протестуя, убегал его смятенный ум. Ведь это же… Чем или кем должны были представиться Булгарину вот эти самые подростки?! Адским наваждением? Галлюцинацией? Самим судом божьим?! В любое из этих допущений Булгарину, конечно, было поверить легче, чем в истину. Неважно, что никакого подлинного Булгарина здесь не было. Этот воссозданный голографией и компьютерной техникой призрак вел и чувствовал себя так, как в этих обстоятельствах мог себя вести и чувствовать живой Фаддей Бенедиктович. Несомненно, ребята успели ему внушить (или даже заранее вложили в него это знание), что с ним говорят потомки. Но психика, пусть всего лишь психика модели, руководствуется представлениями своей эпохи. Значит, фантом мог думать… Поспелов растерянно взглянул на ребят. Ощущают ли они хоть каплю топ жути, которая овладела им? Не похоже. В жизнь Поспелова фантоматика вошла как новинка, а вот для них она была привычной данностью. Зато все ирреальное, потустороннее, что когда-то страшило ум, было для них фразой в учебнике, безликим фактом далекого прошлого, который надо было рационально учесть, когда имеешь дело с этим прошлым, только и всего. Просто Игорь нагнулся к Пете и осведомился шепотом: «Насчет бога, это он как, искренне?» Тот пожал плечами. «Судя по эмоционализатору — чистой воды прагматизм». — «Ага, спасибо…» — Стало быть, Фаддей Бенедиктович, — продолжал Игорь спокойно, мотивом ваших поступков была общественная польза? — Так, истинно так! Верю, вы убедитесь… — Уже убедились. Все же поясните, пожалуйста, как именно ваши доносы в Третье отделение способствовали процветанию отечественной литературы. — Каждодневно служили, каждодневно, и хотя не всегда ценились, как должно, благотворное влияние свое оказали. Что сталось бы с Пушкиным да и с другими литераторами, кабы неведение помещало властям тотчас подметить дурное на ниве словесности и мягко, отеческой рукой упредить последствия? Страшно подумать, каких лекарств потребовала бы запущенная болезнь! В том мой долг и состоял, чтобы, пока не поздно, внимание обращать и тревогу бить. Старался по мере слабых сил и преуспел, надеюсь. — Настолько преуспели, Фаддей Бенедиктович, что эти ваши старания по заслугам оценены потомством. — Ах! — Пухлые щечки Булгарина тронул светлый румянец, глаза растроганно заблестели; всем своим обликом он выразил живейшую готовность заключить собеседника в объятия. — Писал, писал я как-то его высокопревосходительству Дубельту Леонтию Васильевичу: «Есть бог и потомство; быть может, они вознаградят меня за мои страдания». Счастлив, что оправдалось! Булгарин многозначительно устремил указательный палец к небу. — Да-а, Фаддей Бенедиктович, — протянул Игорь. — Мы вас вполне понимаем. Служили верно, искренне, рьяно, а вознаграждаемы были не по заслугам. Хуже того, обиды имели. — Страдал, еще как страдал, — с готовностью подхватил тот. — Даже под арест был посажен безвинно за неугодное государю мнение о романе господина Загоскина! — Не только под арест… Случалось, жандармские генералы и за ушко вас брали, и в угол, как мальчишку, на колени ставили. Вас, литератора с всероссийским именем! Было? «Неужели было?» — недоверчиво удивился незнакомый с документами той эпохи Поспелов, но вмиг осевшее лицо Булгарина развеяло его сомнения. — Имел разные поношения… — голос Булгарина сразу осип. — Оттого и возлагал на потомков надежды, что даже со стороны их высокопревосходительств терпел мучения! — Сочувствуем, Фаддей Бенедиктович. Это не жизнь, когда не то что за мнение, за самые восторженные похвалы властям предержащим вы получали нагоняй. Ведь и так бывало? — Святая истина! Побранил однажды в газете петербургский климат, так мне претензия: «Как смеешь ругать климат царской столицы!» Стоило отдать должное мерам правительства, так и тут не угодил! Сказали мне: «Не нуждаемся мы в твоих похвалах…» — И все-таки вы продолжали служить этой унижавшей вас власти. О личном достоинстве не говорю, но отчего же вы так восхваляли строй, при котором вас за провинность в угол на колени ставили? — Не ради почестей старался! Поносителей своих презирал… — И Дубельта? — Его особо! — Чего же вы тогда к нему в письмах обращались: «отец и командир»? — Это же так принято по-русски, по-семейному… — Барин холопа наградит, он же его накажет, а холоп еще и ручку облобызает, так? — Снова я не понят! — с горечью воскликнул Булгарин. — Не дурным слугам — идее я был предан, за то и терпел… — Ясно! В своих «Воспоминаниях» вы писали: «Лучше спустить с цепи голодного тигра или гиену, чем снять с народа узду повиновения властям и закону… Все усилия образованного сословия должны клониться к просвещению народа насчет его обязанностей к богу, к законным властям и законам… Кто действует иначе, тот преступает перед законами человеческими…» Вот это и есть та идея, ради которой вы, терпя унижения, трудились так ревностно? — Да-с! За приверженность богу, царю и властям законным мятежники мне голову отрубить грозились! — Положим, с декабристами вы сначала завязали крепкую дружбу, хотя для вас не было тайной, что они как раз хотят «преступить перед законами человеческими». — Виноват, оступился по молодости, тут же раскаялся и делом доказал свою преданность! — Совершенно верно! Сразу после декабрьского восстания вы представили проект усовершенствования цензуры и стали сотрудником Третьего отделения. Оставим это. Не будет ли ошибкой сказать, что Николай I и его правительство следовали той же, что и вы, идее? — Несомненно! Иначе как бы я мог… — Хорошая, неуклонно проводимая в жизнь идея должна принести народу благо. Согласны? — Так… — Тогда объясните, пожалуйста, слова из вашей собственной докладной записки о положении дел в России: «От системы укрывательства всякого зла и от страха ответственности одному за всех выродилась в России страшная система министерского деспотизма и сатрапства генерал-губернаторов…» — То о дурных слугах царя писано, о недостатках, кои надлежит исправить! — Дурные слуги, так у вас получается, — это министры, генерал-губернаторы, сам шеф Третьего отделения, а недостатки — всеобщая система произвола и лжи. Вот что, по вашим собственным словам, расцвело под солнцем вашей идеи! Так чему вы служили в действительности? Может быть, не идее вовсе, не царю, не государству, а самому себе? — Неправда! Все ложно истолковано! — Ну зачем так, Фаддей Бенедиктович! Есть факты и есть логика. Вы, полагаю, убедились, что нам известно о вас все самое тайное. Не лучше ли самому сказать правду? На Булгарина было жалко смотреть, точно его, было согретого пониманием, внезапно окатили ледяной водой. Он съежился, поблек и онемел, казалось. Но в его затравленном взгляде мелькали колкие, злые искры, что никак не вязалось с жалобным и растерянным выражением его лица. — Скажу-с, — выдавил он глухо. — Всю правду-с… Веру в добро и истину сквозь беды пронес, но затравлен был обстоятельствами, опутан ими, как пленник сетями, и… и… — И? — И оступался… Слаб человек, никому зла не хотел, но сволочью был окружен, завистниками; вынужден был бороться, святые не без греха… — Кто же заставил вас сближаться со сволочью? В начале двадцатых годов к вам хорошо относились лучшие люди России. — Они сущность мою видели! Останься жив Грибоедов, который, в Персию уезжая, мне, как лучшему другу, рукопись своей комедии доверил… — Которую вы затем продали за несколько тысяч рублей. Вы и прежних друзей — декабристов предали. Только не говорите, что из идейных побуждений! Вы и своего могущественного благодетеля Шишкова тоже предали. — Ради бога, поймите же меня наконец! Издатель и литератор в России агнец среди волков… — Позвольте! Никто из писателей, чьи книги стоят у нас на полках, не служил в Третьем отделении, не доносил на своих собратьев, хотя находился в тех же условиях. — В других, совершенно других! Я не стыжусь своего прошлого, но в глазах властей… — Вы не стыдитесь своего прошлого? — Я храбро сражался против Бонапарта под Фридландом, ранен был во славу русского оружия… — А потом во славу французского оружия сражались против крестьян Испании, позднее, в Отечественной войне 12-го года, бились против русских солдат… — Даже пристрастная комиссия оправдала меня! — От которой вы кое-что скрыли, да и Бенкендорф замолвил словечко. Хозяева вами брезговали, но в вас нуждались, тут все понятно. И то, что вас в свое время заставило уйти к Наполеону, — тоже. — Несправедливость полкового командира, отставка, злая нищета… — Да, да, знаем, как вы в Ревеле стояли с протянутой рукой и хорошим литературным штилем, иногда даже стихами просили милостыню… Округлая фигура Булгарина дернулась, как лягушка под ударом тока. — Не было этого!!! Все вздрогнули, ибо так мог бы возопить раненый. — Было, — побледнев, но непреклонно повторил Игорь. В его словах Поспелову даже почудился лязг скальпеля. — Было, Фаддей Бенедиктович. Таких ли мелочей вам стыдиться? И горькую вы тогда пили; и офицерскую шинель крали, все было. Булгарин отшатнулся,ловя воздух широко раскрытым ртом, и боль, которую он сейчас испытывал, передалась всем, вызвала желание отпрянуть, защититься от горького, непрошеного, тягостного к нему сочувствия. И еще больше от острого, гипнотического, недостойного любопытства к невольно открывшимся уголкам этой выжженной цинизмом души. Даже оператор растерянно забыл о своих переключателях, хотя казалось, что Булгарина сейчас хватит непритворный обморок. Все словно коснулись клемм какого-то высокого и опасного психического напряжения, и уже готов был раздаться крик: «Выключить, выключить!» Но Булгарин не грохнулся в обморок. Наоборот, его голос внезапно обрел твердость. — Все правда. — Он быстро облизал высохшие губы. — Падал я на самое дно бездны, молил о помощи, но оставили меня как бог, так и люди. Сколько я претерпел от них! Так я понял, в каком мире живу… Хотел потом забыть и очиститься, оттого и потянулся к лучшим людям России. Но знали, знали жандармы, какие на мне пятнышки! Что для них человек? Пылинка в делах государственных, звук пустой… Хорошо чистеньким! А мне под нажимом куда деваться? Снова в нищету, на дно, стреляться с похмелья? Уж нет-с! Во мне талант был сокрыт, его сам бог велел всем беречь. Стал я себя укреплять, ненавистников нажил, зато «Иваном Выжигиным» и многими другими своими сочинениями русскую словесность прославил! От столь внезапного поворота, от дышащих искренностью слов Булгарина растерялся даже, казалось бы, готовый ко всему Игорь. «Вывернулся!» — с отчаянием и безотчетным восхищением подумал Поспелов, и от этого мелькнувшего в душе восхищения ему стало гадко, совестно и противно. — Вы считаете свои книги вкладом в литературу? — успел оправиться от замешательства Игорь. — Нескромно было бы мне отвечать словами Александра Сергеевича: «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» Однако же редкая книга видывала такой успех, как мой «Выжигин». Даже мой поноситель Белинский признавал это. — Верно, успех был. Только, несмотря на шумную рекламу, официальную поддержку и вами же организованное славословие, читатель очень скоро и прочно охладел как к «Выжигину», так и к другим вашим сочинениям. Вы не задумывались почему? — Небо содрогнулось бы, начни я перечислять все интриги смутьянов, которые, вознося новомодные сочинения, портили вкус публики и отвращали ее от истинно патриотических образцов литературы! Но все вернется на свои-места, все! — С вашим «патриотизмом», Фаддей Бенедиктович, мы, положим, разобрались. Поговорим лучше об обстоятельствах, которые вас заставили клеветать и доносить. Эх, Фаддей Бенедиктович, и вранью есть мера! Обстоятельства… Вы очень скоро стали богатым. Могли бы спокойно отойти от дел и писать романы в своем имении. Только не говорите нам, что вас не отпускало со службы Третье отделение! Но вы упорно продолжали свою деятельность. Обогащались, не брезгуя ничем. Кажется, не было такого талантливого писателя, художника, актера, на которого вы хоть раз не напечатали бы хулу. Даже геометрию Лобачевского ваша газета охаяла… без права ответа, конечно. Десятилетиями вы точно, прицельно били по всему честному, талантливому, передовому, что возникало в России. Сказать почему? Булгарин молчал, до ниточки сжав побелевшие губы. — Во-первых, вы в глубине души прекрасно понимали, что без поддержки властей, без сотрудничества с Третьим отделением вы и ваши сочинения ноль. Только так, выслуживаясь, подличая, угождая, вы могли утвердить свое имя и обогатиться. — Господи, дождусь ли я справедливости?! Имел я доходы — так разве это грех? Не затем я домогался влияния, а чтобы, заимев полное доверие властей, осторожно склонять их к улучшению дел и облегчению тягот! Мои записки правительству, кои вы уже трогали, и мои прожекты доказывают… — Что даже вам было тяжело в обстановке всеобщего бесправия! Верим. Но вы же его и умножали. Не вы ли предлагали проект устройства новой сыскной полиции, во главе которой рекомендовали поставить самого что ни на есть зверя? Нет, Фаддей Бенедиктович, не сидит на вас маска потайного либерализма. Все, увы, куда проще. Вот логика ваших поступков. Пушкина вы до поры до времени не трогали, даже печатали с расшаркиванием. Потом вдруг стали строчить на него доносы, печатно намекнули, что он плагиатор, чем даже вызвали царское неудовольствие. Откуда такая внезапная перемена, что произошло? Только одно: Пушкин с друзьями затеял газету, которая могла составить опасную конкуренцию вашей «Пчеле»… — Поклеп, нет тому подтверждающих документов, а сказать можно все! — Есть логика фактов. Ваша «Северная пчела», скверная, по единодушному мнению, газета, имела все же немало подписчиков. Она была единственной ежедневной газетой России, и у подписчиков просто не оставалось выбора. А где подписчики, там и доходы. Терять монополию вам никак не хотелось! Прошел слух — только слух! — что Вяземский хочет издавать газету. От вас тут же спешит донос с обвинением Вяземского в аморальном поведении. Привести еще факты того же рода или хватит? Хватит… И талантливых писателей вы стремились опорочить прежде всего потому, что их произведения составляли конкуренцию вашим, могли их зачеркнуть, что, разумеется, и случилось. Вот исток вашей ненависти ко всему талантливому! Вы еще потому хотели всех унизить, что чужая порядочность мешала вам жить. Если бы все кругом лизали сапог, гребли под себя, наушничали, то вам было бы куда уютней. А так даже царь, даже жандармы брезговали вами… Да, жизнь у вас была — не позавидуешь! Булгарин дышал учащенно, с присвистом. До сих пор даже в испуге, в самом униженном подобострастии его лицо сохраняло цепкую, ко всему готовую энергию сопротивления. Теперь — никто не уловил мгновения, когда это произошло, — его лицо погасло. В нем не осталось ничего, совсем ничего, кроме внешних примет старости: рыхло обвисших щек, багрово-синеватых склеротических жилок под дряблой кожей, безвольно полуоткрытых губ с капелькой набежавшей слюны. Вид этой жалкой, дрянной капельки внезапно обдал Поспелова такой пронзительной жутью, что он едва не заорал на весь зал: «Да что же вы делаете, наконец?! Булгарин давно мертв, его это не может коснуться, здесь призрак, фантом — кого же вы тогда мучаете? Зачем?!» Ничего этого он не выкрикнул, не метнулся, чтобы остановить кощунственный разворот событий, — не успел. Булгарин; то, что представляло собой Булгарина, вдруг словно обрел второе дыхание. Исчезла дряхлость, напор энергии стер опустошенность, глаза ненавидяще блеснули, зло и четко грянули совсем неожиданные слова. — Ваш приговор хуже, чем нелеп. Факты? И убийство награждаемо, когда оно совершено на войне. Законы определяют, кто есть виновный! Установленные людьми, они соблюдаются земными властителями; мои же поступки были поощряемы самим государем. А ежели я виноват перед законом всевышнего, то каким? Тайному следовать невозможно, потому как он нам неведом, за соблюдением же открытых надзирает святая церковь, коя также не находила во мне больших прегрешений. Чист я перед государственными и божьими установлениями! Каким же тогда законам следуете вы? Никаким или бесовским! Но я-то им неподсуден, и за меня бог, раз я не нарушал его законов! Он замер с торжеством. Сама оскорбленная святость глядела теперь свысока и упивалась явным замешательством судей. Какая разница, кто перед ним был, — потомки, жандармы, дьяволы или ангелы, если можно было отвести неведомую, но, с его точки зрения, реальную кару! Все годилось в той ужасной, ни в каких книгах не описанной ситуации, в которой он очутился, что ж, вся его жизнь были искусной борьбой, он умел приспосабливаться и побеждать в любых обстоятельствах. Поспелов вздрогнул от унижения и гнева. Подлость не могла, не смела торжествовать над его ребятами, а она вопреки всему нагло торжествовала. Он не имел больше права молчать, он лихорадочно искал и в отчаянии не находил слов, которые могли бы выручить, спасти растерявшихся подростков от разгрома и стыда поражения. Доводов не было. А он-то еще воображал, что ребята затеяли недостойную игру в кошки-мышки! Неужели и он, пусть не историк, не психолог, но все-таки взрослый человек двадцать первого века, педагог, бессилен опровергнуть чудовищную софистику лжи?! На что, на какие ненужные сейчас науки он тратил свое время, вместо того, чтобы… Губы Булгарина уже кривила довольная усмешка; многоопытным чутьем он правильно оценил значение столь долгого и тягостного молчания. Но внезапно — Поспелов не сразу понял причину — веки прожженного демагога опасливо дрогнули. Он заметил — все заметили! — слабую, чуть грустную и, пожалуй, снисходительную улыбку Игоря. Поспелов в нетерпении подался вперед. Булгарин и его далекий потомок в упор глядели друг на друга. И Булгарин не выдержал — отвел взгляд. — Почему вы не хотите смотреть мне в глаза? — стирая улыбку, тихо спросил Игорь. Булгарин надменно вскинул голову, всем своим видом показывая, что его полная воля поступать так; как он хочет. — Чего же вы боитесь, Фаддей Бенедиктович, если за вами правда, закон и бог? Кстати, вам не кажется странным, что и в ваше время хороший поступок, не нуждался ни в оправдании, ни в самооправдании, тогда как дурной требовал и того и другого? Вы приняли наш суд уже тем, что оправдывались. — Софистика! — Булгарин презрительно пожал плечами. — Истину я хотел утвердить — и только. А что вините меня в оправданиях, то должно вам знать, что чаще злодей в чужих глазах предстает невинным, чем наоборот. Или вам сие неизвестно? Неизвестно, как вижу. — Тогда просветите, Фаддей Бенедиктович. Верно ли мы вас поняли, что в глазах людей и перед законом невинный может оказаться злодеем, а злодей невинным? — Так, тысячу раз так! — Но в таком случае благоволение к вам законов, на которое вы так упирали, ни о чем не говорит. Булгарин смешался, но только на миг. — Но не доказывает и обратного! — воскликнул он с жаром. — Толковать можно так, можно этак, одна философия, разве я что-нибудь утверждал? Одну истину, только истину! — Какую из трех, Фаддей Бенедиктович? Сначала вы представили себя борцом за идею, но это не оказалось истиной. Затем вы обвинили во всем, что заставляло вас поступать так, а не иначе, неумолимое давление обстоятельств. Но и в этом, как выяснилось, мало истины. Наконец, третья и, надеюсь, последняя ваша истина: поступал с благословения всех законов, значит, моя жизнь — пример гражданской добродетели. — И даже ваш всезнающий, но предвзятый якобы потомков суд того не опроверг! Потому что истина… «Считалось: не пойман — не вор, — устало подумал Поспелов. — А тут и пойман, и уличен, а не вор… Одна, кажется, только одна осталась возможность, я ее теперь вижу, но видят ли ее ребята?» Ему хотелось уткнуть голову во что-нибудь мягкое и прохладное — таким вымотанным он себя чувствовал. А Булгарин — тот ничего, был свеж… «Только не сорвись, Игоречек, только не сорвись!» — молил в душе Поспелов. — Коли ваши поступки, Фаддей Бенедиктович, вполне соответствовали человеческим законам и нормам, поощрялись ими, то вам нечего было скрывать. Почему же тогда вы таили от всех свою службу в Третьем отделении? Как и следовало ожидать, ответом была снисходительная усмешка. — Высшие государственные интересы, да будет вам известно, требуют от такого рода службы немалой секретности. — Эту вашу работу общество считало нравственной или только мирилось с нею как с неизбежным злом? — Противу такой службы мог говорить лишь смутьян! — Следовательно, ваш донос, к примеру, на Тургенева, из-за которого тот угодил в тюрьму, был морален. Тургенев же, написав неугодную статью, поступил аморально. — Как закон судит, так оно и есть. — А если закон в одних случаях карает, а в других поощряет преступника, то какова цена такому закону? — Сие уже казуистика, в которой, благодарение богу, я не силен. — Будто? Как часто вы брали взятки? — Я?! Взятки?! — Вы. Взятки. — Поклеп, ложные слу… — Полно, Фаддей Бенедиктович! До сих пор не хотите верить, что нам о вас все известно? — То одна видимость взяток! Благодарственные подношения, дружеские подарки. — Врете. Показать, где, когда, с кого вы брали взятки за те или иные публикации в своей газете? Назвать имена этих фабрикантов, книготорговцев, актеров? Тому же Третьему отделению все это, кстати, было хорошо известно. — Господи, да кто же у нас не берет взяток?! Обычай, можно сказать, такой. Все берут, и с меня брали, тут вывода никакого делать нельзя. Тут взвесить надо проступок, соотнести с заслугами… — Иначе говоря, дело не в поступке, а в его оценке. Тургенев разгневал власть — и он преступник. Вы же, доносчик и взяточник, — примерный патриот. Нет, оказывается, закона, есть благорасположенность свыше. — Как во все времена, как во все времена! — Судите о прошлых временах, но не трогайте будущие, вы о них ничего не знаете. — Истинно говорите! Как зимой невозможно без шубы, так в мое время нельзя без нравственных отступлений. — Таков был закон жизни?.. — Таков, таков! Я, что ли, его установил? Жил согласно, как все. Таких людей, хотите, мог бы уличить, так высоко стоящих… — Все одинаково черненькие, так? — Кто к власти прикоснулся, те, почитай, все. — И раз все виновны, значит, никто не виновен. Кажется, это уже четвертая ваша истина? Только и здесь неувязка, Фаддей Бенедиктович. Большинство ваших современников доносы ненавидели, взяток не брали, лжи и угодничества не терпели. Не оттого ли общественное мнение и презирало вас, что вы воплощали в себе и то, и другое, и третье? — Боже мой, я-то при чем?! Как свыше предписано было, так я и жил. Если пастух не туда ведет стадо, то разве ягненок в ответе? — Но вы-то были сторожевым псом. В уме вам не откажешь, многое хорошо понимали, только превыше всего была для вас выгода. — Что ж с того? Лишь праведников не интересует выгода, однако бог создал людей такими, что праведников среди нас немного. Велика ли тут моя вина? Соблазнов не избежал, грешен. Сам царь лгал о событиях декабрьского возмущения, я не святей царя. Доносы были поощряемы — не я, так другой… Что допускалось, то делал, а чего не допускалось, того не совершал. Кругом взятки брали, и я брал. Пусть многогрешен! Зато не жил в праздности, как многие, мысли имел, труд уважал, написал девять томов сочинений. Неужели эта чаша весов не перевесит? Святой Петр трижды предавал Христа, покаялся и был возведен в апостолы. Мое же раскаяние не слабей. — Не видно его что-то, Фаддей Бенедиктович. Ваше раскаяние больше на оправдание и торговлю похоже. — Клянусь, в мыслях того не было! — Что-то лихорадочно прорвалось в словах Булгарина. Он взвинченно озирался. — Чем, чем могу доказать свою искренность?! — В Третьем отделении вы, однако, не утруждали себя поисками, — едко усмехнулся Игорь. — Напомнить? — Сего мало! — впиваясь взглядом в эту усмешку, вскричал Булгарин. Должен со всей душой, по-нашему, по-христиански… Внезапно он сложился втрое и, прежде чем кто-нибудь осознал смысл его движения, уже был на коленях. — Как оплошавшее дите стою перед вами многогрешен! Все так и застыли, лишь кто-то, подавленно вскрикнув, закрыл лицо руками. Постыдней и хуже вида упавшего на колени старика, его с дрожью простертых рук была та поспешная готовность, с которой он это проделал. Никто не допускал возможности такой развязки от одной лишь видимости намека на ее желанность. Но намек-то вышел не кажущийся… И во всем этом была своя страшная логика, ибо за ней стояла многоопытность холопа, который чутко улавливает окрик и точно знает, когда можно пререкаться, а когда следует униженно себя растоптать. Смотреть на это было так омерзительно, думать о своей тут вине так нестерпимо, что Игорь с белым от ужаса лицом первым метнулся к пульту, вырвал его из сомлевших рук товарища. Все погасло с коротким, прозвучавшим, как пистолетный выстрел, щелчком. Исчезла обстановка девятнадцатого века, исчез и Булгарин. Но и оставшись наедине со своим временем, все молчали, не смея поднять глаз; как будто рядом еще находился жуткий призрак.Геннадий Мельников ЛЕКАРСТВО ОТ АВТОФОБИИ
1
— …Дело в том, доктор, что последнее время я стал бояться автомобилей. Психиатр оторвался от карточек, выпрямился, снял очки и посмотрел на посетителя. Мужчина лет пятидесяти семи — пятидесяти восьми, ссутулившись, сидел на краешке стула, сцепив ка острых коленях кисти рук, — весь какой-то обмякший, усталый, — и видно было, что ему очень неловко сидеть вот так посреди комнаты, такой чистой и светлой, в своем поношенном костюме, сидеть, как на каком-то странном экзамене, когда экзаменатор еще ничего не знает, а он, хотя уже и о многом догадывается, но старается отвечать коротко, односложно, чтобы у того, сидящего за столом, не сложилось мнение о его полной безнадежности. — Простите… что вы сказали? — Последнее время я стал бояться автомобилей…МАЗ с трейлером на прицепе врезался в «Волгу», когда она неожиданно вынырнула из-за рефрижератора, стоящего на обочине трассы. Удар пришелся левым передним колесом МАЗа в дверцу водителя, и «Волга» мгновенно сплющилась. Водитель МАЗа потерял сознание, и сцепившиеся машины слетели с полотна дороги в кювет, едва не задев рефрижератор. Бульдозер сорвался с трейлера и завалился на бок. Всего лишь миг… и проезжая часть снова свободна, как несколько секунд назад, но теперь ока уже не та, да и все теперь не то, воздух, пыльная трава на обочине, само пространство — все изменилось, стало другим, настороженным, сжатым, враждебным…Психиатр достал носовой платок и стал протирать стекла очков. — Все мы в той или иной степени боимся автомобилей… Страх — одна из защитных реакций организма. — Он понимал, что говорит словами учебника, но нужно было что-то говорить, чтобы не затянулась пауза, пока он будет обдумывать не совсем обычное сообщение посетителя. — Если бы люди потеряли чувство страха, вернее, инстинкта самосохранения, человечество давно бы перестало существовать. Посетитель нервно хрустнул костяшками худых рук. — Все это я понимаю, доктор, но… видите ли… у меня совсем не то, о чем вы говорите… — Вы хотите сказать, что у вас чувство страха больше нормы? Посетитель поднял голову и впервые посмотрел в глаза психиатру. — Нормы?.. О какой норме может быть речь, когда я боюсь даже стоящего на месте… даже неисправного автомобиля!
Первым к месту аварии подбежал водитель рефрижератора, затем несколько человек с птицефермы, расположенной метрах в двухстах от дороги. Кто-то из них побежал звонить по телефону, но «скорая помощь» вряд ли кому здесь требовалась… Водитель «Волги» был буквально спрессован между дверцей и сиденьем, мужчина в сером костюме непонятно как оказался под колесами трейлера, а на двух женщин и мальчика лет десяти старались не смотреть…— Да, доктор, я испытываю необъяснимый страх при виде любого автомобиля, трактора и даже мотоцикла… — Продолжайте, пожалуйста. — Я не могу объяснить причины этого страха… Я не боюсь, например, что меня задавят, а просто испытываю страх… страх в чистом виде… Психиатр продолжал машинально протирать стекла очков. — Послушайте, доктор, — продолжал посетитель, — вам что-нибудь известно об автофобии?
Почти одновременно подъехали «скорая помощь» и милицейская «Волга». С обеих сторон от рефрижератора выстроились две длинные очереди машин. Подходили водители, пассажиры, работники птицефермы, подходили и молча становились на границе невидимой окружности, в центре которой два лейтенанта производили замеры и фотографировали место происшествия, а работники «скорой помощи» осматривали погибших.— Как вы сказали? Автофобия?.. — брови психиатра поднялись над оправой очков, отчего на лбу резко обозначились складки. — Возможно, это у вас называется по-другому? — Фобия, — повторил вслух психиатр и замолчал. Навязчивые состояния, необоснованные страхи, опасения… Клаустрофобия, астрофобия, еще несколько фобий, но автофобия… — Нет. Про автофобию мне, честно говоря, слышать не приходилось. Но вы не беспокойтесь, разберемся и в вашей фобии. Психиатр нисколько не жалел, что высказал свою неосведомленность в вопросе об автофобии, так как по опыту знал, что откровенность в большинстве случаев способствует контакту с людьми, страдающими душевными недугами.
Затем прибыл на «летучке» главный инженер того учреждения, из которого был МАЗ, а следом за ним — пятитонный кран и самосвал с автогеном. Такси разрезали, тела погибших уложили рядом и накрыли брезентом. Вокруг изуродованной «Волги» лежали в беспорядке всевозможные вещи, особенно много обуви, было такое впечатление, что перед столкновением все разулись. Водитель МАЗа с перевязанной головой сидел на земле, прислонившись к ножу бульдозера, и на его окаменевшем лице не отражалось ни одной мысли…— Давайте начнем по порядку, — предложил психиатр. — А чтобы облегчить дело, я буду задавать вопросы, а вы отвечать. Посетитель приободрился. — Хорошо, доктор. — Так вот, — психиатр снова снял очки и отложил в сторону карточку, которую успел просмотреть. — Когда у вас это началось? — Месяца полтора назад. — Сразу или постепенно? — Сразу, доктор, как только проснулся. — Зовите меня Юрием Николаевичем. — Хорошо. — Расскажите, пожалуйста, что вы почувствовали, когда проснулись полтора месяца назад. Посетитель — Кириллов Борис Иванович, пятидесяти шести лет, бухгалтер СМУ, как значилось в карточке, — оперся на спинку стула и, глядя куда-то в угол кабинета, начал рассказ. — Я проснулся, не досмотрев неприятный сон. На моих глазах панелевоз сбил велосипедиста. Я сразу же открыл глаза, но сон как бы по инерции продолжался. Я до малейших деталей видел, хотя уже и поднялся с кровати, как затормозил панелевоз и выскочил испуганный водитель, как сбежались люди и вытащили из-под заднего моста парня, и все это при полном сознании, наяву… Вот с этого и началось. — И с этого момента вы стали бояться автомобилей? — Да. Но я еще не знал этого, пока не услышал гул — это ехало несколько автобусов с вахтой нефтяников — и не почувствовал, что боюсь этого гула. Тяжело груженные машины шли на подъем, и казалось, что это не автобусы, а низко летящие бомбардировщики. Гул приближался, рос, становился плотным, и мне вдруг стало казаться, что я погружаюсь в какую-то бездну, а голову мою все сильнее сдавливает многометровый столб воды. Когда машины поравнялись с домом, для меня уже ничего, кроме гула, на свете не существовало. Еще немного, и я не выдержал бы. Мелькнула мысль, что у меня кровоизлияние в мозг… но машины прошли — и мне стало легче. Но даже и после этого я не связывал свое состояние с прошедшей колонной машин. Я искал причину в самом себе, и необъяснимый страх, возникший вместе с гулом, приписывал сновидению… Но если бы это было так… Пора было собираться на работу. Я быстро умылся, оделся, приготовил завтрак, — живу я один, — поел и вышел к автобусной остановке. Обычно я на работу хожу пешком, но в тот раз решил приехать пораньше и сделать кое-что до начала рабочего дня. Было что-то около половины седьмого, на остановке толпилось человек двадцать. Вскоре показался автобус, и я вдруг почувствовал какое-то беспокойство. По мере его приближения беспокойство усиливалось, нарастало, переходило в страх, а когда автобус затормозил у бетонной площадки, меня охватил ужас. И вот тогда-то я и понял, что боюсь автобуса. Мне трудно описать вам мое состояние, меня будто свело судорогой, а автобус казался мне воплощением чего-то жуткого, непонятного… И в то же время я сознавал, что все это чушь и автобус здесь ни при чем, а случилось что-то со мной самим, и автобус является лишь тем катализатором или напоминанием, после которого в моем организме сработал какой-то до этого бездействовавший механизм. Захлопнулись дверцы, и автобус отошел, а я еще минуты три стоял будто оглушенный. Случившееся так подействовало на меня, что я на время потерял способность связно мыслить. Я уже не соображал, почему я здесь стою и куда мне нужно ехать. В голосе мешанина слое, фраз, образов, и среди этого хаоса металась лишь одна мысль: «что это?.. что?.. что со мной?» Показался второй автобус, но я не стал дожидаться, пока он подойдет, с трудом заставил себя сдвинуться с места и пошел в сторону управления, утопая в волнах страха, которые накатывались на меня, когда мимо проезжали машины. И с этого дня моя жизнь превратилась в бредовый сон. Я перестал ездить на автобусах, стал избегать улиц с интенсивным движением, делал ежедневно крюк, обходя автозаправочную станцию, идя на работу и с работы. Жизнь превратилась в ежедневную пытку, но я по складу своего характера… а проще, из-за своей проклятой застенчивости никому не рассказал об этом, ни с кем не посоветовался. Но так до бесконечности не могло продолжаться, и момент, когда все должно открыться, наступил… Позавчера мой начальник сообщил мне, что через месяц я должен буду вместо него ехать в трест с полугодовым отчетом. И я пришел к вам. При всем желании я не смогу пройти за ночь сто сорок километров. — И хорошо сделали, что пришли, — психиатр сделал пометку в блокноте и поднялся. — Но это еще не все, — торопливо сказал Кириллов, словно испугавшись, что его не дослушают. — А вы продолжайте, рассказывайте, я только открою окно. Кириллов подождал, пока психиатр распахнул окно, и снова сел к столу. — Я установил своего рода радиус воздействия на меня различных марок автомобилей. Легковые машины начинают влиять на расстоянии ближе тридцати метров, грузовые — порядка пятидесяти, автобусы и тяжелый транспорт — от семидесяти до ста метров. Я несколько раз пытался перебороть свой страх. По дороге на работу я не сворачивал в сторону, а шел к заправочной станции, Метрах в пятидесяти от хвоста очереди я начинал чувствовать, как грудь мою охватывал обруч, который по мере моего приближения к автомобилям сжимался все сильнее и сильнее, дыхание затруднялось, а в голове нарастал шум крови. Метрах в тридцати я шел будто против сильного ветра. Все окружающее теряло четкие формы, тускнело, расплывалось, а сам я впадал в состояние, чем-то напоминающее опьянение, но опьянение не веселое, а мрачное, когда ждешь чего-то неотвратимого и жуткого, как разрыва летящей на тебя бомбы. Я не знаю, как выдерживало мое сердце. Метров за десять до крайнего автомобиля я уже был в полубессознательном состоянии и, еле сдерживая крик, сворачивал в сторону. После таких экспериментов у меня целый день раскалывалась от боли голова.
Трупы погрузили в кузов самосвала и повезли в морг. Бульдозер при помощи крана поставили в нормальное положение. Механик, приехавший вместе с главным инженером, осмотрел МАЗ, и после того, как автогеном срезали помятое левое крыло, выгнал его на ровное место и загнал бульдозер на трейлер. За «Волгой» пришла бортовая машина автобазы, и ее тем же краном погрузили и увезли. Механик стал выворачивать МАЗ на проезжую часть дороги. Главный инженер, прихватив газосварщика и автогенный аппарат, уехал в управление. Водителя МАЗа в милицейской «Волге» увезли на обследование. Все действия отличались последовательностью и были взаимосвязаны, как теоремы Евклида. Мировые линии такси и МАЗа пересеклись в одной точке пространства и вновь разошлись, разделив события на прошлое и будущее, но это уже не имело никакого значения для тех, кто лежал в кузове самосвала.— А затем меня стали мучить кошмары, — продолжал Кириллов. — И во сне, и наяву мне мерещились аварии. Вот и сейчас, пока я вам все это рассказывал, точнее, как только я к вам зашел, мое сознание как бы раздвоилось. Одна часть здесь, в этой комнате, другая где-то за городом, где столкнулись МАЗ и такси. Погибли все находящиеся в «Волге». Я отчетливо видел, как все это произошло, как поднялись от шума над лесопосадкой грачи и как вырезали автогеном дверцы «Волги», чтобы вытащить погибших. Кириллов замолчал. Психиатр машинально вертел в руках шариковую ручку. Странный случай расстройства, очень странный. Впервые за три десятка лет его работы. Обычно эти фобии носят конкретный характер: люди боятся вполне определенных вещей — что их отравят, что они оставили незапертой квартиру, не выключили газ, что они больны неизлечимой болезнью. Но еще ни разу к нему не обращались с подобным. Были, конечно, и такие, которые боялись переходить улицу, боялись, что попадут под автобус или трамвай, но во всех случаях они знали причины своих страхов. А у этого страх беспричинный, вернее, причина, конечно, какая-то есть, но он не может ее назвать. Просто боится и все, а чего боится — неясно. К тому же эти видения… — Нет никакого сомнения, что мы избавим вас от этой фобии и галлюцинаций, — сказал психиатр после затянувшегося молчания. — Я вам напишу, куда и когда явиться, — вначале нужно провести общие обследования, затем назначим профилактический курс, и после трех-четырех сеансов от вашей фобии, уверяю вас, не останется и следа…
2
Борис Иванович Кириллов вышел от психиатра с чувством облегчения, присущим всем застенчивым и нерешительным людям, когда они вынуждены выполнять не совсем приятное для них дело. Он сам не ожидал от себя такой откровенности и сейчас не мог определить, что явилось тому причиной: манера ли ведения психиатром опроса, который больше походил на дружескую беседу, или внешность психиатра, пожилого человека с добрым лицом и близорукими глазами. И все-таки Борис Иванович высказался не до конца, не сообщил психиатру того, о чем и сам старался не думать. В самом деле, чем объяснить связь между его кошмарами и действительностью? В своем бредовом сне он увидел, как мотоциклист на «Яве» налетел на автогрейдер, а утром из разговоров узнал, что это действительно произошло минувшей ночью возле базы ПМК. Совпадали и «Ява» и автогрейдер… Но сейчас половина мотоциклистов носятся на «Явах», а автогрейдеров в области не меньше, чем «Яв»… А второй случай — тоже совпадение? А что же еще?.. Слесарю в гараже сорвавшимся с талей мотором раздробило пальцы. Это ему померещилось и произошло на самом деле уже в его управлении. Ну и что из этого? Не хочет ли он убедить себя в том, что его видения и страхи являются следствием каких-то внешних причин, а не душевного расстройства? Да и какая может быть связь?.. Телепатия? Волны, испускаемые человеком, попавшим в автомобильную аварию, и улавливаемые им — Кирилловым?.. Ерунда, конечно. Поскорее пройти эти сеансы гипноза — психиатр, правда, не говорил об этом, но и так ясно, — чтобы все стало как прежде. В дверях управления Борис Иванович столкнулся с главным инженером. Тот, не ответив на его приветствие, сбежал по ступенькам и направился к гаражу. Что-то поразило Бориса Ивановича в его лице, но он не смог сразу определить — что? Как будто он, Кириллов, должен был ему что-то сказать… Нет, не сказать, а вспомнить… А что вспомнить?.. Он был у психиатра… А при чем тут главный инженер?.. Нет, связь какая-то есть, но какая? Занятый своими мыслями, Борис Иванович прошел в бухгалтерию. Никто не посмотрел на него, когда он вошел, казалось, что сотрудники сидят тут неподвижно и молча со вчерашнего вечера. Лицо молоденькой нормировщицы было заплаканным, но она и не пыталась вытереть расплывшуюся под глазами тушь. Когда до Бориса Ивановича дошло, что здесь что-то не так, он интуитивно почувствовал, что при всех неудобно расспрашивать, и пошел в соседнюю комнатушку, где сидела Мария Александровна — полная рыхлая женщина, исполняющая обязанности экономиста и кассира. — Мария Александровна, что у нас случилось? — спросил он. — Вы о чем, Борис Иванович? — удивленно спросила она, а потом, наверное, вспомнила, что с утра его не было видно в управлении. — Так вы только пришли? И ничего не слышали?!. Ужас! Ужас!! Произнося слово «ужас», Мария Александровна зажмуривала глаза, вытягивала губы трубочкой и встряхивала головой. — Вы представить себе не можете, Борис Иванович, какой ужас! — она перешла на шепот. — Мясников-то, знаете, тот новенький из гаража, что недавно из армии? Да знаете вы его, Ольги, нашей нормировщицы, ухажер, так вот сейчас позвонили… Сегодня перебрасывали второй участок на новое место работы, и он вез на МАЗе какой-то грейдер… — Бульдозер, — машинально уточнил Борис Иванович, чувствуя, как у него между лопатками подымается холодок. — О боже, какая разница! — всплеснула руками Мария Александровна, недовольная, что ее перебили, но Борис Иванович теперь не слышал ее. Он уже знал, о чем собиралась она ему рассказать, и теперь стало ясно, что должен был он вспомнить, встретившись в дверях с главным инженером. Там, в кабинете психиатра, он видел его возле исковерканной «Волги», видел его и механика. Теперь никаких сомнений. Просто в тот момент он был сосредоточен на другом и «смотрел» очередное «автомобильное представление» краем глаза. А теперь все вспомнил… — Вы меня не слушаете? — дошел до него голос Марии Александровны. — Да, да… неприятная история, — пробормотал он и вышел в бухгалтерию. Он сел за свой стол и стал перелистывать ведомости, накладные, какие-то справки, а сам был настолько далек от всего этого, что, когда ему дали на подпись гарантийное письмо, долго не мог вникнуть в его содержание. Он, казалось, вел с кем-то бессловесный спор, и постепенно его более сильное начало, которое обычно пряталось за спину нерешительности и застенчивости, набирало силу, брало верх… Ну, а теперь что? Совпадение?.. Не слишком ли много на этот раз?.. Пора прекратить эту игру в кошки-мышки! Ты видел сегодня аварию?.. Видел… А с мотоциклистом?.. Видел… А случай в гараже? Тебе недостаточно?.. Что ты имеешь в виду?.. А то, что пора поставить крест на «случайных совпадениях»… Но по теории вероятности… Э, брось! Сейчас опять начнешь про обезьян, которые за миллионы лет могут случайно отстучать на машинке «Войну и мир»… Да, но… Но это только по теории, а в жизни такое никогда не случится. Жизнь устроена проще, и вероятность любого события, которое реально может произойти, колеблется на определенном среднем уровне, а случай с тобой — это отклонение в сторону от этого уровня на много порядков, поэтому о случайном совпадении не может быть и речи… Совершенно ясно: твои кошмары каким-то образом связаны с реально происходящими событиями, являются их отображением… Сидеть в помещении больше не было сил. Борис Иванович вышел во двор. Под длинным навесом, оплетенным диким виноградом, собирались механизаторы второй смены. Через полчаса должны были подать автобусы. Борис Иванович сел на свободный край скамейки, расслабился, задышал полной грудью. Солнце поднялось довольно высоко, но здесь, под густой листвой, еще чувствовалась прохлада прошедшей ночи. Где-то поблизости пробовал голос скворец. День обещал быть теплым и солнечным. Как сквозь сон слышал Борис Иванович обрывки разговоров — все о той же аварии у птицефермы, — но он даже не прислушивался, безразличие ко всему овладело им, и, как после изнурительной работы, не хотелось ни двигаться, ни думать… До него не сразу дошла взаимосвязь между его состоянием и тремя автомашинами, выехавшими из гаража. Его сознание машинально отразило тот факт, что первой из ворот выехала «летучка», а за нею автокран и самосвал, и он не придал бы этому выезду особого значения, если бы чуть подольше не задержал взгляд на самосвале и не увидел, что находилось в кузове. Так бывает, когда одна деталь, на первый взгляд незначительная, вдруг как бы высвечивает всю картину. Борис Иванович разглядел привязанный к борту веревкой автогенный аппарат. — Послушайте, — с трудом сдерживая волнение, обратился Борис Иванович к сидевшему рядом механизатору, — куда это они? — Да туда же, — коротко ответил тот. — Так они еще там не были?! — воскликнул Борис Иванович. На него посмотрели с удивлением, не понимая ни его вопросе, ни волнения. — А когда бы они там были, если только полчаса, как позвонили, ответил кто-то. Борис Иванович встал и отошел в самый дальний угол двора, где за штабелем досок буйно разрослась сирень, а из бревенчатой стены старого склада сыпалась труха и сухой шашель. Здесь ему никто не помешает собраться с мыслями. Как же так?.. Он уже почти смирился с тем, что его галлюцинации как-то отражают действительные события, и здесь еще не было явного противоречия. Это, возможно, поддавалось какому-то объяснению. Сейчас же все рушилось… Главный инженер, механик и газосварщик с автогеном еще там не были! Они только выехали. А он их уже «видел» на месте аварии, когда сидел в кабинете психиатра… Ну а как он мог — пусть даже мысленно — видеть то, что еще не произошло? Что еще только произойдет. К психиатру он пришел в 9:20, тогда же и «увидел» аварию. Сейчас 11:20… Если отбросить те тридцать минут до звонка, да еще от звонка до момента аварии минут десять, — куда звонить, мог сказать только водитель МАЗа, — то получается 10:40 — время, когда фактически произошло столкновение… Разность что-то около восьмидесяти минут… Так, значит, когда он вышел от психиатра, никакой аварии еще не было?! Нет, здесь что-то не так, здесь он что-то путает. Он готов согласиться на возможность самого невероятного совпадения, на существование каких-то волн страха, передающихся на расстояние от человека к человеку, — на что угодно, лишь бы оно не противоречило здравому смыслу. Но чтобы следствие предшествовало причине, чтобы вначале в его мозгу появилось отображение события, а затем уже само событие… Нет. Такое исключено даже в теории относительности — самой парадоксальной, и в то же время логически стройной теории… Воспоминание о теории относительности — увлечении его юности — немного успокоило Бориса Ивановича, и он решил еще раз разобраться со временем и найти то противоречие, которое привело его к столь неожиданному открытию. Он снова начал вести подсчет с момента выезда главного инженера, но теперь у него что-то не получалось. Вначале он не мог понять, где допустил ошибку, но вдруг стало ясно, что никакой ошибки нет, а просто считать так, как он считает, нельзя. У психиатра он находился минут двадцать — двадцать пять, не больше, и за это время сумел «увидеть» и саму аварию, и все остальное вплоть до погрузки «Волги», то есть событие, продолжительность которого должна быть по крайней мере часа полтора-два, но уж никак не двадцать пять минут. Следовательно, время в его галлюцинациях сжато, как в кинофильме, и расчет нужно вести с кульминационного момента, в данном случае с момента столкновения «Волги» и МАЗа. В пользу этого говорила еще одна деталь: четкость самой галлюцинации не была одинаковой с начала до конца, он на это обратил внимание еще раньше, она достигала максимума к моменту происшествия, а затем тускнела, расплывалась, сходила на нет. Борис Иванович снова подошел к навесу, прислушался к разговорам, стал осторожно уточнять то у одного, то у другого различные детали: когда выехал из гаража Мясников, откуда он вез бульдозер, какой делал рейс. Вернувшись в бухгалтерию, установил, что звонок с птицефермы был за десять минут до его прихода. Так он получил почти все данные для более точного расчета, который тут же и произвел на оборотной стороне чистого бланка накладной. «Время запаздывания» — так он про себя назвал интервал между мнимым и действительным событием — составляло все те же восемьдесят минут.3
Прошло три года. Борис Иванович работал все в той же бухгалтерии, за тем же столом, что и пять, десять, шестнадцать лет назад. Да и куда он мог еще уйти, и зачем? Четыре пятых жизни уже прожито, на этот счет у него не было никаких сомнений, а за оставшиеся десять, максимум двенадцать лет не было никакого смысла менять установившееся течение жизни. Многие люди стареют душою быстрее, чем телом, но зачастую не осознают этого. Проходят годы, десятилетия — а еще ничего не сделано, и даже не совсем ясно, что нужно сделать, чтобы вырваться из заколдованного круга обыденности и скуки. Люди плывут в одиночку на хрупких яхтах через океаны, открывают новые элементарные частицы, пишут книги, приручают дельфинов, а ты только и знаешь, что ходишь ежедневно на работу, ешь, спишь… и впереди никакого просвета. Но ведь не все еще потеряно, нужно только заставить себя начать, начать не откладывая, сегодня же, сейчас, но… уже пора выходить, а у тебя еще не готов завтрак и не выглажена рубашка, в на работе сегодня, как всегда в конце месяца, будет жаркий денек, да не забыть бы вечером сдать бутылки из-под молока и купить пачку лезвий… и мимолетная вспышка забыта среди повседневных житейских забот. И снова тянутся серые дни, похожие друг на друга, и все меньше остается в памяти тех незначительных вех — событий, по которым отличаешь один прожитый год от другого. В пятьдесят пять шестьдесят лет у человека подобного склада не остается уже никаких иллюзий, и он, смирившись, готовится к старости… Борис Иванович принадлежал к этому типу людей, но, в отличие от многих, он не пытался искать причины неудавшейся жизни в стечении не зависящих от него обстоятельств или в неиспользованных возможностях. Просто он жил как мог, и если бы ему было дано прожить заново, то вряд ли новая жизнь чем-то отличалась от старой. А может быть, и нет? Может, в той, новой жизни не соседские, а его дети бежали бы ему навстречу, когда он, возвращаясь с работы, нес им в газетном кульке мороженое?.. Может быть. Да, теперь он очень хотел, чтобы именно в этом было отличие. Разве этого мало? Старость сама по себе вещь не из приятных, но одинокая старость в пустой холостяцкой квартире — тяжелее во сто крат… Ну, а что же насчет автофобии? Ее словно и не было. Проснувшись однажды, Борис Иванович почувствовал себя будто вновь рожденным. Постоянная напряженность в теле исчезла, думалось легко, мир казался ярким, свежим, как и много лет назад, но он еще не догадывался о главном, пока не вышел на улицу. Переход был таким неожиданным — он все еще по привычке жался к домам, — что только пройдя половину пути, он, наконец, понял, что страха больше нет. Через две недели он решился проехать одну остановку в автобусе. Ничего не произошло. Он страшно волновался, и нестолько от боязни, что приступ автофобии вот-вот начнется в переполненном салоне, сколько от мысли, что людям видно его волнение. Но все закончилось благополучно. Сейчас, когда прошло столько времени, ему уже с трудом верилось, что все это было на самом деле, и если бы не случайные встречи на улице с Юрием Николаевичем, психиатром, который жил где-то поблизости, то он бы, пожалуй, убедил себя, что это был далекий сон. С улыбкой вспоминал он, как однажды собрался было идти в милицию и все рассказать. Зачем? Затем, чтобы предотвращать аварии. Ведь в его распоряжении было восемьдесят минут. Смешно? Но тогда это не казалось смешным, и если бы не его застенчивость и боязнь, что прямо из милиции он попадет в психиатрическую лечебницу, он бы пошел. А что касается «времени запаздывания», то, возможно, его и вовсе не было. Вероятно, это был побочный эффект болезни, своего рода самовнушение, которое его взвинченная психика приняла за действительность. Может быть, находясь у психиатра, он ничего и не «видел», а уже после, когда узнал о происшествии, в его расстроенном сознании произошла перестановка, сдвиг, и ему стало казаться, что он знал об аварии раньше, чем она произошла. Борис Иванович, додумавшись до такого объяснения, все реже вспоминал об автофобии, и жизнь его, лишенная разнообразия, протекала тихо и монотонно, как белый шум. Этот вечер ничем особенно не отличался от других подобных летних вечеров, разве что было немного жарче, чем обычно вечерами в середине июня, и те немногие люди, которые видели Бориса Ивановича в эту пятницу на работе и после, не приписывали ему многозначительных фраз, которые он якобы произносил в тот день и в которых будто бы сквозило предчувствие, не старались припомнить что-то необычное, предрешенное в его поведении, потому что всего этого не было, да и если б ему самому сказали, что это последний вечер в его жизни, он вряд ли принял бы это всерьез. После работы Борис Иванович зашел в гастроном за продуктами, купил в газетном киоске возле сквера свежий номер журнала «Наука и жизнь» и по улице, по которой ходил вот уже двадцать лет, направился домой. Его видели завсегдатаи двора, дворник, возвращавшийся с внуком из детского сада, соседка, живущая этажом выше. Видели, как он вошел в подъезд, вытащил из почтового ящика газеты, открыл дверь. В девять часов на кухне загорелся свет, вскоре погас, вспыхнул в соседнем окне. Свет горел до половины двенадцатого — это подтвердили подростки, которые бренчали на гитаре, расположившись на двух сдвинутых скамейках невдалеке от его окон. Борис Иванович спал…Водитель автобуса захлопнул дверцу кабины и с ведром в руке стал спускаться к воде. Паром только что причалил к противоположному берегу, и отчетливо было слышно, как паромщик гремел цепью о металлическую тумбу, как взвыли двигатели стоявших на выходе автомашин. Опоздали минут на десять, теперь жди следующего рейса, но особой беды не будет, если он привезет малышей в лагерь на полчаса позже. Водитель улыбнулся, вспомнив, как их, полусонных, сводили во двор конторы, как они, немного размявшись, стали ходить за ним по пятам, пока он вывешивал таблички с надписью «Осторожно — дети!» и стучал ногою по упругим скатам. Поначалу, как только выехали, все они оживились, загалдели, уткнулись в стекла, но перед паромной переправой многие укачались и уснули. В автобусе стало тихо, только сопровождающая вполголоса разговаривала с кем-то из старших ребят. Когда автобус остановился на бревенчатом настиле съезда почти у самого шлагбаума, из салона никто не вышел, водитель же решил долить воды в радиатор. Он наклонился и погрузил ведро в зеленоватую теплую воду. По гладкой поверхности побежали круги. Зачерпнув, водитель выпрямился и несколько секунд наблюдал, как расплывалось, уносимое течением, маслянистое пятно. Из темно-коричневого, почти черного, оно на глазах превращалось в тончайшую пленку, приобретало радужный оттенок. Водитель посмотрел на берег и… ведро упало в воду… Медленно, будто раздумывая, автобус накатывался на шлагбаум причала… Водитель закричал и стал карабкаться по скользкому от росы крутому склону. Автобус уперся в брус шлагбаума, и тот сразу прогнулся. Мелькнула мысль — выдержит… но тут посыпались стекла фар, затем с треском сломался деревянный брус… Автобус застучал колесами по горбылям наклонного настила… Тогда-то и закричала сопровождающая… Водитель на четвереньках вскарабкался на обрез берега… Испуганные криком сопровождающей, закричали дети… Закричали люди под навесом, но уже ничего нельзя было сделать. Автобус резко дернулся, соскочили передние колеса с причала, заскрежетал днищем о кромку и, запрокинувшись, полетел в воду…Очнулся Борис Иванович в темноте, еще не совсем сознавая, где он и что с ним. В ушах все еще звучал крик детей. Опрокинув стул, графин на столе, с трудом нашел выключатель. Вспыхнул свет… Одеяло на полу, вода не скатерти, перевернутый стул… Автофобия? Опять?.. Опять кошмары?! Борис Иванович прошел на кухню — там было светлее, чем в комнате, зачем-то зажег газовую плиту, выключил, напился прямо из-под крана тепловатой воды, подошел к окну… На востоке небо наливалось холодной синевой. Еще, наверное, нет четырех… Посмотрел на часы. 4:20 Так, значит, все-таки снова автофобия?.. Но при чем здесь дети?! Запаздывание… восемьдесят минут. При чем здесь дети?! В чем они виноваты?! Чувство отчаяния, боли, нелогичность и дикость происшедшего потрясли его. Восемьдесят минут! Время идет! И это может случиться! Если не помешать… 4:21 Борис Иванович выскочил в коридор. Куда бежать, что делать?.. Бежать нужно к ближайшему телефону и звонить. Куда? Звонить на паромную переправу… Но там нет телефона. Тогда в милицию, конечно в милицию… 4:22 Борис Иванович натянул пиджак и выскочил из квартиры. Позади щелкнул английский замок. Впопыхах он не выключил в комнате свет, и теперь он будет гореть до самого вечера, пока соседский мальчишка, подталкиваемый со двора взрослыми, не залезет через форточку и не откроет дверь… 4:27 До ближайшего телефона-автомата два квартала. Только бы он работал! 4:32 Телефон-автомат работал. Борис Иванович вытащил из кармана всю мелочь и при слабом освещении стал искать двухкопеечную монету, но ее не оказалось. Вспомнил, что в милицию можно звонить без монеты, но какую набирать после ноля цифру не знал. Начал с 01. — Пожарное депо. — Как позвонить в милицию? — спросил Борис Иванович. — 02. Набрал 02. 4:33 — Дежурный лейтенант Киреев слушает, — раздался вялый голос в трубке. Борис Иванович произнес на одном дыхании: — Товарищ лейтенант, срочно!.. На пароме!.. Дети! — Говорите медленнее и тише, — требовательно сказал Киреев. Борис Иванович передохнул. — На пароме… автобус с детьми… упал в воду, — раздельно произнес он. На другом конце провода человек вскочил из-за стола. — Когда?! Борис Иванович не знал, что ответить. — Когда это случилось?! — лейтенант кричал. — Что вы молчите?! Говорите же! — Видите ли… — Борис Иванович замялся. — Откуда вы звоните?! Назовите свою фамилию! — Кириллов… Звоню из автомата, который возле универмага… — Вы были на переправе? — Нет. — Кто вам это сообщил?.. Да говорите же быстрее! Откуда вам стало об этом известно? Борис Иванович понял, что тянуть больше нельзя. — Товарищ лейтенант, прошу меня понять правильно… От этого зависит жизнь детей… Времени совсем немного, около часа… Вы еще успеете к парому, если выедете сейчас же… — Что вы плетете? — перебил его Киреев. — Надо предупредить… — Что предупредить?! — Видите ли… автобус еще не упал… — Не упал?! Так что же вы морочите голову?! — Но он упадет, если вы… Стало слышно, как тяжело лейтенант дышал в трубку. — Знаешь что, дядя… — с расстановкой, зло сказал он. — Иди и проспись! И если ты еще раз позвонишь — пеняй на себя. И бросил трубку. 4:36 Как пришибленный, вышел Борис Иванович из телефонной будки. «До чего же глупо, до чего же глупо, — бормотал он, отлично понимая, что лейтенант поступил так, как на его месте поступил бы любой, здравомыслящий человек. — Но должен ведь кто-то понять и помочь! Должен хоть на этот раз отступиться от здравого смысла и выслушать его до конца! Но кто?..» 4:37 Осталось не более часа, а он все еще стоит возле телефонной будки, не зная, что предпринять дальше. Злость на свою беспомощность, на здравый людской рационализм захлестнула его. Еще немного, и он бы закричал… Но в этот момент из-за угла универмага показался молоковоз, и волны страха обрушились на Бориса Ивановича с такой силой, что его буквально отбросило на чугунную решетку ограды. Машина проехала метрах в десяти от него, и только по чистой случайности водитель не заметил, что человек, склонившийся над оградой, потерял сознание… 4:46 Решение пришло сразу, как только он очнулся. Иного выхода не было. Не теряя ни секунды, надо бежать к паромной переправе, бежать, пока еще есть время. Сколько до нее? Восемнадцать или двадцать километров? Много или мало? Мало, если ехать рейсовым автобусом, и много, очень много, если бежать на время, а у тебя его меньше часа, и тебе пятьдесят девять лет. 5:07 У переезда на окраине города ему что-то крикнула женщина, выглянувшая из будки, но он не расслышал и пробежал мимо. По асфальту бежать было сравнительно легко, но когда впереди со стороны паромной переправы показалась машина, Борис Иванович был вынужден свернуть с дороги и бежать вдоль лесополосы. Под ногами шуршали сухие прошлогодние листья, с писком разбегались полевые мыши. К концу третьего километра он выдохся. Перешел на шаг. Немного отдышавшись, побежал снова. Он бежал, пока не становилось темно в глазах, а в груди не начинало рваться будто сухое полотно, тогда он сбавлял темп и шел с закрытыми глазами, тяжело дыша открытым ртом и постепенно сбиваясь на пахоту. 5:15 Он слишком поздно догадался, что автобус, обогнавший его, — тот самый, ради которого он бежал. Когда он прочел дальнозоркими глазами надпись на трафарете, выставленном в заднем стекле, то заплакал от обиды и злости на самого себя. Как он не сообразил, что в то время, когда он звонил по телефону, бежал безлюдной улицей, даже когда он пробегал мимо будочницы, автобус все еще стоял где-то во дворе, и сонные детишки только рассаживались на холодные дерматиновые сиденья?.. 5:25 Он не смотрел на часы, боясь увидеть, что уже поздно. Но и сил у него больше не было. Пиджак пропотел насквозь, шляпу он потерял где-то в начале лесополосы, мокрые волосы лезли в глаза, но ему уже было все безразлично. Перебравшись через сухое ложе оросительного канала, он упал на валик рисового чека, зная, что ему не подняться. 5:29 Когда пелена сошла с глаз, Борис Иванович посмотрел на часы. Теперь уже ничто не поможет. Бежать дольше не было смысла. Осталось около десяти минут, а он не преодолел и половины пути… 5:30 Будь проклят этот мир, если в нем возможна такая несправедливость! Будь проклята эта жизнь, если человек рождается таким слабым, что не может помешать этой несправедливости) В таком мире не стоит и жить. 5:31 Со стороны переезда, громыхая пустым кузовом, показался самосвал. Борис Иванович поднялся и, спотыкаясь об отвалы пахоты, вышел на обочину. Самосвал приближался. Если бы его в этот момент спросили, что он собирается делать, он бы не смог ответить. Его тело уже не подчинялось сознанию и действовало как бы самостоятельно, автоматически, подчиняясь инстинкту, а само сознание, напряженное до предела, сконцентрировалось на одной только мысли выстоять, не упасть. Такое, вероятно, состояние бывало у тех, кто выходил со связкой гранат на громаду танка… 5:34 Борис Иванович не в силах был даже руку поднять, но водитель сам затормозил у одиноко стоящей фигуры. — Садись, папаша! — крикнул он, открывая дверцу. Пожилой человек в насквозь промокшем от пота костюме, бледный, растрепанный, представлял собою странное зрелище здесь, на пустом шоссе, в нескольких километрах от города, в столь ранний час. — Что с вами? — удивленно спросил водитель, рассмотрев Бориса Ивановича. И тут словно что-то оборвалось. Борис Иванович почувствовал, что может двигаться, говорить, что тело освобождается от оцепенения и страха. — Садитесь же, — повторил водитель. Борис Иванович с трудом сдвинулся с места, взялся за ручку дверцы. Страха больше не было, только невероятная усталость. 5:35 Водитель выжал сцепление. — Вам куда? Борис Иванович приходил в себя, как после тяжелого обморока. — К парому… Если можно… Очень прошу вас — быстрее. — Что там у вас случилось? — Очень прошу… быстрее. Водитель не стал больше задавать вопросы, почувствовав, что действительно что-то очень важное заставило этого человека бежать к переправе. 5:42 Паромная переправа. Длинная очередь автомашин. Справа в стороне небольшой навес под тополями. На берегу перевернутая старая лодка. Дно ее от росы блестит как зеркало. Как только самосвал затормозил в конце очереди, Борис Иванович выскочил из кабины и, не поблагодарив водителя, побежал вдоль ряда машин. Он сразу увидел, что успел. Автобус стоял первым на наклонном съезде причала. Паром был у другого берега. Борис Иванович подбежал к дверце водителя. Пусто. Метнулся к стеклам пассажирского салона. — Где водитель? Сонные дети с удивлением разглядывали его. — Где водитель?! — закричал он и тут же вспомнил, что водитель спустился к воде. Не отходя от автобуса, Борис Иванович закричал в сторону реки: — Водитель! Водитель наклонился и погрузил ведро в зеленоватую теплую воду. — Водитель!! 5:44 И в этот момент что-то произошло… После, конечно, разберутся, почему ослабли тормозные колодки и не сработал ручной тормоз… Автобус вздрогнул и начал тихонько ползти на Бориса Ивановича. — Водитель!!! Водитель выпрямился, посмотрел на берег, и ведро упало в воду… Автобус накатывался на полосатый шлагбаум, а впереди него, упираясь в обрешетку радиатора, пятился человек. Водитель закричал и стал карабкаться по скользкому от росы крутому берегу… — Помогите!!! — это Борис Иванович призывал уже всех, кто мог его услышать. От навеса отделились несколько человек и направились к причалу, чтобы посмотреть, что там произошло. Борис Иванович вовремя нагнул голову, и брус шлагбаума уперся в радиатор. Посыпались стекла фар. Брус стал прогибаться. Тогда-то и закричала сопровождающая. От навеса бежали люди. Что-нибудь подложить под колеса! Люди пробежали половину расстояния. Водитель выскочил на гребень дамбы. Что-нибудь подложить!! С треском переломился деревянный брус, но автобус остался стоять на месте… Никто не видел, как это произошло, и в первый момент подбежавшие люди ничего не заметили. И только когда кто-то стал подкладывать под колеса откуда-то взятую жердь, его увидели… Он так и не нашел, что подложить. Детей быстро выпроводили из автобуса, и сопровождающая отвела их под навес. Общими усилиями автобус подтолкнули наверх и вытащили человека из-под передних колес. Он был еще жив… Он был еще жив, когда его укладывали на заднее сиденье «Москвича», он был еще жив, когда везли его в город по той же дороге, по которой он бежал тридцать минут назад, он был еще жив два часа в больнице, где сделали все, чтобы его спасти. Он умер тихо, без агонии, будто уснул. Смерть — самое универсальное лекарство от всех болезней. Но, очевидно, есть в мире что-то сильнее всех недугов и страхов.
Роман Подольный ПОСЛЕДНИЙ РАССКАЗ О ТЕЛЕПАТИИ
— Обещаете ли вы не использовать мысли, ставшие вам известными, во зло отдельным людям и обществу в целом? — Да! В помещении душно. Пахнет свежей краской. Небритый усталый человек за столом произносит торжественные формулы — негромко, буднично, явно думая о чем-то другом. Сергей не хочет замечать всего этого. Сегодня он достигнет цели, сегодня он узнает! Сергей прошел все полагающиеся испытания, его желание признано правомерным, а то, как относятся к своим прикладным функциям работники лаборатории, Сергея не касается, до тех пор, пока они выполняют эти функции. — Обещаете ли вы никогда и ни при каких обстоятельствах не открывать фактов, ставших вам известными благодаря прибору? — Да! — Помните ли вы, что прибор работает в течение получаса с момента включения, почему необходим чрезвычайно точный выбор этого момента? — Да! — Мне остается выполнить последний пункт правил выдачи прибора во временное пользование. — Голос сотрудника лаборатории стал совсем скучным. — Я опробую его на вас. Пробное включение на три минуты предусмотрено. Сотрудник встал, снял с вешалки на стене коричневую кепочку, надел ее, сел, откинулся на спинку кресла. Запах краски стал еще гуще. Сергей чувствовал, как по всему телу жара выгоняет наружу капельки пота. Лицо человека по другую сторону стола стало еще более официальным и скучным, чем раньше, — если это возможно. И тут же он подмигнул Сергею. Снял кепку. Протянул. — Способ включения известен? Желаю удачи. И не забудьте: отчетик представьте. Что бы у вас ни получилось. Порядок есть порядок. …Ага! Она и сегодня ехала этим троллейбусом — девушка, на которую он глазел по крайней мере полгода — каждый будний день на протяжении одиннадцати общих троллейбусных остановок. А познакомиться не решался. Застенчивый был. И скромный. Себе он, пожалуй, даже нравился, но боялся, что девушка не разделяет его вкуса. А услышать от нее «отстаньте, нахал»? Нет, это было бы слишком. Но сейчас он прочтет ее мысли и узнает… Сергей пробрался к ней через весь троллейбус, благо народу в этот час было немного, стал в полушаге, поднял руку к кепке, в которую был вмонтирован телепатический аппарат системы Зубкова ТА-35 СТ, и повернул переключатель, которому был придан вид пуговицы на макушке. — Вот дурачок, — услышал он слегка приглушенный ласковый голос, знакомый ему до сих пор только по конкретному «передайте, пожалуйста, билет». — Вот дурачок! Опять он на меня глазеет. До чего у него лицо приятное! И почему такие славные парни обычно бывают увальнями и растяпами? Какой-нибудь Слава Глазычев давно бы… — Простите, пожалуйста, — услышал Сергей еще один голос и радостно понял, что это его собственный голос. — Простите, пожалуйста. Мы с вами полгода ездим в одном троллейбусе, и я подумал, что пора бы нам и познакомиться. — Полгода? В одном троллейбусе? Вот не замечала, — голос девушки был далеко не ласков. Но его приглушенный двойник звучал иначе и говорил другое: — Молодец! Решился! Вот хорошо! — Да, именно полгода. Можно ли считать этот срок достаточным? — Знаете, я как-то не привыкла знакомиться в троллейбусах. (А он настойчив. Умница.) — Но ведь это совсем особый случай. — Боюсь, что в вашей биографии совсем не такой уж особый. Вы, наверное, часто пристаете к девушкам? (Господи, какую чушь я говорю. Уж не ревную ли? Ну, не слушай меня, ты мне нравишься. Положи руку мне на плечо, скажи, что сегодня мы не можем сойти на разных остановках.) — Сегодня мы не можем сойти на разных остановках. — Вы, транспортный ловелас, сейчас же снимите руку с моего плеча, если не хотите дождаться пощечины. (Что он себе позволяет! Но его рука была так приятно тяжела и тепла. Себе-то зачем лгать?) — Неужели вам было противно мое прикосновение? — Конечно, нет, — сказал ласковый голос. Строгий ничего не сказал. Девушка решительно пробиралась вперед, к выходу и выскочила в как раз открывшуюся на очередной остановке дверь. (Ну вот, теперь он на меня обидится… Нет! Ура! Сошел за мной. Сейчас будет просить прощения. А зачем? Сказал бы просто: знаю, я вам нравлюсь…) — Девушка, я не буду просить прощения. Знаю, что и я вам нравлюсь. — Я позову милиционера. — Ласковый голос куда-то исчез. А этот был не просто строг. Он угрожал. А главное, девушка убегала. Сергей растерянно остановился. Она замедлила шаг, только отойдя метров на двадцать. И тогда снова зазвучал нежный голосок: — Дура я, дура. Зачем я с ним так? Воспитание, которое хорошим называется. Но, может быть, он меня еще догонит? Я была бы совсем другой… — Нет, — сказал Сергей, вытирая со лба пот и поворачивая пуговку на кепке. — Нет, не была бы! — Разочаровались? — теперь человек за столом был совсем не официален. Мы тоже когда-то разочаровались. Считалось, главное — то, что человек думает. Нет, молодой человек. То, что ом делает — куда важнее. Не расстраивайтесь. Лучше порадуйтесь, что мы не все делаем, что думаем. Вот сейчас, например, вы бы рады меня отколотить. Но ведь не сделаете этого, правда! И не ищите не мне прибора. Угадать, что человек думает, легко. Что он сделает — вот вопрос. — Вот вопрос! — повторил Сергей.Владимир Фирсов ПЕРВЫЙ ШАГ К БЕРЛИНУ
В 17.23 зарегистрирован разрыв силового поля на хронотрассе А-7. Примерные отрицательные координаты разрыва 502–510 годы Эры Коммунизма. Аварийная группа выслана в 17.48 по восьмому каналу.Запись в вахтенном журнале
В течение 23 ноября наши войска вели бои с противником на всех фронтах. Особенно ожесточенные бои проходили на Клинском, Волоколамском, Тульском и Ростовском участках фронта.Вечерняя сводка Совинформбюро от 23 ноября 1941 г.
1
Когда на пульте вспыхнул красный сигнал, Росин почти не встревожился. Разрывы силового поля иногда случались, но автоматика быстро подключала какой-нибудь из дублирующих каналов. Но на этот раз авария, очевидно, была серьезной — уже целых пять минут хронолет висел в зоне перехода, а аварийная лампочка продолжала гореть. Надо было садиться, чтобы не тратить зря энергию на бесполезное висение. Росин сказал «посадка» и сразу почувствовал, что сиденье ушло куда-то вниз. Владимир бросил взгляд на циферблат. Он знал, что при разрыве поля счетчик врет безбожно, но большой точности ему не требовалось. Знать бы, в каком веке случилась вынужденная посадка. На табло отрицательного времени ярко светилось число 506. «Середина двадцатого века», — подумал он с облегчением. Сделать посадку где-нибудь во временах Ивана Грозного было бы, пожалуй, хуже. Хронолет мягко проваливался в сумерки. Низкое закатное солнце обдало пламенем верхнюю кромку облаков и улетело вверх, скрываясь в белой вате. Под аппаратом лежал черный заснеженный лес. Владимир выбрал небольшую полянку, подвел к ней хронолет и посадил его на снег. Теперь оставалось ждать. Скоро дежурные восстановят или продублируют энергоканал. Самое позднее через час-другой можно будет взлететь в зону перехода. Поляна выглядела достаточно уединенной, и Росин решил, что может не опасаться любопытства местных жителей. Инструкция предписывала избегать всяческих контактов с обитателями прошлых веков, потому что, по мнению теоретиков, любой контакт был прямым вмешательством в прошлое, способным изменить дальнейший ход истории. Никто не знал, сколь далеко распространяются хроноклазмы, вызванные визитами путешественников во времени, поэтому принимались максимальные предосторожности. Росин не был максималистом. Он считал, что любой человек, любое общество постоянно вмешивается в свое будущее, изменяя его. «В будущее, а не в прошлое, — возражали максималисты. — Прошлое менять нельзя». — «Но мы не будем менять прошлое — в любом уже прошедшем времени наше вмешательство изменит будущее, предстоящее людям этого времени. Этого мира…» Однако окончательного ответа не знал никто. Поэтому все принимавшие участие в хронорейсах получали строгий приказ избегать любого вмешательства в дела предков. На этой глухой поляне непредусмотренный контакт как будто бы не предвиделся. Владимир еще не встречался с обитателями прошлых веков и плохо представлял возможную беседу с ними — даже если сейчас действительно середина XX века. Он оглядел кабину, себя и скептически усмехнулся. Хороший у нас получится разговор!.. Обзорный экран не показывал никакого движения. Владимир открыл люк и спрыгнул на снег. Лицо словно ошпарило — мороз был градусов двадцать. Он потянул воротник своего синего, в обтяжку терилаксового комбинезона — с легким хлопком капюшончик развернулся и удобно лег на голову, из него тотчас поползли струйки теплого воздуха, обволакивая лицо. Росин обошел вокруг аппарата, оглядел шасси, сложенные панели энергоприемника, антенну хронолокатора, радиатор кварк-реактора, потом решил размять ноги и начал бегать по твердому, как бетон, кругу, выдавленному среди пушистого снега силовым полем антигравитатора. — Раз-два-три-четыре, раз-два-три-четыре, — задал он привычный ритм. — Вдох-вдох-вдох — выдох, вдох-вдох-вдох — выдох… Как нехорошо получается с этими визитами в прошлое. Вмешиваться нельзя, помогать нельзя… Никто толком не знает, возникнут хроноклазмы или нет, как глубоко они распространятся, — и все равно страхуются. Вот и приходится бояться каждого встречного. Бедняги-разведчики учат древние языки, одеваются черт знает во что, аппараты прячут в глухих лесах, чтобы только никто не догадался о гостях из будущего. Вдох-вдох-вдох — выдох! А зачем прятаться? Почему не дать предкам вакцину от рака, синтезаторы пищи, чертежи кварк-реактора? Вдох-вдох-вдох — выдох… Тут он остановился, словно налетел на стену, потому что на пути у него стояли три человека. Было уже темно, и Росин в первый момент разглядел только, что загородившие ему дорогу люди были усталы, злы и небриты. Все они держали в руках какие-то приборы. «Вот тебе и контакт, — подумал Росин. — Теперь объясняйся в Хроносовете… Ох, будет мне нагоняй!» Стоявший в середине человек отрывисто произнес несколько слов — что именно, Владимир не понял, но решил, что поздороваться следует. — Здравствуйте, товарищи, — сказал он, протягивая руку. Тут средний что-то снова хрипло крикнул, и в следующий момент страшная боль заставила Росина согнуться пополам — это незнакомец что было силы ударил его в живот тяжелым сапогом. На плечи и голову ему обрушились новые удары, его сбили с ног, заломили за спину руки. Все это произошло в несколько секунд. Когда ошеломленный болью Владимир пришел в себя, он уже лежал связанный, а один из незнакомцев, поставив ногу на ступеньку, с опаской заглядывал в люк интрахронолета. Росин представил, как кованый сапог незнакомца крушит приборы, и похолодел. Надо все объяснить этим людям, выяснить недоразумение… — Стойте! Туда нельзя, товарищи! — закричал он, приподнимаясь. Новый удар в лицо опрокинул его на снег. Этот удар словно расставил все предметы и явления по своим местам, и картина происходящего сразу стала такой понятной, словно невидимая рука распахнула шторку перед глазами Владимира. Он понял, куда и в какое время попал, кто эти обросшие люди, одетые в одинаковую одежду, что означают их приборы-трубочки, висящие на ремнях через шею. Солдат на ступеньке уже поднимал ногу, собираясь шагнуть в люк. Росин представил, что случится с человеком, когда силовое защитное поле ударит его со скоростью света, закрыл глаза и шепотом приказал защите включиться. Размозженное тело солдата описало дугу над их головами и зарылось в сугроб. Два других мгновенно попадали в снег, выставив вперед автоматы. «Партизанен!» — кричали они, поводя стволами. Потом один из них подполз к убитому. Очевидно, увиденное настолько его потрясло, что он вскочил и с криком кинулся бежать. Второй чуть приподнялся и швырнул в люк гранату. Она мелькнула на фоне светлого овала люка, затем отлетела назад и разорвалась. Взметнулся снег, взвизгнули осколки. Солдат подскочил к Росину, рывком поднял его на ноги и погнал по поляне, тыча автоматом в спину.2
Брезентовый верх «хорха» спасал от ветра, но не от мороза, и сторожившие Владимира немцы чувствовали себя очень неуютно в своих шинелишках, не приспособленных к русским морозам. Руки у Росина на этот раз были развязаны, и едва грузовик тронулся, он стал прикидывать, удастся ему выброситься наружу или нет. В кузове сидело шестеро солдат, еще двое в кабине… Нет, сейчас ничего не выйдет. Вот через час-другой, когда солдаты как следует замерзнут. Но есть у него этот час? Росин понимал, что рапорт о нем уже дошел до высокого начальства — только этим можно объяснить, что допросы и бестолковое избиение прекратились. Росину вернули его комбинезон, накормили какой-то бурдой и даже смазали йодом ссадины и ушибы, а вскоре втолкнули в машину и куда-то повезли. «Ты есть флигер?» — вот что интересовало тощего обер-лейтенанта, проводившего допрос. «Ты летать из Москва? Кто есть твой командир? Какой название иметь твой аппарат? Как он летать? Как он стрелять? Он иметь бомбен? Что его охранять?» — эти вопросы он повторял десятки раз, перемежая их ударами. Росин догадывался, что немцы уже пытались проникнуть в интрахронолет. Они, очевидно, принимали его за новое секретное оружие русских, захват которого сулил награды и почести. За сохранность аппарата Росин не боялся — невидимое защитное поле превосходило по прочности стометровый слой бетона и могло с легкостью выдержать залп крепостных орудий. Но как отвечать на вопросы немца, Владимир не знал. Конечно, он мог сказать, что защита аппарата создается Ф-пространственной структурой гравиполя, стабилизированного квазисинхронным излучением кварк-реактора, не опасаясь, что в результате его ответов хронофизика возникнет на триста лет раньше, чем следовало. Но немец был враг, и бил он изо всех сил, хотя и не очень умело, поэтому Росин предпочел молчать. «Как уметь войти в твой аппарат? — продолжал вопить фашист, обрушивая на пленного новые удары. — Отвечать! Отвечать! Или я буду тебя повесить!» Допрос продолжался с перерывами уже вторые сутки, и Росин начал понимать, что силы его на исходе, но тут все прекратилось. Теперь его куда-то везут, и он мог только гадать, лучше это или хуже. К счастью для себя, он ничего не знал о специалистах по допросам, встреча с которыми ожидала его впереди, и о тех методах, с помощью которых они заставляют людей говорить. Росин был всего-навсего хронофизик, испытатель интрахронолетов, и хотя неплохо знал историю бурного и героического XX века, но имел очень смутное представление о таких организациях, как СС, гестапо, абвер и СД, их функциях и методах. Только в одном он был сейчас твердо уверен — что ничего хорошего для себя ждать ему не приходится. Промерзлый «хорх» подскакивал на рытвинах, солдаты, закутанные кто во что, мотались на холодных скамьях. Пар от их дыхания обмерзал на воротниках шинелей, на металлическом каркасе автомашины, на бабьих платках. Росин холода не чувствовал — его комбинезон работал исправно. Даже без подзарядки батарейки хватит на неделю, ну а днем солнце зарядит ее энергией. Но вот есть ли у него впереди неделя — этого Росин не знал. Ум его лихорадочно работал, обдумывая варианты побега. А что если он согласится снять защиту? Сами они этого сделать не смогут. Лишь три человека на планете, кроме Росина, могут приказывать автоматике его хронолета — но эти трое сейчас находятся за пятьсот лет отсюда… В том, что ни один ученый двадцатого века не сумеет разобраться в устройстве хронолета, Росин был твердо уверен. Немцы, конечно, пришлют лучших специалистов. Те повозятся, ничего не поймут и потребуют, чтобы Росин дал им пояснения. Владимир попытался представить, как все это произойдет. Он поднимается в аппарат, конечно, под охраной, может быть, даже связанный. В кабине поместится не больше четырех человек — скажем, двое ученых и два автоматчика из охраны. Они не знают, что такое техника XXV века, поэтому не опасаются беспомощного пленника. А он, оказавшись внутри, произносит только два слова: «защита» и «взлет», после чего аппарат оказывается в зоне перехода, на высоте 70 километров, не доступный никому и ничему… Что с ним сделают фашисты? Убить его они не посмеют, потому что тогда погибнут и сами. Он прикажет им сдаться, уведет аппарат подальше на восток, за линию фронта и там сядет… А если фашисты перехитрят его? Он снимет защиту, а внутрь его не пустят? Тогда… Тогда он все равно скажет эти два слова, и пускай его хоть убивают. Потом спасатели обнаружат в стратосфере хронолет, отбуксируют его в Институт времени и тогда узнают от немцев обо всем… Росину не суждено было довести до конца размышления о своем будущем. Где-то совсем рядом громко рвануло, машина дернулась, мотор взвыл и заглох. Все это произошло в секунду, и Владимир не успел ничего понять. Но автоматчиков сразу как ветром сдуло — они мгновенно попрыгали из кузова наружу, и только после этого истошный крик «Партизанен!» да грохот стрельбы объяснили ему, что случилось. Ошеломленный и сбитый с толку, он вдруг понял, что спасение возможно. Сквозь целлулоидное окошко он посмотрел вперед. «Хорх» стоял, съехав передними колесами в придорожную канаву, тело шофера свешивалось из открытой дверцы. Метрах в пятидесяти впереди горела легковая автомашина, около которой распластались на снегу две неподвижные фигуры в черных шинелях, а среди окружающих деревьев перебегали люди, стреляя по машинам. Снизу, из-под «хорха» трещали автоматные очереди. Несколько пуль, выпущенных нападавшими, пробили брезент, дробно хлестнули по металлу машины. Росин метнулся к заднему борту — три трупа в мышиных шинелях валялись неподалеку, а прямо под ним, лежа на снегу, строчил из автомата солдат. Другой немец стрелял из канавы, третьего Росин не видел, очевидно, тот спрятался под машиной. Не раздумывая, Владимир прыгнул ногами на спину солдату — тот дернулся, запрокидывая перекошенное от крика лицо, его автомат отлетел в сторону, выбитый ударом ноги, а по открывшейся шее Росин ударил ребром ладони. Разведчиков в прошлое готовили ко всяким неожиданностям, и готовили неплохо — сейчас Росин оценил это. Подхватив автомат, он выпустил очередь под машину и кинулся к тому немцу, что стрелял из канавы. Но немец уже не стрелял. Из-за деревьев бежали пестро одетые люди — в шинелях, телогрейках, пальто — с автоматами, винтовками и даже охотничьими ружьями. — Это ты — летчик? — спросил подбежавший мужчина, обросший густой бородой. — Цел? Идти можешь? Партизаны снимали с фашистов оружие, осматривали сумки убитых офицеров. — Часа четыре вас здесь караулим, — продолжал бородач, закидывая за спину ППД. — Думал, ноги отморожу. — Он потопал подшитыми валенками, потом посмотрел на тонкие ботинки Росина и забеспокоился: — А ты как, не замерз? — Я ничего, — улыбнулся Росин. После боя сердце у него еще громко стучало, а о таких пустяках, как мороз, он совершенно не думал и поэтому сказал машинально, что у него комбинезон с подогревом. Бородач с уважением покрутил головой. — Это последняя модель, да? У меня брат в полярной авиации, но про такой не рассказывал. Тебя как зовут-то? Росин назвался. — А я Дед, командир отряда. Ты тоже зови меня Дедом. А все из-за бороды. Дед — тридцать семь лет… Закуришь? — Он достал из кармана кисет с махоркой. — Я не курю. — Владимир все-таки решился и посмотрел командиру в глаза. — У меня к вам просьба. Скажите… Какой сейчас год? Бородач удивленно взглянул на Владимира. — Как это — какой год? — В его глазах что-то изменилось, словно смысл вопроса наконец-то дошел до него. Он растерянно оглянулся кругом и закричал кому-то: «Иван, давай сюда!», потом снова посмотрел на Росина. — Тебя там здорово били, я слышал, — сказал он. — Ну, гады фашистские, попадетесь вы мне в руки! Только теперь Росин понял, что его спасение не было случайным. Очевидно, разведка партизан сообщила, что фашисты захватили пилота опытной секретной машины, и партизаны решили его отбить. — Дед, звал? — спросил, подбегая, молодой парень с немецким автоматом на груди. — Кого ранило? — Вот, о летчике позаботься. — Командир кивнул на Владимира. — Осмотришь, перевяжешь… Водки дай ему. Худо человеку. — Нету водки, Дед. — Парень развел руками. — Всех фрицев обшарил. Нету… Отощали фрицы. Вот только у офицеров посмотрю, ладно? — И парень помчался к горящей машине. — И все-таки, какой сейчас год? — повторил вопрос Владимир. — Какой год? Да все тот же — тысяча девятьсот сорок первый… Дед не договорил фразу. За деревьями вдруг дружно ударили автоматы. Срубленные пулями ветки посыпались на головы людей. Из-за поворота дороги показалась цепь гитлеровцев, поливавшая лес огнем. Вслед за автоматчиками с лязгом выехал бронетранспортер, с которого гулко бил крупнокалиберный пулемет. Из глубины леса, где, видимо, были партизанские дозоры, тоже раздались выстрелы. — Всем отходить! — закричал командир. — Кравцов, Петелин — ко мне! Остальным отходить! Мы прикроем! Он выхватил у Росина автомат. — Уходи, летчик! Твое дело летать. А здесь — наша работа. Ну! Партизаны шли быстро, прислушиваясь к звукам боя за спиной. Немецкие автоматы строчили не переставая. Время от времени им отвечали короткие очереди ППД. Так продолжалось минут десять. Потом стрельба прекратилась.3
Деревушка Столбы, затерянная в подмосковных лесах, была не бог весть каким важным стратегическим пунктом, и в первый день наступления немцы проскочили ее с ходу, не задержавшись даже, чтобы выловить и расстрелять местных коммунистов. Всем этим они занялись позже. В деревне расположилась какая-то армейская часть со своим штабом и обозами. Немцы повесили для острастки трех колхозников, постреляли всех собак, перерезали кур. Потом началась жизнь под немцем. Была она не очень тихой и спокойной для оккупантов. Однажды не вернулись связисты, вышедшие ликвидировать обрыв телефонного провода, а с ними исчезло полкилометра провода. Потом сгорел склад фуража — часовой оказался заколотым, а его автомат исчез. Затем среди бела дня обстреляли штабную машину — двое офицеров остались на месте, троим удалось уйти. Рассвирепевшие немцы сунулись было в глушь леса, где, по их предположениям, скрывались партизаны, потеряли десять солдат и больше там не появлялись. Зима установилась окончательно, со снегом и морозами, хотя и не очень большими — так, градусов десять — пятнадцать, редко двадцать. Природа словно берегла главный удар до того момента, когда охваченные смертельным ужасом гитлеровцы побегут прочь от столицы — вот тогда она обрушит на них страшный сорокаградусный мороз. Но и при пятнадцати градусах кадровые солдаты вермахта выглядели жалко — наматывали на себя бабьи платки, плели из соломы огромные эрзацваленки. Всю мало-мальски пригодную теплую одежду они у жителей реквизировали, но набралось ее очень мало, потому что были в деревне только бабы с детишками да дряхлые старики. Из молодых мужчин остался под немцем лишь бывший осужденный Пашка Артемьев — здоровенный бугай, поперек себя шире, который сразу же подался в полицаи. Партизаны заочно приговорили его к смерти, о чем вывесили рукописную листовку, но прикончить не прикончили — раза два стреляли, но так, чтобы в него не попасть. Пашка был началом тайной цепочки, по которой нужные партизанам сведения переправлялись в лес. От него-то и узнали в отряде, что раненый Дед захвачен немцами, не сказал на допросе ни слова, выдержав все пытки, и завтра в полдень будет повешен на глазах у всей деревни. Вооружение у партизан было не ахти какое: восемь автоматов, дюжина винтовок, три пистолета и несколько ручных гранат. На тридцать человек его явно не хватало, и атаковать с подобными силами гарнизон в двести человек, имеющий к тому же пулеметы, было предприятием безнадежным. Это понимали все и Росин тоже. Впервые он пожалел, что хронолетчики не берут с собой оружия. У него мелькнула было сумасшедшая мысль — перелететь на хронолете линию фронта, чтобы вызвать помощь. Временной переход совершался всегда на большой высоте, где аппарату не угрожала встреча с каким-нибудь материальным телом. Но по прибытии в другое время хронолет до выбранного места посадки летел самостоятельно, и радиус его действия был почти неограниченным — кварк-реакторы снабжали хронолет достаточным количеством энергии. Однако мысль о перелете через фронт пришлось тут же отбросить — Росин понимал, что появление неизвестного летательного аппарата поставит перед командованием Красной Армии множество неразрешимых проблем и что оружием его никто не снабдит. Росин был уверен, что разрыв хронотрассы уже ликвидирован и дорога домой открыта. Еще он знал, что аварийная группа прочесывает сейчас весь XX век в районе аварии, отыскивая локатором сигналы хронолета. Неопределенность разрыва достигает нескольких лет в самом лучшем случае, а бывало, что аппарат вываливался по разрыву хронополя лет на сто в прошлое или будущее, так что обнаружат его не очень скоро, может быть, только через неделю. Но появись спасатели даже сейчас — что они смогут? Прошлое менять нельзя — это аксиома, которую должен усвоить каждый хронолетчик. В XX веке Росин оказался случайно, и инструкция предписывала ему при первой возможности возвратиться в свое время. Но столбовские старики под присмотром полицая Пашки уже сколачивали виселицу напротив правления колхоза, и поэтому Росин знал, что никуда не улетит, невзирая на инструкцию. Над судьбой Деда думали все, но придумать ничего не могли. Комиссар отвергал все предложения как абсолютно безнадежные. — Закури, летчик, — в который раз предлагал он Владимиру свой кисет. — Может, легче станет. Он долго стучал огнивом по кремню, раздувал трут, прикуривал, обдавая Владимира едким дымом. — Как бы нам тебя в Москву переправить? — спрашивал комиссар сам себя. — Эх, связи у нас нет! Рацию бы сюда или хотя приемничек какой. А то даже не знаем, где сейчас война идет. Может, немец уже Москву взял… — Не взял, — ответил Росин машинально. — А немцы брешут, что давно Москва взята. Ты-то сам откуда прилетел, из столицы? Росин кивнул. Действительно, через четыреста лет в пригородном лесу за Сокольниками будет построено здание Института времени — восемьдесят этажей, дископорт на крыше, энергетический канал на Меркурий через собственный спутник… — Ходил я смотреть на твой самолет. Близко не удалось подобраться — очень сторожат его немцы, но вбинокль посмотрел. Какой-то чудной он — ни крыльев, ни мотора… Неужели ракета какая? Как у Циолковского — читал я однажды в книжке… — Нет, это не ракета, — машинально ответил Росин, думая о своем, — он вдруг понял, что нашел наконец выход. — Слушай, а какое сегодня число? — Ты чего вскочил? Вот скажи лучше, не боишься ты, что твой самолет фрицы увезут? — Не увезут! — закричал Росин. — Не по зубам им мой самолет! То, что он решил сделать, категорически запрещалось инструкциями для путешественников во времени, Росин понимал, что, если ему повезет и он сумеет вернуться домой, его, скорее всего, навсегда отстранят от полетов, но какое это имело значение! С ослепительной отчетливостью Владимир понял, какое могучее оружие находится в его руках — ведь сегодня он единственный человек на планете, который знает исход кровавой битвы, гремевшей в подмосковных лесах. Он схватил комиссара за плечи и затряс. — Слушай, мне надо туда, в мой аппарат! Немедленно!4
Деревня, как всегда, проснулась рано. Это было невеселое пробуждение — без крика петухов, без тявканья собак, без мычания скотины. В неподвижном морозном воздухе кое-где поднялись над трубами жидкие дымки — даже с топливом было худо в деревне под немцем. Лишь там, где стояли оккупанты, дымы были такими, какими им положено быть в зимний морозный день. Вскоре после одиннадцати по избам пошли солдаты — выгонять народ к месту казни. Люди, подталкиваемые прикладами, медленно тянулись к правлению, перед которым в оцеплении автоматчиков белела новенькая виселица. Хмурое небо, затянутое облаками, казалось, давило сверху — на крыши, на лес, на угрюмых людей. Снова начал падать снег, приглушая звуки, засыпая следы. Черная ворона сорвалась с ветки и спланировала на чью-то трубу — поближе к теплу. Росин сидел под самой крышей пустой, разграбленной избы и рассматривал в бинокль зловещее каре перед правлением. За прошедшую ночь он не спал ни минуты — днем был скоротечный бой с охраной хронолета, потом он несколько часов лихорадочно работал в кабине, а среди ночи вместе с двенадцатилетним Юркой пробрался в деревню мимо часового, которого заколол подошедший закурить полицай Пашка Артемьев. В полной темноте Юрка лазил по крышам и деревьям, которые указал ему Владимир, потом исчез, а Росин забрался в пустую избу. Хозяина немцы убили две недели назад, найдя у него красноармейскую фуражку. Они выбили двери и окна, а в печь швырнули ручную гранату. Сейчас изба служила Росину наблюдательным пунктом. Две таблетки антенна из аптечки хронолета вернули ему бодрость и силу, и сейчас он внимательно наблюдал за событиями. До правления отсюда было метров триста, но бинокль позволял рассмотреть все: заросшие лица солдат, угрюмые глаза женщин, их стиснутые руки… Все происходило в молчании. Лишь изредка доносились гортанные командные возгласы. Снег все сыпал и сыпал, и казалось, в мире осталось только две краски — черная и белая. То и дело Росин смотрел на часы. Его браслет немцы не вернули, но в бортовом комплекте интрахронолета имелись три скафандра — с часами, рациями, аккумуляторами. Сейчас все это очень пригодилось. Почему-то Владимиру казалось, что стрелки совсем остановились, и он удивился этому — раньше он думал, что в подобной ситуации время должно мчаться с огромной скоростью, а оно еле тянулось… Росин не знал, сумеет ли выполнить свое обещание тот неизвестный ему человек, с которым он разговаривал по радио ночью, и все время прислушивался. Однажды ему показалось, что он слышит вдалеке грохот взрывов, но, съеденные расстоянием, звуки быстро растаяли. Он еще раз глянул вперед, и сердце у него забухало — он увидел, что немцы ведут Деда в кольце автоматчиков. Как хорошо, что сегодня снегопад, подумал Росин. Немцы, обнаружив убитого часового, долго метались по деревне, но никого не нашли. Снег все надежно укрыл. Сколько сейчас градусов? Наверно, не меньше двадцати. А Дед — босиком, в нижней рубашке… Как же это возможно? Да что они — не люди? Стоп, сказал себе Владимир. Сейчас эмоции — роскошь. Если дать им волю, то не выдержишь, схватишь автомат — вот он, лежит рядышком, поставленный на стрельбу очередями, — и кинешься наружу, чтобы стрелять, стрелять в этих нелюдей… И упадешь, пробитый пулями, так ничего и не сделав. Да, фашисты не люди. Это даже не звери. Это гораздо хуже. И если ты понял это, то стисни сердце в кулак и жди. Думай о чем-нибудь другом, только не о босых ногах идущего по снегу человека. Ну, например, о том, что дома сейчас весна, а через неделю у тебя доклад на Марсе — там интересуются технологией полетов в прошлое, чтобы попытаться отыскать вымерших жителей этой планеты. Стрелка секундомера шла тугими толчками, словно повинуясь ударам сердца. Удар — шаг. Удар — шаг. Все меньше шагов остается сделать. Неужели эти шаги последние? Вот Деда поставили на ящик. Что-то читает по бумажке офицер. Черный квадрат солдат. Черная толпа на белом снегу. Белая рубаха в темных пятнах крови. Как медленно бьется сердце! Еще десять ударов! Еще пять! Еще один! Владимир повернул тумблер передатчика. И тогда над придавленной страхом деревней, над черным каре палачей, над заснеженным лесом, над бескрайними полями, над окоченевшими реками и озерами возник торжествующий, звенящий от восторга голос: — ВНИМАНИЕ! ГОВОРИТ МОСКВА! Голос звучал сразу со всех сторон, он заполнил собой деревню, и лес, и небо, он ворвался в человеческие сердца, вселяя в них надежду и радость. Голос звенел, стряхивая снег с придавленных ветвей, и они распрямлялись, и вместе с ними распрямлялись спины согнанных сюда людей. — В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС. ПРОВАЛ НЕМЕЦКОГО ПЛАНА ОКРУЖЕНИЯ И ВЗЯТИЯ МОСКВЫ. ПОРАЖЕНИЕ НЕМЕЦКИХ ВОЙСК НА ПОДСТУПАХ МОСКВЫ! Ликующий вздох пронесся над толпой. Люди кричали, плакали, падали на колени. — 6 ДЕКАБРЯ 1941 ГОДА ВОЙСКА НАШЕГО ЗАПАДНОГО ФРОНТА, ИЗМОТАВ ПРОТИВНИКА В ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ БОЯХ, ПЕРЕШЛИ В КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВ ЕГО УДАРНЫХ ФЛАНГОВЫХ ГРУППИРОВОК. В РЕЗУЛЬТАТЕ НАЧАТОГО НАСТУПЛЕНИЯ ОБЕ ЭТИ ГРУППИРОВКИ РАЗБИТЫ. Черный строй каре сломался. Росин видел в бинокль, как мечутся офицеры, выкрикивая команды, которых никто не слышит, как побежали куда-то солдаты, строча из автоматов по крышам и деревьям, откуда говорили невидимые динамики. — … И ПОСПЕШНО ОТХОДЯТ, БРОСАЯ ТЕХНИКУ, ВООРУЖЕНИЕ И НЕСЯ ОГРОМНЫЕ ПОТЕРИ. Летели вниз срубленные очередями ветки, метались испуганные вороны, метались солдаты, охваченные ужасом перед настигшим их возмездием. — ВОЙСКА ГЕНЕРАЛА ЛЕЛЮШЕНКО, СБИВАЯ 1-Ю ТАНКОВУЮ, 14-Ю И 36-Ю МОТОПЕХОТНЫЕ ДИВИЗИИ ПРОТИВНИКА И ЗАНЯВ РОГАЧЕВ, ОКРУЖИЛИ ГОРОД КЛИН! Стоявший в стороне бронетранспортер подбросило взрывом. Следующий взрыв разметал толпу солдат, еще остававшихся на месте. Из-за крайней избы, поднимая гусеницами фонтаны снега, вывернулась закрашенная белой краской «тридцатьчетверка». — ВОЙСКА ГЕНЕРАЛА КУЗНЕЦОВА, ЗАХВАТИВ ГОРОД ЯХРОМУ, ПРЕСЛЕДУЮТ ОТХОДЯЩИЕ 6-Ю, 7-Ю ТАНКОВЫЕ И 23-Ю ПЕХОТНУЮ ДИВИЗИИ ПРОТИВНИКА… Росин схватил автомат и помчался вниз. Все-таки тот командир, откликнувшийся на призыв о помощи, посланный Росиным, исполнил свое обещание! — … ВОЙСКА ГЕНЕРАЛА РОКОССОВСКОГО, ПРЕСЛЕДУЯ 5-Ю, 10-Ю И 11-Ю ТАНКОВЫЕ ДИВИЗИИ, ДИВИЗИЮ СС И 35-Ю ПЕХОТНУЮ ДИВИЗИЮ ПРОТИВНИКА, ЗАНЯЛИ ГОРОД ИСТРУ! Танки уже развертывались по деревне, настигая бегущих гитлеровцев, стегая по ним пулеметными очередями, давя гусеницами. Охваченные ужасом, немцы бросились к лесу, но оттуда шла партизанская цепь, встречая врага скупым, точным огнем. — … ВОЙСКА ГЕНЕРАЛА ГОВОРОВА ПРОРВАЛИ ОБОРОНУ… Немцы кидали в снег автоматы, поднимали руки. Возле правления толпа женщин волокла к виселице обер-лейтенанта, руководившего казнями и пытками. — ВОЙСКА ГЕНЕРАЛА БОЛДИНА, РАЗБИВ СЕВЕРО-ВОСТОЧНЕЕ ТУЛЫ 3-Ю И 4-Ю ТАНКОВЫЕ ДИВИЗИИ И ПОЛК СС «ВЕЛИКАЯ ГЕРМАНИЯ», РАЗВИВАЮТ НАСТУПЛЕНИЕ… Росин бежал мимо перепуганных пленных, мимо пахнущих пороховой гарью танков. Техника XXV века сработала безупречно — записанное им вчера сообщение Совинформбюро транслировалось теперь через приемники, вынутые из скафандров бортового комплекта. Но его интересовало только одно — где Дед? — С 6 ПО 10 ДЕКАБРЯ ЧАСТЯМИ НАШИХ ВОЙСК ОСВОБОЖДЕНО ОТ НЕМЦЕВ СВЫШЕ 400 НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ… Танк с красной звездой на башне наехал на виселицу, сломал ее как спичку. Закопченный, чумазый танкист, высунувшись из башни, весело махал шлемом. — ЗАХВАЧЕНО И УНИЧТОЖЕНО ТАНКОВ — 1434… Дед лежал на снегу лицом вверх, и рубашка на его груди была прошита строчкой автоматной очереди. — … АВТОМАШИН — 5416, ОРУДИЙ — 575… Подбежавшие партизаны окружили своего командира. Было ясно, что он уже не жилец на этом свете. — Эх, не успели! — горестно сказал кто-то, снимая шапку. — ПЛАН ОКРУЖЕНИЯ И ВЗЯТИЯ МОСКВЫ ПРОВАЛИЛСЯ! Голос диктора умолк. Это в хронолете сработала автоматика, выключая трансляцию. И тогда Росин вспомнил то, о чем не позволял себе думать этой ночью, — что авария на хронотрассе уже ликвидирована. Вздымая фонтаны снега, танк подлетел к хронолету и встал. Деда с рук на руки передали в кабину. На его губах пузырилась розовая пена. — Не уходите! Ждите здесь! Я сейчас вернусь! — крикнул Росин и захлопнул люк. Он не знал, разрешат ли ему снова вернуться сюда, но это было неважно. Главное было то, что Дед еще жив и, следовательно, будет жить, и спустя неделю или месяц интрахронолет, совершив петлю во времени, вернется в этот снежный декабрьский полдень, и Дед выпрыгнет на снег в объятия своих партизан, и они наконец сделают свой первый шаг на запад, к Берлину.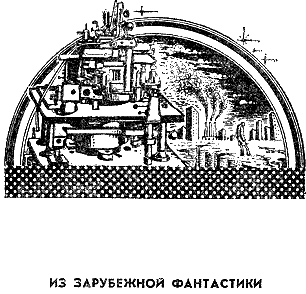
Роберт Абернети ЧЕЛОВЕК ПРОТИВ ГОРОДА
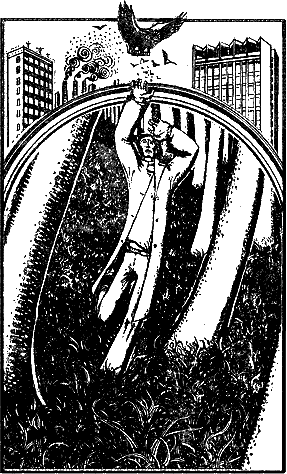
Человек с величайшими предосторожностями вышел из своей полуподвальной комнаты и тщательно запер за собой дверь. Но тут его напряженные нервы не выдержали, он бросился вверх по лестнице, споткнулся о выщербленную ступеньку и замер, с трудом держась на вдруг ослабевших ногах. Он шумно дышал, пытаясь справиться с охватившей его паникой. Спокойно! Спешить некуда. Справившись с волнением, он вернулся к запертой двери и проверил, сработал ли мощный запор. Он было сунул ключ в карман, но тут же, недобро усмехнувшись, вынул его и бросил в водосток. Ключ ударился о решетку, отскочил и, поблескивая, остался лежать на бетоне. Лихорадочно, словно отпихивая скорпиона, человек ногой подтолкнул ключ к решетке. Ключ зацепился, качнулся и, тихо звякнув, провалился вниз. Человек, наконец, полностью совладал с нервами. Он, не оборачиваясь назад, поднялся по лестнице и остановился в пустынном переулке. Вокруг никого не было: он окинул взглядом знакомый, вечно грязный и узкий переулок; дома с окнами-бельмами, замазанными белой краской, опрокинутый мусорный ящик, нависший над грудами засаленной бумаги. На противоположном тротуаре, около кирпичной стены, стояла пустая бутылка из-под виски кто-то вылил ее и заботливо поставил у стены, хотя она уже никому не была нужна. Он смотрел на эти символы уродства, которые исподволь опустошили ему душу, чуть не приведя к сумасшествию, как-то по-новому, с иронией, зная, что все в мире бессмысленно и временно. Чистое послеполуденное небо шатром раскинулось над городом. Позади приземистых задымленных бараков торчали громадные здания, сверкая всеми своими стеклами. В стоящем жарком воздухе лениво плавали частички сажи. По улицам с грохотом неслись автомобили, оставляя за собой бензиновую вонь, к которой примешивался запах раскаленного асфальта. Воняло все — переулок, город и даже быстрая река. Он откинул голову назад, зажмурился от нестерпимого блеска и втянул в себя этот воздух, и горькие воспоминания нахлынули на него, словно воздух был пропитан ими. Зловоние бесконечных летних месяцев… Встань, пахнет газом. Да нет же, это дует с того берега ветер. Малышу трудно дышать. Сделай хоть что-нибудь! Вечный сиплый вой — глас большого города… О боже, проклятые грузовики! Они ревут и по ночам. Я не могу заснуть. Отоспаться. Хотя бы неделю… Хриплые голоса, вопли, удары, жестокая жизнь для людей, попавших в плен к этим бетонно-стальным джунглям… Врежь ему! Чтоб ноги его больше не было в нашем квартале! Бей его! Грязный ниггер, поганый итальяшка, вонючий еврей… Тротуар жжет ноги даже сквозь подошвы ботинок, истрепавшихся от бесконечной ходьбы… Вы пришли слишком поздно, мы больше не берем. Убирайтесь отсюда. Нет, вам говорят — нет, нет и нет. Так потихоньку разрастается ненависть… Он плюнул на кирпичную стену и вполголоса сказал: — Ты хотел этого. А когда это случится, ты, может быть, и поймешь, что это сделал я. Да, я! И ему почудилось, что город услышал его и сжался от страха. Судорога сотрясла весь город, напряглись его медные и стальные нервы, пронизывающие город от вершин затерявшихся в небе громад до чрева, запрятанного а глубинах земли, от вилл богачей, выстроенных не холмах, до отвратительных лачуг и замызганных набережных. Спешить некуда. Еще целых три часа. Он уйдет далеко и, когда это случится, будет наблюдать за агонией города. Кажется, так сказано в Библии: «Они будут издали созерцать дым его пожарищ, и дым этих пожарищ будет вечно подыматься к небесам». Он почти на ощупь выбрался из переулка и стал протискиваться сквозь толпу пешеходов, запрудивших тротуар. Шаг, еще один… И каждый шаг уводил его от полуподвальной комнаты с надежно запертой дверью. Шаг вперед… сколько раз он, отчаявшийся и ненавидящий всех и вся человек, устало тащился по этим улицам. Но сегодня ему казалось, что город дрожит под его каблуками, что шатаются высоченные небоскребы, предчувствуя свою гибель, — весь город трепетал от страха. Прохожие, словно ожившие мертвецы, шли, ничего не замечая вокруг. Они смотрели на него, но не видели, что он — хлипкий и отверженный человек вырос выше небоскребов, превратившись в богатыря-мстителя… Завизжали тормоза. Он растерянно отскочил назад. Секундой раньше, в тот момент, когда он вступил на проезжую часть, свет был зеленым — он мог поклясться в этом. Злобно ревели моторы, громадные колеса терзали разъезженную мостовую. Улица вдруг стала громадной и наполнилась опасностями. Он вернулся на тротуар, прислонился к угловой витрине магазина, уставился на багровое око светофора и, борясь с дрожью в пальцах, стал рыскать по карманам в поисках сигарет. Его могли задавить. «Только не теперь, — подумал он, — несчастный случай, это было бы глупо». А могло произойти и худшее. Его сердце сжалось, когда он представил, как его раненого, но в полном сознании везут в больницу; и он знает, что далеко-далеко, за запертой дверью, один элемент с неизменной скоростью обращается в другой и что близок час расплаты. Он нервно щелкнул зажигалкой, но пламя не вспыхнуло. Он выругался и весь покрылся холодным потом. И тут же услышал пронзительный звук, словно лопнула туго натянутая веревка. Непонятно откуда долетевший шум ударил по его напряженным нервам. Он с тревогой глянул направо, налево… И сейчас же, на миг перекрыв шум затихшей улицы, сверху донесся отчетливый треск рвущегося и ломающегося металла. Он поднял глаза, выронил зажигалку, незажженную сигарету и отпрыгнул в сторону. Его сердце болезненно колотилось в груди. Прямо над тем местом, где он только что стоял, сломалась опора громадной рекламы, которую поддерживал теперь лишь один кронштейн из уголковой стали. Рекламный щит навис над тротуаром; перекрученная сталь должна была вот-вот лопнуть. Он завороженно смотрел вверх, не ощущая, что по его лицу струится пот. Реклама качнулась, но не рухнула. И у него появилась абсурдная уверенность в том, что стоит ему вернуться на то место, где он только что стоял, как она тут же рухнет. Мысль была нелепой. Он хотел было засмеяться, но смех застрял в горле. Он осторожно отступил на шаг, повернулся и быстро пошел прочь от опасного перекрестка. Он шел по самой кромке тротуара и часто поглядывал вверх. Пройдя половину квартала, он с ужасом заметил, что возвращается к дому с запертой на ключ дверью. Он замер на месте, как вкопанный. Он знал, что не может вернуться к тому перекрестку, где пытался перейти улицу. Он стоял на месте, колеблясь и пытаясь справиться с охватившей его паникой. На другой стороне улицы, прямо против него, зиял вход в метро. Не будь он так взволнован, он заметил бы его раньше. Конечно же… метро; всего четверть часа езды и он в безопасности. Он посмотрел направо и налево, потом вверх — подозрительность уже почти вошла в привычку — и бросился через улицу. На полпути он остановился так резко, что чуть не упал. Весь дрожа, он отвернулся — ноги принесли его на край канализационного колодца, крышки на месте не было, а ограждение отсутствовало. Его всего била нервная дрожь, но он дотащился до входа в метро. И вдруг ему показалось, что вход перестал быть привычным — он стал бетонной бездной, ведущей прямо в преисподнюю. Снизу, откуда-то из-под слабо освещенной лестницы, из мрака, в который не проникал взгляд, доносилось громыхание и вырывался гнилой, насыщенный горячей влагой воздух. Опасность подстерегала повсюду — и в воздухе, и под землей. Донесшийся снизу рев поезда был торжествующим гласом ада, в который вплеталась какофония резких звуков — крики и вопли жертв, раздавленных в мрачных подземельях. Ни за какие блага в мире он бы не решился даже ступить на эту лестницу. Он отошел от края бездны и остановился, собираясь с мыслями. Были и другие средства транспорта. Автобусы, такси… Но он не шелохнулся. В эти предвечерние часы по улице струился, рыча и задыхаясь, густой автомобильный поток. Скрипели тормоза, визжали шины, злобно рявкали автомобильные гудки, звенел металл. Где-то на соседней улице, всхлипывая, завыла сирена — вестник несчастья. Он подумал о несчастных случаях, столкновениях и тысячах других опасностей. Разве мог он отказаться от единственной твердой опоры для ног — мостовой? Спешить некуда. Он хорошо это знал — он сам выверил механизмы и установил контакт. Будь хладнокровней, ты успеешь уйти далеко и пешком. У него мелькнула смутная мысль… Они могли предоставить ему какой-нибудь быстрый транспорт для бегства, как это, неверное, сделано для тех, кто уже выполнил задание и покинул город. Но он почти никогда не задумывался над их действиями. Он выполнил их приказы, послушно заучил их лозунги, звучные и бессмысленные, как детские считалочки, зная, что эти люди существовали ради одного — назначить его палачом, исполняющим смертный приговор городу. Его мало трогало, что они действовали именно так — он руководствовался собственными мотивами. Не нервничай, спокойно уходи отсюда. Несчастные случаи. В таком городе они происходят постоянно. Нужно избежать их и не терять контроля над собой из-за подобных пустяков. Он не должен привлекать к себе внимания — иначе его арестуют и бросят в тюрьму, в запасе еще много времени, только не надо впадать в панику. Тьма потихоньку окутывала улицу и, словно предвещая близкие сумерки, разноцветными огнями засверкала громадная реклама, установленная на доме напротив. Он снова пустился в путь. Он смотрел, куда ставит ноги, и наблюдал за темнеющим небом. Если его бдительность не ослабеет, то с ним ничего не случится. Каждая пересеченная улица была победой, вернее, шагом, приближавшим его к победе. Зажглись и развеяли тьму первые фонари; вокруг заиграли и засияли разноцветные вывески, соблазняя и завлекая толпу, густевшую с каждом минутой. Огни кричали: «Здесь можно поесть и выпить. Здесь вы услышите музыку и мгновенно забудете обо всем!» Люди, словно мотыльки, кружились вокруг огней, слепо веря всем посулам. Люди устали, и им хотелось верить. День был тяжелым, и они знали, что завтрашний день будет точной копией сегодняшнего, что так было и так будет. И только он, с трудом пробивающийся сквозь толпу, знал, что произойдет. Для многих из этих людей завтрашний день не наступит никогда. Для многих… Он уже был в трех километрах от исходной точки — запертой комнаты в центре города… Когда это случится, многие даже не поймут, что же собственно произошло. У него не было ненависти к ним; он даже их чуточку жалел. Все они попели в западню, как это случилось с ним. Он ненавидел западню, этот город, всей своей душой, отравленной горечью долгих мучительных лет… Он на мгновение остановился на углу улицы. И чуть не погиб. В этом месте, вдали от центра, трамваи развивали огромную скорость — и как раз в эту минуту один из мастодонтов несся мимо, громыхая по стальным рельсам. Когда его дуга оказалась на пересечении проводов на перекрестке, она за что-то зацепилась, провод натянулся и лопнул, вспыхнув словно молния. Оборванный конец, изрыгая голубое пламя и злобно свистя, змеей метнулся в его направлении. Его спас инстинкт — прыжок, на который он, казалось, не был способен. Он растянулся на мостовой, ободрав ладони и колени, и тут же, вскочив на ноги, во весь дух помчался прочь, от ужаса позабыв обо всем. И только собрав всю свою волю в кулак, он перешел на шаг и оглянулся. На расстоянии квартала уже начала скапливаться толпа, окружая потерпевший аварию трамвай — среди них, может, были и те, кто искал именно его. Раздался полицейский свисток. Этот свисток тревогой отозвался в каждой клеточке тела, и паника вновь охватила его. Он бегом, как сумасшедший, пересек, к счастью, пустынную улицу и, не сбившись с нужного направления, углубился в темную улочку, сжатую мрачными домами. Он бежал по этой улочке и вдруг каким-то шестым чувством уловил опасность. Он бросился в сторону, как регбист, ускользающий от защитника. Кусок карниза, бесшумно упавший вниз, разлетелся на куски в каком-нибудь метре от него. А наверху мягко хлопали крыльями потревоженные голуби. Он вышел на хорошо освещенную и довольно широкую улицу. Улица казалась безлюдной. Он на мгновение замер — у него складывалось ощущение, что более долгие колебания окажутся роковыми, — сообразил, где он находился, быстро свернул налево и снова побежал. Тротуар был очень старым — выложен кирпичом. И вдруг ему показалось, что он вздымается у него под ногами, что выгибается сама земля, пытаясь дать ему подножку, но он прыжком пересек опасный участок и тяжело побежал дальше. Он поднялся на взгорок и бросился вниз по склону. Внизу улица пересекалась с другой; дальше огней не было, и где-то во тьме, за пустырем, он уже различал отблеск воды. Он почти добрался до нее, еще несколько шагов… …Из-за угла, с улицы, усаженной деревьями, вылетела громадная цистерна. На повороте ее занесло и подбросило; сцепление не выдержало, тягач выскочил на тротуар и, уткнувшись в фонарь, застыл, а цистерна перевернулась и перекрыла улицу — тишину разорвал оглушительный шум исковерканного железа. Все огни разом погасли, но уже через секунду улицу осветило пламя. Гигантский костер, увенчанный черным дымом, стеной встал перед ним. Человек схватился за кирпичную стену, чтобы не упасть, резко повернулся, едва не вывихнув запястье, и бросился бежать обратно. Теперь у него не было ни малейшего сомнения, что его преследуют, но преследовали его не люди, а нечто более могущественное, чем любая армия людей. Он убегал, как затравленный зверь, бросаясь из стороны в сторону и пытаясь сбить со следа неумолимого врага. Город расставлял ловушки на его пути, но их число не могло быть бесконечным… Он опять свернул на улицу, ведущую к реке, и во весь дух припустил по ней, жадно глотая воздух. Все дальше и дальше… Вдоль газончика по краю дороги торчали чадящие фонари; перед ним возник деревянный барьерчик, а позади барьерчика чернел провал. Остановиться он уже не мог. В свой отчаянный прыжок он вложил последние силы и рухнул на землю, которая предательски поползла под ним… Но это была земля! Он поднялся и, ничего не соображая, прошел вперед еще несколько метров. Наконец-то он ощущал под ногами землю и траву, а не цемент и асфальт; над его головой чернели ветви деревьев. Он упал, потеряв силы; его рука, ища опоры, наткнулась на шершавую кору дерева. Он благодарно приник к твердому стволу и любовно обнял его. Под ним была трава, листья, перегной и где-то рядом жалобно стрекотали насекомые. На некотором удалении, позади рва, через который он перескочил, стеной стояли фасады домов; тускло светились окна, похожие на чьи-то раскосые глаза; ровно горели фонари; по другому берегу проносились огни автомобилей; помигивали окна небоскребов, словно созвездия, отражающиеся в бегущей воде. В воздухе между небом и землей висела красная мигалка. Сигнал опасности для самолетов. Предупреждение… Но здесь он был в безопасности… Эта поросшая травой полоска земли вдоль реки была островком; она находилась в городе, но не являлась его частью, как и река, воды которой серебрились метрах в двадцати, с плеском набегая на камни. Здесь он мог несколько минут отдохнуть, подумать, как скрыться. Хотя у него не было часов, он знал, что время было позднее. Но еще не поздно было убежать. Время еще оставалось… Время, чтобы добраться до удаленного убежища, если только с ним не произойдет несчастного случая. Но он больше не верил в несчастные случаи. У него была твердая уверенность в том, что за ним охотятся. Его инстинктивный страх отражал действительность. Он прижался к дереву, глядя на раскинувшийся город — громадный живой Левиафан. Три века город беспрерывно рос. Рост — основной закон жизни. Словно раковая опухоль, развивающаяся из нескольких больных клеток, город, заложенный в устье реки, начал расти — он протянул свои щупальца вверх по долине на несколько километров, просочился в каждую впадину холмов, все глубже и глубже вгрызаясь в землю, на которой он стоял. По мере того как он рос, он тянул соки с сотен, с тысяч квадратных километров страны; деревня отдавала ему свои богатства, леса были скошены, как пшеничные поля, люди и животные рождались и множились лишь ради того, чтобы утолить его беспрерывно растущий голод. Его пирсы, словно цепкие пальцы, протянулись в океан, ловя идущие со всех континентов корабли. Город насыщался, сбрасывая отходы в море, выдыхал отраву и, обретая мощь, становился все более и более заразным. Он нарастил себе нервы из проводов и подземных кабелей, создал кровеносную систему из труб, насосов и резервуаров, обзавелся системой для удаления экскрементов. Из беспозвоночного громадного паразита он превратился в высшее существо, наделенное конкретными атрибутами власти волею, разумом, сознанием… Человек не мог знать, какие формы приняло сознание города, каковы его намерения. Но он ощущал боль плоти, раненной камнями города, и уже понял, сколь сильна ненависть города к нему. Это уже не было безличным и высокомерным презрением, которым город проникался к каждому новорожденному. Город уже не мог с безразличием смотреть на паразита, ставшего его жертвой. Ведь впервые за триста лет своего существования город ощутил угрозу своей жизни. И в отместку решил отнять жизнь у человека. Человеку пока не удалось убежать. Город был силен и хитер. Он затаился, выжидая подходящий момент. Ибо знал, что человек не сможет долго оставаться здесь. Огни смотрели на него со всех сторон и манили к себе. Мысли человека беспорядочно крутились в голове. У него еще было время… Он мог отказаться от задуманного и вернуться назад. Вернуться как можно быстрее к запертой комнате (правда, у него не было ключа и ему пришлось бы просить о помощи, чтобы высадить дверь) — он еще мог успеть, и прервать идущую реакцию, и во всем городе это сделать мог только он. Если он решит так поступить, то больше никаких происшествий не будет, он был уверен в этом. То, что произошло ранее, должно было сломить его волю, вынудить его к отступлению. И вдруг он выпрямился, потрясенный сверкнувшей мыслью. И захохотал — не радостно, а нервно и издевательски, внимательно вглядываясь в окружающие его огни и покачивая головой. — Ты не осмеливаешься убить меня! — воскликнул он. — Только я могу спасти тебя. И как, бы ты ни запугивал меня, пытаясь вернуть назад, ты не смеешь расправиться со мной, ибо, если я умру, то рухнет твоя последняя надежда! Шатаясь, он встал на ноги и оперся о ствол дерева. Он чувствовал, как к нему возвращаются силы, силы ненависти. — Ну, попробуй останови меня! — проговорил он сквозь зубы. — Попробуй! Он то шел, то медленно бежал, никуда не сворачивая. Он больше не смотрел ни под ноги, ни вверх. Он расхохотался, когда крыло резко повернувшего грузовика пронеслось в нескольких сантиметрах от него — он переходил через широкую улицу, не обращая внимания на сигнал светофора. Он знал, что крыло не заденет его. Он засмеялся, когда шлагбаум железнодорожного переезда опустился прямо перед его носом. Он подлез под него и спокойно пересек пути, не боясь угрожающего глаза локомотива, — он был уверен, что стоит ему остановиться на путях и поезд сойдет с рельсов, но ни за что не заденет его. Перед ним возникла табличка с надписью ОПАСНО, но он только захохотал и как ни в чем не бывало продолжил свой путь. Эта находившаяся уже в предместье улица была залита светом прожекторов, вокруг работали люди. По всей видимости, работы были срочными, но только он мог оценить злую иронию судьбы. Рабочие разрушали старые замшелые дома, расчищая место для какого-то нового здания, которое так никогда и не будет воздвигнуто. Разрушения на таком расстоянии от эпицентра не будут столь сильными, но даже здесь после взрыва и пожаров останется мало целых домов… Он шагал вперед, не обращая внимания на прожектора и рабочих; он припустился бежать, когда кто-то крикнул: — Эй, берегись! Послышался громовой раскат, и он растерянно вскинул глаза к небу каменная стена кренилась прямо над его головой, падая, она раскололась надвое. Ее падение было мучительно медленным, но убежать уже было невозможно. Он не потерял сознания, но пошевелиться не мог, ощущая нестерпимую боль во всем теле. Вряд ли у него были сломаны кости — просто тонны камней давили ему на ноги, а громадная плита лежала на самой груди; выгибая его тело назад и прижимая спиной к гигантской балке. Лица и огни хаотически кружились вокруг него, отовсюду неслись голоса. Беспомощные руки людей пытались растащить в стороны камни и куски дерева. — Боже мой! Он что, не мог оглядеться? — Не торчи столбом, беги за домкратом! — Последи-ка, вдруг все обвалится… Он висел в ослепительных лучах прожекторов, словно зажатый пальцами гигантской руки. Стоит этим каменным пальцам чуть-чуть сжаться, как его позвоночник хрустнет словно стеклянная трубочка. Когда люди попытались высвободить его с помощью рычага, он завопил от боли, и они бросили свою затею. — Обождите! — Кто-нибудь вызвал спасательную бригаду? Взвыла и замолкла сирена. Появились новые огни. Слышался приближающийся вой другой сирены… Он с трудом различил форму и значки людей, состоявших на службе у города. Он тяжело перевел дыхание и крикнул: — Глупцы! Вы — только пылинки! Да, да, да, только пылинки!.. — Бредит, бедняга. — Отойдите, отойдите от меня. — Он опять закричал. — Я знаю, что он хочет узнать, но я ничего не скажу… — Успокойся, старина. Мы сейчас… — Я не скажу… Груда камней сдвинулась на один или два сантиметра. Его голос надломился. Взгляд его скользнул по лицам и огням. Он застонал: — Нет. Я все скажу. Все! — Не волнуйтесь, мы вас вытащим… — Дурачье! — выкрикнул он, задыхаясь. Захлебываясь от спешки и хрипя, он рассказал им все — что находилось в полуподвальной комнате, запертой на ключ, как найти ее, как обезвредить заряд, чтобы он не взорвался. Времени оставалось в обрез. Они выслушали его, не веря. — Может, он бредит… Но лучше не рисковать. У тебя есть адрес? Ты все запомнил? Рядом с ним заговорил отрывистый голос, передавая сообщение по проводам. Вдали, в сердце находящегося под угрозой города, одна за другой взвыли сирены и машины с ревом ринулись в ночь. — Мы еще не закончили. Неси домкрат… И тут раздался отвратительный скрип. Тяжеленная каменная масса стала медленно оседать. Один сантиметр, два, три… Люди из последних сил пытались удержать плиту, но тщетно. Попавший в ловушку беглец отчаянно вскрикнул и смолк. Побледневшие люди переглянулись, сознавая собственное бессилие. Город не ведал жалости.


Последние комментарии
3 часов 8 минут назад
7 часов 24 минут назад
7 часов 33 минут назад
7 часов 38 минут назад
7 часов 59 минут назад
8 часов 7 минут назад