Белые тени [Доминик Фортье] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
Доминик Фортье Белые тени
Издательство Ивана Лимбаха
Санкт-Петербург
2024
Перевод с французского Аллы СмирновойЕе стихи — белые тени, это тексты, вытканные из тишины между словами, дом, состоящий из одних окон.Доминик Фортье
Dominique Fortier Les ombres blanches
 Éditions Alto
2022
Éditions Alto
2022
Издание публикуется по договоренности с Éditions Alto при содействии Books and More Agency (#BAM) Париж, Франция. Все права защищены.
© Dominique Fortier and Éditions Alto, 2022 © А. Н. Смирнова, перевод, 2024 © Н. А. Теплов, оформление обложки, 2024 © Издательство Ивана Лимбаха, 2024

* * *
Волшебницы исчезновенье Не отменяет чар —[1]Эмили Дикинсон
Эмили Дикинсон родилась 10 декабря 1830 года в Амхерсте, штат Массачусетс, и скончалась 15 мая 1886 года в том же доме, где когда-то появилась на свет. Последние годы жизни она провела в затворничестве, в своей комнате, где вела переписку и сочинила сотни стихотворений, которые отказывалась публиковать при жизни. Я решила представить ее существование, написав книгу «Города на бумаге». А затем, год спустя, почувствовала необходимость воссоздать историю женщин, переживших ее и в каком-то смысле подаривших ей еще одну жизнь: этими женщинами стали сестра Лавиния, лучшая подруга и невестка Сьюзен — супруга брата Остина, его любовница Мейбел и дочь последней Милисента, которая в ту пору была еще ребенком.
Лавиния в сотый раз проводит щеткой по волосам сестры, где среди медно-красного не видно ни одной серебряной нити, собирает их в пучок, стараясь не слишком стягивать, так и строго, и красиво. На нее надели одно из ее белых платьев. Лавиния выбрала самые красивые туфли, лакированные, на невысоком каблуке. Это туфельки для танцев. Потом осторожно проводит пальцами по лицу Эмили, медлит на спинке носа. Кожа век, испещренных синими прожилками, такая тонкая, что сквозь нее, кажется, можно увидеть темные зрачки. Лавинии мнится: там, под веками, глаза еще открыты. У Эмили сомкнуты губы, зубов не видно, а под кожей не видно костей, всей этой конструкции цвета слоновой кости, из которой состоят скелеты и живые люди. В длину мертвая Эмили кажется ей больше, чем живая, может, это потому, что лежа мы занимаем больше места, чем стоя. Ей не дашь больше тридцати пяти — смерть ее омолодила. Лавиния поправляет завиток на лбу сестры, в последний раз расправляет кружевной воротничок, потом убирает Библию, которую предусмотрительная служанка положила на стол. Эмили больше не будет читать. Лавиния выходит в сад, возвращается с охапкой цветов. Из фиалок сплетает ожерелье и обвивает им шею сестры, просовывает между ледяных пальцев два гелиотропа, еще хранящих солнечное тепло, и клочок бумаги со словами: «Нашему дорогому другу Чарльзу Уодсворту». Даже в отношениях со смертью не следует пренебрегать учтивостью.
~
Хотя полагается, что при кончине известной персоны гроб из катафалка в церковь и на кладбище несут именитые горожане, на этот раз всё не так. — Никаких нотариусов, врачей и учителей, — велела Эмили за несколько дней до смерти. Она не просто желала отогнать их от своего изголовья, ей хотелось быть уверенной в том, что не они проводят ее в загробную жизнь. Ей претила мысль доверить свое тело белым рукам адвокатов и докторов, привыкшим к финансовым договорам и стетоскопам. Она хотела, чтобы ее несли те же руки, что изо дня в день приносили ей яблоки, молоко, солому. Лавиния не нарушила воли сестры. Белый гроб на вытянутых руках несут крестьяне и сезонные рабочие. Они держатся прямо и, похоже, совершенно не ощущают веса своей ноши, будто в гробу лишь горстка травы.Мейбел склоняется над гробом. Она так долго играла на рояле в гостиной Хомстеда для закрывшейся в своей комнате Эмили, так трепетно собирала — будто бесценные сокровища — малейшие приношения, которые порой передавала для нее эта загадочная сестра Остина, и вот теперь впервые может увидеть ее собственными глазами. Она кажется лет на двадцать моложе. Кожа словно мраморная: гладкая, холодная, без единого дефекта. Ничего удивительного, Мейбел втайне догадывалась, что Эмили в последние годы жизни постепенно превращалась в собственную статую. Покойная в белом гробу из мягкой древесины одета во все белое, и Мейбел приходит в голову мысль: а вдруг в этом теле таятся другие сгустки белого: легкие, внутренности, снежное сердце. Она чувствует дыхание на шее и, не оборачиваясь, знает, что за ее спиной стоит Остин. Это все знают, и все взгляды обращены к ним. Так смотрят на молнию или на чью-то гибель. Смотришь, пока не потемнеет в глазах, даже если понимаешь, что от этого зрелища можно ослепнуть.
Сьюзен, супруга Остина, сердечная подруга покойной, два дня и две ночи составляла некролог для «Шпринген репабликен». Она ничего не писала уже много месяцев, и эта задача потребовала от нее невероятных усилий — так немощный калека пытается встать с кресла и отправиться в долгий путь. Чтобы заставить себя взять в руки перо, ей пришлось освободиться от груза последних лет, отыскать в себе ту пылкую и доверчивую молодую женщину, которой она была когда-то и которой Эмили написала сотни писем. С поседевшими волосами, расплывшейся талией, постаревшая двадцатилетняя девушка с бьющимся сердцем села за стол и принялась писать про умершую подругу. Она выплеснула в этот текст все, что знала об Эмили, оттачивая до блеска фразы, до бесконечности перебирая слова. Так на пляже среди тысячи агатов выбирают камни определенного — самого красивого — цвета. С течением лет ее чувствительная натура все решительнее отказывалась от соприкосновений с внешним миром, а сама она, черпая лишь из собственных неиссякаемых источников, довольствовалась единственным обществом — самой собой, озаренной, как говорили, «светом собственного огня». Все так, но все равно не то. Сьюзен была недовольна. Никакое похвальное слово не воздаст должное Эмили, наверное, у пчел или дроздов получилось бы лучше, а еще лучше — написать этот некролог бледными чернилами облаков. Или просто оставить в газете пустую страницу.
~
Выполнив свой долг, написав некролог и организовав похороны, Сьюзен замыкается в горе словно в тюремной камере. Физические страдания — это о запертом в темнице узнике, душевные — о человеке, потерявшем любимое существо.Вечер. Лавиния возвращается с кладбища и запирает за собой дверь. Ее поглощает пустота. Дом недостаточно большой, чтобы вместить такое огромное горе. Она обходит комнаты: из кухни в кабинет через гостиную, столовую, все спальни, и в каждой распахивает настежь окна, впуская майский вечер и песню дрозда. В оглушительной тишине отмеряют такт настенные часы. Лавиния машинально открывает коробку механизма дедушкиных ходиков, по которым Эмили упорно отказывалась определять время, вставляет ключ в отверстие циферблата, заводит часы. Баланс мерно качается слева направо, а Лавиния все проворачивает и проворачивает ключ, даже когда он сопротивляется и застревает. Она упорствует, пока механизм наконец не уступает и время не останавливает свой бег. Не раздеваясь, она ложится, свернувшись клубком, на кровати Эмили. Льняные простыни еще хранят запах сестры: смесь скисшего молока и ванили, так пахнет головка новорожденного младенца. Она спит всю ночь не просыпаясь.
~
На следующее утро ее будит свист дрозда, взгромоздившегося на подоконник. На стекле блестят капли росы. Если всмотреться в одну из них близко-близко, можно увидеть свое перевернутое лицо и опрокинутую вверх тормашками комнату. Дрозд, одна из тех прирученных птиц, которых Эмили привыкла кормить по утрам, по-прежнему прилетает к окну получить свой корм. Лавиния берет с прикроватного столика сухое печенье, крошит его между пальцами. Приоткрывает окно, высыпает крошки на подоконник, замечая птицу, которая тоже замечает ее и начинает клевать. Эта оранжевая грудка, выпуклая, бархатистая, — ее второй солнечный восход.Все по-прежнему, но и уже совсем по-другому. Дом похож на театральную декорацию, готовую опрокинуться при малейшем дуновении ветра. Все комнаты кажутся чужими, воссозданными в несколько ином масштабе, со стенами из папье-маше, будто они чуть-чуть поменяли свое положение в пространстве и свет из окон падает теперь под немного другим углом. Спальни выглядят обезличен-ными, ничего из себя не представляющими, как и всякие комнаты, куда входят впервые. Их покинула жизнь, и они умерли тоже. Сколько человек нужно, чтобы дом стал домом, домашним очагом? А кошек считать?
После полудня Лавиния достает из погреба курицу, оставленную для нее соседями и друзьями Мерсе. Птица уже ощипана, выпотрошена, подготовлена. Потроха — сердце, печень ярко-бордового цвета, почки размером с вишню — завернуты отдельно в бумагу, завтра она сделает паштет. Она заполняет полость нарезанным луком, морковью, тимьяном и розмарином, обмазывает кожу топленым салом, обильно солит и перчит, натирает четверть мускатного ореха. Теперь осталось только связать крылья и кончики лап, чтобы конечности не обгорели, и засунуть в печь. Час, два, три часа, время от времени она вытаскивает птицу, поливает ее собственным соком, возвращает в печь. Вскоре по дому начинает распространяться восхитительный аромат. Лавиния ставит на огонь картофель, зеленый горошек, первые в этом сезоне. Принимается накрывать на стол: одна тарелка, один нож, одна вилка, одна салфетка, один стакан для воды. Она перекладывает овощи в миску, вытаскивает из печи курицу, раскладывает ее на большом блюде и относит в столовую. Кожица чудесно-золотистая, хорошо прожарена и хрустит. Церемонно, с помощью длинного тонкого ножа отделяет два крылышка, кладет к себе на тарелку, добавляет одну картофелину и горстку зеленого горошка. Заставляет себя жевать и глотать. Когда она заканчивает, на тарелке остаются половина картофелины и горошек, одно нетронутое крылышко. Она отделяет мясо от костей, чтобы отдать кошке, которая не спускает с нее глаз, следя за каждым движением. Потом берет остатки курицы и, вместо того чтобы чем-нибудь накрыть их и спустить обратно в погреб, относит к черному ходу — в дар ночным созданиям: енотам-полоскунам, опоссумам, голодным призракам.
~
Что делать с одеждой Эмили? Лавиния не решается ее раздать, это было бы предательством. Но выбросить или отнести в кладовку не хочет — она экономная. Вещи должны служить. А что, если из платьев, юбок, блузок умершей сестры сделать стеганое одеяло? Довольная, что нашла наконец себе занятие, она раскладывает на кровати все, чем была богата Эмили перед смертью, то есть ничего. Ну или почти ничего. К тому же — Лавинии это было известно, конечно, но сейчас она вдруг осознала с особой остротой — все было белым. Вы когда-нибудь видели белое-белое стеганое одеяло? Это как пытаться сшить покрывающий поля снег нитью, вытканной из облаков. Вздыхая, Лавиния аккуратно собирает одежду. Так укутывают ребенка в колыбели. Разбирая вещи сестры, Лавиния откладывает отдельно предметы, которые не собирается оставлять или отдавать неимущим. Любимая в детстве куколка Эмили, ее письменный прибор, калейдоскоп. Остин зашел ближе к вечеру. Он иногда так делал — не то чтобы хотел встретиться с сестрой или собирался поговорить, а просто откладывал момент, когда придется вернуться в Эвергринс и увидеть там Сьюзен. Сидя за столом со стаканом холодного чая, он вертит в руках калейдоскоп. — Ты помнишь то Рождество? — спрашивает Лавиния. Он пожимает плечами. — Не уверен. Сколько нам тогда было? — Тебе, кажется, тринадцать. Тебе подарили почтовый несессер, а мне коробочку для шитья. Я страшно завидовала. Он удивился: — Почему это? — Да потому, что отец и мать считали, будто я не могу связать на бумаге и трех слов и уж тем более написать хоть сколько-нибудь интересное письмо. Эту коробочку для шитья мне хотелось просто бросить в печку — как будто до конца жизни я должна была что-то шить и штопать. — А я думал, тебе нравится шить, — по-прежнему удивленный, произносит Остин. — Я потом пользовалась ей, конечно, мне хотелось научиться вышивать. Но тогда я мечтала, чтобы мне подарили бинокль или глобус. Что-нибудь такое, с помощью чего можно было бы видеть далеко-далеко. Остин напрягает память, пытаясь вспомнить другие праздники Рождества, когда он получал в подарок бесконечные книги, а сестры — ленту и красивую шелковую пряжу. — У меня дома есть глобус. Хочешь, я тебе подарю? — наконец спрашивает он. Лавиния закатывается смехом. Он поднимается, несколько раздраженный. Показывая на калейдоскоп, Лавиния предлагает: — Отнеси детям, им будет интересно. Он предпочитает не напоминать сестре, что и Эдвард, и Марта давно уже миновали тот возраст, когда подобные игрушки могли их позабавить, и уходит, размышляя о том, чтó еще он не знает о своей, теперь уже единственной, сестре, у которой, как всегда ему казалось, никогда ни от кого не было тайн.Калейдоскоп Эмили Остин относит Милисенте, дочери Мейбел. Девочка тихо благодарит его, подносит к глазу окуляр — и у нее перехватывает дыхание. Она осторожно поворачивает золотой кружок: комната словно дробится, распадается на осколки, раскачивается, опрокидывается. Милисенте кажется, будто на нее обрушиваются сразу все звезды, о которых ей давно рассказывал папа-астроном, но она едва отличает одну от другой. Попадая в комнату девочки, звезды там и остаются. Она кладет калейдоскоп на кровать, в шкатулку с самыми ценными своими сокровищами: прекрасно сохранившимся крылышком кузнечика, гнездом дрозда, черным шероховатым камнем, подобранным Дэвидом на склоне вулкана, размером с кулак, пористым, легким, словно клубок шерсти, игральной картой (король треф), еловой шишкой, словарем — это ее собственный калейдоскоп, призма, сквозь которую она смотрит на мир.
~
В библиотеке отца двадцать томов четвертого издания «Британской энциклопедии», универсального словаря искусств и наук, книги в светло-коричневом кожаном переплете, от пожелтевших страниц которой исходит запах листьев, устилающих тропинки леса, где Милисента любит затеряться.Она погружается туда с таким наслаждением, с каким другие девочки расставляют мебель в кукольном домике: это же целый мир, скроенный по ее размеру, который она может исследовать медленно, не торопясь. Длинные научные термины не пугают ее, напротив, она тщательно выписывает их, чтобы потом отыскать в словаре, но довольно быстро осознает, что может догадаться об их значении по греческим, латинским или французским корням. Маленькие головоломки, которые надо разгадать, чтобы понять смысл. Ее первое слово, произнесенное в год, было таким же, как у всех младенцев: мама. А вот второе, несколько дней спустя: книга.
Остин по-настоящему увидел Мейбел, когда впервые услышал, как она играет. Он давно уже заметил супругу нового преподавателя астрономии из колледжа Амхерста, но не выделил ее среди жен других преподавателей. Говорили о ее красоте, но по этому вопросу у него a priori не могло быть собственного мнения. Лишь когда ему рассказали, что она играет на пианино, он в конце концов пригласил Мейбел поиграть в Хомстед по настоятельной просьбе Лавинии, у которой было так мало развлечений. Она села перед инструментом гостиной дома Дикинсонов, просто и строго одетая, с прямой спиной, с вьющимися прядями на выпуклом затылке, занесла над клавиатурой красиво округленные пальцы, и зазвучали первые такты шопеновского ноктюрна. Лавиния почти тотчас же прикрыла глаза, чтобы лучше чувствовать музыку. А вот Остин ловил малейшие движения пианистки. Когда она, аккомпанируя себе, принялась напевать нежным мелодичным голосом, по его спине пробежала дрожь. Все это время Мейбел, ни разу не сбившись, с математической точностью отсчитывала ритм. Не то чтобы она была нечувствительна к музыке — она наслаждалась созвучиями, — но еще более она была чувствительна к тому, какое воздействие ее игра производит на публику. Сидя в гостиной перед братом и сестрой, в тот вечер она все же играла для третьей, невидимой слушательницы: Эмили этажом выше на какое-то мгновение приложила ухо к полу, чтобы лучше слышать доносившуюся до нее мелодию, а потом обратилась к той, другой, музыке, отчетливо звучавшей в тишине ее комнаты.
~
За несколько лет до этого Мейбел совершенно не собиралась перебираться в Амхерст, который по сравнению с бостонской пышностью представлялся ей невероятно убогим и провинциальным. Но Дэвид получил место преподавателя колледжа, стабильную, хорошо оплачиваемую работу, хотя и без особой надежды на продвижение по службе. Она старалась скрыть свое разочарование — от мужчины, страстно увлеченного звездами и бесконечны-ми тайнами космоса, она ожидала большего. Тем не менее они принялись готовить ящики и коробки, упаковывать книги, мебель и одежду. По правде сказать, у них было не слишком много вещей, и, оглянувшись на свою жизнь, уместившуюся в несколько контейнеров, Мейбел почувствовала неудовлетворенность и странное ощущение некой досады, какое испытывала даже от собственных успехов, и тем более успехов мужа. Однако после первого дня в колледже Дэвид вернулся воодушевленный. Жестами и мимикой он изобразил ей всех своих новых коллег, а также руководителей заведения, среди которых особенно выделялась личность Остина Дикинсона, казначея и адвоката, человека образованного, представителя одного из самых известных семейств Амхерста; признанного авторитета для всех и вся. Уже на следующий день к Мейбел зашла супру-га одного из преподавателей, предложив показать город. Полноватая женщина с розовыми щеками и ослепительно-синими глазами немного напоминала фарфоровую куклу, но оказалась довольно эрудированным гидом, которая как свои пять пальцев знала историю Амхерста и его обитателей. Показав, где находится универмаг, ателье модистки, чайный салон и почта, она повела гостью по самым красивым улочкам, предлагая полюбоваться большими чудесными домами в тени раскидистых кленов. — Кто здесь живет? — спросила Мейбел, указав на здание из светлого кирпича с темно-зелеными ставнями. — Это Хомстед, дом Дикинсонов, — торжественно провозгласила Саманта, как будто демонстрировала Белый дом. — Первый кирпичный дом в городе. Сейчас там живут только две сестры, Лавиния и Эмили. И потом, чуть потише: — Эмили никогда не выходит. Говорят, она вообще не переступает порога своей комнаты. Одевается всегда в белое, и летом, и зимой, а еще она пишет стихи, о да… стихи. Женщина замолчала, словно ей недоставало слов для описания красоты стихов этой самой Эмили, затем продолжила: — Но она почти никому их не показывает. Нет, вы представляете себе? Зачем писать, если это должно оставаться тайной? «Наверное, не такая уж она потрясающая, если предпочитает прятаться», — мысленно произнесла Мейбел, но, не в силах унять бьющееся сердце, задавалась вопросом, как бы ей встретиться и познакомиться с этой эксцентричной особой. Она кивнула головой, что могло означать и недоверие, и одобрение, затем спросила, указав на второе здание, почти такое же красивое, как и предыдущее: — А это? — Тоже дом Дикинсонов, Эвергринс. Там живет Остин, казначей колледжа. Это брат Лавинии и Эмили, он женат на Сьюзен Гилберт. Они живут здесь с тремя детьми: Мартой, Эдвардом и малышом Гилбертом. Здесь такая роскошь! Представьте себе, у них в кухне есть даже своя морозильная камера. А еще Сьюзен устраивает прелестные вечера. Вы играете на рояле? — Немного, — притворно-скромным тоном ответила Мейбел. — Тогда вам нужно попробовать их инструмент. Он лучший в городе. Итак, куда бы она ни взглянула, повсюду простиралось королевство Дикинсонов.~
Когда несколько недель спустя Мейбел сопровождала Дэвида на званый вечер для преподавателей с супругами, администрации и семей учащихся колледжа, она тотчас узнала в толпе высокий силуэт Остина Дикинсона, которого, однако, до этого ни разу не видела. Он поднялся на кафедру и произнес приветственную речь, причем голоса присутствующих стихли еще до того, как он дал понять, что собирается взять слово. Высокий, широкоплечий, чуть сутулый, похоже, не осознающий своего обаяния. У него были черные волосы, высокий лоб, пронзительный взгляд и какая-то природная властность, в его присутствии люди начинали перешептываться. Именно так она представляла себе Люцифера до падения: самый могущественный из всех ангелов. И уже в ту минуту, когда, освещенный ярким светом, он поднимался на кафедру, а взгляды присутствующих были направлены на него, все и решилось: она, сочинив его образ, была уже безнадежно, бесповоротно влюблена. Вечер шел своим чередом: знакомства, оживленные разговоры; со всех сторон сыпались приглашения. Мейбел, как всегда, пользовалась успехом. И хотя Остин не взглянул на нее ни разу, ее сознание каждое мгновение невольно фиксировало, где именно он находился в этом зале, битком набитом людьми. Мейбел уже понимала: этот мужчина, еще не знающий ее имени, был тем самым человеком, ради которого она, забыв о поэзии, театре, журналистике и даже музыке, может посвятить себя главному делу своей жизни: стать наконец такой, какой ей предназначено быть. Проходили дни и недели, и каждый раз, когда Дэвид говорил ей об Остине или она просто слышала где-то его имя, в глубине ее души начинал звонить колокольчик. Он задавал ритм ее шагам, словно тайная детская песенка: Ди-кин-сон, Ди-кин-сон, Ди-кин-сон.~
Когда их тела впервые соединились, пропала граница, разделяющая их, тонкая, толщиной в кожный покров. Отныне, с этого дня, они оба так и останутся жить обожженные, с содранной кожей. После тех объятий в опустевшем Хомстеде, под неотрывными взглядами призраков семейства Дикинсон, каждый, вернувшись домой, начертил в своем дневнике имя этого нового существа с двумя сердцами, переплетая буквы своих имен, как прежде они сплетали руки в объятиях: ОБМЕНСТИЙЕЛ.~
Тогда Остин и уступил Мейбел и Дэвиду кусок своей земли, чтобы те могли построить дом. Они вместе с Дэвидом начертили общий план дома, согласно которому лестница вела из сада на третий этаж, прямо в спальни. Наблюдая, как две головы склоняются над большими листами с чертежами постройки (фасад, вид спереди, сбоку, ворота), она испытывала смутные чувства, названия которым подобрать было трудно. Но среди этих чувств гордость присутствовала несомненно. Двумя столетиями ранее один магараджа, обезумевший от любви к своей безвременно умершей юной подруге, повелел в память о ней возвести дворец из белого мрамора. А ради Мейбел даже не один, а двое мужчин вместе строили дом — для нее, чудесно, восхитительно живой. Этот дом, пылающий красным кирпичом, получил название «Лощина».Миновал день похорон, и Сьюзен, у которой больше не осталось никаких дел, погрузилась в уныние. Она слишком измождена, чтобы беспокоиться об этой женщине. На ее душе тяжелым грузом лежат утраты, все, что она потеряла, что было у нее отнято — смертью или ложью: Эмили, Остин, Гилберт. Скорбь переполняет ее, словно любовь, жгучая, опустошительная.
Она перечитывает письма Эмили, словно стремится найти в них то, что упустила прежде. Напрасно: каждое из писем — прощание. Сейчас, среди груды конвертов, Сьюзен чувствует себя еще более одинокой, чем на кладбище. Все эти мертвые письма она отдала бы не задумываясь, лишь бы услышать еще хоть раз живой голос подруги. И все же, разворачивая пожелтевшие листки, она вновь видит лицо Эмили или, вернее, его отражение или тень, тот след, что она оставила в ее жизни, сгустившиеся воспоминания, принявшие форму пустоты, — эдакая древняя окаменелость.
Однажды Эмили написала ей, что ноябрь — это Норвегия года. Именно в этом месяце, сером, ледяном, ни осень, ни зима, навеки ушел Гилберт, ему только-только исполнилось восемь. Отныне Сьюзен живет в Норвегии. Два-три раза в неделю она выходит из дома и решительным шагом, не останавливаясь, идет до самого кладбища. Она не решается взглянуть на могилу Эмили, ненадолго заглядывает к родителям, а потом садится на холодную траву, спиной к стеле, на которой выгравировано имя ее мальчика, спящего под землей. Вытаскивает из сумки «Приключения Тома Сойера» и начинает читать вслух. Сейчас они на сто седьмой странице, они читают это вместе уже в пятый раз. Порой, переводя дыхание между фразами, Сьюзен забывает на мгновение, что Гилберт ее не слышит.
Погасив все лампы, потушив огонь в очаге, закрыв окна, заперев двери, Лавиния вытягивается на простынях. Теперь она одна с Шоколадкой и Перчинкой, они слишком ленивые, выходить из комнаты не хотят, вот и спят вместе с нею. Она опускает веки, усилием воли пытается держать их закрытыми, считает: одна, две, восемь, двадцать овечек, а сон все не приходит. Она открывает глаза: комната погружена в полумрак, окружающее пространство сохранило свои очертания, но утратило краски. Наверное, так человек видит все после смерти? — спрашивает она себя и в этот момент слышит вдруг, как скрипит половица в конце коридора: тихий, но вполне отчетливый шорох. Так скрипит деревянный настил, когда по нему крадется кто-то — или что-то. Она прислушивается с любопытством, ничуть не тревожась. Лавиния не особо верит в призраков, но еще меньше она верит в воров. Кошки прислушиваются тоже, их острые ушки вытягиваются в сторону источника шума. Скрипит еще одна половица, Лавиния помнит, что она в одном шаге от первой, значит звук — или то, что его производит, — приближается. Она продолжает прислушиваться и наконец узнает знакомый ритм: Карло, собачка Эмили, она умерла за несколько лет до своей хозяйки.
~
На столе в комнате Эмили спит глубоким сном перо, ему снятся недописанные слова или невидимые стихи, начертанные им в небе, когда оно было дикой казаркой. Перо знает о своем везении: ему удалось прожить две жизни. Пуховый матрас томится под тяжестью тела. Он чувствует себя таким легким, что вот-вот взлетит вместе с постелью и рассыплется в небесном эфире, словно июльские облака, растворится, как соль в стакане воды. В чернильнице застыли чернила. Они превратились в желе, пасту, облатку для запечатывания писем. Потрескавшаяся поверхность седеет, покрываясь бархатистой пленкой, какая бывает у некоторых грибов. Чернила стали чем-то безжизненным, как камешек. Отныне они принадлежат миру минералов. Когда-то стол был огромным дубом, и его ветки касались облаков. Он давал приют птичьим семействам и укрывал енотов-полоскунов. Грозовыми вечерами он кряхтел на ветру, как корабельная мачта. Его начали рубить с верхушки: верхние сучья упали в смятую траву вместе с разоренными гнездами, хрупкими разбитыми скорлупками, потом полетели вниз средние ветки и, наконец, четыре или пять самых нижних, больших, толщиной с человеческое туловище. Когда остался один ствол, его распилили на несколько толстых кусков-обрубков, из которых настрогали доски, а потом сделали мебель. Теперь из земли торчал один пень, и по кольцам на его поверхности можно было прочесть историю дерева, его сто одно лето и сто зим. Стол тоскует по зиме. Ему хотелось бы в последний раз почувствовать снег.~
Эмили много раз велела сжечь свои письма и дневники, Лавиния и подумать не могла ослушаться сестру. Вот только до сих пор не могла решиться исполнить ее волю. Этим утром она толкает дверь ее комнаты, бесшумно входит, на мгновение замирает, стоя в лужице солнечного света. Перчинка пользуется моментом, чтобы проскользнуть между ног и растянуться посреди желтого квадрата на полу. Ничего не изменилось, только тишина стала другой. Комната наполнена ее отсутствием.Она выдвигает нижний ящик комода красного дерева: свернутые чулки, юбки, рубашки без рукавов. Кроме чулок, все белое. Во втором ящике покоятся ночные рубашки, в третьем хранятся платки, воротнички и какие-то кружева. Будто мертвые птицы, лежат личные дневники, которые Лавиния, не проглядев, бросает в огонь. Поднимается пламя, почти белое из-за слишком яркого света.
Когда дневники преданы огню, наступает очередь писем, сложенных в стопки во втором ящике сверху. Лавиния вынимает пачки, перевязанные черными, зелеными и незабудкового цвета ленточками. Из конвертов вываливаются засушенные цветы, кленовые листья и посеревшие цветки клевера. Она не открывает ни один из конвертов. Пусть они хранят свои тайны в ларцах — на пожелтевших страницах. Но некоторые открываются сами, словно утренние цветы с восходом солнца, и тогда она невольно читает первые слова:
Лавиния берет первый попавшийся обрывок страницы, с трудом разбирает какие-то слова — надо бы надеть очки, — но тут же инстинктивно, по наитию, по мурашкам на коже понимает, что это стихотворение. Так, сунув руку в огонь, сразу понимаешь, что будет ожог. Клочок конверта дрожит у нее в руке. Никогда еще бумага не казалась такой живой.
Ее первым, рефлекторным движением было засунуть все обратно в ящик. Она судорожно собирает обрывки листов, пытается сложить их в стопки, утрамбовать, но все напрасно: кажется, их стало больше, а ящик уменьшился в размерах. Стихи туда больше не помещаются и не поместятся — разве кому-нибудь удавалось вернуть снег в облака, лаву — в вулкан, слезы — в глаза?
~
Стоя на коленях в ногах кровати, Лавиния приподнимает крышку сундука из камфорного дерева. В такие сундуки девушки складывают свое приданое: рубашки, скатерти, простыни, платки. Лавиния находит там десяток рукописных книжечек, тоненьких, объемом в несколько страниц, сшитых вручную мелкими аккуратными стежками, так накладывают швы на рану. Первую она раскрывает очень осторожно и даже с опаской — как раздвигают ребра, чтобы увидеть пульсирующую под ними алую тайну. Эти страницы заполнены мелким почерком Эмили, таким острым, что его трудно разобрать — птичьи следы на ледяной поверхности. Лавиния боится, как бы эти страницы не растаяли прямо у нее в руках. И в то же время она предчувствует, что эта хрупкая снежная книга переживет ее — она всех переживет.Эта одинокая женщина в комнате только что безотчетно приняла очень важное решение, одно из самых важных во всей американской литературе. Если бы от страха, усталости, по неведению или просто от любви к умершей сестре и уважения к ее последней воле она сочла стихи Эмили письмами (а какая, в сущности, разница между ними, разве стихи — это не письма неизвестному адресату?), сегодня никто бы и не вспомнил имени Эмили Дикинсон. Если бы не Лавиния, Эмили просто умерла бы, как падает дерево в лесу, когда никто этого не слышит, без шума и без эха. Вот только имеет ли она право составить книгу стихов Эмили, ведь сестра не хотела их публиковать. Она никогда не боялась просить — требовать — то, чего хотела. Если бы она пожелала, чтобы стихи бросили в огонь, почему не сказала об этом Лавинии? Может, не в силах сама принять решение, она хотела предоставить право выбора младшей сестре? Но Эмили никогда никому не позволяла решать за себя. Мы можем представить, как Лавиния день за днем пытается отыскать какие-то указания, обшаривает карманы, переворачивает матрасы, исследует щели между половицами, перетряхивает книги, чтобы выпало спрятанное между их страницами. Все напрасно. Эмили бросила на произвол судьбы и свою сестру, и свое творчество. А возможно, сделала им подарок: доверила их друг другу. Лавиния Дикинсон принадлежит к тому же типу людей, что Макс Брод, который предпочел проигнорировать последнюю волю своего друга Кафки и не стал сжигать, не читая, все его бумаги, как обещал; что и Отто Франк, решивший опубликовать дневник дочери, погибшей в лагере Бельген-Бельзен[2]. Она из тех редких творцов, ставших — волею случая — авторами великих произведений, кото-рых не создавали.
Сколько людей необходимо, чтобы возникла книга? Сколько среди них существ из плоти и крови и сколько призраков? А что, если пишут именно призраки? Когда сегодня я говорю «я», кто говорит на самом деле?
~
Какая-то часть меня все время пытается оторваться и ускользнуть. Я не то чтобы пытаюсь вернуть ее, прикрепить, но раз пятнадцать-двадцать на дню взлетаю вслед за ней. Я готовлю еду, веду машину, складываю одежду, но другая часть меня отправляется в покинутый Эмили дом на поиски какого-нибудь слова или образа. Это похоже на попытку вспомнить обрывки сна через несколько часов после пробуждения или поймать рукой клочок тумана; но хрупкая, непрочная материя все время ускользает между пальцев. В голове моей постоянно звучит тихая музыка, ее невозможно разложить на ноты и записать, ведь мелодия едва различима, к тому же на нее накладываются всякие помехи. Как почувствовать, что вот оно — целое, что все куски соединились? А каково чувствовать, что существуешь полностью, целиком в одном-единственном месте, — это чудесно или ужасно? Почему некоторым необходимо проживать в одно и то же время множество жизней, в разных придуманных местах? Может, потому, что не хватает таланта прожить как подобает единственную жизнь?«Пучков»[3], собранных Эмили, всего сорок — как дней, проведенных нашим Господом в пустыне. А сами стихи Лавиния считать отказывается, их слишком много и они слишком объемные, чтобы уместиться в один или несколько конвертов. Она подумала было запихнуть их в большой бумажный пакет, но это представилось ей в высшей степени неправильным, каким-то грубым нарушением этикета, хотя объяснить это она бы не смогла. Контейнер для молока не подходит тоже, как и полотняная сумка, в которой она хранит иглы для вышивания, пяльцы, клубки шерсти и вязальные спицы. Сундук слишком тяжелый, поднять его получится только вдвоем. В него можно убрать обернутый старыми газетами фарфор, новые платья, аккуратно сложенные пополам в больших картонных коробках, но в чем, черт побери, нужно хранить стихи? В конце концов, за неимением лучшего, она находит на чердаке старый чемодан из прессованного картона, тот самый, который Эмили брала с собой в последнюю поездку в Бостон. Аккуратно раскладывает и расправляет стихи, чтобы не помялись. Ей кажется, будто она отправляет сестру в путешествие против ее воли. Она задается вопросом, что следует сделать с разбросанными по миру посланиями Эмили, которые сестра в большом количестве адресовала тем, кого любила, даже если не видела их ни разу в жизни. Может, просто предать огню? Ведь пока они не собраны вместе или не уничтожены, получается, что сестра тоже рассеяна и разделена на множество частей по стольким чужим домам.
~
На следующий день Лавиния приходит к Сьюзен, которая знала Эмили лучше, чем кто бы то ни было; она — главный адресат ее писем, сотни конвертов летали по-соседски из дома в дом. Невестка стоит с опущенными глазами, потухшим взглядом. Она как будто переоделась в собственную мать, а то и бабушку. — Мне нужна помощь, — говорит Лавиния. Сьюзен почти не реагирует, продолжает смотреть в окно, за которым не видно ничего особенного. Наверное, она ждет Остина, который опять ушел к той женщине. Лавиния вновь обращается к ней, стараясь, чтобы голос звучал громче и четче: — Вообще-то помощь нужна не мне. Я хотела с тобой увидеться из-за Эмили. Сьюзен вздрагивает. По лицу пробегает тень, оно будто закрывается ото всех. Эти Дикинсоны все никак не могут оставить ее в покое: обманывают, лгут, а то и вообще умирают. И эта такая же. Но отказаться Сьюзен не может.~
Стихи Эмили искрятся и сверкают, вспыхивают так ярко, что Сьюзен обжигает руки и глаза. Все утро, а затем и вечер она медленно перечитывает их, порой по двадцать — тридцать минут держит в ладонях одни и те же несколько строк, не в силах отпустить, сжимает так сильно, что чувствует, как пульсирует кровь в кончиках пальцев. Они складываются в строфы некого тайного Евангелия. Это магические заклинания. Произнесите их в определенной последовательности, в нужном ритме, и вспорхнет голубка, из шляпы взметнется пламя, появится гирлянда ромашек; скажите их в обратном порядке, и набежит саранча, солнце раздвоится, на небе погаснут звезды, мир уничтожит сам себя.~
Ближе к ночи Сьюзен делает над собой усилие, и даже несколько: надевает светло-голубое платье, приталенное, с пышными рукавами, которое так выгодно подчеркивает фигуру, кладет на щеки румяна. Ставит тушить цесарку, готовит пюре из топинамбуров, аккуратно снимая кожуру с клубней, немного напоминающих детские ступни. Вот-вот будет готов яблочный пирог, и к тому времени, когда Остин наконец открывает дверь, одуряющий аромат корицы заполняет весь дом. Уже восьмой час. Увидев накрытый для него ужин, Остин как будто раздражен, он предпочел бы, как обычно, взять блюдо с холодными закусками к себе в кабинет и оставаться там, пока Сьюзен не заснет. — Ты где был? — Работал. Она знает, что он лжет. Она может почувствовать духи той женщины на расстоянии десяти футов. Почему он даже не пытается придумать что-нибудь правдоподобное, за что она могла бы зацепиться? Она недостойна даже лжи? — Над чем? Он пожимает плечами. — Тебе это не интересно. Они усаживаются по краям стола, два чужих человека. Цесарка перестояла, сухая плоть с трудом накалывается на вилку. Остин ест, не поднимая глаз от тарелки. Он делает невероятное усилие над собой и тоже спрашивает: — А ты? — Я весь день провела с Эмили. Она указывает рукой на стопку стихов на посудном шкафу. Остин вздрагивает. Он встает, берет кусок надорванного конверта, читает несколько строк, смотрит на Сьюзен, будто только сейчас заметил ее присутствие. — Не знал, что она столько написала, — произносит он глухим голосом. — Лавиния решила их опубликовать, — сообщает Сьюзен. Его брови ползут вверх, он кладет вилку, которую до сих пор держал в руке. — Что? — Ну да, и это не будет вразрез с волей Эмили, ведь она просила уничтожить письма, а про стихи ничего не говорила. Ее воля. Когда-то Остин мог читать ее мысли, словно в открытой книге. Она даже не соизволила сообщить ему о существовании этих стихов. — Почему ты мне об этом говоришь? Лавинии нужно мое одобрение? — Да в общем, нет. — Тогда что? — Она попросила меня помочь подготовить издание. Сьюзен ожидает возражений, вопросов, даже насмешек, но он просто спрашивает, весьма удивленный: — Правда? Почему тебя? Это сказано спокойно и беззлобно, без всякой задней мысли, в его вопросе лишь искреннее непонимание. И это непонимание — неужели кто-то выбрал ее, ее, для выполнения столь важной задачи, это неверие в ее силы, в то, что кто-то мог оказать ей доверие, — ранит ее сердце так сильно, что она даже представить не могла такой боли.~
В записке, которую подруга адресовала ей лет сорок назад, Сьюзен прочитала: We are the only poets, and everyone else is prose[4]. Что она сделала со стихотворением своей жизни?Остин берет пальцы возлюбленной в свою большую руку: кукольная ладошка в медвежьей лапе. Оба еще дрожат, две струны продолжают вибрировать уже после того, как смолкла последняя нота, — так говорит она, а он взволнован: она остается пианисткой даже сейчас, в самозабвении и забытьи. — Любовь моя, — говорит он, — как бы мне хотелось стать двадцатилетним, чтобы жениться на тебе. Мейбел смеется звонким хрустальным смехом. — Но у меня есть муж. — Задорный тон сводит его с ума. Она высвобождает руку и касается обручального кольца на безымянном пальце Остина. Оно здесь так давно, что палец стал тоньше между первой и второй фалангой, словно дерево, чей ствол стискивает железный обруч, но которое все растет и растет вопреки препятствию. Она продолжает: — А у тебя есть жена. Остин вздыхает. Сьюзен и вправду его жена? Эта женщина, что сидит — все реже и реже — за одним с ним столом вечерами, имеет так мало общего с девушкой, с которой он сочетался браком тридцать лет назад. Неужели она та же? Или в один прекрасный день человека заменяет его ухудшенный двойник? Он пытается сдвинуть сжимающее его палец кольцо, но мешает сустав. Какое-то мгновение Мейбел смотрит на то, как он старается, потом осторожно берет его палец в рот, смачивает слюной, драгоценный металл скользит по еще более драгоценной коже. Она протягивает ему кольцо, и он примеряет его по очереди на каждый из ее тоненьких пальцев. Слишком велико. В конце концов он надевает его на большой палец. — Ты, возможно, мне и не супруга, но ты моя жена. Она не отвечает, сомневаясь, что вообще хочет принадлежать кому бы то ни было, но ей до головокружения льстит то, что происходит сейчас, в этот момент, и этот символ у нее на пальце. Это кольцо она станет носить с гордостью, хотя все в Амхерсте узнают его, ведь в течение многих лет они видели его на руке ее любовника. Она и будет носить это кольцо, чтобы каждый его узнавал.
Лишь посреди ночи, когда Мейбел, лежа в постели с мужем, мучительно пытается уснуть, она задает себе вопрос: а что, если это кольцо у нее на руке, то самое кольцо, которым Остин когда-то обменялся с другой женщиной, означает скорее загадочную и чудовищную печать, какой она скрепила свой союз со Сьюзен.
~
Мейбел никогда ничего не выбрасывает. Словно стремясь задокументировать собственное существование, она аккуратно хранит, сортирует и разбирает использованные театральные билеты, приглашения, полученные ею письма и черновики собственных писем, посланныхкому-то, даже ленточки, которыми были обвязаны подаренные ей букеты. Она трудится с упорством безумного архивариуса над книгой своей жизни, произведением, которое не хочется завершать. Особенно тщательно хранит она письма многочисленных воздыхателей, которые складывает в розовую картонную коробочку, перевязанную шелковой лентой. Раз в несколько месяцев достает их оттуда, перебирает и перечитывает. Они лежат там подобно геологическим наслоениям, своего рода свидетельские показания тех, кто на протяжении многих лет отдавали дань ее красоте, уму, обаянию. Иногда она их перечитывает, и тогда у нее наконец возникает ощущение, что она героиня романа, то есть в самом деле существует.В этой коллекции, которую она собирает с детства, есть несколько писем, имеющих в ее глазах особую ценность. Если спасти можно было бы только несколько, она сохранила бы именно эти, короткие, сбивчивые, написанные торопливыми каракулями Эмили Дикинсон, в которых она благодарила Мейбел за игру на рояле в гостиной. Развернув их, она на мгновение чувствует, будто возносится к небесным высям, где, вероятно, ее ждет Эмили. Возможно, одна из этих записок ей чуть менее дорога, нежели остальные, в ней говорится о Милисенте; Эмили видела ее мельком один-единственный раз и описала так: странная девочка с бездонными глазами, которые с каждым днем все пронзительней. Между поэтессой и ребенком, который никогда ее не видел, эти слова установили некое таинственное родство, и Мейбел всегда будет чувствовать себя непричастной к этой общности.
Посреди ночи, посреди сновидения Милисента вдруг просыпается. Ей снилась какая-то незнакомая дама, высокая, вся в белом, а рядом мальчик ее возраста — возможно, лет восьми, белокурый, с улыбкой на губах, — он молча сидел на облаке, от которого они оба отрывали кусочки и лепили из них фигурки. Милисента тоже, когда кухарка замешивает тесто, любит лепить из него маленьких зверушек. Закончив очередное творение — собачку, корабль, кита, — женщина и ребенок клали фигурку на раскрытую ладонь, дули на нее и отпускали в небо. Они не разговаривали друг с другом, но Милисента чувствовала, что между ними царит такое глубокое согласие, что во сне глаза ее наполнились слезами. Она отбрасывает одеяло, встает и подходит к окну. Который сейчас час, она не знает, но луна, почти полная, уже висит высоко в небе и льет с высоты молочный свет. Отец много раз объяснял ей, что луна не испускает света, а лишь отражает солнечный посреди тьмы. Милисента категорически отказывается в это верить. Она не доверяет зеркалам. Снизу доносятся голоса родителей, они ссорятся. Она различает имена: Сьюзен, Остин. Отец кажется грустным, мать раздраженной. Иногда наоборот, иногда и то и другое одновременно. Она отходит от окна, на цыпочках крадется по комнате и толкает дверь, бесшумно спускается по лестнице и выходит из дома, вступая в сумрак сада. Близкий Хомстед вырисовывается на полотне ночи, как силуэт театра теней. Куда бы она ни пошла, ей кажется, будто этот дом всегда остается в поле зрения, так глаза некоторых персонажей на картинах следят за вами, когда вы перемещаетесь по комнате. Этот дом всегда будет на нее смотреть. Внезапно она ощущает на щеке легкий укол. Подняв голову к небу, она разглядывает облака — собаку, корабль, кита, — которые скользят, закрывая луну. Из облаков падает снег, мелкий и ленивый, словно тополиный пух. Она берет на кончик пальца упавшую на щеку крошечную снежинку, совершенную, с шестью кружевными лучами и отходящими от них симметричными веточками. В этот момент октябрьской ночи 1886 года на свете нет ничего прекраснее, чем кусочек белого неба, падающий на землю штата Массачусетс в Соединенных Штатах Америки. Милисента вытягивается на ледяной траве. Ей кажется, будто она падает в огромный, наполненный звездами водоем. На подушечке пальца не тает снежинка. И даже наоборот: она обжигает, это крошечный белый огонь.
~
Год назад Дэвид научил дочь понимать цифры на трубке термометра, вывешенного перед окном гостиной. Каждое утро, вскочив с кровати, она бежит смотреть температуру и гордо объявляет ее домашним, а потом записывает в блокнотик, подаренный как раз для этого. Она может сказать, что утром на Рождество в 1885 году было ровно 24 градуса по шкале господина Фаренгейта, то есть минус 4,4444 по шкале господина Цельсия. Ей еще трудно делать подсчеты для перевода одной системы в другую, но формулу, продиктованную отцом, она запомнила твердо: от температуры по шкале Фаренгейта надо отнять 32, потом разделить на 1,8. Блокнот ее выглядит идеально, цифры ровные-ровные, начертанные уверенной рукой, ни одного дня не пропущено. Переворачивая заполненные страницы, она любуется прожитыми днями, а созерцая пустые страницы, радуется дням, которые ей предстоит прожить.~
Утренние записи позволили Милисенте осознать эту свою страсть. Если ее мать ведет дневник, пишет статьи и сочиняет музыку, отец делает научные доклады и выводит формулы, то она будет составлять списки, это станет ее способом структурировать мир, слишком огромный, про который она еще почти ничего не знает. Во второй тетради, купленной на собственные карманные деньги, она составляет список любимых месяцев (декабрь, январь, февраль, март), овощей, которые ненавидит (репа, овсяный корень, цветная капуста), любимых звезд (Сириус, Бетельгейзе, Стелла Марис, Венера, которая, вообще-то, и не звезда вовсе, но пусть будет), а еще стран, которые хотела бы посетить (все). На других страницах — список птиц, замеченных в течение дня, любимых растений, ночных шумов, оттенков цветов, которые удалось различить в одной-единственной перламутровой ракушке, самых сочных яблок, лучших качеств собак, любимых прилагательных, писателей, которые ей нравятся больше других. Страница, озаглавленная «Мои лучшие подруги», осталась пустой.Что можно сделать из снега
Крепости Ледяные хижины Снежки Снеговиков Ангелов
В доме Дикинсонов, где сейчас больше призраков, чем живых людей, царит мертвый покой. К счастью, есть кошки, они принадлежат двум мирам одновременно. Лавиния сидит в гостиной. Часы бьют десять, впереди у нее целый день. Перед тем как начать какое-нибудь дело, требующее некоторого времени или необходимости уйти из дома, она по привычке заходит в комнату матери на случай, если той что-нибудь нужно. Это рефлекс. Но комната пуста. Пусты все комнаты, кроме спальни Лавинии. Теперь у нее нет никаких забот: не нужно готовить овсяную кашу с медом, не нужно варить яйцо всмятку для Эмили, не нужно ходить на почту отправлять письма, которые сестра продолжала писать до последних дней жизни, по нескольку в неделю. Никто больше в ней не нуждается. Она медленно идет на кухню, надевает рабочий фартук, наливает воду в ведро, вооружается щеткой, флаконом жидкого мыла и принимается скоблить одну за другой ступеньки высокой лестницы, словно полируя клавиши огромного рояля. Порой она задается вопросом: а вдруг они сейчас все вместе. Отец, мать, сестра и племянник, может, они живут где-то высоко, в небесной обители? А если это так, кто приготовит им ужин?
Небо над верхушками деревьев из серого войлока. Лавиния мечтала бы натыкать туда булавок, чтобы все не распоролось, не распалось, надо успеть вскарабкаться по лестнице и поправить шитье. Каждый божий день она что-то мастерит или чинит. Она вышивает, вяжет, штопает, латает, кладет заплаты и даже выполняет мелкие столярные работы. После ужина она заканчивает шить чепчик для внука подруги юности, осталось только обвязать тесемкой. На кухне целый ящик комода забит обрывками лент, кусками кружев, мотками тесьмы. В отдельной коробке разрозненные пуговицы: медные, кожаные, железные, перламутровые, деревянные; в банке остатки ниток и ворсинки шерсти, некоторые из них такие короткие, что, роясь в этих сокровищах время от времени, Лавиния задается вопросом, могут ли они пригодиться, разве что пойдут на гнездо для дрозда, но она никогда ничего не выбрасывает. Обрезки ткани аккуратно сложены в большую картонную коробку, такое лоскутное одеяло. В другом ящике горсть ключей, она и сама не знает, какие замки ими открываются, но как можно выбросить ключ? Из свернутого мотка лент она выбирает бледно-желтую, длиной в две ладони. Она прекрасно подойдет к ярко-синей ткани, но один край слегка растрепался. Лавиния открывает второй ящик, где валяются огарки свечей, — она в буквальном смысле экономит на спичках. И на свечках. Совсем короткие огарки откладывает в отдельное ведерко, дожидается, пока их накопится побольше, растапливает воск, а потом делает фитили. Ей приходится сдерживать себя, а то она хранила бы и сгоревшие спички, сожалея о том, что их нельзя зажечь дважды. Она берет первый огарок, осторожно проводит основанием свечи по ниткам с краю, чтобы они не трепались дальше. Каждая вещь, какой бы она ни была маленькой, имеет свою пользу. Ничего никогда нельзя выбрасывать, это грех. Это не только расточительство, но и отсутствие изобретательности. Порой ей кажется, что весь дом держится благодаря этим странным разнородным остаткам, они каким-то странным образом являют некий строительный раствор. Избавь этот дом от обмылков, кусков мела, обрезков картона, отрезков ткани, огрызков карандашей, пустых пакетов из-под сахара и муки, останется лишь пустая раковина. Ничего удивительного, что сестра записывала стихи на обрывках конвертов и обертки. Нет ничего долговечнее остатков, они выжили и уцелели, когда все остальное исчезло. На подоконнике в блюдце с водой стебель сельдерея, лук-порей и три луковицы, зеленые, упрямые, они медленно пускают ростки в осеннюю стужу, движимые невидимой силой, которую она до конца не понимает. Может быть, это сила света, а может, сила какого-то непреложного закона овощей.
Вечером Лавиния обрывает с засохших стеблей цветки лаванды, и они мелкими благоухающими градинами падают на стол. Она берет несколько щепоток таких цветков и помещает в саше, сшитое из остатков яркого поплина в полоску, завязывает шнурком. Она делает это снова и снова, пока на столе не истает горка сухих цветов. Закончив работу, она рассовывает саше по шкафам и сундукам, наполняя ароматом белье, он отпугивает моль. По привычке она сделала слишком много. В большом доме половина шкафов теперь стоят пустыми, три четверти комнат закрыты. Она аккуратно высыпает содержимое лишних саше в миску, выносит в сад и в сумерках размашистым движением разбрасывает сиреневые цветы, словно зерна для птиц. Ничто не должно пропасть. Теперь еще несколько недель синицы будут пахнуть лавандой.
~
На кухне, которая до мелочей похожа на кухню в Хомстеде — большой деревянный навощенный стол, плита с шестью конфорками, медные кастрюли, подвешенные к потолку рядом с косичками чеснока и гирляндами шалфея, эстрагона, лавровым листом, — Эмили и Гилберт насыпают в котелок сахар-сырец, сахарозу, наливают патоку, добавляют немного воды, уксуса, кладут несколько кусочков сливочного масла. Они похожи на клоунов-кондитеров, в волосах и на кончике носа — мука. Смеясь, перемешивают все огромной деревянной ложкой. Смесь кипит и меняет цвет: из грязно-белой становится рыжей. Они снимают котелок с огня, добавляют немного белого порошка — должно быть, питьевую соду, — переливают содержимое в стеклянную миску и ненадолго оставляют. Потом берут кусок массы размером с грейпфрут, начинают ее размеренно растягивать и вытягивать, формируя длинные, все более и более тонкие и упругие волокна. Они сверкают у них в пальцах, и кленовый сироп становится похож на нити жидкого золота. Поскольку действо, которое наблюдает Лавиния, лишено запахов, она понимает, что это сон. Впрочем, если бы ее спросили, она бы ответила, что никогда не видит снов. По правде сказать, она совсем не верила в сны; это всего лишь выдумки, измышления, плоды воображения, свойственные умам более изобретательным, а возможно, более праздным, чем ее собственный. Она смутно подозревала, что некоторые люди утром придумывают сны, чтобы казаться более интересными. Что до нее, она была лишена воображения, но это не доставляло ей никаких неудобств. Зато она обладала рассудительностью, сметливостью, умела разговаривать с кошками, а из целой пирамиды дынь инстинктивно выбирала самую сочную и ароматную. Это вполне компенсировало недостаток воображения. Но вот уже несколько недель в снах к ней приходит сестра. В сущности, в этом нет ничего удивительного. Даже у мертвой Эмили воображения хватает на двоих.Куда бы она ни шла, призрак Эмили следует за ней, а порой и обгоняет. Ее полупрозрачная, просвечивающая сестра превратилась в самого живого из всех призраков. Лавиния так и не смогла решиться бросить в огонь гербарий, как велела ей поступить с личными бумагами Эмили. Но переворачивая страницы, на которых покоятся увядшие цветы, она прекрасно понимает, что проникла в тайну мертвой сестры глубже, чем если бы прочла ее дневник. Ей кажется, что она вскрыла живот, и там, где у прочих смертных находятся внутренние органы, сердце, легкие, печень, она обнаружила красный пион.
~
Утром, при пробуждении, Лавиния осознает, что у нее давно нет месячных. Она пытается вспомнить, когда они были в последний раз. В мае? Или в июне? Когда она убрала свое тряпье? Она не знает. Этот клубок плоти в ее чреве, что каждый месяц формировался, разрушался и потом истекал у нее между ног, этот теплый поток иссяк. У нее нет и больше не будет детей. Она произносит эти слова вслух: «У меня нет и больше не будет детей», силясь осознать эту фразу, в которой сошлись настоящее и будущее, — возможно, столкнувшись, они уничтожают друг друга? Она хватает Джинжер, что трется возле ее ног, подносит к лицу и утыкается носом в мягкую шерстку. О чем обычно сожалеют люди? Если Лавиния о чем-то и сожалеет, то лишь о том, что у нее мало кошек.Сьюзен давно питает недоверие к книгам, словно предчувствуя: если бы люди не умирали, то и не писали бы. Книги — знак смерти, как маяк, предупреждающий о рифе. И в том и в другом случае это свет, без которого хотелось бы обойтись. На бледных страницах томов, обтянутых шкурой животных, мертвые говорят с живыми — и с другими мертвыми. Книги — это призраки. Письма стоят не многим больше, ведь они знаменуют отсутствие тех, кого любишь. Даже самые прекрасные, самые нежные и самые волнующие беспрестанно нашептывают: меня здесь нет.
Письма и стихи Эмили тянут Сьюзен в разные стороны: в сторону света и в сторону тьмы, они заставляют чувствовать тоску по любви, которой больше нет, а возможно, никогда и не было. Ибо по прошествии пятидесяти лет она знает: бесполезно искать идеал в путешествиях, в книгах, в вере, в морфине, в объятиях тех, кого любишь, или в звездном небе, как этот несчастный Дэвид, его можно найти лишь в смерти. Порой по утрам, открывая глаза, она чувствует такую усталость, что ей кажется, будто она сделана из того же дерева, что ее кровать.
Народная мудрость гласит: время лечит и в конце концов скорбь становится не такой острой. Это ложь, думает Сьюзен, ей сказали неправду. Совсем наоборот — каждое утро лишь усугубляет горе, обостряет потерю, дыра в груди становится все глубже, и она в любой момент может упасть в эту пропасть. Она носит траур не только по Эмили и Гилберту. Она оплакивает свою молодость, свою наполовину истекшую жизнь, отчасти разочаровавшую ее, сокрушается о приближающейся зиме, а ведь она только-только начала привыкать к осени. Съежившаяся, свернувшаяся клубком в кресле, она достигла того возраста, когда человек начинает уменьшаться. Она смотрит на дверную раму, где каждое первое января они с Остином делали зарубки, отмечая рост детей: вот Эдвард, который давно ее перерос, Марта, уже почти женщина, Гилберт, чей рост навсегда остановился на уровне ее сердца. Сьюзен уверена, что если бы она тогда догадалась измерять и свой рост, сейчас зарубки пошли бы вниз, вычитая то, чего она лишилась.
~
Проходят дни, недели. Сьюзен ничего не делает, Лавиния теряет терпение, приходит к ней, убеждается, что дело не двигается, уходит каждый раз разочарованная и слегка раздраженная. Наконец, как-то утром, когда они обе сидят в гостиной Эвергринса, Сьюзен признается: — У меня не получается. — Что не получается? — спрашивает Лавиния. — Ничего. Она обводит рукой все, что ее окружает: гостиную с роялем, книгами, весь дом, сад, что обступает все это: и ее, и гостиную, и дом, потом город, расстилающийся вокруг, мир за его пределами, — все напрасно, эксцентрические круги пустоты расходятся все дальше и дальше. Сьюзен знает, что не стоит и пытаться рассказывать Лавинии про бездонную дыру в ее груди, которая забрала все самое дорогое, хрупкое и самое живое. Она по-прежнему встает по утрам, завтракает, иногда даже смеется, но сердце умерло прежде нее самой. Оно покоится под землей на кладбище, а она считает дни, когда сможет с ним воссоединиться. Однако слова сами вылетают у нее изо рта, они падают, словно мелкие камешки: — Я встаю по утрам, и моя первая мысль о нем, о Гилберте, он следует за мной, или я за ним, целый день, я разговариваю с ним вслух, спрашиваю, что приготовить на обед, нужно ли ему что-нибудь, может, он хочет, чтобы я ему почитала, вечером перед сном я молюсь, чтобы увидеть его во сне. Голос дрожит. Лавинии хочется обнять невестку, но она знает, что та отодвинется. Боль сделала ее слишком хрупкой для любых прикосновений. Стоит до нее дотронуться, она разлетится на осколки. Сьюзен отводит взгляд от Лавинии, отвернувшись к окну, продолжает, словно разговаривая сама с собой: — Наверное, ему сейчас так холодно. Вот уже несколько дней я не могу думать ни о чем другом. Ночью заморозки, по утрам иней, а у него всегда мерзли ноги, перед сном я подкладывала ему в кровать грелку. Лавиния собирает в охапку стихи Эмили, которым не удалось согреть Сьюзен.Когда на следующий день она возвращается, чтобы забрать то, что осталось, Сьюзен отказывается ее впускать. Так проходит день, два, неделя. Через закрытую дверь она объясняет, растолковывает, обхаживает, она даже привлекает Остина, чтобы тот попытался убедить Сьюзен отдать оставшиеся рукописи, все напрасно. Сьюзен не хочет терять Эмили во второй раз. Лавиния задается вопросом, похожи ли стихи на игральные карты и непременно ли нужно собрать всю колоду, чтобы сошелся пасьянс. Стоя перед закрытой дверью на десятый день, она, по зрелом размышлении, решает, что это неважно, пусть карт не хватает: к черту пасьянс, можно просто построить домик.
~
Лавиния достает вязальные спицы, самую тонкую нить, какую только могла найти, шерсть ягненка с длинными шелковистыми волокнами, и принимается за работу. В течение трех дней ее спицы постукивают, как стрелки на часах. Видя, как из клубка шерсти создается творение, она испытывает счастье скульптора, который наблюдает за тем, как из куска дерева возникают птица, лошадь, лицо, таившиеся там с незапамятных времен. Она аккуратно разматывает нить, быстро соединяя петли, словно читая книгу, в которой каждое слово на своем месте и в то же время неясно. Каждая такая петля словно отнята у хаоса и уродства, это звено цепи, связывающей живых и мертвых.В воскресенье на кладбище она, недолго постояв у памятника Эмили, сворачивает на узкую тропинку, ведущую к могиле Гилберта, и кладет на землю шапочку, шарф, пару митенок, которые связала, чтобы ему было тепло ноябрьскими ночами.
Милисента, которая любит все книги без исключения, отдает предпочтение атласам. Она с удовольствием скользит пальцем по раскрытым страницам, обводя извилистые линии — границы между странами, водные пути больших и малых рек. Дэвид показывает ей путь, который проделал, чтобы присутствовать при последнем солнечном затмении, — а это почти половина планеты. Она смотрит на пузатую глыбу Бразилии, страны огня, сверкающей на солнце, на тонкую полоску Чили, продолговатую, как перец, название которого носит, Аргентину, которая в ее представлении сделана из серебра, аргентума, где на деревьях растут монеты, а в реках течет серебристая вода, на Эквадор, названный так в честь тонкой линии, опоясывающей планету. Она вполголоса повторяет названия городов, напоминающие имена сказочных персонажей: гигант Монтевидео, карлик Киото, отъявленная кокетка Кордова, монахиня Росарио, неотразимая красавица Асунсьон, в которую все влюблены, но она смотрит лишь на Ориона, который где-то высоко в небе охотится за невидимой дичью. Но больше всего ей нравятся бесконечные синие пространства, разделяющие континенты. Кажется, будто земли лежат прямо на воде, как детали огромного пазла на столе. На этих океанских просторах, покрывающих половину глобуса, ни одного города, ни одной надписи. Их чудеса невидимы, они еще не открыты путешественниками-мореплавателями, они раскинулись в этом пространстве между названиями на карте. А ее любимая территория расположена на самом краю длинного языка Латинской Америки, она называется Terra del Fuego, Огненная Земля, она представляет себе этот архипелаг как страну, пылающую днем и ночью под солнцем, луной, солнечными и лунными затмениями.
Она хотела бы совершить кругосветное путешествие, как ее отец, объездивший всю планету в погоне за кометами, с той лишь разницей, что взгляд ее будет обращен не к небу, а на землю, по которой ступают ноги. Она собирала бы по экземпляру каждого растения, пусть даже самого скудного, у которого нет цветов, а только колючки, давала бы им названия, вклеивала бы в гербарий, который начала собирать прошлым летом и который по-прежнему безнадежно пуст, потому что в их саду не растет ничего, только розы и кусты сирени. Она сделала бы себе еще один каталог, каждый день брала бы горсть земли и ссыпала ее в небольшую банку, указывая дату и соответствующее место, — ведь многие коллекционируют мертвых бабочек, монеты или марки, которые вообще никогда не были живыми. Эту землю она рассматривала бы в микроскоп, если бы немного повезло, то нашла бы пепел потухших вулканов или остатки древних ледниковых отложений, песок давно исчезнувших рек, ракушки улиток, принесенных сюда из высохших морей, звездную пыль, из которой, как уверяет отец, состоит Земля. Чтобы коллекции были полными, ей останется лишь понять, как сделать гербарий из капель дождя и снежинок.
~
Девочка лежит уже целый час, а заснуть все не удается. Дэвид, поднявшийся за книгой, слышит, как она ворочается под одеялом. Он приоткрывает дверь. По полу скользит пепельный луч. — Если не спишь, может, пойдем подышим воздухом? Она не говорит ни да ни нет, спрыгивает с кровати, набрасывает на плечи шаль, просовывает ноги в тапки и, когда они выходят в сад, пытается приноровить свои маленькие шажки к широким шагам отца. Стоит непроглядная ночь, но Милисента не боится темноты. — А ты знала, — спрашивает Дэвид, — что некоторые звезды, которые мы видим, погасли уже много лет и даже веков назад? Милисента недоуменно смотрит на него, не понимая, стоит ли верить. Он объясняет: — Их свет идет до нас так долго, что звезда давно умерла, а мы все еще ее видим. — Венера? — обеспокоенно спрашивает девочка. — Нет. Венера — это планета. Она не может погаснуть, потому что никогда не горела. — А как узнать, какие из них умерли? — спрашивает Милисента. — Этого знать нельзя, — признает он и пытается объяснить, чтобы она поняла: — Это звезды-призраки. Она с серьезным видом соглашается. Она сама сейчас, в белой ночной рубашке, с растрепанными волосами и темными блестящими глазами, похожа на маленького, упавшего с неба призрака.Вот уже несколько месяцев я — Милисента, Мейбел, Сьюзен, Лавиния. Это может означать две вещи: или я следую за ними, или я в каком-то смысле существую в каждой из них четырех. А возможно, и то и другое сразу. В каждую из них я вложила то, что знаю, во что верю, чего боюсь и чего избегаю, затем, как четыре страны света, я положила их на розу ветров, надеясь, что кто-нибудь из них укажет мне путь. Но вместо того чтобы послушно оставаться там, где я их оставила, они начали перемещаться, сначала незаметно, потом немного увереннее, то отдаляясь друг от друга, то приближаясь, этого танца я не заказывала, я еще не знаю его музыки. Но меня утешает то, что они слышат ее раньше меня: значит, они живые. Какой выбрать путь — вот вопрос, который никогда не задала бы себе Эмили, она прекрасно знала, куда идти: никуда. Она уже пришла. Она никогда не уходила.
Когда Лавиния видит синичку, она думает о живой сестре. Когда в ветках сикомора она замечает красный отблеск птицы-кардинала, она видит живую сестру. Глядя, как суетятся поползни, наблюдая за скворцом на крыше, слыша, как воркуют голуби, каркают вороны, любуясь, как переливается разными цветами скворец, Лавиния вспоминает Эмили. Все пернатые создания напоминают ей о сестре — кроме, наверное, кур.
~
Между Рождеством и Новым годом сразу пополудни косые солнечные лучи пронзают кроны деревьев во дворе, превращая в причудливый витраж немногие оставшиеся на ветках листья. Лавиния думает, что стихи ее умершей сестры тоже не что иное, как пронзенные светом листья. Стоя в саду среди плетей кабачков и тыкв, почти занесенных снегом, она поднимает голову, стараясь, не щуря глаз, разглядеть в лазури белое солнце. Свет ослепляет ее, причиняя неясную боль. Он просверливает отверстие в ее глазу, проникая до самых глубин черепной коробки. По щекам текут слезы, а она даже не смаргивает. Перед глазами начинают танцевать черные точки, их все больше и больше, они увеличиваются в размерах. Они перекрывают все поле зрения, подобно тому как чернильные кляксы, растекаясь, сливаются в одно большое пятно. На какое-то мгновение ей кажется, что она ослепла, — а это значит, что она начнет наконец видеть. Когда она закрывает глаза, эта другая темнота представляется ей свежей водой. Если избыток света ослепляет, что происходит, когда страдаешь от избытка любви? Она возвращается, растягивается на кровати, и кошки тут же ложатся подле нее, свернувшись клубком. Они подходят по одной, грациозной походкой, заваливаются набок и начинают мурлыкать в унисон: Джинжер в подколенных впадинах, Шоколадка, облюбовавшая изгиб плеча, и Перчинка, привалившаяся к пояснице. Ее собственное тело заканчивается там, где начинается их нежная шерстка. Если бы все они встали одновременно, она бы рассыпалась, распалась на осколки и уже не смогла бы подняться. Она бы так и осталась там, груда плоти с вывихнутыми руками и ногами, кукла-марионетка в коробке, которая ждет, когда ее наконец соберут. В самые холодные зимние дни именно кошачье тепло делает из нее единое целое.~
Время от времени Лавиния достает гербарий Эмили из большой картонной папки и начинает его перелистывать, словно настоящую книгу, задерживаясь всегда на одних и тех же страницах, чтобы полюбоваться хрупкой гармонией композиции, тонкими стебельками, окраской, которая уже начинает блекнуть, между тем как абрис цветка как будто проступает четче. Больше всего она очарована белыми цветами. Сестра обладала замечательным даром: в застывшей вечности найти место живому. Когда-то Лавиния завидовала этому дару, которым восхищались все, кого Эмили одаривала своими стихами, письмами или остроумными ответами, быстрыми, словно стрелы. Закрыв и убрав гербарий, она спускается в кухню, по пути берет из холодной комнаты банку, в которой вот уже два десятка лет томится закваска. Добавляет немного воды, ложку муки, перемешивает и вновь выносит банку на холод. Позже она вернется, чтобы приготовить хлеб на завтра. Она ни на секунду не задумывается об этом чуде, равном или даже превосходящем чудо Эмили: ей тоже удается создать живое из мертвых вещей.~
В начале января, захватив стихи, Лавиния отправляется к тому, кого Эмили в письмах называла учителем. Томас Хиггинсон, чуть приподнимаясь, приветствует ее. Писатель, журналист, литературный критик, убежденный борец против рабства, человек во всех смыслах замечательный, к тому же приятной внешности. Его кабинет похож на кабинет отца в доме Эмили: отделанные панелями красного дерева стены, сплошь заставленные книжными шкафами, единственное окно, в котором видно застывшее дерево, словно картина в рамке, монументальный письменный стол, будто извещающий посетителей о величии миссии, которой посвятил себя хозяин. Именно на него Лавиния решительно ставит принесенный с собой саквояж. Кустистые брови Хиггинсона ползут вверх от изумления. Она между тем развязывает ремни, долго возится с узлами, приподнимает клапан. Внутри вперемешку лежат десятки, сотни листков, обрывков оберточной бумаги, куски конвертов, надписанные хорошо ему знакомым почерком. На мгновение у него перехватывает дыхание. — Моя сестра оставила много стихов. — Лавиния приступает прямо к делу. Чтобы вновь начать дышать, ему требуется изрядное усилие, он берет в руки листок, затем еще один, лихорадочно пытается разобрать какие-то слова. Это даже не стихотворение, не совсем стихотворение, какой-то набросок, что-то вроде смутной тени, воспоминания или предвестника стихотворения. На другом листке — одна-единственная стихотворная строка с зачеркнутым посередине словом, а внизу список каких-то терминов, которые вроде бы синонимы, а вроде и нет. После долгих лет знакомства через письма он наконец ощущает, что вошел в комнату Эмили Дикинсон. — Я бы хотела их напечатать, — продолжает Лавиния. Он качает головой, берет очередной обрывок бумаги, читает строчку из семи слов, затем берет другой, на котором целая стихотворная строфа — но действительно ли это строфа, если четыре строки разной длины и не рифмуются? Он овладевает собой. — Мадам… — начинает он, а затем: — Лавиния, я могу называть вас Лавинией? Если ему угодно, пусть называет ее хоть Эсмеральдой, она просто хочет, чтобы он напечатал стихи сестры. Он, который располагает почти магической властью — сделать из них книгу. — Дорогая Лавиния, эти… эти записи не могут быть напечатаны в их… нынешнем состоянии. Впрочем, стихи ли это? (При этих словах он встряхивает обрывок бумаги с тремя строчками, причем последняя почти неразличима.) В любом случае их нужно разобрать, переписать, напечатать, проверить, отредактировать, исправить, и все это требует немало терпения, усидчивости, тщательной кропотливой работы. Вы же осведомлены о моих служебных обязанностях, чтобы довести всю эту работу до конца, потребуются месяцы, а то и годы. Внезапно ему словно что-то приходит в голову, и он начинает размышлять вслух. — …разве что… разве что вы, возможно, найдете кого-нибудь, кто согласится выполнить эту предварительную работу, в таком случае я с удовольствием представлю рукопись издателю. Я знаком со многими, кто по моей рекомендации могут согласиться этим заняться, ведь вам известно, что я пользуюсь определенной репутацией в нашем маленьком книжном мирке… Его улыбка словно опровергает ложную скромность, которая, как отмечает Лавиния, ему идет, как дикобразу цилиндр. Она резко закрывает картонный саквояж, прощается и уходит, унося книгу сестры, состоящую из тысячи отрывков.Вернувшись в Хомстед, она поднимается в комнату Эмили и кладет саквояж на кровать. Она не понимает, что делать дальше, но внезапно ей в голову приходит мысль сделать то, чего она не делала многие годы, — спросить совета у Остина. Из всего семейства Дикинсон остались только они. Эти стихи — дар или гнет — разве не принадлежат ему так же, как и ей?
— А он сам кого-нибудь предложил? — спрашивает Мейбел у Остина несколькими часами спустя, когда брат и сестра уже поговорили. Они шагают рядом на расстоянии метра, как того требуют приличия, но время от времени Остин протягивает руку чуть в сторону и вперед. Мейбел кладет свою крошечную ладонь в его большую руку и тут же забирает обратно, птицу спугнули, и она улетела. — Нет, вряд ли. И знаешь, чтобы как следует выполнить такую работу, идеального исполнителя найти нелегко. — Ты прав, — кивает в ответ Мейбел, впрочем, она всегда с ним соглашается. — И притом нужен кто-то, кто хотя бы немного знал нашу дорогую Эмили… — Именно. — Но просто знать мало. Нужно, чтобы этот человек обладал еще и незаурядным литературным даром. — То-то и оно. — Может быть, какой-нибудь профессор, или издатель, или критик… — Почему бы и нет? — А может, лучше кто-то, у кого, напротив, нет сейчас служебных обязанностей и кто мог бы полностью посвятить себя этой серьезной работе. Тебе не кажется? — Ну да. Именно это он мог бы втолковать Лавинии, если бы тогда было время. Теперь в голове у него прояснилось. В самом деле, если необходимо привести мысли в порядок, нет ничего лучше ходьбы. — Но кто же, кто в Амхерсте мог бы за это взяться? — спрашивает Мейбел. — Да, кто? Мейбел размышляет вслух. — У издателей и профессоров времени не будет, ты прав… Но тогда… может быть… какая-нибудь женщина? Остин вздрагивает, но не произносит ни слова. Их прогулка подходит к концу. Они должны распрощаться до вечера, он вновь постучится в ее дверь, когда Милисента уснет (Дэвид дежурит в обсерватории), так сказать, на десерт, насладиться кусочком неба после ужина, как изящно выразилась она однажды. Если он не сможет сдержаться, то сразу же расцелует ее розовые и нежные, будто персик, щеки, вишневые губы, пахнущие мускатным орехом волосы. — Я не сомневаюсь, что ты найдешь решение, — добавляет Мейбел, всматриваясь в лицо Остина глазами орехового цвета. Порой решение самых запутанных проблем находится прямо у нас под носом. Она стремительно удаляется, через несколько метров оборачивается, уверенная, что он по-прежнему смотрит ей вслед. Так оно и есть.
Остин возвращается в Эвергринс за полночь. Толкает входную дверь и на цыпочках поднимается по лестнице, стараясь не разбудить супругу и детей. Раздевается, умывается, сожалея о том, что вместе с водой смывается аромат любимой женщины, затем проскальзывает под одеяло с книгой. Проходит почти час, прежде чем он гасит лампу. Еще больше времени ему нужно, чтобы пришел сон, он ворочается, силясь отыскать удобное положение, чтобы не затекали ноги. Его раздражает эта история со стихами Эмили, ему кажется, что решение близко, но оно ускользает, стоит к нему приблизиться. Лицо Мейбел, ее тонкий силуэт, задорная улыбка стоят у него перед глазами, мешая сосредоточиться, и он вяло пытается прогнать эти видения, чтобы задуматься над проблемой, которую необходимо решить. Наконец два лица, Эмили и Мейбел, сливаются перед его взором, как две незнакомки, что случайно встречаются в зале ожидания на вокзале, и их столкновение вдруг высекает искру: ну конечно же, стихи Эмили нужно отдать Мейбел.
Когда Лавиния впервые пересекает порог дома Мейбел, она чувствует себя не то чтобы оробевшей, но ей слегка не по себе, ей кажется, будто она проникла в чужое государство, чьи нравы и обычаи ей неведомы. Гостиная, не слишком просторная, обставлена оригинально и со вкусом. Мейбел своими нежными ручками наливает чай, и делает это изящно и грациозно, как и все остальное. Лавиния вертится на шелковом диванном покрывале, расшитом золотыми и красными цветами. — Это вы сами расписали? — спрашивает она у молодой женщины. Когда-то восхищенный Остин рассказывал ей, что Мейбел иногда вручную расписывает материю такими красивыми узорами, будто это ткани из лондонского магазина «Либерти и Ко». Мейбел звонко смеется: — Ну что вы, нет, конечно! Мне потребовалось бы много месяцев! Я довольствуюсь куда более скромными задачами: иногда расписываю платки, шарфы, время от времени рубашки… Лавиния кивает. Чай просто великолепен: горячий, но не обжигающий, слегка пряный на вкус, с цветочным ароматом. Она осматривается: гравюры, безделушки, глобус на вращающейся подставке, в центре комнаты — большой персидский ковер. В застекленном шкафу — разные природные диковинки: черепаший панцирь с яркой окраской, страусиное яйцо, жеода с серой пористой поверхностью и блестящей полостью, а еще странная продолговатая штука с бледной окраской, состоящая, кажется, из десятка тонких колец, разделенных равными промежутками. Мейбел проследила за ее взглядом. — Это скелет змеи, — объясняет она, прежде чем гостья успевает задать вопрос. Лавиния кивает, будто перед ней самая что ни на есть обычная вещь, отпивает еще глоток чая и приступает наконец к делу: — Вы, наверное, знаете, что уже несколько месяцев я собираю стихи Эмили, чтобы можно было издать книгу. Мейбел молча кивает, ее напряженное внима-ние почти осязаемо. — По правде сказать, работа продвигается не так быстро, как мне бы хотелось… Она не решается упомянуть о Сьюзен, это было бы бестактно, к тому же та не смогла помочь: вот уже несколько недель она только и делает, что перебирает и перечитывает листочки, оставленные ей Лавинией, словно Эмили спрятала там какую-то тайну и взять ее можно лишь измором. Мейбел снова кивает. Она уже знает от Остина, что работа не продвигается. Она улыбается Лавинии, побуждая ее продолжать. А та, похоже, и сама не понимает, что пришла просить: то ли совета, то ли помощи, то ли просто мнения со стороны. Лавиния бормочет: — Да, в общем… Я бы хотела… Мы попытались… Мне кажется, что… Не в силах больше сдерживаться, Мейбел ее перебивает: — Ну конечно, Лавиния, я была бы счастлива, счастлива взять на себя работу по подготовке книги к изданию. Итак, дело сделано. Лавинии даже не пришлось задавать вопросы. Ей хочется сделать еще глоток чая, но он уже остыл, и все ароматы рассеялись, такое ощущение, что пьешь прохладную водичку.
Мейбел всегда мечтала написать книгу. Она пробовала себя в жанрах, которым, как правило, отдают предпочтение юные девушки: стишки по случаю, поздравительные письма, небольшие тексты, воспевающие красоты природы, которая, к сожалению, у нее самой не вызывала никаких эмоций, суматоху города она предпочитала убийственному деревенскому покою. Она сочиняла одноактные пьески, куплеты, песенки. Она даже написала несколько рецензий на романы и поэтические сборники, два-три доклада по некоторым философским вопросам, интересующим ее, поскольку позволяли проявить тонкость и изящество ума. Увы! Все эти попытки отнюдь не утолили ее интеллектуального голода. Результат никак не отражал тех талантов, которые она в себе ощущала, но которые иссякали и гасли, стоило ей изложить слова на бумаге. Она не могла подобрать нужный ей инструмент.
Когда она родилась, феи склонились над колыбелью, осыпая ее всевозможными дарами: она получила красивые черты лица, живость ума, сообразительность и находчивость, чистый голос и пальцы, способные живо пробегать по клавишам, любознательность, веру в свои силы, бархатный взгляд, сводящий мужчин с ума, тонкую талию и легкую походку — все, что позволяет блистать в свете и скучать в одиночестве, а еще — дыру в груди, которую нечем было заполнить.
Эмили была звездой, которая горела одна у себя в комнате. Мейбел воспламеняется и гаснет сотню раз на дню, словно свеча, которую зажигают и тут же задувают и от которой нет никакого иного света, кроме отблеска в глазах других. И чем шире взгляд, тем величественней этот отблеск. В письме Дэвиду, посланному за год до свадьбы, она писала: «Ты полагаешь, что я буду довольна собой, когда стану выдающимся музыкантом, или талантливым художником, или блестящей студенткой, изучающей французский, немецкий, латинский или греческий, или астрономом, ботаником, орнитологом, специалистом по мифологии, или доктором филологических наук?» На этот вопрос, содержащиймножество допущений, можно было дать лишь один простой ответ: нет.
Мейбел хочет создать книгу как раз потому, что категорически не соглашается иметь одну-единственную жизнь. Ей необходимо верить, что возможны и другие жизни, сразу несколько одновременно, что нет необходимости делать выбор раз и навсегда, что каждый день и каждый час вновь и вновь дается множество возможностей. Литература для нее противоположна отказу и отречению… Творческое воображение, которое могло потребоваться для написания книги, до сих пор она использовала не по назначению: для пустых мечтаний. Но вот наконец ей дан недостающий инструмент: голос другой женщины, и теперь она сможет опубликовать сборник стихов, несравненный, не имеющий себе равных, абсолютно новый и оригинальный, она станет не его автором, а куда больше: более могущественной, более независимой и свободной — издательницей. Без нее это произведение не смогло бы появиться, клочки бумажек, пахнущие пряностями, так и остались бы валяться в ящиках. А она превратит эти обрывки в книгу — это великое чудо, как превращение воды в вино.
В огромном лесу, где гуляет Милисента, земля покрыта дубовыми листьями минувшей осени, напоминающими порыжевшие листы пергамента. Под землей прячутся сотни желудей: они дремлют и грезят о том, как превратятся в новый, более густой, более просторный лес, трепещущий листьями на высоких ветвях, словно флажками. Все, кроме одного самого маленького и тщедушного желудя, с самой тонкой кожицей карамельного цвета, как у мертворожденных телят, из шкур которых и делают тонкий пергамент. Ему не хочется быть дубом, он мечтает стать тростником. Серебристые листья тополей, пережившие зиму, словно бесшумные монетки, колышутся от ветра. На деревьях растут деньги. Даже лучше, чем деньги: там еще птицы и белки. Сосновые иголки распространяют аромат Рождества, стоит только закрыть глаза и протянуть руку, она сможет сорвать апельсин, утыканный засушенными гвоздиками. Спрятавшись среди опавших сучьев и пожухлой листвы, колонии грибов образуют целые деревни цвета кофе с молоком, там копошится своя жизнь. Гигантская флейта неподалеку притворяется засохшим, но еще не упавшим деревом, утыканным маленькими дырочками, — это поработал дятел. Делать нечего: Милисента всегда оказывается или слишком большой, или слишком маленькой. Солнце прячется среди ветвей, играя с ней в прят-ки. Она подмигивает ему в знак приветствия, и оно в ответ подмигивает тоже. Когда она возвращается домой с веточками в волосах, с заляпанными грязью коленками и в разорванной юбке, мать встречает ее криком: — Боже мой, где ты была? Мы ждали тебя к чаю, отец так волновался! — Я была в лесу. — Каком еще лесу? Милисента указывает пальцем на крошечный лесок на краю участка: три дубка, четыре березы, несколько чахлых сосенок.
~
Вечером, когда начинает темнеть, Дэвид и Милисента выходят во двор, и он говорит ей: — Погляди, расскажи, что ты видишь. Она поднимает глаза к серебристому муравейнику над их головами. — Звезды. Много звезд. И еще планеты. — Хорошо. А Луна? Она поводит глазами направо, налево, потом говорит: — А ее нет. — Ты права, сегодня вечером ее не видно. Эту фазу называют новолунием. Милисента всегда думала, что новая Луна — это такой тоненький рогалик, за появлением которого она любила наблюдать в окно своей комнаты, узкий, как ниточка в огромном небе. — А почему Луну называют новой, если ее вообще не видно? Дэвид никогда не смеется, если она чего-то не знает. Он терпеливо отвечает: — Потому что это начало нового цикла; в течение следующих дней она будет понемногу появляться, сперва четвертинка, затем она станет выпуклой и сделается полной луной, потом, во второй половине месяца, начнет бледнеть и исчезать. Но не тебе одной это название кажется странным, некоторые предпочитают называть ее черной Луной. Сверчки и жабы вокруг выводят свои металлические рулады, они доносятся отовсюду, это второй, земной муравейник. Милисента пытается угадать, где же кочует эта невидимая Луна. — Ты знаешь, что особенного в этой фазе? — снова спрашивает Дэвид. — Нет. — Именно в этот период Луна оказывается между Солнцем и Землей, тогда, и только тогда, случаются солнечные затмения. Отец знает все тайны неба и открывает ей одну за другой, словно буквы огромного алфавита. Вместе они составляют малую медведицу, крылатого коня, дракона, рысь, далекие грозные создания, и Милисента размышляет об этом чуде: как невидимому пепельному камешку удается затмить пылающую звезду. Мгновение — и средь бела дня воцаряется ночь. Возможно, не все потеряно для нее, такой же маленькой и незаметной.Проснувшись, Лавиния спускается в кухню, ставит кипятиться воду для чая, открывает дверь, в которую тут же врываются кошки. Одна за другой они возлагают к ее ногам ночные дары: крошечного лесного мышонка со скрюченными застывшими лапками, будто он пытается натянуть на себя невидимое одеяло, выпавшего из гнезда птенца, у которого сквозь прозрачные веки угадываются выпученные глазки, стрекозу со стеклянными крыльями, длинную сосновую шишку. Затем они гордо, задрав хвост, шествуют к блюдцам с молоком, поставленным на пол специально для них. Она мягко ворчит на то, что они оказались такими ловкими охотниками, но в ее упреках им слышится похвала. После завтрака — который не меняется годами: яйцо всмятку, ломтик хлеба без корки, домашний конфитюр, чашка чая — она заворачивает в носовой платок мышонка, птенца и стрекозу, в глубине сада копает три неглубокие ямки длиной в фут, кладет в каждую бренные останки и присыпает землей. Затем берет три саженца земляники, которые вырастила на кухне из семян, ожидая возможности пересадить, втыкает их в землю рядом с двумя десятками таких же маленьких холмиков — малиной, ежевикой, бузиной. Летом ее кладбище станет фруктовым садом. А осенью будет варенье на зиму.
~
Пришло время пересаживать и другие крошечные жизни, которые спали всю зиму, и вот теперь надо сначала похоронить их, чтобы потом разбудить. Как и в предыдущие годы, она положила семена в землю в середине марта, когда ночи были еще холодными, ей казалось, будто она исполняет некий магический ритуал: как из такого маленького зернышка может вырасти целое растение, стебель, цветы, стручки, плоды, новые зерна? Говорят, Господь Бог сумел накормить пять тысяч человек пятью хлебами и двумя рыбами. Лавиния далеко не всегда постигала тайны Евангелия, но если бы ей дали пять зерен и достаточно времени, она тоже смогла бы насытить пять тысяч голодных. Она заходит в стеклянную теплицу, где сначала мать, а потом и сестра долгие годы выращивали орхидеи, среди выживших цветов она воткнула в землю свои семена. Она попросила служанку заходить сюда не чаще раза в неделю, чтобы поливать и подстригать растения, словно не желая лишний раз тревожить глубокий сон этих созданий. Когда она переступает порог, кошки следуют за ней, они подозрительно втягивают ноздрями воздух, потом обгоняют и, мурлыча, вытягиваются на солнце, волнами льющемся через стеклянные перегородки. Уснувшие цветы такие одинаковые. Необходима огромная сила воображения, чтобы представить, какими роскошными благоухающими созданиями могли они быть и, возможно, опять станут. Сейчас же перед ней торчат тщедушные сучки, такие же сухие, как их деревянные подпорки. Невозможно сказать, какие уже окончательно умерли, а в каких зарождаются новые бутоны. Лавиния никогда ничего не понимала в орхидеях, в розах и лилиях тоже, и вообще во всех этих хилых капризных созданиях, которые выращивала Эмили. Ей же гораздо приятнее стоять на коленях в капустной или тыквенной грядке, среди усов зеленой фасоли, вдыхать одуряющий аромат томатов, погружать пальцы в землю в поисках гроздей молодой картошки, она понимает, зачем нужны растения, которые она может почистить, мелко нарезать, посолить, поперчить и поставить тушить. Этим утром она откладывает в сторону стебли, про которые твердо знает: они больше не расцветут, и бережно поливает другие, она не решается с ними разговаривать, как ее сестра, ведь она не знает их языка. Когда она выходит из теплицы, не сделав ничего особенного, кошки остаются лежать, вытянувшись во весь рост на черных и белых плитках. На следующий день Остин, пришедший ее проведать, бросает взгляд в приоткрытую дверь теплицы. Увидев опустошенное помещение, отданное во власть кошачьих, пустые горшки, растения без цветов, он невольно вздыхает: — Как жалко. Лавиния, не оборачиваясь, отвечает: — Нет, ты же видишь, я выращиваю кошек.~
В земле, которую рыхлит Лавиния, чтобы посадить перцы и томаты, она находит черепки сине-белого фаянса. Она озадаченно останавливается, словно раскопала развалины какого-нибудь легендарного старого города, и вдруг на память приходят воспоминания о том вечере, когда сестра, устав от упреков отца, которому, по его словам, всегда доставалась выщербленная тарелка, молча пошла в сад и там ее разбила. Лавиния даже помнит, что в тот вечер было на ужин — кролик в горчичном соусе, капуста, свекла, картофель, — она словно воочию видит, как Эмили с достоинством возвращается в столовую и никто не решается произнести ни слова. Она ползает на коленях по земле в поисках других осколков, которые аккуратно складывает в платок. В дверь стучит Сьюзен, не дождавшись ответа, обходит дом и видит, как Лавиния ногтями скребет землю. — Боже мой, да что ты делаешь? Лавиния поднимает голову, показывает череп-ки. Сьюзен хмурится, явно хочет о чем-то спросить, но вместо этого опускается рядом на колени, засучивает рукава и тоже принимается рыться в земле, вскрикивая всякий раз, когда ей попадается осколок фарфора. Перерыв все два раза, они возвращаются в дом, моют руки, и Лавиния кладет черепки в миску с чистой водой. С помощью щетки и небольшого кусочка мыла она тщательно их моет и чистит, потом высушивает и один за другим выкладывает на кухонном столе, словно детали мозаики. Некоторые соединяются с соседними черепками прекрасно, другие как будто ни к чему не подходят. — Что это было? — Тарелка. Расставив пальцы, Лавиния изображает в воздухе окружность размером с арбуз. Круглая форма на столе испещрена зияющими дырами. Пазлу не хватает многих кусочков. Из этого можно было бы составить блюдце, даже маленькую миску, но никак не тарелку. Что случилось с другими кусками, может, они разложились за столько лет, земля поглотила их, а может, где-нибудь в дальнем углу сада растет дерево, цветущее маленькими фарфоровыми цветами, белыми и синими? Сьюзен почти отчаивается: — У нас не получится, многих не хватает. Но Лавинию трудно вывести из себя. Она пробует уменьшить окружность, передвигает осколки, пытаясь присоединить их друг к другу. Но они явно не подходят. Наконец останавливается. — Можно было бы склеить вот эту часть, — подсказывает Сьюзен, указывая на полдесятка осколков, которые хоть как-то получается подогнать один к другому. — Все-таки лучше, чем ничего. Но Лавиния сгребает все кусочки, кроме одного, снова складывает их в платок, завязывает его концы и выходит, чтобы похоронить у подножия яблони. Возвратившись, она берет в шкафу тяжелый пестик, которым обычно измельчает специи, и решительно раскалывает на крошечные фрагменты оставшийся на столе черепок. Сьюзен вздрагивает от неожиданности и изумленно на нее смотрит. Лавиния выбирает один кусочек в форме тоненького полумесяца, вкладывает его в медальон, который всегда носит на шее; еще один осколок, слегка напоминающий треугольник, протягивает Сьюзен, затем идет кипятить воду для чая. — Иногда, — произносит она, отмеривая щепотку листьев, чтобы положить в чайник, — прилагаешь столько усилий, чтобы починить какую-нибудь вещь, а проще было бы ее сломать и все.~
Когда Лавиния думает об Эмили, о Гилберте или о кузине Софии, умершей в пятнадцать лет, они видятся ей совсем юными или в расцвете сил, беззаботными, как щенки. Но она знает, что на самом деле все не так, все гораздо лучше, их хрупкая плоть разрушилась, кости стали гладкими, как клавиши рояля, волосы тонкими, как паутинки, их сердце, легкие, белки глаз и розовая мякоть пальцев соединились с землей, они питают нежную траву, они стали ивой, липой, смоковницей, они служат жилищем для птиц, а их длинные протянутые руки достают наконец до звезд.В саду на закате дня светлячки вычерчивают подвижные гирлянды, которые танцуют какое-то мгновение и тут же тают. Лавиния смотрит на них из окна кухни, она не дает выйти кошкам, чтобы те не потревожили фей. Поднимаясь через несколько часов на второй этаж и проходя мимо комнаты Эмили, она видит в приоткрытую дверь, что туда проникла одна-единственная светящаяся мушка и мерцает над подушкой.
Решив, что Милисенте нужны подруги ее возраста, Мейбел пригласила в «Лощину» после обеда двух дочерей миссис Хатчисон, восьми и десяти лет. Они осмотрели комнату Милисенты суровым взглядом. — У тебя не слишком много игрушек, — вынесла вердикт старшая, Констанс. — А кукол вообще нет, — добавила младшая, Фейт. — Одни только книги, — удивленно продолжила первая. Чтобы хоть как-то смягчить их разочарование, Милисента достает из письменного стола калейдоскоп, подарок господина Дикинсона, и протягивает Фейт. — Вот, если посмотреть туда, будет чудо. Малышка прикладывает игрушку к глазу, несколько раз поворачивает трубку, потом передает старшей сестре, которая тоже не проявляет особого интереса. — Ну хотя бы игра пачиси[6] у тебя есть? — спрашивает она. — Нет. — А шашки? — Тоже нет. Сестры недовольно топают ногой. Младшая садится на пол и дуется. Старшая, скрестив руки, сверлит взглядом Милисенту, которая, решив прибегнуть к последнему средству, подходит к книжному шкафу и достает две своих самых любимых книги: словарь и энциклопедию рыб, протягивает сестрам. Это занимает их на несколько минут. Тем временем Милисента погружается в приключенческий роман, такой увлекательный, что вскоре забывает о гостях и даже подскакивает от неожиданности, когда заскучавшая Констанс покашливает. Она бесцеремонно кладет свою книгу на пол и жизнерадостно вопрошает: — Может, лучше поиграем в прятки? — Ой, да! — радостно кричит ее сестра, и Милисенте остается только согласиться. — Чур ты водишь, — приказывает Констанс. Милисента закрывает глаза, прижимает к ушам ладони и медленно начинает обратный счет, от пятидесяти до нуля. Мир перестает существовать, она слышит лишь звук собственного голоса и чувствует, как пульсирует кровь в барабанных перепонках, подобно морю в ракушке. Она намеренно растягивает расстояние между числами, словно не желая добраться до нуля и открыть глаза. Наконец она почти с сожалением возвещает: — Пора не пора, иду со двора! Сначала она смотрит под кроватью — никого. В шкафу — никого. Она даже перебирает одежду на плечиках, желая убедиться, что девочки не спрятались между платьями. За дверью их тоже нет. Между шторами и стеной нет. И тут она замечает в окно двух сестер, которые, смеясь, убегают со всех ног, их юбки облепили колени, а светлые локоны развеваются на ветру. Милисента вздыхает, подбирает с пола оставленную энциклопедию, открывает на странице с буквой «Н»: нарвал, морской единорог, самый одино-кий из единорогов.
Когда, чуть позже, Милисента выходит в лес, который мама упорно называет «маленьким леском», на стволе дерева с ободранной корой она замечает странные линии, похожие на записку на незнакомом языке, маленький лабиринт. Она пытается его разгадать, водя пальцем по линиям, как слепые, когда читают книги со шрифтом, придуманным господином Брайлем. Если бы только она умела лучше читать, десятки разветвляющихся тропинок рассказали бы ей историю дерева и этого леса. Может быть, они научили бы ее разным приемам: как лучше петь, как быть изящной, как заводить друзей не только среди книг, как больше походить на мать.
Мейбел, Лавиния и Хиггинсон встречаются втроем впервые. Лавиния полагала, что, будучи дарителем произведения, сможет высказывать свои пожелания, предложения и предпочтения, но оказалось, она просто выслушивает Хиггинсона, усадившего их с Мейбел по другую сторону массивного письменного стола, за которым обычно священнодействовал. — Разумеется, — сразу сказал он, — там придется кое-что поправить. — Конечно, — соглашается Мейбел. — Что поправить? — уточняет Лавиния. — Ну, например, возьмем эти тире. Очевидно ведь, что их там слишком много. От этого они теряют силу. И затрудняют чтение, мешают движению мысли. Для поэта, который никогда не публиковался, это совершенно естественная причуда, но мы, издатели, должны делать тексты более ясными и понятными… — Простите, — вмешивается Лавиния, — я не специалист в поэзии или в издательском деле… — Вот именно, — подтверждает Хиггинсон. — Я не специалист в этих областях, но я знаю свою сестру. Если бы Эмили хотела стать более ясной и понятной, она бы стала. Фраза получилась какой-то неуклюжей, как будто это сестра, а не ее тексты могла бы стать более понятной. Она не привыкла рассуждать о вещах, которые нельзя потрогать и пощупать, о вещах возвышенных и абстрактных, a fortiori[7] с такими знаменитостями, как господин Томас Хиггинсон. Она беспомощным взглядом окидывает Мейбел, пытаясь найти поддержку. Но молодая женщина сидит прямо, со сложенными на коленях руками и, улыбаясь, не сводит глаз с издателя. Лавиния с трудом продолжает: — Раз Эмили поставила эти тире, значит, они кое-что для нее значили, вы так не думаете? — Прекрасно, — отвечает тот терпеливым тоном, каким обычно разговаривают с маленькими детьми или убогими. И что они, по-вашему, значат? Лавиния застигнута врасплох. — Не знаю, — бормочет она, — но если я не знаю, это не значит, что она тоже не знала. Может… Может быть, это часть языка Эмили. Хиггинсон не может сдержать смеха, Мейбел тоже улыбается, но она, по крайней мере, пытается прикрыть рот рукой в перчатке. — Язык Эмили, вот оно как. Если вы не против, милые дамы, давайте все же попробуем издать эти стихи на английском языке. Лавиния понимает, что все ее возражения напрасны, но она не желает чувствовать себя побежденной. — Я, например, не понимаю, зачем в доме или в сарае все эти балки и подпорки. Но мне не придет в голову мысль выдернуть какую-нибудь из них наугад, вдруг здание обрушится. Хиггинсон перестает смеяться, но тут берет слово Мейбел: — Лавиния, дорогая, речь не о том, чтобы поменять смысл или форму стихов, надо сделать их более разборчивыми и понятными, более правильными с точки зрения грамматики. Просто доверься нам.
Лавиния чувствует себя опустошенной. Ей хотелось бы сказать, что поэзия ее сестры — это нечто противоположное классической грамматике, ее правил не найдешь ни в учебниках, ни в словарях, она — воплощенное несовершенство, она — в пространстве, отделяющем нас от правильного, ожидаемого, «нормального», это поэзия, в которой живет изумление, как в ульях живет мед. Стихи Эмили — это не прямая линия, а лабиринт, полет пчелы, но в то же время они достигают цели, как стрела попадает в мишень, они одновременно и эта стрела, и мишень, и рука, натянувшая тетиву, и воздух, пронзенный стальным наконечником. Она бы хотела все это сказать, но не знает, с чего начать. Она встает, за ней встает Мейбел. Лавиния впервые задумывается: а не лучше было бросить стихи сестры в огонь, он принял бы их такими, какие они есть.
Глядя, как Остин по двадцать раз пережевывает каждый кусочек окорока, прежде чем проглотить, рассматривая его высокий лоб с тремя горизонтальными морщинками, выражающими постоянную озабоченность, Сьюзен пытается и не может узнать в нем того двадцатилетнего юношу, что заставлял ее сердце так сильно биться. Свое волнение в день свадьбы она вспоминает почти с удивлением, как будто эти воспоминания принадлежат не ей, а кому-то другому. Она вспоминает смятение, охватывавшее ее всякий раз, когда она входила в дом Дикинсонов, свои влажные ладони, бабочки в животе. А где-то там, на периферии воспоминаний, словно предмет, не попадающий в поле нашего зрения, но который непременно — мы знаем это наверняка — появится, стоит нам поддаться искушению и повернуть голову, — силуэт Эмили.
Она созерцает свою жизнь, словно после долгого пути поднялась на вершину холма и смотрит на пройденный путь. Она поражена мыслью, которую ей так и не удается четко сформулировать, но которая в последние годы мучит ее все больше: этот путь, однажды выбранный, становится неотвратимым и неизбежным, словно всегда был единственно возможным. И все же в каждый момент нашей жизни нам предлагается десять, двадцать дорог, но нет никакого способа их различить, они все одинаково незнакомы, опасны, непонятны. Что, если бы она вышла замуж не за Остина, а за его друга Натана, врача, который не терял своего сына? Если бы она тогда связала свою судьбу с судьбой Грэма, который уехал из Амхерста в Париж (Париж!), где сейчас преподает литературу и переводит французских поэтов. А если бы вообще не выходила замуж — продолжала бы писать, как Эмили, которая в ней находила талант? Какой Сьюзен стала бы она? Столкнувшись с ней на улице, узнала бы она женщину, которую сейчас видит в зеркале? Она вспоминает загадки-лабиринты в детских журналах, когда, водя пальцем по картинке, пыталась отыскать выход, возвращаясь назад, если попала в тупик. Жизнь не позволяет нам вернуться назад, она заставляет двигаться только вперед — или замереть на месте. Если остановиться, то как скоро перестанешь чувствовать руки и ноги, спрашивает себя Сьюзен, сколько лет понадобится, чтобы превратиться в статую или дерево?
~
Весь вечер она перебирает письма подруги, рассыпав их на столе, чтобы охватить взглядом. Это разложена, рассыпана, развернута сама Эмили. Она разбилась на тысячу осколков. Она одновременно и двадцати-, и тридцати-, и сорокалетняя. В письме, написанном много лет назад, она читает:Собираясь написать книгу «С опасностью для моря», прочитав много материалов и изучив историю известных мест паломничества, однажды я пришла к очевидной мысли: гора Сен-Мишель, Саньяго де Компостела, Лурд или Лизьё — вовсе не конец пути, а середина. Предстоит еще дорога назад — домой или куда-нибудь еще, — хотя есть и другие возможности, такие разные: остаться там и сделаться монахом или так и продолжать идти до конца своих дней. Почему же в своих рассказах, дневниках, прочих свидетельствах паломники говорят лишь о пути туда и ни слова об обратной дороге? Неужто это второе путешествие настолько неинтересно и, коль скоро оно ведет обратно, к давно известному, от него не стоит ждать открытий и чудес, это что-то вроде отречения, отступничества? Возможно ли выбраться из лабиринта, повернув назад? А что, если истинное странствие начинается в первый день возвращения — или в самый последний, когда открываешь свою дверь и ставишь на место чемодан.
Паломничества, леса, книги, наши жизни, столько лабиринтов… В «Маленьком атласе лабиринтов» с подзаголовком «Развлекательное пособие, которое учит исследовать и выбираться из них» можно прочитать следующее: «Если лабиринт — метафора жизни […], „цель“ лабиринта не его центр. Середина жизненного пути, как говорит Данте в первой части „Божественной комедии“ („Ад“), — это момент, когда мы можем заблудиться». Лабиринт, давший повод для такого описания, — это барочный лабиринт дворца Альтесниц в Германии, созданный в 1730 году, его стены образуют двухметровые грабы (он так и называется, «грабовым лабиринтом»). А ведь граб, хотя и является деревом чрезвычайно твердой породы, живет сравнительно недолго, не более сотни лет. За время существования лабиринта сменилось уже четыре поколения грабов, четыре поколения чудес и волшебства[9].
~
Вот тот же самый вопрос о центре и середине, но поставленный в несколько иной форме: в девятнадцатом веке Карл Линней, «отец ботаники», придумал сад-часы, в котором время можно узнавать по цветам. Растения были тщательно подобраны в зависимости от времени дня, когда они открывались и закрывались: ночная красавица раскрывала свои лепестки рано на заре, за ней энотера, потом алая звездчатка, потом одуванчик, и так до самого вечера, пока в пять часов цветок цикория не складывал свою корону, готовясь ко сну. Так, наблюдая за цветами — который из них сейчас распустился, — можно было приблизительно узнать время (по положению солнца над садом тоже, конечно, но речь не об этом). У этих цветов было нечто общее: все они дневные, так что цветочными часами Линнея можно было пользоваться лишь половину суток. А как быть ночью?~
Чем измеряется жизнь? Как ее взвесить или где те небесные весы, о которых говорится в Святом Писании? Что принимается в расчет: рожденные на свет дети, написанные и опубликованные книги? А может, испеченные пироги или связанные носки? Или погубленные, обретенные и спасенные души? Или страны, в которых вы побывали, земли, которые исследовали? Может, вызванные пожары — или, наоборот, потушенные? Написанные, полученные, так и не посланные письма? Несколько выгравированных на обелиске слов? Воспоминания, оставшиеся в памяти живых (но когда эти живые тоже, в свою очередь, попадут в царство мертвых, воспоминания о воспоминаниях исчезнут)? Построенные дома, заработанные, потраченные, пожертвованные деньги? Благие дела, оказанные услуги? Подобранные кошки? Спасенные птенцы? Разбитые и склеенные тарелки? Полученные награды, приколотые медали, занятые должности? Прочитанные, подаренные, придуманные, никогда не опубликованные книги? Выращенные цветы, посаженные деревья, собранные плоды? А что, если бы Лавиния, не довольствуясь сожженными письмами Эмили, предала бы огню и ее стихи? Может ли жизнь измеряться стихами, как александрийский стих измеряется стопами?Милисента спускается на цыпочках, стараясь не привлекать внимания. Она хочет сделать маме сюрприз: сама заплела косички на ночь, аккуратно и старательно вытягивала три прядки волос, как можно туже переплетая их, пока они не стали упругими, крепкими и блестящими, как леденцы, потом выбрала самую красивую ленточку, вплела ее в кончики, чтобы получились тугие сиреневые бантики. Мейбел редко работает допоздна, но через несколько дней ей нужно будет показать господину Хиггинсону первый вариант подборки текстов, она возбуждена и встревожена. Столовая — единственная комната в доме, где по вечерам зажигают лампы. Кажется, будто золотистый свет исходит от стихов, освещая лицо Мейбел, сидящей за столом, заваленным клочками бумаги всех оттенков белого: сливочными, фарфоровыми, алебастровыми, белоснежными, кремовыми, опаловыми, цвета слоновой кости. Некоторые отливают желтым, синим или серым, они самые старые и кажутся такими хрупкими, что вот-вот рассыплются под пальцами. Во всяком случае, Мейбел обращается с ними очень осторожно. Она держит стихотворение перед собой, прищуривается, что-то записывает на отдельном листке бумаги, зачеркивает, снова прищуривается, словно то, что она пытается разобрать, настолько крошечно, что в любой момент может ускользнуть в узенькое оконце. Милисента подходит еще на несколько шагов. — Здравствуй, душа моя, — говорит мать, не поднимая головы и отпивает из чашки — она не садится за работу, не поставив рядом маленький чайник, наполненный почти черным напитком, цветочным, сладким, Милисенте так нравится этот аромат, что она мечтала бы о таких духах. Девочка глубоко вдыхает запах. В столовую входит Дэвид, Мейбел его окликает: — Посмотри сюда. — Она протягивает ему листок, который как раз сейчас переписывает. Он садится. Теперь настал его черед щуриться. Он читает вполголоса, не без труда разбирая почерк:
Этим вечером Милисента в комнате не одна, у нее появилась сообщница. Сначала она придумала ее себе, а затем эта сообщница придумала ее. Милисента перечитывает эти несколько слов, написанных Эмили, и перегородки комнаты начинают падать одна за другой, сначала дверь, потом потолок, приподнятый словно крыша кукольного домика, затем летят вниз стены. В комнату вступает ночь с невидимыми звездами и реками. Достаточно одной фразы, чтобы все сдуло, словно порывом ветра: Нет лучше Фрегата — чем Книга —[12].
~
В школе Милисента изучает алгебру и геометрию. Но папа ей объясняет, что в математике есть и другие вещи. — Ты знала, что числа бесконечны? — спрашивает он. — Как бесконечны? — Да, представь себе, счет никогда не кончается. Возьми любое число, самое большое, какое только знаешь, и ты всегда можешь прибавить к нему еще единицу. Милисента на несколько секунд задумывается, но размышления прерывает Дэвид: — А знаешь, что еще интереснее? — Нет. — Числа бесконечны в обе стороны, от любого самого маленького отрицательного числа ты можешь отнять единицу и никогда не придешь в начало отсчета. Таким образом можно вычитать без конца, всегда остается что-то, отрицательных чисел становится только больше. Милисенте кажется, что это какой-то трюк, но ей не удается объяснить, что именно ее смущает. А Дэвид продолжает: — Есть еще кое-что. Она поднимает на него глаза, наверное, еще какой-нибудь фокус, может, над самым верхом и под самым низом есть и другие бесконечности, вдруг числа закручиваются спиралью или карабкаются по диагонали. — Есть еще кое-что между числами, — говорит Дэвид. — Представляешь, между единицей и двойкой столько же десятичных знаков, сколько между нулем и бесконечностью. Милисента с облегчением вздыхает. Эта третья, самая маленькая бесконечность кажется ей вполне пригодной для жизни.Раз в неделю Лавиния входит в комнату Эмили, чтобы смахнуть воображаемую пыль. За белыми шторами небо кажется еще белее. А что там, за небом? Вооружившись тряпкой и метелкой из перьев, она тщательно протирает навощенные поверхности комода, шкафа и небольшого письменного стола. Этим утром впервые — как она могла не увидеть раньше? — она замечает на краю стола маленькую, размером с полногтя, щербинку, лак сполз, обнажив бледное оголенное дерево, похожее цветом на кожу. Лавиния прикладывает кончик пальца к завитушке на древесине, осторожно скребет ногтем, словно желая разбудить маленькую зверушку. Потом спускается в погреб, где сложены лук, картофель, свекла и грецкие орехи. На ощупь выбирает крупный орех, опять поднимается в кухню и раскалывает серебряными щипцами. В ладони остаются две полусферы очищенного ядра, испещренные глубокими бороздками, словно половинки маленького мозга. Опять поднимается в комнату, становится на колени перед пюпитром, чтобы лучше видеть, и трет древесину орехом. Словно по волшебству, пустота заполняется, бледная впадина окрашивается теплым карамельным цветом, который сливается с лакированной поверхностью стола. Поворачивая голову в разные стороны, то отступая, то приближаясь, Лавиния смотрит на итог своих трудов, что-то подправляет в последний раз и, довольная результатом, съедает оставшийся орех — выбрасывать ничего нельзя, — затем спускается в кухню, где ее дожидается небольшой ящик апельсинов. Даже летом эти фрукты дорогие, найти их непросто, зато цедры одного-единственного апельсина хватит на восемь банок клюквенного желе, она придаст ему особый аромат. Очищенный апельсин хранится недолго, его лучше съесть в тот же день. Обычно люди тщательно разделяют его на дольки и медленно смакуют, чтобы продлить удовольствие. А Лавиния предпочитает вгрызаться в целый апельсин, как если бы она кусала яблоко: сок течет по подбородку, по пальцам, она еще долго будет пахнуть апельсином.
~
Когда она выходит в город, с ней пытаются поболтать, узнать новости, обменяться сплетнями. Но она твердо осаживает кумушек: — Мне сейчас некогда, нужно кое к кому сходить. Она направляется к кладбищу. На могиле Эмили оставляет две банки клюквенного желе, с которых предусмотрительно снимает крышки, чтобы пчелы могли попировать вволю. В мае, июне и июле могила сестры будет самой яркой, самой золотистой, самой сладкой на кладбище. Потом она останавливается у могилы Софии, чтобы немного подумать. Вдалеке, почти на границе видимости, различает три маленьких призрака, которые прыскают со смеху, увидев, как согнули ее годы, и убегают, подскакивая на одной ножке, теряясь среди могильных камней. Она только что встретилась со своим детством. И в этот самый момент ее озаряет мысль: они, эти призраки, живут не в доме, не на кладбище, они обитают в ней, и она берет их с собой повсюду, куда идет сама. И она, и все мы — набор матрешек: фантомы, воспоминания, ушедшие от нас люди, живые и мертвые одновременно, рискующие в любой момент вспыхнуть.~
Когда тоска по сестре становится невыносимой, Лавиния берет пузырек, пипетку, капает две-три капли горького ликера на кусочек сахара и знает, что во сне они будут вместе. Сейчас Эмили еще более воздушна и прозрачна, чем при жизни. У нее по-прежнему плавный невесомый шаг, будто она парит в нескольких дюймах над землей. Эмили скользит до платяного шкафа, открывает обе дверцы. Там висят семь пылающе-ярких платьев, по одному на каждый день недели: желтое, оранжевое, малиновое, алое, темно-фиолетовое, фисташковое, бирюзовое. Она берет последнее, мгновенно натягивает. Она прекрасна, словно птица с ярким оперением.— Нужно убрать заглавные буквы, — говорит Хиггинсон Мейбел, знакомясь с подборкой текстов. — Что значит «убрать»? — Их здесь слишком много. А ведь поначалу она с маниакальной тщательностью переписала стихи Эмили в точности так, как они были задуманы автором, сохранив все тире и заглавные буквы, но сделала и второй вариант, более удобный для чтения. От тире почти ничего не осталось (она даже злится на себя немного за то, что тогда, когда это еще было возможно, не встала на сторону Лавинии), но ей кажется, что заглавные буквы очень важны. Она пытается быть дипломатом: — Разумеется, я переписала все в точности как раз для того, чтобы мы вместе могли все обсудить и выработать правила, которым будем следовать. Я как раз ожидала услышать ваше мнение. — Прекрасно. Итак, правила таковы: в английском языке заглавные буквы предназначены для имен собственных, местоимения I, а также начальных слов фразы или стихотворной строки. Мейбел ожидает продолжения, но его нет. Она наугад берет со стола листок и читает вслух:
— А где мадемуазель Эмили? — после ухода издателя спрашивает Милисента, глядя в окно на Хомстед. Родители переглядываются. Отец мягко отвечает: — Она умерла год назад, душа моя. Конечно, ты ее не помнишь, ведь ты никогда ее не видела. — Я знаю, что она умерла, я хотела спросить: где она сейчас? — Она на небе, — говорит мама. — На небе? — После смерти хорошие люди попадают в рай, а плохие в ад на веки вечные. — А кто это решает? — Решает наш Господь с Его бесконечной мудростью. Милисента задумывается. Господа она тоже никогда не видела. Может, Он тоже, как и мадемуазель Эмили, не очень любит выходить из дома. — А я хорошая или плохая? — Ты хорошая, душа моя, конечно, хорошая. Как я, как твой папа. — А плохие люди знают, что попадут в ад? — Трудно сказать, ну, то есть… наверное, знают. Мейбел бросает отчаянный взгляд на Дэвида. Теология никогда не была ее сильной стороной, она не думала, что когда-нибудь придется в нее углубляться. Она растеряна. — Потому что если они знают, — продолжает Милисента с беспощадной логикой своих девяти лет, — или сами решили туда отправиться, значит, никакое это не наказание, а если они не могут удержаться, чтобы не стать плохими, почему Господь их за это наказывает? Родители вновь переглядываются. Дэвид решается ответить: — Некоторые уверены, что после смерти нет ни рая, ни ада. Что человек просто засыпает и больше не просыпается. Что ты об этом думаешь? Милисента силится представить себе сон, который длится вечность. Отец продолжает: — А есть народы, которые считают, что можно вернуться на землю много раз, что у человека несколько жизней. — Правда? Мейбел цокает языком, намекая, что ей не нравится, куда повернулся разговор. Но любопытство пересиливает, к тому же ей хочется контролировать беседу. — А можно выбрать, кем вернуться? — спрашивает Милисента. — Не знаю, — признается Дэвид. — А если было бы можно, кем бы ты хотела стать? Кошкой? Китом? — А можно было бы еще раз стать твоей дочкой? — Думаю, что да. Впервые за все это время Милисента как будто успокаивается. — А кем бы вернулась мадемуазель Эмили, как ты считаешь? — спрашивает она. — Трудно сказать, душа моя, я не очень хорошо ее знал. Может, чайкой? Говорят, она любила белый цвет и птиц. Девочка задумывается на мгновение, потом показывает на разбросанные по столу листки: — Может, ей и не нужно было бы возвращаться. Может, она еще здесь.
Что живет на небе
Птицы Стрекозы Облака Летучие мыши Звезды Луна Мадемуазель Эмили
На одном из первых писем, посланных Эмили Сьюзен более тридцати лет назад, дрожащим пером выведено: Open me carefully[14]. В маленькой, погруженной в полумрак гостиной Сьюзен мечтательно проводит пальцем по бумаге, изумляется, что ее зернистая поверхность так похожа на кожу. В эту ночь из писем Эмили выпархивает пятнадцати- шестнадцати- двадцатилетняя девушка, солнечная, легкая, живая как вода. Но это лицо — не лицо Эмили, это Сьюзен, в которую написанные несколько десятилетий назад слова сейчас вновь вдыхают жизнь. Сквозь эти строчки Сьюзен видит всех тех Сьюзен, кому еще предстоит воплотиться, среди которых она сама еще не сделала выбор; она вновь обретает всех тех, кого оставила позади, а сама остается пустой, как скорлупа ракушки. Они встают одна за другой, целая армия женщин, юные и зрелые, они идут тем самым шагом, который издавна был ее собственным и ритм которого она давно уже не соизмеряет с ритмом других. Их уже не остановить. Сьюзен встает последней, подходит к окну, отодвигает штору. Небо темно-синее, солнце еще не взошло. Ничего, она подождет, рассвет все равно наступит. У нее впереди вся жизнь.
Однажды в дверь Хомстеда стучится сезонный рабочий. Он предлагает подготовить к будущим посевам оставшееся под паром поле, а еще подлатать крышу сарая и вообще готов взяться за любые работы, которые Лавиния может ему предложить. Взамен он просит всего ничего: ночлег, поесть два раза в день и один доллар в неделю. Он носит шляпу с широкими полями, почти скрывающими глаза, ноулыбка у него искренняя и открытая, да и нехорошо оставлять землю неиспользованной.
Холден, так его зовут, спит в сарае со своей собакой, рыжей длинношерстой сукой. В его волосах, светлых, как пшеница, запутались былинки соломы. Лавиния видится с ним только в полдень, когда приносит ему сразу и обед, и ужин, обернутые чистым кухонным полотенцем. Простые блюда, которые не портятся в тепле: сэндвичи, маринованные овощи, ломтики ветчины и яйца вкрутую на стружках льда, и еще каждый день по два яблока: на день и на вечер. Как для лошади, невольно думает она.
~
В полдень она вытягивается во весь рост на кровати сестры, упирается пятками в матрас, скрещивает руки на груди и закрывает глаза. В доме тихо. Она задерживает дыхание. Тридцать секунд. Минута. Перчинка внимательно следит за нею, с опаской обнюхивает тело, переставшее дышать. Не открывая глаз, Лавиния поворачивает голову к окну, и веки ее заливает ярко-красный, потом алый, потом пылающе-коралловый — самый яркий цвет, который она когда-либо видела, с открытыми или закрытыми глазами. Это пожар, и она не знает, откуда этот огонь: то ли от солнца, то ли из сердца, которое вот-вот разорвется.~
Это сезон абрикосов, маленьких, плотных, бархатистых фруктов с ароматной плотью, благоухающей медом и белыми цветами. Лавиния осторожно разрезает абрикос, откладывает кусочки в сторону, припудривает сахаром, затем выкладывает на стол косточки. Маленьким деревянным молоточком разбивает твердый орех, достав ядро, эту тайную сердцевину плода, бросает его на минуту в кипящую воду и затем очищает, обнажая белоснежную плоть. Потом она растолчет эти обнаженные ядра, своей консистенцией похожие на каштаны, и добавит их в абрикосовый пирог — абрикосы, мед, ваниль, пару столовых ложек рома. Несколько лет назад, участвуя в кондитерском конкурсе на городской ярмарке, за этот пирог она получила первый приз. Из ледника она берет тесто, заранее поставленное охлаждаться, месит его очень осторожно, чтобы не растаяло масло, переносит в специальную форму и ставит в печь, чтобы оно пропеклось до полуготовности, предварительно насыпав в него сухого зеленого горошка, который специально для этой цели хранила более десяти лет, и он приобрел красновато-коричневый с золотистым отливом цвет. Как только корочка чуть-чуть схватилась, она добавляет начинку, которая льется сверху ярким оранжевым каскадом. У нее осталось немного теста, чтобы сплести и положить сверху несколько тонких косичек. Лавиния обмазывает все смесью яиц и молока и вновь ставит в духовку. Когда три четверти часа спустя она вынимает готовый абрикосовый пирог, то вдруг осознает, что не может проглотить ни кусочка. Отнести в Эвергринс? Но Сьюзен не ест пироги, а Остина никогда нет дома. Лавиния отрезает кусок этого никому не нужного пирога, кладет на тарелку и направляется к сараю. Луч света просачивается под дверью, которую она молча толкает. Он сидит там рядом с конем Гектором, опершись спиной о стену, вытянув вперед ноги; собака, свернувшись клубком, лежит рядом. Он читает книгу, которую Лавиния тут же узнает, и то, что он так погружен в уитменовские «Листья травы», наполняет ее необъяснимым волнением. Она два раза стучит в приоткрытую створку двери, ставит тарелку с пирогом на землю и поворачивается, собираясь уйти до того, как он успеет подняться. — Постойте! — бросает он ей в спину, но Лавиния не оборачивается. И потом: — Спасибо! Свет, заливающий поле, пока она идет к дому, такой же золотистый и плотный, как ее абрикосовая карамель; солнце — зрелый плод.Мейбел скрупулезно делает записи о каждом дне своего существования, для этого у нее есть два блокнота, которые она ведет очень аккуратно: ежедневник и дневник. В первом она отмечает погоду, сделанные за день дела, гостей и походы в гости, прочитанные книги, увиденные выставки, осуществленные путешествия; во втором она записывает мысли и переживания, подробно анализирует свои жалобы и надежды, исследует движения души и сердца. Именно здесь она дрожащей рукой делает пометки fm или # всякий раз, когда у нее случается интимная близость с Дэвидом или Остином, значком «тире» отмечает, когда удается достичь оргазма, этого «преддверия рая», как ей нравится говорить и тому и другому. Этот рай отныне существует в двух экземплярах: когда ей случается обрести его в объятиях законного мужа или любовника, и потом, когда он запечатлен на бумаге неким свидетелем, с которым Мейбел не расстается. Без этой невидимой публики она и сама не верит в реальность своей жизни. Руководствуясь, естественно, самыми возвышенными мотивами, она не может отрешиться от своей сущности рачительной хозяйки: бесконечно считает и пересчитывает эти значки, как скупец сладострастно перебирает золотые монеты — свое богатство. Порой она даже думает, что знаки на бумаге ей дороже, чем чувства, которые они запечатлевают: чувство длится мгновение, а эти знаки — вечны. Переворачивая страницу дневника, она с огромным удовольствием рассматривает этих маленьких мертвецов. Из всех коллекций именно эта доставляет ей самую большую радость.
~
Среди ночи она вдруг просыпается в поту, резко отбрасывает перину. Рядом с ней негромко похрапывает Дэвид, он переворачивается и тянет на себя одеяло. Это чувство смятения будит ее по ночам несколько раз в неделю, такое неотложное, чему нет названия и объяснения, часы, что бьются у нее в груди и требуют ответить: что она станет делать со своей жизнью перед ее концом? Другие женщины готовы рожать детей, пока слышат это тиканье, но ей вполне достаточно Милисенты, бывают даже моменты, когда — да простит ее Бог — она пытается представить, какой была бы ее жизнь без дочери. Может, тогда она решилась бы убежать с Остином, у нее была бы совсем другая, новая жизнь рядом с ним, вдали от всех? Но не это терзает ее. По ночам ее будит мысль о том, что она так и не создала творения, достойного этого названия, и вообще ничего, что переживет ее, ничего, о чем будут вспоминать после ее смерти. У стихов Эмили впереди вечность, а про нее, Мейбел, ничего подобного сказать нельзя, и это не дает ей покоя. Несколько дней тому назад она вдруг заметила, что родилась в тот самый год, когда вступили в брак Остин и Сьюзен. Думая об этом, она не может отделаться от тягостного ощущения, что по возрасту могла быть их дочерью. Она ворочается в своей влажной постели, наконец встает и подходит к окну. На улице непроглядная тьма, она с трудом различает силуэт Эвергринс, где Остин спит сейчас рядом с женой. Мейбел чувствует озноб, и вдруг теплая рука ложится ей на плечо. Она и не слышала, как встал Дэвид. Прижимает к себе ее тело в тонкой ночной сорочке, она поворачивается, они обнимаются, Дэвид берет ее на руки и относит в постель, кладет ладони на ее бедра. И на несколько минут она забывает о своих ненаписанных книгах.Когда она назавтра просыпается, у нее болит голова. А еще тянет внизу живота, и она застывает от страха: неужели после десяти лет покоя она, несмотря на все меры предосторожности, снова беременна? В эту минуту она хочет быть сухой травой[15].
— Вот это что такое? — Крапива. — А зачем она? — Помогает от ревматизма. — О… Две женщины стоят перед застекленным кухонным шкафом, в котором Лавиния в одинаковых стеклянных банках хранит сушеные цветы и листья. Немало дам в городе полагают, что они куда более действенны, чем выписанные аптекарем лекарства. Она невероятно гордится этой, собранной за многие годы, коллекцией и охотно раздает свои средства всем, кто просит. — А это? — спрашивает Мейбел, показывая на другую банку, наполненную сухими листьями и бутонами серо-желтых цветов. — Это смесь мелиссы и ромашки. — А как ее используют? — Заваривают перед сном, она помогает уснуть. — Понятно. Мейбел продолжает разглядывать банки с дремлющими в них чаями и настойками, словно пытается прочесть названия книг в странном книжном шкафу. — А это? Лавиния начинает терять терпение. — Солодка и анис. У вас бывают судороги? — Нет. — Тогда вам это не нужно. — А это… Лавиния не дает ей закончить вопрос: — Если вы мне скажете, что вам конкретно нужно, это будет проще. Мейбел, обычно такая самоуверенная и дерзкая, чувствует, как к щекам приливает кровь. Не решаясь взглянуть на ту, которую считает своей золовкой, осознавая при этом, что взаимности не дождется, она наконец выдыхает: — Мне нужно что-то такое… Что гарантировало бы… Вы же знаете, я обожаю свою дочь. Разумеется, я ее обожаю. Но мне бы не хотелось… В общем, не хотелось бы, чтобы… — Вы не хотите другого ребенка. — Вот именно. Если вы знаете какое-либо средство, прошу вас, скажите мне. Она не решается упомянуть Остина, но обе женщины чувствуют его незримое присутствие на этой кухне. — Конечно, я знаю надежное средство, — отвечает Лавиния. Мейбел ждет, не отрывая глаз от ее губ. — Все очень просто: не спите с мужчиной.
На столе лежат стопки отобранных стихотворений, переписанных с вороха листочков, которые осталось разложить и привести в порядок. Милисента выбирает именно отсюда, из еще не разобранных стихов, она берет один листок, стараясь не смотреть, чтó там написано, чтобы сохранить тайну. Порой все же какие-то слова бросаются в глаза — perhaps, heaven, daffodil[16] — но чаще всего, закрыв глаза, она подносит листок к лицу и нюхает с таким наслаждением, с каким вдыхает аромат маминых духов, заточенных во флаконе. Сегодняшнее стихотворение источает запах корицы. Она аккуратно вкладывает его между другими, пахнущими мукой, сахаром, мускатным орехом. Поскольку Мейбел никогда не имела склонности к кулинарии, Милисента выпекает пирог впервые.
Потом она направляет калейдоскоп на клочок бумаги со стихами Эмили. Появляется белая звезда с шестью ровными лучами, это снежинка. Милисента медленно поворачивает калейдоскоп, и начинают проявляться какие-то очень тонкие линии, половинки букв, четвертинки музыкальных значков, разбросанные в беспорядке тире, которые вместе образуют новый алфавит. Стихотворение написано на придуманном языке, который без конца меняется под ее пальцами, этот язык каждый раз новый, но при этом совсем не чужой.
~
Порой в лесу она теряет интерес к деревьям-гигантам, подпирающим ветвями небо, и во весь рост растягивается на земле, высматривая земляных червячков, жуков, муравьев — это ее любимцы. Отыскав муравейник, она устраивается рядом и внимательно наблюдает за перемещениями рабочих муравьишек, которые ползут туда-сюда, вытягиваясь черной, блестящей на солнце лентой. Некоторые несут обрывки листьев, другие — дохлых насекомых, зернышки, кусочки грибов. Муравьи один за другим исчезают в какой-то щели в земле, и тут же другие появляются в отверстии рядом. Другие? Или это те же самые так и ходят по замкнутому кругу? — задается вопросом Милисента. Но тогда сколько всего насекомых может поместиться в муравейнике? интересно, это бесконечное число? сколько новых муравьев появляется каждую секунду? они все такие же разные, как снежинки в туче? На низкую ветку уселась птица и разглядывает Милисенту. Она похожа на вырезанного из белой бумаги голубя. Девочка осторожно подходит, стараясь не вспугнуть птицу, а та вовсе не боится, не шевелясь, рассматривает гостью. Милисента смотрит на трепещущий от легкого ветра пушок, похожий на мелкий снег. У птицы красные лапы и клюв, черный блестящий глаз, обрамленный тонким колечком такого же розового цвета, как веки у девочки. Оперение без единого пятнышка. Два создания стоят, соединившись взглядами, как мостом, и вот птица расправляет крылья и взлетает. И частица Милисенты, ее тайная, безмолвная частица исчезает вслед за ней. Эта частица умеет летать. За проведенные в неподвижности часы она в совершенстве овладела мастерством видеть и ощущать важные мелочи: шелест листьев, что выдает присутствие полосатого бурундука, почти незаметную в дупле дуба уснувшую сову, мерцающий в высокой траве золотистый бутон, пепельно-серую гусеницу, качающуюся, как маятник, между небом и землей. И уже вернувшись домой — это сильнее ее, — Милисента продолжает видеть то, что ускользает от взглядов других: стопку счетов на кухонном столе, маленькую дырочку на обоях в столовой, вспыхнувшие щеки матери, когда она слышит имя мистера Дикинсона.~
Как-то утром Милисенте приходит в голову мысль сделать книгу с цветами. Она отбирает их в лесу с особой тщательностью. И в саду, и на клумбах миссис Хансель, куда она пробирается, когда соседка выходит из дома. Милисента возвращается с полной сумкой растений и начинает их раскладывать между страницами энциклопедии. Она терпеливо отсчитывает дни и недели, наконец достает их, засушенные, похожие на фигурки с зазубренными краями. Потом расклеивает их пучками или подбирая по семействам, как в настоящих гербариях, которые она просматривала. Но если там пылают желтые, розовые, сиреневые создания, то на страницах гербария Милисенты распускаются только белые цветы — космеи, ромашки, немезии. Ведь только они похожи на снежинки.Несколько месяцев назад мы купили участок земли размером с небольшой лесок на склоне горы в Контон-де-Д’Эст[17]. Сейчас там нет ничего: какие-то остовы старых машин пятидесятых-шестидесятых годов, покрытые мхом развалины каменных стен, положенных вручную, скорее всего, когда-то там отстаивали воду, собранную из нескольких ручьев (всего на участке их четыре). До начала сороковых годов эти земли возделывали; однажды ночью постройки фермы сгорели и так и не были восстановлены, с тех пор земля заброшена. Среди заполонившего участок леса — два десятка одичавших яблоневых деревьев с искривленными ветками. Чуть дальше остатки каменных построек, вероятно, это был дом. С плоскогорья — того, где находится сад, — через просветы деревьев виднеется синяя гладь озера Бром, чуть дальше — горы. Сейчас здесь нет никакого жилища, ни одной деревни, ни дорог, ни электрических проводов. Сейчас — это 1890 год.
~
Издавна считалось, что слово forêt (лес) имеет далекие германские корни, оно происходит от fоrist, что означает «ель», а его, в свою очередь, можно привязать к римскому форуму (forum), но все же, скорее всего, это слово происходит от латинского foris, что означает «снаружи, вне». В сказках лес — это полное опасностей место, в котором теряются ведомые любопытством дети. Понятие «лес» противоположно понятию «дом».Фамилия моего отца, полученная им при рождении, — искаженное Forestier. Forestis — то, что находится «вне», буквально «за пределами огороженного места». А в итальянском слово forestiero означает также «иностранец», «человек, пришедший из другого места или живущий в другом месте», во всяком случае, нечто вроде дикаря. А слово дикарь (sauvage) берет свое начало, если можно так выразиться, от другой формы леса, «сельвы» (sylva). Дикарь — это тот, кто живет в лесу, лесник (forestier) — тот, кто живет в дикости.
~
Некоторые деревья мечтают стать кораблем, сабо, колыбелью, домом, качелями, марионеткой, флейтой, роялем. Из деревьев можно делать все — даже книги. Библиотеки — тоже леса. Открыть книгу — значит оказаться «вне» (вне меня, вне окружающего мира) и в то же самое время ближе всего к людям и их тайнам, благодаря чуду этого иного мира, вымышленного или спасенного из тенет времени.~
Дерево, падающее в лесу в одиночестве, падает молча. Но что происходит, когда кто-то падает в лесу, а услышать его некому? Он ранен? А потом поднимется? Он мертв? Как бы то ни было, единственно верный вопрос, который никогда никто не задает, звучит так: что происходит, когда не дерево, а целые леса, немые леса, падают внутри нас самих? Когда огромные пласты нашей жизни обрушиваются, исчезают, отмирают, а на поверхности ничего — ни вскрика, ни ряби. Может, они роют такую глубокую яму, что она в конце концов поглотит нас, как черные дыры всасывают все, что оказывается в их досягаемости, подпитывая свое небытие даже светом звезд?То, что не умирает
Океаны Страны Огонь Леса Звезды Книги
Однажды утром, когда Сьюзен просыпается, мертвые не притягивают ее к земле, а медленно встают на ноги вместе с ней. Она выводит их на прогулку. Она стучит в дверь Лавинии, которая открывает ей с удивленным видом, переминаясь с ноги на ногу, размышляя, стоит ли впускать нежданную гостью. Но Сьюзен сразу переходит к делу: — Я передумала. — Да? Лавиния вытирает руки о фартук. О чем это она? Может, невестка решила развестись с Остином? — Дай мне эти стихи, я подготовлю книгу Эмили. — А… Она накручивает на палец край передника. — Дело в том, — начинает Лавиния, — что я доверила их человеку очень квалифицированному, который очень хорошо знал нашу Эмили, ведь мистер Хиггинсон, как ты знаешь, издатель очень известный, он пришел в восторг и очень хочет их издать… Она замолчала, вдруг осознав, что все эти многочисленные «очень» нисколько не делают ее речь более убедительной. Впрочем, не так уж она и не права: Хиггинсон и в самом деле тщательно работает над текстами, вот только эти тексты сейчас находятся вовсе не в его руках. Похоже, Сьюзен догадывается: золовка что-то от нее скрывает. Она пытается узнать правду по выражению ее лица, но Лавиния опускает глаза. — Может, чаю? — спрашивает она. — Нет. Сьюзен не из тех, кто считает, будто чай — лекарство от всего на свете. Пусть ей предложат чашку опиума, чашку цикуты, чашку кокаина. Она уходит. — Сьюзен, дорогая, ты получишь первый экземпляр! — кричит Лавиния, обращаясь к сгорбленной спине невестки.
~
После обеда Лавиния отправляется к Тоддам, не то чтобы ее привлекает общество Мейбел, но ей хочется выпить чаю со своей сестрой, а другого способа нет. Она берет одно стихотворение, потом другое, Эмили говорит о рае, который вовсе не такой, каким его представляет Лавиния. Рай Эмили — маленький городок ярко-рубинового цвета, с пуховыми крышами, где жители, полупрозрачные, как бабочки-пяденицы, носят имена-пушинки[18]. Какое-то мгновение Лавиния сама живет в этом городке, и у нее тоже пушистое оперение.Мейбел пользуется моментом, чтобы показать, как продвигается работа; Лавиния склоняется над столом, где лежат рядом рукописи и переписанные стихи. — А это что? — спрашивает она, показывая на три длинные перечеркнутые горизонтальные черточки. — Это те самые лишние тире, о которых говорил господин Хиггинсон. Вот именно эти я предлагаю убрать. Лавиния осторожно кивает. В книгах их используют в диалогах, когда в разговор вступает другой собеседник. Стихи сестры усеяны этими тире, возможно, потому, что она ждала, когда ей что-нибудь ответят? Она так и не решается сказать Мейбел, что за этими длинными тире ей слышится дыхание мертвой сестры.
~
Пора ужинать, и тут Лавиния вспоминает, что забыла попросить у Холдена починить разорванную уздечку. Она идет к сараю, на поле наклонно падает свет, тень бежит впереди. Когда она приходит, он как раз моется, вода струится по спине, гладкой, как кусок шелковой ткани. По бокам болтаются лямки комбинезона. У него мокрые волосы и поднятые, как у статуи, руки. Лавиния уходит, не решившись его окликнуть. Но почему-то и назавтра она забыла напомнить ему про разорванную уздечку. Ей ничего не остается, как на исходе дня снова отправиться к сараю. Он моется, как и накануне, вода струится по спине, ей кажется, что повторяется один и тот же день, а может, ей просто снится день предыдущий. Но дальше происходит то, чего прежде никогда не было: она подходит, наклоняется, берет губку, лежащую возле ведра с мыльной водой, и осторожно проводит ею по плечу Холдена, как если бы она дотрагивалась до ребенка или животного, боясь спугнуть. Он медленно поворачивается. Он не удивлен, увидев ее здесь. Лавиния сама увлекает его вглубь сарая, сама расстегивает ему брюки и помогает справиться со всеми своими одежками, укутывающими ее, как луковая шелуха: юбка, еще одна, нижняя, юбка, чулки, рубашка, корсет, панталоны. Огрубевшие растрескавшиеся мозолистые руки с трудом справляются с кружавчиками и бретельками, которых на женском белье не меньше, чем репья на кошачьей шерсти. Потом, когда они лежат на соломенном тюфяке, застланном шерстяной подстилкой, она его спрашивает: — Сколько тебе лет? — Тридцать четыре. Когда он в свою очередь задаст ей тот же вопрос, она солжет. Или нет, все же ответит правду: ведь как раз в этот самый момент ей тоже тридцать четыре.~
Она снова придет к нему перед восходом, проскользнет в сарай при первых лучах солнца, ляжет рядом и разбудит поцелуем в затылок. Он, еще не проснувшись, выпростает руку и притянет ее к себе. Они вместе через щели в досках сарая следят за наступлением дня, каждое утро — и первое, и последнее. Лавиния никогда не знает, возвратится ли назавтра, более того: перед тем как отправиться к нему, она не уверена, была ли там накануне. Эти молчаливые встречи протекают вне времени, в другой жизни, которая не принадлежит ни ей, ни ему, где они могут жить только вместе, как если бы у каждого имелась лишь половинка ключа от замка. Лавиния представляет, что покидает большой дом, где дремлют призраки, и идет спать сюда, на этот золотистый соломенный тюфяк, вместе с Холденом и собакой, куда-то бегущей во сне.Проходят дни, а она не задает других вопросов. Ей известно его имя, нежность губ, что еще о нем нужно знать? Но его уже удивляет это отсутствие любопытства. — Лавиния, ты у меня никогда ничего не спрашиваешь ни откуда я, ни как долго собираюсь здесь оставаться, ни куда пойду потом, есть ли у меня братья и сестры… — Да, это так. Молчание. Поскольку она больше ничего не говорит, он продолжает: — Если люди хотят друг друга лучше узнать, они ведь задают такие вопросы? — Я не знаю, что люди делают обычно. Что по-твоему я должна у тебя спрашивать? Она чувствует, как он пожимает в ответ плечами. Тогда она вздыхает и продолжает: — Ну хорошо, ты откуда? — Из Спрингфилда, это Огайо. Снова молчание. Что можно сказать человеку, приехавшему из Спрингфилда, из Огайо? Тогда он спрашивает сам: — А ты откуда? Она указывает рукой на большой, ванильного оттенка дом и на деревушку за ним. — Ты родилась в Амхерсте? — В этом самом доме. И нигде больше не жила. — Он, наверное, слишком большой, чтобы жить там одной? Он задал этот вопрос простодушно и без умысла, не собираясь напрашиваться на приглашение. И все же она задета за живое. — Я не одна, — отвечает она чуть суше, чем ей самой бы хотелось. Она сдерживается, чтобы не добавить: «Со мной кошки», что сразу же поставило бы ее в смешное положение, чего ей хотелось бы сейчас меньше всего на свете. Они оба встают, берут свои вещи и начинают одеваться. — О, я думал… — начинает Холден и не знает, как закончить фразу. Ему, наверное, сказали о смерти Эмили. — Да, вот так вот, — говорит Лавиния. — Прости, что не спрашиваю, сколько ты здесь пробудешь и есть ли у тебя братья и сестры. Она злится на свои слова, за что она хочет его наказать? Она уходит, не обернувшись, погружаясь в наступающий вечер и стрекот первых цикад, навязчивый, резкий, оставляющий у нее во рту какой-то металлический привкус. Конечно же, она не одна в этом огромном доме: едва Лавиния толкает дверь, ее встречают все призраки: отец, мать, Эмили, этот дом навсегда принадлежит им, они сидят за столом в гостиной, спускаются по лестнице, много раз в день она вновь видит, как они живут и умирают.
Всю ночь она ворочается в постели, сбивая простыни, словно отбрасывая руки, пытающиеся ее обнять. На следующий день, готовя завтрак, она без конца повторяет: «Думаю, тебе пора уходить», чтобы в нужный момент произнести фразу уверенным голосом. Это она и делает, ставя возле двери сарая поднос с едой Холдену. А потом, словно уже сожалея о сказанном, добавляет: — Ты можешь, конечно, остаться еще на несколько дней, пока не найдешь, куда идти. Если хочешь, оставайся до конца недели.
Он ушел уже к вечеру, но недалеко. На следующей неделе, внезапно заметив его силуэт в поле Жоржины Вилсон, она вынуждена остановиться, чувствуя, как забилось сердце. Под послеполуденным солнцем он напоминает ей силуэт с картины какого-то француза, очень красивой и светлой, которую она видела всего один раз: человек, стоящий среди поля пшеницы, но ей казалось, что не фигура мужчины была в картине главной, а омывающий ее золотистый свет, вернее, единение света и человека. Но она ничего не понимала в живописи, вот Эмили могла бы, по крайней мере, назвать имя художника, и, вероятно, оказалось бы, что Лавиния ошиблась и сюжетом картины было небо над людьми или тень, расстилающаяся у их ног. Холден не видит, как она остановилась на дороге, и продолжает работать. У него медленные, мощные, размеренные движения. Лавиния чувствует, как к горлу подступают рыдания, и торопится уйти. На товарном складе она узнает, что он живет в комнате, которую Жоржина сдает обычно за несколько долларов в неделю, и теперь катается словно сыр в масле, квартирная хозяйка по утрам приносит ему завтрак, как в гостинице. Лавиния молча качает головой, расплачивается за муку и уходит. Она делает большой крюк, чтобы не проходить мимо поля, но все напрасно, она по-прежнему видит его, образ остался где-то на сетчатке глаза, а может, и глубже.
Милисента кладет на свой письменный стол стихотворение, украденное у матери накануне: пять строчек, восемь зачеркиваний. Первое слово она переписывает один, два, три раза, потом зачеркивает точно так же, как мадемуазель Эмили, пытаясь воспроизвести не только очертания, оттиск, оставшийся на бумаге, но и восстановить жест, выводящий эти линии: его можно распознать по тому, как утончаются или утолщаются буквы, как слегка дрожит перо, как собираются чернила на кончике в тот момент, когда Эмили останавливает движение руки, следя взглядом за полетом пчелы. Ей кажется, будто этот жест дает ей возможность разбежаться, набрать дыхание. Она переходит ко второму слову, затем к третьему. Проходит полчаса, а она всего лишь на середине второй строчки. Ну и пускай. Зато эти полторы строки — идеальны. На сегодняшний день это ее самое великое произведение, возможно, до конца жизни она не создаст ничего столь же прекрасного. Для нее дело чести макать перо в чернильницу не чаще мадемуазель Эмили, задерживать дыхание, как и она, раз уж невозможно согласовать биения их сердец. Вскоре она сама себе бросит вызов, изобретая новые цепочки слов, начиная с самых простых, но которые Эмили никогда не употребляла: zebra (это слово ей особенно нравится из-за начальной буквы z), canopea[19], Peru. Потом, совершенно естественно, она станет сплетать эти слова одно с другим, как сплетает в венок стебли цветов. И все это она, левша, делает правой рукой, чтобы не сомневаться: никогда, будь то от лени или по рассеянности, она не вернется к обычной каллиграфии, чтобы преодолеть или обойти препятствие. В десять лет она заново учится писать.
~
В своей комнате Милисента благоговейно упражняется в игре на скрипке по полчаса в день, как ей было велено, извлекая визгливые звуки, напоминающие скрип несмазанных ворот. Когда она достигла возраста, в котором маленьких девочек обычно начинают учить музыке, мама для порядка предоставила ей выбор: — На каком инструменте тебе хотелось бы играть, душа моя? В центре гостиной издавна на почетном месте стоял рояль. Мейбел садилась за инструмент по крайней мере на час в день, чтобы размять пальцы, и охотно играла, стоило какому-нибудь гостю переступить порог дома; кроме того, она играла, если просили — а просили ее обязательно, — на приемах, куда была приглашена. Это являлось важным пунктом в списке ее достоинств. Когда настало время отвечать, Милисенте показалось, что рояль смотрит на них с Мейбел десятками своих белых глаз. Она сделала глубокий вдох и объявила: — Мне бы хотелось играть на скрипке, если можно. — Что? Мейбел было подумала, что это шутка, но Милисента никогда не шутила. — Я бы хотела играть на скрипке, — повторила девочка. — Но… но я не умею играть на скрипке! — воскликнула Мейбел, — я не смогу тебе ничего показать. Мелисента с самым невинным видом опустила глаза, внимательно рассматривая свои ботинки — бежевые, чуть потертые на носках, с шестнадцатью дырочками для шнурков (восемь справа и восемь слева) на каждой ноге. — Мне кажется, превосходная мысль, — вмешался Дэвид и на следующий день заказал маленькую скрипку.Прибывший вскоре инструмент оказался восхитительного янтарного цвета. А дерево было таким гладким, что Милисенте казалось, будто ничего более нежного она никогда в жизни не касалась. Ее преподаватель, молодой человек по имени Джордж, живший неподалеку, приходил давать уроки раз в неделю. Мейбел открывала дверь, и он, казалось, забывал, зачем пришел, болтая с нею о последних концертах в городе, об опере, которую давали в Бостоне или Нью-Йорке, о своей безумной мечте сделаться солистом. Она слушала его, слегка наклонив голову, с улыбкой на губах, словно этот совершенно посредственный юноша был самым обаятельным человеком, какого она только встречала в жизни. Наконец он с сожалением отрывался от матери и отправлялся на второй этаж объяснять заурядной девочке в белом платьице, как правильно ставить мизинец на квинту, чтобы добиться чистой ноты соль.
~
Если бы Милисенту спросили, что она больше всего любит, она бы ответила: книги, рыб, луну, отца, возможно, именно в таком порядке. И наверное, упрекнула бы себя за то, что не назвала Мейбел.Ближе к вечеру Лавиния останавливается возле сарая, приоткрывает дверь, осторожно заходит, втягивая ноздрями запах скошенного сена. Оборачивается, словно желая убедиться, что никто за ней не следит. Внезапно она замечает, что на соломен-ной подстилке что-то блестит. Наклоняется и среди золотистых стеблей видит серебряный медальон с профилем Богородицы. Иголка в стоге сена. Лавиния вертит в руках это дешевое, ничем не примечательное украшение, каких производят сотнями, если не тысячами. Она так сильно сжимает медальон в руке, что в кожу впечатывается его форма: розовый овал на ладони, словно свежий рубец. Поначалу она собирается вложить медальон в конверт и отправить по почте, но ноги сами несут ее к дому Жоржины Вилсон, которая весьма удивлена появлению соседки. — Лавиния! Какая неожиданность! Так редко получается тебя видеть. Ты на благотворительную ярмарку? — Нет, я ищу Холдена. Я тут кое-что нашла, вот, пришла ему вернуть. — Сейчас схожу за ним. — Не стоит беспокоиться, я сама поднимусь. — Не думаю, что это удобно, — отвечает Жоржина, посмеиваясь: они обе давно уже вышли из того возраста, когда добродетель может кого-то беспокоить. Лавиния поднимается по лестнице, на каждой ступеньке задавая себе вопрос, что же она делает, но с каждой ступенькой внутренний голос звучит все глуше. Она осторожно стучит в дверь, он открывает и молча на нее смотрит. Он кажется выше, чем в воспоминаниях, более загорелый и еще более светловолосый. — Я нашла в соломе медальон, — говорит Лавиния. Холден протягивает раскрытую ладонь, и она вкладывает в нее лик Мадонны. Он благодарит ее кивком головы и осторожно прикрывает дверь. И тут Лавиния слышит свой голос: — Может, зайдете выпить чаю?
~
В центре маленького круглого стола на кухне она поставила букет фиалок, набросила на шею новый кружевной воротничок, с особенной тщательностью причесалась, кончиком указательного пальца нанесла в ямочку между ключицами немного ванили. Она впервые приглашает в дом молодого человека и робеет так, будто ему предстоит сейчас шокировать родителей, терпеть шуточки Остина, вынести строгий экзамен Эмили. Как будто время пошло вспять, если так будет и дальше, она вновь станет маленькой восьмилетней Лавинией с косами «корзиночкой», с выпавшим передним зубом. Холден тоже принес фиалки, и она кое-как засунула их в маленькую вазу вместе со своими, получился эдакий растрепанный сиреневый шар. Они неловко садятся, она отмеряет нужное количество чайных листьев, наливает горячей воды, предлагает молоко, сахар, они пьют маленькими аккуратными глотками. По крайней мере, лимонный кекс получился замечательным. Лавиния откашливается и спрашивает: — Скажи, откуда ты приехал? Долго собираешься оставаться в Амхерсте? У тебя есть братья и сестры? И потом: — Холден — это имя или фамилия?Хотя Остин и Мейбел соседи, они пишут друг другу по десять-двадцать писем в неделю, эти письма возводят между двумя домами прочный бумажный мост, который Сьюзен мечтает предать огню. Письма необходимы Мейбел, как воздух и вода. Если бы не они, она, вероятно, переставала бы верить в любовь Остина, стоило тому только скрыться из вида. Эти десять, сто, тысяча листочков в ее руках и есть ее любовник. Сидя после обеда в кресле парикмахера, она наспех записывает слова, которые прошепчет ему вечером, когда они увидятся: Мой дорогой, любимый — мой король — мой властелин — мой нежный супруг, и ей доставляет удовольствие представить, как его рука выводит в ответ: Моя дорогая и любимая, моя королева, моя владычица, моя нежная супруга… Ей нужны обе эти любови, любовь законного супруга и любовника. Они дополняют друг друга, они необходимы одна другой, они дарят ей пьянящее ощущение жизни и вовлеченности в другую жизнь, более того: она рада, что ей не суждено замкнуться в одной-единственной жизни. Она не призналась бы в этом ни Дэвиду, ни Остину, но порой ловит себя на мысли: жаль, что ее любовник не видит, как она прекрасна в объятиях мужа.
Запрокинув голову, Дэвид смотрит в небо. Он мог бы с закрытыми глазами назвать звезды, образующие знакомые фигуры, Большую и Малую Медведицы, Возничий, Волопас. Этим вечером самый яркий свет исходит не от Венеры, а из окна красного дома, куда вошла Мейбел, а за ней через несколько минут мистер Дикинсон, — он их видел. Его урок в колледже в последнюю минуту отменили, домой он не торопился и все равно пришел слишком рано. Он стоит перед собственным домом, словно гость, которого выставили за дверь. Ему известно о визитах Остина к Мейбел, о его подарках супруге, о письмах, которыми они постоянно обмениваются, хотя каждый день находят повод повидаться. Это не доставляет ему удовольствия. Конечно, будь его воля, он бы что-нибудь предпринял. Но это делает Мейбел счастливой, а она так прекрасна, когда улыбается, что он не решается ее бранить.
~
Каждый вечер при свете свечи Дэвид разыгрывает для дочери представление китайского театра теней, где птицы превращаются в слонов, а те, в свою очередь, в пальмы, а потом пальмы, став кроликами, вприпрыжку убегают. Она смотрит на стену зачарованная магией, которую отец порождает буквально из ничего: свет и его десять пальцев. Однажды после спектакля он загадывает ей загадку: — Представь, ты можешь меня увидеть глазами или почуять носом, но не можешь дотронуться. У меня одного в этом мире нет тени. Так кто же я? Надолго задумавшись, она пытается догадаться: — Другая тень? Он смеется. — Хорошая попытка. Но разве ты можешь почуять тень? Раздосадованная, она вынуждена признать, что нет. Делает еще одну попытку: — Стрелка на часах? — Нет. Опять молчание и новая попытка: — Море? — Нет, но ты уже ближе, чем тебе кажется. Подумай до завтрашнего вечера. Если до той поры не догадаешься, я тебе покажу. Она сразу же засыпает, в ее снах летают все: слоны, легкие, словно перышки, голуби и все эти существа, не обладающие плотью, только тенью. Весь следующий день она подстерегает собственную тень, словно желая захватить ее врасплох, заставить открыть свою тайну. Но тщетно. Молчаливая тень стелется возле ее ног и только в полдень совсем исчезает. Вечером, когда отец снова задает ей эту же загадку, Милисента признается: «сдаюсь». Дэвид достает из кармана спичечный коробок, чиркает спичкой, но не зажигает свечу, источник света, а говорит дочери: — Посмотри на стену. Она оборачивается. При свете луны тень свечи четко вырисовывается на стене, виден даже чуть изогнутый кончик фитиля. — Она погашена или зажжена? — спрашивает Дэвид. — Погашена. — Обернись. Фитиль свечи горит желтым, оранжевым, почти живым огнем. Милисента снова поворачивается к стене и не видит никакого пламени. — Это огонь, — шепчет она. — У огня нет тени. Она зачарованно смотрит на это маленькое пламя, у которого двойное предназначение: порождать свет и поглощать темноту. Вечером, засыпая, она находит еще один ответ на папин вопрос: у стихов мадемуазель Эмили тоже нет тени. Эти стихи — сами белые тени, это тексты, вытканные из тишины между словами, дом, состоящий из одних окон.~
Сидя за небесным столом, Эмили, София и Гилберт складывают и разрезают листочки белой бумаги. Они делают это очень аккуратно, берут по одному листу, складывают, потом еще и еще, затем надрезают ножницами, и каждый раз получается что-то новое: звезда, цветок, колючка, и, когда лист разворачивают, эти фигурки повторятся один к одному шесть раз. Закончив, они тут же отпускают свои творения, и маленькие бумажные создания улетают, уносимые ветром. Прислонив голову к окну, Милисента видит, как падает снежинка, потом еще одна, крошечная и неторопливая. В журнале «Нэшнл географик» она как-то прочитала, что у шотландцев есть сотни слов для обозначения снега. Большая снежинка — это skelf, мелкий снег, только начинающий падать, называется sneesl, снежные вихри именуются feefle, про сухой снег они говорят snaw-pouther, а слово flindkirin обозначает мягкий снег. Чтобы назвать то, что спускается сегодня с неба легкой взвихрившейся пудрой, пришлось бы как следует подумать, каждая снежная буря — единственная в своем роде, как и каждая снежинка, и для всех нужно будет придумать новое слово, не использующееся больше нигде. Милисента мечтает поймать их, чтобы сделать гербарий, в нем будет столько страниц, сколько часов в жизни, настоящая снежная книга.Снег не белый, теперь она это видит. Не белее света, льющегося со звезд, снежинки слишком далеко, чтобы можно было различить их цвета. Может быть, снег слишком близко? Вещи оказываются совсем не там, где их ждут, а может, это она не там, где ей нужно быть. Когда наступает вечер и тени удлиняются, снег становится синим, как небо. А утром он отсвечивает розовым от рассветных облаков, так переливаются тысячи перламутровых пластинок на одной-единственной устрице. Она не знает, что делать со всеми этими знаниями: мир — это устрица.
~
На следующий вечер, когда мама работает при свете лампы, нетерпеливая, раздраженная тем, что ничего не получается, Милисента подходит к столу. Мейбел ее не прогоняет, она слишком занята, пытается понять четыре строчки, которые никак не поддаются разбору. Она измученно вздыхает и призывает на помощь Дэвида, показывает ему клочок бумаги, но он тоже не может разгадать эти стран-ные знаки. Он толкует по-своему, она по-своему, они спорят. Милисенте даже не нужно подходить слишком близко, буквы сами бросаются в глаза, долгие часы наблюдений за муравьями научили ее разбирать любые каракули. Она громко, без запинки читает текст, как будто он напечатан четким крупным шрифтом.~
Вернувшись к себе в комнату, Милисента достает из ящика стола ножницы, берет листок бумаги, складывает его вдвое, втрое, вчетверо и начинает вырезать треугольники, половинки сердечек, четвертинки звезд, фигуры, не имеющие названий, которые потом, когда лист будет развернут, опознать невозможно. Она берет еще один листок, делает вторую снежинку, такую же уникальную, как и первая. Затем с каким-то мстительным удовольствием вырывает страницу из тетради по сольфеджио, надрезает, стараясь, чтобы между нотами было больше пробелов. Потом из-под матраса, где хранятся украденные у матери стихотворения, достает одно, и его обрезки дождем падают к ее ногам, образуя другие стихи, крошечные, недолговечные. Она сама стала калейдоскопом.~
В своей тетрадке она записывает разговоры, происходившие лишь во сне, слишком робкая, она не решается заговорить с теми немногочисленными людьми, которых уважает и которыми восхищается. А потом на новой странице, украшенной заголовком «Мои лучшие подруги», круглым решительным почерком выводит: Мадемуазель Эмили.Заметив в окне, как кружатся первые в этом году снежинки, Сьюзен спускается, открывает дверь и в простом домашнем платье выходит во двор, укрытый белым покрывалом. Солнце зашло совсем недавно, и все омыто синеватой тенью. В ветвях шелестит ветер, по щекам хлещет снег, скользит по шее, налипает на волосы, лицо, но ей все равно, она поднимает голову к небу и — вот уже снова молода: молодая супруга, молодая мать, молодая подруга — раскидывает руки, чтобы обнять бурю или, отдавшись ей, улететь. Мокрая одежда липнет к телу, Сьюзен вроде бы должна дрожать от холода, но она совсем его не чувствует. Так и стоит одна в этом вихре, словно в бесконечном сне. Эдвард замечает ее вокно и зовет сестру. Они оба выбегают, хватают ее и тащат в дом, но Сьюзен удерживает их, крепко прижимая к себе обоих. Ей трудно дышать, но не боль сдавливает грудь, а внезапно нахлынувшая острая благодарность за то, что среди снежного вихря ее двое детей живы.
Я долгое время жалела, что живу не в XIX веке, который казался мне театральной декорацией бытия, лишенного тысячи ненужных обязательств, загромождающих наше нынешнее, слишком суетное существование. Мне казалось, я с бешеной скоростью вращаюсь на сломанной карусели, не в силах замедлить ее бег. Вот почему уже в первых своих книгах я искала множество способов остановить время: два года провела на леднике в компании потерпевших кораблекрушение моряков, сотню раз проделывала одну и ту же прогулку и пыталась описать ее сотней разных способов, рассматривала Соединенные Штаты со столь далекого расстояния, что они начинали походить на пестрое стеганое одеяло, по двадцать-тридцать минут в день останавливалась поразмышлять, держа в руках салат-латук, картофелину и безвременник, пыталась охватить взором тысячелетие, пронесшееся над горой Сен-Мишель, в каждом дне старалась отыскать мгновение, застывшее, как муха в янтаре, наконец, рассуждала о жизни поэтессы, закрывшейся в своей комнате, способной представить всю прерию, глядя на единственный цветок клевера или на одну-единственную пчелу. В марте 2020 года мое желание осуществилось, все оказались заперты дома и не могли никуда выйти, разве что в магазин за продуктами или в аптеку за лекарствами. Все остальное (бутики, рестораны, спортивные клубы и даже целые заводы и школы) оказалось закрыто. Оставалось лишь читать, вязать, готовить еду, совершать одинокие прогулки неподалеку от дома. Смотреть, как меняется свет, и наблюдать за неуловимым движением фиолетовых теней на снегу, как смотрят на луну, что перемещается по небу: миллиметр — безграничное пространство. В течение нескольких недель все мы жили, как Эмили Дикинсон.
~
В этот момент, находясь по разным сторонам океана, мы с моей французской издательницей завершали работу над «Городами на бумаге», которые должны были выйти в издательстве «Грассе». Мы с ней никогда не встречались, мы не виделись и до сих пор, уже после того, как закончили эту книгу. Она была заперта в маленькой парижской квартире, а я не решалась ей сказать, что здесь, в Утрмоне, каждое утро могу выйти из дома, вскарабкаться с собакой на Королевскую гору, смотреть на пустынный город, раскинувшийся у моих ног, на небо, по которому больше не летали самолеты. Этим утром, оказавшись на вершине после долгого восхождения по обледеневшему снегу, я увидела белое солнце. Не было слышно ни звука, лишь отдаленный глухой шум города внизу. Обитаемая тишина, какую, должно быть, слышат ангелы, когда, устав от неба, прислушиваются к земле.В горах синевато-белый снег сверкал тысячами крошечных блестящих осколков, похожих на алмазную пыль. Когда морякам Жака Картье[21] показалось, что на горе мыса Кап Диаман (Алмазный мыс) они нашли золото и драгоценные камни, на самом деле они увидели не кварц и не железный колчедан, а этот снег, где каждая снежинка блестела, словно упавшая с неба звезда. В эти дни, глядя на крыши, колокольни, дымящиеся трубы застывшего города, я чувствовала такую свободу и такое одиночество, что мне было трудно дышать.
~
Когда-то, подсчитывая, к примеру, количество жителей в деревне или городке, вместо слова дом (maison) употребляли слово очаг (feu). Нетрудно понять почему: дом — это и есть прежде всего очаг, сколько труб, столько и жилищ. Это же слово feu означает умерший, мы говорим: «Он угас». А ведь эти два feu — разного происхождения: первое ведет начало от латинского focus, что, собственно, и означает «огонь, очаг, печь», а второе — от fatum (судьба, участь), то есть человек умер — его судьба свершилась. Но я все равно чувствую невидимую связь между этими двумя feu, что-то вроде последней, прощальной вспышки того, кто покидает эту землю, словно сгоревшее дерево искрами поднимается к небу.~
Когда я писала эти страницы, скончался мой отец. Глагол совершенного вида — так говорят о событии определенном, свершившемся, единичном, например: он заболел, он переехал, он отправился в путешествие, то есть событие, ограниченное во времени, с четко обозначенным началом и концом. А здесь не так: отец умирал почти все то время, пока я писала книгу, вот только он закончил раньше меня.Сидя напротив друг друга за обеденным столом в гостиной, Остин и Лавиния молчат. Она поставила между ними тарелку овсяного и песочного печенья, вазочку с малиновыми меренгами, как будто принимала гостей. Вот только в этом доме, где прошли ранние годы его жизни, он чувствует себя даже не гостем — посторонним. Когда он перестал быть своим в этих стенах? — спрашивает он себя, беря ради приличия печенье. Может быть, этот дом перестал его признавать после смерти Эмили? Словно прочитав его мысли, Лавиния спрашивает: — Почему Сьюзен захотела, чтобы мы собрались здесь, а не у вас? Он пожимает плечами. Как знать, почему вообще Сьюзен делает то или это? Уже давным-давно он перестал даже пытаться ее понять. Когда она негромко стучит в дверь, оба поднимаются, чтобы открыть, они рады, что нужно хоть что-то делать. У Сьюзен в руках большой ящик, заполненный каким-то хламом. Остин хочет взять его, но она отказывается, отстраняет его плечом и ставит свою ношу на стол, рядом с печеньем. — Что это ты принесла? — спрашивает Лавиния, пытаясь придать тону игривую интонацию. — Надеюсь, ты не собираешься переезжать? Ни Остин, ни Сьюзен не улыбаются шутке, и Лавиния прикусывает губу, догадываясь, что они уже обсуждали это между собой. — Садись, — предлагает она, но гостья продолжает стоять. — Я тут подумала о сборнике стихов Эмили, который ты сейчас составляешь, — начинает Сьюзен, обращаясь к золовке, между тем как Остин с преувеличенным вниманием рассматривает изюминку в печенье. Лавиния понимает, что он так и не счел нужным сообщить жене имя еще одного человека, которому было поручено составление сборника. Как давит молчание, нависшее над этими людьми. — Чаю? — предлагает она и, не дожидаясь ответа, наполняет чашку. — Я тут подумала, — продолжает Сьюзен, — мне кажется, это не очень хорошая идея. — Что? — Ну, надо не так. — Сахар? — Вы не хуже меня знаете, что Эмили писала не только стихи, но и десятки, сотни писем, вот их-то она никогда не хотела скрывать. Остин, у тебя они тоже сохранились. Я не выбросила ни одного, их столько накопилось за эти десятилетия, они ужасно забавные, они блестящие. А еще ее гербарий можно было бы выставить в Музее естественной истории. Она всю юность собирала цветки клевера с четырьмя лепестками, засушивала жасмин, шиповник. И потом знала, как найти сокровища, о которых никто даже не подозревал. Дрожащими руками она достает из ящика все то, о чем только что говорила: стопки писем, картонки с приклеенными на них засушенными цветами и образцами растений, названия которых выведены внизу листа заостренным почерком Эмили. Сьюзен перелистывает страницы, и цветы на них таинственным образом кажутся живыми. — Это тоже поэзия. Это всё — Эмили. Она продолжает доставать из ящика песочный доллар, отполированную водой гальку, птичье гнездо, серый, испещренный белыми полосками камешек, словно фокусник, вынимающий из шляпы цепочку шейных платков. — Вот это все нужно вставить в книгу, а не только стихи, которые были тайной. Вы же не можете делать книгу о луне, показывая лишь ее обратную сторону. На столе, угрожая печенью и меренгам, растет груда бумаги и предметов. Лавиния и Остин смотрят друг на друга в надежде, что говорить придется кому-нибудь другому. — Но послушай, Сьюзен, как ты себе это представляешь? Как все это поместить в книгу? — спрашивает наконец Остин тем тихим спокойным голосом, каким обычно обращается к подчиненным и какой совершенно не выносит его супруга. — Если все это может поместиться в ящик, значит, может поместиться и в книгу, — замечает она. Лавиния понимает, что большинство вещей, которые можно отыскать в ящиках, не имеют никакого отношения к книгам: чулки, нижнее белье, насекомые, свечные огарки, но, если подумать, не так уж идея Сьюзен и нелепа, вот только браться за нее уже слишком поздно. Но она не может отказать себе в удовольствии представить солидный письменный стол Хиггинсона заваленным гроздьями сирени, птичьими гнездами и отполированными камешками. — Ну ладно, — говорит Остин, — Лавиния обязательно подумает об этом, правда? — Разумеется. — Эмили здесь, — настаивает Сьюзен, — а не только в стихах. Она указывает пальцем на пустой ящик, откуда, неловко хлопая короткими тусклыми крылышками, в поисках света вылетает моль.
Не выпив и глотка чая, Сьюзен аккуратно собирает в ящик бумаги и предметы, поворачивается, собираясь уйти, но останавливается на пороге, чтобы сказать мужу и золовке, не глядя ни на него, ни на нее: — Обещайте мне, что имя этой женщины не появится на книге Эмили. — Садись, прошу тебя, надо поговорить, — настаивает Лавиния. — Нет. Она как будто решила, что стулья — ее личные враги. — Сделано уже столько работы, — бормочет Лавиния, которой явно не по себе, — и потом, лучше обсудить все это с господином Хиггинсоном… Обе они одного роста, но когда Сьюзен выпрямляется, чтобы ответить, она кажется выше: — Прекрасно, я подожду, пока ты с ним все обговоришь. Она произносит это безапелляционным тоном. За ней вся боль мира и достоинство той, которая отказалась садиться.
~
Через два дня в кабинете Хиггинсона Лавиния просит: — Дорогой господин Хиггинсон, вы должны мне пообещать, что имя Мейбел в книге не появится. Он удивлен, хотя нельзя сказать, что неприятно: ему и так кажется, что в этой книге слишком много имен. — Это деликатный вопрос, дорогая моя, вероятно, следовало бы обсудить его раньше, но обещаю, что со своей стороны сделаю все возможное.Уже на следующий день он приглашает к себе Мейбел и без обиняков приступает к делу. — Дорогая мадам Тодд, упомянуть о вашем сотрудничестве на обложке книги не представляется возможным. Мы весьма ценим ваш вклад в эту работу, можете не сомневаться, но в данном случае не достаточно ли одного-единственного имени автора? Она бледнеет: от ярости, разочарования, унижения. — Но ваше имя в книге будет, ведь так? — Да, но вы же понимаете, это совсем другое дело. Увидев его, знающие люди сразу поймут, что это серьезная публикация, что была проделана основательная редакторская работа. Мое имя — своего рода поручительство, знак качества. А что даст ваше? — Эта книга в той же степени моя, что и ваша, что и Эмили. Я не позволю, чтобы меня отодвинули в тень. — Никто не собирается отодвигать вас в тень. Просто свет должен быть направлен не на вас. Говоря это, он мягко подталкивает ее к двери.
Тем же вечером Мейбел рассказывает Остину об этой вопиющей несправедливости. Он, который ненавидит конфликты в любых проявлениях, пытается всех примирить, чтобы и волки были сыты, и овцы целы. — Но, в сущности, так ли для тебя важно имя на обложке? И ты, и я, мы прекрасно понимаем, какой важный вклад ты внесла. Разве этого недостаточно? Зачем тебе, чтобы об этом знали другие? — Потому что не все могут быть Эмили Дикинсон. Остин хочет прижать ее к себе и успокоить, но вместо того, чтобы убаюкать свой страх в его объятиях, Мейбел вырывается и идет, чуть пошатываясь, стараясь обрести равновесие и держаться абсолютно прямо, словно шагает по проволоке.
~
Круг замкнулся, мы снова в гостиной Хомстеда с Остином и Лавинией, эти двое столько раз говорили друг с другом в присутствии других, но давно не оказывались вдвоем. В последний раз они были вместе в этой комнате после похорон Эмили. Чтобы их соединить, нужна смерть. — Мы же не можем просто убрать ее имя, — настаивает Остин. — Ты ведь знаешь, она столько работала все эти месяцы… Я уж не говорю про несчастного Дэвида, который сидел с ней целыми вечерами и разбирал рукописи, пока Хиггинсон спокойно пописывал статьи… — Ты в первый раз так беспокоишься об этом несчастном Дэвиде, — замечает Лавиния, чтобы выиграть время. Как бы то ни было, Остин прав: недооценивать работу Мейбел было бы непорядочно. Но и Сьюзен права, когда не желает видеть, что имя Мейбел навсегда связано с именем лучшей подруги, словно покойная тоже предала ее. Обдумывая эту проблему, она не спит несколько ночей подряд, пока вдруг не приходит обезоруживающе простое решение.Самый первый тираж книги, вышедшей 12 ноября 1890 года, будет ограничен десятью экземплярами: пять Лавиния оставит себе, пять отдаст Сьюзен. На остальных пятистах будет напечатано имя Мейбел, но Сьюзен об этом не узнает или сделает вид, что не узнает. Это будет не так уж и трудно: она привыкла ко лжи.
Отныне Сьюзен старается выходить из дома каждый день, хотя и без всякого удовольствия. Чаще всего она просто десять раз обходит сад, как узники, которые ходят по кругу в тюремном дворе, не покидая его пределов. Сегодня на низком небе висят тяжелые облака, а над улицами и полями стелется мелкая туманная взвесь, но она впервые доходит до маленького леса, отделяющего ее владения от поместья Тодд. Между деревьями вдалеке она замечает маленькую белую тень, которая тут же скрывается за пеленой тумана. Ее сердце прыгает и мечется в грудной клетке. Какой из двух призраков решил ее навестить? Осторожно, стараясь не спугнуть видение, она идет к нему. Маленький фантом вновь появляется на мгновение и опять исчезает между березами. На этот раз Сьюзен успела разглядеть колокольчик юбки, длинные темные волосы. Эмили. Она подносит руку к груди и закрывает глаза. Когда открывает их, перед ней стоит девочка и разглядывает ее большими темными глазами. Вид у нее обеспокоенный. — С вами все в порядке? — спрашивает она. У нее в волосах веточки, передник и колени намокли, а на башмаках налипла грязь. — Да, спасибо. Что ты здесь делаешь? — Я прихожу сюда почти каждый день. Это волшебный лес. — Понятно. Как тебя зовут? — Милисента. Теперь у нее сжимается сердце. Конечно же, она дочь той самой женщины. Почему это ей раньше не пришло в голову? А девочка внимательно и серьезно продолжает ее рассматривать. Потом в свою очередь спрашивает: — А вас как зовут? — Сьюзен. И добавляет: — Может быть, ты любишь горячий шоколад? Они медленно идут вдвоем к дому Эвергринс. Милисента, которая все замечает, обращает внимание Сьюзен на рощицу в форме медведя, облако такого же серо-голубого цвета, как сойка, идеально круглый блестящий камешек, который она тут же сует в карман, чтобы потом присоединить к своим сокровищам. В пустом доме Сьюзен ведет ее в гостиную, велит принести шоколад. Мокрые чулки и передник развешивает на каминной решетке, а потом они садятся за низкий столик напротив друг друга. Свернувшись калачиком на бархатном кресле, Милисента говорит: — Я никогда не была в этом доме, хотя вижу его каждый день. — Да, правда. Ну и что ты думаешь об этой комнате? Милисента разглядывает дорогие ковры, мраморный камин, рояль, портреты в резных золоченых рамках, большую хрустальную люстру и отвечает, глядя Сьюзен прямо в глаза, так что та даже не понимает, о комнате ли она говорит или о ней самой: — Мне кажется, она немножко грустная. Сьюзен даже не отрицает. Она пододвигает к малышке чашку с шоколадом, продолжая расспрашивать ее: — Что ты хочешь делать, когда вырастешь? — Я бы хотела объехать все страны на свете. И звезды тоже. А вы? Сьюзен в замешательстве. Даже если бы ее жизнь от этого зависела, она не знала бы, как ответить на вопрос. Не желая лгать, она пытается уклониться: — Ты ведь знаешь, я уже выросла. — А быть большой — это значит ничего не хотеть? — Скажи, во что ты любишь играть? — спрашивает Сьюзен, лишь бы не отвечать на вопрос. Девочка пожимает плечами: — Я играю на скрипке… Потом лицо ее освещает улыбка: — Я люблю книги. — А-а. Как кстати. Сьюзен поднимается, берет с низкой этажерки томик в фиолетовой обложке и показывает Милисенте. Девочка без запинки читает заглавие: — «Приключения Тома Сойера». — Хочешь взять ее с собой? — А можно? — Можно, но при одном условии: когда закончишь читать, ты мне ее вернешь и расскажешь, что о ней думаешь. Выпив шоколад и надев высохшую одежду, девочка уходит, прижав книгу к груди. Сьюзен смотрит на нее в окно. А потом в ней будто что-то дрогнуло, растаяла ледяная глыба, и она начинает рыдать, выплакивая все слезы, которые в ней остались.
Мейбел идет по городу с высоко поднятой головой, каблучки стучат по тротуару, ноша заставляет ее чуть клониться набок. Эта штука такая тяжелая, что Мейбел вынуждена время от времени останавливаться, ставить предмет на землю, а потом вновь отправляться в путь. Она спиной чувствует направленные на нее взгляды, всем известна скандальная правда: Мейбел Лумис Тодд мало того что обманывает супруга — этого чудесного молодого человека, страстно увлеченного звездами, — но наставляет ему рога с Остином Дикинсоном, человеком дважды неприкасаемым, во-первых, потому, что он Дикинсон, и, во-вторых, потому, что он муж Сьюзен, одной из самых уважаемых особ города, которая столько страдала. Она слышит шепот: — Знаете, это та самая женщина… Она стала той самой женщиной. Теперь, когда она утратила имя, у нее осталась лишь ее книга.
В гостиной она достает из коробки тяжелую пишущую машинку марки «Хэммонд», которую ей дали в пользование. Аппарат весьма внушительный. На станине из мягкой древесины полукружьем расположены тридцать три клавиши с комбинациями цифр и букв. Каждая клавиша соединена с маленьким металлическим молоточком, на конце которого вырезаны буквы, что будут оставлять отпечаток, еще там есть чернильная лента и лист бумаги, он вертится вокруг железного валика.
Она осторожно прикасается к машинке, нажимает на клавиши с буквами, составляющими имя, о котором она мечтает: Мейбел Лумис Дикинсон. Потом склоняет лицо к волшебному аппарату и вдыхает его аромат, смутно напоминающий запах грозы перед тем, как вспыхнет молния, смесь дерева и металла. Из стопки переписанных от руки стихотворений она берет наугад одно, внимательно перепечатывает и с восторгом наблюдает, как на белом листе проявляются идеально ровные, легко узнаваемые печатные буквы. Это уже слова книги. Она на мгновение останавливается, освобождает страницу от удерживающего валика, осторожно прикасается пальцем к буквам, слегка вдавленным в бумагу. Закрывает глаза, продолжая водить по тексту пальцем. Стихи Эмили теперь может прочитать даже слепой.
Незадолго до этого Хиггинсон велел озаглавить стихотворения. — Выбирайте по преимуществу слово, которого в самом стихотворении нет, — посоветовал он. — Почему? — Чтобы избежать повторений. Мейбел озадаченно покачала головой. Ей казалось, что навязать тексту название — значит сузить и смысл, и значение, кроме того, если бы Эмили хотела дать названия, она бы озаботилась этим сама. Но Мейбел не решается возразить Хиггинсону, он так убедителен. Но мало этого, он решил, что необходимо упорядочить стихи по темам. Склонившись над записями, она пытается разделить тексты: о любви, о смерти, о птицах. Три стопки путаются и смешиваются. Она могла бы разложить их наугад, как придется, результат был бы тем же. Накануне, когда они встречались, она тщетно пыталась убедить его, что лучше расположить стихи в том порядке, в каком они были написаны, а хронологию можно вычислить по изменению почерка, для этого придется привлечь переписку с адресатом, которому Эмили писала на протяжении всей жизни (имя Сьюзен она не произнесла). Но все было напрасно. — Попытайтесь выделить еще стихи о цветах, — предложил ей Хиггинсон, как если бы посоветовал перебирать мелкие камешки для успокоения нервов. Но ведь очевидно, что стихи о цветах — это тоже стихи о любви, о смерти или о птицах. Эмили никогда не говорит о чем-то одном: будь то предмет или место; она рядом с любовью, позади смерти, внутри птицы.
День за днем Мейбел медленно прокладывает дорогу в лесу стихотворений, отыскивая самый удобный путь от одного к другому, чтобы они перекликались между собой и освещали друг друга. Она прокладывает путь, одновременно раскорчевывая землю. Она догадывается, что эта книга будет лабиринтом, в котором все тропинки ведут в центр, и нет ни одной — к выходу. А зачем вообще выходить, если в пробелах между словами остается еще столько неоткрытых материков. Этим вечером работа идет хорошо, но Дэвид пригласил на ужин коллегу с супругой, и ей вскоре придется отложить записи, убрать пишущую машинку, соединить в одну стопку листки, которые она разложила по всему столу, чтобы видеть сразу все. Три, четыре, пять раз за неделю ей кажется, будто она с наступлением вечера разрушает то, что созидала весь день. Приходят гости, Мейбел мила, цесарка получилась восхитительной, но все это время она думает о стихах Эмили, которые лежат в коробке, словно детали головоломки.
На следующее утро, вместо того чтобы, как обычно, разложить на столе в гостиной содержимое коробок и папок, она относит их на чердак, где в небольшой комнате для прислуги, пустующей с тех пор, как они наняли деревенскую девушку, которая по вечерам отправляется спать к себе домой, громоздятся шляпные коробки и лампы с выцветшими абажурами. Мейбел просит горничную освободить комнату. — А куда мне отнести все вещи? — Мне все равно. В подвал. Или возьмите себе. Вот, держите, вам нравится эта шляпа? — спрашивает она, протягивая девушке изумрудно-зеленое сооружение с длинным павлиньим пером. Она велит поднять ночной столик, куда ставит пишущую машинку, а также один низкий столик из гостиной, на который веером раскладывает стихи. И закрывает за собой дверь. Сюда не придет Хиггинсон со своими указаниями.
При желтом свете лампы и белом свете листов со стихами она работает, пока не начинают слезиться глаза и неметь кончики пальцев. А, в сущности, зачем? Кто вспомнит о ней, когда ее не станет? Какое ей дело до грядущих поколений, не все ли равно, чтó через сто лет будут думать о ней люди, которые еще не родились? Но если не считать кратких встреч с Остином, книги для нее — единственное средство чувствовать себя живой. Слова — это что-то мертвое, но вот уже много месяцев, каждый раз, когда Мейбел перечитывает какое-нибудь коротенькое стихотворение Эмили, ей кажется, будто в груди бьется второе сердце. Может, единственная возможность прожить сто жизней, не разлетевшись на мелкие осколки, — это прожить их в ста разных текстах. Одна жизнь на стихотворение.
~
Эта крошечная комната, самая маленькая в доме, принадлежит ей, и только ей. Она единственная — помимо кухни, куда Мейбел никогда не заходит, — где нет зеркал. На стенах ни гравюр, ни фотографий. В эту совершенно пустую комнату Мейбел приходит утром, в обед просит принести туда сэндвич и спускается только ближе к вечеру. Ей кажется, что конец работы близок. Порой у нее возникает ощущение, что книга завершена, но тут же одолевает сомнение: не хватает чего-то еще, что она не сможет назвать, но непременно распознает, когда увидит. Однажды утром, когда Дэвид отправился на прогулку с Милисентой, раздается звонок в дверь. Мейбел привстает, чтобы посмотреть в окно, кто это, и сразу узнает высокую фигуру Остина со шляпой в руке. К своему удивлению, она на мгновение застывает в этой позе, как будто на весу, вместо того чтобы спуститься вниз и открыть. Она смотрит на себя словно со стороны: вот она садится за стол и вновь погружается в стихи Эмили. Впервые в жизни общество женщины, мертвой или живой, она предпочитает обществу возлюбленного.Когда Лавиния и Холден просыпаются, солнце уже давно встало. Растерянная, она резко отбрасывает одеяло и садится на кровати, проводя рукой по волосам, будто одним движением хочет поправить прическу. Он осторожно притягивает ее к себе, пока она вновь не кладет голову на подушку. — Не вставай, я сейчас сделаю кофе. Он поднимается, натягивает брюки и спускается по лестнице, а она потягивается на мятых простынях. Она слышит треск кофемолки, шум воды, потом до ее ноздрей доносится дивный запах кофе и поджаренного хлеба, она улыбается от удовольствия. Она никогда не залеживалась в кровати так поздно, и впервые в ее взрослой жизни кто-то готовит для нее завтрак. Так вот что значит — иметь мужа?
~
Днем он занимается садом, подстригает изгородь, пропалывает цветник, который она забросила ради овощных грядок. Посыпает аллеи гравием, вырывает траву, обрезает у старого сикомора мертвые ветки, которые могут сломаться и упасть при ветре. Если смотреть с улицы, то это самый обычный работник. Лавиния старается не обращаться к нему, если посторонние могут увидеть. Когда наступает вечер, они встречаются. Она ставит перед ним еду, которую готовила в течение дня: цыпленка с черносливом, нежное мясо разваливается, стоит лишь прикоснуться вилкой, мусс из лосося, гусиный паштет в коньяке, клубничный слоеный пирог, любимый десерт Эмили. Он поглощает все с большим аппетитом.Посреди ночи она просыпается с бьющимся сердцем. Между тем во всем огромном доме тихо, ночь в окне безмолвная и безмятежная, луна висит высоко в небе. Она закрывает глаза. В висках стучит кровь. Холден ворочается во сне и кладет на грудь Лавинии тяжелую руку, она вертится, пытаясь от нее избавиться. В конце концов просто поднимает его руку и укладывает на спящего. Снова закрыв глаза, она пытается думать о чем-то простом и спокойном: о катушке с пряжей, запеканке с ветчиной, чашке дымящегося чая, об ивах на берегу пруда, но ничего не помогает. Матрас прогибается под телом Холдена, и Лавинию затягивает в это углубление, она пытается лечь ровно, но для этого требуются такие усилия, что сон окончательно уходит. Она отодвигается как можно дальше и оказывается на самом краю кровати. Открыв глаза, она четко видит рейки паркета. Она никогда прежде не замечала, что они так плохо пригнаны одна к другой. Холден фыркает, как лошадь в стойле, потом начинает негромко похрапывать. Лавиния ничего больше не слышит, кроме этого храпа, разразись за окном гроза, она и не услышала бы, он заполняет всю ее голову подобно тому, как жидкость наполняет бокал, он словно атакует ее изнутри. На этот раз она со страхом думает: так вот что значит — иметь мужа.
~
В середине лета Мерсеры устроили для соседей развлечение: сделали на своем кукурузном поле лабиринт и пригласили всех желающих в нем поблуждать. Дети дрожат от радостного предвкушения, и даже взрослые с удовольствием бродят по узким проходам, источающим приятные запахи: свежескошенного сена и солнца, скопившегося в этих зарослях за лето. Путь не слишком сложный, но все же достаточно извилистый: чтобы добраться до выхода, нужно не менее получаса распутывать многочисленные петли и изгибы. — Нам тоже нужно пойти, — предлагает Холден Лавинии, когда они, склонившись рядом, пропалывают грядку. Она вздрагивает. — Ты с ума сошел. Ей даже не нужно добавлять: «Что люди скажут». Он пожимает плечами: — Мы могли бы пойти туда ночью.Они выходят вечером, как воры, крадутся по пустым улицам с одной лампой на двоих. Лавинии кажется, что ей опять двенадцать лет. Лабиринт, разумеется, не охраняется, никакого ограждения тоже нет. Продвигаясь вперед, они следят, чтобы лампа не подожгла сухие колосья. Если здесь сложно ориентироваться днем, то в темноте это почти невозможно, в двух шагах ничего не видно, тупик можно различить, лишь уткнувшись в него носом. С ними собака Холдена, но от нее никакого толку, она радостно скачет вокруг, то исчезая, то выныривая из темноты. — Мы никогда не выберемся, придется дождаться рассвета, — вздыхает наконец Лавиния, но Холден отказывается сдаваться. Он пытается вновь и вновь, что-то бормочет себе под нос, указывает на какие-то несуществующие ориентиры, а ей ничего не остается, как следовать за ним. После долгих блужданий они выходят наконец на квадратную, расчищенную от стеблей площадку, в середине которой воткнуто огородное пугало. — Вот видишь, — ликует Холден, — никогда не надо отчаиваться. Лавиния молча соглашается. Она возвращает на голову соломенного чучела упавшую на землю шляпу, и тот благодарно ей подмигивает. Со всех сторон они окружены высокой стеной сухих стеблей, которые хрустят при малейшем дуновении ветра. Нет, они не нашли выход. Они добрались до центра. В пятьдесят четыре года, стоя в центре лабиринта в окружении теней, Лавиния вдруг с необыкновенной остротой осознает, что добралась до середины жизни — когда, полагая, будто достиг цели, человек понимает, что потерялся. Теперь перед ней стоит вопрос: чему посвятить вторую половину? Пытаться отыскать дорогу или, продолжая плутать, запутываться еще больше? Можно ли выбраться из лабиринта, вернувшись назад? А если бы она решилась улечься спать прямо здесь, возле пугала, ей бы тоже, как и ему, снились сны о зимних кострах? Она не знает, как существовать в этом неожиданно дарованном ей третьем времени. Она поднимает глаза к небу, которое в этот момент кажется ей единственно возможным исходом. Звезды на нем бесконечно далеки и бесконечно малы — крупинки сахара.
~
Как-то вечером, когда они после ужина пьют чай за кухонным столом (они никогда не садятся в гостиной, потому что там едят призраки), Холден поднимается и достает из котомки колоду старых игральных карт. — Сейчас я узнаю твое будущее, — сообщает он Лавинии, на которую не так просто произвести впечатление. — В моем возрасте прошлое длиннее будущего. Поэтому будущее читать легче. Он как будто не слышит, тасует карты, протягивает ей колоду, чтобы она сняла, снова перемешивает. — Ты знал, — спрашивает Лавиния, — что раньше во французских колониях, когда не хватало монет, пользовались игральными картами? — Как это? — На континенте еще не было типографий, бумаги тоже. Но в каждом доме имелась колода игральных карт. Их реквизировали, некоторые карты разрезали, если целая карта стоила четыре ливра, половинка стоила два, четвертинка — пятнадцать су, интендант прилагал свою подпись, вот и все. — Переверни, — просит Холден, протягивая колоду. Восьмерка треф. — И что это значит? — спрашивает Лавиния. — Пока не знаю. Ты должна выбрать еще шесть карт и думать о чем-то важном для тебя. Лавиния вроде бы не верит, но поневоле начинает думать о том, что будет с книгой Эмили, возможно, это единственное будущее, которое у нее остается. Она наугад берет карты, одну за другой, а он с серьезным выражением лица раскладывает их на столе: валет пик, король червей, девятка бубен, семерка червей, и вдруг в окно врывается ветер и смахивает все карты на пол, вперемешку: и те, что она выбрала, и те, что оставались в колоде. Холден наклоняется их подобрать, но она его останавливает. — Не надо, так хорошо. У их ног рассыпано целое состояние.У них есть перья
Птицы Орудия письма Боа Подушки Надежда
Есть еще один способ выйти из лабиринта: по воздуху. Когда Дедал и Икар собираются спастись с острова Крит и из лабиринта царя Миноса, отец для себя и сына делает крылья, скрепленные воском, но предостерегает Икара: — Не поднимайся слишком высоко, Солнце растопит воск. Не лети слишком низко, морская вода попадет на крылья, они намокнут, и ты утонешь. Зазор, оставшийся для полета, бесконечно мал, хотя ограничен двумя бескрайними пространствами, как и жизнь, у которой в начале и в конце — небытие. Дедал устремляется вверх из лабиринта, парит в лазури, Икар летит следом. Никогда в жизни он не чувствовал себя таким свободным. Вскоре, уже не глядя на отца, указывающего ему дорогу, и позабыв наставления, он взмывает выше. Опьяненный вольным полетом и ощущением невесомости, он слишком близко поднимается к Солнцу. Он не чувствует, как скрепляющий крылья воск начинает таять. Он летит все выше и выше, пока крылья не распадаются и перья не разлетаются вокруг. Он падает в море и тонет. Так сбылись предсказанные отцом опасности, которые вроде бы исключают одна другую: его погубили и Солнце и Море. Он упал дважды. Конечно, можно осуждать Икара: следовало послушать отца, проявить осторожность, не поддаваться опьянению полетом. Но можно также задаться вопросом, почему Дедал с сыном не взлетели с башни ночью. Им светила бы Луна и не представляла для них опасности.
~
Одни вещи видны лишь ночью: звезды, летучие мыши, светлячки. А другие существуют только днем, при свете: тени, маленькие сгустки ночи.~
В слове «падение» видятся одновременно процесс (кто-то падает), явление (водопад — это падение воды) и понятие (грехопадение — нарушение первым человеком Божьей воли). Пасть, падать — это целая история. Этимология слова «пасть, упасть» (tomber) неясна. Согласно одной гипотезе, речь идет об ономатопее[22] (tumb), воспроизведении звука падения предмета на землю. Другая, более привлекательная, связывает слово со староанглийским tumben, что означает «вращаться», «крутиться».~
~
Каждому хоть раз приходилось видеть во сне, как он вдруг оступился и упал, головокружение, которое становится все сильнее со временем и пройденным расстоянием, падение, которое не кончается. У таких сновидений есть особенность: в них ты так и не касаешься земли. — Во сне умереть нельзя. Если ты умираешь во сне, значит, умираешь и в жизни. Так говорили во времена моего детства, считалось, что это чистая правда. Поэтому всю свою жизнь я старалась не умереть во сне. Не уверена, что у меня получилось.Она неподвижно сидит в углу столовой, на губах насмешливая улыбка. Над плечом порхает крошечная колибри с переливчатым оперением — изумруд и кошениль. Заметив ее, Милисента вздрагивает, но видение прикладывает палец к губам, словно просит помолчать, и девочка ничего не говорит. Мейбел спускается, держа в руках одно из последних стихотворений, оно вызывает у нее некоторые вопросы, и они даже поспорили с Дэвидом по поводу некого слова: вместо зачеркнутого нужно было выбрать из нескольких синонимов, записанных рядом[24].
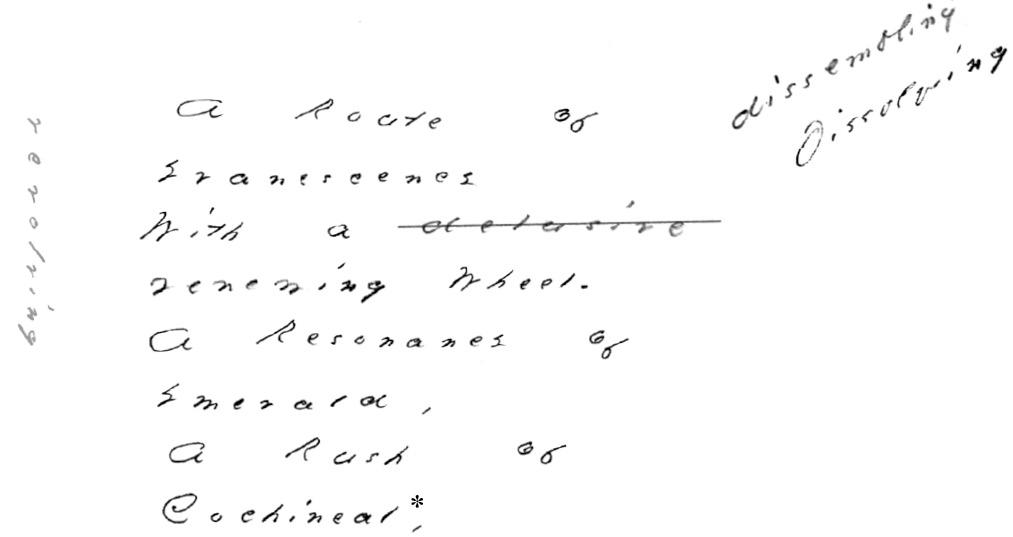
Слово, которое вызывает сомнения, — третье во второй строке, есть множество способов его прочтения. — Вначале она написала delusive[25], — замечает Дэвид. — Да, но зачеркнула. И потом более уверенно и четко написала dissembling[26]. Призрак еле заметно качает головой. — Может быть. Но если рассуждать логически, это слово дальше всего от того, что было написано последним. Наверное, надо читать dissolving[27]. Призрак тяжело вздыхает, потом поворачивает голову. Проследив взглядом за этим жестом, Миллисента обнаруживает еще одно слово, написанное на краю листка, по вертикали, карандашный след такой легкий, что почти невидим. Вроде бы ничто не указывает на то, что слово имеет отношение именно к этому стихотворению, но девочка произносит еле слышно: revolving[28]. Призрак кивает. Птица садится на плечо и на мгновение перестает хлопать крылышками. И Милисента, на этот раз уже громко, решается повторить: — А может, нужно revolving? Взрослые ее не слышат. Она повторяет еще раз, и отец благодарит: — Душа моя, мы разобрали, что это за слово, на этот раз нужно просто выбрать, это разные вещи. Эмили и Милисента, которых заставили замолчать, обмениваются понимающими взглядами: люди не слушают ни мертвых, ни детей. Ни птиц.
Хиггинсон, к которому Мейбел обращается за разъяснениями, весьма категоричен: «Если существует несколько вариантов прочтения, выбирать следует то слово, которое яснее всего выражает смысл». Внимательно разбирая текст, Мейбел осознает, что Эмили, похоже, делала как раз наоборот: написав вначале вполне ожидаемое, понятное слово, она его зачеркивает и постепенно начинает отдаляться от него, так что конечное выбранное ею слово имеет с первым лишь опосредованную связь, как эхо мысли, которой она хочет дать жизнь не на странице, а в голове читателя. Если ей приходится выбирать: именовать вещь или вызвать в представлении ее тень, разумеется, она выберет второе. Мейбел понимает то, что Хиггинсон категорически не желает видеть: Эмили писала лишь половину стихотворения, а другая половина принадлежит тому, кто читает, его голос отзывается на ее голос. И чтобы получилось цельное стихотворение, необходимы оба голоса, живой и мертвый.
В поле, что раскинулось между двумя домами, Милисента собирает ромашки, клевер и одуванчики, это ее любимые цветы, хотя их называют сорняками. Когда пучок травы становится таким большим, что ей не удержать его одной рукой, она звонит в дверь Эвергринс и протягивает растрепанный букет Сьюзен вместе с «Приключениями Тома Сойера», которые она прочитала даже не один, а два раза, о чем и сообщает. Сьюзен аккуратно ставит скромные цветы в вазу, словно это прекрасные розы. Пригласив девочку в гостиную, где на низком столике ее дожидаются «Приключения Гекльберри Финна», она предлагает: — Почитать тебе продолжение? Милисента уже большая, ей давно — несколько лет — никто не читает, но она все же соглашается, забирается в кресло и, свернувшись в клубочек на подушке, слушает Сьюзен: You don’t know about me, without you have read a book by the name of The Adventures of Tom Sawyer, but that ain’t no matter. That book was made by Mr. Mark Twain, and he told the truth, mainly[29]. Милисента жадно ловит каждое слово. Ей никогда прежде не приходило в голову, что книги, в общем, не очень врут. Может, они, как взрослые, лгут всегда лишь немножко? Но если они говорят не всю правду, это тоже ложь? Проходят часы, но ни та ни другая не видят, как в комнате темнеет. Им не приходит в голову зажечь лампу. Наступает вечер, а Сьюзен не прочитала и третьей части романа, она останавливается, полагая, что Милисента заснула. Но девочка наблюдает за ней круглыми глазами. — А дальше? — спрашивает она. — А дальше тебе нужно вернуться домой. Но если хочешь, возьми книгу и дочитай сама. Иди быстрее, а не то родители станут волноваться. Милисента хватает книгу и спешит к двери. Но не уходит, а оборачивается к Сьюзен и, возвращая ей книгу, спрашивает: — Можно, я не буду ее брать, а лучше вернусь, и вы мне еще почитаете?
Когда Милисента возвращается домой, оказалось, никто не озаботился ее отсутствием. Дэвид в колледже, Мейбел погружена в работу. Девочка поднимается к себе в комнату, достает записную книжку и на странице «Мои лучшие подруги» рядом с именем Эмили тем же решительным почерком выводит: Миссис Сьюзен.
Два дня спустя в дверь поместья Эвергринс звонит Лавиния, она хочет показать Сьюзен белую книгу, которую ей дал на время Хиггинсон. Она похожа на ту, в которой будут напечатаны стихи Эмили, но страницы ее пусты, это макет, по нему можно понять, каким будет формат, вес, обложка, зернистость и толщина бумаги. Поскольку никто не отвечает на стук, Лавиния оставляет книгу у двери и быстро пишет коротенькую записку: «Для книги Эмили». Сьюзен находит ее только вечером. Она взвешивает книгу на ладони, нюхает, затем решается открыть и пролистать сотню пустых страниц. Эта снежная книга именно такая, о какой она мечтала.
Вернувшись домой, Лавиния достает муку, топленое свиное сало, сливочное масло, сахар, раскладывает все на кухонном столе. Надевает передник, берет керамическую миску, нож, деревянную ложку, и только когда собирается разрезать масло на кубики, внезапно вспоминает, что, вообще-то, никогда не любила сладкие пироги. Отец их просто обожал, мать больше всего любила вишневый, Остин радовался пирогу с начинкой из изюма, миндаля, яблок, цукатов, который она пекла на каждое Рождество, Эмили предпочитала тарталетки с абрикосами. А Холден с большим аппетитом поедает любые, сладкие, соленые, все равно с какой начинкой, пряностями, приправами. С течением лет она убедила себя, что тоже любит сладкие пироги, а на самом деле ей просто нравилось видеть, как их едят другие. Еще она достает из холодильной камеры два яйца и густую сметану. Вот уже несколько месяцев в шкафчике для провизии у нее хранится большой кусок шоколада, не зная, какую участь она ему предназначила; и вот она осторожно распаковывает его, наклоняясь, чтобы вдохнуть запах. Положив на деревянную дощечку, она трет его на терке, ссыпает стружку в кастрюлю и помещает на водяную баню. Она медленно растапливает шоколад, потом, тщательно отмерив, добавляет ложечку бренди. Разбивает два яйца, отложив желтки, которые позже добавит в майонез, взбивает белки до пышной шелковистой пены, добавляет сахар, продолжает орудовать венчиком. В другой миске взбивает крем, пока не образуются крутые, слегка изогнутые пики. Она соединяет крем и белки, добавляет растопленный шоколад, достает шесть маленьких десертных вазочек, чтобы перелить туда смесь, но потом передумывает. Развязав лямки передника, она садится за кухонный стол перед полной миской шоколадного мусса и погружает туда большую резную серебряную ложку, которой пользуется по особо торжественным случаям.
Вечер окутывает Хомстед. Дрозд в последний раз смотрится в оконное стекло, прежде чем отправиться в гнездо. Над кухней опускается занавес сумерек, под золотистым полукружьем лампы Лавиния откладывает в сторону ложку и, погрузив пальцы в шоколадный мусс, облизывает их с таким аппетитом, какого у нее не было с детства.
~
Когда много лет спустя врач, тот самый, что когда-то констатировал кончину Эмили, склонится над телом ее младшей сестры, у которой закрыты глаза, но еще приоткрыты губы, в разделе «Причина смерти» он своим по-прежнему четким почерком напишет: «Слишком большое сердце».На берегу круглые и гладкие, как яйца,камни, а еще куски корабельного дерева, отколовшиеся от выброшенных на мель суденышек, им просто надоело носиться по волнам. Море спокойное, вода с мягким шорохом лижет песок. Гилберту вода по пояс. Идущие за ним София и Эмили приподнимают на ходу полы юбок, их лодыжки белые, как молоко. Стремительным галопом их нагоняет Карло, взметая фонтаны воды, проносится мимо и плывет за Гилбертом, который все удаляется и удаляется от берега. София и Эмили следят за ним, ничуть не тревожась. Что может с ним произойти? София на мгновение останавливается, наклоняется, опускает руку в прозрачную воду и достает крупную, размером с кулак, бело-синюю раковину, прикладывает к уху. Долго слушает, потом протягивает Эмили, она слушает тоже. Гилберт возвращается, впереди него бежит Карло, теперь и мальчик подносит к маленькому уху большую раковину. Там, где-то далеко, гудят колокола Амхерста.
Она, полностью одетая, вскакивает с постели, когда дом уже погрузился в темноту. Идет по длинному коридору, спускается по лестнице на четырнадцать ступенек, бесшумно толкает входную дверь. Когда оказывается снаружи, дорогу ей освещает луна. Она без особого труда карабкается на белую ограду, поперечные перекладины которой, кажется, специально предназначены для того, чтобы облегчить ей задачу. Добравшись до верха, какое-то время сидит там, свесив ноги по разные стороны ограды. Еще не поздно отступить. Ухает сова, громко квакают лягушки. Облако закрывает луну, и в течение целой секунды она не видит своей тени. Выпрямившись на верху ограды, она цепляется за нижнюю ветку высокого клена. Другие ветки тоже рядом, по ним очень легко добраться до приоткрытого окна. Испуганные летучие мыши разлетаются в разные стороны, они даже летают как-то… кособоко, как будто им не хватает одного крыла или одного глаза. Как Господь, создавший птиц, мог даровать жизнь таким убогим созданиям? Если они летают только ночью, значит, осознают свое уродство? Ветка тычется прямо в окно. Наверное, при малейшем дуновении ветра листья скребутся о стекло, может быть, их шум сопровождает сны тех, кто спит в комнате. Милисента перешагивает через подоконник, приподнимая окно спиной, и оказывается в темной спальне. Никогда еще она не чувствовала себя такой гибкой, сильной и живой, как здесь, сейчас, когда одна стоит в этой пустой комнате. Милисента садится на кровать, проводит ладонью по пуховой перине. Глядя в окно на бледное лицо луны, шепчет:
Утром удивленная мать обнаруживает среди белых листков какое-то четверостишие, которого прежде не видела, но все равно начинает его разбирать и старательно переписывать, чтобы присоединить к стихам Эмили. Совсем скоро она должна будет представить рукопись Хиггинсону. Другие стихи узнают его и теснятся, уступая место. Милисента может дать голову на отсечение, что где-то посмеивается Эмили. В этот самый день книга наконец готова. Стихи переписаны, исправлены, расставлены в определенном порядке, эти листки, которые пересматривает Мейбел, чтобы убрать последние опечатки, вскоре будут размножены в сотнях экземпляров, розданы в библиотеки, станут предметом обсуждения журналистов и университетских профессоров. Книга наконец обретет жизнь. Мейбел уже сотню, тысячу раз мечтала о том моменте, когда будет держать в руках напечатанные страницы. Она представляла, как почувствует одновременно гордость, восторг, радость, недоверие, изумление. Но когда наконец наступает этот самый день и она может перелистать сигнальный экземпляр, на титульной странице которого четко выделяется ее имя, напечатанное типографским шрифтом рядом с именем Эмили Дикинсон, она испытывает сильное облегчение, как будто ей удалось избежать ужасной опасности, именуемой мраком. И не потому, что на нее наконец пролился свет, которого она так желала, а потому, что ей удалось зажечь несколько звезд, которые без нее остались бы невидимыми.
Когда 12 ноября 1890 года в издательстве Робертса Бразерса появился сборник, он не был сделан из жасмина, снега или бабочек, как мечтала Сьюзен. На первый взгляд, это книга, похожая на все другие, с бумажными страницами, с обтянутой светлой тканью обложкой, на которой несколько голубых цветков склонили головки под невидимым ливнем. Более темный цвет нижней стороны переплета перетекает на обложку, как морские волны. На форзаце вкралась ошибка: edited by two of her friends[31]. Но все остальное правда. Взяв книгу в руки впервые, Лавиния, Сьюзен, Мейбел и даже Милисента ждут, что вот-вот почувствуют биение сердца Эмили, как чувствуют, что в руке трепещет какое-то пернатое существо. Напрасно: напечатанные стихи не возвращают Эмили к жизни. Но благодаря этой книге, родившейся после ее смерти, распахивается вечность размером с ладонь, сто пятьдесят восемь страниц, фонарь, освещающий сумерки.
Перевернув последнюю страницу, Милисента усаживается за стол при свете свечи. За окном мертвые и живые звезды горят тем же огнем. Из ящика стола она берет новую чистую тетрадь. Левой рукой выводит: «Стихи» и потом долго сидит, глядя на то, чего еще нет на этих белых страницах, на эту маленькую бесконечность, которую распахнула для нее мадемуазель Эмили.
Прежде чем приподнять переплет, Сьюзен надолго прижимает книгу к груди. Open me carefully[32]. Чары не запятнать и не разрушить. В этом хрупком бумажном доме бушуют пожары. Эмили не жила в волшебном мире, она сама была волшебством.
Лавиния сжимает трепещущую книгу в руках. Она осторожно толкает дверь комнаты Эмили, где ничего не изменилось и больше не изменится. Близится вечер, красные кленовые листья процеживают свет, падающий в окно, на столе и на полу танцуют солнечные зайчики. Лавиния садится на кровать, кладет книгу на подушку, которая слегка оседает, словно на нее опустилась птица. Какое-то мгновение под невидимым дуновением ветра трепещет занавеска. Лавиния поднимается и уходит, оставив дверь приоткрытой.
От автора
Эта книга явилась мне на берегу моря при свете яркого солнца в конце лета 2020 года. Дочь играла на мелководье, я издали наблюдала за ней, сидя на плоском камне. Солнце палило, это был август, ближе к полудню. Работа не шла. Я заставляла себя писать каждый день, колебалась между четырьмя-пятью романами разной степени незавершенности, некоторые были начаты за несколько лет до этого, другие только что. Но все они мне наскучили. Я впрягалась в них с ощущением, будто выполняю скучный и неизбежный урок, и каждый раз вставала из-за стола разочарованная. Все было не то и не так. Мне не хотелось жить ни в одном из этих миров. Я не верила ни в какой. Мы были на краю пляжа — почти на краю мира. Поднимая глаза на маленькие серые домишки, что вырисовывались вдали, словно цепочка вырезанных из бумаги силуэтов, я в одно мгновение поняла, что мир, в котором я по-прежнему живу в своем воображении, куда возвращаюсь всякий раз, когда не заставляю себя интересоваться чем-то другим, — мир, в который всегда легко нахожу дорогу, как инстинктивно находят дорогу к родному дому, — это Амхерст Эмили Дикинсон. И тогда впервые я осмелилась признаться себе со всей очевидностью: у той истории должно быть продолжение. Однако не стоит думать, будто я не осознавала абсурдный характер этого замысла — как писать продолжение книги, если умер ее главный герой? Как воскресить Эмили Дикинсон? Чуть дальше Зоэ строила из песка мост, рыла туннель, возводила башню, громко комментируя каждое свое действие, и я рассеянно слушала ее болтовню. Океан отхлынул так далеко, что его почти не было видно, только темно-синяя линия на горизонте. Мы долго оставались одни: чайки, ржанки и облака. В тот день я начала писать, отделавшись от мучившего меня вопроса, ответ на который я все же нашла, но несколько месяцев спустя, когда перестала его искать: написать продолжение после окончания, после смерти — это то, что мы делаем каждый день своей жизни. Это и называется продолжать жить.* * *
Персонажи этого романа — в основном порождение моей фантазии, хотя и имеют реальных прототипов. Мне захотелось вообразить их действия, слова, чувства. Так что не стоит упрекать меня в том, что я слишком вольно обошлась с «официальной» историей публикации стихов Эмили Дикинсон, впрочем, я сохранила ее главные вехи.Выражаю признательность Франсуа Рикару, моему первому читателю, неизменно требовательному и благожелательному. Благодарю Надин Бисмют и Катрин Леру за их ценные комментарии. Благодарю Антуана Тангуэя и Хлое Дешан за их неизменное доверие. Благодарю Фреда и Зоэ за то, что разделяют со мной свои жизни.
Выходные данные
Доминик Фортье
Белые тени
16+ Редактор П. К. Добренко Корректор Л. А. Самойлова Компьютерная верстка Н. Ю. ТравкинПодписано к печати 27.12.2023. Издательство Ивана Лимбаха 197348, Санкт-Петербург, Коломяжский проспект, 18 (бизнес-центр «Норд Хаус») тел.: 676-50-37, +7 (931) 001-31-08 e-mail: limbakh@limbakh.ru www.limbakh.ru


Последние комментарии
4 часов 41 минут назад
12 часов 30 минут назад
15 часов 1 минута назад
15 часов 9 минут назад
2 дней 2 часов назад
2 дней 6 часов назад