Утопия на марше. История Коминтерна в лицах [Александр Юрьевич Ватлин] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
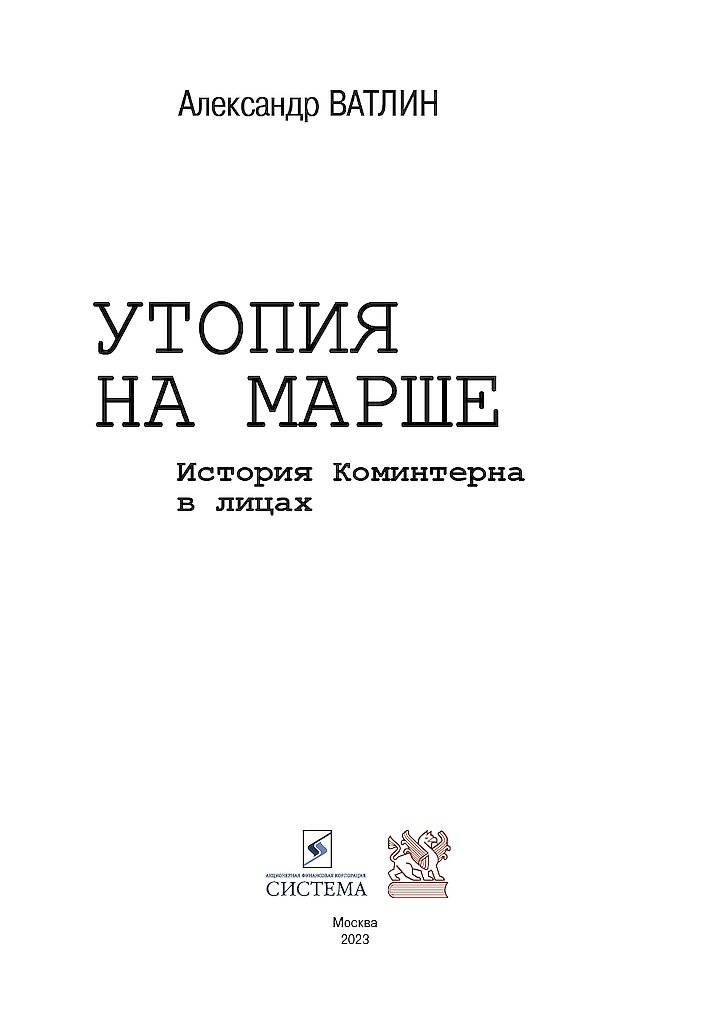
Александр Ватлин Утопия на марше. История Коминтерна в лицах

Научный консультант серии «Страницы советской и российской истории» А. К. Сорокин
© Ватлин А. Ю., 2023 © Фонд поддержки социальных исследований, 2023 © Российский государственный архив социально-политической истории, иллюстрации, 2023 © Политическая энциклопедия, 2023
Ведущий редактор Е. Д. Щепалова Верстка Т. Т. Богданова Корректор Е. А. Кочанова
* * *
Введение
ХХ век вошел в историю как «эпоха крайностей»[1], когда вовлеченные в политику массы, ведомые харизматическими вождями, лихорадочно искали пути к светлому будущему, которое могло бы перечеркнуть омерзительное настоящее. Согласно радикальным идеологиям освобождения, такие пути могли открыться лишь после того, как будут разрушены все основы привычного мира, его общественно-политические и морально-психологические устои. Одним из самых ярких проявлений подобного нетерпения стала советская эпоха в истории России, соединившая в себе крайности массовой мобилизации и жестокой диктатуры, невиданных темпов экономического роста и колоссальных жертв, лежавших в их основе. Идейным стержнем всех семидесяти лет советской власти выступала теория исторического материализма, согласно которой люди, накапливая опыт и совершенствуя орудия труда, перебирались со ступеньки на ступеньку общественно-экономических формаций, каждая из которых имела свой неповторимый облик. Немецкий философ Карл Маркс, разработавший эту теорию в середине XIX века, был уверен в том, что время, в которое он жил, являло собой начало конца капиталистического способа производства, обострившего до крайности общественное неравенство. Простые люди видели, что их труд оборачивается невиданной роскошью, но не для них самих, а для кучки богачей, которые заправляли и парламентскими фракциями, и политическими партиями. Сторонники марксизма утверждали, что экономика частного предпринимательства и буржуазное государство стали тормозом социального прогресса, порождая не только безысходность и нищету социальных низов, но и войны, националистическую гордыню и закабаление целых народов. Однако вместе с мощью передовых европейских держав вырос и могильщик капитализма — пролетариат, т. е. люди наемного труда, которым суждено опрокинуть ненавистную систему. Первой пробой сил стали европейские революции середины ХIХ века, в которых «синеблузые» выступили со своими собственными требованиями и лозунгами. Образ женщины с красным знаменем в руках, ведущей парижан на баррикады, стал символом новой эпохи. То, что раньше казалось досужей утопией, вроде «государства Солнца», превратилось в программу левых радикалов, требовавших немедленной отмены частной собственности и полного искоренения «буржуев», а значит — считавших себя коммунистами. Перетолковывая Евангелие, «Коммунистический манифест» Маркса и Энгельса бросал вызов уходившей эпохе: «Пролетариям нечего… терять, кроме своих цепей. Приобретут же они весь мир»[2]. Этот мир, в котором не будет насилия и бедности, алчных торговцев и кровожадных эксплуататоров, весьма напоминал обыденные представления о рае, перенося его с небес на землю. Но ворота в этот мир не открывались сами по себе — рабочим всех стран следовало совместными усилиями свергнуть господство капиталистов, установить собственную диктатуру и взяться за строительство высшей из возможных ступеней человеческого прогресса, которая называлась коммунизмом. Примерно так растолковывали теорию Маркса ее сторонники, выступая в роли апостолов одной из первых политических религий. Рабочие кружки в разных европейских странах, напоминавшие общины первых христиан, росли и превращались в массовые пролетарские партии, которые открыто заявляли о том, что рано или поздно низвергнут основы буржуазного общества. Презрение его верхушки, запреты властей и полицейские репрессии не смогли остановить рост сторонников и влияния новой политической силы. Национализму, согласно которому правящим кругам великих держав разрешалось угнетать в повиновении этнические меньшинства внутри страны и колониальные народы на мировой периферии, марксистское крыло рабочего движения противопоставило лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Он подразумевал, что для трудящихся, которым нечего терять, кроме своих цепей, освобождение от гнета возможно только во всемирном масштабе, в результате революции, которая разразится сразу во всех ключевых государствах Европы. При активном содействии теоретиков и практиков революции 1848–1849 годов, которая подобно степному пожару перекидывалась с одной страны на другую, — Карла Маркса, с одной стороны, и Михаила Бакунина — с другой, в 1864 году в Лондоне было основано Международное товарищество рабочих, вошедшее в историю как Первый Интернационал. Его создатели поставили своей задачей объединение рабочего движения различных стран, но вскоре из-за конфликтов между социалистами и анархистами Интернационал прекратил свое существование. Сказался и печальный опыт Парижской коммуны 1871 года — революционеры, «штурмовавшие небо», смогли на несколько недель овладеть лишь французской столицей. Пролитая кровь сплотила радикальное крыло социалистов, и во Втором Интернационале, создание которого было провозглашено в 1889 году, уже безоговорочно доминировали марксистские идеи, которым поклонялись массовые рабочие партии, как правило, называвшие себя социал-демократическими. Анархистам не удалось создать столь же влиятельное политическое движение, хотя они обладали сильными позициями в европейских и американских профсоюзах. На рубеже XIX–XX веков лидеры социалистических рабочих партий заняли парламентские скамьи и даже министерские кресла, игнорировать их требования не мог ни один государственный деятель, будь то германский канцлер или британский премьер-министр. Погрузившись в рутину политической борьбы в своих странах, они продолжали считать себя марксистами, отдавая должное конечной цели своего движения, провозглашенной более полувека назад. Однако и сам коммунизм, и мировая пролетарская революция не выдерживали сопоставления с ходом реальной жизни, постепенно превращаясь в «красивую сказку»[3], которая сплачивала сторонников той или иной рабочей партии, но не находила никакого отражения в ее повседневной политической деятельности.
Первая мировая война сорвала благопристойные покрывала и с империалистических устремлений правящих верхов европейских держав, и с пацифистских клятв лидеров Второго Интернационала. Рабочие партии поддержали военные программы правительств своих стран, расколовшись по линии двух противоборствующих коалиций. Лозунг превращения мировой империалистической войны в гражданскую оказался таким же пустым звуком, как и обещания международной рабочей стачки в ответ на всеобщую мобилизацию. Потребовались годы военных лишений и гибель миллионов людей, одетых в солдатские шинели, разрушение материальных основ цивилизации и погружение в «новое средневековье» для того, чтобы свести на нет патриотический подъем, охвативший европейский континент в августе 1914 года. Этот подъем, или точнее националистический угар, заглушил голоса немногих радикальных социалистов, которые продолжали настаивать на исполнении решений предвоенных конгрессов Второго Интернационала. Многие из них нашли приют в нейтральной Швейцарии, которая и до начала Первой мировой войны предоставляла убежище политическим эмигрантам. Там уже около десяти лет проживал В. И. Ленин, считавшийся одним из самых непримиримых марксистских «ортодоксов» и сплотивший вокруг себя ту часть Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП), которая называла себя большевиками. Именно эта фракция в ходе революции 1917 года разрушила ее демократическую перспективу, а затем захватила и отстояла собственную власть на просторах бывшей Российской империи. Большевики воспринимали себя как продолжателей дела легендарных героев прошлого, считая, что им впервые в истории выпала честь осуществить предначертанную Марксом «диктатуру пролетариата», сохранить и перенести в остальные европейские страны зародившуюся на их родине искру мировой пролетарской революции. Здесь заканчивается краткая предыстория этой книги и начинается рассказ об одной из самых таинственных организаций прошедшего века — Третьем, или Коммунистическом, Интернационале. Его учредительный конгресс, созванный в марте 1919 года на пике российской Гражданской войны, являлся ее следствием и подобием. Подготовленный Львом Троцким манифест новой организации утверждал, что империализм привел к концу эпохи национальных государств и революций. Следовательно, и гражданская война, через которую придется пройти пролетариату для завоевания власти, с железной необходимостью будет вестись в мировом масштабе[4].
 Подписи делегатов конгресса на Манифесте к пролетариям всего мира
6 марта 1919
[РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 8844. Л. 1]
Подписи делегатов конгресса на Манифесте к пролетариям всего мира
6 марта 1919
[РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 8844. Л. 1]
Антураж конгресса в полной мере соответствовал воинственным установкам большевиков. Он проходил в Кремле, который после переезда в Москву советского правительства превратился в военную крепость, недоступную простым смертным. В бывшем здании Сената, где когда-то размещались судебные учреждения Российской империи, собралось всего несколько десятков человек, которые должны были символизировать всемирный масштаб создаваемого движения. Три четверти из них представляли партию большевиков, которая теперь называлась Российской коммунистической — РКП(б). «Настоящих» иностранцев было только двое — Гуго Эберлейн из Германии и Карл Штейнгард из Австрии, остальные — эмигранты, по тем или иным причинам оказавшиеся на тот момент в столице Советской России. Представителей угнетенных народов нашли в соответствующих отделах Наркомата по делам национальностей, руководитель которого И. В. Сталин срочно выписал им мандаты[5]. Фантасмагоричность дополняло то, что мероприятие, первоначально закрытое для советской прессы, происходило в нетопленном главном зале уголовной палаты, названном по имени героини одного из самых громких процессов прошлого века «Митрофаньевский». Пройдет ровно двадцать лет, и на третьем из сталинских показательных процессов один из героев этой книги, Н. И. Бухарин, заявит, что готов предстать только перед «судом истории».

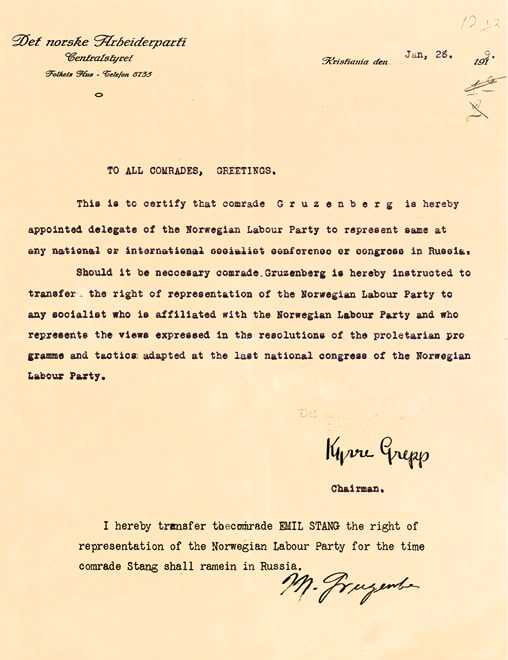
 Мандаты делегатов Первого конгресса Коминтерна
[РГАСПИ. Ф. 488. Оп. 1. Д. 13. Л. 2, 10, 29, 33]
Мандаты делегатов Первого конгресса Коминтерна
[РГАСПИ. Ф. 488. Оп. 1. Д. 13. Л. 2, 10, 29, 33]
Провозглашенный большевиками в Кремле как символ всемирного масштаба их движения Коминтерн на протяжении четверти века держал в напряжении и своих ярых врагов, и своих горячих сторонников. Идеи немедленного освобождения от всех и всяческих оков, разрыва с многовековыми традициями господства и подчинения были воплощены в жизнь в стране, которая казалась остальному миру оплотом деспотизма и «тюрьмой народов». На первых порах к идеям Коминтерна потянулось значительное количество левых социалистов, принявших лозунг «Сделаем, как в России!»
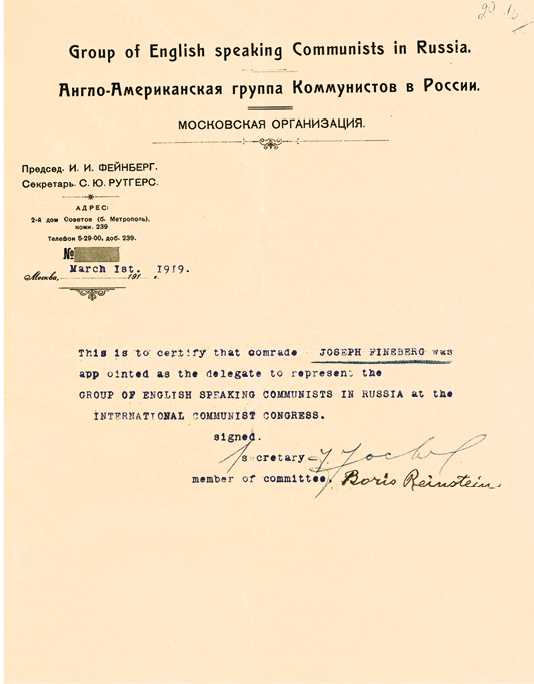
И здесь отцы-основатели новой организации попросту испугались — испугались того, что широта возникавшего движения коммунистов выйдет из-под их контроля. Ленинское «лучше меньше, да лучше» стало организационной основой Коминтерна, который рассматривал себя в качестве «генерального штаба мировой революции пролетариата». Хотя на словах большевики отстаивали массовость движения, выражали готовность работать в парламентах и профсоюзах, фикция «чистоты рядов» стала ахиллесовой пятой Коминтерна. Его лидеры вновь использовали библейские аналогии, считая, что умеренным социалистам так же не удастся пробраться в его ряды, как верблюду — пролезть в игольное ушко. В результате история коммунистического движения стала историей внутренних кризисов и расколов, обогатив политический лексикон такими выражениями, как «ренегаты», «двурушники», «примиренцы» и т. д. Позже, в сталинском СССР подобные ярлыки получили уже уголовное толкование, став в конце концов идейным обоснованием «большого террора». Не желая входить в когорту «профессиональных революционеров», копировавших российский опыт, европейские рабочие начали искать иные пути борьбы за свои интересы, возвращались к реформистским методам достижения социализма. Звезда Коминтерна в Европе померкла уже к середине 1920-х годов. Однако на периферии «цивилизованного мира», как тогда принято было говорить о зависимых и колониальных странах, его идеи находили все новых и новых сторонников. Для них был важен не только идейный пример Советского Союза, но и его материальная помощь, прежде всего военная. В разной степени, но весь мир был опутан «красной паутиной» тайных троп и маршрутов Коминтерна, посланцы которого действовали под прикрытием советских дипломатических представительств, антивоенных и молодежных организаций, пацифистских и даже религиозных союзов.
 «Привет, Товарищи!» Один из самых известных плакатов Д. Моора, посвященных образованию Коминтерна
1920
[Из открытых источников]
«Привет, Товарищи!» Один из самых известных плакатов Д. Моора, посвященных образованию Коминтерна
1920
[Из открытых источников]
Эта паутина, в который были задействованы тысячи и тысячи людей самых разных национальностей, содержалась за счет средств из бюджета СССР, реальные масштабы которых до сих пор неизвестны. Для ее обслуживания в центре Москвы, напротив Кутафьей башни Кремля, огромное здание было отдано аппарату Исполкома Коминтерна (ИККИ), куда входили явные и тайные структуры этой организации. Последние взаимодействовали как с военной разведкой, так и с политической полицией СССР, создавая образ могущественной и всезнающей структуры, которую западная пресса тут же нарекла рукой Москвы. Благодаря коминтерновцам, работавшим в самых разных странах, на стол советского руководства ложились сверхсекретные документы, например, отчет о первом выступлении рейхсканцлера Гитлера перед руководством германской армии в феврале 1933 года[6], благодаря их усилиям в Москве узнавали о секретных операциях западных спецслужб в тот момент, когда они только задумывались[7]. Но не об этих тайнах Коминтерна, которые в последние десятилетия породили целые библиотеки беллетристики весьма различного качества[8], пойдет речь в настоящей книге. Она посвящена не солдатам, а маршалам мировой революции, т. е. лицам, возглавлявшим международную организацию коммунистов на протяжении всей истории ее существования. Все они, начиная с Ленина и заканчивая Сталиным, прошли суровую школу подпольной борьбы в царской России, все они презирали нормы и правила западной демократии, которую считали «прогнившей» и «бессильной», хотя провели в европейских странах добрую часть своей политической жизни. Этих людей объединяло то, что звездным часом их биографии был вооруженный захват власти и победа в жестокой Гражданской войне, именно этот опыт переносился ими на международную арену. Сплотившиеся вокруг Ленина, после его смерти они начали острую борьбу за то, чтобы оказаться главным хранителем его политического наследства. Один за другим они скатывались с пьедестала большевистской власти, превращались в политические ничтожества, а затем и в жертв судебных процессов, которым предъявлялись абсурдные обвинения. В их судьбах отразилась вся история утверждения и деградации большевистской диктатуры, а значит — история первых десятилетий Советской России. Автор этой книги исходит из того, что Коминтерн был своего рода связующей нитью между отечественным и всемирным измерениями прошедшего века. Мы уже достаточно много знаем и о явной, и о тайной сторонах его деятельности, о его структурах и механизмах, но никогда еще под одной обложкой не были собраны биографии всех его основателей и руководителей. Такой подход позволит представить читателю российский стержень международного коммунистического движения, даст почувствовать его человеческое измерение и внутреннюю динамику. То, что эта идея революционного перехода от капитализма к социализму не была реализована на практике, сегодня вряд ли у кого вызывает сомнения. Значит ли это, что коммунисты были историческим неудачниками, «путниками в никуда», а их коминтерновский «проект был обречен на провал и сулил полное разочарование»[9], как утверждают современные историки, считающие себя либеральными? Конечно, нет. До сих пор остаются недостигнутыми цели, которые преследовали компартии: минимизация рисков экономического развития, социальная справедливость, подразумевающая равный доступ людей к общественным благам, эмансипация рабочего класса и прямое участие масс в принятии политических решений. Сама попытка создать некое всемирное движение с перспективой превращения в мировое правительство (наряду с альтернативным проектом Лиги наций) явилась отражением набиравшего силу тренда к политической глобализации, которая в нынешнем веке стала необратимой реальностью. Большинство людей, ставших героями этой книги, на многие десятилетия исчезли из официальной исторической памяти, оказавшись, согласно терминологии сталинизма, среди «врагов народа», куда были отправлены волей победителей во внутрипартийной борьбе 1920-х годов. Автору уже приходилось писать о том, что в результате такой цензуры «Коминтерн на протяжении всего своего существования оказывался организацией без людей, что создавало серьезные трудности для его современников и летописцев… Если говорить о человеческом измерении коммунистического движения в целом, то оно терялось за стандартными формулами „беззаветного служения рабочему классу“, а там, где в историю Коминтерна все же проникал биографический жанр, он производил исключительно образы рыцарей без страха и упрека»[10]. Помимо запоздалого заполнения «белых пятен» на жизненном пути героев этой книги она представит читателю пеструю картину первых десятилетий советской истории, когда ее творцы мыслили «мировым масштабом», пытались реализовать его на практике, затем спорили о его достижимости и, наконец, превратили в инструмент внешней политики государства, которое до последнего вздоха считали своим. Автор отдает себе отчет в том, с какими трудностями сопряжена подобная попытка. В отличие от череды сменявших друг друга премьер-министров их невозможно выстроить в одну линию. Они были одновременно единомышленниками и соперниками, соратниками и врагами, а периоды, когда они возносились наверх, сменялись опалами и ссылками. Отказавшись от выстраивания книги в виде эстафеты, в которой лидеры российских большевиков передают друг другу ключи от врат мировой революции, автор декларирует свой интерес к тому подходу, который в современной науке получил название транснациональной или «переплетенной» истории. Приложенный к Коминтерну, этот подход видит в нем не мертвый бюрократический механизм, а сообщество людей, являвшихся выходцами из различных социальных и культурных слоев, но сплоченных общим жизненным опытом, идейными установками и даже чертами характера[11]. Из этого вытекают неизбежные «переплетения», которые в итоге представят читателю эскиз коллективной биографии лидеров Коминтерна. Эта биография не будет исключительно политической, хотя жанр книги, казалось бы, делает такой выбор безальтернативным. Какие бы посты они не занимали, люди всегда оставались людьми, даже если всезнающие ученые возвели их в ранг «исторических деятелей». Пусть даже в догматике классового подхода об этом писал в своих мемуарах Троцкий применительно к советской истории 1920-х годов: «Идеи первого периода революции теряли незаметно власть над сознанием того партийного слоя, который непосредственно имел власть над страной. В самой стране происходили процессы, которые можно охватить общим именем реакции. Эти процессы захватили в той или другой степени и рабочий класс. В том числе его партийную часть. У того слоя, который составлял аппарат власти, появились свои самодовлеющие цели, которым он стремился подчинить революцию». Подобное раздвоение первоначально «имело больше психологический, чем политический характер. Вчерашний день был еще слишком свеж. Личные авторитеты вождей первого периода были высоки. Но под покровом традиционных форм уже складывалась другая психология. Международные перспективы тускнели. Повседневная работа поглощала людей целиком. Новые методы, которые должны были служить старым целям, создавали новые цели и прежде всего новую психологию. Временная обстановка стала превращаться для многих и многих в конечную станцию. Создавался новый тип»[12]. Здесь Троцкий поставил точку и начал новый абзац, но его мысль можно было закончить словами публициста совершенно иного склада. Н. А. Бердяев в те же годы писал о «новом типе милитаризованного молодого человека», который появился в России вместе с диктатурой большевиков. «В отличие от старого типа интеллигента, он гладко выбритый, подтянутый, с твердой и стремительной походкой, он имеет вид завоевателя, он не стесняется в средствах и всегда готов к насилию, он одержим волей к власти и могуществу, он пробивается в первые ряды жизни, он хочет быть не только разрушителем, но и строителем и организатором»[13]. Когда об одном и том же общественном феномене в одном и том же ключе рассуждают мыслители разных направлений и лагерей, это достойно особенного внимания. Ни один объемистый том не вместит в себя социологию большевистской революции, понятую через деградацию ее «старых целей», вызванную потускнением «международных перспектив». Мы можем показать ее лишь на отдельных примерах из жизни политических лидеров Коминтерна, большинству из которых выпала судьба пройти этот путь от начала до его трагического финала. Хотелось бы подчеркнуть еще раз, что связующим звеном всех частей книги будет не Коммунистический Интернационал, который сам по себе являлся проекцией Российской революции на внешний мир, а тот политический режим, который установился в результате этой революции. Именно он стал стартовой точкой как для исторического пути Советской России, так и для эпохи противостояния двух мировых систем, в котором несколько десятков коммунистических партий западных стран занимали позицию «по ту сторону баррикады». Герои очерков предпочитали не называть себя коминтерновцами (может быть, единственным исключением был Карл Радек, считавший себя связным между двумя мирами), ибо для российских большевиков это выглядело как принижение собственного статуса.
 В советской пропаганде Коминтерн и СССР были неотделимы друг от друга. Плакат к XII годовщине Октября
1929
[Из открытых источников]
В советской пропаганде Коминтерн и СССР были неотделимы друг от друга. Плакат к XII годовщине Октября
1929
[Из открытых источников]
«Руководство русских товарищей в Коммунистическом Интернационале является нашей гордостью»[14], — говорилось в статье секретаря этой организации финна Отто Куусинена, появившейся в 1924 году. При этом лидеры РКП(б) как будто добровольно отказывались от завоеванного приоритета, ибо по уставу Коминтерна российская партия становилась всего лишь одной из его национальных секций, работавших под началом «генерального штаба мировой революции»[15]. Поражение революционных выступлений в ряде европейских стран после завершения Первой мировой войны, а затем и «государственническая» трансформация большевистской диктатуры, превращение ее в обычный авторитарный режим привели к тому, что политика Коминтерна попадала во всю большую зависимость от внутриполитической ситуации в СССР. При этом постулат о верности принципам пролетарского интернационализма продолжал доминировать в советской пропаганде, надолго пережив сам Коминтерн. Постепенно национально-патриотические акценты в идеологии сталинского режима привели к вытеснению международных аспектов из истории большевизма — в «Кратком курсе истории ВКП(б)» Коминтерну было посвящено всего несколько строк. Подобный стереотип сохранялся достаточно долго. «Краткий исторический очерк Коммунистического Интернационала», увидевший свет к 50-летию этой организации, сводил воздействие российской партии на Коминтерн исключительно к ленинским советам и указаниям. На его исследователей были наложены вериги партийно-классового подхода, иными словами — марксистско-ленинской догматики. «Это отнюдь не означало, что историки были обязаны фальсифицировать освещение прошлого, но анализ и толкование прошлого считался научным только при условии, если исследователь трактовал любые события с позиций сторонника этой теории»[16]. Книга не претендует на то, чтобы стать увертюрой (а тем более заменой) всеобъемлющего очерка истории мирового коммунистического движения, написанного в новую историческую эпоху, такой очерк, если не считать нескольких апологетических или разоблачительных версий, так и не появился и вряд ли появится в ближайшем будущем[17]. Не будет в книге и «жареной» подкладки, смакующей факты коррупции и преступлений, без которых не обходится история любой политической организации, а тем более радикального движения нигилистского толка. Даже избавленный от засилья шпионов и диверсантов, Коминтерн предстает перед читателем в нескольких обличьях. В годы Гражданской войны вопрос о перспективах мировой революции занимал буквально каждого «сознательного пролетария», в которого волей-неволей превратилось большинство населения Советской России. О них рассуждали даже киношные герои вроде Чапаева и его ординарца Петьки (последний задавал комдиву животрепещущий в тех условиях вопрос: «Василий Иванович, а в мировом масштабе смогёшь?»). Ради того, чтобы «землю в Гренаде крестьянам отдать», люди записывались в Красную армию, погибали и побеждали. Во второй половине 1920-х годов идея пролетарской революции всемирного масштаба теряет свое сияние, становится частью агитпроповского лексикона, к которому привыкают, как привыкают к жужжанию мух на исходе лета. Об этом весьма проницательно рассуждал тот же Троцкий после того, как сам был изгнан из большевистского руководства: «За последние годы руководство систематически отучало партию интересоваться по-настоящему внутренней жизнью мирового рабочего движения, особенно его коммунистической партии… Нынешней насквозь казенной информации, приуроченной всегда к определенному сегодняшнему интересу руководящей верхушки, совершенно нельзя верить… Средний партиец начинает относиться к очередным катастрофам в Коминтерне, да отчасти в его собственной партии, как крестьянин относится к граду: ничего не поделаешь, приходится терпеть»[18]. Автор попытался дать портреты своих героев в интерьере эпохи, в которой им довелось жить и бороться, а декорации этой эпохи менялись гораздо быстрее, чем их скромные копии на театральных подмостках. И вновь хотелось бы подчеркнуть, что речь идет о многострадальной России, чей пример увлек за собой левых радикалов во всех уголках земного шара. Перипетии внутрипартийной борьбы в РКП(б) — ВКП(б) в гораздо большей степени определяли коминтерновский курс, чем изменения политического климата в зарубежных странах. Серию очерков о «русских товарищах», создавших и выпестовавших Коминтерн, открывает Ленин — ортодокс и фанатик, тактик и прагматик, соединивший в себе столько качеств, что до сих пор не появилось его научной биографии, сопоставимой по своему масштабу с ленинскими деяниями.
 Владимир Ильич Ленин
23 апреля 1920
[РГАСПИ. Ф. 393. Оп. 1. Д. 187. Л. 1]
Владимир Ильич Ленин
23 апреля 1920
[РГАСПИ. Ф. 393. Оп. 1. Д. 187. Л. 1]
В самые критические моменты Гражданской войны, когда власть большевиков висела на волоске, Ленин отдавал себе отчет в том, что перед его партией стоят отнюдь не задачи российского масштаба. «Мы и начинали наше дело исключительно в расчете на мировую революцию»[19], — скажет он в третью годовщину Октябрьского восстания. Обманувшись в своих надеждах на грядущую помощь европейского пролетариата, Ленин и его ближайшее окружение не ошиблись в выборе людей, подходящих для реализации собственного международного проекта. Первым среди них следует назвать Карла Радека — выходца из австрийской Галиции, с которым Ленин познакомился в Цюрихе только в годы Мировой войны. Радек отличался цепким умом и безудержным цинизмом, идеально подходя на роль исполнителя деликатных поручений. Именно он в первые недели после заключения перемирия на Западном фронте пробрался из Москвы в Берлин, чтобы стать вождем разворачивавшейся там революции. Успев выступить в качестве посланца большевиков на первом съезде германской компартии (КПГ), Радек был арестован, и весть о создании Коминтерна добралась до него уже в берлинской тюрьме Моабит. С достаточной долей уверенности можно предположить, что будь Радек в Москве в дни Учредительного конгресса этой организации, бразды правления ею были бы переданы именно ему. Галицийский еврей быстро освоил не только русский язык, но и ленинские приемы политической борьбы, и на протяжении первых пяти лет истории Коминтерна именно его можно было бы назвать «серым кардиналом» этой организации.
 Карл Бернгардович Радек
1920
[РГАСПИ. Ф. 489. Оп. 2. Д. 200. Л. 1]
Карл Бернгардович Радек
1920
[РГАСПИ. Ф. 489. Оп. 2. Д. 200. Л. 1]
Ее парадной вывеской, или официально Председателем Исполкома, стал еще один соратник Ленина по швейцарской эмиграции, Г. Е. Зиновьев. Конфликт Зиновьева с Радеком (тот вернулся из Берлина уже в начале 1920 года) был запрограммирован больным самолюбием первого и публицистическими вольностями второго. Вероятно, нескончаемая дуэль двух кураторов зарубежных компартий входила в планы Ленина, который таким образом сохранял за собой роль верховного арбитра между ними. Прогрессировавшая болезнь и скоротечный уход из активной жизни вождя большевистской партии поставили перед ближайшим окружением вопрос о разделе его политического наследия. Радек, как и ряд других представителей «узкого круга», сделал ставку на Троцкого. И проиграл. Создатель Красной армии был слишком самоуверенным для того, чтобы в полной мере оценить угрозу, которая исходила от сторонников «коллективного руководства» во главе с Зиновьевым и Сталиным.
 Григорий Евсеевич Зиновьев
1920-е
[РГАСПИ. Ф. 421. Оп. 1. Д. 324. Л. 1]
Григорий Евсеевич Зиновьев
1920-е
[РГАСПИ. Ф. 421. Оп. 1. Д. 324. Л. 1]
Троцкий справедливо полагал, что за рубежами Советской России он был самым известным и узнаваемым деятелем большевистского этапа революции после Ленина. Но этого было недостаточно для победы во внутрипартийной схватке. Его прочные контакты с руководством французской и американской компартий также не стали гарантией успеха. Троцкий не выражал особого стремления принять под свое крыло Коминтерн, понимая, что эта организация — не для политических тяжеловесов. Однако след, оставленный им в международном коммунистическом движении, заслуживает того, чтобы ему был посвящен отдельный очерк. Во второй половине 1920-х годов на большевистском Олимпе произошли серьезные перемены. Борьба за ленинское наследство не снижала своего накала, однако состав двух противоборствующих партий изменился. Троцкий объединился с Зиновьевым и Каменевым, Сталин взял себе в союзники Бухарина, который явно не просчитал до конца эндшпиль шахматной партии. С 1926 года именно Бухарин начал вытеснение из Коминтерна Зиновьева, хотя так и не сменил того на посту Председателя ИККИ. Сталин в очередной раз замаскировал свои действия словами о «коллективном руководстве», предложив создать аналог большевистского Политбюро — Политический секретариат Исполкома Коминтерна. Бухарин, известный своим радикализмом, взялся за проведение в жизнь «левого поворота» международного коммунистического движения.
 Николай Иванович Бухарин
1927
[РГАСПИ. Ф. 56. Оп. 2. Д. 58. Л. 98]
Николай Иванович Бухарин
1927
[РГАСПИ. Ф. 56. Оп. 2. Д. 58. Л. 98]
Не прошло и двух лет, как сталинско-бухаринский блок дал трещину. Летом 1928 года, накануне Шестого конгресса Коминтерна, Бухарин начал искать союзников среди проигравших оппозиционеров. После конгресса он, не выдержав нападок Сталина и его подручных в зарубежных компартиях, заявил, что отказывается от работы на всех своих постах. За несколько месяцев сталинская фракция слепила фиктивный образ «правого уклона», и Бухарин вместе со своими немногочисленными соратниками оказался в том же «оппортунистическом болоте», где уже несколько лет пребывали его вчерашние оппоненты. После вывода Бухарина из Политсекретариата ИККИ место неформального руководителя Коминтерна ненадолго занял Молотов. Проработка Эдварда Прухняка, члена Политбюро ЦК компартии Польши (КПП) и члена Президиума ИККИ, в ходе которой использовались подобные аргументы, завершилась прямой угрозой: мы пять лет возились с Троцким, «пока наконец не выкинули его из партии и не арестовали, как врага коммунизма»[20].
 Иосиф Виссарионович Сталин
1937
[РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 1650. Л. 20 об.]
Иосиф Виссарионович Сталин
1937
[РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 1650. Л. 20 об.]
 Вячеслав Михайлович Молотов
1930-е
[РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 1599. Л. 8]
Вячеслав Михайлович Молотов
1930-е
[РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 1599. Л. 8]
В дальнейшем Молотов, загруженный совнаркомовскими делами, передал бразды правления Пятницкому и Мануильскому, которым направлялись выписки решений Политбюро по коминтерновским вопросам для исполнения. Сталин, регулярно получавший проекты ключевых резолюций ИККИ, лишь изредка удостаивал их своими лапидарными резолюциями[21]. После окончательной победы во внутрипартийном конфликте генеральный секретарь ЦК ВКП(б) не принял в свою титулатуру регалий Коминтерна, оставшись «рядовым» членом Президиума ИККИ. Его вполне устраивала роль «отсутствующего режиссера», который довел до абсолюта исполнительское мастерство своих актеров. Самой трагичной страницей в истории международной организации коммунистов стала эпоха «большого террора» в СССР. Из героев очерков этой книги только Ленин и Сталин умерли своей смертью. Под безжалостный пресс преследований попадали и рядовые члены зарубежных партий, бежавшие от полицейских преследований в своих странах, и сотрудники аппарата Исполкома всех рангов[22]. Больше всего жертв было среди работников Службы связи ИККИ — ведь они постоянно выезжали за рубеж, а значит, напрямую контактировали с «классовым врагом». Абсурдность обвинений не знала границ, эмигранты сами «помогали» следователям НКВД — достаточно было признания в том, что человек был выпущен из концлагеря, чтобы в протоколе допроса зафиксировать этот факт как вербовку в агенты гестапо. Террор не пощадил и значительную часть руководства компартий, находившихся на нелегальном положении, и коминтерновских функционеров высшего ранга. Следствие свело предъявленные им обвинения в одно дело, очевидно, рассчитывая на то, что из них можно будет «слепить» громкий судебный процесс. Он весьма соответствовал бы логике «большого террора», который сопровождался шпиономанией и подозрениями в адрес любого иностранца. Вопрос о том, почему Сталин не дал добро на осуждение группы членов Президиума ИККИ и сотрудников его аппарата в ходе особого, четвертого по счету показательного процесса, до сих пор остается открытым[23]. Имеет право на существование версия, что отказ ключевых фигурантов запланированного судилища от дачи вымышленных показаний заставил его организаторов отступить от своего замысла[24]. Однако скорее всего «антикоминтерновский заговор» был одним из нескольких заготовленных впрок сценариев, для превращения которых в открытый судебный процесс нужны были серьезные аргументы и отмашка властей.
 Георгий Михайлович Димитров
1935
[РГАСПИ. Ф. 421. Оп. 1. Д. 272. Л. 1]
Георгий Михайлович Димитров
1935
[РГАСПИ. Ф. 421. Оп. 1. Д. 272. Л. 1]
Так или иначе, репрессии в Коминтерне расчистили дорогу новому поколению руководителей, которое возглавил болгарин Георгий Димитров. Его триумфальное возвращение в Советский Союз весной 1934 года после того, как он был оправдан имперским судом Германии по делу об участии коммунистов в поджоге рейхстага, совпало с размышлениями Сталина о необходимости серьезной реорганизации структуры и изменения методов работы Коминтерна, который двигался, говоря словами Троцкого, «от поражения к поражению». Действительно, компартии не смогли использовать благоприятную для себя конъюнктуру мирового экономического кризиса 1929 года для того, чтобы возглавить протесты безработных и раскачать внутриполитическую ситуацию в ведущих западных странах. В Германии, больше других пострадавшей от последствий кризиса, Веймарская демократия, которую коммунисты считали лживой и буржуазной, была уничтожена не пролетарским восстанием, а захватом власти нацистами. Риторика мировой революции, которую транслировала коминтерновская пресса на десятках языков, мешала реальной интеграции СССР в послевоенную систему международных отношений (в сентябре 1934 года он вступил в Лигу наций). Встречи с Димитровым убедили Сталина в том, что его собеседник обладает достаточным опытом подпольной борьбы для того, чтобы не отступать от модели захвата власти, предложенной большевиками. В то же время болгарин, более десяти лет выступавший в роли коминтерновского эмиссара в различных компартиях, был способен учесть новые тенденции в политическом развитии европейских стран и прежде всего нараставшую фашистскую угрозу. В течение года после возвращения в СССР Димитров, ставший неформальным лидером Коминтерна, подготовил поворот к политике антифашистского народного фронта. Летом 1935 года Седьмой конгресс Коминтерна был утвержден. Акцент был перенесен на защиту демократических завоеваний и антивоенную работу, которая, как и ранее, мыслилась в категориях защиты Советского Союза от империалистической агрессии, однако была дополнена указанием на национальный долг коммунистов — защиту своей страны, если она подвергнется нападению извне. Лидер итальянских коммунистов Пальмиро Тольятти, выступавший по этому вопросу, подчеркнул, что после крушения Версальской системы мир ждет «фашистская война», война, «разрушающая все то, что делает возможным жизнь современной культурной нации»[25]. Закрывая конгресс 20 августа, Димитров подчеркнул, что «мы намеренно выбросили из решений конгресса громкие фразы о революционных перспективах». Они были отодвинуты в неопределенное будущее, на повестке дня перед антифашистскими силами стояли оборонительные задачи. Болгарский коммунист был избран Генеральным секретарем Исполкома Коминтерна, из его аппарата устранили оппонентов новой тактики. Хотя политическая социализация Димитрова, которому на тот момент не было и пятидесяти, прошла в условиях, максимально приближенных к большевистскому подполью, а последующее десятилетие он проведет в СССР, включение его в пантеон российских лидеров Коминтерна было бы неоправданным. Его деятельность отражала новый (последний) этап жизни международной организации коммунистов, который характеризовал переход отдельных компартий к большей организационной и политической самостоятельности, что диктовалось установками антифашистской борьбы, в том числе и в условиях германской оккупации.
 Открытие Седьмого конгресса Коминтерна
25 июля 1935
[РГАСПИ. Ф. 494. Оп. 2. Д. 6. Л. 1]
Открытие Седьмого конгресса Коминтерна
25 июля 1935
[РГАСПИ. Ф. 494. Оп. 2. Д. 6. Л. 1]
После победы над гитлеровским фашизмом Георгий Димитров, Вильгельм Пик, Пальмиро Тольятти, Морис Торез и другие лидеры коммунистического движения вернулись в свои страны. Авторитет коммунистов как активных борцов Сопротивления позволил им занять достойное место в партийно-политической системе стран Центральной и Западной Европы. Но одновременно с уничтожением общего врага возродились отошедшие на второй план идейные предубеждения и социальные конфликты как национального, так и глобального масштаба. Традиции сотрудничества антигитлеровской коалиции были перечеркнуты логикой холодной войны. Коммунисты удостоились особой «чести» быть упомянутыми в фултонской речи Уинстона Черчилля как прислужники и подручные Москвы, чья роль сводилась к ее подрывной силе: «Во многих странах по всему миру вдалеке от границ России созданы коммунистические пятые колонны, которые действуют в полном единстве и абсолютном подчинении директивам, которые они получают из коммунистического центра. За исключением Британского Содружества и Соединенных Штатов, где коммунизм находится в стадии младенчества, коммунистические партии, или пятые колонны, представляют собой все возрастающий вызов и опасность для христианской цивилизации»[26]. Фактически лидер британских тори транслировал клише антикоминтерновской пропаганды предыдущих десятилетий, которые, как оказалось, пережили своего врага (деятельность руководящих структур Коминтерна была прекращена решением его Исполкома с 10 июня 1943 года[27]). Ответ на фултонскую речь не заставил себя долго ждать. В сентябре 1947 года было провозглашено создание Информационного бюро коммунистических и рабочих партий, в которое наряду с ВКП(б) вошли шесть партий из стран, находившихся в сфере советского влияния, а также компартии Италии и Франции. Сам состав его участников свидетельствовал о том, что «Коминтерн2.0» не был копией своего предшественника. Однако на протяжении последующих десятилетий вплоть до завершения истории мирового коммунизма традиции и принципы, заложенные в 1919 году, оставались его идейным стержнем[28]. Политическое руководство в странах «реального социализма» от Восточной Германии до Северного Вьетнама возглавили выходцы из коминтерновской эпохи — достаточно упомянуть Вальтера Ульбрихта и Георгия Димитрова, Мао Цзэдуна и Хо Ши Мина. О том, насколько формальной была на практике верность заветам Коминтерна, свидетельствует фраза, невзначай брошенная М. С. Горбачевым на совещании со своими помощниками 29 сентября 1986 года. Речь зашла о своеволии лидеров социалистических стран, пытавшихся выстроить между собой горизонтальные связи без оглядки на волю Москвы. Последний генсек советской компартии высказался на этот счет достаточно резко, взяв под защиту обновленцев: пора избавляться от «коминтерновского начала» в отношениях с союзниками[29]. То, что и создание, и конец международного коммунистического движения были предрешены лидерами советского государства, лишний раз оправдывает замысел и структуру книги, которая сейчас раскрыта перед читателем. Обширное введение читателя в замысел этой книги делает излишним формальное заключение, венчающее авторский текст. Оно было бы необходимым, если бы предметом нашего рассмотрения являлась история Коминтерна как международной организации, а не ее человеческий фактор. В отличие от политических структур и механизмов людские судьбы невозможно привести к общему знаменателю, пусть даже это были люди, для которых следование идее (как покажут очерки, понимаемой по-разному) стало определяющим стержнем жизненного пути. И заключение, как бы его не разворачивать, неизбежно сведется к иллюстрации избитой истины о том, что опыт прошлого не является путеводной звездой в будущее, он лишь предупреждает от повторения новыми поколениями тех же ошибок и заблуждений, которые уже успели совершить их предшественники. Книга построена как серия биографических очерков, посвященных тому или иному «отцу-основателю», что делает неизбежными повторы в изложении материала. Но потеря личностного начала была бы еще более ощутимой. Автор старался по возможности избегать повторений, стремясь к тому, чтобы все части были связаны друг с другом общим историческим фоном. В ряде случаев в примечаниях даются отсылки к другим очеркам, если в них те или иные факты изложены более основательно и подробно. Сделано это для того, чтобы читатель, заинтересовавшийся только одним из деятелей Коминтерна, получил о нем достаточно полное представление, включая контекст происходивших событий и принимавшихся решений. Настоящей книгой автор подводит итог своим многолетним исследованиям, которые были посвящены различным сторонам деятельности Коминтерна[30]. Ключевые выводы, сделанные на протяжении тридцати лет, в основном выдержали проверку временем, но в ряде случаев при подготовке этой книги были подвергнуты коррективам или смягчены. Оставим рефлексию на этот счет историографам будущего, отметим лишь, что основные научные работы и документы, ставшие доступными за это время, автор старался максимально полно учесть при подготовке биографических очерков. Это прежде всего относится к архивным материалам Коминтерна, которые ныне являются составной частью Российского государственного архива социально-политической истории (РГАСПИ). Без постоянной помощи и поддержки со стороны его руководства, хранителей и научных сотрудников ни одна из авторских книг, посвященных Коминтерну, не увидела бы свет. В связи с этим следует отметить, что в научном аппарате настоящей книги архивные сигнатуры даются на момент обращения автора к архивным делам, а первые выписки из них делались в годы перестройки в тогда еще «секретных тетрадях», являвшихся собственностью ИМЛ при ЦК КПСС. Времена изменились, и тетради, некоторые страницы которых превратились в лохмотья из-за вырезанных цитат, отклонявшихся от партийных канонов (иногда анонимный цензор писал на полях: «Это к делу не относится»), сами стали образом прошлого. Но проблема заключается не в этом. С момента перехода архива КПСС под крыло государства многие из дел были переформатированы, менялась их нумерация, исчезали одни и появлялись другие фонды и описи. Далеко не во всех случаях автору удалось привести ссылки книги на архивные источники в соответствие с ними, за что он заранее приносит свои извинения внимательным читателям и въедливым критикам. Чтобы дать шанс будущим исследователям для дальнейшего поиска, там, где есть такая возможность, примечания не ограничиваются «глухой» ссылкой на место хранения того или иного цитируемого текста в архиве, но и указывают дату и характер самого документа (протокол, резолюция, речь, заявление и т. д.), а в случае письма — его отправителя и адресата. Документальное наследие Коминтерна и его партий как нельзя лучше описывается афоризмом Козьмы Пруткова «нельзя объять необъятное». Вероятно, что среди цитируемых по архивным фондам документов найдутся и те, что были опубликованы уже в нынешнем веке — интерес к истории Коминтерна на протяжении постсоветского тридцатилетия постепенно угасал, но это не означало полной остановки его научного исследования. Однако большинство публикаций выходило мизерными тиражами, печаталось с ориентацией на иностранную аудиторию (финскую, монгольскую, корейскую и т. д.). Обилие цитат в публикуемых очерках определяется биографическим жанром книги — слово предоставляется самим героям, пусть даже их речи, тезисы и предложения, понятные современникам, требуют ныне расшифровки в виде развернутых комментариев. Автор книги не скупился на них, что во многом определяет и ее большой объем, и некоторые отклонения от хронологического принципа подачи материала. Накал политической борьбы, страстные дискуссии, запечатленные в использованных источниках, накладывают свой отпечаток на стилистику текста, который может покажется кому-то из коллег по историческому цеху не всегда академичным, а иногда и нарочито упрощенным. Полезная, но необязательная информация, а также высказывания, принадлежащие героям очерков или их политическим оппонентам, даются в подстрочных примечаниях. Автор сознательно свел к минимуму цитирование документов, опубликованных в момент их появления на свет и обращенных к широкой публике. Эти воззвания, заявления, открытые письма отражают львиную долю работы коминтерновского аппарата. Их нетрудно найти в прессе тех лет, да и выдержаны они в одном и том же пропагандистском ключе, а значит, не содержат чего-то нового для читателя, ориентирующегося в советском прошлом. Напротив, переписка российских лидеров Коминтерна с их зарубежными подопечными представляется крайне важным источником, практически не введенным в научный оборот[31], хотя аналогичные издательские проекты, касающиеся ВКП(б), вызвали огромный интерес исследователей[32]. Речь идет прежде всего о письмах, отправлявшихся в Москву эмиссарами мировой революции из всех уголков земного шара (достаточно указать на Карла Радека, любившего эпистолярный жанр), многие из которых отложились в личных секретариатах Ленина и Зиновьева. Последний активно использовал полученную информацию для принятия кадровых решений и поощрения внутрипартийных интриг, неоднократно призывая лидеров зарубежных компартий «писать возможно чаще в порядке личной дружественной переписки»[33]. Ее недоступность для историков в советское время, языковой барьер и трудности с реконструкцией контекста, в котором создавалось то или иное письмо, наконец, значительные лакуны, связанные с неполной сохранностью документации — все это делает ее достаточно сложной для понимания и интерпретации. Тем более важен свежий пласт материала для того, чтобы предоставить вниманию читателя личный фактор в истории Коминтерна, тот индивидуальный «почерк», который отличал политическую биографию того или иного из его основателей. Если читатель увидит в их действиях не автоматические функции безликого механизма, если почувствует, что самые твердокаменные большевики также состояли из плоти и крови, из чувств и эмоций, симпатий и антипатий, то задачу книги можно будет считать выполненной. И в заключение несколько мелочей, которые могут оказаться полезными. Автор исходит из того, что подготовленный им текст будет читаться целиком. Поэтому полное название цитируемой книги, статьи или документа дается в подстрочных примечаниях лишь один раз, а не повторяется в начале каждого очерка. Также один раз даются инициалы российских и имена иностранных лиц, упомянутых в тексте. Читатель без труда найдет их первое упоминание, воспользовавшись именным указателем. Для ознакомления с краткими биографиями российских и зарубежных деятелей коммунистического движения следует обратиться к сборнику «Политбюро и Коминтерн», который содержит ключевые документы о взаимоотношениях российской и иностранных компартий[34]. Важную помощь тем, кто хочет понять все хитросплетения кадровой эволюции Коминтерна, окажет справочник, посвященный его организационной структуре[35]. При цитировании архивных документов по умолчанию расшифровываются сокращения, исправляются опечатки, грамматические и стилистические ошибки. При написании «Политбюро» для более легкого восприятия текста опускается «ЦК РКП(б) — ВКП(б)». Названия руководящих органов других партий приводятся первый раз полностью (некоторые из компартий также возглавлялись Политбюро и Центральными комитетами), далее — согласно принятым аббревиатурам. В тексте много кавычек, т. к. наряду с цитатами, которые снабжаются отсылкой к источнику, автором берутся в кавычки слова и устойчивые выражения, имеющие непривычный для современного читателя смысл, вложенный в них либо догмами официальной идеологии, либо логикой внутрипартийной борьбы. Когда-то они находились на слуху у миллионов людей и обходились без «закавычивания», будь то «солдаты мировой революции» или «герои германского Октября», «русская делегация» или «объединенная оппозиция». Но эти времена ушли в прошлое. Замена «уклонов», «шатаний», «ренегатства» или «капитулянтства» словами, более понятными нам и любезными нашему слуху, придаст книге в большей степени академический характер, но лишит аромата той эпохи, которым дышали ее герои. В ней появлялись не только новые термины и словосочетания, значение которых колебалось вместе с «генеральной линией партии». Даже простые сокращения придавали словам особый смысл. Все вместе это и составляло тот самый коминтерновский «новояз», на который обратил внимание Джордж Оруэлл в своем знаменитом романе «1984»: «Слова „Коммунистический Интернационал“ приводят на ум сложную картину: всемирное братство, красные флаги, баррикады, Карл Маркс, Парижская Коммуна. Слово же „Коминтерн“ напоминает всего лишь о крепко спаянной организации и жесткой системе доктрин. Оно относится к предмету, столь же ограниченному в своем назначении, как стол или стул»[36]. Внимательный читатель заметит, что автор книги пишет о левых деятелях или течениях в коммунистическом движении без кавычек, а о «правых» — в кавычках. Этот факт также требует объяснения. Хотя Председатель Исполкома Коминтерна и говорил о том, что «левее коммунизма ничего быть не может»[37], именно «левизна» (возьмем вслед за Лениным это слово в кавычки) являлась родимым пятном коммунистического движения, в то время как понятие «правые» употреблялось как политический ярлык, клеймивший тех коммунистов, которые еще не освободились от «проклятого наследия» Второго Интернационала. К середине 1920-х годов этот ярлык несколько выйдет из употребления, но вернется в лексикон Коминтерна после того, как «правый уклон» будет замечен и начнет искореняться в самой партии большевиков. Завершая разговор о коминтерновском языке, следует отметить, что на протяжении первого десятилетия работы международной организации коммунистов немецкий язык доминировал в ее официальных документах. Лидеры партии большевиков, принимавшие постоянное участие в ее работе, прекрасно им владели — многие освоили его за годы вынужденной эмиграции в дореволюционную эпоху. В штате ИККИ состояло немалое число переводчиков, присланных компартиями из своих стран. Материалы конгрессов и пленумов Коминтерна издавались на многих языках мира, включая и русский, воззвания и резолюции его руководящих органов печатались в «Правде». Иначе обстоит дело с перепиской «отцов-основателей», посвященной тем или иным сюжетам международной деятельности коммунистов. Значительная часть ее велась на немецком языке и переводилась на русский самим автором книги, который принимает на себя ответственность за все шероховатости, стилистические погрешности и возможные неточности в сделанных переводах.
Часть 1. Ленин. Первый из демиургов
1.1. Против течения — из эмиграции в Петроград
Биографию Ленина не нужно представлять ни отечественному, ни зарубежному читателю. Его имя неотделимо как от теории российского большевизма, так и истории советского государства. Не менее прочно оно связано с первыми шагами движения левых радикалов, которое получило свое организационное воплощение в Коммунистическом Интернационале. Начнем с анализа доктринальных основ «мирового большевизма», о котором Ленин заговорил еще до основания Коминтерна. С началом Первой мировой войны социалистические партии Европы, объединенные во Втором Интернационале, раскололись по национальному признаку, поддержав собственные правительства. Громкие слова предвоенных конгрессов о том, что международный рабочий класс ответит на военную угрозу всеобщей забастовкой и поставит вопрос о превращении империалистической войны в гражданскую, т. е. начнет борьбу за завоевание власти, так и остались пустыми обещаниями. Лишь немногие представители левого крыла Интернационала, куда входили и российские социал-демократы, в августовские дни 1914 года сохранили верность ортодоксальному марксизму. Для этаблированных партий своих стран они представлялись чужеродным элементом, в условиях авторитарных режимов им доставалась львиная доля полицейских репрессий. Ленин и его соратники прошли тяжелую школу внутрипартийной борьбы и личных конфликтов, фракция большевиков к началу мировой войны превратилась в самостоятельную организацию, хотя формально оставалась в рядах Российской социал-демократической рабочей партии. Было бы упрощением считать, что в основе раскола РСДРП лежали амбиции ее вождей, хотя и этот фактор не следует сбрасывать со счетов. Ленина отличала фанатическая приверженность ключевым положениям марксистской теории, он воспринимал ее как монолитное здание, из которого нельзя вытащить ни единого кирпичика. Следствием этого была его непримиримая борьба с любыми новациями теоретического плана в международном социалистическом движении, которые он трактовал как «оппортунизм», являвшийся в конечном счете следствием подкупа вождей социал-демократии со стороны буржуазии и правящих кругов своих стран. Владимир Ильич Ленин
Март 1919
[РГАСПИ. Ф. 393. Оп. 1. Д. 107. Л. 1]
Владимир Ильич Ленин
Март 1919
[РГАСПИ. Ф. 393. Оп. 1. Д. 107. Л. 1]
Расценив поддержку ведущими партиями Интернационала военных программ своих правительств как предательство коренных интересов рабочего класса, Ленин уже в августе 1914 года призвал к созданию новой международной организации, в которую будут допущены только подлинные социалисты, не запятнавшие себя сотрудничеством с классовым врагом. «Измена социализму большинства вождей II (1889–1914) Интернационала означает идейно-политический крах этого Интернационала. Основной причиной этого краха является фактическое преобладание в нем мелкобуржуазного оппортунизма, на буржуазность коего и опасность давно указывали лучшие представители революционного пролетариата всех стран… Задачей будущего Интернационала должно быть бесповоротное и решительное избавление от этого буржуазного течения в социализме»[38]. За словами немедленно последовали дела. Находясь в швейцарской эмиграции, лидеры большевистского крыла РСДРП установили связи с зарубежными единомышленниками (многим из них также пришлось покинуть свою родину) и сформировали вместе с ними Циммервальдское движение, которое осталось на платформе пролетарского интернационализма, сохранив лозунг революционного выхода из империалистической войны. То, что в манифестах довоенных конгрессов формулировалось достаточно абстрактно, Лениным было сказано вполне определенно и даже грозно: «Долой поповски сентиментальные и глупенькие воздыхания о „мире во что бы то ни стало“! Поднимем знамя гражданской войны! Империализм поставил на карту судьбу европейской культуры: за данной войной, если не будет ряда успешных революций, последуют вскоре другие войны»[39]. Ленин угадал главное: то, что европейский характер войны и примерное равенство сил двух противостоящих коалиций сделают ее чрезвычайно затяжной и кровопролитной. То, что на первых порах казалось причудой политических маргиналов, на третьем году боевых действий обрело притягательную силу для широких народных масс, облаченных в солдатские шинели. В странах Антанты и Четверного союза создавались левые социалистические партии, которые начертали на своих знаменах пацифистские лозунги, осторожно говоря и о возможности революционного выхода из войны. И здесь Ленин вновь поставил чистоту принципов выше организационного единства. В Швейцарии появилась Циммервальдская левая, сторонники умеренного пацифизма в рядах рабочего движения, называвшие себя центристами, получили уничижительную кличку «соглашателей». В отличие от своих соседей справа большевики вместе со своими зарубежными единомышленниками напрочь отвергали мысль о возможности завершения войны без пролетарской революции в передовых странах Европы. Ленин раздувал инстинкты насилия, высвобожденные ожесточением мировой войны, обращаясь к абстрактному рабочему со следующими словами: «…тебе дали в руки ружье и великолепную, по последнему слову машинной техники оборудованную скорострельную пушку, — бери эти орудия смерти и разрушения, не слушай сентиментальных нытиков, боящихся войны; на свете еще слишком много осталось такого, что должно быть уничтожено огнем и железом для освобождения рабочего класса, и, если в массах нарастает злоба и отчаяние, если налицо революционная ситуация, готовься создать новые организации и пустить в ход столь полезные орудия смерти и разрушения против своего правительства и своей буржуазии»[40]. Эпоха революций началась еще до завершения Первой мировой войны. Она открылась свержением самодержавия и вернула лидеров большевизма не только на родину, но и на авансцену истории, переведя сформулированные в швейцарской эмиграции лозунги в плоскость практических задач. Уже в «Апрельских тезисах» Ленин потребовал от партии взять на себя «инициативу создания революционного Интернационала, Интернационала против социал-шовинистов и центра»[41].

 Первоначальный набросок «Апрельских тезисов», написанный В. И. Лениным в поезде по пути в Петроград
3(16) апреля 1917
[РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 4535. Л. 1–2]
Первоначальный набросок «Апрельских тезисов», написанный В. И. Лениным в поезде по пути в Петроград
3(16) апреля 1917
[РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 4535. Л. 1–2]
Летом — осенью 1917 года тезис о том, что «нарастание всемирной революции неоспоримо» и российскому пролетариату нужно сделать лишь решающее усилие для того, чтобы зажечь революционный пожар в Европе, присутствует едва ли не в каждой из ленинских работ. Его оппоненты, в том числе и в рядах его собственной партии, справедливо указывали на то, что отдельные примеры братаний на фронте, забастовок и правительственных кризисов в воюющих странах еще не гарантируют превращения империалистической войны в гражданскую. Ленин продолжал свято верить в то, что рабочие Европы не останутся равнодушными к судьбе своих российских товарищей. «Мы верим в революцию на Западе. Мы знаем, что она неизбежна, но, конечно, нельзя по заказу ее создать… Декретировать революцию мы не можем, но способствовать ей можем и мы. Мы поведем в окопах организованное братание, поможем народам Запада начать непобедимую социалистическую революцию»[42]. Близко общавшийся с ним польско-германский социалист Карл Радек подчеркивал, что сразу по приезде в Россию Ленин начал форсировать «создание международной организации революционеров, подготовку вооруженного восстания», что продолжалось вплоть до советско-польской войны 1920 года[43]. После недолгой демократической интерлюдии большевикам удалось взять в свои руки судьбу Российской империи. Их тактика решающего штурма оказалась более успешной, нежели парламентская стратегия их вчерашних европейских соратников и покровителей. Ученики вскоре почувствовали себя учителями, Россия из окраины цивилизованного мира превратилась в полигон невиданного социального эксперимента. Лозунг «Сделаем, как в России» получил огромную притягательную силу среди трудящихся стран Европы, смертельно измученных тяготами мировой войны. Отныне именно этот пример превращался в главный фактор консолидации революционного крыла международного рабочего движения.
1.2. От Бреста до Берлина
Большевики в полной мере использовали «всемирный масштаб» для легитимации собственного захвата власти. Они неустанно агитировали российских рабочих и крестьян принять на себя мессианскую роль спасения Европы от ужасов войны, продолжавшейся вот уже четвертый год. В резолюции, принятой Петроградским Советом рабочих и солдатских депутатов 25 октября 1917 года, выражалась уверенность в том, что «пролетариат западноевропейских стран поможет нам довести дело социализма до полной и прочной победы».
 Протокол заседания ЦК РСДРП(б) с результатами голосования по вопросу о заключении мира с Германией
23 февраля 1918
[РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 1а. Д. 412. Л. 5–8]
Протокол заседания ЦК РСДРП(б) с результатами голосования по вопросу о заключении мира с Германией
23 февраля 1918
[РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 1а. Д. 412. Л. 5–8]
Пропаганда интернациональной солидарности трудящихся находила позитивный отклик среди солдат по обе стороны от линии фронта, которые подтверждали ее действенность своими братаниями. Стремясь поскорее приблизить завершение войны, они зачастую выдавали желаемое за действительное. Так, группа немецких военнопленных социал-демократов в Москве подписала 25 декабря 1917 года воззвание к немецким солдатам, находящимся на Восточном фронте, как «члены третьего Интернационала»[44]. В начале 1918 года Ленин посчитал, что его партия уже достаточно укрепилась у власти для того, чтобы обратиться к международно-революционной деятельности. Американский корреспондент А. Р. Вильямс, летом 1917 года прибывший в Россию и попавший под влияние большевистских идей, писал в своих мемуарах: январские митинги и собрания, в которых он сам принимал участие вместе с Лениным, были «прелюдией к Третьему Интернационалу, который не состоялся из-за Брест-Литовска и интервенции»[45]. Советская пресса давала совершенно фантастические материалы о том, что даже на далеких окраинах Европы трудящиеся приветствуют диктатуру большевиков. Так, «Известия» 3 мая 1918 года поместили заметку об открытии «Российского революционного консульства в Шотландии, во главе которого стоит известный коммунист, вождь британского пролетариата Джон Маклин», и о том, что данное событие сопровождалось митингом с участием 600–700 тысяч местных рабочих. Из-за разрыва брестских переговоров по вине «левых коммунистов» идеи агитационного наступления в Европе были отодвинуты на второй план — новой российской власти пришлось срочно организовывать оборону Петрограда от наступавших германских войск. Еще летом 1917 года Ленин давал обещание ни при каких условиях не идти на сепаратный мир с Германией — «только соединившись, рабочие и крестьяне всего мира могут прикончить войну. Вот почему мы, большевики, против сепаратного мира, т. е. против мира только России с Германией. Сепаратный мир — глупость, потому что он не разрешит коренного вопроса, вопроса о борьбе с капиталистами и помещиками»[46]. Полгода спустя, став главой советского государства, именно Ленин выступил за скорейшее заключение такого мира, чтобы любой ценой спасти завоеванную власть. Внутрипартийный конфликт по этому вопросу стал тем горном, где революционные надежды переплавлялись в политический реализм. Фракция «левых коммунистов», которая на первых порах всерьез могла рассчитывать на большинство в партии, была просто шокирована столь резким поворотом вождя, считая это предательством принципов пролетарского интернационализма. Ленин в ходе дискуссий также глядел горькой правде в глаза, утверждая, что, подписывая мир с Германией, «мы делаем поворот направо, который ведет через весьма грязный хлев, но мы должны его сделать»[47]. Ленину приходилось не только громить левых оппонентов, делавших ставку на революционное наступление любой ценой, но и успокаивать членов ЦК, которые шли вместе с ним, но остановились в нерешительности перед воротами «грязного хлева». Одним из них был будущий Председатель Коминтерна Г. Е. Зиновьев, предпочитавший говорить о «тяжелой хирургической операции», которая ослабит революционное движение на Западе и усилит позиции германской военщины[48]. Лидер РКП(б) отреагировал достаточно жестко, увидев в такой позиции скрытую поддержку линии Троцкого: «Если мы верим в то, что германское движение может развиваться немедленно в случае перерыва мирных переговоров, то мы должны пожертвовать собою, ибо германская революция по силе будет гораздо выше нашей. Но суть в том, что там движение еще не началось, а у нас оно уже имеет новорожденного и громко кричащего ребенка, и если мы в настоящий момент не скажем ясно, что мы согласны на мир, то мы погибнем»[49]. Позже Зиновьев назвал причины колебаний — своих собственных и ленинских: «Если говорить ретроспективно, то ясно, что надо было заключать мир в ноябре… Конечно, стачки в Вене и Берлине нас слишком очаровали, и мы упустили момент»[50]. Речь шла о январских стачках рабочих оборонной промышленности в столицах Германии и Австро-Венгрии, в которых Москва увидела зарницы первого приступа европейской революции пролетариата. В острой борьбе Ленину в конечном счете удалось склонить на свою сторону большинство членов ЦК партии. 3 марта 1918 года «похабный» Брестский мир был подписан. Надежды германских левых социалистов, объединившихся в группу «Спартак», на то, что Советская Россия ни при каких условиях не подпишет сепаратного мира с германской военщиной[51], сменились жестоким разочарованием. Как оказалось, большевики поставили государственные интересы выше своих интернациональных обязанностей, ибо заключенный мир означал затягивание мировой бойни и новые тысячи жертв на Западном фронте. Между Лениным и Розой Люксембург, чьи отношения не раз омрачались идеологическими конфликтами, пробежала еще одна трещина. Это скажется на отношении «спартаковцев» как к диктатуре большевиков, так и к образованию Коммунистического Интернационала.
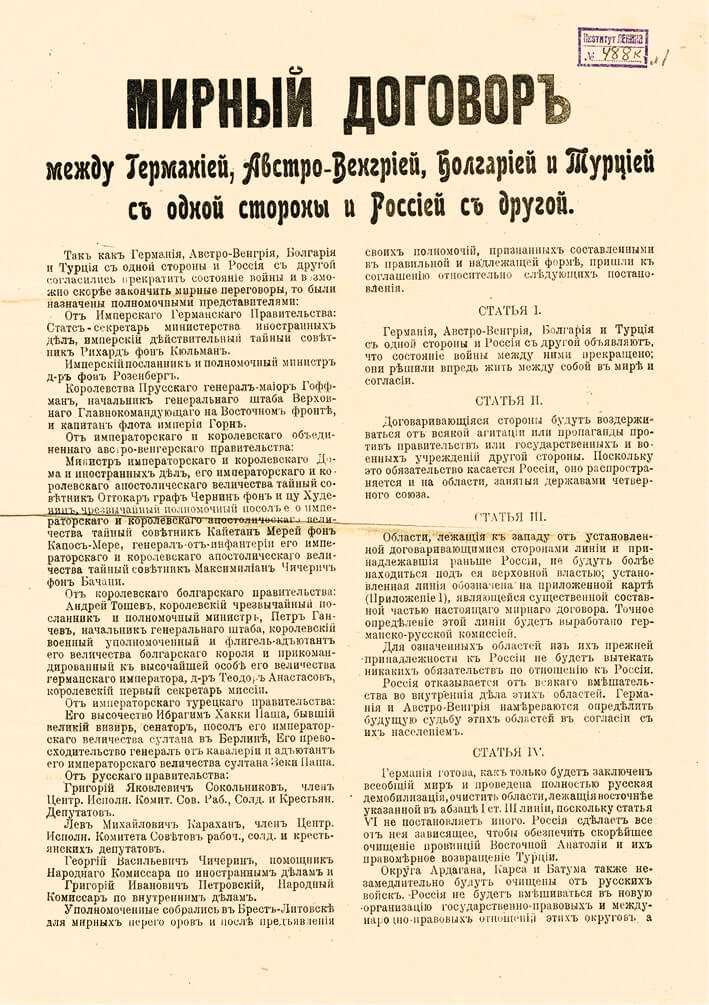 Первая страница официальной публикации Брестского мира
3 марта 1918
[РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 5424. Л. 1–9 об.]
Первая страница официальной публикации Брестского мира
3 марта 1918
[РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 5424. Л. 1–9 об.]
 Роза Люксембург
1910-е
[РГАСПИ. Ф. 421. Оп. 1. Д. 476]
Роза Люксембург
1910-е
[РГАСПИ. Ф. 421. Оп. 1. Д. 476]
Пойдя на заключение сепаратного мира, большевики не собирались отказываться от продвижения вперед дела мировой революции, в апреле 1918 года Ленин в ходе беседы с американским корреспондентом сказал, что кайзер Вильгельм не протянет и одного года[52]. Тот факт, что подписание мира с Россией принесет с собой не стабилизацию ситуации на восточных рубежах, а новые угрозы для победителей, понимали и в Германии. Хотя в Бресте был согласован взаимный отказ от враждебной пропаганды, стороны имели все основания не доверять друг другу. Представитель Верховного главнокомандования генерал Э. Людендорф потребовал от внешнеполитического ведомства не допускать открытия советского представительства в Берлине, предлагая разместить его на оккупированной территории в Ковеле или Бресте. «Для максималистов важно одно: использовать здание посольства для своей пропаганды»[53].
 Письмо А. А. Иоффе В. И. Ленину о внутреннем положении в Германии
20 мая 1918
[РГАСПИ. Ф. 5. Оп. 1. Д. 2134. Л. 1]
Письмо А. А. Иоффе В. И. Ленину о внутреннем положении в Германии
20 мая 1918
[РГАСПИ. Ф. 5. Оп. 1. Д. 2134. Л. 1]
Однако в споре военных и дипломатов победила точка зрения последних: в конце апреля в Берлин приехал персонал советского полномочного представительства во главе с Адольфом Иоффе. Он сочетал в своей работе защиту государственных интересов России и помощь немецким левым социалистам, хотя и был невысокого мнения об их способности взять власть в такой стране, как Германия[54]. Из соображений конспирации прибывавшие из Москвы лидеры РКП(б) встречались со своими немецкими соратниками на частных квартирах и в различных советских учреждениях. Предметом обсуждения на этих консультациях являлись ближайшие перспективы развития внутриполитической ситуации в Германии, причем россияне неизменно выносили из этих встреч представления, что собеседники настроены слишком оптимистически. Можно не сомневаться, что гости из Москвы транслировали мысли, изложенные Лениным в письме американским рабочим, написанном 20 августа 1918 года. Вождь большевиков процитировал слова Чернышевского о том, что «историческая деятельность — не тротуар Невского проспекта». Применительно к мировой социалистической революции это означало, что она не могла идти «легко и гладко, чтобы сразу было соединенное действие пролетариев разных стран, чтобы была наперед дана гарантия от поражений, чтобы дорога революции была широка, свободна, пряма, чтобы не приходилось временами, идя к победе, нести самые тяжелые жертвы, „отсиживаться в осажденной крепости“ или пробираться по самым узким, непроходимым, извилистым и опасным горным тропинкам»[55]. В переводе с поэтического на политический язык это означало, что деятели будущей революции должны иметь в своем арсенале любые методы борьбы за власть, а не уповать на парламентскую трибуну.

 Письмо В. И. Ленина к американским рабочим
20 августа 1918
[РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 6989. Л. 1–19]
Письмо В. И. Ленина к американским рабочим
20 августа 1918
[РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 6989. Л. 1–19]
Переход большевиков к репрессиям по отношению к своим вчерашним союзникам — партиям меньшевиков и эсеров — был также связан с различиями в трактовке мировой пролетарской революции и места России в ней. Запрещение вначале оппозиционной прессы, а затем и политической деятельности самих партий обернулось июльским мятежом левых эсеров, сигналом к которому стало убийство германского посла Мирбаха. В условиях жесткой диктатуры никаких других средств борьбы, кроме вооруженных выступлений, у противников большевиков не осталось. Таким образом, партия левых эсеров, до Брестского мира входившая в советскую коалицию, попыталась спровоцировать разрыв советско-германских отношений и не допустить расширения интервенции в страну армий стран Антанты. Советская печать, перешедшая под полный контроль агитпропа РКП(б), высмеивала надежды левых эсеров на то, что Антанта сможет стать «национальным союзником» новой России. «Некоторые Иванушки-дурачки, в том числе и из рабочего класса, возмущаясь германскими грабежами и расстрелами, готовы броситься в объятья англо-французской шайки»[56]. Подобная сделка не спасла бы революцию, но посеяла бы раздор между рабочими России и стран Антанты, утверждали большевики. Их внешнеполитический курс в конце Первой мировой войны продолжал исходить из аксиомы близкого мирового переворота, в ходе которого в крупнейших передовых странах установится пролетарская власть. Доклады Иоффе свидетельствовали скорее об обратном, подчеркивая неготовность немецких социалистов к борьбе за захват власти. В докладе Ленину от 5 сентября 1918 года он писал: «Вы напрасно думаете, что я жалею денег, я даю им, сколько нужно, и постоянно настаиваю, чтобы брали больше, но ничего не поделаешь, если все немцы так безнадежны: к нелегальной работе и в нашем смысле революционной они просто неспособны, ибо большей частью они политические обыватели, которые пристраиваются так, чтобы избавиться от военной службы, цепко держатся за это, а революцию делают только языком за кружкой пива»[57]. Использовав провокацию, германское правительство разорвало дипломатические отношения с Советской Россией в начале ноября, буквально за несколько дней до краха монархии Гогенцоллернов. На протяжении 1918 года, когда ставка делалась на перерастание империалистической войны в пролетарскую революцию, вопрос о практических шагах по созданию нового Интернационала Лениным не поднимался. Такая организация должна была возникнуть не до, а после победы пролетариата в большинстве стран Европы. До этого момента вождь РКП(б) полагал достаточным уже то, что «пример социалистической Советской республики в России будет стоять живым образцом перед народами всех стран, и пропагандистское, революционизирующее действие этого образца будет гигантским»[58].
1.3. Конец отступления
В подмосковном имении Горки, куда он прибыл 25 сентября 1918 года ввиду ухудшения здоровья[59], Ленин получил возможность личной «передышки», что дало ему время осмыслить события первого года партийной диктатуры. Отсутствие отработанного механизма принятия оперативных решений и скорейшего доведения их «на места», печальный опыт дискуссии вокруг Брестского мира, которая едва не стоила Ленину дела его жизни, показали, насколько неэффективным оказалось простое перенесение приемов внутрипартийной борьбы в государственную практику. К осени 1918 года лидеру РКП(б) удалось выстроить работоспособную вертикаль власти. Именно к нему сходились все информационные каналы, именно он санкционировал любое важное решение. Его временный отход от дел, связанный с покушением Фанни Каплан, показал очевидные минусы подобной системы. В отсутствие вождя исчезла выстроенная им система сдержек и противовесов, тут же дали знать о себе личные амбиции его ближайших соратников. В. И. Ленин во дворе Кремля на прогулке после ранения
Фотограф А. А. Неволин
16 октября 1918
[РГАСПИ. Ф. 393. Оп. 1. Д. 53. Л. 1]
В. И. Ленин во дворе Кремля на прогулке после ранения
Фотограф А. А. Неволин
16 октября 1918
[РГАСПИ. Ф. 393. Оп. 1. Д. 53. Л. 1]
Документы показывают, что потенциальным очагом внутрипартийных разногласий в конце сентября — начале октября 1918 года вполне могла стать и сфера внешней политики. Находясь на излечении в Горках, Ленин невольно чувствовал себя сторонним наблюдателем, чему противилась вся его деятельная натура. Главным источником информации для него в эти дни являлись московские газеты (иностранная пресса попадала в Россию лишь эпизодически и со значительным опозданием). В отличие от зарубежных газет главное место в изданиях, контролировавшихся большевиками, занимали не телеграммы из-за рубежа, а обширные комментарии, определявшие отношение революционной власти к тому или иному событию. Осторожные оценки международного положения после выхода Болгарии из коалиции Центральных держав (30 сентября 1918 года) сменились революционным пафосом. Передовица «Правды» рисовала следующий сценарий развития мировых событий: поражение в войне сделает неизбежной революцию в Германии и Австрии, но это не принудит Антанту к заключению почетного мира. Немецкий рабочий класс откажется от своего Бреста и в союзе с Советской Россией начнет революционную войну. Ее классовый характер будет настолько очевиден, что он разложит войска Антанты еще до первых серьезных сражений[60]. Все это создавало принципиально новую геополитическую обстановку. Мирная передышка, которую обеспечивало режиму большевиков военное противостояние двух враждебных коалиций, заканчивалась. Советской России предстояло сделать трудный выбор, чтобы сохранить шансы на дальнейшее существование — пойти на сближение с победителем, умерив антиимпериалистическую риторику, или сохранить ставку на близкую революцию пролетариата в странах, потерпевших поражение.
 Лев Борисович Каменев
1917–1918
[РГАСПИ. Ф. 323. Оп. 1. Д. 8. Л. 37]
Лев Борисович Каменев
1917–1918
[РГАСПИ. Ф. 323. Оп. 1. Д. 8. Л. 37]
Позиция Ленина выражена в его записке Л. Б. Каменеву, написанной еще до развала коалиции Центральных держав: «…наша действительность изменилась, ибо если Германия побита, то становится невозможным лавирование, ибо нет 2-х воюющих, между коими лавировали мы!!..Нам начинать переговоры о пересмотре Бреста, по-моему не следует, ибо будет теперь забеганием… Выждать надо»[61]. В этом фрагменте уже представлены ключевые моменты новой стратегии. Из предложения «выждать» сформировалась ленинская концепция равноудаленности от обоих лагерей, которая подразумевала отказ от поиска компромисса с Антантой для ревизии Брестского мира еще до полного поражения Германии. Ленин справедливо полагал, что Антанта не пойдет на такой компромисс и не пустит Советскую Россию на мирную конференцию. В то же время это не мешало сделать подобные предложения хотя бы в агитационных целях, на чем настаивали его умеренные оппоненты из числа меньшевиков и эсеров. С точки зрения Ленина такой дипломатический маневр был уже бесполезен, ибо ключ к новой системе международных отношений находился не в стане победителей, т. е. в Париже или Лондоне, а в Берлине. Именно немецкий народ, восстав против грядущего несправедливого мира (большевистская печать постоянно говорила о «втором Бресте»), навязанного ему Антантой, совершит пролетарскую революцию и протянет руку дружбы России. Новые акценты внешней политики подразумевали поиск новых союзников, способных реализовать их на практике, — Ленина явно не устраивали старорежимные «дипломатические комбинации». Тем более что и советские посланники в Европе почувствовали кардинальную перемену ситуации. До того крайне осторожный Ян Берзин, руководитель полпредства РСФСР в Берне, писал Ленину 2 октября: «Застойное положение кончилось. Война вступает в новую стадию… Теперь больше, чем когда бы то ни было, нужно работать на мировую революцию. Сговор империалистов мы должны предупредить — мы должны немедленно вызывать революцию, где только возможно»[62]. Полпред Иоффе был одним из самых ярых приверженцев участия Советской России в мирной конференции, но, почувствовав перемену настроений, стал подчеркивать, что в его предложении речь идет только о получении бесплатной трибуны для того, чтобы обратиться с революционными призывами к пролетариям всего мира. Признавая отсутствие массового движения, полпред подчеркивал, что судьба империи Гогенцоллернов предрешена: «…разгром Германии несомненен. Это надо понимать не в смысле военного разгрома. Знающие люди утверждают, что с военно-стратегической точки зрения дело обстоит вовсе не так скверно, и что Германия могла бы еще долго вести оборонительную войну на чужой территории, уже не говоря о своей собственной. Могла бы, но не может и не может потому, что не хотят солдаты. В этом именно разгром. По самым достоверным сведениям, все дело в том, что немцы, т. е. германский народ, не желают более вести войны»[63].
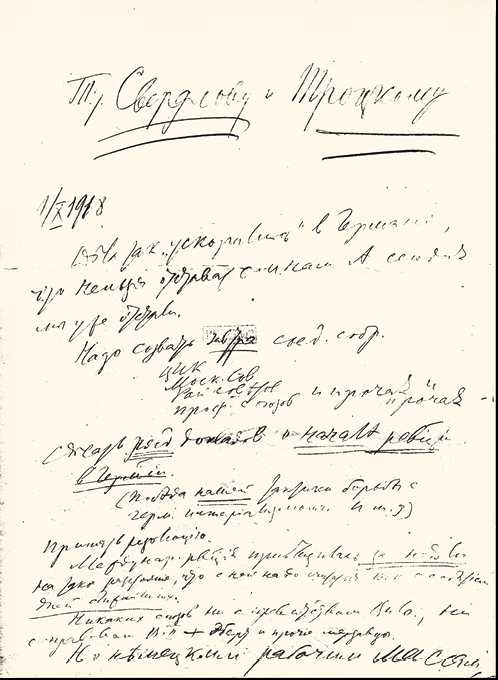
 Письмо В. И. Ленина Я. М. Свердлову и Л. Д. Троцкому о необходимости созвать объединенное собрание ВЦИК, Моссовета и профсоюзов в связи с грядущей революцией в Германии
1 октября 1918
[РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 7219. Л. 1–2]
Письмо В. И. Ленина Я. М. Свердлову и Л. Д. Троцкому о необходимости созвать объединенное собрание ВЦИК, Моссовета и профсоюзов в связи с грядущей революцией в Германии
1 октября 1918
[РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 7219. Л. 1–2]
В отличие от секретных дипломатических донесений из Берлина советская пресса всячески подчеркивала близость германской революции. Поэтому главным союзником Ленина в новых условиях оказывался не осторожный Чичерин, неоднократно предупреждавший об опасности «забегания вперед», а острый на язык и предприимчивый Карл Радек. Двухчасовой разговор последнего по телефону с Лениным, состоявшийся в первый день октября, завершился полным согласованием позиций. Приняв решение, Ленин развернул кипучую деятельность. В тот же день он отправил из Горок Свердлову и Троцкому записку, из которой следовало, что остававшиеся в Москве руководители РКП(б) проспали перелом в развитии международной ситуации: «Дела так „ускорились“ в Германии, что нельзя отставать и нам. А сегодня мы уже отстали». Революция в этой стране рассматривалась как дело ближайших дней, а заодно и как кровное дело большевизма: «Все умрем за то, чтобы помочь немецким рабочим в деле движения вперед начавшейся в Германии революции»[64]. Общий тон ленинской записки от 1 октября означал фактический отказ от услуг Наркоминдела. В ней не было ни слова про пересмотр Брестского мира, дальнейшие переговоры с правительством Германии замораживались. Практические предложения Ленина лежали в пропагандистской и организационно-технической плоскости: собирать хлеб («запасы все очистить и для нас, и для немецких рабочих») и готовить Красную армию для помощи международной рабочей революции, доведя еечисленный состав к весне следующего года до трех миллионов человек. Реализация подобных предложений обещала России новые внешнеполитические и военные потрясения, но она не была простым рецидивом «левого коммунизма». На сей раз подразумевалось, что начать революцию должны сами немцы. Тезис о равноудаленности позволял России сохранять необходимую свободу рук. Через несколько дней Радек так изложил ход мысли вождя: «Мы смотрим на Германию как на мать, рождающую революцию, но если нас немцы не принудят к этому, то мы не поднимем против нее ружье, пока ребенок не родится»[65]. Однако для защиты германской революции лидер РКП(б) был готов рискнуть столкновением с победителями в Первой мировой войне. Записка Ленина заканчивалась просьбой прислать за ним машину, чтобы он мог на следующий день выступить на заседании ВЦИК, Моссовета и рабочих организаций столицы. Однако 2 октября вопрос о помощи германской революции обсуждался только в ЦК РКП(б). В протоколе сохранилась краткая запись: «Поручить Ленину написать заявление от имени правительства и прочесть его на заседании ВЦИК»[66]. Из этой формулировки непонятно, должен ли был Ленин сделать это лично, но разрешения на приезд в Москву от своих товарищей по ЦК он так и не получил. Историк Юрий Фельштинский не жалеет красок для описания драматизма сложившейся ситуации: «И пока Ленин весь день 3 октября сидел на пригорке, с которого видна была дорога, ожидая обещанной, но так и не посланной за ним машины, в ЦК, вопреки воле Ленина, было принято решение о поддержке германской революции, начавшейся на следующий день…»[67] Так и видишь сидящего на скамеечке одинокого, брошенного и забытого вождя, за спиной которого творятся темные дела. Реальное положение дел было совершенно иным. Даже находясь вне Москвы, Ленин сумел нужным образом «построить» своих соратников, заставив их принять собственную точку зрения. На заседании ВЦИК, состоявшемся в тот же день, было зачитано его письмо, написанное накануне и не прошедшее процедуры даже формального одобрения. В нем систематизировалась точка зрения, впервые сформулированная 1 октября: правительственный кризис в Германии означает начало революции, немецкую буржуазию не спасет ни коалиция с социал-демократами, ни военная диктатура. Однако до тех пор, пока власть не окажется в руках у пролетариата Германии, Россия будет сохранять нейтралитет. «Советская власть не подумает помогать немецким империалистам попытками нарушить Брестский мир»[68], ибо этот шаг означал бы переход России на сторону Антанты. А здесь Ленин был совершенно непримирим, не позволяя своим соратникам даже гипотетически размышлять на эту тему. Принятая 3 октября резолюция указывала на исторический характер произошедшего поворота, поставив его в один ряд с захватом власти большевиками. «Сейчас, как и в октябре прошлого года, как и в период Брест-Литовских переговоров, советская власть всю свою политику строит в предвидении социальной революции в обоих лагерях империализма». Немецкий корреспондент Паке обратил внимание на то, что решение было принято без какого-либо обсуждения. «Удивительно, как мало дискуссии. Все определяется несколькими людьми. На сегодняшнем заседании абсолютно [доминирует. — А. В.] созвездие Ленина, Радека, Троцкого»[69]. Да, на сей раз роли были заранее согласованы и точно исполнены. Времена брестских споров ушли в прошлое, политический процесс послереволюционной России с каждым днем приобретал все более закрытый характер. Свердлов не забыл ни одного пункта из ленинских директив. 4 октября по всей Москве состоялись митинги на тему «Война и мировой большевизм». Публикуя и комментируя стенограмму заседания ВЦИК, центральные газеты подчеркивали новую установку — больше никаких уступок германской буржуазии, ибо дни ее сочтены. Мировая революция уже не за горами, но любое сближение с империализмом Антанты ради ревизии Брестского мира отдалит ее. По рядам партийных пропагандистов прошел вздох облегчения: маски сброшены, вновь можно открыто говорить о стратегических целях большевизма. 14 октября Ленин вернулся в Москву и приступил к повседневной работе. Его главное внимание приковали к себе военные события. На это время пришелся пик неразберихи на Южном и Восточных фронтах, вождю опять пришлось разбирать конфликт Троцкого и Сталина[70]. Однако он не забывал и о грядущей мировой революции. На следующий день в Берн и Берлин отправилось его требование присылать вырезки из заграничных газет, посвященные России и социалистическим партиям всех стран, усилить работу по сплочению левого крыла социалистического движения[71].
 В. И. Ленин за рабочим столом в своем кабинете в Кремле
16 октября 1918
[РГАСПИ. Ф. 393. Оп. 1. Д. 44. Л. 1]
В. И. Ленин за рабочим столом в своем кабинете в Кремле
16 октября 1918
[РГАСПИ. Ф. 393. Оп. 1. Д. 44. Л. 1]
Потеряв все козыри, связанные с использованием военной силы, правящая элита Германии лихорадочно осваивала новую роль, которая должна была понравиться победителям: роль защитного вала против угрозы «мирового большевизма», подобного по своим масштабам древнеримскому Лимесу. Карл Радек писал в своих воспоминаниях: когда пришла весть о высылке из Берлина советского полпредства, мы считали причиной такого враждебного шага то, что «социал-демократы боятся нашей агитации. Ильич иначе толковал дело: „Германия капитулирует перед Антантой и предлагает ей свои услуги для борьбы с русской революцией“»[72]. Догадки Ленина были недалеки от истины. 8 ноября глава германского МИД Вильгельм Зольф телеграфировал главе немецкой делегации на переговорах о перемирии Матиасу Эрцбергеру: «Сообщения из нейтральных стран позволяют предположить, что во Франции, Англии и Италии растет страх перед большевизмом, и эта общая угроза будет содействовать заключению мира. Как сообщают, прежде всего в Англии сообщение о высылке Иоффе было воспринято с облегчением. Может быть, Ваше превосходительство сможет использовать эту новость в ходе переговоров о перемирии»[73]. В начале ноября окончательно оправившегося после покушения Ленина охватил настоящий азарт. Он почти ежедневно выступал на торжественных заседаниях и митингах, призывая их участников к самопожертвованию ради помощи рабочим воюющих стран. После того, как в Москву пришло известие о переходе власти в руки социалистов и образовании по всей Германии рабочих и солдатских Советов, в трапезной Чудова монастыря в Кремле был устроен банкет, посвященный началу европейской революции[74]. Дело не ограничилось словесными приветствиями и скромными банкетами. Уже 10 ноября было принято решение о формировании из немцев, сражавшихся в рядах Красной армии, боеспособных воинских частей и переброске их к границе Германии[75]. На следующий день ВЦИК постановил направить 50 вагонов с хлебом «в распоряжение борющихся за диктатуру пролетариата, за власть Советов рабочих и солдат в Германии»[76].Еще через день был аннулирован Брестский мир.
 Юлиан Юзефович Мархлевский
Декабрь 1922
[РГАСПИ. Ф. 491. Оп. 2. Д. 265]
Юлиан Юзефович Мархлевский
Декабрь 1922
[РГАСПИ. Ф. 491. Оп. 2. Д. 265]
Ставка на германскую революцию стала общим знаменателем, сплотившим к концу октября 1918 года руководство РКП(б). Тем горше было разочарование, когда она не пошла по сценарию, написанному в Москве, и не завершилась «царствованием Либкнехта», т. е. диктатурой левых социалистов (с началом революции они переименовали свою организацию в «Союз Спартака». Ближайший соратник Ленина Я. М. Свердлов сообщал через Чичерина Бухарину, Радеку и Мархлевскому, которые направлялись в Берлин на первый Всегерманский съезд Советов, но были остановлены германскими военными властями на пограничной станции Орша: «Спартаковцы развивают самую кипучую деятельность и учатся на своей революционной работе. При этом всякий работник у них до того завален по горло работой, что не может справиться. Каждого, кто попадает туда [в Берлин] сейчас же впрягают в работу. [Они] настаивают, чтобы во что бы то ни стало от нас ехал всякий, кто может. Пробраться можно, в особенности ввиду коррупции, господствующей на фронте»[77]. Надежды Ленина и его соратников на то, что германская революция перевернет всю систему международных отношений и радикально изменит соотношение сил в мире в пользу пролетарской диктатуры, не оправдались. Большевикам и после денонсации Брестского мира приходилось использовать брестскую тактику односторонних уступок. Понимание того, что ситуация в странах Центральной Европы радикально отличается от российской, имело место в Берлине — но не в Москве. Большевики продолжали настаивать: «Революция в Германии не сможет осуществиться при данной ситуации никаким другим путем, чем тот, по которому она пошла в России»[78]. Напротив, пришедшие к власти лидеры СДПГ не только поставили во главу угла борьбу с «красной угрозой», но и призвали на помощь германскую военщину, которая потопила в крови попытки установления власти рабочих и солдатских депутатов в Берлине, Бремене, Мюнхене. Из поражения германских левых в Москве были сделаны лишь тактические выводы. Никто из сторонников Ленина не решился поставить под вопрос идейные основы «мирового большевизма», освященные авторитетом вождя. Использование военной силы для разгрома «спартаковского восстания» в январе 1919 года и убийство лидеров КПГ Карла Либкнехта и Розы Люксембург стало для большевиков лишним подтверждением того, что правовые механизмы являются лишь удобным прикрытием для буржуазной диктатуры классового насилия. В случае если речь зайдет о жизни и смерти, она не остановится ни перед каким кровопролитием для того, чтобы защитить свою власть. «Правительство социал-предателя Шейдемана показало наглядно всему миру, что такое так называемая демократия. Буржуазная или соглашательская демократия — это такой политический строй, при котором лучших борцов пролетариата агенты правительства безнаказанно убивают и бросают в первую канаву»[79]. Бившие через край эмоции на десятилетия определили градус противостояния в рабочем движении европейских стран. Для российского читателя нагнетание страстей имело практическую цель — оно формировало образ врага, наделяло его демоническими чертами и сплачивало массы вокруг РКП(б), как единственной представительницы коренных интересов трудового народа.

 Лидеры Коммунистической партии Германии Роза Люксембург и Карл Либкнехт
1910-е
[Из открытых источников]
Лидеры Коммунистической партии Германии Роза Люксембург и Карл Либкнехт
1910-е
[Из открытых источников]
1.4. Учреждение Коминтерна
Берлинское поражение ускорило процесс организационного раскола международного социалистического движения. Несмотря на то, что власть большевиков в 1918 году не раз висела на волоске, Ленин продолжал живо интересоваться состоянием дел в зарубежном социалистическом движении. В серии революций, произошедших в странах Центральной Европы после окончания мировой войны, не последнюю роль играли силы, ориентированные на повторение русского примера. Именно они стали ядром формирования коммунистических партий. Получив в конце декабря первые номера газеты немецких коммунистов «Роте Фане» и австрийских — «Векруф», Ленин горячо приветствовал оба печатных органа, «знаменующих жизненность и рост III Интернационала»[80]. Посылка с коммунистической прессой, привезенная в Москву сторонником «спартаковцев» Эдуардом Фуксом, стала для лидера РКП(б) самым лучшим новогодним подарком. Напротив, сообщение о том, что английские лейбористы предложили партиям, входившим во Второй Интернационал, как можно скорее обсудить в Лозанне шаги к его возрождению[81], не могло не вызвать у него серьезного беспокойства. Ленин лично отредактировал обращение ЦК РКП(б), призывавшее все революционные силы Европы отказаться от участия в Лозаннской конференции «врагов рабочего класса, прикрывающихся именем социализма»[82]. 28 декабря призывы и обращения были переведены в плоскость практических решений. В этот день Ленин и Чичерин обменялись записками, в которых был предрешен не только формат «международной социалистической конференции», которой предстояло превратиться в Учредительный конгресс будущего Интернационала, но даже сроки («очень скоро») и место его проведения — Германия или Голландия. При этом Ленин не настаивал на том, чтобы союз левых социалистов назвал себя «коммунистическим», этот вопрос должен быть решен на самой конференции[83]. Георгий Васильевич Чичерин
1920-е
[РГАСПИ. Ф. 159. Оп. 1. Д. 10. Л. 67]
Георгий Васильевич Чичерин
1920-е
[РГАСПИ. Ф. 159. Оп. 1. Д. 10. Л. 67]
По итогам состоявшегося обмена мнениями была выработана идейная и организационная платформа будущей организации коммунистов. Последняя должна была принять за основу теорию и практику большевизма, в нее могли войти только те партии, которые выступают за немедленную социалистическую революцию. Германский опыт побудил Ленина выдвинуть в качестве решающего критерия отбора партий для нового Интернационала их отказ от ограничения борьбы рамками буржуазного парламентаризма, а также признание советского типа власти единственно возможным в случае установления диктатуры пролетариата, ибо он «выше и ближе к социализму»[84]. Чичерин, оппонировавший вождю, высказывал сомнения в своевременности создания столь масштабной международной организации в условиях, когда компартии можно было сосчитать на пальцах одной руки. Столь же осторожную позицию заняла и Роза Люксембург. За несколько дней до своей гибели она сказала члену Правления КПГ Гуго Эберлейну, что в настоящий момент образование Коммунистического Интернационала представляется ей поспешным шагом.
 Гуго Эберлейн
Декабрь 1922
[РГАСПИ. Ф. 491. Оп. 2. Д. 278]
Гуго Эберлейн
Декабрь 1922
[РГАСПИ. Ф. 491. Оп. 2. Д. 278]
В то же время она предложила ему отправиться на конференцию в Москву, чтобы лично изложить большевикам доводы немецких товарищей[85]. Карл Либкнехт, оппонируя Радеку на Учредительном съезде КПГ, также выступил против спешки, найдя весьма осторожный аргумент: «немецкий пролетариат пока еще не дорос до союза с российским пролетариатом»[86]. Гибель вождей и полицейские репрессии, обрушившиеся на КПГ после участия в неудавшейся попытке захватить власть в Берлине, могли только усилить скептицизм бывших «спартаковцев». Радек сообщал из Берлина в конце января, что они «не думают, чтобы в близком будущем можно было организационно чего-нибудь достигнуть»[87]. На неопределенное время был потерян главный союзник большевиков за рубежом, и создаваемое объединение коммунистов грозило окончательно потерять свой международный характер.
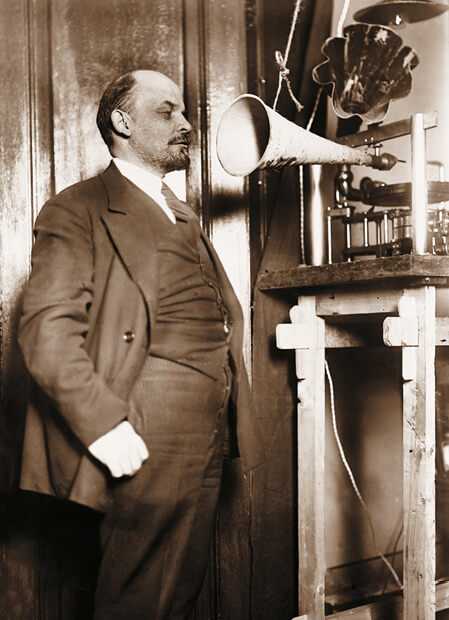 В. И. Ленин в Кремле произносит речь для записи на грампластинку
29 марта 1919
[РГАСПИ. Ф. 393. Оп. 1. Д. 126]
В. И. Ленин в Кремле произносит речь для записи на грампластинку
29 марта 1919
[РГАСПИ. Ф. 393. Оп. 1. Д. 126]
Ленин оказался перед дилеммой: нужно было либо откладывать его создание на неопределенное время, либо ускорять этот процесс, идти буквально напролом, беря в расчет то, что создание генерального штаба мировой революции в далекой России, да еще без участия известных зарубежных социалистов, будет граничить с заурядным фарсом. Однако вождь российских большевиков никогда не отступал от задуманного. Выступая 20 января 1919 года на Всероссийском съезде профсоюзов, он в очередной раз заявил о том, что Коммунистический Интернационал уже фактически создан[88]. Дело было за формальной процедурой его учреждения. Катализатором этого процесса стала инициированная лейбористами конференция, которая состоялась в Берне в феврале 1919 года[89]. Она была расценена в Москве как попытка «гальванизировать труп Второго Интернационала», однако, несмотря на заявления советской прессы о невыполнимости данного эксперимента, процесс восстановления контактов между ведущими социал-демократическими партиями Европы начался, и Ленин не мог его просто проигнорировать. Его изначальные расчеты на то, что международную конференцию сторонников «мирового большевизма» также удастся провести в одной из западноевропейских стран, оказались чистой утопией. Послевоенная революционная волна быстро потеряла свою энергию, нигде кроме России политический переворот не перерос в социальный. С огромными трудностями несколько участников будущей конференции добрались в Россию из-за рубежа, большинство же коммунистических групп и партий представляли эмигранты, проживавшие и работавшие в Москве. Вопрос о ее статусе и повестке дня обсуждался на заседании группы делегатов 1 марта 1919 года. Эберлейн заявил, что имеет императивный мандат и будет голосовать против немедленного провозглашения нового Интернационала. Ленин предпочел уступить. В результате было принято компромиссное решение: «конференция, не являясь формально учредительницей III Интернационала, занимается выработкой платформы, избирает Бюро, обращается с призывом о присоединении»[90]. Открывая на следующий день первое заседание конференции, вождь РКП(б) предложил свое видение современной эпохи: «Наше собрание имеет великое всемирно-историческое значение. Оно доказывает крах всех иллюзий буржуазной демократии. Ведь не только в России, но и в наиболее развитых капиталистических странах Европы, как например, в Германии, гражданская война стала фактом»[91]. Еще через день в связи с прибытием всех ожидаемых участников информация о начале работы конференции появилась в прессе. На вечернем заседании 4 марта председательствующий — швейцарец Фриц Платтен — зачитал заявление ряда делегатов о необходимости немедленного конституирования Третьего Интернационала. Очевидно, что это было частью запланированного Лениным сценария, хотя и производило впечатление экспромта[92].
 Швейцарец Фриц Платтен выступает на митинге на площади им. Урицкого в Петрограде
Справа — нарком просвещения А. В. Луначарский и представитель НКИД И. Л. Лоренц
8–12 марта 1919
[РГАСПИ. Ф. 488. Оп. 2. Д. 42. Л. 1]
Швейцарец Фриц Платтен выступает на митинге на площади им. Урицкого в Петрограде
Справа — нарком просвещения А. В. Луначарский и представитель НКИД И. Л. Лоренц
8–12 марта 1919
[РГАСПИ. Ф. 488. Оп. 2. Д. 42. Л. 1]
 Президиум Первого конгресса Коминтерна
Слева направо: Г. Клингер, Г. Эберлейн, В. И. Ленин, Ф. Платтен, Э. Руднянский
2–6 марта 1919
[РГАСПИ. Ф. 393. Оп. 1. Д. 102. Л. 1]
Президиум Первого конгресса Коминтерна
Слева направо: Г. Клингер, Г. Эберлейн, В. И. Ленин, Ф. Платтен, Э. Руднянский
2–6 марта 1919
[РГАСПИ. Ф. 393. Оп. 1. Д. 102. Л. 1]
Договоренность, достигнутая на предварительном совещании, была нарушена, и Эберлейну вновь пришлось взять слово для того, чтобы изложить аргументы своих товарищей. Он напомнил о том, что «настоящие коммунистические партии существуют только в немногих странах, в большинстве из них они образовались лишь за последние недели; во многих странах, где сейчас имеются коммунисты, они еще не имеют никакой организации». Причину спешки немецкий делегат справедливо видел в том, что инициаторы конференции «находятся в значительной мере под влиянием процессов, происходящих во II Интернационале; что после того, как состоялась Бернская конференция, они стремятся противопоставить ей конкурирующее предприятие»[93]. Это звучало как прямой упрек в адрес большевиков, но опровержений не последовало — границы толерантности в момент зарождения коммунистического движения являлись еще достаточно широкими. Решение было принято при одном воздержавшемся. Коммунистический Интернационал задумывался Лениным не как федерация равноправных партий, представлявших отдельные страны, а как генеральный штаб идущей по всему миру гражданской войны между буржуазией и пролетариатом. В перспективе Коминтерну предстояло стать прообразом будущего мирового правительства — «Всемирного союза Советских пролетарских республик», как выразился финский коммунист Юрье Сирола. Этим диктовались решительный разрыв с традициями массовых рабочих партий, формирование кадров профессиональных революционеров и постоянная чистка их рядов, строгая конспирация и использование методов подпольной работы, опробованных большевиками в борьбе с самодержавием. Назначение Зиновьева главным «смотрящим» за Коминтерном также являлось важной частью попытки построить особую модель международной организации, которая оставит за бортом все слабости и неурядицы Второго Интернационала. Отвечая в своих мемуарах на вопрос о том, почему выбор пал именно на него, Анжелика Балабанова справедливо выделяла именно этот макиавеллевский подход: «В его сотрудничестве с Зиновьевым, как и в общей своей стратегии, Ленин руководствовался тем, что он считал высшими интересами революции. Он знал, что в лице Зиновьева у него есть надежное и послушное оружие, и он никогда и на минуту не сомневался в своем собственном умении управлять этим орудием для пользы революции. Зиновьев был интерпретатором и исполнителем воли других людей, а его личная проницательность, двусмысленное поведение и бесчестность давали ему возможность выполнять эти обязанности более эффективно, чем это мог сделать более щепетильный человек. Ленин был больше озабочен тем, чтобы его решения были действенными, нежели способом, которым они выполнялись»[94].
 Делегаты конгресса во время агитационной поездки в Петроград
Справа налево: И. Л. Лоренц, А. В. Луначарский, Г. Е. Зиновьев, французский делегат А. Гильбо, Ф. Платтен, шведский делегат О. Гримлунд, Н. М. Анцелович
8–12 марта 1919
[РГАСПИ. Ф. 488. Оп. 2. Д. 40. Л. 1]
Делегаты конгресса во время агитационной поездки в Петроград
Справа налево: И. Л. Лоренц, А. В. Луначарский, Г. Е. Зиновьев, французский делегат А. Гильбо, Ф. Платтен, шведский делегат О. Гримлунд, Н. М. Анцелович
8–12 марта 1919
[РГАСПИ. Ф. 488. Оп. 2. Д. 40. Л. 1]
Решения Первого конгресса лишний раз подтвердили, что после окончания мировой войны коммунистами и социал-демократами были сделаны противоположные ставки. Первые рассчитывали на гибель традиционных политических структур, чтобы на расчищенном от «старого общества»[95] месте диктаторскими методами возвести утопию, названную коммунизмом. Вторые — на трансформацию этих структур путем парламентских реформ и подчинение интересам трудящихся в условиях сохранения демократических завоеваний. До тех пор пока ситуация оставляла открытой и ту, и другую перспективу, сближение обоих течений рабочего движения Европы не стояло на повестке дня. В условиях полной уверенности делегатов Учредительного конгресса в близости окончательной победы мировой революции и отсутствия сколько-нибудь массовых коммунистических партий акцент был сделан на максимально широкую пропаганду политического опыта большевиков. Уже на первом заседании Бюро Исполкома Коминтерна 26 марта 1919 года Г. Е. Зиновьев, принявший по устному соглашению с Лениным бразды правления новой организацией, проинформировал собравшихся о том, что согласно решению пленума ЦК РКП(б) международная пропаганда и финансирование зарубежных коммунистических групп изымаются из ведения ВЦИК и Наркоминдела[96]. Первые плоды деятельности коминтерновского отдела пропаганды и агитации, финансируемого из государственного бюджета Советской России, выдавались за инициативу иностранных коммунистов. В своих речах, письмах и интервью, обращенных к зарубежному общественному мнению, Ленин неустанно подчеркивал: «Будущее принадлежит советскому строю во всем мире. Это доказали факты: стоит подсчитать, скажем, по четвертям года, рост числа брошюр, книг, листков, газет в любой стране, стоящих за Советы и сочувствующих Советам»[97]. Вождь особенно не церемонился ни с деньгами, ни с качеством кадров, отправлявшихся за рубеж. Поговорив с двумя итальянскими военнопленными, которые отправлялись на родину с большой суммой денег, Балабанова была шокирована и направилась прямо к Ленину: «Владимир Ильич, — сказала я, описав ему эту ситуацию, — советую Вам забрать назад деньги и мандаты. Эти люди просто наживаются на революции. В Италии они нанесут нам серьезный вред. Его ответ камнем упал мне на сердце. — Для развала партии Турати[98], — ответил он, — они вполне годятся. Для меня это было первым указанием на то, что отношение Ленина к небольшевистским отделениям [коммунистического] движения было отношением военного стратега, для которого деморализация „врага“ на войне является необходимым делом. Считается, что орудиями такой деморализации должны быть люди, лишенные сомнений и — что более важно — являющиеся профессиональными клеветниками. Новый интернационал стал плодить таких людей, как мух»[99]. И подобных примеров «кадровой работы» в первые годы большевистской диктатуры можно было бы привести великое множество. Еще в феврале 1919 года Ленин отправил в вояж по европейским странам Александра Абрамовича, который вместе с ним находился в швейцарской эмиграции и прибыл в Россию в «пломбированном вагоне». Хотя целью Абрамовича была Франция, несколько недель он провел в Германии, став свидетелем и участником Баварской советской республики[100]. После почти годичной командировки он представил Москве весьма нелицеприятную картину того, как создавались на Западе коммунистические партии. Прежде всего его возмущало разбазаривание огромных средств, выделявшихся руководством Советской России на поддержку своих единомышленников в европейских странах. Они отравляли атмосферу в коммунистических группах и партиях, развращали их лидеров, вели к тому, что к движению прибивались разного рода мошенники и авантюристы. Руководители компартий становились послушными исполнителями воли московских эмиссаров, которые перетасовывали местные кадры на собственный лад: «каждый приехавший последним начинает иначе устраивать и считает, что он лучше знает, что нужно делать». В результате «партий учреждается соответственно количеству приехавших из России товарищей с деньгами»[101]. Эмиссарами мировой революции в европейских странах были не только старые большевики, которым Ленин безоговорочно доверял. Несколько раз такую функцию брал на себя голландский коммунист Себальд Рутгерс. Через созданный им Западноевропейский секретариат Коминтерна шли финансовые потоки коммунистам практически всех стран от Скандинавии до Балкан, от Франции до США[102]. Ленин продолжал искать любую возможность для того, чтобы через иностранных корреспондентов в России, по радио или путем отправки секретных курьеров представить западному общественному мнению идеализированный образ большевистской диктатуры, который должен был превратить ее в пример для подражания для всего прогрессивного мира.

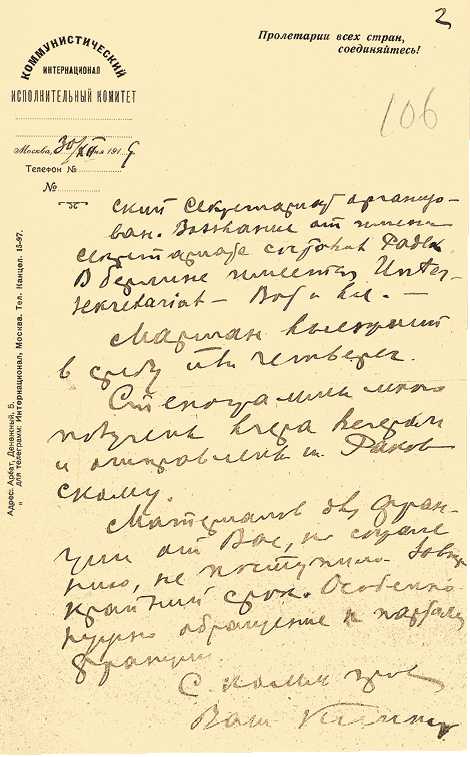 Письмо Кингисеппа Зиновьеву о текущей работе Малого бюро ИККИ
30 декабря 1919
[РГАСПИ. Ф. 324. Оп. 1. Д. 549. Л. 105–106]
Письмо Кингисеппа Зиновьеву о текущей работе Малого бюро ИККИ
30 декабря 1919
[РГАСПИ. Ф. 324. Оп. 1. Д. 549. Л. 105–106]
1.5. Борьба с левизной
Образование реальных коммунистических партий в странах Европы проходило совсем не так, как это виделось российским основателям Коминтерна. В австрийской и немецкой компартиях, основанных до Учредительного конгресса, весной — летом 1919 года развернулась острая фракционная борьба, отнюдь не последнюю роль в которой играл вопрос о распределении «русских денег». В Вену эти деньги добирались через эмиссаров из Советской Венгрии, самым известным из которых был Эрнст (Эрнё) Беттельгейм. Он сумел изолировать членов ЦК КП Австрии, которые погрязли во внутренних склоках, и заменил партийное руководство особой «директорией» во главе с самим собой. В ходе очередного внутриполитического кризиса в стране Беттельгейм попытался организовать антиправительственную демонстрацию. Однако ее не поддержал даже батальон Красной гвардии, расквартированный в центре Вены и находившийся под контролем коммунистов. Жертвой силового разгона демонстрации 15 июня 1919 года стали 17 человек, а компартия в течение нескольких месяцев потеряла три четверти своей численности[103]. Понятие «беттельгеймерства» стало нарицательным в истории раннего коммунистического движения, подразумевая бездумные провокации властей без оглядки на возможные жертвы и последствия. Нечто подобное происходило в германских городах, где зимой — весной 1919 года провозглашались локальные советские республики. КПГ, оставшись без своих вождей, двигалась от поражения к поражению, так и не сумев завоевать массового влияния. Пауль Леви, вставший во главе партии после убийства Карла Либкнехта и Розы Люксембург, олицетворял собой тип левого социалиста, для которого ценности довоенного рабочего движения Европы значили гораздо больше, чем коминтерновские инструкции из Москвы. Пауль Леви
Художник И. И. Бродский
Июль — август 1920
[РГАСПИ. Ф. 489. Оп. 1. Д. 68. Л. 28]
Пауль Леви
Художник И. И. Бродский
Июль — август 1920
[РГАСПИ. Ф. 489. Оп. 1. Д. 68. Л. 28]
Укрепив свои позиции в местных организациях и проведя несколько партийных конференций, «левиты» развернули подготовку ко второму съезду КПГ, который прошел 20–24 октября 1919 года в окрестностях Гейдельберга. В политическом докладе Леви доминировали два пункта: политэкономическая характеристика прошедшей войны и критика левацкого уклона внутри КПГ[104]. Предложение о том, что «партия должна раствориться в экономических организациях пролетариата или отказаться от руководящей роли, ограничившись пропагандой», с которым выступили анархо-синдикалисты, было отвергнуто как контрреволюционное. И наконец, федеративную структуру КПГ, которая являлась наследием Союза Спартака[105], должна была сменить «строжайшая централизация, отвечающая потребностям революционной эпохи». Дебаты по политическим тезисам, предложенным съезду Правлением, развернулись только после принятия общей резолюции, давшей Леви необходимую поддержку. Левые делегаты, голосовавшие против резолюции, были попросту выведены из зала заседаний, а затем и исключены из партии. Несмотря на просьбы членов Правления КПГ дать оппозиционерам время подумать, чтобы оставить открытым путь к примирению, Леви действовал крайне решительно. Его биограф пишет о том, что форсированное изгнание левых было необходимо для завоевания симпатий «независимцев», т. е. членов НСДПГ, и в этом утверждении есть рациональное зерно[106]. Речь шла не только об идейном размежевании — левые радикалы были рупором стихии партийных низов, которая имела явные анархические черты и никак не желала признавать инструменты парламентской демократии. В последующем линия Леви, который расправился со своими оппонентами совершенно по-большевистски, противопоставлялась ленинскому курсу на сплочение всех сил, двигающихся в направлении Коминтерна. Спустя почти десять лет лидеры объединенной оппозиции в ВКП(б) Зиновьев и Троцкий обвинят руководство КПГ в проведении «архиправой» капитулянтской политики, особо подчеркивая, что «прямым безумием является выталкивание из германской компартии сотен и сотен старых кадров рабочих-большевиков. Это и есть тот путь, по которому повел было германскую компартию в Гейдельберге Пауль Леви, когда он был еще коммунистом. И Ленин, и все мы тогда считали, что это — верный путь к тому, чтобы погубить германскую компартию»[107]. На самом деле Ленин никогда не действовал в рамках единожды заданной жесткой схемы, примеряя собственную линию к внешним обстоятельствам, и вопрос о левых в КПГ не являлся здесь исключением. Накануне Гейдельбергского съезда он признал наличие острых разногласий в «невероятно быстро выросшем массовом движении» коммунистов, привычно возложив вину за это на преследования власти и невозможность их открытого изживания в легальной прессе[108]. Ссылаясь на исторический опыт собственной партии, Ленин назвал это «болезнью роста», которая будет изжита в ходе дальнейшей борьбы. Получив первые сведения об исключении на съезде левой оппозиции, он высказался против подобного распыления сил. «С точки зрения интернациональной, восстановление единства Коммунистической партии Германии и возможно и необходимо»[109]. Однако тревожный звонок был услышан — опыт КПГ подтверждал, что никакого автоматического движения пролетарских масс в лоно коммунизма произойти не может. Напротив, леворадикальные настроения возвращали только что созданные компартии в состояние сектантских групп, оторванных от реальной жизни. Их активистам не удалось проникнуть в массовые организации рабочего класса, прежде всего в профсоюзы, остававшиеся в условиях послевоенного социального кризиса важным фактором политической борьбы. Традиции «постепенности», сложившиеся за предшествующие десятилетия, оказывались сильнее зажигательной пропаганды крайне левых. Тот факт, что условия работы социалистов в царской России и в передовых странах Европы были совершенно различными, признавался на словах, но отступал перед требованиями Коминтерна следовать «советскому образцу», возведенному в догму решениями его Учредительного конгресса. Путчизм и вспышкопускательство, нашедшие свое яркое выражение в «беттельгеймерстве», грозили похоронить под собой еще не оформившееся толком международное движение коммунистов. Подобные настроения характеризовали не только австрийскую компартию, где тон задавали молодые ветераны войны, вернувшиеся из русского плена убежденными большевиками. Венгр Бела Кун, также прошедший через сибирские лагеря для военнопленных, весной 1919 года провозгласил в Будапеште Советскую республику, раздавленную к июлю вооруженными силами Антанты.
 Бела Кун
1920
[РГАСПИ. Ф. 489. Оп. 2. Д. 197. Л. 1]
Бела Кун
1920
[РГАСПИ. Ф. 489. Оп. 2. Д. 197. Л. 1]
Оказавшись год спустя в венской тюрьме, он убеждал Ленина в том, что свержение буржуазных правительств ведущих держав продолжает стоять на повестке дня: «В Западной Европе нет страха перед преждевременными родами революции, здесь не нужно тормозить рабочих и удерживать их от попыток завоевания власти. Некоторые Ваши высказывания последнего времени используются всеми вшивыми оппортунистами в коммунистических партиях и вне их, чтобы не только предостеречь от путчей, но вообще тормозить движение. Я прошу Вас поэтому не тормозить [и не утверждать], что русский метод большевизма в Западной Европе не может быть просто применен…» Приводя примеры «вшивого оппортунизма», Кун выражал свою убежденность в том, что «лучше действовать по русскому методу со всеми ошибками тамошнего развития, чем под видом применения метода кастрировать большевистскую партию и ее действия»[110]. И он не был одинок в своем безудержном радикализме, будучи уверен в том, что подобные признания в верности и готовности к самопожертвованию будут отмечены в Москве. Однако вследствие поражений в Мюнхене и Будапеште, послевоенной нормализации жизни в странах Антанты и падения интереса к советскому эксперименту такая «левизна» стала восприниматься Лениным уже не как гарантия победы, а как угроза поражения компартий. К весне 1920 года стало очевидно, что экономическая политика «военного коммунизма» буксует, и Советская Россия никак не превращается в путеводную звезду для европейского рабочего класса. Несмотря на крайнюю загруженность государственными делами, лидер РКП(б) продолжал интересоваться коминтерновской проблематикой. 3 апреля 1920 года он ознакомился с документами учредительного съезда Коммунистической рабочей партии Германии (КРПГ), который открылся в тот же день в Берлине. Через полгода после своего изгнания «левая» часть немецких коммунистов заявила о создании собственной партии, разделявшей синдикалистские взгляды и с опаской относившейся к большевистской модели партийного строительства. При чтении тезисов КРПГ о революционной работе на производстве Ленин сделал пометки «неверно», «не точно»[111], однако обошелся без разгромных эпитетов, которые нередко использовал в отношении умеренных социалистов. Раскол в германской компартии он считал серьезной угрозой, которая могла нанести вред Коминтерну в целом. Попытка примирить фракцию большинства в КПГ и лидеров КРПГ, предпринятая его Западноевропейским секретариатом в Амстердаме, провалилась[112]. Выбор между строптивыми «левыми» и послушными «умеренными» в только что возникших компартиях оказался выбором между Сциллой и Харибдой, и вождь РКП(б) был готов бросить на чашу весов весь свой авторитет для того, чтобы привести и тех, и других к общему знаменателю. Решение пригласить делегацию КРПГ на Второй конгресс было принято в Политбюро 28 апреля 1920 года[113], в руководстве РКП(б) спорили по этому вопросу целых два месяца. Лояльным оппонентом Ленина в данном случае выступал Карл Радек, не понаслышке знакомый с положением дел в Германии. Он считал, что фракция большинства в КПГ во главе с Паулем Леви должна получить всемерную поддержку Москвы, а «левых» нужно осудить как сектантов и раскольников. Одержав победу в вопросе о сохранении связей с КРПГ, Ленин отдал должное радековским аргументам. Сразу же после Девятого съезда РКП(б), отложив в сторону все дела, он сел за написание одной из самых известных своих работ — «Детской болезни „левизны“ в коммунизме».
 Брошюра В. И. Ленина «Детская болезнь „левизны“ в коммунизме»
1920
[РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 14399]
Брошюра В. И. Ленина «Детская болезнь „левизны“ в коммунизме»
1920
[РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 14399]
Будущий конгресс Коминтерна должен был стать не только инструментом сплачивания разношерстных коммунистических групп, но и местом масштабной презентации ленинской книги, которая в срочном порядке переводилась на основные европейские языки. Ленинская брошюра открывалась фразой, которую можно было истолковать как угодно: «Русский образец показывает всем странам кое-что, и весьма существенное, из их неизбежного и недалекого будущего»[114]. Нетрудно предположить, что такой подход сохранял в руках большевиков все нити управления иностранными коммунистами, позволяя решать, что является существенным, а что выходит за рамки туманного «кое-чего». Разные условия существования и борьбы левых социалистических партий в европейских странах, по мысли Ленина, будут нивелированы преобразованием последних в «железные и закаленные в борьбе» армии мировой пролетарской революции. Следует признать, что вождь РКП(б) постепенно возвращался на почву упрямых фактов, которые никак не укладывались в доктрину «мирового большевизма». Новым в его работе было то, что наряду с борьбой против соглашательства и оппортунизма традиционных социал-демократических партий коммунистам предписывалось открыть второй фронт, на сей раз против левацких элементов, которые грозят привести молодые партии в болото «доктринерства и сектантства». В переводе на язык конкретной тактики это означало, что зарубежные соратники большевиков должны учитывать реальные настроения рабочих масс, пытаться завоевать их доверие, не пренебрегать работой в профсоюзных организациях и активно использовать инструменты, предоставленные им «буржуазной демократией». В последнем случае Ленин имел в виду парламентскую деятельность, которую в предшествовавшие годы он клеймил как инструмент изощренного обмана трудящихся масс.
1.6. Второй конгресс Коминтерна
Хотя у Коминтерна еще не было своего устава, где была бы определена периодичность созыва конгрессов, Ленин настаивал, что любые повороты политики международной организации коммунистов должны обсуждаться максимально широко (в годы, когда он твердо держал в своих руках бразды правления, конгрессы созывались ежегодно). Созданный в Москве «интернационал действия» противопоставлялся инертности и кастовой замкнутости Второго Интернационала, который за четверть века своего существования провел только девять конгрессов. В начале 1920 года главной проблемой, с точки зрения Ленина, являлся быстрый рост коммунистического движения вширь, стихийное образование леворадикальных групп и партий в разных странах мира, называвших себя коммунистическими, но имевших слабое представление и друг о друге, и о доктрине «мирового большевизма». Второй конгресс Коминтерна должен был ввести этот процесс в единое русло, унифицировать идейную платформу движения, усилить центростремительные тенденции в отдельных странах. Компартиям следовало прислать в Россию как можно более представительные делегации, а одного из членов каждой из них оставить потом для работы в Исполкоме. Сочувствующие коммунизму группы и движения, стоявшие в оппозиции к существующим в той или иной стране компартиям, приглашались на конгресс с совещательным голосом. 2 июня было подготовлено соответствующее информационное письмо о созыве конгресса за подписями Зиновьева и Радека, разосланное открытым текстом по радио и опубликованное в прессе. В отличие от Учредительного конгресса, созыв которого держался в тайне, приглашение на Второй конгресс зарубежные сторонники Коминтерна получили гласно. С одной стороны, рассчитывать на сохранение секретности при наличии десятков коммунистических партий было бессмысленно, с другой — ставка делалась на то, что «открытое назначение съезда вызовет огромный прилив и сильнее свяжет нас с рабочим движением всего мира»[115]. И наконец, шаги этаблированных социал-демократических партий европейских стран по скорейшему возрождению Второго Интернационалатребовали немедленной и открытой реакции. «Конгрессу мертвых душ» (Радек), созываемому в Женеве социал-демократами, следовало как можно скорее противопоставить его новорожденного соперника. Все ключевые вопросы, связанные с подготовкой Второго конгресса Коминтерна, обсуждались с участием Ленина, зачастую в его рабочем кабинете в Кремле. Такие встречи носили неформальный характер и не стенографировались[116], однако именно они являлись генеральной репетицией конгресса. Серьезные споры велись вокруг допуска к участию в нем лидеров социалистических партий, вышедших из Второго Интернационала. К началу 1920 года раскол в среде европейских социалистов стал свершившимся фактом. Победы большевиков в Гражданской войне, радикальные меры по национализации промышленности, беспощадное преследование контрреволюционеров и «бывших» всех мастей вызывали у политически активных рабочих одобрение и активную поддержку. Этого не могли не замечать те левые социалисты, которые видели в Советской России позитивный фактор мирового развития и выражали готовность его использовать хотя бы для преодоления послевоенных лишений и потрясений в собственных странах.
 Проект постановления Политбюро ЦК РКП(б) о созыве Второго конгресса Коминтерна
Автограф В. И. Ленина
22 апреля 1920.
[РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 13686. Л. 1–1 об.]
Проект постановления Политбюро ЦК РКП(б) о созыве Второго конгресса Коминтерна
Автограф В. И. Ленина
22 апреля 1920.
[РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 13686. Л. 1–1 об.]
Одновременно крупнейшие партии, где доминировало левое марксистское крыло, — НСДПГ и СДРП Австрии — отстаивали тезис об инаковости рабочего движения в Центральной и Западной Европе, которое не может слепо следовать русскому образцу. «Так же, как с вопросом о диктатуре, дело обстоит и с вопросом о терроре и гражданской войне. И тут специфически-русская форма диктатуры пролетариата возводится в основной принцип для международного пролетариата… Терроризм в качестве политического метода обозначает установление царства ужаса, обозначает применение средств государственного насилия, в том числе против невинных, с целью предупредить путем запугивания всякие помыслы о сопротивлении»[117]. Для руководства НСДПГ сохранение демократических институтов и процедур в собственной стране было той красной чертой, что разделяла социалистов и коммунистов. В таком ключе было выдержано ее обращение к руководителям партии большевиков и Коминтерна, отправленное в Москву еще 15 декабря 1918 года. Больше месяца получатели письма обсуждали варианты возможной реакции, очевидно, так и не придя к компромиссу. С одной стороны, «независимцы» олицетворяли собой левое крыло европейской социал-демократии, которую Ленин постоянно клеймил за «развращение революционного сознания рабочих», с другой — за ней стояли массы немецких рабочих, возмущенных как поражением германской военщины в Первой мировой войне, так и отсутствием реальных достижений в социальной сфере, которые пообещали лидеры ноябрьской революции 1918 года. В очередной раз вождю партии пришлось принять на себя функцию генерального арбитра. В середине января он подготовил проект ответа руководству НСДПГ, в котором отказался от тактики фронтальных нападок на эту партию, к которой призывал Зиновьев. Вариант, предложенный Лениным, указывал на ошибки, допущенные немецкими левыми в период революционных боев, и повторял традиционные обвинения в их адрес: «Независимцы лишь на словах признают Советскую власть, а на деле остаются всецело подавленными предрассудком буржуазной демократии… Повторяя фразы мелкобуржуазных демократов о большинстве „народа“ (обманутого буржуазией и придавленного капиталом), эти партии объективно стоят еще на стороне буржуазии против пролетариата». Рассчитывая на то, что партийные низы рано или поздно заставят лидеров перейти на революционные рельсы, ответ выражал готовность большевистской партии к контактам с иными рабочими партиями, «желающими совещаться с нею, знать ее мнение»[118]. В таком же духе были выдержаны ленинские инструкции по приему делегации британских тред-юнионов, которая посетила Советскую Россию в мае 1920 года[119]. Накануне Второго конгресса лидеры РКП(б) сохраняли уверенность в том, что никакого организационного слияния между коммунистами и социалистами, пусть даже левыми, быть не может. Однако представители умеренного крыла в Исполкоме — Пауль Леви и посланец итальянской социалистической партии Джачинто Серрати — отстаивали иную точку зрения и выступали за поиск разумного компромисса, что было понятно — для них прямую угрозу представляли не социалисты, а «леваки» в собственных рядах, обвинявшие руководство компартий в пассивности и оппортунизме. Для большевиков ситуация выглядела иначе. Долгое время являвшиеся маргиналами во Втором Интернационале, Ленин и его соратники видели главную угрозу в европейских вождях старой закалки, которые с правых позиций могут повести наступление на Коминтерн или, что выглядело еще более опасным, начнут проникать в него изнутри. История с приглашением на конгресс делегаций «сочувствующих» справа и слева имела свое продолжение уже после его начала. Прибывшие с опозданием делегаты от КПГ поставили перед Исполкомом Коминтерна ультиматум: если «леваки» из КРПГ появятся в зале заседаний, то мы сразу же возвращаемся обратно в Германию. «Наши товарищи считали это недопустимым, опасаясь, что равноправный допуск синдикалистских, более или менее антикоммунистических организаций, приведет к нежелательным изменениям характера Коммунистического Интернационала», — вспоминал один из участников дискуссии[120].
 В. И. Ленин выступает на открытии Второго конгресса Коминтерна в Таврическом дворце
19 июля 1920
[РГАСПИ. Ф. 393. Оп. 1. Д. 245. Л. 1]
В. И. Ленин выступает на открытии Второго конгресса Коминтерна в Таврическом дворце
19 июля 1920
[РГАСПИ. Ф. 393. Оп. 1. Д. 245. Л. 1]
Ленину опять пришлось бросить на чашу весов свой авторитет, чтобы добиться компромисса. На совещаниях делегаций КПГ, НСДПГ и РКП(б), состоявшихся в его кабинете, Леви и его соратники получили заверения вождя, что равного отношения ко всем трем германским партиям не будет. В то же время вождь использовал представившийся шанс для того, чтобы узнать позицию лидеров партии «независимцев» из первых рук. Он отозвал в отдельную комнату Вильгельма Дитмана и Артура Криспина и провел с ними короткую встречу с глазу на глаз. Разговор получился острый и нелицеприятный. Руководители НСДПГ заявили, что готовы к союзу Берлина и Москвы, но не потерпят навязывания им политической линии Коминтерна. Парируя обвинения в соглашательстве и оппортунизме, Дитман обратился к собеседнику со следующей тирадой: «…если мы будем подходить к вам с такими же мерками, как и вы к нам, то я могу вам сказать: нет в мировой истории больших оппортунистов, нежели Ленин и его товарищи»[121].

 Доклад В. И. Ленина «Международное положение» с приложением тезисов «Об основных задачах Второго конгресса Коммунистического Интернационала»
19 июля 1920
[РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 15371. Л. 1–19]
Доклад В. И. Ленина «Международное положение» с приложением тезисов «Об основных задачах Второго конгресса Коммунистического Интернационала»
19 июля 1920
[РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 15371. Л. 1–19]
После церемонии торжественного открытия Второго конгресса, с большой помпой прошедшей в Петрограде, его участники переехали в Москву, где 23 июля 1920 года продолжили свою работу. Как правило, заседания начинались вечером и заканчивались далеко за полночь. Собрать делегатов в первой половине дня было практически невозможно, для этого требовались личные приглашения от Ленина. Впрочем, и сами лидеры РКП(б) были крайне непунктуальными и заставляли часами себя ждать, а когда появлялись на конгрессе, ссылались на неотложные государственные дела[122]. Наряду с дефицитом пунктуальности серьезной проблемой, мешавшей нормальному ходу конгресса, стало тривиальное непонимание друг друга. Официальными языками конгресса были русский, французский и немецкий, но доминировал последний, считавшийся языком Второго Интернационала. На немецком выступали некоторые делегаты от РКП(б), имевшие за своими плечами опыт эмиграции в Германии[123]. Когда Ленин делал доклад по национальному и колониальному вопросам, «ниже трибуны ораторов сидел Радек, в случае надобности он подсказывал Ленину надлежащее немецкое слово»[124]. Синхронного перевода не было, и делегаты собирались группками вокруг того, кто брался за перевод. Выступая в дискуссии по докладу Председателя ИККИ, который открывал московскую часть конгресса, Ленин ни на йоту не сдвинулся с позиции, изложенной в «Детской болезни»: до тех пор, пока социалистические партии и профсоюзы представляют коммунистам платформу для дискуссий, они обязаны ею пользоваться. Если же заблуждающееся большинство не примет линию Коминтерна, «раскол так или иначе неизбежен»[125]. Это прозвучало как скрытая угроза в адрес тех иностранных делегатов, кто ставил специфику политического развития своих стран выше жестких правил стратегии и тактики, установленных Москвой. Данный эпизод стал маленьким отражением изначально взятого курса большевиков на жесткое подчинение зарубежных коммунистов воле «генерального штаба мировой революции». С одной стороны, такой курс опирался на опыт милитаризации всей общественной жизни в России в условиях Гражданской войны, а с другой — предвосхищал процесс укладывания самой российской партии в прокрустово ложе догматизма и единомыслия. В итоге Коммунистический Интернационал оказался полем масштабного эксперимента по превращению отдельных групп единомышленников леворадикального толка в военизированную организацию, подчиненную жесткой дисциплине, сплоченную железной волей вождей и искоренявшую любое стремление к содержательным дискуссиям. Этот эксперимент на десятилетия пережил Коминтерн, а попытка М. С. Горбачева завершить его привела к гибели не только созданной Лениным партии «профессиональных революционеров», но и к исчезновению созданного этой партией государства. Но вернемся в 1920 год. После жарких дебатов (в столице стояла невыносимая жара, делегаты наблюдали, как сотни москвичей голышом купались в Москве-реке прямо под стенами Кремля) их участники неизменно голосовали за проект резолюции, одобренный «русскими товарищами». Жесткая режиссура конгресса повторяла фирменный стиль тех съездов РСДРП, в ходе которых большевики принимали решения без оглядки на фракцию меньшевиков. Следует признать, что этот стиль быстро перенимали и лидеры иностранных партий, если он помогал реализации их собственных интересов. Тот же Серрати в роли председательствующего вел себя достаточно авторитарно, без колебаний прекращая дискуссии, которые могли дать дополнительные очки «левым». Из четырех конгрессов Коминтерна, состоявшихся при жизни Ленина, Второй был самым «ленинским». Вождь РКП(б) присутствовал на большинстве заседаний, делал доклады по двум пунктам повестки дня, четыре раза выступал в прениях, входил в три из десяти комиссий. Он был окружен почти религиозным поклонением, делегаты ловили каждое его слово и каждый жест, чтобы по возвращении на родину донести свои впечатления до единомышленников. Важно было даже не то, что говорил Ленин, важен был сам факт его появления на обсуждении того или иного вопроса. Мы не знаем, какие аргументы он использовал во время кризисных заседаний Исполкома накануне первой сессии конгресса в Москве, но само присутствие Ленина способствовало разрешению острых конфликтов, грозивших отъездом делегации КПГ и «независимцев». Каждое «явление вождя народу» сопровождалось неутихающими овациями, здравицами и криками восторга, которые не могли расшифровать даже опытные стенографистки.
 Делегаты Второго конгресса Коминтерна направляются к Зимнему дворцу
19 июля 1920
[РГАСПИ. Ф. 489. Оп. 2. Д. 30. Л. 1]
Делегаты Второго конгресса Коминтерна направляются к Зимнему дворцу
19 июля 1920
[РГАСПИ. Ф. 489. Оп. 2. Д. 30. Л. 1]
Лишь одна из ленинских речей была произнесена на русском языке и авторизирована, в остальных случаях он говорил на немецком. Наброски Ленина к его первой речи на конгрессе показывают, что он готовил ее самостоятельно и в условиях крайней загруженности государственными делами не мог уделить ей достаточного внимания[126]. Более интересными представляются маргинальные сюжеты, которые разрабатывались им в сотрудничестве с соратниками по РКП(б) и зарубежными коммунистами. Ленин набрасывал первоначальные идеи и корректировал их доработку, давая конкретные поручения. Ему принадлежат интересные новации, которые позже вошли в катехизис коммунистических партий. Так, из ленинских уст на конгрессе впервые прозвучало предложение «подумать над тем, как положить первый камень организации советского движения в некапиталистических странах». Позже эта осторожная формулировка была превращена в теорию построения социалистического общества в странах третьего мира, минуя капиталистическую стадию.
 II конгресс Коминтерна (Торжественное открытие второго конгресса Коминтерна во дворце имени Урицкого, бывшем Таврическом)
Художник И. И. Бродский
Ленинград, 1924
[Из открытых источников]
II конгресс Коминтерна (Торжественное открытие второго конгресса Коминтерна во дворце имени Урицкого, бывшем Таврическом)
Художник И. И. Бродский
Ленинград, 1924
[Из открытых источников]
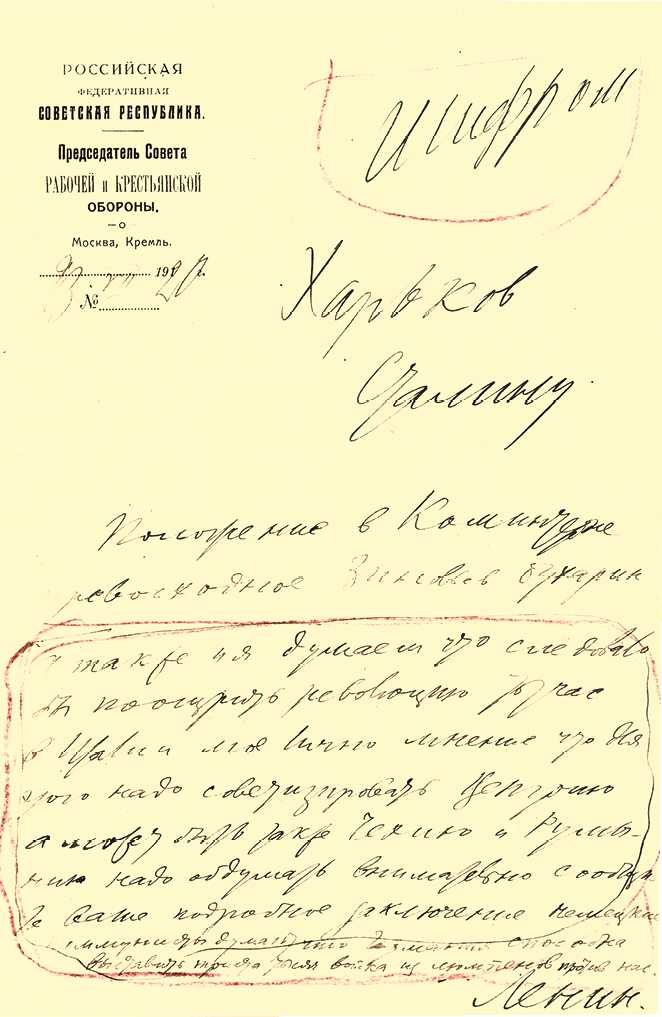 Телеграмма В. И. Ленина И. В. Сталину о положении дел в Коминтерне и перспективах революционного развития в странах Центральной Европы
23 июля 1920
[РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 2. Д. 348. Л. 1]
Телеграмма В. И. Ленина И. В. Сталину о положении дел в Коминтерне и перспективах революционного развития в странах Центральной Европы
23 июля 1920
[РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 2. Д. 348. Л. 1]
Ленин не только жестко отстаивал свой взгляд на перспективы «мирового коммунизма», но и проявлял готовность к уступкам, если ему противостояло солидное большинство. Подготовленные им тезисы об основных задачах Коммунистического Интернационала в ходе работы комиссии конгресса были скорректированы под влиянием «левых». Ключевая фраза проекта тезисов «задача момента для коммунистических партий состоит теперь не в том, чтобы ускорять революцию, а в том, чтобы усиливать подготовку пролетариата»[127], была сформулирована иначе: «Задача… состоит в том, чтобы ускорять революцию, не вызывая ее, однако, искусственно, без достаточной подготовки; подготовка пролетариата к революции должна быть усилена действием»[128]. Эта уступка многократно приводилось советскими историками в доказательство тактической гибкости автора тезисов[129], однако на самом деле она отражала общее настроение «бури и натиска», которое не могло не заразить и вождя РКП(б). Так, Ленин телеграфировал на фронт Сталину 23 июля 1920 года: «…положение в Коминтерне превосходное. Зиновьев, Бухарин, а также и я, думаем, что следовало бы поощрить революцию тотчас в Италии. Мое личное мнение, что для этого надо советизировать Венгрию, а может быть, также Чехию и Румынию»[130]. Политическая воля, граничившая с фанатизмом, становилась основой для непродуманных решений, которые никак не соотносились с реальным положением дел в странах Центральной и Западной Европы. К сожалению, мы располагаем только фрагментарными данными о многочисленных встречах Ленина с делегатами конгресса[131]. Иностранцы неизменно задавали вопрос, не пора ли коммунистам перейти к тактике наступления на всех фронтах. Ленин каждый раз уходил от прямого ответа, однако игнорировать подобные настроения не мог. Гораздо больше его интересовало положение дел в той или иной стране. Он был неплохо осведомлен о политических конфликтах в процессе становления Веймарской республики, но избегал критических высказываний, которые могли бы подорвать авторитет руководства КПГ. Взгляды Ленина были обращены не только на Запад, где крахом капиталистического строя должна была завершиться предначертанная Марксом «предыстория человечества». Его интересовали проблемы национально-освободительного движения, которое грозило стать камнем преткновения для победителей в Первой мировой войне, сохранивших свои колониальные владения. До того, как в Китае в 1922 году разразилась революция, речь шла прежде всего об Индийском субконтиненте. Один из самых известных коминтерновских эмиссаров М. М. Бородин вместе с индусом М. Роем разработал «План военных операций на границах Индии», подразумевавший поставки оружия и продовольствия пуштунским племенам, чтобы они дезорганизовали тыл английских владений в этом регионе. Он представил этот план Ленину на личной встрече в августе 1920 года и получил полное одобрение вождя РКП(б)[132]. Это предопределило отправку в Кабул советской дипломатической миссии и регулярные поставки вооружений режиму Амманулы-хана. Туркестанскому бюро Коминтерна досталась пропагандистская работа среди воинственных пуштунов, однако на протяжении 1920-х годов они так и не прониклись идеями прогресса и социального равенства. О почти религиозном преклонении делегатов Востока перед лидером большевизма свидетельствует поток приветствий в его адрес, сохранившийся в архивном фонде конгресса. Омар Галиев, представитель «кавказских народов», в своем приветственном адресе, написанном арабской вязью, дошел до религиозного экстаза: «Товарищ Ленин, являясь выдающейся личностью, являясь на политической арене величайшим явлением, обладателем великого разума, всей своей славой стоит во главе социалистической революции… Слово Мухаммада было полной верой, слово Мухаммад является священным. Так и слово Ленин является всему миру священным»[133]. Дело не ограничивалось восточной лестью. В номере журнала «Коммунистический Интернационал», приуроченном к началу конгресса, появилась статья Максима Горького, посвященная Ленину. Известно, насколько сильны были разногласия между ними в первые месяцы после победы большевиков. Теперь же писатель не жалел самых ярких красок, описывая всемирный масштаб ленинских деяний: «Он не только человек, на волю которого история возложила страшную задачу разворотить до основания пестрый, неуклюжий, ленивый человеческий муравейник, именуемый Россия, — его воля неутомимый таран, удары которого мощно сотрясают монументально построенные капиталистические государства Запада и тысячелетиями слежавшиеся глыбы отвратительных, рабских деспотий Востока»[134]. Оставим литературоведам дискуссию о том, не скрывалась ли за столь грубой лестью тонкая ирония проницательного наблюдателя, увидевшего одновременно и трагедию народа, ставшего объектом невиданного социального эксперимента, и то новое, что несла с собой партийная диктатура. Говоря о том, что Ленин совершал «ошибки, но не преступления», Горький сравнивал работу его мысли с «ударами молота, который, обладая зрением, сокрушительно дробит именно то, что давно пора уничтожить». Статья называла вождя РКП(б) современным Аттилой, разрушившим Древний Рим, который давно уже заслужил собственную гибель. «Его личная жизнь такова, что в эпоху преобладания религиозных настроений Ленина сочли бы святым»[135]. Вряд ли издатели журнала пытались таким образом выстроить религиозный культ Ленина. Скорее всего, они хотели использовать известное на Западе имя Горького для того, чтобы его устами подретушировать реальное положение дел в Советской России, а заодно и продемонстрировать иностранным делегатам участие некоммунистической интеллигенции в строительстве нового общества. Но они жестоко просчитались. Ленин был крайне возмущен статьей и вынес вопрос на заседание Политбюро, лично написав проект резолюции: публикация была признана «крайне неуместной», ибо в ней «не только нет ничего коммунистического, но много антикоммунистического»[136]. Такая формулировка оставляла пространство для самых разных толкований. То ли вождь выступил против неуклюжего насаждения собственного культа личности, то ли посчитал, что остававшийся «попутчиком» Горький недостоин писать ни о нем самом, ни о Российской революции в целом. К сожалению, у нас нет откликов делегатов на появление статьи, критика которой стала одним из краеугольных камней в формировании мифа о ленинской скромности. Несмотря на продолжавшуюся Гражданскую войну в России (а может быть, даже благодаря ей), большевики сохраняли уверенность в том, что до начала полномасштабной пролетарской революции в ключевых странах Европы остались считанные месяцы. Международная обстановка в западном мире казалась крайне нестабильной, среди тамошних интеллектуалов господствовало мнение, что наступили «сумерки западного мира» (Освальд Шпенглер). На период работы Второго конгресса пришлось успешное наступление Красной армии на Варшаву, которое занимало все мысли лидеров РКП(б). Вопреки ожиданиям и просьбам делегатов польский вопрос не был поставлен на повестку дня, однако он неизменно возникал в кулуарах. «Мы ставили тогда в частных совещаниях на Втором конгрессе вопрос о переходе к наступательной тактике… стали практически обсуждаться вопросы о том, может или нет одна победившая рабочая республика „на штыках“ нести социализм в другие страны», — рассказывал Зиновьев на Десятом съезде РКП(б) весной 1921 года[137]. Дело ограничилось появлением в коридоре Большого Кремлевского дворца, где проходил конгресс, огромной карты Европы, на которой каждый день отмечали продвижение Красной армии на Запад. Ленин не пропустил ни одного заседания, на котором обсуждались правила приема в Коминтерн левых социалистов — знаменитое «21 Условие». Он чаще других отпускал критические замечания по ходу доклада Серрати, который предлагал «распахнуть двери Коммунистического Интернационала всем партиям, которые могут вместе с нами совершить революцию, а затем уже спорить», и взял слово для доклада сразу после итальянца[138]. Иностранные делегаты видели и чувствовали настроение лидеров РКП(б). В результате обсуждение «21 Условия» на конгрессе вылилось в бесконечную череду обвинений и заявлений, вплоть до требования удалить из партий Коминтерна скрытых и явных франкмасонов. Если сторонники умеренной линии делали акцент на разъяснительной работе среди рабочих-социалистов, то крайняя позиция «левых» (ее представители были в явном большинстве на конгрессе) характеризовалась требованием немедленного организационного размежевания с оппортунистами и соглашателями всех мастей и оттенков. Никогда более в истории Коминтерна накал дискуссий не приобретал такого масштаба, как жарким московским летом 1920 года. Противостояние в ходе работы комиссий и комитетов двух главных режиссеров Второго конгресса — Зиновьева и Радека — пошло на пользу его содержательному наполнению. Зиновьев, который по итогам конгресса добился временного отстранения своего оппонента от коминтерновской работы, рано праздновал победу.
1.7. После конгресса. Ленин и Цеткин
Используя в своих целях вялотекущий конфликт между своими соратниками, направленными на работу в Исполком Коминтерна, Ленин проявил качества опытного партийного тактика, исповедуя принцип «разделяй и властвуй». Если же возникала необходимость бросить на чашу весов собственный авторитет, он сам брался за перо. В августе Ленин написал открытые письма австрийским, немецким и французским рабочим, разъясняя им ключевые решения, принятые в Москве. В них шла речь об участии коммунистов в парламентских выборах и практическом применении «21 Условия», было выдвинуто требование покончить с «вреднейшими иллюзиями» о возможности политического сотрудничества с левыми социалистами[139]. Важную роль играли и личные встречи с отбывавшими на родину делегатами конгресса, которые занимали значительное место в августовском графике работы вождя[140]. В последующие месяцы его внимание переключилось на внутриполитические проблемы: Россия изнывала от утопической политики «военного коммунизма», остановился транспорт, хлебородные регионы оказались перед угрозой страшного голода. Остроту кризиса усиливало трагическое поражение Красной армии под Варшавой. Признав ошибочность «тактики наступления», Ленин возложил часть ответственности на коммунистов из стран, которые раньше являлись частью Российской империи. Они якобы настаивали на военной помощи в их «советизации», и просьбы эти не могли остаться не услышанными: «…между собой мы говорили, что мы должны штыками прощупать — не созрела ли социальная революция пролетариата в Польше?»[141] Не менее спорным являлся и ленинский аргумент о том, будто конфликт с Польшей должен был отвлечь внимание Запада от радикальных решений Второго конгресса: «…под шумок войны Коминтерн выковал оружие и отточил его так, что господа империалисты его не сломают». Накануне сентябрьской конференции РКП(б) 1920 года вождь продолжал строить планы возобновления наступления на Польшу: «За ближайший месяц мы должны во что бы то ни стало покончить с Врангелем. А когда мы с ним покончим, на съезде Советов отвергнем этот мир и двинем все силы на Польшу, если будет выгодно. Чтоб было похоже на правду, на сессии ВЦИК закажем патриотические речи Бухарину, Сосновскому, пусть 1/3 проголосует против мира. Скажем, что оппозиция на съезде превратилась в большинство, и опять двинем на Варшаву»[142]. Даже если оставить в стороне анализ ленинского отношения к демократическим процедурам, очевидна фанатическая уверенность в том, что появление Красной армии на западных границах России вызовет очередной приступ мировой пролетарской революции — уверенность, которая на исходе третьего года большевистской диктатуры не имела под собой сколько-нибудь надежной опоры. Переходя уже во время общепартийной конференции от обороны к наступлению, вождь РКП(б) обещал при первом же удобном случае повторить попытку зажечь революцию в других странах. «Несмотря на полную неудачу первого случая, нашего первого поражения, мы еще раз и еще раз перейдем от оборонительной политики к наступательной, пока мы всех не разобьем до конца». Параллельно он обвинял своих оппонентов в рядах зарубежных компартий в том, что они «не могут и мысли допустить, что мы своей рукой поможем советизации Польши. Люди эти считают себя коммунистами, но некоторые из них остаются националистами и пацифистами»[143]. Там, где Ленин чувствовал покушение на свой политический авторитет, он не жалел токсичных ярлыков и острых эпитетов. Клара Цеткин
1910-е
[РГАСПИ. Ф. 421. Оп. 1. Д. 802. Л. 1]
Клара Цеткин
1910-е
[РГАСПИ. Ф. 421. Оп. 1. Д. 802. Л. 1]
Тем большее удивление вызывает его толерантность по отношению к Кларе Цеткин, которая, став членом КПГ и используя свой авторитет старой социалистки, являлась сторонницей умеренной политики, поддерживала Пауля Леви и вела бескомпромиссную борьбу с левацкими уклонами в партии. Зарубежные социалисты, вошедшие в элиту довоенного рабочего движения и после раскола 1914 года перешедшие на позиции коммунистов, ценились на вес золота. Цеткин впервые прибыла в Москву в сентябре 1920 года для организации Международного женского секретариата Коминтерна. Хорошо знавшая Ленина, она сразу по приезде была приглашена к нему в гости. Цеткин не стеснялась использовать добрые личные отношения с вождем Советской России для того, чтобы выступить в роли просветителя и донести до него личное видение ситуации в немецкой компартии. Канал связи действовал и в обратном направлений, Цеткин регулярно сообщала Паулю Леви о настроениях лидеров РКП(б), их заблуждениях и надеждах, обращенных на Запад. 2 октября 1920 года она подробно описывала «ошибочные представления русских» о том, будто немецкую партию раздирает борьба двух течений — радикального, пытающегося вернуть коммунистов на путь наступательных действий, и оппортунистического, которое тормозит их под предлогом борьбы с путчизмом[144]. То, что немецкая коммунистка считала иллюзией и заблуждением, на самом деле являлось неоспоримым фактом — раскол между левыми радикалами и «левитами» углублялся с каждым днем. В таких условиях смена руководства компартии являлась только вопросом времени. В начале 1921 года Леви, Цеткин и их соратники выступили с критикой непродуманных шагов эмиссаров ИККИ на съезде Итальянской социалистической партии, а затем и против попытки «левых» организовать при поддержке прибывшего из Москвы венгра Бела Куна вооруженное восстание в Центральной Германии. Оно вошло в историю как «мартовская акция» и обернулось жестоким поражением компартии, которое в очередной раз привело к большим жертвам среди радикально настроенных немецких рабочих. Клара Цеткин не скрывала своих эмоций в письме Ленину, одном из самых ярких свидетельств плюрализма мнений на заре коммунистического движения: в Италии, расколов партию и оставив лучших рабочих в рядах социалистов, мы совершили еще бо́льшую ошибку, чем была наша собственная в Германии в 1918 году. Вину за этот раскол несет Исполком Коминтерна, и все разговоры о том, что лучше бы иметь в Италии маленькую, но «чистую» партию — это отговорки лисы, которая не может дотянуться до винограда[145]. Руководство ИККИ, продолжала Цеткин, «считает объективными только те доклады, которые соответствуют его собственным пожеланиям, но далеко не всегда — реальной ситуации», а его неспособность «править железной рукой в бархатной перчатке» привела к тому, что ряды коммунистического движения покинули лучшие лидеры, зато остались «революционные ослы»[146]. Несмотря на столь жесткие оценки, которые могли стоить ей партийного билета, Клара Цеткин до своей смерти оставалась в орбите Коминтерна, хотя и не смогла вернуть в него Пауля Леви.
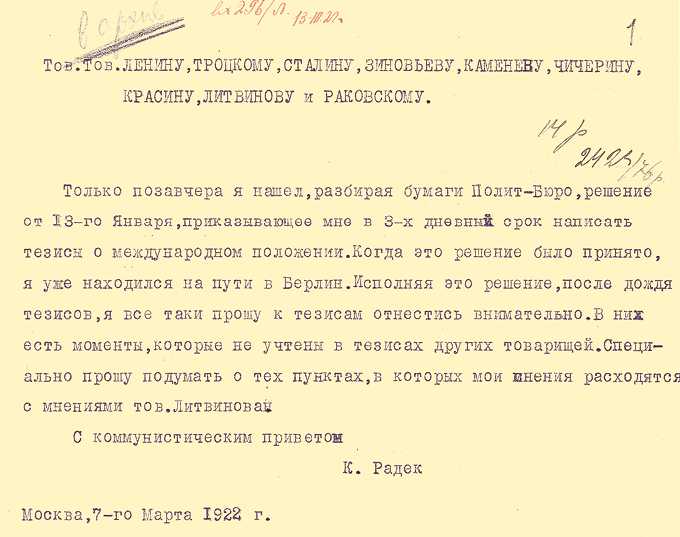 Сопроводительное письмо К. Б. Радека к тезисам о международном положении
7 марта 1922
[РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 2. Д. 1162. Л. 1]
Сопроводительное письмо К. Б. Радека к тезисам о международном положении
7 марта 1922
[РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 2. Д. 1162. Л. 1]
Было бы упрощением утверждать, что устранение «левитов» после того, как их идейный лидер начал публицистическую войну с путчистскими настроениями в КПГ, способствовало внутрипартийной консолидации. Крупнейшая зарубежная компартия оказалась в глубоком кризисе, и закрывать глаза на это было невозможно. Сведение причин кризиса к предательству Леви являлось достаточным для передовиц «Правды» или «Роте Фане», но не устраивало тех, кто всерьез задумывался о перспективах международного коммунистического движения. Следует согласиться с американским историком Вернером Ангрессом, написавшим классическую работу по ранней истории КПГ: в ходе подготовки Третьего конгресса Коминтерна «русские перетолковали мартовские события» 1921 года в Германии[147].
1.8. Поворот Третьего конгресса
Ленин посчитал тактически правильным использовать дискуссию об уроках «мартовской акции» КПГ для смены курса всего Коминтерна. Он отдавал себе отчет в том, что это вызовет серьезные разногласия среди его ближайших соратников. Лидера РКП(б) сразу же поддержали Троцкий и Каменев, ему оппонировали Зиновьев и Бухарин. Радек без особых колебаний покинул лагерь «левых» коминтерновцев и объявил о своей лояльности ленинской позиции. Свой политический вес на правую чашу весов в Коминтерне бросила и Клара Цеткин, прибывшая в Москву для участия в его Третьем конгрессе 8 июня 1921 года. Она везла с собой документы о преступлениях, совершенных партийными активистами в дни «мартовской акции», однако на границе они были конфискованы полицией. Это ничуть не охладило пыл старой социалистки. В ходе ее встреч с Лениным последний позволил себе упрек лишь в том, что сторонники Леви прибегли к коллективной отставке, не дождавшись арбитража Москвы. Согласно воспоминаниям Цеткин, лидер РКП(б) был солидарен с ее позицией и пообещал на предстоявшем конгрессе «свернуть шею» сторонникам «теории наступления». Что касается Леви, то ему как «дисциплинированному коммунисту придется подчиниться решению конгресса и на некоторое время исчезнуть из политической жизни»[148]. Ленин выполнил свое обещание, отвергнув первоначальный проект тезисов о тактике коммунистических партий, который был подготовлен от имени КПГ Августом Тальгеймером и Бела Куном. Не нашел его поддержки и второй вариант, составленный Радеком. Тот предпочел стиль «и вашим, и нашим», избегая острой критики левых и заменив в своем варианте тезисов термин «наступление» понятием «активная оборона»[149]. Заодно досталось и Зиновьеву, который неуклюже оправдывался перед вождем: «Я защищал мартовскую акцию как шаг вперед в истории партии, который заключается в том, что выкристаллизовалась руководящая группа, которая хочет бороться, и что партия показала в общем и целом, что она готова за ней следовать»[150]. В. И. Ленин на ступеньках трибуны готовится к выступлению на Третьем конгрессе Коминтерна
28 июня — 5 июля 1921
[РГАСПИ. Ф. 490. Оп. 2. Д. 273. Л. 1]
В. И. Ленин на ступеньках трибуны готовится к выступлению на Третьем конгрессе Коминтерна
28 июня — 5 июля 1921
[РГАСПИ. Ф. 490. Оп. 2. Д. 273. Л. 1]
Ленин двигался буквально напролом, подтвердив свою позицию по отношению к Открытому письму КПГ, которое появилось в январе 1921 года и ориентировало партию на сотрудничество с рабочими партиями и профсоюзами: «…суть дела в том, что Леви политически в очень многом прав». Это являлось признанием очередного рецидива «детской болезни левизны» в коммунистическом движении, которая на сей раз была аттестована как «глупячество левых» («…тезисы Тальгеймера и Бела Куна в корне политически неверны. Фраза и игра в левизну»[151], — писал Ленин). В ходе встреч с немецкими коммунистами накануне конгресса он был настолько резок, что позже попросил у них извинения: «…я решительно беру назад употребленные мною грубые и невежливые выражения», тем самым сделав шаг, совсем не типичный для лидера Советской России[152].
 Удостоверение В. И. Ленина как члена Исполкома Коминтерна
14 июля 1921
[РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 4. Д. 32. Л. 1]
Удостоверение В. И. Ленина как члена Исполкома Коминтерна
14 июля 1921
[РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 4. Д. 32. Л. 1]
Речь Ленина на заседании Исполкома Коминтерна 17 июня 1921 года, не вошедшая даже в Полное собрание его сочинений, проливает свет на то, какими были эти выражения и с какой страстью он отстаивал свою точку зрения. «Победа революции во Франции обеспечена, если левые не наделают глупостей. И когда говорят, подобно Бела Куну, что хладнокровие и дисциплина не оправдали себя — это глупость в духе левых. Я пришел сюда, чтобы сказать левым товарищам: если вы последуете такому совету, вы убьете революционное движение, как это сделал Марат». И далее: «Победе коммунизма во Франции, Англии и Германии можно помешать только левыми глупостями», символом которых стала авантюристическая политика Куна и его идейных соратников[153]. Для разрешения кризиса вновь был задействован уже опробованный год назад инструмент согласования интересов разного уровня — члены делегации КПГ были приглашены на заседание Политбюро ЦК РКП(б). В итоге был достигнут сложный компромисс: стороны признали мартовские события спонтанным ответом немецкого рабочего класса на провокацию властей, в ходе которой коммунистами был допущен ряд серьезных ошибок. Члены немецкой делегации заявили, что оставляют за собой право и в дальнейшем защищать свою теорию наступления[154]. Однако компромисс имел свою цену и для них. Левым пришлось согласиться с тем, что проект резолюции о тактике будет серьезно переработан: в решении Политбюро применительно к «мартовской акции» предлагалось «за основу исправления резолюции взять ту мысль, что надо во много раз подробнее указать конкретно ошибки и во много раз настойчивее предостеречь от повторения этих ошибок»[155]. В последний раз в истории Коминтерна принципиальный вопрос о будущем коммунистического движения решался не в кулуарах, а в открытой дискуссии на конгрессе, который, согласно уставу этой организации, являлся ее высшим органом. Выступая 1 июля 1921 года на пленарном заседании в защиту тезисов о тактике, внесенных от имени делегации РКП(б), Ленин не стеснялся в выражениях. Начав со скромного признания, что «должен ограничиться самообороной» (это вызвало закономерный смех в зале), он нанес сокрушительный удар по сторонникам «теории наступления», которые накануне конгресса кодифицировали ее в одноименном сборнике статей. «Нам, русским, эти левые фразы уже до тошноты надоели»[156]. Их авторы вообще хотят отменить слово «большинство», борьбу за завоевание авторитета в рабочих массах, подчеркнул Ленин. По его мнению, «Открытое письмо КПГ» было образцовым политическим шагом, а ныне его пытаются заклеймить, сделать орудием внутрипартийной борьбы. «Перед нами стоят сейчас иные, более важные, чем травля центристов, вопросы. Этого вопроса с нас хватит. Он уже немного надоел»[157]. Речь вождя изобиловала отсылками к историческому пути РКП(б), которая всегда и во всех вопросах находила оптимальное решение. Это выглядело как напоминание о том, кто же на самом деле является хозяином в коминтерновском доме. В воспоминаниях делегатов, слушавших Ленина, его выступление нередко сравнивалось с холодным душем, остудившим горячие головы левых радикалов. После него трудно было рассчитывать на содержательную дискуссию, разговора на равных не получилось.
 Делегаты Третьего конгресса и руководители советских ведомств, отвечавшие за их безопасность, на Соборной площади Кремля
20 июня 1921
[РГАСПИ. Ф. 490. Оп. 2. Д. 84. Л. 1]
Делегаты Третьего конгресса и руководители советских ведомств, отвечавшие за их безопасность, на Соборной площади Кремля
20 июня 1921
[РГАСПИ. Ф. 490. Оп. 2. Д. 84. Л. 1]
Чтобы сгладить шок от полемического разноса, учиненного на пленарном заседании, Ленин 11 июля 1921 года выступил перед пятью делегациями конгресса, которые отстаивали левые поправки к тезисам о тактике. Вновь поставив во главу угла опыт большевиков, лидер РКП(б) избрал иной, примирительный тон. Жизнь учит нас тому, что для успеха в политической борьбе мы должны быть умнее, а значит, «оппортунистичнее». Сколь бы острой не была критика в ваш адрес, мы не потеряли способности отделять своих от чужих, заблуждающихся друзей от скрытых врагов, подчеркивал Ленин. «Левая ошибка есть просто ошибка, она невелика и легко устранима. Если же ошибка касается решимости выступить, то это отнюдь не маленькая ошибка, но предательство. Эти ошибки не сравнимы. Теория, что мы совершим революцию, но только после того, как выступят другие, — в корне ошибочна»[158]. «Шаг вперед, два шага назад» были сделаны Лениным во время Конгресса и по отношению к фракции Пауля Леви в германской компартии. Соглашение о сотрудничестве, вошедшее в историю как «мирный договор», было достигнуто на совещании делегации КПГ и лидеров большевистской партии 9 июля 1921 года, которое проходило под его председательством[159]. Ленин в своих выступлениях защищал «левитов» в КПГ: нужно смотреть в будущее, а не вспоминать прошлое, требования покаяться только усложнят путь к внутрипартийному примирению. Согласно одобренной участниками совещания резолюции «правые» лидеры, подавшие в отставку весной 1921 года, получали право вернуться в Правление КПГ, дав обещание прекратить всякую фракционную деятельность. Превратившись из актера внутрипартийных драм дореволюционной эпохи в верховного арбитра коммунистического движения, Ленин с успехом продолжал пускать в дело свою излюбленную тактику «разделяй и властвуй». Точно так же, как в Исполкоме Коминтерна он свел вместе «непримиримых друзей» Радека и Зиновьева, так и баланс сил, выстроенный им в рамках «мирного договора», обещал германской компартии только временную стабильность. Ее символом стал театральный жест, один из тех, который не был чужд Ленину. В знак достигнутого компромисса он попросил, чтобы один из лидеров «левых», Фриц Геккерт, вручил Кларе Цеткин, продолжавшей защищать Леви, огромный букет роз (в дни конгресса ей исполнилось 64 года). Геккерт вначале отказывался, но затем уступил настойчивости вождя[160]. Делегаты конгресса встретили этот жест овациями, хотя он и не поставил точку в немецком внутрипартийном конфликте. Правый поворот, совершенный на Третьем конгрессе Лениным при поддержке Троцкого, Цеткин, чеха Богумира Шмераля и ряда лидеров других компартий, сопоставим с переходом к нэпу, совершенным большевиками весной того же года. Компромиссный характер и непоследовательность принятых решений отражали реальное состояние Коминтерна на третьем году его существования — из аморфного объединения коммунистических партий и групп он так и не превратился в единую и сплоченную большевистской дисциплиной «всемирную партию пролетариата». Реабилитировав тактику, предложенную «Открытым письмом КПГ», ленинское большинство не решилось превратить ее в обязательную политику для каждой из зарубежных компартий. Прошел ровно месяц после завершения конгресса, и в самой большевистской верхушке разгорелся конфликт, связанный с борьбой могущественных ведомств за доминирование. Первый шаг сделали Зиновьев и Радек, обвинив Наркоминдел в игнорировании их запросов на финансирование компартий и попытке представить деятельность Туркестанского бюро ИККИ «авантюризмом». Следует отдать должное Чичерину, его контраргументы выглядели для членов Политбюро более солидными и взвешенными. Что касается активности в Средней Азии, писал он, то опора местного бюро на «бандитов в Персии, прикидывающихся революционерами… может привести к немедленному союзу Афганистана и Англии против нас». В целом же «линия НКИД заключается в том, чтобы через миллионы трудностей благополучно прошла советская республика, цитадель мировой революции. Только с антибрестской точки зрения безразличия ксуществованию Советской республики можно эту линию отвергать… Все повсеместно смешивают РСФСР и Коминтерн, и несвоевременный шаг его может создать нам катастрофу»[161]. Чичерин считал достаточным проведение регулярных неформальных совещаний для того, чтобы «международная политика РСФСР и Коминтерна не были в состоянии антагонизма между собой», получив полную поддержку Ленина, в очередной раз выступившего в роли верховного арбитра[162].
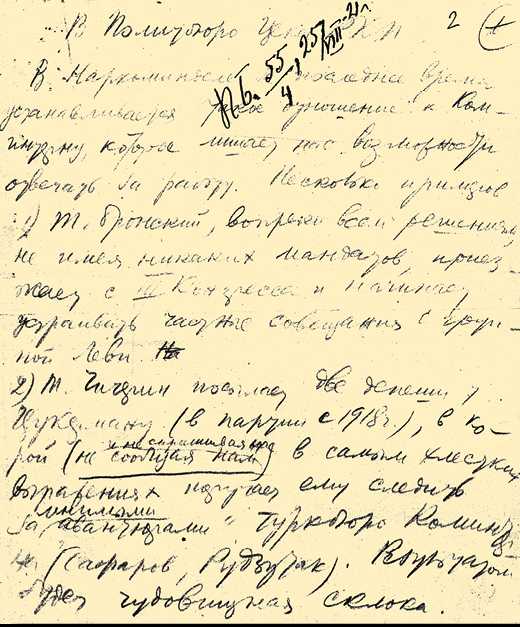
 Записка Г. Зиновьева и К. Радека в Политбюро ЦК РКП(б) о конфликте между Наркоматом иностранных дел и Коминтерном
13 августа 1921
[РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 2. Д. 824. Л. 2–4]
Записка Г. Зиновьева и К. Радека в Политбюро ЦК РКП(б) о конфликте между Наркоматом иностранных дел и Коминтерном
13 августа 1921
[РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 2. Д. 824. Л. 2–4]
 Предложение В. И. Ленина о путях разрешения конфликта между Наркоматом иностранных дел и Коминтерном
17 августа 1921
[РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 2. Д. 824. Л. 1]
Предложение В. И. Ленина о путях разрешения конфликта между Наркоматом иностранных дел и Коминтерном
17 августа 1921
[РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 2. Д. 824. Л. 1]
После завершения активной фазы Гражданской войны, роста размеров и функций государственного аппарата лидеру РКП(б) все труднее было подчинять своей воле комиссаров с чрезвычайными полномочиями, которые продолжали вершить суд и расправу как внутри Советской России, так и на окраинах бывшей Российской империи. Получив письмо Иоффе о том, что волюнтаристская деятельность М. Н. Томского и Г. И. Сафарова в Туркестане настраивает против советской власти местное население, вождь тут же провел решение Политбюро, которое затребовало материал о «перегибах». Он попросил Иоффе (также являвшегося одним из таких комиссаров) прислать ему более подробный доклад о произошедших событиях, в котором «просил бы особое внимание уделить вопросу защиты интересов туземцев против „русских“ (великорусских или колонизаторских) преувеличений»[163]. Постепенное овладение аппаратом управления на окраинах Российской империи (во многих из них создавались собственные компартии, и поэтому Коминтерн также мог претендовать на управление тем, что ныне называется «ближним зарубежьем») делало невозможным оперативный контроль за происходившими там событиями. Упрощенное представление о том, что «железные законы истории» возьмут свое, опровергалось информацией с мест, которая содержала факты, что новые руководители либо берут на вооружение старые механизмы власти, либо занимаются «социальным конструктивизмом». В последние годы жизни Ленину хватало сил только на выборочное одергивание «великороссов», хотя он и не изменял «всемирному масштабу» в своем собственном понимании интернационализма: «Для всей нашей Weltpolitik[164] дьявольски важно завоевать доверие туземцев; трижды и четырежды завоевать; доказать, что мы не империалисты, что мы уклона в эту сторону не потерпим. Это мировой вопрос, без преувеличения мировой. Тут надо быть архистрогим. Это скажется на Индии, на Востоке, тут шутить нельзя, тут надо быть 1000 раз осторожным». В этих строках можно почувствовать сплав трезвой прагматики («завоевать доверие») и принципиального интернационализма, который не останавливался перед тем, чтобы наступить на горло «национальной гордости великороссов»[165]. Это было палкой о двух концах: с одной стороны, такой сплав порождал симпатии угнетенных народов Востока, с другой — вызывал глухое недовольство партийной верхушки, которая на пятом году после захвата власти большевиками отдавала себе отчет в том, что занимается не строительством царства божьего на Земле, а возрождением великой империи, облеченной на сей раз в красные одежды.
1.9. Ленин и политика единого рабочего фронта
После неудачи «мартовской акции» германских коммунистов, которая завершилась не только большой кровью, но и внутренним расколом в КПГ, компартии в большинстве стран Европы были вынуждены перейти от наступления к обороне. Стало очевидно, что империалистическая война не переросла в мировую гражданскую, население даже побежденных стран в своей массе стремилось вернуться к старому доброму прошлому, не решаясь участвовать в рискованном строительстве «светлого будущего», к которому его призывали левые радикалы. Страх перед «красной угрозой» в большинстве европейских стран отошел на второй план, в сфере международных отношений, как отмечал Ленин на Третьем конгрессе Коминтерна, установилось неустойчивое, но все же равновесие между силами капитализма и социализма[166]. В самой России усилились позиции умеренных коммунистов, практиков государственного строительства, указывавших на то, что проведение его по марксистским прописям неизбежно заканчивается кризисами и катастрофами. В исторической литературе подробно и обстоятельно анализируется деятельность РКП(б) в рамках «военного коммунизма»[167], однако в тени остается ее попытка на рубеже 1920–1921 годов создания коммунизма гражданского, т. е. безрыночной экономической системы при жесткой авторитарной власти, которая напоминала утопии казарменного социализма, предлагавшиеся еще Платоном и Кампанеллой. Поворот к нэпу был неизбежным «шагом назад», горьким признанием несбыточности надежд на одномоментный рывок к коммунизму. Советская Россия не только вступила в период (достаточно кратковременный) разумных реформ, но и встала на путь урегулирования своих отношений с внешним миром. Большевики уже не казались экзотичной группой почти религиозных фанатиков, отрицавших все ценности и нормы европейской цивилизации. Их поворот вправо в социально-экономической сфере породил надежды на «примирение» не только в правящих кругах европейских держав, но и среди лидеров международного социалистического движения. Самокритичные нотки зазвучали и в среде российской эмиграции, Н. В. Устрялов так писал об этом в сборнике «Смена вех», увидевшем свет в 1921 году: «Причудливая диалектика истории неожиданно выдвинула Советскую власть с ее идеологией интернационала на роль национального фактора современной русской жизни, в то время как наш национализм, оставаясь непоколебленным в принципе, на практике потускнел и поблек, вследствие своих хронических альянсов и компромиссов с так называемыми „союзниками“»[168]. Ленин и его соратники отдавали себе отчет в том, насколько серьезные последствия повлечет за собой их отход от идеологической стерильности. Вспоминая французскую революцию, в партийном руководстве заговорили о превентивном «термидоре», о вынужденном характере временного отступления. Большевики уже однажды перехитрили страну, на словах согласившись с логикой безбрежного народного бунта, а на деле втиснув общество в жесткие рамки партийной диктатуры. Вновь, как и весной 1918 года, лидеры РКП(б) признали необходимость «передышки». Вопрос о том, примут ли их зарубежные единомышленники столь резкий поворот от крайнего модернизма к традиционной архаике, ни в коем случае нельзя было считать предрешенным. Ленин еще за год до коминтерновского поворота сделал упреждающий выстрел в воздух, осудив «детскую болезнь левизны» в компартиях, хотя и предложил лишь терапевтические средства ее лечения. На Третьем конгрессе Коминтерна Ленину и Троцкому пришлось убеждать своих зарубежных единомышленников в том, что поворот к нэпу и «примирению с капиталистическим окружением» служит временной мерой и не является предательством идеалов революционного марксизма. Получилось так, что на самом конгрессе оба партийных лидера стояли «на крайне правом фланге»[169]. Это создавало опасность раскола делегации РКП(б), ибо позиции левых разделяли Бухарин и, более сдержанно, Зиновьев. По воспоминаниям Троцкого, «Ленин взял на себя инициативу создания головки новой фракции для борьбы против сильной тогда ультралевизны, и на наших узких совещаниях Ленин ребром ставил вопрос о том, какими путями повести дальнейшую борьбу, если III конгресс займет бухаринскую позицию»[170]. Президиум Третьего конгресса Коминтерна
Слева направо: швейцарец Ж. Эмбер-Дро, Л. Д. Троцкий, болгарин Васил Коларов, немец Вильгельм Кенен и Г. Е. Зиновьев
Июнь 1921
[РГАСПИ. Ф. 490. Оп. 2. Д. 278. Л. 1]
Президиум Третьего конгресса Коминтерна
Слева направо: швейцарец Ж. Эмбер-Дро, Л. Д. Троцкий, болгарин Васил Коларов, немец Вильгельм Кенен и Г. Е. Зиновьев
Июнь 1921
[РГАСПИ. Ф. 490. Оп. 2. Д. 278. Л. 1]
Действительно, конгресс стал ареной острых идейно-политических столкновений между левыми и умеренными. «Война не завершилась непосредственно пролетарской революцией», — говорилось в его резолюции о мировом положении. Холодный душ, которым оказались эти слова для иностранных делегатов, встретил их сопротивление — в ходе дискуссий лидеров РКП(б) неоднократно обвиняли в усталости, излишней осторожности и пессимизме. Последним пришлось поставить на карту все свое влияние, чтобы удержать Коминтерн от дальнейшего сползания влево. Третий конгресс дал коммунистам новую стратегическую установку — завоевать массовое влияние: «С первого дня своего образования Коммунистический Интернационал поставил своей задачей ясно и недвусмысленно не создание небольших коммунистических сект, которые будут стремиться установить свое влияние на рабочие массы только посредством агитации и пропаганды, но непосредственное участие в борьбе рабочих масс, коммунистическое руководство этой борьбой и создание в процессе борьбы крупных революционных коммунистических массовых партий»[171]. Резолюции конгресса содержали все прежние обвинения в адрес европейских социалистов, однако к 1921 году было уже очевидно, что беспредметная полемика с ними — не лучший способ завоевания масс коммунистами. Стало очевидным и то, что последние — отнюдь не рыцари без страха и упрека, готовые рисковать своей жизнью ради идеалов светлого будущего. В ходе конгресса на российских лидеров Коминтерна обрушился шквал просьб о финансовой помощи и не меньший поток жалоб, что выделенные средства попросту исчезли. Пришлось налаживать хотя бы минимальный порядок и в этой весьма деликатной сфере, для чего в Коминтерн был откомандирован старый большевик И. А. Пятницкий, который стал одним из секретарей этой организации, отвечавшим за финансовые и нелегальные аспекты ее деятельности, в том числе и контакты с советскими спецслужбами. Именно Пятницкий, обладавший огромным опытом подпольной работы (он ведал каналами, по которым в Россию отправлялась газета российских социалистов «Искра», печатавшаяся в Германии) и прекрасно владевший немецким языком, возглавил Отдел международных связей (ОМС) — службу, осуществлявшую контакты руководства Коминтерна с единомышленниками во всех уголках земного шара. По мнению историков советской разведки, ОМС «по своим функциям и своей структуре являлся разведслужбой, располагая штатом оперативных работников, агентурой, курьерами, шифровальной службой и службой по изготовлению поддельных документов. Поскольку главной целью ОМС было создание политических и военных структур за кордоном для продвижения идеи мировой „перманентной“ революции, большинство его сотрудников составляли интернационалисты, евреи по национальности, имевшие широкие деловые и родственные связи по всему миру»[172]. Через их руки проходили и секретные документы, и оружие для повстанцев, и огромные суммы денег.
 Отчет «товарища Томаса» о получении средств и выплатах иностранным компартиям за 1921 год
16 января 1922
[РГАСПИ. Ф. 326. Оп. 2. Д. 50. Л. 1]
Отчет «товарища Томаса» о получении средств и выплатах иностранным компартиям за 1921 год
16 января 1922
[РГАСПИ. Ф. 326. Оп. 2. Д. 50. Л. 1]
О том, в каких масштабах Советская Россия спонсировала зарубежных коммунистов, свидетельствует доклад одной из сотрудниц «товарища Томаса» — под этим псевдонимом скрывался Яков Рейх, работавший в Берлине и подотчетный лично Зиновьеву[173]. «Деньги хранились, как правило, на квартире товарища Томаса. Они лежали в чемоданах, сумках, шкафах, иногда в толстых папках на книжных полках или за книгами. Передача денег производилась на наших квартирках поздно вечером, в нескольких картонных коробках весом по 10–15 кг каждая. Мне нередко приходилось убирать с дороги пакеты денег, мешавшие проходу»[174]. Масштаб финансовых операций Рейха-Томаса сделал бы честь европейскому банку средней руки. За один только 1921 год — год страшного голода в Поволжье, унесшего миллионы человеческих жизней, через него прошло около 122 млн марок, что составляло 3 млн рублей золотом[175]. На протяжении нескольких лет в Берлине и Москве заседали высокие комиссии, однако никаких нарушений в финансовой отчетности обнаружено не было, просто потому что ее не было вообще. «По понятным причинам я с начала своей деятельности не веду бухгалтерских расчетов», — писал Рейх Пятницкому 22 августа 1921 года[176]. Зато выяснилось, что за время пребывания в должности секретного банкира Коминтерна он так и не удосужился вступить в ряды РКП(б). Но и это не считалось преступлением. Работая в стане классового врага, приходилось подражать его образу жизни. Если верить воспоминаниям Рейха, в ходе одной из бесед с Лениным тот посоветовал ему купить солидный дом в Германии, «уверяя, что это создаст мне прочное положение, которое необходимо»[177]. В делах, от которых зависело существование его детища, для вождя не было мелочей. После образования Коминтерна он неоднократно убеждал своих товарищей по партии, что большевики обязаны помогать своим зарубежным единомышленникам так же, как когда-то они сами получали средства из кассы Второго Интернационала. Однако после Третьего конгресса кончилось и его терпение. Он собственноручно написал проект секретного письма ЦК РКП(б), который начинался словами: «Нет сомнения, что денежные пособия от КИ компартиям буржуазных стран, будучи, разумеется, вполне законны и необходимы, ведут иногда к безобразиям и отвратительным злоупотреблениям».
 Записка Г. В. Чичерина В. М. Молотову о необходимости уничтожения всех документов о передаче 200 тыс. руб. золотом бастующим английским шахтерам. Резолюция В. И. Ленина
15 июня 1921
[РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 2. Д. 678. Л. 1]
Записка Г. В. Чичерина В. М. Молотову о необходимости уничтожения всех документов о передаче 200 тыс. руб. золотом бастующим английским шахтерам. Резолюция В. И. Ленина
15 июня 1921
[РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 2. Д. 678. Л. 1]
Вождь грозил мошенникам и растратчикам не только исключением из партии, но и уголовным преследованием, «ибо вред, приносимый неряшливым (не говоря уже о недобросовестном) расходованием денег за границей, во много раз превышает вред, причиняемый изменниками и ворами»[178]. Проект письма завершался предложением подготовить «детальнейшую инструкцию» и создать «особую комиссию» — на четвертом году партийной диктатуры у ее лидеров сложился твердый алгоритм «расшивания узких мест», если пользоваться их собственным выражением. Впрочем, проект так и остался проектом. И в нем не было ни слова о том, что зарубежные компартии должны в финансовом отношении стараться встать на собственные ноги. Как скажет впоследствии Лис из известной сказки: «Мы в ответе за тех, кого приручили». Фанатичная убежденность Ленина и его соратников в правоте своего дела не позволяла им признавать очевидные поражения и отказываться от всемерной поддержки молодых компартий. Лишь запоздало и с многочисленными оговорками они заговорили об угасании революционной волны в европейских странах. Их главным делом все больше становилось не продвижение вперед мировой революции, а сохранение завоеванной в России власти в условиях нэпа. Для них, как писал Ленин в «Заметках публициста», эта политика выглядела как отступление альпиниста, всего несколько шагов не добравшегося до желанной вершины. «Ему пришлось повернуть назад, спускаться вниз, искать других путей, хотя бы более длинных, но все же обещающих возможность добраться до вершины»[179].

 Подготовленный В. И. Лениным проект секретного письма ЦК РКП(б) о борьбе с разбазариванием денег, выделяемых иностранным компартиям
9 сентября 1921
[РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 27065. Л. 1–1 об.]
Подготовленный В. И. Лениным проект секретного письма ЦК РКП(б) о борьбе с разбазариванием денег, выделяемых иностранным компартиям
9 сентября 1921
[РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 27065. Л. 1–1 об.]
Напротив, многие из потенциальных союзников большевиков на Западе увидели в нэпе курс на размягчение революционной диктатуры, расценили его как шанс на возвращение России в международное сообщество. Без всяких оснований в той же статье вождь РКП(б) заявил, что своим злорадством по поводу нэповского отступления эти силы пытаются внести раскол, посеять панику и уныние в рядах российских революционеров. Ленин заклеймил их как «современный образец крайне левого крыла мелкобуржуазной демократии» и не оставил им никаких надежд на то, что протянутая ими рука будет пожата. Такая установка фактически закрывала перспективу достижения даже не единства действий, а хотя бы минимального политического сотрудничества европейских рабочих партий. Ссылаясь на печальный опыт социал-демократии, которая погрязла в политической пассивности и реформистских иллюзиях, большевики продолжали настаивать на том, что революцию надо не ждать, а организовывать. Их взоры были обращены на Германию — страну образцового империализма и в то же время историческую родину марксизма, имевшую наиболее массовое и хорошо организованное рабочее движение. В исторических работах разной идейной направленности, посвященных первым годам Коминтерна, не так уж много положений, с которыми согласны все исследователи. Одно из них — признание того, что тактика, предложенная «Открытым письмом КПГ» от 8 января 1921 года, стала предтечей смены курса по отношению к европейским социалистам, которую одобрило Политбюро ЦК РКП(б) 1 декабря того же года. Тот поворот, на который Ленин не решился в ходе Третьего конгресса, не без оснований опасаясь, что зарубежные делегаты воспримут его как похороны мировой революции, был оформлен келейным решением большевистского ареопага. «Новая тактика Коминтерна в отношении международного меньшевизма», как она была названа в решении Политбюро[180], на деле означала нечто большее — готовность коммунистов отставить в сторону фетиш мировой революции и взяться вместе с потенциальными союзниками за решение насущных проблем, которые волновали подавляющее большинство рабочих в каждой из западных стран. Просмотрев 6 декабря набросок тезисов по данному вопросу, Ленин попросил Зиновьева подчеркнуть, что в предреволюционной России расколы с меньшевиками сменялись временными объединениями «не только в силу перипетий борьбы, но и под давлением низов, требовавших проверочных испытаний собственным опытом»[181]. Указаний на успешный опыт РСДРП(б) было недостаточно для того, чтобы убедить зарубежных коммунистов в необходимости столь резкого поворота. На декабрьском заседании ИККИ новый председатель КПГ Генрих Брандлер поставил вопрос ребром: «…наши товарищи понимают все буквально, они скажут, а зачем тогда вообще раскол, зачем фракции в профсоюзах». Ближайшим соратникам вождя пришлось успокаивать собравшихся. Зиновьев заявил, что речи о роспуске прокоммунистического Профинтерна не идет: «Амстердам — организация буржуазно-демократическая, а мы — организация пролетарская». Вслед за ним Бухарин подчеркнул, что лозунг кооперации с социал-демократами — не постоянная величина, а временное стечение обстоятельств, которое может измениться уже на следующий день[182]. Внешнее единство лидеров российской компартии являлось на самом деле результатом сложного компромисса, который принимал в расчет и их идейные убеждения, и их личные амбиции. Ленин в очередной раз выступил за то, чтобы пойти на риск политического сотрудничества с социал-демократией, не видя в этом больше экзистенциальной угрозы для компартий, спаянных железной дисциплиной. Настояв год назад на том, чтобы прощупать красноармейским штыком «белопанскую Польшу», на сей раз он предпочел рискованному штурму планомерную осаду твердынь капитализма. Практическую реализацию новой тактики, получившей название «единого рабочего фронта», поручили Радеку, которому предстояло стать первым дипломатом в сфере международного рабочего движения. Мотивы, которыми руководствовался вождь партии большевиков, продолжив поворот вправо, начатый на Третьем конгрессе, на заседании ИККИ 4 декабря 1921 года изложил его верный оруженосец Зиновьев: «В частном разговоре с тов. Лениным указывалось на то, что некоторые слои рабочего класса, которые ныне, быть может, впервые принимают участие в политической жизни, — и такие слои всегда имеются, — которые только сейчас в силу общего положения вещей вовлечены в политику, — что они должны изжить свои реформистские иллюзии. Они должны сами, собственным опытом испытать те пути, которые им предлагают реформисты и которые для них являются новыми»[183]. Излишне говорить о том, что для зарубежных компартий ссылка председателя ИККИ на «частный разговор» с вождем значила больше, чем любые контраргументы их собственных лидеров, хотя противники новой тактики не без оснований говорили о том, что в головах простых рабочих она стирает разницу между Коминтерном и Советской Россией, а заигрывание с социал-демократами оттолкнет от компартий радикальных синдикалистов[184].
1.10. Встреча трех Интернационалов
В последующие недели Ленин не выпускал из своих рук оперативный контроль над подготовкой первой встречи трех рабочих Интернационалов, которая была предложена левыми социалистами Франции и Германии. Следует отметить, что в начале 1921 года на идеологической шкале европейского рабочего движения наряду со Вторым (Лондонским) и Третьим (Московским) Интернационалами появилось Международное рабочее объединение социалистических партий (МРОСП), вошедшее в историю как Венский или Двухсполовинный Интернационал. Именно «венцы», считавшие себя центристами, взяли на себя роль объединителя и примирителя различных течений международного социалистического движения, полагая, что причины раскола 1914 года потеряли свое значение. В письмах Ленина ближайшим соратникам отразились энергия и азарт, с которыми вождь начинал каждый новый тур «большой игры» за власть и влияние. Так, 1 февраля 1922 года он предложил Зиновьеву и Бухарину отправить на предстоящую конференцию «зубастых людей» и тщательно обдумать список тем, обсуждение которых в ее ходе даст выигрыш коммунистам. Представители Коминтерна должны были игнорировать требования «господ желтых» поставить в повестку дня вопросы о репрессиях против меньшевиков и насильственной советизации Грузии, ограничившись тем, что «признается бесспорным в заявлениях прессы каждой из трех действующих сторон». В случае если социал-демократические представители будут настаивать на своих приоритетах, Ленин заготовил список обвинений в их адрес, среди которых было даже их «участие в убийстве Люксембург, Либкнехта и других коммунистов»[185]. Ни для кого не было секретом то, что если конференция скатится в плоскость обмена подобными упреками и обвинениями, добиться единства действий рабочих Интернационалов даже в самых насущных вопросах дня не удастся. Ленин также понимал это, но считал такой вариант событий отнюдь не проигрышным для Коминтерна, который таким образом продолжил бы линию на дискредитацию оппортунистов в рядах рабочего движения. По предложению Зиновьева в повестку дня Первого расширенного пленума Исполкома Коминтерна (21 февраля — 4 марта 1922 года) был включен вопрос об анархистах и меньшевиках в России именно в связи с проблемами единого фронта[186]. Открывая обсуждение, Председатель ИККИ признал очевидное: «Первый вопрос, играющий огромную роль во всей дискуссии о едином фронте, как во Франции, так и в других странах, заключается в следующем: находится ли предложенная Исполкомом тактика в какой-либо связи с нынешним положением русской революции и новой политикой Советского государства? Этот вопрос ставится нашими врагами с оттенком злорадства, однако и в наших братских партиях он активно обсуждается». Действительно, левые оппоненты новой тактики в зарубежных компартиях активно разыгрывали «русскую карту», утверждая, что тезисы о едином фронте не отвечают национальной специфике их партий, что делегация РКП(б) навязывает неподходящие для западных стран решения, и т. д. От политического руководства Коминтерна требовалось не открещиваться от выдвигавшихся слева доводов, а взвесить их, выделить в них рациональное зерно. Под давлением слева представители РКП(б) в Коминтерне выступили на пленуме ИККИ единым фронтом, и их подход к новой тактике стал более широким. Произошло сближение взглядов Зиновьева и Радека, в духе представлений последнего выступал и Троцкий. Можно предположить, что причиной этого стали замечания Ленина на проект резолюции пленума, продиктованные им по телефону 23 февраля 1922 года. В них предлагалось, в частности, не называть лидеров европейской социал-демократии «пособниками всемирной буржуазии», сделав акцент на перспективу совместных действий рабочего класса в решении неотложных практических вопросов. «Совершенно неразумно рисковать срывом громадной важности политического дела из-за того, чтобы доставить себе удовольствие лишний раз обругать мерзавцев, которых мы ругаем и будем ругать в другом месте тысячу раз»[187]. Выделим главное в этом документе: Ленин подходил к оценке перспектив и границ политики единого рабочего фронта с позиций классической дипломатии, оперировавшей понятиями национальных интересов и государственного суверенитета. Революционер, ранее ставивший во главу угла понятие «всеобщего блага» (и при этом не брезговавший никакими средствами для его скорейшего достижения), стал приверженцем дипломатической игры с нулевой суммой. Именно в таком ключе была выдержана ленинская реакция на проект директив, с которыми коминтерновская делегация должна была выехать в Берлин на конференцию трех Интернационалов. Никто из зарубежных сторонников большевиков не должен был сомневаться в направлении главного удара: «Если на заседании расширенного Исполкома есть еще люди, которые не поняли, что тактика единого фронта поможет нам свергнуть вождей II и II 1/2 Интернационалов, то для этих людей надо прочесть добавочное количество популярных лекций и бесед».
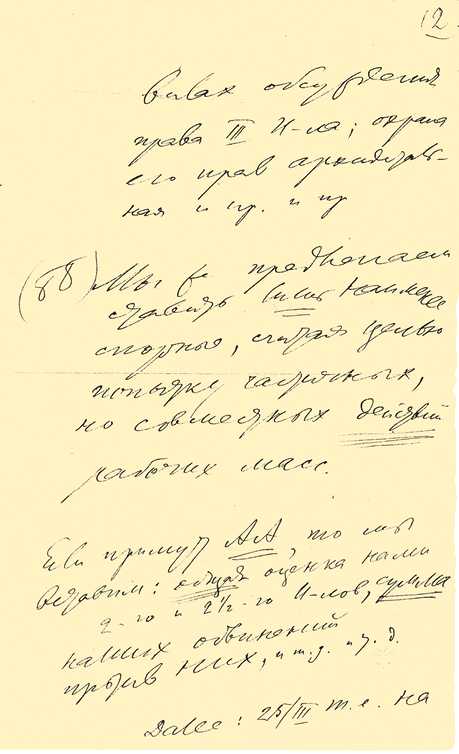
 Письмо В. И. Ленина членам Политбюро ЦК РКП(б) о директивах делегации Коминтерна на встрече трех Интернационалов
14–15 марта 1922
[РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 22835. Л. 1–2 об.]
Письмо В. И. Ленина членам Политбюро ЦК РКП(б) о директивах делегации Коминтерна на встрече трех Интернационалов
14–15 марта 1922
[РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 22835. Л. 1–2 об.]
Возможные уступки меньшевикам для создания благоприятной атмосферы на конференции были категорически отвергнуты Лениным, очевидно, что это означало бы признание интернационализма более высоким приоритетом по отношению к суверенитету Советской России. Он предложил вообще не говорить о прошлом, что неизбежно привело бы к обмену взаимными обвинениями: «…мы же предлагаем ставить лишь наименее спорные [вопросы], считая целью [встречи] попытку частичных, но совместных действий рабочих масс». Его наставления вполне могли бы войти в учебники классической дипломатии: «…нашим делегатам быть архисдержанными, пока не потеряна надежда достигнуть цели, т. е. заманить все 3 Интернационала (и II, и II 1/2) на всеобщую конференцию»[188]. Она должна была состояться в момент проведения Генуэзской конференции великих держав, посвященной послевоенному восстановлению мировой экономики. Советская Россия впервые получила приглашение участвовать в столь масштабном форуме, что рассматривалось в Москве как прорыв внешнеполитической блокады. Чтобы подкрепить ее дебют на международной арене, и был задуман «единый рабочий фронт», который должен быть нейтрализовать претензии стран Антанты к большевикам, вступившим в права наследников Российской империи. С новой тактикой, объединяющей европейских рабочих, увязывался и вопрос о предотвращении новой империалистической войны, поднимавшийся в докладе на пленуме, который сделала Клара Цеткин. Ленинская идея «заманить» лидеров социал-демократического движения Европы на дипломатическую встречу с повесткой дня, выигрышной для Коминтерна, не осталась для них секретом. Трудно было надеяться на то, что после 1914 года крайне левые, которые во Втором Интернационале продолжали восприниматься как раскольники, сменят гнев на милость. Ответным ходом лондонцев стало выдвижение повестки дня, крайне болезненной не столько для Коминтерна, сколько для руководителей Советской России. Речь шла о «насильственной советизации независимой Грузии» Красной армией и о политических репрессиях против меньшевиков и эсеров, которые были усилены после перехода страны к новой экономической политике[189]. Линия лондонцев в целом была поддержана венцами, хотя и с гораздо более осторожными формулировками. Мы еще не можем принять окончательное решение по поводу предстоящего судебного процесса против партии «правых эсеров», поскольку мы не защищаем ту политику, которую они проводили после прихода к власти большевиков, говорилось в их письме, направленном в Москву. «Но мы считаем, что ради достижения высшей цели — единства действий мирового пролетариата — следует избегать любых шагов, которые могли бы создать впечатление, что одна пролетарская партия использует против другой машину правосудия»[190]. Общая позиция европейских социалистов в вопросе о репрессиях имела под собой все основания, но обещала превратить европейский рабочий конгресс в заурядные дебаты, подражающие парламентским прениям. Предварительная встреча представителей трех международных рабочих организаций (от каждого из Интернационалов участвовало по 9 человек) состоялась в Берлине 2–5 апреля 1922 года. Перипетии дискуссий достаточно хорошо известны из опубликованного протокола и научной литературы[191], поэтому можно сразу озвучить ее итог: встреча несколько раз находилась на грани краха, делегации расходились для внутренних переговоров, но благодаря усилиям представителей Венского Интернационала все же согласились подписать итоговый документ. Он не был клятвой о верности, принятой единомышленниками, скорее являясь образчиком дипломатического искусства, которому удалось зафиксировать временное перемирие в международном рабочем движении. Как и предполагалось, «русский вопрос» стал главным камнем преткновения в ходе берлинской встречи, который общими усилиями удалось убрать с дороги. В ответ на обещание делегации Коминтерна, что против лидеров партии правых эсеров не будет допущено применение смертной казни, Второй Интернационал снял свои ультимативные требования, касавшиеся независимой Грузии. Кроме того, было предложено образовать специальную комиссию для рассмотрения грузинского вопроса, а также допустить на судебный процесс в Москве защитников, отобранных европейскими социалистами. Заключительный документ встречи подчеркивал принципиальную ориентацию всех трех Интернационалов на сотрудничество в защите каждодневных интересов рабочего класса, против империалистической экспансии своих государств. Первым пунктом предусматривалась объединенная демонстрация трудящихся 20 апреля, которая должна была поддержать позицию советской делегации на Генуэзской конференции, вторым — созыв Всемирного рабочего конгресса, местом проведения которого планировалась та же Генуя. Чрезвычайно важное значение имело и создание международного координационного центра — Организационного комитета, известного как «комиссия девяти» (в нее вошли по три представителя каждого из Интернационалов). Пока это было лишь политическим шансом, но шансом, получившим в апреле 1922 года первые импульсы в пользу своего осуществления. Этот шанс перечеркнула жесткая реакция Ленина на итоги берлинской встречи, выраженная в статье с программным названием «Мы заплатили слишком дорого», которая появилась в «Правде» 11 апреля 1922 года. Вождь не случайно выбрал публичный формат для экзекуции возглавлявших советскую делегацию Радека и Бухарина, которые, по его убеждению, проявили в Берлине непростительную мягкость и уступчивость. Суть его упреков сводилась к тому, что делегация Коминтерна позволила себе давать обещания по вопросам, находящимся в компетенции советского правительства. Времена отождествления интересов пролетарской России и мировой революции уходили в прошлое, и в условиях, когда советская страна делала первые шаги на арене европейской политики, необходимо было по-новому осмыслить всю систему координат революционного движения. В статье Ленина вопросы государственной безопасности и престижа рассматривались уже как приоритетные по отношению к коминтерновской тактике.
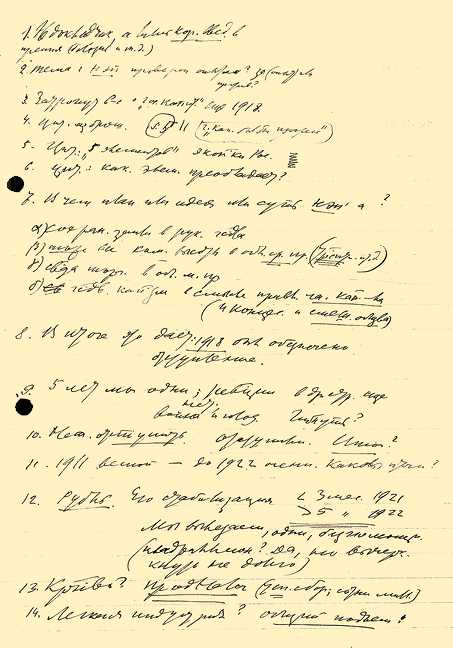
 План доклада В. И. Ленина на Четвертом конгрессе Коминтерна
Не позднее 12 ноября 1922
[РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 23466. Л. 1–1 об.]
План доклада В. И. Ленина на Четвертом конгрессе Коминтерна
Не позднее 12 ноября 1922
[РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 23466. Л. 1–1 об.]
«Коммунисты не должны вариться в собственном соку, а научиться действовать так, чтобы проникать в запертое помещение, где воздействуют на рабочих представители буржуазии». Сведение всего социалистического движения к роли «подголосков мирового капитала» явно искажало реальную ситуацию в передовых странах Европы: линия классового размежевания произвольно переносилась в ряды самого рабочего класса, что играло на руку его социальному противнику. Тон статьи показывал, что Ленин размышлял и о дезавуировании соглашения, подписанного на встрече в Берлине. Осудив уступки, сделанные делегацией Коминтерна в ходе Берлинской встречи, он все же признал ее итоги, предложив Радеку остаться в Берлине для дальнейших контактов в «комиссии девяти»[192]. Статья заканчивалась признанием, которое показывало, что вождь тщательно взвесил все «за и против» и, скрепя сердце, дал добро на продолжение коммунистических попыток привлечения на свою сторону рабочих масс западных стран: «Ради того, чтобы этим массам помочь бороться против капитала, помочь понять „хитрую механику“ двух фронтов во всей международной экономике и во всей международной политике, ради этого мы тактику единого фронта приняли и проведем ее до конца»[193]. «Никогда не говори никогда» — клянясь в вечной верности единому рабочему фронту, Ленин не забывал о том, что новая тактика была увязана с организацией международного давления на Генуэзскую конференцию. Нежелание лидеров социал-демократии идти на конфликт с правительствами своих стран и ее близившееся окончание создали принципиально новую ситуацию в сфере политического взаимодействия трех Интернационалов, которую обсудил пленум ЦК РКП(б) в мае 1922 года. Пленум принял решение поставить вопрос о созыве всемирного рабочего конгресса ультимативно, а в случае продолжения саботажа немедленно отозвать представителей Коминтерна из «комиссии девяти». Разрыв пусть очень тонкой, но все-таки реальной нити, связывавшей международные рабочие организации, оказался на руку как правому крылу социал-демократического движения, так и левацким элементам Коминтерна. Обращает на себя внимание то, что решение пленума императивно предписывало конкретную линию поведения делегации ИККИ в комиссии трех Интернационалов. Между тем пределы компетенции российской компартии как одной из секций Коминтерна ограничивались правом снять требование защиты Советской России из условий будущего соглашения. Решение об этом было обнародовано в особом письме ЦК РКП(б)[194]. Данная уступка не затрагивала сути разногласий в международном рабочем движении, тем более после окончания конференции в Генуе. Кампания социалистических партий Европы против репрессий в отношении их российских единомышленников показала большевикам, что международная рабочая солидарность не является улицей с односторонним движением, она чревата опасностями для складывавшейся в стране однопартийной диктатуры. В этих условиях чаша весов склонилась к «узкой», зато безоговорочной солидарности с Советской Россией коммунистических партий Европы. Тем самым был заложен один из первых кирпичиков в основание теории «социализма в одной стране» как осажденной крепости, вне стен которой — одни враги.
1.11. Политическое завещание вождя
На протяжении 1921 года Зиновьев и Радек пытались найти приемлемый компромисс между своими взглядами на перспективы коммунистического движения в целом и кадровый состав КПГ в частности, не вынося свои разногласия на заседания Исполкома Коминтерна. Однако переход конфликта в открытую фазу, как показывало их толкование политики единого рабочего фронта, являлся только вопросом времени. Ленинское вмешательство осенью 1921 года, когда вождь поддержал идею обращения к социал-демократическим «верхам», и в мае следующего года, когда уступки делегации ИККИ в Берлине были сочтены чрезмерными, свидетельствовало об отсутствии у руководства большевиков ясного представления о том, какими путями должна развиваться созданная ими всемирная партия. Позиция Ленина на последнем году его активной политической жизни определялась тактическими мотивами. Он выстраивал баланс противоположных мнений в Исполкоме Коминтерна, сохранив для себя роль «отсутствующего режиссера»[195]. Для него проект мировой пролетарской революции на втором году нэпа потерял свою актуальность, и он дал добро инициаторам первой попытки определить его по внешнеполитическому ведомству Советской России, увязав с участием последней в Генуэзской конференции. Об этом свидетельствовало обращение вождя к Чичерину после того, как пришедшие к власти в Италии фашисты устроили провокацию против советских дипломатов, напав на торговый отдел при полпредстве РСФСР. Вождь предложил не просто разорвать отношения между странами, но «уехать из Италии, начав травлю ее фашистов». Он достаточно точно определил их место в шкале политических движений, взяв за масштаб отечественную историю: «Повод к придирке удобный: вы наших били, вы дикари, черносотенцы хуже России 1905 года и т. д и т. п. По-моему, следует. Поможем итальянскому народу всерьез»[196]. Слово «народу» было подчеркнуто автором записки — это был один из немногих моментов, когда Ленин покинул накатанную колею классового подхода, задумавшись о ценностях более высокого порядка. То, что это не было случайностью, показывает заключение его речи на Четвертом конгрессе Коминтерна, где вновь зашла речь о «черной сотне», захватившей власть в Италии.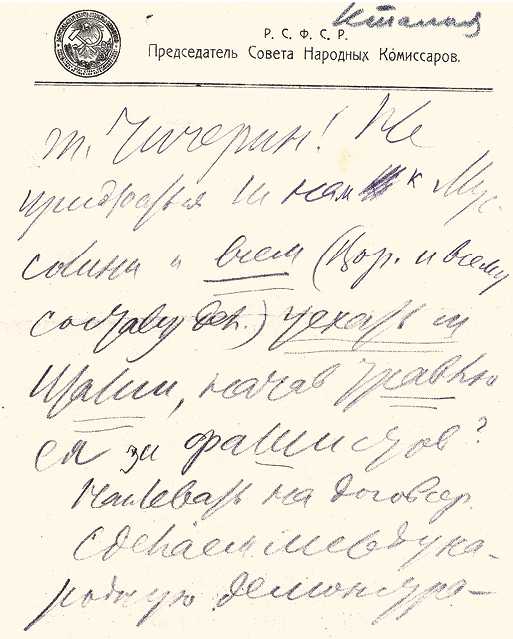
 Письмо В. И. Ленина Г. В. Чичерину о провокации фашистов в Италии
Не ранее 9 ноября 1922
[РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 25783. Л. 1–1 об.]
Письмо В. И. Ленина Г. В. Чичерину о провокации фашистов в Италии
Не ранее 9 ноября 1922
[РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 25783. Л. 1–1 об.]
Это было последнее выступление вождя с трибуны Коминтерна, ставшее характерным примером «национализации» его взглядов на исходе жизни. Доклад на пленарном заседании 13 ноября 1922 года был озаглавлен «Пять лет российской революции и перспективы мировой революции». Ленин первым делом извинился за то, что ничего не будет говорить ни о героических делах российских большевиков, ни о будущей борьбе их зарубежных единомышленников. Он сосредоточился на достаточно прозаической теме, которая вряд ли могла вызвать прилив энтузиазма у делегатов конгресса. Речь вновь зашла о нэповском отступлении. Ленин с не меньшим рвением, чем весной 1921 года, отстаивал как необходимость этой политики для спасения Советской России, так и ее международное значение. О проблемах самого Коминтерна в докладе говорилось только вскользь. В нем отмечался переходный характер новой эпохи, и из этого факта делались два вывода: во-первых, компартии в любой момент должны быть готовы к дальнейшему отступлению, а во-вторых, Коминтерну еще рано думать о принятии собственной программы, «потому что мы едва ли все хорошо продумали»[197].
 В. И. Ленин на прогулке в Горках
Начало августа — не позднее 24 сентября 1922
[РГАСПИ. Ф. 393. Оп. 1. Д. 350. Л. 1]
В. И. Ленин на прогулке в Горках
Начало августа — не позднее 24 сентября 1922
[РГАСПИ. Ф. 393. Оп. 1. Д. 350. Л. 1]
В заключение Ленин затронул тему, на которую не обращали внимания ни его политические биографы, ни ученые-коминтерноведы. Раскритиковав государственный аппарат, доставшийся Советской России в наследство от царского режима, он сразу же перешел к резолюции об организационном строении коммунистических партий, принятой предшествующим конгрессом. «Резолюция прекрасна, но она почти насквозь русская, т. е. все взято из русских условий. В этом ее хорошая сторона, но также и плохая. Плохая потому, что я убежден, что почти ни один иностранец прочесть ее не может». Развивая свою мысль, Ленин пришел к заключению: «…мы не поняли, как следует подходить к иностранцам с нашим русским опытом. Все сказанное в резолюции осталось мертвой буквой. Но если мы этого не поймем, мы не сможем продвинуться дальше. Я полагаю, что самое важное для нас всех, как для русских, так и для иностранных товарищей, то, что мы после пяти лет российской революции должны учиться. Мы теперь только получили возможность учиться»[198]. Тем самым Ленин «обнулил» все достижения Коминтерна, какими бы скромными они не были к концу 1922 года. Главная задача, ради которой и создавалась «всемирная партия» коммунистов — перекинуть мостик от Российской революции 1917 года к современной европейской политике — так и осталась невыполненной. Досталось не только лидерам Коминтерна, но и его зарубежным приверженцам: «иностранные товарищи подписали, не читая и не понимая» упомянутую резолюцию. Данный вывод можно было понимать и гораздо шире, как их неспособность понять опыт большевизма, а может быть, даже как признаниенесовпадения этого опыта и европейских реалий.
 Выступление В. И. Ленина на Четвертом конгрессе совпало с пятой годовщиной Октябрьской революции
[Из открытых источников]
Выступление В. И. Ленина на Четвертом конгрессе совпало с пятой годовщиной Октябрьской революции
[Из открытых источников]
Делегаты конгресса наверняка удивились (а его организаторы — вдвойне!), услышав следующие слова докладчика, обращенные к каждому из них в третьем лице: «…они не могут удовлетвориться тем, что повесят ее [резолюцию. — А. В.], как икону, в угол и будут на нее молиться. Этим ничего достигнуть нельзя. Они должны переварить добрый кусок русского опыта. Как это произойдет, этого я не знаю. Может быть, нам окажут большие услуги, например, фашисты в Италии, тем, что разъяснят итальянцам, что они еще недостаточно просвещены, и что их страна еще не гарантирована от черной сотни. Может быть, это будет очень полезно»[199]. Представляется крайне важным, что Ленин завершал свой доклад не воспеванием нового революционного подъема, а предупреждением о том, что европейское общество ждут испытания совершенно иного рода. Выйдут ли коммунисты победителями из этих испытаний, смогут ли на деле противостоять натиску фашистской «черной сотни» — этот вопрос в последнем выступлении вождя перед Коминтерном оставался открытым. Некоторые участники Конгресса почувствовали во время речи вождя, что он превратился в живую икону, уходящую в иной мир, и поднялся на трибуну только под нажимом своих соратников. Вот впечатление, оставшееся у известного немецкого художника Георга Гросса, который прибыл в Москву как «сочувствующий пролетариату»: «Я хорошо помню Ленина. Он неожиданно оказался среди нас, тщательно отобранных и просеянных, снабженных особыми пропусками в кремлевском зале, декорированном красным… В нем не было ничего, внушающего страх или беспокойство, ну разве что загадочный прищур, который в татарских глазах совсем не обязательно означает улыбку. Он пожал нам руки, его сопровождали секретарша, Бухарин и Радек. Все произошло очень быстро и без каких-либо формальностей. Ленину предстояло выступать. Симпатичный американский корреспондент Альберт Рис Вильямс, стоявший рядом со мной, сказал, что Ленину (он выступал по-немецки) из-за болезни трудно подбирать слова и он то тут, то там теряет мысль. Иногда — мы стояли достаточно далеко от Ленина — было слышно, что ему тихо подсказывали слово или дату. Я был обескуражен. Когда Ленин закончил свою, примерно часовую речь, раздались бурные аплодисменты, и он сразу же, опираясь на своего врача, покинул трибуну»[200]. Если такие чувства обуяли буржуазного «попутчика», что же говорить о коммунистах первого часа, которые видели, как сходит с исторической сцены обожествленный ими человек, подкошенный неизлечимой болезнью. Французский синдикалист Альфред Росмер писал о том, что для многих делегатов, знавших его лично, Ленин оставался все тем же, «но некоторые уже не могли предаваться иллюзиям. Перед ними стоял человек, над которым витал призрак паралича: черты его лица оставались неподвижными, его поведение выглядело механическим, его обычно простой и уверенный язык уступил место паузам и запинаниям. Иногда он не находил подходящего слова. Товарищ, которого приставили в помощь Ленину, явно не справлялся со своими обязанностями, так что Радек отодвинул его в сторону и сам принялся за дело»[201].
 Джованни Джерманетто
Июль 1924
[РГАСПИ. Ф. 492. Оп. 2. Д. 203. Л. 1]
Джованни Джерманетто
Июль 1924
[РГАСПИ. Ф. 492. Оп. 2. Д. 203. Л. 1]
Впрочем, иностранные собеседники вождя (хронология их встреч во время конгресса была скрупулезно реконструирована советскими историками) отдавали себе отчет в том, что прикоснулись к сакральной фигуре, описывать которую в прозаических тонах просто не имели права. Итальянский коммунист Д. Джерманетто увидел эту фигуру совсем другой: «Ленин был в прекрасном настроении, веселым и дружественным. Он беседовал почти к с каждым из нас по-французски или по-итальянски. Расспрашивал о нашей партийной работе, узнавал, из каких мы приехали городов и областей, интересовался борьбой рабочих в каждой местности и слушал ответы делегатов с таким вниманием, с каким был способен слушать великий учитель рабочего класса»[202]. Как известно, каноническое описание жизни и деяний Христа дали четыре евангелиста. После смерти Ленина аналогичной работой занялся целый институт, без малого семь десятилетий стоявший на страже его светлого образа[203].

 Письмо В. И. Ленина Л. Д. Троцкому о тактике Коминтерна
18 ноября 1922
[РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 24439. Л. 1–3 об.]
Письмо В. И. Ленина Л. Д. Троцкому о тактике Коминтерна
18 ноября 1922
[РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 24439. Л. 1–3 об.]
В работах Ленина, написанных в 1923 году и вошедших в историю как его политическое завещание, практически ничего не сказано о дальнейшей судьбе Коммунистического Интернационала. Отдавая себе отчет в том, что перспектива мировой пролетарской революции отодвинулась в неопределенное будущее, вождь сконцентрировался на проблемах, связанных с дальнейшим существованием Советской России, оставшейся во враждебном окружении. При этом он развивал идеи своего доклада на Четвертом конгрессе, неоднократно повторив, что коммунисты, ставшие хозяевами страны, должны «учиться и учиться», овладевая всем богатством человеческого опыта. Причем он сознательно оставлял открытым вопрос, «относится ли это к пролетарской или буржуазной культуре»[204]. Последний из ленинских документов, целиком посвященных коминтерновской проблематике, — письмо Троцкому от 18 ноября 1922 года. Уже после того, как на пленарном заседании конгресса состоялась острая дискуссия о вступлении коммунистов в «рабочее правительство», в которой доминировали представители левого крыла КПГ, вождь поинтересовался, не приведет ли это к отстранению умеренных лидеров партии, в частности вышедшего из «Союза Спартака» Эрнста Мейера? И предложил принять на будущем съезде КПГ «письмо против фракций и придирок», т. е. взять курс на внутреннее сплочение партии германских коммунистов. Но основной темой письма был вопрос о будущем Французской компартии (ФКП), поскольку Троцкий считался в нем главным специалистом. После бесед с членами французской делегации Ленин пришел к идее об интеграции в руководство компартии («партия — дрянь. Улучшить ее нельзя. Раскол? Еще хуже будет») леворадикальных представителей профсоюзного движения, даже несмотря на то, что многие из них являются анархистами. Следует выбрать меньшее зло: «Недоверие к партии всеобщее, у всех (даже коммунистов) во Франции. Сделаем прыжок… Уверяют, что тогда все рабочие революционеры войдут в партию»[205].
 В. И. Ленин во время болезни в Горках
Не ранее 25 июля — не позднее 31 августа 1923
[РГАСПИ. Ф. 393. Оп. 1. Д. 410. Л. 1]
В. И. Ленин во время болезни в Горках
Не ранее 25 июля — не позднее 31 августа 1923
[РГАСПИ. Ф. 393. Оп. 1. Д. 410. Л. 1]
В этих обрывочных фразах виден традиционный Ленин — борец за партию единой воли и железной дисциплины и в то же время Ленин новый — человек, уставший от фракционной борьбы, которая вопреки его воле скатывается с политического на административный уровень, прорастает личными коллизиями. В гораздо большей степени это проявится во внутрипартийной жизни, где уже смертельно больной вождь в редкие моменты просветления поручит Троцкому разобраться в хитросплетениях «грузинского дела», при разрешении которого дошло до обыденного рукоприкладства («можно себе представить, в какое болото мы влетели»[206]). В своих последних заметках Ленин увязывает диктаторские замашки своих наследников с тем (очевидным ныне фактом), что их мировоззренческие установки капитулировали перед колоссальной силой и косными устоями государственного аппарата, который был «заимствован нами от царизма и только чуть-чуть подмазан советским миром»[207]. В полной мере это трагическое признание относилось и к деятельности коминтерновского аппарата, который являл собой «плоть от плоти» российской действительности. Судорожные попытки лидера большевиков путем мелких кадровых и организационных корректив внести в работу и того, и другого аппарата новое содержание были обречены на неудачу. Бытие действительно определяло сознание, хотя и не в смысле вульгарного марксизма — стремление железной рукой загнать в светлый новый мир не только россиян, но и все человечество обернулось неизбежным возвращением к реальностям «проклятого прошлого». Уход Ленина из политической жизни ускорил развитие процессов, вектором которых было движение «назад в будущее»[208]. В созданных им партии и государстве уже в 1923 году правила бал иная политическая культура — культура голого администрирования, назначенчества, келейных решений и репрессий против носителей иного мнения. Зиновьев, сам приложивший немало сил для ее утверждения, жаловался в письме Каменеву на самоуправство Сталина в Коминтерне: «Уделив 10 минут своего высокого внимания и поговорив с интриганом Радеком, Сталин решил, что германский ЦК ничего не понимает… Тут Сталин прыток — пишет телеграммы Троцкому и пр. Что это? Владимир Ильич уделял добрую десятую часть времени Коминтерну, каждую неделю беседовал с нами об этом часами, знал международное движение как свои пять пальцев, и то никогда не отрезывал, не опросив 20 раз всех. А Сталин пришел, увидел и разрешил. А мы с Бухариным — вроде „мертвых трупов“ — нас и спрашивать нечего»[209].

 В письме своему соратнику Л. Б. Каменеву Г. Е. Зиновьев противопоставлял ленинский и сталинский стили руководства партией и страной
30 июля 1923
[РГАСПИ. Ф. 324. Оп. 2. Д. 71. Л. 19–21]
В письме своему соратнику Л. Б. Каменеву Г. Е. Зиновьев противопоставлял ленинский и сталинский стили руководства партией и страной
30 июля 1923
[РГАСПИ. Ф. 324. Оп. 2. Д. 71. Л. 19–21]
 После смерти В. И. Ленина журнал «Коммунистический Интернационал» представил его вместе с потенциальными наследниками в качестве руководителей мирового пролетариата
1924
[Из открытых источников]
После смерти В. И. Ленина журнал «Коммунистический Интернационал» представил его вместе с потенциальными наследниками в качестве руководителей мирового пролетариата
1924
[Из открытых источников]
Ровно через полтора десятилетия хлесткая гипербола Зиновьева превратится в буквальную констатацию того, как Сталин поступил со своими вчерашними соратниками, которые слишком настойчиво ссылались на авторитет большевистского вождя и свою былую близость к нему. Ленин на последнем году своей жизни уже не принимал участия в выработке политических решений, в том числе и тех, которые принимались лидерами Коминтерна. Он умер через один день после подведения Президиумом ИККИ итогов несостоявшейся германской революции. Это было весьма символично. Страна и правящая в ней партия вступали в новую эпоху. 1924 год в истории внутрипартийной борьбы открылся «Уроками германских событий» и закончился «Уроками Октября» Троцкого — синопсисом большевистской революции 1917 года, в котором сталинская группа увидела умаление своих собственных заслуг и объявила бывшему создателю Красной армии беспощадную войну. После этого троцкисты и зиновьевцы еще целый год находились по разные стороны баррикад, ведя схоластические дебаты за единственно верное толкование ленинского наследия. В результате победителем в схватке за лидерство на большевистском Олимпе оказался третий — Сталин, отстаивавший курс на «построение социализма в одной стране». Предупреждения Ленина о его грубости и нетерпимости, особенно опасной в условиях, когда он, «сделавшись генсеком, сосредоточил в своих руках необъятную власть», не были услышаны[210]. Победа Сталина, казавшаяся на первых порах тактической и преходящей, на самом деле предопределила дальнейшую эволюцию не только Советской России, но и всего международного коммунистического движения.
Часть 2. Карл Радек. Глашатай мировой революции
2.1. На пути в Советскую Россию
Карла Радека трудно описать в привычных категориях — он был дипломатом и революционером, журналистом и агитатором, человеком с огромной эрудицией и отвратительным характером. Остается открытым вопрос о том, можно ли его причислить к российским лидерам Коминтерна, по крайней мере, если вести речь о первой половине 1920-х годов, когда он работал в его Исполкоме. Радек успел поработать в польской и немецкой социал-демократических партиях, прежде чем в швейцарской эмиграции встретился с Лениным и стал считать себя большевиком. Но даже после этого Радек оставался «чужим среди своих, своим среди чужих» в российском революционном движении, а затем и в политической элите Советской России. Наш герой без труда находил общий язык и с генералами рейхсвера, и с простыми рабочими. Его русский на первых порах состоял из ошибок и несуразностей, но именно в этом заключалась привлекательность оратора, который таким образом олицетворял «всемирный замах» российского большевизма. Если можно говорить о типе «безродного космополита», то Радек был его самым точным воплощением. Выходец из среды галицийских евреев, после разделов Польши ставших подданными Австро-Венгерской империи, он достаточно рано разорвал все связи с местечковым миром, в котором вырос, за исключением, пожалуй, еврейских анекдотов, которые на протяжении всей своей жизни рассказывал с завидным мастерством и вдохновением. Карл Бернгардович Радек
23 июня — 12 июля 1921
[РГАСПИ. Ф. 490. Оп. 2. Д. 304. Л. 1]
Карл Бернгардович Радек
23 июня — 12 июля 1921
[РГАСПИ. Ф. 490. Оп. 2. Д. 304. Л. 1]
Юный Карл Собельсон, взявший себе псевдоним одного из литературных героев, верил не столько в законы исторического материализма, которые отводили решающую роль чуждому ему рабочему классу, сколько в собственную избранность, способность четче других видеть ключевые линии общественного развития и международных отношений. В отличие от его оппонента Г. Е. Зиновьева, которому не посвящено ни одной достойной биографии, Радек становился и героем художественных реконструкций[211], и главным действующим лицом научно-популярных книг[212], и объектом серьезных исторических исследований[213]. Эпитеты, которыми его награждали сторонники и противники, политики и военные, ученые и публицисты, займут не одну страницу текста. Вот только некоторые из них: «последний интернационалист», «дипломат и интриган», «полуповешенный, полупрощенный», «мастер тайных поручений», «машина зла», «глашатай Коминтерна» и даже «добродушная человекообразная обезьяна». Емкую характеристику Радеку дала Анжелика Балабанова, как и он стоявшая на левом крыле международного социалистического движения, но в отличие от него отказавшаяся идти на поводу у большевиков: «…он представлял собой необыкновенную смесь безнравственности, цинизма и стихийной оценки идей, книг, музыки, людей. Точно так же, как есть люди, не различающие цвета, Радек не воспринимал моральные ценности. В политике он менял свою точку зрения очень быстро, присваивая себе самые противоречивые лозунги. Это его качество при его быстром уме, едком юморе, разносторонности и широком круге чтения и было, вероятно, ключом к его успеху как журналиста. Его приспособляемость сделала его очень полезным Ленину, который при этом никогда не принимал его всерьез и не считал его надежным человеком»[214]. Другую сторону биографии нашего героя подметил в своих мемуарах Густав Хильгер, один из тех немецких дипломатов, которые стояли у истоков советско-германских отношений в начале 1920-х годов. «Радек был известен всей Москве своей безрассудной и дерзкой критикой, которой он подвергал людей и дела, которые он не любил, и своими язвительными шутками, которые он сочинял об этом. Его жалящие остроты переходили из уст в уста, а через какое-то время всякую антисоветскую шутку, которую рассказывали в Москве, приписывали Радеку. Я верю, что это было одной из причин, по которым у Сталина, не имевшего чувства юмора в таких вещах, возникла ярая ненависть к этому нахальному шуту, которого он никогда не любил за то, что тот был фаворитом Ленина и сторонником Троцкого»[215]. Ленин ценил быстрый ум и политическую эрудицию Радека, но причислял его к числу «левоглупистов»[216] и старался не подпускать к себе слишком близко. Критикуя его за «торопливую податливость» и за легковесность суждений, вождь большевиков умело использовал эти качества «самого зубастого» человека для выстраивания выгодного для себя параллелограмма сил среди своих соратников.
 Карл Радек с дочерью Софьей
Не ранее 1925
[РГАСПИ.
Ф. 326. Оп. 2. Д. 50. Л. 38]
Карл Радек с дочерью Софьей
Не ранее 1925
[РГАСПИ.
Ф. 326. Оп. 2. Д. 50. Л. 38]
В ходе внутрипартийной борьбы середины 1920-х годов Бухарин часто использовал свои воспоминания о встречах с вождем как политическое оружие. Не был исключением и следующий сюжет: «Во время профсоюзной дискуссии Ленин говорил: иногда бывает нужно какие-нибудь разногласия изжить в верхушке партийного руководства и не выносить их на широкое обсуждение. Он очень не любил Радека и говорил, что Радек своим языком выносит все на улицу»[217]. Нет никаких оснований не доверять этому воспоминанию — наш герой не просто был главным транслятором слухов и сплетен, но и активно использовал их в своих интригах. Выросший без отца в весьма стесненных условиях, наш герой пошел по пути многих еврейских разночинцев, пытавшихся не приспособиться к реалиям враждебного мира, а переделать его под себя. Юноша экстерном окончил гимназию, успел побывать членом трех социал-демократических партий Европы, поучаствовать в революции 1905 года и больше полугода провести в варшавской тюрьме. Перебравшись после освобождения из нее в Германию, Радек попытался сделать карьеру в СДПГ, однако вступил в конфликт с Розой Люксембург и по обвинению в растрате партийных денег был исключен из этой партии[218]. Радек не потерял своей политической родины — у него ее попросту не было. Его родиной была революция, которая, как и он сам, кочевала из одной страны в другую. «Русская революция, с которой я был связан участием в рабочем движении в Царстве Польском 1905–1908 годов, стала для меня первым уроком массовой революционной борьбы и, как таковая, исходным пунктом в постановке вопросов германской революции»[219]. Отойдя в предвоенные годы от активной партийной работы, он считался одним из самых радикальных критиков международных отношений предвоенной эпохи. Острое перо Радека, разоблачавшее интриги империалистических держав на пути к августу 1914 го-да, сделало его заметным публицистом в социалистическом рабочем движении Европы. Будучи австрийским подданным, с началом мировой войны Радек должен был попасть под всеобщую мобилизацию. Он избежал ее, укрывшись в нейтральной Швейцарии. Там и состоялась его судьбоносная встреча с Лениным и другими лидерами большевистской фракции РСДРП. Жизненные передряги научили Радека ценить покровительство людей с харизмой пророка и вождя, и он сразу же стал горячим сторонником ленинской линии, не без основания рассчитывая на взаимность. Вместе с Лениным Радек стоял на левом фланге Циммервальдского движения, олицетворявшего пацифистские устремления тех европейских социалистов, которые осудили соглашательский курс партий Второго Интернационала.
 Анжелика Балабанова
Художник И. И. Бродский
1920
[РГАСПИ. Ф. 489. Оп. 1. Д. 68. Л. 48]
Анжелика Балабанова
Художник И. И. Бродский
1920
[РГАСПИ. Ф. 489. Оп. 1. Д. 68. Л. 48]
После свержения монархии в России вместе с политическими эмигрантами Радек получил место в «пломбированном вагоне» и отправился в страну, которую до того не видел и не знал. Вопреки всем запретам он не раз выскакивал из вагона на немецких станциях, пытаясь распропагандировать даже сопровождавших поезд солдат. В то время как остальных пассажиров пропустили в Петроград, Радек остался на шведско-финской границе, паспорт подданного Австро-Венгерской империи вызвал у пограничников опасения, не пробирается ли в Россию под видом революционера обычный шпион. В результате Октябрьский переворот наш герой встретил в Стокгольме, где вместе с еще одним известным политэмигрантом, примкнувшим к большевикам, — Вацлавом Воровским организовал издание бюллетеня «Вестник русской революции». Его вера в близость всемирного переворота, творцом которого предстояло стать соединенным пролетариям всех стран, опиралась на инстинктивное ощущение краха старого мира. В столице Швеции в сентябре 1917 года состоялась конференция левых социалистов-интернационалистов, входивших в Циммервальдское движение. Хотя в повестке дня стояли антивоенные акции, дискуссия вращалась вокруг событий в России. Секретарь Циммервальда Анжелика Балабанова, организовавшая конференцию, в своих воспоминаниях особо отмечала острую полемику между Радеком, отстаивавшим курс большевистской партии на скорейший захват власти, и оппонировавшим ему меньшевиком П. Б. Аксельродом. «Хотя мы и презирали лично Радека и считали его вульгарным политиком, мы знали, что на карту поставлена судьба русской революции, а в этот момент эта революция была единственной искрой света на черном горизонте»[220]. Такую точку зрения разделяло большинство участников конференции, проголосовавшее за лозунг всеобщей политической стачки, которая должна была начаться одновременно во всех воюющих странах.
2.2. «Ваш до виселицы» — Карл Радек в Москве
Прибыв в Петроград сразу же после захвата власти большевиками, Радек получил от Ленина первое государственное поручение. В декабре 1917 года он вместе с Троцким отправился на второй тур переговоров о мирном договоре с Германией, которые шли в Бресте. Его включили в состав советской делегации не как дипломата, а как пропагандиста. По прибытии на вокзал Радек из открытого окна вагона начал разбрасывать пачки прокламаций, адресованных немецким солдатам. Позже в ходе переговоров он заявил генералу Максу Гофману, одному из командующих германской армией на Востоке: «Вы еще получите свой Брест!»[221] Хотя власть большевиков в начале 1918 года висела на волоске, их германские контрагенты также были озадачены событиями в Берлине и Вене, где разразились массовые забастовки рабочих оборонных предприятий. В оккупированном немцами Бресте можно было достать немецкие газеты, и Радек буквально прирос к телеграфному аппарату, передавая в Петроград последние новости, препарированные в ура-революционном духе. Так, 4 февраля он сообщал Ленину о том, что «в Берлине продолжаются столкновения с полицией, которая старается противодействовать попыткам бастующих прервать трамвайное сообщение. Демонстрации продолжаются. В Берлине арестовано 130 человек. На помощь полиции призваны войска… В Кельне, Данциге, Мюнхене власти согласились на непосредственные переговоры с представителями бастующих». Военные власти объявили, что все рабочие, которые не вернутся на оборонные заводы, будут отправлены на фронт[222]. Все эти новости немедленно появлялись в советской прессе, порождая среди большевиков необоснованные надежды на то, что германская революция вот-вот разразится, надо только «день простоять, да ночь продержаться». На этой основе в ЦК РКП(б) сформировалась фракция «левых коммунистов», которые выступали за то, чтобы прервать переговоры и готовиться к революционной войне с Германией. Промежуточную позицию занял Троцкий, считавший, что мира заключать не следует, чтобы не потерять свой авторитет среди зарубежных социалистов, но и от возобновления военных действий нужно всячески уклоняться. На первых порах именно эта точка зрения («ни войны, ни мира») собирала большинство при голосованиях. Однако германская сторона вначале предъявила ультиматум, а потом и перешла в наступление. Сторонник Троцкого Адольф Иоффе (будущий советский полпред в Берлине) так скорректировал позицию оппонентов заключению мира, во многом рассчитанную на революционный «авось»: «Прощупывать немецких империалистов действительно уже поздно. Но прощупывать германскую революцию еще не поздно. Мы никогда не ждали, чтобы сам факт наступления [немцев. — А. В.] вызвал революцию. Я вчера думал, что немцы наступать не будут; раз они наступают, то это полная победа империализма и милитаристических партий…» Но подписать мир под диктатом германского штыка придется лишь в том случае, если этого потребуют народные массы. «Пока этого нет, мы по-прежнему должны бить на мировую революцию. Немцы нам многого наделать не могут»[223]. В ходе внутрипартийной дискуссии о Брестском мире Радек примкнул к «левым коммунистам», однако в конечном счете был вынужден признать, что сил для организации обороны у Советской России нет. «Господа германские дипломаты совместно с германскими генералами решили распять на брест-литовском кресте Россию, решили показать русскому народу, что значит освободиться от ига собственного капитала, но не иметь в руках винтовки против чужих хищников»[224]. В этих словах звучит искренняя боль по поводу собственного бессилия и одновременно уверенность в том, что рано или поздно большевики расквитаются со своими обидчиками. Адольф Иоффе — глава советской делегации во время переговоров в Бресте
Конец 1918
[АВП РФ. Ф. 028. Оп. 2. П. 7. Д. 1. Л. 1]
Адольф Иоффе — глава советской делегации во время переговоров в Бресте
Конец 1918
[АВП РФ. Ф. 028. Оп. 2. П. 7. Д. 1. Л. 1]
Смирившись с подписанием сепаратного мира и признав правоту Ленина, Радек сосредоточил свою деятельность на пропаганде среди военнопленных и внешнеполитической аналитике. Созданная весной 1918 года Федерация иностранных групп при ЦК РКП(б) фактически являлась составной частью партии большевиков. В нее входили находившиеся на территории Советской России иностранцы, разделявшие идеи мировой революции и занимавшие те или иные посты в советских и партийных органах. Постепенно в их руках сосредоточилась агитация в лагерях военнопленных. Немецкую группу возглавлял австриец Карл Томан, ее курировал лично Карл Радек, постоянно писавший листовки и брошюры, которые затем распространялись на линии фронта. Интересно, что финансировалась пропаганда в том числе из средств Антанты, информационное бюро США, которое возглавлял Эдгар Сиссон, давало Радеку немалые деньги на закупку печатных машин[225]. Немецкая группа издавала газету «Мировая революция», ее тираж доходил до 36 тысяч экземпляров[226]. Из числа «перековавшихся» военнопленных готовились агитаторы, которые вели свою работу не только на демаркационной линии, но и в тылу германских войск. Хотя в советской историографии подчеркивались идеальные мотивы будущих коммунистов, спектр настроений оказавшихся в России австрийских и немецких солдат был гораздо более широким. «Большая их часть вступила в партию недавно из-за благ и привилегий, которые влекло за собой членство в ней», — отметила Балабанова, посетив бюро Радека в Наркомате иностранных дел[227]. «Пропаганда не имеет особого успеха среди военнопленных, большинство из них только делает вид, что принимает большевистскую веру, чтобы добиться человеческого обращения с собой и приблизить отъезд», — утверждалось в одном из донесений германского посольства[228]. Однако массированная агитация среди военнопленных не проходила бесследно, отбор активистов, пусть даже заинтересованных прежде всего в скорейшем возвращении на родину, приносил свои плоды. Федерация иностранных групп при ЦК РКП(б) стала кузницей будущих кадров Коминтерна, наряду с Эрнстом Рейтером[229] в нее входили братья Вернер и Николай Раковы. Как проживавшие в России германские граждане они были интернированы в Сибирь, после Октября вступили в большевистскую партию и отправились в Германию продвигать вперед мировую революцию[230]. Радек недолго находился в опале за свою оппозицию брестской политике Ленина — вождь РКП(б) умел ценить полезных людей, которых после захвата власти большевиками и их отказа от сотрудничества с другими социалистическими партиями катастрофически не хватало. Его полемический дар (при том что родным языком Радека был польский, и он едва разговаривал по-русски) был востребован в условиях нараставшей с каждым днем пропаганды «светлого будущего», которое уже наступило в России и вот-вот должно было наступить во всемирном масштабе. В первомайском номере правительственной газеты «Известия» Радеку уже пришлось объяснять советскому читателю заминку в данном процессе. Русская революция, утверждалось в передовице, с первого дня отдавала себе отчет в том, что ей в одиночку не вырваться из тисков мирового империализма. Прошел уже год с момента свержения самодержавия, но европейские пролетарии не пришли к ней на помощь. Частично в этом были виноваты деятели демократического этапа революции — «ее соглашательский период и связанное с ним ее барахтание в сетях союзного империализма задержали рост мировой революции»[231]. Однако это не повод для того, чтобы опускать руки и бросать винтовки, обвиняя большевиков в том, что их программа потерпела крах. «С историей нельзя ссориться, ее надо понять», — утверждал автор, не спуская взгляда с Германской империи. Следует спокойно разобраться в причинах временного одиночества революционной России. Среди них Радек ставил на первое место доминирование в европейских странах рабочей аристократии, представителей которой не бросали в окопы мировой войны. Выросшие на ее основе партии «буржуазных преторианцев» оказались гораздо сильнее российских соглашателей, время которых закончилось в Октябре. Второй причиной того, что русский пролетариат оказался изолированным, называлась мощь германской военщины и бюрократии, т. е. «сил старого феодализма, принятых к себе на службу капитализмом и переродившихся в процессе капиталистической ассимиляции». Простая и доходчивая схема, щедро приправленная марксистской терминологией и умноженная усилиями тысяч партийных агитаторов и комиссаров, становилась национальной идеей новой России. Миллионы людей считали, что нужно «только день простоять, да ночь продержаться» — до тех пор, пока на подмогу не придет международный рабочий класс. Частью этой идеи было наличие у России «страшной военной тайны», которая обеспечивала ее непобедимость[232]. Очевидное поражение в мировой войне и «похабный мир» с немцами в такой трактовке оказывались лишь незначительными сюжетами в масштабной исторической драме, летописцем которой считал себя Карл Радек. Многие из его аргументов и выводов подхватывали Ленин и другие лидеры партии большевиков. В них было немало оригинального и справедливого. Ожесточение мировой войны, вызванное тем, что велась она по принципу «всё или ничего»[233], в статье Радека получало необычное обоснование: империалистические державы не могут заключить компромиссного мира, опасаясь, что такой мир ускорит европейскую революцию. Действительно, получилось так, что революцию и крах своих империй (Германской, Австро-Венгерской и Османской) получили только побежденные, в то время как державы-победительницы обошлись без социальных потрясений, упрочив свои позиции на мировой арене.
2.3. На службе в Наркоминделе
Став главой Среднеевропейского отдела Наркомата иностранных дел по протекции Адольфа Иоффе, который в апреле 1918 года отправился советским полпредом в Берлин[234], Радек с энтузиазмом принялся осваивать новую для него сферу практической политики. Превратившись в официальное лицо, он стал писать под псевдонимом Viator (Наблюдатель), но тональность и аргументация его регулярных статей в «Известиях» не изменилась ни на йоту. По его передовицам (иногда не подписанным, но внимательные читатели и профессиональные дипломаты легко узнавали фирменный радековский стиль) в германском посольстве и европейских столицах определяли внешнеполитический курс и настроения официальной Москвы. В период кризиса, вызванного ультиматумом германской стороны о возвращении кораблей Черноморского флота из Новороссийска в Севастополь, Радек подчеркивал принципиальное отличие советской дипломатии от дипломатии западных стран. Нас волнуют не территориальные, а социальные изменения, выходящие за рамки отдельных государств. Германия тем временем продолжает скрытные попытки удушения русской революции, «ее военная партия добивается не дани, наложенной Брестским миром, а жизни России», — утверждала статья «Берлинские переговоры», появившаяся в «Известиях» 5 мая 1918 года. Она была расценена в германском МИД как директива, данная советской делегации на предстоявших переговорах о Добавочном договоре к Брестскому миру[235]. «Между нами и буржуазными правительствами нет и не может быть никаких тайн», — писал Радек в данной статье, хотя именно этот договор, который будет подписан менее чем через три месяца, впервые в истории советской внешней политики содержал секретное приложение — обмен тайными нотами, на который пошли берлинские переговорщики, чтобы скрыть намечавшееся военное сотрудничество двух государств против английского десанта на Мурмане и Добровольческой армии на Северном Кавказе[236]. В самые критические моменты Гражданской войны Радек сохранял, по его собственным словам, спокойствие висельника[237], что не могло не импонировать большевикам с дореволюционным стажем. Жар полемиста, неприкрытый цинизм и черный юмор сочетались в его публицистике с уверенностью в окончательной победе Советской России над враждебным окружением. Массового читателя, не искушенного в большой политике, подкупала нарочитая простота и плакатность аргументов Радека, коллегам по Комиссариату иностранных дел импонировала его хладнокровная аналитика. Так, он справедливо указывал на то парадоксальное обстоятельство, что брестское насилие над Россией не только стало фактором, развязавшим в стране гражданскую войну, но и «значительно подняло волю к защите народных масс стран Антанты, и таким образом укрепило положение империалистических элементов этих стран». В результате мыслящие круги немецкой буржуазии стали подумывать о пересмотре достигнутых под дулом пистолета договоренностей, сформировавших недолговечную Брестскую систему[238]. Утверждение, что порожденная ею «волна ненависти на Востоке может нагрянуть на Германию в момент ее сверхчеловеческого напряжения, в момент ее ослабления»[239], менее чем через полгода стало выглядеть как самосбывающееся пророчество. Характерным примером первых шагов Радека на дипломатическом поприще является его «секретная записка» от 7 мая 1918 года, адресованная всем лидером РКП(б) и посвященная состоянию международных отношений на исходе Первой мировой войны. В духе «реальполитик» ее автор подвергал ревизии ключевую ленинскую установку на лавирование между воюющими коалициями, которое должно было обеспечить Советской России мирную передышку: «Взгляд, что вражда между обоими империалистическими лагерями представляет какую-нибудь охрану для России, оказался вполне иллюзорным именно потому, что немцам не удалось победить на Западном фронте, и что им предстоит еще период длительной борьбы, они принуждены пытаться сделать из России свой Hinterland [тыл. — А. В.]»[240]. Германский ультиматум, обещанный Радеком в «секретной записке», отнюдь не содержал в себе требований денационализации банков и внешней торговли Советской России, как предполагал автор. Германские дипломаты трезво оценивали «марксистское прожектерство» большевиков и рассчитывали на то, что их скороспелые реформы автоматически доведут российскую экономику до полного краха. А следовательно, можно было просто подождать, чтобы созревший плод упал и разбился. В своих аналитических построениях Радек настаивал на том, что германская армия вот-вот вторгнется в Центральную Россию, чтобы по примеру Украины посадить там марионетку по типу гетмана Скоропадского. Но даже такой вариант не означал конца большевистской диктатуры: «Отклонив германский ультиматум, мы принуждены будем без всякого серьезного сопротивления очистить Россию по линии Волги, перенеся правительство в Самару или Екатеринбург, и сделать базой действий Поволжье». И здесь Карл Радек не был слишком оригинален, подобные проекты курсировали во фракции «левых коммунистов» накануне подписания Брестского договора. Карл Бернгардович Радек
Художник И. И. Бродский
1920
[РГАСПИ. Ф. 489. Оп. 1. Д. 68. Л. 34]
Карл Бернгардович Радек
Художник И. И. Бродский
1920
[РГАСПИ. Ф. 489. Оп. 1. Д. 68. Л. 34]
Многочисленные внешнеполитические меморандумы, составившие немалую часть эпистолярного наследия нашего героя, не отличались логикой и последовательностью. Трезвые размышления перемежались трафаретными лозунгами, а сама записка 7 мая заканчивалась патетическим трюизмом: «Советское Правительство стоит теперь перед выбором: полная капитуляция или борьба не на жизнь, а на смерть». Стремление понравиться всем и вся, безудержный пафос и слабо прикрываемый цинизм делали Радека весьма востребованной политической фигурой второго плана в кризисные моменты становления революционной диктатуры большевиков. Искушенный во фракционных интригах, наш герой сразу же после своего назначения в Наркоминдел «взял быка за рога». Он попытался выступить в роли правой руки наркома, а также стать куратором советского полпреда в Берлине — тот был живым воплощением единственного «окна в Европу», которое оставалось открытым для большевиков. Однако и Чичерин, и Иоффе быстро поставили амбициозного карьериста на место, хотя и не отказывались от его услуг там, где считали это необходимым. Неудержимая энергия Радека, плохо сочетавшаяся с рутиной дипломатической работы, вызывала у берлинского полпреда растущее раздражение, и Иоффе неоднократно жаловался в Москву: я посылаю вам сотни запросов, «вы на все это даже не отвечаете. Так работать нельзя! Что же Вы хотите, чтобы я просто принимал тут с немцами решения, не считаясь с Вами?! Ведь придется так поступать. Не могу же я серьезно считаться с планами Радека и его указаниями, чтобы я ждал его „решений“»[241]. В другом письме Иоффе писал Чичерину: «Я очень сожалею, что добился от Вас назначения Радека, который вместо того, чтобы информировать меня о положении дел, за что он взялся, считает нужным только сообщать мне о своих личных гениальных планах и проектах»[242]. На первых порах Радек умело лавировал между наркомом и полпредом, однако нараставший конфликт между ними поставил его перед необходимостью выбирать чью-то сторону. Наученный горьким опытом брестской оппозиции, он предпочел поддержать сильнейшего. В тех условиях это означало политического деятеля, беспрекословно следовавшего ленинским указаниям. Таковым был Чичерин, лично преданный вождю большевиков, за что последний гарантировал ему полную поддержку. Даже в самые острые моменты конфликта между наркомом и полпредом Ленин увещевал последнего: «Работать с Чичериным можно, легко работается, но испортить работу даже с ним можно… Вы не считаетесь с ним, а без ведома и разрешения наркома иностранных дел, конечно, послы не вправе делать решающих шагов»[243]. Принятие стороны наркома привело к дальнейшему охлаждению отношений Радека с полпредом Иоффе. Уже 28 мая 1918 го-да он писал последнему: «Ваше согласие на устройство всяких комиссий в Берлине нас крайне беспокоит. Оно означает перенесение Комиссариата иностранных дел в Берлин. Так как Вы не можете быть в курсе этих всех вопросов, придется послать каких-нибудь пятьдесят человек. Я лично заявляю, что если это случится, я брошу работу и буду публично против этого. Нельзя в столице победителя концентрировать дел побежденного»[244]. К июлю легко ранимый и обидчивый Иоффе[245] вообще перестал информировать руководителя Среднеевропейского отдела НКИД о положении дел в Берлине. Их отношения вернулись в нормальное русло только в октябре, когда на повестке дня оказалась революция в Германии, в вопросах подготовки которой Радек разбирался лучше, чем кто бы то ни было в Москве. Но об этом речь пойдет ниже. Пока же Чичерин в переписке с Берлином защищал Радека от нападок Иоффе, признавая, что его сотрудник — явление уникальное и весьма далекое от канонов дипломатии. В ответ на очередную жалобу полпреда нарком отвечал, что благодаря шокирующим манерам и бесцеремонности Радек добивается у сотрудников германского посольства в Москве того, чего не удается сделать по обычным дипломатическим каналам. При этом Чичерин не скрывал, что мириться с подобными эскападами его заставляет чрезвычайность ситуации в стране: «Вы забываете обстановку нашей работы, как раз дефекты Радека делают его особо ценным»[246]. Если говорить о радековских адресах в Москве 1918 года, то это прежде всего здание гостиницы «Метрополь», где находился Наркоминдел. Вторым знаковым адресом стал особняк предпринимателя Берга в Денежном переулке на Арбате, который был реквизирован большевиками для размещения там посольства Германии. Именно в гостиной этого особняка 6 июля левоэсеровскими террористами был убит посол граф Мирбах. Радек первым из лидеров РКП(б) после удавшегося покушения оказался в Денежном переулке, вслед за ним туда прибыл и Ленин. Согласно воспоминаниям германского военного представителя майора Карла фон Ботмера, именно появление Радека «в боевом облачении», обвешанного гранатами, помогло не допустить паники средиперсонала, которая грозила обернуться дальнейшими жертвами[247]. Председатель Совнаркома выдал сотрудникам германского посольства охранную грамоту за личной подписью и направил полпреду Иоффе следующую телеграмму: «Сегодня в 2 часа дня двое неизвестных, пробравшись с подложным документом от Чрезвычайной комиссии в германское посольство, бросили бомбу в кабинет графа Мирбаха. Граф Мирбах, тяжелораненый, скончался. Правительство, представители которого немедленно посетили германское посольство и выразили ему свое негодование по поводу этого акта политической провокации, принимает все меры к обнаружению убийц для предания их чрезвычайному Революционному трибуналу. Усилены меры для охраны немецкого посольства и германских граждан»[248]. Действительно, после убийства Мирбаха здание германского посольства превратилось в осажденную крепость. Из окрестных домов были выселены жильцы, во всем квартале оборудованы пулеметные гнезда. Оставшиеся дипломаты усилили давление на советское правительство, требуя сатисфакции. Первоначально речь шла об отзыве посольства, но кайзер Вильгельм II высказался против такого шага, настаивая на необходимости дальнейшей поддержки большевиков «при любых условиях». После этого акцент в нотах германских дипломатов был перенесен на обеспечение достаточной охраны персонала дипломатической миссии[249]. 13 июля посланник Курт Рицлер, ставший местоблюстителем посла, сообщал в Берлин, что Чичерин признал ненадежность красноармейцев, участвующих в охране здания в Денежном переулке, и обещал по мере возможности заменить их латышскими стрелками. «У меня складывается впечатление, что ввиду признания своей слабости правительство впало в апатию»[250]. Это никак не относилось к Радеку, энергия которого не знала границ. Именно он встретил на подступах к Москве нового посла Германии Карла Гельфериха (чтобы не стать жертвой очередного теракта, тот вышел из поезда на подмосковной станции Кунцево) и провожал его до границы на обратном пути в Берлин, куда Гельферих вернулся уже спустя десять дней. Посол фактически бежал из России, посчитав дни большевиков сочтенными и призывая Берлин и Ставку к возобновлению военных действий на Восточном фронте[251]. Как будто специально именно в момент его отъезда на пограничной станции Орша начался мятеж красноармейских частей, не желавших подчиняться командованию. Радек должен был обеспечить и безопасность Гельфериха, и его свободный переезд на германскую сторону линии фронта. Ему удалось и то, и другое, 8 августа он докладывал Чичерину: «Местный дебош совсем ничтожного характера ликвидирован без кровопролития, с музыкой провожал Гельфериха до демаркационной линии. Известите Рицлера, что он беспрепятственно проехал. Продолжительный разговор с ним оставил у меня успокаивающее впечатление»[252]. Это подтвердил Чичерин в телеграмме полпреду Иоффе: «Гельферих отрицал самым категорическим образом существование какой-либо перемены фронта немецкой дипломатией… Немецкое правительство знает великолепно, сколько сил у него потребовала бы оккупация Северной России, он знает, что мы никогда не могли бы на это согласиться»[253]. На самом деле Гельферих переиграл Наркоминдел, попросту обманув советских дипломатов своим заявлением, что едет всего на пару дней с докладом в Берлин, а германское посольство отправляется в Петроград в силу того, что оттуда его проще будет эвакуировать в случае захвата Москвы проантантовскими силами. На самом деле Гельферих больше не вернулся в Советскую Россию, а посольство отправилось через Финляндию в Псков, оккупированный немецкими войсками. Обе страны оказались в состоянии, близком к февралю 1918 года, — «ни войны, ни мира». Дальнейшие события развивались с головокружительной быстротой, и буквально через неделю наш герой вновь оказался на линии размежевания советских и германских войск. В тот момент, когда Иоффе отправился в Москву с текстом парафированного Добавочного договора, Радек получил шанс хотя бы на несколько дней занять его место. В советской прессе появилось официальное сообщение: «…ввиду необходимости правильного освещения германскому правительству происходящих в России событий, в Берлин командирован заведующий отделом Срединной Европы НКИД тов. Радек, возвращение которого из Берлина совпадет с возвращением тов. Иоффе из Москвы в Берлин»[254]. Вацлав Воровский, приехавший из Стокгольма для того, чтобы заместить Иоффе во время отсутствия того в Берлине, не скрывал своих негативных эмоций из-за новой встречи с Радеком. Чичерин не пожалел бумаги для того, чтобы успокоить советского полпреда в Швеции: «Радек едет только на пару дней. Он не дождется Иоффе, его возвращение в Москву может совпасть с возвращением Иоффе, его миссия носит информационный характер, политических действий он не будет предпринимать, если только с Вами не будет об этом условлено. В той обстановке, в которой Иоффе уехал из Берлина, не было возможности вырабатывать с ним соглашение о миссии специального лица, о которой в моей ленте упоминалось. Мотивы посылки Радека настолько важные, что мелкие соображения не могут приниматься в расчет»[255]. Однако нашему герою удалось доехать только до пограничной станции Орша. Увидеть столицу Германии Радек сможет лишь после свержения монархии Гогенцоллернов. Если в мае 1918 года против отправки Радека в Берлин, которая выглядела как провокация, высказался сам Ленин («предполагалась и моя поездка, но Владимир Ильич не хотел дразнить гусей»[256]), то на сей раз против въезда в страну столь одиозной фигуры выступила германская дипломатия. Несмотря на откровенную неприязнь к полемическим выпадам Радека, остававшиеся в Москве немецкие дипломаты относили его к представителям «германофильской» линии в руководстве РКП(б). Генеральный консул Гаушильд доносил в Берлин: «Считаю в нынешней ситуации очень важным то, что Радек, который пользуется здесь очень большим влиянием, пусть даже с большевистской точки зрения, но все же демонстрирует решительное понимание немецкого характера и выступает в поддержку германо-российского союза, базирующегося на общности наших интересов»[257]. Радек вернулся в Москву вместе с Иоффе, а собранный им багаж с продовольствием для личных нужд (можно не сомневаться, что немалое место в нем занимала черная икра, бывшая тогда не столько деликатесом, сколько продуктом длительного хранения) дипломатической почтой отправится дальше. Он писал советскому полпреду в Стокгольме Воровскому, который около недели замещал Иоффе: «…прошу Вас ящик с продуктами, который придет на мое имя ближайшим курьером в Берлин, разделить между всеми товарищами», не забыв и про немецких левых социалистов, которые занимались подпольной партийной деятельностью «под крышей» полпредства[258].
2.4. Флагман большевистской пропаганды
Известной компенсацией для «невыездного» революционера стала новая сфера деятельности, которая была поручена Радеку как раз в августовские дни 1918 года. Вместе с Л. Б. Каменевым и Л. С. Сосновским он возглавил Бюро советской пропаганды при ВЦИК, через которое за рубеж должна была идти вся информация о состоянии дел в новой России[259]. Находясь на высоком посту в Наркоминделе, Радек проживал там же, где и работал, совершенно не замечая бытовых неудобств. Пол его когда-то шикарного, но совершенно запущенного номера в «Метрополе» был в несколько слоев устлан зарубежными газетами со следами вырезок и подчеркиваний. Многочисленные гости и посетители неизменно отмечали неряшество и запущенность этой «берлоги», и в то же время признавали, что в ходе бесед с ее хозяином неизменно терпели поражение в интеллектуальной эквилибристике[260]. Карл Радек мастерски манипулировал людьми, которые считали, что находятся с ним в доверительных отношениях. Именно он контролировал работу немногих иностранных журналистов, переехавших вместе с ленинским правительством в Москву, фактически став первым шефом пресс-службы Кремля. Радек запросто приходил к ним домой, принося свежие новости или просто дефицитные продукты. За чаем он говорил без умолку, провоцируя собеседников на ответную откровенность. Вкладывая в их уста свои собственные мысли, он не переставал восхищаться проницательностью иностранцев. Цель оправдывала средства — в условиях информационной блокады России любая весточка извне ценилась на вес золота. Радек так описывал характер своей работы: «Мы для того и допустили в Россию буржуазных корреспондентов, находящихся в дружественных отношениях с германской дипломатией и не питающих никаких дружеских чувств к социализму и Советскому правительству, дабы из их корреспонденции в немецкой печати узнать, что думает, но чего не говорит германская дипломатия»[261]. Одним из таких корреспондентов был Альфонс Паке, представитель газеты «Франкфуртер цайтунг», который провел почти весь 1918 год в России. Паке считал Радека неисправимым фанатиком мирового масштаба, которого случай забросил на окраину цивилизованного мира. «Он пролетарский еврейский Наполеон. Такой же чужак, как и корсиканец»[262]. Если верить дневнику Паке, его визави в те дни размышлял о судьбах не столько русской, сколько германской революции. Радек считал, что война завершится пролетарским переворотом в странах Центральной Европы, после чего российский и германский рабочий вступят в последний и решительный бой с английским империализмом. Марксистские догмы здесь причудливо сочетались с тактическими соображениями — руководители советской России были крайне заинтересованы в затягивании мировой войны. Артур Рэнсом
[Из открытых источников]
Артур Рэнсом
[Из открытых источников]
Еще одним из «полезных идиотов» был известный писатель и журналист Артур Рэнсом, который представлял газету «Манчестер Гардиан» и неоднократно сопровождал Радека в поездках по России. Последний не стеснялся рисовать перед англичанином перспективы «мирового масштаба», не забывая напомнить, что «нужные суммы» для их пропаганды переведены тому через советского полпреда в Стокгольме. Кроме того, голодающая Россия щедро оплачивала Рэнсому переводы пропагандистских брошюр на английский язык. Немецкий художник и литератор Георг Гросс, лишь однажды побывавшей в кремлевской квартире Радека, оставил проницательные строки о его методе очаровывать людей: «Он знал, как обрабатывать деятелей искусства. Войдя к нему, я увидел на его письменном столе несколько моих книг, как будто он только что их читал. Подразумевалось, что я пойму, будто он, Радек, каждый день по нескольку раз их просматривает. Он осыпал меня лестью, которую я с восторгом принимал — ведь он был большим человеком, а мы, деятели искусства, настолько честолюбивы, что сразу размягчаемся, как только оказываемся неподалеку от центра власти. Вопрос о том, какого цвета власть, красного или какого иного, нам не важен, пока она освещает нас своими милостивыми лучами»[263]. Радек умел говорить со своими западными коллегами открытым текстом, мастерски избегая любой информации, которая могла бы пойти во вред режиму большевиков. Он без стеснения приукрашивал его прочность и внутри страны, и на внешних рубежах. Тот из немногих иностранцев, кто отказывался принимать на веру лубочную картину строительства нового мира, безжалостно высылался из Советской России или как минимум оказывался в информационной блокаде. 14 июля 1918 года Радек телеграфировал из Вологды, где находились посольства стран Антанты, что «иностранным корреспондентам следует воспретить высылку телеграфных сообщений из провинции»[264]. Мир должен был узнавать о происходящем в Советской России только со слов ее собственных представителей или дружественных им лиц. Новоиспеченный дипломат без труда отказывался от собственных воззрений и безоговорочно принимал чужие, если последние были подкреплены политическим авторитетом и сулили карьерные успехи. Неудавшаяся фронда в период брестских переговоров наложила серьезный отпечаток на дальнейшее поведение Радека. Оставаясь в большевистском руководстве «корсиканцем», он сделал ставку на Ленина и сохранял ему верность до самой смерти вождя. Если в мае 1918 года Радек еще позволял себе усомниться в оправданности ленинской тактики лавирования между воюющими коалициями («двумя империалистическими лагерями», как утверждала официальная пропаганда), то три месяца спустя он стал уже ее примерным пропагандистом. Урегулирование отношений с Германий, нашедшее свое выражение в Добавочном договоре, подписанном 27 августа 1918 года, обеспечило России передышку, достаточную для восстановления своих сил: «…теперь немцы не тронутся, этого не позволяет им их внешнее положение. Они поняли, что идти на Россию — это значит бросить 25 корпусов в русскую трясину и ничего не получить. Понятно, в каждый момент наших затруднений они трепещут, что мы падем и приготовляются к занятию [остальных] частей России, но мы справляемся, и они снова с облегчением вздыхают. Опасность, угрожающая нам со стороны союзников, не так велика, как это казалось…. Я глубоко уверен, что мы выйдем из боя победителями. Союзная авантюра кончится растратой союзных сил, больше ничем»[265]. Несмотря на разгоравшуюся Гражданскую войну, позор Брестского мира и международную изоляцию, большевики могли чувствовать себя «третьим радующимся», когда ведущие державы предпринимали последние усилия для достижения решающего перелома на фронтах Первой мировой войны.
 Роза Маврикиевна Радек с дочерью Софьей
1920-е
[РГАСПИ. Ф. 326. Оп. 2. Д. 50. Л. 39]
Роза Маврикиевна Радек с дочерью Софьей
1920-е
[РГАСПИ. Ф. 326. Оп. 2. Д. 50. Л. 39]
Пересев на конька германской революции, Радек фактически забросил рутинную работу в Наркоминделе. На прощание Чичерину пришлось улаживать международный скандал, главным участником которого оказалась жена Радека Роза Маврикиевна. Чтобы наладить связи со швейцарскими революционерами, с которыми он тесно общался в годы Первой мировой войны, Радек отправил ее в Швейцарию под видом сотрудницы Центральной комиссии по делам военнопленных и беженцев (Центропленбеж). Проведя несколько недель в Берлине, Роза так и не получила разрешения на посещение нейтральной страны. 19 августа ее попытались арестовать, несмотря на наличие дипломатического паспорта, но она отказалась покидать номер отеля. Узнав об этом, Радек был вне себя. Он потребовал от Иоффе, чтобы тот заявил немецким властям, что в России будут арестованы германские граждане, которых освободят только после извинений Берлина. Советский полпред, который завершал работу над подготовкой Добавочного договора, крайне неохотно взялся выручать жену Радека. Ей срочно придумали дипломатическую миссию, которая обеспечивала ее экстерриториальность, и перевели на жительство в здание полпредства. В переговорах по прямому проводу с мужем она не скрывала, что так и не смогла выполнить подпольных поручений, кроме раздачи денег доверенным лицам. «Глупее всего в этой истории то, что я не видала ни одного живого человека в Берлине, кроме официального визита у Меринга». На Франца Меринга, старого социалиста, в Москве делали ставку как на будущего кормчего германской революции. Радек продолжал неистовствовать: «…передай Иоффе, что от его энергии зависит, не будем ли мы принуждены арестами немецких чинов внушать германскому правительству уважение к дипломатическим паспортам советской республики». И далее типичная ремарка: Если Иоффе не справится, «это сделает с большим успехом Феликс Дзержинский»[266], возглавлявший грозную ВЧК. Дипломатический скандал с четой Радеков на этом не закончился. На границе Роза была задержана еще раз и подвергнута унизительному обыску. Здесь уже пришлось подключиться Чичерину, который направил генеральному консулу в Москве Гаушильду (он исполнял обязанности отсутствующего посла) ноту протеста: «Попытка произвести ее арест является актом полицейского произвола, недопустимого по отношению к представителю центрального учреждения государства, с которым Германия находится в состоянии мира»[267]. Так неудачно завершилась миссия одного из первых агентов мировой революции — впоследствии именно женщины, либо с дипломатическим, либо с подложным паспортом, станут главными курьерами Коминтерна. Выполняя его тайные поручения, они будут рисковать не только своей свободой, но и жизнью. Многие из них, как и Роза Радек, являлись супругами влиятельных мужей — достаточно назвать Берту Циммерман, Мишку Славуцкую или Айно Куусинен. Большинство из них — кадровых сотрудниц Отдела международной связи (ОМС) ИККИ — будет арестовано по надуманным обвинениям в шпионаже и отправлено в ГУЛАГ в 1937 году. Многие, как и Роза, не переживут нечеловеческих условий заключения. Немногие выжившие оставят мемуары, которые станут лишним подтверждением того, какую цену им пришлось заплатить за юношеский максимализм и слепое доверие авторитету «русских товарищей»[268].
 Феликс Эдмундович Дзержинский
1918
[РГАСПИ. Ф. 413. Оп. 1. Д. 36. Л. 1]
Феликс Эдмундович Дзержинский
1918
[РГАСПИ. Ф. 413. Оп. 1. Д. 36. Л. 1]
2.5. Курс на германскую революцию
С началом осени 1918 года множилось число событий, свидетельствовавших о нараставшем перевесе сил Антанты в Первой мировой войне. Просьба Австро-Венгрии о перемирии (14 сентября), выход Болгарии из коалиции Центральных держав и решение Ставки германского Главнокомандования о поисках мира не оставляли сомнений в том, кто выйдет из войны победителем, а кто — проигравшим. В ее последние недели радикально изменился тон посланий Радека своим зарубежным корреспондентам из числа «сочувствующих». Он настраивал их на неизбежность гражданской войны, которая разгорится во всей Европе. И здесь для большевистской России уготована более значительная участь, нежели роль примера или искры. «Не подлежит ни малейшему сомнению, что в скором будущем классовая солидарность буржуазных правительств может взять верх над всеми распрями, что теперь первый раз в истории этой войны приближается момент, где Вильсоновский союз народов может осуществиться, как союз против народа… Вы помните, как в октябре прошлого года Троцкий считал это во всяком случае невозможным. Я же — нереальным. Теперь эта возможность налицо, ибо, во-первых, Германия не представляет для них уже опасности, а во-вторых, германская революция, которая идет, представляет для них всех самую главную опасность. Будем теперь играть партию в мировом масштабе. То, чем мы были для России, надо расширить и, убежден, что не минует и полгода, как наши люди будут во главе движения во всех столицах Европы. Пока европейское движение не будет иметь собственного опыта, мы ему дадим офицеров. Вы не имеете понятия, какое настроение здесь в народных массах. Масса чувствует своим инстинктом революцию, как коршун падаль»[269].
 «Масса чувствует своим инстинктом революцию, как коршун падаль»
Письмо К. Радека английскому журналисту А. Рэнсому
Октябрь 1918
[РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 157. Д. 3. Л. 3–5]
«Масса чувствует своим инстинктом революцию, как коршун падаль»
Письмо К. Радека английскому журналисту А. Рэнсому
Октябрь 1918
[РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 157. Д. 3. Л. 3–5]
Подобная эйфория соответствовала общему настрою лидеров большевистской партии. Они не скрывали своих надежд на то, что первая годовщина их прихода к власти обернется началом всемирной революции пролетариата. Германия с ее образцовым империализмом и мощным рабочим движением считалась ее главным полигоном. Интерес к событиям в этой стране подпитывали и геополитические соображения. Окончание Первой мировой войны открывало для новой России возможность не только возвращения к имперским границам, но и выхода из внешнеполитической изоляции. Брестский мир, который в общественном мнении выглядел национальным позором, в новых условиях можно было представить незначительным эпизодом, временным отступлением для подготовки решающего штурма. Так будет позже подаваться партийной пропагандой и переход РКП(б) от политики «военного коммунизма» к нэпу. Именно в таком ключе была выдержана статья Радека, появившаяся 1 октября 1918 года в газете «Известия». Озаглавленная «Тень России», она подразумевала, что российская революция накрыла своей тенью Германскую империю и Гогенцоллернам вскоре придется повторить судьбу династии Романовых. Автор запустил пробный шар, обращенный к Германии, предложив ей сделать «умный шаг» и облегчить положение России, чтобы та оказалась в состоянии «парализовать усилия англо-французского капитала создать восточный фронт против Германии»[270]. Перевод этой неуклюжей формулировки на обычный язык означал, что в обмен на пересмотр Брестского мира Россия могла бы взять на себя обязательство не допускать высадки войск Антанты на Украине и в Прибалтике. Первый день октября стал звездным часом в судьбе нашего героя. В этот день Радек сообщил полпреду Иоффе по Юзу (т. е. фактически открытым текстом, запись переговоров сохранилась в архиве германского МИД[271]) о выстраивании новой внешнеполитической линии (Радек добавил, что она уже получила одобрение в комиссариате Троцкого). Собеседники согласились с тем, что время радикальных требований к немцам еще не пришло, очевидно, подразумевая под этим разрыв Брестского мира. Однако дни империи сочтены, а значит, для Советской России закончилась эпоха мирной передышки. Если к власти в Германии придет СДПГ, признал Радек, для большевиков настанут тяжелые времена: «Шейдемановцы попытаются взять антирусский курс. Соглашение с союзниками за счет России представляется этим остолопам единственно возможным отступлением, несмотря на всю его абсурдность»[272]. В случае же противостояния в ходе революции умеренных социал-демократов и кайзеровского генералитета никакого повторения российской керенщины не будет, ибо «Людендорф в два счета выкинет Шейдемана». Однако главным сюжетом, волновавшим собеседников, была судьба Советской России. В новой исторической обстановке страна могла выстоять во враждебном окружении только в том случае, если не будет допускать авантюр по типу брестской, к которым призывали неназванные Радеком «люди, потерявшие голову». Несмотря на всю скупость и неразборчивость телеграфной ленты, усугубленную плохим знанием русского языка нашим героем, она передавала типичный для него стиль выражения своих мыслей: «Мы поведем спокойную линию, не выдвигая общих вопросов. По моему мнению, если дядя помрет [т. е. Германия потерпит поражение. — А. В.], то оставит наследство, если же курилка будет жив, смешно от него требовать, чтобы он платил долги. Именно теперь надо иметь терпение, внешний радикализм требований был бы признаком неверия в постоянство развития в желаемом направлении»[273]. В ходе переговоров Иоффе не покидал привычную для себя колею исторического пессимизма: «Следует иметь в виду, что в наилучшем случае здесь Февраль, а не Октябрь, нужно помнить, что геноссен [товарищи, т. е. лидеры СДПГ. — А. В.] еще все подгадят»[274]. Собеседники сошлись в том, что нарком Чичерин не является оптимальной фигурой при реализации нового внешнеполитического курса, который отныне подразумевал не лавирование между двумя воюющими коалициями, а равноудаленность от победителей и побежденных. Не подозревая о складывающемся против него альянсе, той же ночью Чичерин просил Иоффе обратить внимание на статью «Тень России», которая «буквально воспроизводит наши взгляды в настоящий момент». Даже помня о том, с какой жестокостью русскому народу был навязан Брестский мир, Россия в новой исторической обстановке не пойдет на союз с англо-американскими противниками немцев, чтобы в последний момент присоединиться к победителям и «воссоздать Восточный фронт против Германии». Очевидно, нарком иностранных дел отдавал себе отчет в том, что вопрос уже предрешен, причем на самой вершине большевистского Олимпа. Буквально в момент передачи телеграммы Чичерина Радек обещал полпреду, что на следующий день (переговоры по Юзу шли в ночь на 2 октября) после обеда он встретится с Лениным и постарается заручиться его поддержкой. Ключевой фигурой в многовекторном столкновении политических интересов и личных амбиций, пришедшемся на первый октябрьский день, оставался лидер Советской России. С достаточным основанием можно предположить, что именно статья «Тень России» подтолкнула Ленина, находившегося на лечении и отдыхе в Горках, к переходу от размышлений к практическим действиям. То, что его соратникам виделось тактическим поворотом, лидер РКП(б) определил как новую стратегическую линию. Закончилось время маневров и отступлений, пришло время громких слов и решительных действий. Телефонный разговор, во время которого были согласованы детали новой внешнеполитической линии, состоялся в тот же день, 1 октября[275]. Ленину не составило большого труда переубедить своего собеседника, что час пробил и кокетничать с немцами больше не надо. Сыграв на самолюбии Радека, он сделал его не только своим союзником, но и пропагандистским рупором. Стремительное возвышение полезного соратника вопреки всем канонам партийной иерархии характеризовало ленинский стиль руководства, который неизменно приносил ему успех в борьбе за власть и влияние. Именно Радек сделал 3 октября 1918 года главный доклад на заседании ВЦИК и общественных организаций Москвы, которое завершилось принятием радикальной резолюции о безоговорочной поддержке грядущей германской революции. Формально он оставался сотрудником Наркоминдела, но отныне был выдвинут волей вождя в первый ряд борцов за «мировой большевизм». Все существенное уже было озвучено в ленинском письме, зачитанном на заседании, так что дискутировать Радеку было не с кем, и на его долю осталась чистая патетика. Присутствовавший на заседании ВЦИК Альфонс Паке, который после этого ужинал с Радеком в ресторане «Метрополь», отметил в своем дневнике, что его собеседник был крайне возбужден и вполне серьезно рассуждал о совместном выступлении России и рабочей Германии против Антанты[276]. Сам Паке в конце октября успел съездить в Берлин, откуда, пользуясь аппаратом Юза, находящемся в советском полпредстве, дал Радеку крайне важную информацию о реальном состоянии дел на Западном фронте. Война проиграна, и, следовательно, армии Антанты рано или поздно окажутся в Северном Причерноморье. «Я думаю, что союзники пойдут не через Дарданеллы, а через Румынию, и что одновременно германскую армию на Украине будут брать, с одной стороны, союзники, а с другой — армия Краснова и Деникина». Радек не замедлил с ответом: «Если Ваше правительство не будет иметь столько ума, чтобы уйти до этого времени» с территории бывшей Российской империи, германскую армию ждет не почетный мир, а капитуляция. И в заключение разговора с Паке опять прозвучала фирменная радековская острота: «Привезите с собой какого-нибудь не совсем глупого посла»[277]. С этим в условиях революционной турбулентности долгое время не складывалось. Германский посол, представляющий уже не империю Гогенцоллернов, а Веймарскую демократическую республику, появится в Москве только в середине 1921 года. Выступая после заседания ВЦИК на рабочих митингах, которые прошли на крупнейших заводах и фабриках Москвы, Радек повторял полюбившееся ему выражение: «Мы теперь не Московия и не Совдепия, а авангард мировой революции»[278]. Искренность его восторга не вызывает сомнений. Несколько дней спустя он писал англичанину Рэнсому: «Какое впечатление произвел на Вас последний шаг нашего правительства от 3 октября? Было что-то прекрасное видеть эластичность Владимира Ильича, который одним прыжком сумел от Брестской политики перейти к новой политике, которая, хотя внешне в данный момент ничего не меняет, означает начало нашего наступления в социальном смысле, а если этого потребуют обстоятельства, то и в другом смысле. Вы будете смеяться, если я Вам скажу, что я удерживал [его] от этого шага, пока крушение германского империализма не уступит место движению масс. Я боюсь, что своим падением германский империализм может еще вышибить нам несколько зубов. Ильич заявлял, что теперь надо рисковать, ибо теперь германский империализм на этом провалился. Он кажется уже и в этом оказался прав»[279]. Радек оказался прилежным учеником своего вождя и кумира. Он избавился от псевдонима Viator и надежд на то, что сможет легально приехать в столицу Германской империи, перейдя к публицистической битве с открытым забралом и откровенно запугивая своих вчерашних партнеров по переговорам: «Если потребует история, молодые полки нашей Красной армии будут сражаться против капитала за германскую революцию и на Рейне»[280]. Новое правительство Германии, образованное за месяц до начала Ноябрьской революции, «стоит у той черты, у которой кончается свободное решение, кончается выбор, и где надо принять все, чего потребует Антанта»[281]. Фактически речь шла об условиях капитуляции, хотя в октябре 1918 года с точки зрения Радека весьма реальной представлялась и перспектива военного переворота с устранением «гражданских» от рычагов власти, чтобы обеспечить зарвавшимся генералам свободу рук в тылу и на фронте. Впрочем, речь шла не только о битве до последнего солдата. Радек первым предсказал ход событий, который предопределит тактику немецких дипломатов на мирных переговорах в Париже. «Наше предсказание о том, что германские генералы предложат союзникам свои услуги в качестве опытных жандармов, оправдалось скорее, чем можно было ожидать»[282]. Дойдя до Марны и Дона, разрушив континентальную Европу, немецкие власти пытаются выставить себя защитниками европейской культуры от ужасов большевизма. Им подыгрывают социал-демократы во главе с Шейдеманом (вскоре он станет первым канцлером Веймарской республики), которые без тени сожаления отреклись от марксизма и пошли в услужение классовому врагу. До тех пор, пока в Германии нет большевистской партии, рассчитывать на поддержку этой страны невозможно. Оставаясь в гордом одиночестве, Советская Россия в этот момент может оказаться перед задачей в одиночку «выступить в бой со всемирным капиталом, бой, который двинет нам на помощь рабочих всех стран»[283].
 Двуязычие советской пропаганды указывало на то, что вслед за Россией, устремившейся в светлое будущее, пролетарская революция разразится в Германии
Плакат
1921
[Из открытых источников]
Двуязычие советской пропаганды указывало на то, что вслед за Россией, устремившейся в светлое будущее, пролетарская революция разразится в Германии
Плакат
1921
[Из открытых источников]
С каждым днем тональность публицистических выступлений нашего героя нарастала. «Мировой октябрь приближается, и по мере того, как он приближается, мы будем расти в силе, и если еще союзникам удастся устроить какой-то десант на юге России, то они позорно провалятся с этой затеей»[284]. Пролетариат Европы, которого мы зовем на помощь, уже виден на горизонте, вместе с ним мы сметем все твердыни мирового империализма. Все это уже напоминало не сказку о Мальчише-Кибальчише, которому нужно было «только день простоять, да ночь продержаться», а ультиматум, выдвинутый историческими победителями обреченным проигравшим. Ответ Берлина на подобные пророчества не заставил себя ждать. В последние дни существования Германской империи ее политическую элиту вопрос о недопущении в стране революции занимал никак не меньше, чем мысли о последствиях военного поражения. Если раньше полицейские власти Берлина сквозь пальцы смотрели на то, что в представительстве РСФСР нашли прибежище левые социалисты, печатавшие там свои агитационные материалы, то теперь здание на бульваре Унтер-ден-Линден воспринималось едва ли не как генеральный штаб грядущего государственного переворота. 6 ноября 1918 года после грубо сработанной провокации (накануне из «случайно разбившегося» дипломатического багажа на берлинском вокзале рассыпались революционные листовки) советское полпредство было выслано из Германии. Согласно нормам дипломатии, такая же судьба должны была постигнуть и московское представительство Германской империи, работавшее в статусе консульства (персонал посольства покинул столицу Советской России в начале августа, перебравшись на территорию, оккупированную германской армией). Продолжая разговор о радековских адресах 1918 года, вернемся в Денежный переулок, где находилось консульство во главе с Гаушильдом. Как только в Москву пришли сообщения о свержении кайзера Вильгельма Второго, здание посольства и персонал консульства были захвачены распропагандированными немецкими военнопленными. После хаотического голосования, закончившегося единогласно принятой резолюцией, они провозгласили себя Германским Советом рабочих и солдатских депутатов[285]. Этому органу отводилась роль то ли посольства будущей Советской Германии в России, то ли ее будущего правительства. Немецкие чиновники были посажены под домашний арест. Они были уверены, что за произошедшим «дворцовым переворотом» (А. Паке) стоял все тот же Карл Радек. Захват здания посольства стал одной из причин того, что новые власти в Берлине отказались вернуть в страну дипломатическое представительство Советской России. В последующие дни из германской столицы в Москву приходили противоречивые сигналы. В то время как Берлинский Совет рабочих и солдат посылал приветы новой России и высказывался за скорейшее восстановление «братских отношений», временное правительство — по три представителя от рабочих партий СДПГ и НСДПГ, назвавшее себя Советом народных уполномоченных (СНУ), по согласованию с чиновниками дипломатического ведомства всячески затягивало решение данного вопроса. Иоффе и его люди доехали только до демаркационной линии — военные отказались пропускать их на российскую территорию, пока для обмена из Москвы не прибудет персонал германского консульства. 11 ноября полпред жаловался по прямому проводу Радеку, что их охраняют как преступников вооруженные солдаты, утверждая, что это защита от возможного нападения белогвардейских отрядов на поезд, стоявший на запасных путях. Радек тут же нашелся: если вас охраняют от белых, значит, следуя простой логике, немецкие солдаты — уже красногвардейцы! Чтобы поднять настроение обитателей поезда, которые почти неделю сидели в нетопленых вагонах, он сообщил, что военнопленные, захватившие здание в Денежном переулке, реквизировали в пользу советской власти запасы прекрасного рюдерсхаймского вина, которое будет выпито, как только Иоффе и его соратники окажутся в Москве[286]. Впервые получив прямой провод с Берлином после свержения монархии, Чичерин провел обстоятельный разговор с левым социалистом Оскаром Коном, который работал адвокатом в советском полпредстве. Получив информацию о формировании СНУ и уходе «спартаковцев» в оппозицию, нарком попросил Кона добиться приезда в Берлин «наших друзей», назвав имена Зиновьева и Радека, а также сообщил, что русские рабочие собрали для своих немецких товарищей два эшелона с зерном, которые готовы к отправке[287]. Очевидно, что и то, и другое должно было способствовать повороту германской революции на рельсы большевизма. Архивные документы свидетельствуют о том, что в дальнейшем в Наркоминделе сложилось своеобразное разделение труда: Чичерин адресовал свои послания в МИД и СНУ Германии, а Радек — отдельным руководителям и членам Исполкома Берлинского Совета, которые в мае — октябре 1918 года были вхожи в советское полпредство и рассматривались как потенциальные лидеры будущей германской революции. Члены Правления НСДПГ Гуго Гаазе, Вильгельм Дитман и Георг Ледебур стали адресатами его грозного послания, датированного серединой ноября. Разрыв связей между двумя странами имел и свое физическое воплощение — были оборваны провода телеграфной связи, и переговоры с Берлином, как и в первой половине 1918 года, пришлось вести по радио. В радиограмме Радек подчеркивал «общность двух социалистических республик» и взывал своих немецких адресатов к солидарности с русскими рабочими и крестьянами. Ее доказательством должны были стать скорейшее возвращение в Берлин советских дипломатов, уход немецких войск с российской территории и немедленное освобождение всех военнопленных. В случае отказа принять данные условия выдвигалась угроза «самостоятельно обратиться к немецким рабочим и солдатам, чтобы защитить идентичные интересы российской и германской революции от саботирующих элементов»[288]. Подобные выражения, мало подходившие для дипломатической переписки, вытекали из упоения неограниченной властью, которое вместе с Радеком демонстрировали все без исключения лидеры РКП(б). Берлинскими членами СНУ руководили в первые недели после окончания мировой войны совершенно иные соображения. Любой намек на союзнические отношения с коммунистической Россией дал бы странам Антанты предлог к тому, чтобы вторгнуться в пределы Германии для «борьбы с красной чумой» — этот лозунг в конце 1918 года еще не потерял своей свежести. Ситуацию усугубляло и то, что после окончания войны изменился статус сотен тысяч русских военнопленных, находившихся в Германии. Они самовольно покидали лагеря, направляясь на Восток, и усиливали тот хаос, который воцарился в стране в первые дни и недели революции. В упомянутой выше радиограмме Радека говорилось о том, что советское правительство готово прислать необходимое число «наших людей» для того, чтобы упорядочить возвращение солдат на родину, и в то же время содержалось предупреждение, что в ответ на любую попытку навести порядок в лагерях силой оружия в России последуют жесткие контрмеры[289]. Никакой реакции Берлина на эти предложения не последовало. Там столь же хладнокровно не заметили и денонсацию Брестского мира, которая в одностороннем порядке была произведена на заседании ВЦИК 13 ноября 1918 года. Главный доклад вновь делал Карл Радек. Имея на тот момент лишь крохи информации о событиях в германской столице, он все же сделал вывод, который диссонировал с пафосным настроем советской прессы: «В Берлинском совете рабочих и солдатских депутатов преобладает настроение совсем не большевистское»[290]. Показателем этого стало решение отказаться от каких-либо контактов с правительством «максималистов» (так в Германии называли большевиков), которое было принято на заседании СНУ 18 ноября 1918 года. Решающим аргументом в предшествующей дискуссии было указание на то, что «Антанта готова предложить Германии при нынешнем правительстве подходящие условия мира, а также снабдить ее продовольствием. Но все это до тех пор, пока в Германии нет большевизма. Поэтому необходимо обороняться от русской пропаганды и в то же время сохранять мирные отношения с советским правительством»[291]. За вычурными формулировками телеграммы, направленной в Москву за подписью самого Карла Каутского, скрывался отказ от восстановления дипломатических отношений между двумя странами. Часть обширной переписки руководителей советской внешней политики с новыми властями Берлина в начале 1919 года опубликовал сам Иоффе[292]. Она должна была разоблачать предательское поведение революционного правительства, одному из членов которого, Гуго Гаазе, полпред выдвинул упрек в том, что тот регулярно получал от него немалые суммы на закупку оружия для формирования боевых рабочих отрядов. Обвинения были с негодованием отвергнуты, но стали еще одним аргументом для тех, кто считал советских дипломатов исчадием ада, готовившимся насадить в благословенной Германии «азиатский хаос». Подобные настроения доминировали в общественном мнении этой страны и на закате империи, и в эпоху первой республики, но особенно буйно расцвели они в годы нацистской диктатуры[293].
 Фридрих Эберт
1920-е
[Из открытых источников]
Фридрих Эберт
1920-е
[Из открытых источников]
Такая ситуация вполне устраивала как членов СНУ, стремившихся не допустить в страну «красной заразы», так и представителей стран Антанты, к которым по условиям Компьенского перемирия переходили полномочия по урегулированию ситуации на бывшем Восточном фронте. Германский посланник в Гааге 13 ноября 1918 года сообщал в МИД о доверительном разговоре в американском посольстве: обещанные продовольственная помощь и смягчение условий в ходе мирных переговоров будут предоставлены только при сохранении нынешнего состава СНУ, который возглавил председатель СДПГ Фридрих Эберт, не отличавшийся симпатиями к левым радикалам. «В случае, если кабинет Эберта уступит давлению большевизма, то все обещания Антанты будут отозваны. Ей придется отказаться от перемирия и продолжить наступление. Возвращение Иоффе в Берлин также станет предлогом к подобным шагам»[294]. Советское правительство, напротив, искало любые лазейки для того, чтобы наладить контакт с немецкими революционерами радикального толка. Рассылая десятки директив и воззваний в лагеря военнопленных, совет немецких рабочих и солдат в Москве рассматривал себя как потенциальный штаб грядущей пролетарской революции, готовый в подходящий момент десантироваться в Берлин. Не случайноименно его члены Вернер Раков и Эрнст Рейтер, а также примкнувший к ним Радек оказались единственными эмиссарами Москвы, сумевшими попасть в Германию до созыва Учредительного съезда компартии этой страны.
2.6. В Берлин по справке — учреждение КПГ
После того, как в ноябре 1918 года в Вене и Берлине были свергнуты монархии и на знаменах революционеров появился лозунг «Вся власть Советам!», лидерам большевистского режима стало казаться, что сбываются их самые смелые мечты, что в послевоенном мире не может быть ничего, кроме всемирной революции пролетариата. Оказавшиеся у власти социалисты представлялись досадной, но легко преодолимой помехой. Новое правительство Эберта, утверждал Радек, прикрываясь Советами, будет послушно выполнять волю германской буржуазии. Однако, как и русских меньшевиков, его сметет волна народного гнева. В оценках германской ситуации все более доминировал русский акцент: «Первый шаг нового правительства по необходимости будет состоять в том, что оно принуждено будет нажать на кулаков для получения хлеба. Это вызовет немедленно гражданскую войну, которая похерит все мечты о так называемой демократии»[295]. Утверждение последней ассоциировалось ни с чем иным, как с классовым заказом тузов финансового капитала, марионеткой в руках которых оказывался даже президент Вильсон[296]. Чтобы понравиться последнему, немецкие оппортунисты противодействовали возвращению в Берлин советского полпредства во главе с Иоффе[297]. Балансируя над пропастью в собственной стране, большевики щеголяли друг перед другом буйством политической фантазии мирового масштаба. Когда Паке вместе с персоналом консульства уезжал на родину из Москвы, Радек объявил ему, что они скоро увидятся, так как Берлин неизбежно станет центром пролетарской Европы, а сам он доберется туда на подводной лодке[298].
 Мандат Радека как представителя Советской России на Съезде Советов рабочих и солдатских депутатов Германии
6 декабря 1918
[РГАСПИ. Ф. 326. Оп. 2. Д. 21. Л. 1–2]
Мандат Радека как представителя Советской России на Съезде Советов рабочих и солдатских депутатов Германии
6 декабря 1918
[РГАСПИ. Ф. 326. Оп. 2. Д. 21. Л. 1–2]
Однако до использования подводной лодки дела не дошло. Правительство Германии больше всего боялось «большевистской заразы» и делало все возможное для того, чтобы отгородиться от Советской России непроницаемым барьером. Неприкрытое возмущение в Москве вызвал отказ немецкой стороны принять несколько вагонов зерна, что было предусмотрено резолюцией ВЦИК от 3 октября 1918 года: «Зная, что в России голод, мы просим обратить хлеб, который вы хотите пожертвовать для германской революции, в пользу голодающих в России». Так и не получив официального приглашения на Всегерманский съезд Советов, который должен был открыться в середине декабря, представительная советская делегация, в которую входил и Радек, отправилась в Берлин на свой страх и риск. Накануне отъезда делегацию принял Ленин, снабдив ее подробными инструкциями. Оставив для отдельного разговора Радека, он задал ему вопрос, подразумевавший опасения вождя, что германская революция будет раздавлена иностранным вторжением: «Союзники перебросят цветные войска. Как вы будете агитировать среди них?» Радек быстро нашелся, что ответить, заявив, что среди неграмотных выходцев из колоний придется распространять листовки с картинками[299]. Надежды на солидарность «пролетариев в солдатских шинелях» оказались тщетными — представители Советов в частях, расположенных на демаркационной линии, выполнили указания из Берлина не пропускать на территорию рейха большевистских агитаторов. После телефонного разговора с Лениным русские члены делегации повернули обратно[300]. Радек, Рейтер и Раков в образе австрийских военнопленных, снабженные фальшивыми документами (Радек впоследствии гордо рассказывал, что пересек границу, предъявив только справку о дезинсекции), отправились дальше. 19 декабря 1918 года они добрались до германской столицы, революционный настрой которой напрочь вытеснил у немецкого обывателя предчувствие рождественского торжества. Уже на следующий день Радек встретился в редакции газеты «Роте Фане» с лидерами Союза Спартака — группы радикальных социалистов, все еще входивших в НСДПГ. Во главе их стояли Карл Либкнехт и Роза Люксембург. Его ждал холодный прием. Пауль Леви, близкий соратник Люксембург в последние годы ее жизни, вспоминал, что при виде посланца из Москвы Роза испытала «одно-единственное чувство — отвращение»[301]. Спартаковцы видели в известном своими интригами Радеке современного Агасфера, метавшегося до войны между немецкими и польскими социалистами. Не обращая на это никакого внимания, тот считал себя официальным представителем большевиков и сразу же стал настаивать на необходимости скорейшего образования левыми социалистами собственной партии. В ответ посыпались упреки в том, что большевики своим кровавым террором запятнали идеалы революционного марксизма. «Розе было больно, что главою ВЧК является Дзержинский»[302]. На рождество в Берлин съехались представители различных леворадикальных групп, наиболее влиятельными среди которых были гамбургские и бременские социалисты, а также берлинские сторонники Юлиана Борхардта, издававшего в годы войны журнал «Лихтштрален». Участники встречи заслушали доклад Радека о русской революции и диктатуре большевиков. Естественно, больше всего их волновал вопрос о достижении единой позиции по отношению к выборам в Национальное собрание, которому предстояло выработать конституцию Германской республики. Через несколько дней, 29 декабря 1918 года в Берлине состоялось совещание спартаковцев, обсудившее перспективу создания самостоятельной политической партии и стратегии дальнейшей борьбы. И в данном случае итог голосования по вопросу об участии в парламентских выборах продемонстрировал внутренний раскол: 23 делегата высказались «за» и 23 — «против»[303]. Под давлением Радека и новых активистов, прибывших из провинции, совещание на следующий день превратилось в Учредительный съезд, на котором 1 января 1919 года была провозглашена Коммунистическая партия Германии. Центральными событиями съезда стали выступления Розы Люксембург и Карла Радека. Последний фактически открыл его работу 30 декабря, выступив с пространным и эмоциональным приветственным словом от партии большевиков. Радек отказался от трансляции готовых рецептов из Москвы. Нет смысла пытаться копировать русскую революцию, утверждал он, из-за различий в социальной и политической структуре отдельных стран их рабочий класс будет искать собственные пути борьбы за власть. Затем оратор вернулся в лоно привычной патетики: «…опыт, приобретенный нами в течение того года, когда власть находилась в руках рабочего класса, имеет величайшее историческое и практическое значение для пролетариев Германии и всех остальных стран… Русская революция, первый год пролетарской диктатуры является великим испытанием основного правила: вопроса о том, возможна ли диктатура рабочего класса вообще. …Ныне, впервые за всю историю человечества, класс собственников должен быть совершенно упразднен. А это не может быть проведено с помощью парламентских переговоров и постановлений. Русская революция явно свидетельствует об этом»[304]. Ораторское мастерство Радека работало на закрепление идеализированного образа Российской революции при одновременном приведении его в соответствие с канонами, утвердившимися в идеологии и пропаганде РКП(б). Он с жаром рассказывал о том, с какой надеждой смотрели в Советской России на Запад: «…без социалистической революции в Германии революция русских рабочих останется в одиночестве и не сможет собрать достаточно сил для того, чтобы выбраться из руин, оставленных капитализмом, и начать строительство нового общества»[305]. Его речь заканчивалась призывом к развязыванию всемирной гражданской войны против буржуазии и выражением уверенности в том, что «русские рабочие будут сражаться так же храбро на Рейне, как их германские товарищи — на Урале». Лидеры Союза Спартака, казалось, были заражены эмоциональным подъемом посланца Москвы — они даже не высказали сомнений в целесообразности раскола НСДПГ и образования собственной осколочной партии. Находясь в тюрьме, сказал Либкнехт, я думал, что пролетарская революция в России будет тут же задушена, но спустя год после своего начала она стоит на ногах крепче, чем когда бы то ни было раньше. Немецкие пролетарии покрыли себя позором, участвуя в оккупации и ограблении России германским империализмом. Теперь у них есть шанс смыть этот позор, добившись передачи всей полноты власти Советам рабочих и солдатских депутатов. Тогда «пробьет час мировой революции, настоящей мировой революции, которая навсегда покончит с классовым господством»[306]. Получив слово на второй день работы съезда, Роза Люксембург ни словом не упомянула очевидные успехи немецкого социал-демократического движения до 1914 года, подчеркнув, что ныне «мы ликвидируем результаты последних семидесяти лет развития». Досталось и дню сегодняшнему: «То, что мы пережили 9 ноября, было более чем на три четверти не победой нового принципа, а крахом существующего империализма»[307]. Единственным позитивным моментом первого этапа революции было освоение ею «азбуки», заимствованной у русских, — речь шла о создании рабочих и солдатских Советов. Однако, сойдя с трибуны, Роза не скрывала своих сомнений в правильности выбора, сделанного большинством делегатов съезда. Люксембург и Либкнехт сняли свое предложение назвать создаваемую партию социалистической, а не коммунистической, однако настаивали на «продолжении решительно антикапиталистической, но все-таки прежде всего просвещающей политики»[308]. Переход левых социалистов на рельсы «мирового большевизма» обернулся очередным расколом в их лагере. Большинство лидеров и активистов НСДПГ сохранило верность демократическим завоеваниям германской революции, отказываясь ставить на карту ее судьбу ради того, чтобы подтолкнуть вперед революцию мировую. Один из них, Георг Ледебур, заявил на заседании Исполкома Берлинского Совета рабочих и солдатских депутатов 2 января 1919 года: «Я решительно возражаю против утверждений, звучавших на конференции спартаковцев, что мы должны установить братские отношения с нашими русскими товарищами для того, чтобы начать новую битву против Антанты на Рейне»[309]. В своих воспоминаниях о германской революции Радек отметил, какую роль в ходе дебатов на съезде сыграла судьба российского Учредительного собрания, разгон которого не встретил ни малейшего сопротивления в обществе. В противовес линии «спартаковцев» с довоенным стажем радикально настроенные делегаты требовали говорить с классовым врагом исключительно «языком пулеметов». «Съездовской молодежи и море по колено. Она считает, что Карл и Роза тормозят, что победа очень близка… Я не имел еще впечатления, что здесь уже передо мною партия»[310]. Не имея достоверной информации о реальном ходе и решениях Учредительного съезда КПГ, Ленин поспешил объявить миссию Карла Радека выполненной на все сто процентов: «Когда Союз Спартака назвал себя коммунистической партией Германии, — тогда основание действительно пролетарского, действительно революционного III Интернационала, Коммунистического Интернационала стало фактом»[311]. Словесный радикализм большинства участников съезда, не имевших, в отличие от большевиков, многолетнего опыта подпольной работы, стал одним из факторов, которые привели к поражению попытки поднять рабочее восстание в Берлине в первые январские дни 1919 го-да — восстания, вошедшего в историю как «спартаковское».
2.7. «Спартаковский путч»
4 января 1919 года членами СНУ был отправлен в отставку левый социалист Эмиль Эйхгорн, занимавший пост полицай-президента Берлина. Его обвинили в подрыве авторитета новой власти и потворстве радикальным элементам, получившим при его посредстве в свои руки оружие. В ответ на отставку, воспринятую как политическая провокация со стороны правых социал-демократов, их оппоненты призвали к демонстрации протеста. Вечером следующего дня на Аллее Победы в самом центре Берлина собралось около 100 тысяч человек. Над рядами демонстрантов реяли наскоро написанные лозунги, требовавшие немедленной отставки Эберта и Шейдемана, раздавались требования захватить оружие и сформировать отряды Красной гвардии. Начался стихийный захват редакций газет и типографий, где они печатались. Утром понедельника 6 января мальчишки раздавали на улицах Берлина воззвание о переходе власти в руки Революционного комитета, которое подписали Георг Ледебур от НСДПГ, Карл Либкнехт от КПГ и Пауль Шольце от организации «революционных старост», которые избирались рабочими крупнейших фабрик и заводов[312]. Однако за громкими словами об отстранении от власти предателей революции не последовали дела. У рабочих не было ни оружия, ни реального руководящего центра. Восстание не имело четких целей и в конечном счете «свелось к бесцельному хождению широких рабочих масс по улицам Берлина»[313]. Все происходившее выглядело пассивным актом отчаяния, а не решительной атакой на вражеские позиции. Большинство из вышедших на улицы активистов считали демонстрации и стачки крайним средством давления на правительство социал-демократов, но были против его отставки. Баррикады из рулонов газетной бумаги в центре Берлина
Январь 1919
[Из открытых источников]
Баррикады из рулонов газетной бумаги в центре Берлина
Январь 1919
[Из открытых источников]
Лидеры, призвавшие рабочих к свержению правительства Эберта, «просто перестали выходить к демонстрантам на Аллею Победы, и масса блуждала бесцельно, пока не разошлась», — сообщал в Москву Радек, находившийся в гуще событий[314]. В своих воспоминаниях о тех днях он писал: «В Берлине существовала группа русских коммунистов военнопленных. Я организовал из них разведку. Послал их на несколько узловых пунктов железной дороги около Берлина и в его окрестности. От них я получил сведения, что около Далема [район на юго-западе Берлина. — А. В.] помещается какой-то военный штаб, что туда ездят и оттуда возвращаются самокатчики и автомобили. Было ясно, что правительство организует военную силу против Берлина. По требованию ЦК я не покидал своей квартиры, ибо Либкнехт утверждал, что мой арест может очень затруднить положение: скажут, что восстание организовано русскими»[315]. 9 января он написал записку Карлу Либкнехту, в которой изложил свое видение сути событий: в силу своей политической неопытности левые социалисты и попытались превратить движение протеста в захват власти, обреченный на поражение. Посланец Москвы требовал прекратить борьбу любой ценой, даже ценой сдачи оружия, т. е. фактической капитуляции рабочих. «Всякие соображения о революционном самолюбии должны померкнуть перед действительным соотношением сил»[316]. Аналогичное требование с более подробной мотивацией было отправлено им Розе Люксембург. Радек настаивал на том, что призывать к созданию рабочего правительства без опоры на массовые организации рабочего класса (подразумевались Советы, руководимые коммунистами) — бессмысленно. Даже если восставшие возьмут в свои руки контроль над столицей, через пару дней «провинция их изолирует и задушит». В случае если силы реакции одержат верх, развитие революции будет остановлено на несколько месяцев, а то и лет. «Единственная сила, которая может остановить несчастье — это вы, Коммунистическая партия»[317]. Роза отвергла аргументы Радека, который напрямую ссылался на опыт большевиков в июле 1917 года, когда те отступили перед превосходящими силами противника. Она соглашалась с тем, что «если не восстанет провинция, то взятие власти в Берлине есть бессмыслица»[318], но опасалась, что сигнал к отступлению ляжет на только что созданную партию несмываемым пятном[319]. Когда руководство КПГ обсуждало вопрос об этом, в Берлин уже входили воинские части, верные правительству СНУ. Надежды на то, что вступление войск в революционную столицу вызовет массовые протесты рабочих, не оправдались.
 В германском общественном мнении был весьма популярен образ русских революционеров как бандитов и поджигателей
Предвыборный плакат Баварской народной партии
1920
[Из открытых источников]
В германском общественном мнении был весьма популярен образ русских революционеров как бандитов и поджигателей
Предвыборный плакат Баварской народной партии
1920
[Из открытых источников]
Ничуть не оправдывая командования армейских частей и добровольческих соединений (фрайкоров), старавшихся превзойти друг друга в жестокости по отношению к восставшим рабочим в Берлине, Бремене, Мюнхене и других городах Германии, следует иметь в виду атмосферу Апокалипсиса, которая охватила значительную часть населения страны. От хваленого немецкого порядка остались одни лохмотья. Хотя прямого сообщения с Советской Россией после начала революционных событий у Германии не было, по Берлину ходили слухи о прибывших из Москвы эмиссарах с чемоданами денег, на которые спартаковцы организуют массовые демонстрации. «Буржуазная печать, разумеется, представляет дело так, как будто мы — она предполагает присутствие здесь большой массы русских большевиков — толкаем к вспышкам»[320], — информировал Радек Москву. Январская попытка захвата власти путем массовых демонстраций и радикальных деклараций еще больше расколола революционный лагерь. Несмотря на ее кровавое подавление, радикальные элементы этого лагеря выдвинули лозунг «второй революции», утверждая, что правые социал-демократы во главе с Эбертом предали идеалы марксизма, пойдя на союз с военщиной и буржуазными партиями. В противовес их соглашательству следовало вести революцию вперед, переходя от политических к социальным преобразованиям. В то же время многие из тех, кто считался искренним сторонником продолжения и углубления революции, назвали произошедшее путчем. «В Берлине была разыграна игра в заговор, играли смело и безрассудно, играли человеческими жизнями и революцией», — признавался один из лидеров «революционных старост» Эмиль Барт[321]. Лидеры КПГ колебались между политическим разумом и анархистским путчизмом. Противники последнего, Роза Люксембург и Карл Радек, не заняли решительной позиции в первые дни январских боев, очевидно считая, что победителей оправдает история. В основе их поведения лежало предсказание, сделанное Радеком еще в первые дни революции: «Правительство народных уполномоченных будет стрелять в народ, но пролитая кровь будет взывать к небу, поднимая миллионы на восстание против этого правительства»[322]. Эти расчеты оказались беспочвенными. 15 января пролилась кровь самих вождей КПГ — Роза Люксембург и Карл Либкнехт были убиты офицерами гвардейских частей, переброшенных с фронта в Берлин. Чистой воды спекуляцией является версия о том, что ответственность за это преступление лежит на Карле Радеке, который якобы испытывал давнюю зависть к лидерам только что созданной КПГ и косвенно выдал их властям[323]. Легенда о святых мучениках «второй революции», якобы затоптанной солдатскими сапогами, жива и по сей день, хотя имеет значение только для небольшой части немецкого общества, которая до сих пор солидарна с идеями крайне левых. Следует согласиться c немецким исследователем Ули Шелером, пришедшим к следующему выводу: «…представить себе, чтобы Ленин и Люксембург могли бы продуктивно сотрудничать в рамках одной партии или Интернационала, попросту невозможно»[324]. Об этом свидетельствовали отклики советской прессы на январские события в Берлине. При всей искренности траура, связанного с потерей одного из самых видных соратников за границей, волна некрологов и статей о Розе Люксембург, появившихся в первые недели и месяцы после ее гибели, сознательно замалчивала некоторые положения ее политической программы, которые никак не согласовывались с реалиями партийной диктатуры в России. Скорбя о ней, лидеры РКП(б) отдавали себе отчет в том, что теперь они избавлены от весьма опасного друга. Для них не было секретом негативное отношение Розы к ленинской концепции кадровой партии, к централизму и заорганизованности, они помнили о ее нежелании спешить с образованием КПГ и нового Интернационала. На погибших вождей можно было списать пассивность партии во время январских событий. Карл Радек писал об этом вполне определенно: «Убийство Розы и Карла, вызвавшее во всем государстве в широких рабочих массах колоссальное возбуждение, помогло перейти через берлинское поражение»[325]. Через несколько дней после убийства вождей КПГ на одной из явочных квартир был арестован и герой настоящего очерка.
2.8. Узник тюрьмы Моабит
Среди бесчисленных радековских анекдотов, украшающих любую из его биографий, есть и такой. На вопрос анкеты о том, что он делал до революции, Радек написал: «сидел и ждал». На вопрос о том, что он делал после революции, дал ответ: «дождался и сел». Хотя в подтексте этой шутки чувствуется оппозиционная составляющая биографии нашего героя, начавшаяся в середине 1920-х годов, его первая «посадка» после 1917 года случилась именно в Берлине. Арест был следствием неумения немецких сотрудников Радека вести подпольную работу. «Снимал я две комнаты у вдовы военного врача… Я мог свободно весь день работать и откатывать до тысячи строчек статей, воззваний и брошюрок. И сидел бы я у нее, как у бога за печкой, если бы не болтовня не привыкших к конспирации товарищей машинисток», — писал он впоследствии[326]. Полиции без труда удалось выследить его связных, регулярно снабжавших посланца Москвы свежими новостями и газетами. Однако ни револьверов, ни бриллиантов, ни даже инструкций при нем не оказалось, что с явным сожалением были вынуждены констатировать прусские чиновники[327]. Судьбой Радека сразу же заинтересовались за пределами Германии. 23 февраля 1918 года английский генерал Хейкинг показал членам германской комиссии по перемирию требование своего правительства представить документы, конфискованные у Радека при аресте. В телеграмме подчеркивалось, что позитивный ответ станет показателем отношения немецкого правительства к большевизму. Ситуация грозила обернуться международным скандалом — для германских дипломатов было очевидным, что такое требование является покушением на суверенитет Германии. Граф Брокдорф-Ранцау, ставший к тому времени министром иностранных дел, уклонился от выполнения просьбы. В его ответе говорилось о том, что «найденные документы скорее разочаровывают», и делалось предложение о тайном визите в Берлин представителей Антанты, которые смогут самостоятельно допросить арестованного. В марте английский и французский офицеры провели в Берлине согласованный с МИД неформальный допрос Радека, очевидно, чтобы оценить потенциал «красной угрозы» своим собственным странам[328]. В своих воспоминаниях о работе в Германии Радек не жалел красок для того, чтобы представить дело таким образом, будто он чудом избежал судьбы Розы Люксембург и Карла Либкнехта. Он утверждал, что его пытались избить до смерти в момент приема в тюрьму, позже во время одной из прогулок по тюремному двору в него стреляли из располагавшейся по соседству казармы, но выстрелы не достигли своей цели[329]. В то время как советские газеты возмущались тем, что арестованного содержат в одиночной камере закованным в цепи, Радек достаточно быстро добился смягчения тюремного режима. Ему стали приносить свежую прессу, разрешили передавать на волю письма и статьи, принимать гостей. Вошедший в историю «салон Радека» в берлинской тюрьме Моабит, а затем на квартире барона Райбница, куда переселили важного заключенного, регулярно посещали не только коммунисты, но и представители германской промышленной и политической элиты[330]. В их числе был контр-адмирал Пауль фон Гинце, который в июле 1918 года стал предпоследним статс-секретарем иностранных дел Германской империи. Благодаря его активным переговорам с советским полпредом Иоффе был подписан советско-германский Добавочный договор, который ввел в правовое поле отношения между двумя странами. Если верить Радеку, Гинце «стоял за сделку с Советской Россией и заявил, что очень хотел бы видеть теперешние отношения внутри России собственными глазами». Гостя больше всего волновал вопрос о перспективах пролетарской революции на Западе: «придет ли она раньше, чем Антанта съест Германию?»[331] Сам Радек свое вынужденное пребывание в Берлине использовал для расширения полезных контактов и разоблачения утверждений прессы о том, что германская компартия находится под полным контролем Москвы. «Духовная и материальная взаимопомощь не является решающим фактором влияния русского коммунизма на европейский», — писал он в сочинении, адресованном немецкой буржуазии. «Таковым является само существование Советской России, ее героическая борьба за жизнь. Это обстоятельство влияет на рабочих гораздо больше, нежели брошюры и рубли. При этом следует отметить, что коммунистическое движение в Германии, опирающееся на традиции марксистского образа мышления трех поколений, меньше всего нуждается в подобной помощи извне»[332]. Имеющиеся в распоряжении исследователей документы говорят об обратном. На протяжении 1919 года усилиями коминтерновских эмиссаров в Берлин были переправлены значительные суммы в рублях и марках, бриллианты и прочие драгоценности. Среди лидеров КПГ разгорелась настоящая борьба за управление финансовыми потоками. Александр Абрамович, посланный Лениным для создания коммунистических партий в странах Европы, в своем отчете от 29 сентября 1919 года возмущался тем, что из-за субсидий из Москвы немецкие коммунисты совершенно забросили сбор членских взносов. «Создается соревнование, чтобы попасть ближе к портмоне. Все мыслят только так, что за всякую мелочь член партии должен быть вознагражден». Каждый считает, что если он получит достаточно денег, то сделает революцию. «Дезорганизация, которую внесли средства, хаотически посланные через оказии и любыми курьерами, велики. И лучше ничего не получать, чем получать таким образом…»[333] Это пожелание так и не было реализовано на практике, так как противоречило установкам Исполкома Коминтерна на отбор лояльных кадров путем избирательного финансирования. В качестве примера можно привести решение ИККИ от 22 июля 1919 года: «Командировать и дать тов. Курелла для Немецкой коммунистической партии в Австрии ценностей на 300 000 руб. Ценности эти подлежат выдаче лишь в том случае, если партия работает хорошо». В противном случае член руководства КПГ Альфред Курелла должен был перевезти их в Германию[334]. Однако и месяцем позже секретарь ИККИ Ян Берзин просил у Зиновьева ускорить отправку денег «спартаковцам», которая постоянно срывается из-за бюрократической волокиты[335]. Ян Берзин
1920-е
[Из открытых источников]
Ян Берзин
1920-е
[Из открытых источников]
Нелегальный характер финансирования делал неизбежным появление цепи посредников при передаче денег от большевиков к их зарубежным соратникам. В Германии такую функцию принял на себя Яков Рейх, получивший при отъезде из Москвы напрямую из Госбанка огромные средства[336], формально предназначавшиеся для организации издательств Коминтерна. Будучи к тому же доверенным лицом Зиновьева, он в какой-то момент оказался «серым кардиналом» КПГ, не только финансируя компартию, но и контролируя проведение ею линии, разработанной в Москве. Это запрограммировало его постоянные конфликты с лидерами германской компартии, которые не без оснований подозревали, что Рейху поручена слежка за ними. Во время пребывания в тюрьме Радек находился в постоянном контакте с руководством КПГ, удаленно принимая участие в подготовке всех партийных совещаний лета — осени 1919 года. Там же он познакомился с рукописью работы Розы Люксембург о русской революции. Понимая, какое значение имеет образ несломленной революционерки, принявшей мучительную смерть, он в дальнейшем отстаивал версию о том, что по выходе из тюрьмы Роза сняла свою критику в адрес большевиков, согласилась с их политическим курсом и в ходе Германской революции никаких разногласий между ними больше не возникало[337]. В Кремле не жалели усилий для вызволения Радека из тюрьмы — он был даже назначен чрезвычайным и полномочным представителем Советской Украины в Германии (после этого тюремную парашу в его камере заменил фаянсовый горшок[338]). Через адвоката Курта Розенфельда Радек находился в контакте со своим недавним начальником — в августе Чичерин уверял узника Моабита, что советской дипломатии удалось добиться гарантий английского правительства для его безопасного проезда через Литву, если немецкие власти решатся на его освобождение[339]. Сам заключенный времени даром не терял, руководил из заключения компартией и встречался с политиками и предпринимателями, рисуя и первым, и вторым блестящие перспективы сотрудничества с Россией[340]. «Салон Радека», разместившийся в конце концов в квартире тюремного надзирателя, стал образом для неформальной дипломатии, граничащей с авантюризмом. О либеральном отношении к нашему герою властей демократической Германии свидетельствовал уже тот факт, что он беспрепятственно писал воззвания от имени коммунистических групп разных стран, которые потом рассылались их «авторам»[341]. Радек не был бы Радеком, если бы во время вынужденного ограничения стенами тюремной камеры не попробовал свои силы на теоретическом фронте. Пытаясь применить ленинскую модель партии профессиональных революционеров к условиям Центральной и Западной Европы, он написал брошюру со скромным названием «Развитие мировой революции и тактика коммунистических партий в борьбе за диктатуру пролетариата»[342]. В ней автор свел воедино сложившуюся у него картину международных отношений и личный опыт общения с немецкими коммунистами первого часа, сопоставил решения Первого конгресса Коминтерна, которые вышли в свет на немецком языке, с итогами первых конференций КПГ. Работа начиналась с апокалипсического видения перспектив мирового развития — прошедшая война была последней для капиталистического строя в целом, и для Германии в частности — ибо в будущем эту страну добьют правящие круги стран Антанты перед тем, как сами отправятся в историческое небытие. Только пролетарская революция способна расчистить руины, оставленные войной. В ходе своей революции из-за демократических иллюзий германские рабочие добровольно отдали власть буржуазии, но им придется вновь подниматься на борьбу за «Федеративную Социалистическую Всемирную республику Советов». Осенью 1918 года в Германии произошла полная реставрация прошлого, исчезли только монархические вывески, утверждал автор. Поскольку революция победила без борьбы, победа контрреволюции произошла точно так же. В брошюре был детально разработан вопрос об отличиях ситуации в России от Западной Европы: в последней имелся разрешенный крестьянский вопрос, эффективный государственный аппарат и прочные позиции реформистских партий. Тем более актуальным, по мнению автора, становится формирование в европейских странах коммунистического авангарда, который должен «вылущиться» из потерпевшей крах социал-демократии. Нельзя жить в безвоздушном пространстве, демонстрируя «детское коммунистическое сектантство» в ожидании того, что массы сами придут к коммунизму. Эпоху революционной борьбы сменил период будничного партийного строительства[343]. Через пару месяцев этот тезис возьмет на вооружение Ленин, начав излечение «детской болезни левизны» в зарубежных компартиях. Не менее ярко и доходчиво Радек высказался по поводу верхушечной организации переворотов и вооруженных восстаний, которые в Германии 1919 году превращались в карикатуру на самих себя, но стоили жизни многим сотням радикально настроенных активистов. «Опасность путчизма будет преодолена только тогда, когда собственный опыт рабочих, их разбитые головы докажут им, что не так уж и неправа была КПГ, утверждая, что нельзя считать образцом врачебного искусства попытку насильно извлечь на свет здорового ребенка на втором месяце беременности»[344]. В работе подчеркивалась необходимость искать в Германии отличные от России пути борьбы. Простое перенесение на зарубежную почву рабочих Советов приводит к тому, что они теряют свою революционную направленность, превращаются в дополнение к существующим профсоюзам. Поэтому в Германии в конце 1918 года «не было действительно массового стремления к созданию рабочих советов». Можно быть уверенным в том, что Радек разделял сомнения Розы Люксембург о преждевременности образования Коммунистического Интернационала, однако предпочитал держать их при себе. Международная организация коммунистов способствовала поляризации сил в рабочем движении, писал он, привела к появлению центра, на который будут ориентироваться революционные рабочие. Партии левых социалистов рано или поздно придут в ее ряды, «и, будем надеяться, без своих вождей». История еще посрамит тех, кто считает Коминтерн «организатором тайных заговоров посредством засылки эмиссаров, московской фабрикой революционных рецептов»[345]. Коммунизм нельзя насадить силой, перед нами — период сосуществования пролетарских и коммунистических государств, подчеркивал автор. Лишь через несколько лет с этим тезисом согласятся в руководстве Коминтерна, добавив к «сосуществованию» прилагательное «длительное», а после 1945 года — еще и «мирное». Во время пребывания в тюрьме, а затем под домашним арестом Радек заочно схлестнулся с самим Карлом Каутским. В данном случае он не предвосхищал ленинские взгляды, как в случае с «левизной», а следовал за ними, высмеивая филистерство крупнейшего марксистского теоретика в своем фирменном стиле: карасю нравится быть запеченным в сметане, как утверждают поваренные книги. Но буржуазия не карась, и она вряд ли отдаст все свои богатства. Убеждать ее — все равно, что размахивать картонным мечом перед лицом грабителя. Надежды Каутского на то, что западноевропейским пролетариям не придется прибегать к террористическим методам, так как они составляют большинство населения и могут проголосовать за свои права, являются чистой утопией. «Пролетариат не кровожаден, но он знает из исторического опыта, что насилие и террор никогда не создавали новых производственных отношений, не формировали новый общественный строй»[346]. Подобные фразы, равно как и утверждение, что «пролетариат знает, что силой не заставить крестьян возделывать их поля», выглядели почти как антисталинский манифест, хотя и были написаны еще в 1919 году. Утопия «светлого будущего», в которое следовало революционным насилием загнать население вначале одной России, а затем и всего земного шара, расцветала на почве, обильно политой кровью вначале мировой, а потом и гражданской войны. Радеку, как и его единомышленникам в руководстве партии большевиков, следует предъявить исторический упрек в другом: толкуя в свою пользу понятие «диктатуры пролетариата», они отказывались разделить власть с идейно близкими им политическими силами левого толка. Известная шутка той эпохи — в России может быть несколько партий, только одна из них будет править, а другим придется сидеть в тюрьме — вполне соответствовала менталитету «солдат революции», олицетворением которого были слова и дела Карла Радека. В начале 1920 года советско-германские переговоры о его освобождении завершились — Радека обменяли на нескольких немецких военнопленных, задержанных в России в качестве заложников. Его путь пролегал через вернувшую себе независимость Польшу, которую Радек мог бы считать своей родиной. Там знаменитого соотечественника буквально задушили своим вниманием польские офицеры. Один из них, генерал Сикорский, позже станет премьер-министром Польши. Всех волновал один и тот же вопрос: «Как же это я, воспитанный в польской культуре, могу быть большевиком и могу посягать на независимость Польши?»[347] Вряд ли их убедили уверения оппонента, что Советская Россия не собирается посягать на нее. До советско-польской войны оставались считанные недели. Оказавшись на границе, которая выглядела как линия фронта, Радек попросил две подводы для багажа, состоявшего почти исключительно из книг, и потребовал прекращения всяких военных действий в момент перехода им линии фронта[348]. Начиналась вторая глава его российской биографии.
2.9. Карл Радек и Пауль Леви
Покинув Германию, Карл Радек не оставил своим вниманием КПГ, с большими потерями пережившую первый год своего существования. Пауль Леви, возглавивший партию после гибели ее вождей, олицетворял собой образ партийного интеллигента, одаренного публициста, но слишком мягкого человека для того поста, на который привели его арьергардные бои германской революции. Важным фактором силы для него было знакомство с русскими эмигрантами, укрепившееся в годы Первой мировой войны, когда они вместе пытались сформировать в Швейцарии интернационалистскую альтернативу социал-патриотам. Именно Леви сыграл важную роль при организации легендарного возвращения Ленина и его соратников в Россию в «пломбированном вагоне». Поручившись перед германскими властями, что в нем будут только граждане Российской империи, Леви прекрасно знал, что среди них через всю Германию собирается проехать и австро-венгерский подданный Карл Радек. В отличие от последнего новый лидер КПГ оказался не в своей тарелке. «Гуманистически настроенный, блестящий аналитик и яркий оратор, адвокат Пауль Леви легко завоевывал симпатии интеллектуалов. Гораздо труднее ему было убеждать простых рабочих. Его высоко ценили в партии за несомненные способности, но он так и не стал популярной фигурой»[349]. Весной — летом 1919 года он легально проживал во Франкфурте-на-Майне, в то время как Правление КПГ несколько раз покидало Берлин, спасаясь от полицейских преследований. Следы его руководства невозможно найти ни в мартовской всеобщей стачке в Берлине, ни в деятельности коммунистического правительства Советской Баварии в апреле 1919 года. Зачарованный победой российских большевиков, Леви сосредоточил свое внимание на собирании партийных сил, действуя в целом в духе ленинской модели расколов и отмежеваний. Как и Ленин в годы эмиграции, Леви вел борьбу на два фронта, пытаясь отобрать массовую базу у левых коммунистов, центром которых был Гамбург, и у пацифистски настроенных социалистов, находившихся справа от КПГ. Последние в апреле 1917 года образовали собственную партию — Независимую социал-демократическую партию Германии (НСДПГ), войдя в историю немецкого рабочего движения как «независимцы». Леви крайне ревниво относился к любым попыткам независимцев наладить прямые контакты с Москвой, поскольку те пытались возродить традицию единого социалистического движения эпохи Маркса и Лассаля. У большевиков не может быть зарубежных друзей, могут лишь быть закаленные в борьбе единомышленники, неоднократно подчеркивал лидер КПГ. Слух о том, что в Россию с ознакомительной поездкой отправляется сам Карл Каутский, заставил его написать письмо Ленину. Леви увидел в этом попытку левых социалистов выступить в роли посредников между Советской Россией и Германией и прямо заявил, что предпочел бы видеть в этой роли кого-то из буржуазных политиков. Он предупреждал московских товарищей, что Каутский и его единомышленники тут же запишут «дружбу с вами» на свой счет, заработав дополнительные очки в борьбе за влияние на радикально настроенных рабочих. «Для нас сейчас сильнейшим препятствием являются двусмысленность и лживость независимцев»[350], — подчеркивал Леви в своем письме. После гибели Розы Люксембург Леви нашел друга и единомышленника в лице Клары Цеткин, которая, как и он, олицетворяла собой умеренное крыло КПГ. 29 марта 1919 года Цеткин была кооптирована в Правление партии. Для Карла Радека, хорошо знавшего обеих женщин, они являлись воплощением пережитков довоенного социалистического движения. Это было как минимум несправедливо. Клара Цеткин уже на начальном этапе германской революции давала весьма жесткие оценки демократическим иллюзиям рабочего класса, который «получил власть без серьезной борьбы». Надежды на то, что социалисты на первых порах смогут делить власть с буржуазными партиями, не только беспочвенны, но и политически вредны, подчеркивала она. Спартаковцам отводилась роль паровоза, который «толкал бы массы вперед к принципиальным оценкам и революционному мужеству»[351]. В своих письмах руководителям КПГ из тюрьмы Моабит Радек противопоставлял их колебаниям жесткую линию российских большевиков, которых считал людьми дела, а не бесплодных мудрствований. Левиплатил ему той же монетой, подчеркивая специфику условий, в которых живут и борются немецкие рабочие, выступая за постепенность и размеренность движения коммунистов к конечным целям своего движения. Согласно воспоминаниям его соратников, Леви неоднократно говорил, что если европейский пролетариат не придет на помощь Советской России, то в этой стране возникнет жесточайшая диктатура[352]. Эмиссаров Исполкома Коминтерна, чувствовавших себя хозяевами на заседаниях Правления КПГ в Берлине, он называл «туркестанцами»[353], а однажды в полемическом запале даже предложил «московским товарищам из Коминтерна» переехать в Копенгаген, чтобы быть поближе к сфере своей деятельности. Один из таких эмиссаров, уже упомянутый выше Абрамович, после неоднократных пребываний в Германии в 1919 году рисовал малопривлекательную картину КПГ: «Партия, раздираемая внутренней борьбой, очень слаба, и теперь самой важной задачей является ее внутренняя реорганизация. Преследования, посыпавшиеся на партию вследствие того, что синдикалисты в своей последовательности докатились до испанских методов борьбы (т. е. терроризма, пассивной забастовки и прочих прелестей анархизма), отпугивают массы от партии. Средние слои вследствие полного отсутствия информации о нашей партии считают ее составленной из грабителей и разбойников»[354]. В начале своей истории КПГ, хотя и не являлась шайкой грабителей, все же находилась достаточно далеко от той модели партии профессиональных революционеров, которую построил Ленин в России и пропагандировал Радек за ее рубежами. Репрессии, обрушившиеся на КПГ на завершающем этапе германской революции, привели к тому, что отдельные региональные организации жили собственной жизнью без прочных контактов с центральным аппаратом[355]. После того, как была запрещена газета «Роте Фане», являвшаяся официальным органом ЦК КПГ, берлинская организация стала издавать собственную газету с таким же названием, которая отстаивала линию левой оппозиции. «Разброд и шатания» — такова была самая краткая характеристика партии, которую транслировали в Москву коминтерновские эмиссары. Важной частью вопроса о недостатках партийного строительства являлся сюжет, связанный с «русскими деньгами». Оставленные советским полпредом Иоффе в ноябре 1918 года несколько миллионов марок были конфискованы правительством, деньги и драгоценности, которые привозили в Берлин агенты Коминтерна, зачастую распределялись без участия руководства КПГ. Леви настаивал на том, чтобы партийные организации на местах обходились без финансовой подпитки извне, ибо «русские деньги» приводят к коррупции аппарата, однако его голос так и остался неуслышанным. Лео Йогихес, третий человек в КПГ при Либкнехте и Люксембург, был менее щепетильным, обращаясь к Ленину: «Если у Вас имеется заграничная валюта (любая), пришлите по возможности крупные суммы», заделав их в двойное дно чемоданов[356]. После убийства Йогихеса Ленин потребовал немедленно отправить новую порцию денег немецким коммунистам, не уточняя их предназначения[357]. Лео Йогихес (Тышка)
Не ранее 1919
[Из открытых источников]
Лео Йогихес (Тышка)
Не ранее 1919
[Из открытых источников]

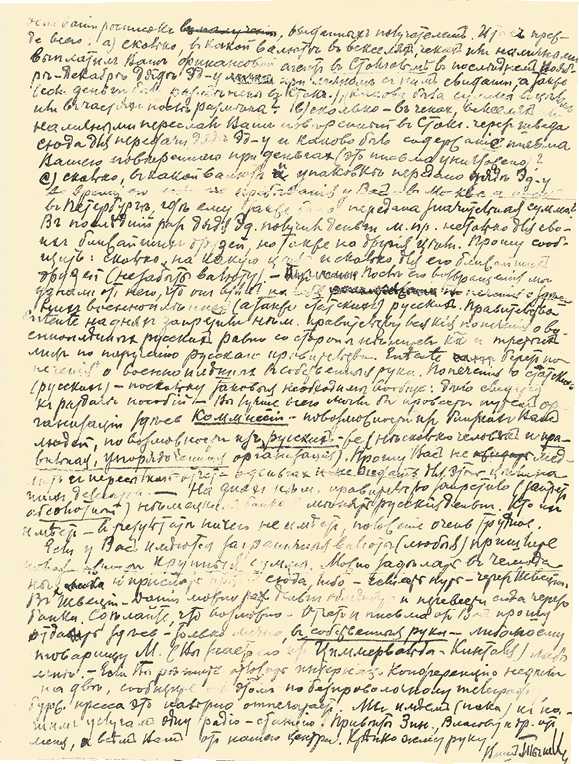 «Объективная ситуация благоприятна, наше движение и партия быстро растут»
Письмо лидера КПГ Л. Йогихеса (Тышки) В. И. Ленину
4 февраля 1919
[РГАСПИ. Ф. 5. Оп. 3. Д. 267. Л. 1–1 об.]
«Объективная ситуация благоприятна, наше движение и партия быстро растут»
Письмо лидера КПГ Л. Йогихеса (Тышки) В. И. Ленину
4 февраля 1919
[РГАСПИ. Ф. 5. Оп. 3. Д. 267. Л. 1–1 об.]
Как и Ленин, Радек рассматривал механическое изгнание левых на Гейдельбергском съезде КПГ осенью 1919 года как упущенный шанс внутрипартийной консолидации[358]. Находясь в тюрьме, он не имел возможности напрямую участвовать в подготовке съезда, но в личном письме к Леви высказался против организационного раскола. Если избавление от левых вождей представлялось ему позитивным явлением, то уход их рядовых сторонников противоречил курсу на «сплочение, а не на раскол сил, противостоящих капитализму»[359].
 Рут Фишер (Эльфрида Эйслер)
Декабрь 1922
[РГАСПИ. Ф. 491. Оп. 2. Д. 275. Л. 1]
Рут Фишер (Эльфрида Эйслер)
Декабрь 1922
[РГАСПИ. Ф. 491. Оп. 2. Д. 275. Л. 1]
Связной между Правлением КПГ и «салоном Радека» стала Рут Фишер, одна из основательниц австрийской компартии, в августе прибывшая в Берлин из Вены. На тот момент ей не было и двадцати пяти лет. Как шутили впоследствии в Коминтерне, миловидная и решительная Рут грудью прокладывала себе путь на высшие этажи коммунистической номенклатуры. Не последнюю роль сыграла в этом ее пусть и мимолетная, но все же весьма яркая связь с Карлом Радеком. Находясь в тюремной изоляции, последний чувствовал себя свободным и от большевистской дисциплины, и от давления ленинского авторитета. В одной из своих работ он даже завел речь о «рабочем правительстве», коалиции социалистических партий как о лозунге переходного периода, т. е. паузы между двумя революционными волнами. Пусть опосредованно, но идеи умеренных коммунистов вроде Леви устами Радека транслировались в Москву, хотя в официальный лексикон Коминтерна они войдут лишь двумя годами позже, став основой тактики «единого рабочего фронта».
2.10. Секретарь Исполкома Коминтерна
По возвращении в Москву Радек первым делом отправился на деловой обед с Чичериным и Караханом, однако работы в Наркоминделе для него больше не нашлось. Его строптивый характер, неорганизованность и развязный язык никак не подходили для дипломатической работы, которая даже в условиях Советской России вернулась в традиционную колею. Бунтари и революционеры проходили теперь по линии Коминтерна, в который и был определен бывший «моабитский узник», на протяжении целого года выступавший в советской прессе главной жертвой мирового империализма и реформистского соглашательства. Показательно, что он был введен в состав Исполкома 8 апреля 1920 года, в один день с принятием решения о созыве Второго конгресса Коммунистического Интернационала[360]. Затишье в стенах арбатского особняка, где разместился аппарат ИККИ, сменилось лихорадочной активностью. Было налажено делопроизводство, «дорогостоящие организации с многочисленным персоналом возникали за одну ночь. Интернационал стал бюрократическим аппаратом еще до того, как родилось настоящее коммунистическое движение», — делилась своими впечатлениями Анжелика Балабанова, покинувшая его ряды как раз в момент прихода туда Радека, что было также весьма символично[361]. Ее оценки опережали реальный ход событий. В первые годы своего существования Коминтерн был одним из зримых последствий Российской революции, и его зарубежные сторонники питали искренние надежды на то, что рост коммунистического движения вширь не только ослабит контроль представителей РКП(б) над отдельными компартиями, но и приведет к модернизации их идейной базы с учетом опыта и особенностей политической борьбы в той или иной стране. В то же время статьи Радека в прессе указывали на ту роль, которую продолжают играть в странах, только что получивших свою независимость, национальные чувства. Для его русских соратников это выглядело холодным душем, порождало подозрения не только в пессимизме, но и в капитуляции перед трудностями, в данном случае — в ходе советско-польской войны. На этой точке зрения стоял секретарь ЦК Преображенский, которого поддержал Ленин: «не пересаливать, т. е. не впадать в шовинизм, всегда отделять панов и капиталистов от рабочих и крестьян Польши»[362]. Делегаты Второго конгресса Коминтерна выходят из Смольного
Слева направо: М. И. Калинин, К. Б. Радек, Г. Е. Зиновьев, А. Балабанова, Дж. Серрати, Н. И. Бухарин.
19 июля 1920
[РГАСПИ. Ф. 489. Оп. 2. Д. 66. Л. 1]
Делегаты Второго конгресса Коминтерна выходят из Смольного
Слева направо: М. И. Калинин, К. Б. Радек, Г. Е. Зиновьев, А. Балабанова, Дж. Серрати, Н. И. Бухарин.
19 июля 1920
[РГАСПИ. Ф. 489. Оп. 2. Д. 66. Л. 1]
Действительно, в тот момент судьбы мировой революции, как она виделась большевикам, еще далеко не были предрешены. Коминтерн, как и сам большевистский режим, находился перед важной исторической развилкой. Многие иностранные наблюдатели ожидали, что на предстоящем конгрессе Коммунистический Интернационал заявит о себе как о самостоятельном политическом субъекте, избавившись от «русской скорлупы». Не стесняясь в выражениях, Радек именно в таком ключе выстроил свой доклад о международной работе на Девятом съезде РКП(б). Согласно архивной стенограмме (этот пассаж не попал в опубликованный протокол съезда) он заявил: «Когда товарищи из Москвы посылали товарища в Европу от имени Исполкома и говорили: делайте все по-русски, это было связано с полным непониманием положения на Западе»[363]. В процессе подготовки конгресса между членами РКП(б), откомандированными для работы в Коминтерне, разгорелась борьба за то, кому будет поручено подготовить его ключевой документ — условия принятия в международную организацию коммунистов так называемых центровиков, т. е. левых социалистов, покинувших Второй Интернационал и еще не создавших собственное интернациональное объединение. На заседании ИККИ 18 июня 1920 года Радек так обосновывал значение данного пункта повестки дня: «…существует опасность, что под давлением масс правые, реформистские или центровые вожаки старой социал-демократии, старого Интернационала перед лицом крушения этого Интернационала будут пытаться подменить коммунизм деятельный фразами о коммунизме, что они готовы подписать на бумаге всякие заявления о „диктатуре пролетариата“, о советской власти, дабы в решительный момент удержать рабочих от этой борьбы»[364].
 Евгений Алексеевич Преображенский
Декабрь 1922
[РГАСПИ. Ф. 491. Оп. 2. Д. 272. Л. 1]
Евгений Алексеевич Преображенский
Декабрь 1922
[РГАСПИ. Ф. 491. Оп. 2. Д. 272. Л. 1]
В то же время он жестко выступил против попыток запретить участие в работе предстоящего конгресса тем представителям левых социалистов, кто в годы мировой войны поддержал линию на «защиту отечества». Нам нужен не маленький кружок, который собирается время от времени, подчеркнул новоиспеченный секретарь Коминтерна на заседании ИККИ 28 июня, а широкое международное движение. Но если брать на учет за рубежом только совершенно безгрешных революционеров, то в Третий Интернационал принимать будет попросту некого[365].
 Второй конгресс Коминтерна должен был войти в историю как начало новой эпохи в истории человечества.
Эскиз обложки альбома конгресса, предложенный Б. М. Кустодиевым
Июль 1920
[Из открытых источников]
Второй конгресс Коминтерна должен был войти в историю как начало новой эпохи в истории человечества.
Эскиз обложки альбома конгресса, предложенный Б. М. Кустодиевым
Июль 1920
[Из открытых источников]
История с приглашением на конгресс делегаций «сочувствующих» имела свое продолжение уже после начала конгресса. Прибывшие с опозданием делегаты от КПГ поставили перед Исполкомом Коминтерна ультиматум: если «леваки», изгнанные из партии на Гейдельбергском съезде и образовавшие собственную коммунистическую группу (КРПГ), будут допущены в зал заседаний, то мы сразу же возвращаемся обратно в Германию. «Наши товарищи считали это недопустимым, опасаясь, что равноправный допуск синдикалистских, более или менее антикоммунистических организаций, приведет к нежелательным изменениям характера Коммунистического Интернационала», — вспоминал один из участников дискуссии[366]. В ходе самого конгресса Радек был одновременно и правой рукой, и скрытым оппонентом Зиновьева. Не случайно последний сразу же после завершения конгресса с радостью сообщил своему личному эмиссару в Берлине, что Радека удалили из Коминтерна[367]. Благодаря своему участию в работе Циммервальдского движения Радек сохранил прочные контакты с левыми социалистами, да и вообще выглядел после возвращения из Берлина настоящим иностранцем, несмотря на членство в РКП(б).
 Делегаты Второго конгресса Коминтерна в Большом Кремлевском дворце. Во втором ряду слева направо: неизвестный, председатель Совнаркома Украины Х. Г. Раковский, К. Б. Радек, делегаты Украины Д. З. Мануильский, С. И. Гопнер, Н. А. Скрыпник
23 июля — 6 августа 1920
[РГАСПИ. Ф. 489. Оп. 2. Д. 129. Л. 1]
Делегаты Второго конгресса Коминтерна в Большом Кремлевском дворце. Во втором ряду слева направо: неизвестный, председатель Совнаркома Украины Х. Г. Раковский, К. Б. Радек, делегаты Украины Д. З. Мануильский, С. И. Гопнер, Н. А. Скрыпник
23 июля — 6 августа 1920
[РГАСПИ. Ф. 489. Оп. 2. Д. 129. Л. 1]
На первых порах он пытался внести в работу международной организации коммунистов европейский дух. Выступая на заседании Исполкома 28 июня 1920 года, наш герой подчеркнул, что руководство Коминтерна «не может играть роль папы [Римского. — А. В.], который все решает согласно своему усмотрению. Очень полезно и даже необходимо, чтобы члены Исполкома установили свою точку зрения, споря с другими партиями»[368]. Он сохранил способность восставать против политики, которую считал роковой и даже гибельной. К началу конгресса части Красной армии, двигаясь на Запад, овладели Вильнюсом и Минском, развернули наступление в направлении Варшавы[369]. Радек, поддержанный рядом немецких и польских коммунистов, считал, что вторжение в Польшу сплотит местный рабочий класс вокруг буржуазии, позволит поднять на щит националистические лозунги. Кроме того, они не хотели давать пищу западной пропаганде, трубившей о «красном империализме». Однако победила радикальная точка зрения — «прощупать красноармейским штыком, готова ли Польша к советской власти». Уже после завершения конгресса Радек говорил, что у девяти десятых его делегатов наступление на Варшаву вызвало неподдельное удивление[370]. На партийной конференции в сентябре он не щадил авторитета вождя: «Теперь т. Ленин показывает новый метод собирания информации: не зная, что делается в данной стране, он посылает туда армию. Я спрашиваю, товарищи, неужели у нас нет других методов, при помощи которых мы могли бы получить те же самые результаты в смысле ознакомления с положением в стране?.. В основе нашей ошибки лежала переоценка зрелости революции в Центральной Европе, и поэтому мы не должны в будущем догматически подходить к вопросу» об интервенции в другие страны с целью их советизации[371]. Впрочем, несмотря на свой острый язык и шокирующую прямолинейность, Радек быстро усвоил правила и привычки, утвердившиеся в руководстве РКП(б) под влиянием опыта Гражданской войны. Отстаивая свою точку зрения в узком кругу партийного и коминтерновского руководства, на пленарных заседаниях конгресса и массовых митингах в его честь он неизменно выступал со стандартным набором патетических лозунгов, соответствующих генеральной линии РКП(б). На церемонии закрытия конгресса в Большом театре 7 августа 1920 года Радек провозгласил: «…польский рабочий класс великолепно знает, что Советская Россия идет не для того, чтобы уничтожить независимость польского народа, а напротив, чтобы помочь польским рабочим разбить цепи, которые наложены на них капиталистами Польши и Антанты»[372]. Естественно, такое мнение польского рабочего класса собравшиеся встретили бурными и продолжительными аплодисментами.
 Джон Рид
Художник И. И. Бродский
1920
[РГАСПИ. Ф. 489. Оп. 1. Д. 68. Л. 22]
Джон Рид
Художник И. И. Бродский
1920
[РГАСПИ. Ф. 489. Оп. 1. Д. 68. Л. 22]
За несколько часов до этой церемонии состоялось первое заседание Исполкома Коминтерна нового созыва. Совершенно неожиданно оно едва не обернулось дворцовым переворотом — после того, как Зиновьев назвал кандидатуры в Малое бюро ИККИ, которому предстояло стать органом оперативного управления международным коммунистическим движением, Леви предложил создать пост «политического генерального секретаря» и назвал имя Радека[373]. Его поддержали Серрати и американский делегат Джон Рид.
 Джачинто Серрати
Художник И. И. Бродский
1920
[РГАСПИ. Ф. 489. Оп. 1. Д. 68. Л. 38]
Джачинто Серрати
Художник И. И. Бродский
1920
[РГАСПИ. Ф. 489. Оп. 1. Д. 68. Л. 38]
Зиновьев не мог скрыть своего удивления таким демаршем: «…для меня неожиданно предложение германской компартии». Поднаторевший в партийных интригах, он, вероятно, решил, что за ним стоит его главный соперник, мобилизовавший своих сторонников. Зиновьеву пришлось раскрыть карты: Карл Радек не может войти в Малое бюро Исполкома, потому что на днях отбывает в Польшу — «там теперь разрешается очень многое». Председатель ИККИ буквально уговаривал иностранных членов Исполкома: «Когда вы к этому вопросу подойдете с интернациональной точки зрения, вы согласитесь с тем, что такой польский революционер, как Радек, должен быть скорее в Польше, чем сидеть в Интернационале, где он может быть заменен кем-нибудь другим»[374]. Крах польского наступления Красной армии дал Радеку очередной шанс заявить о себе как о коммунистическом диссиденте. Выступая на Девятой конференции РКП(б) в сентябре того же года, он осторожно выразил надежду на то, что преподанный классовым противником урок изменит атмосферу в Коминтерне. «Я думаю, что после опыта поражения под Варшавой мы будем более тщательно взвешивать соотношение сил. Но я говорю, что, если мы хотим правильного поворота в общей политической линии, чтобы не обращаться потом в бегство, необходимо, чтобы на Коммунистический Интернационал не переносилась та уверенность, которую имеет ЦК по отношению к русским делам»[375]. Его слова звучали как ультиматум, от которых успела отвыкнуть партия, уже три года пользовавшаяся безраздельной полнотой власти: ЦК РКП(б) «знал и знает, что в этом вопросе я буду с германскими товарищами. Я требую, чтобы ЦК, его представители в Интернационале работали над тем, чтобы быть действительными руководителями в международном масштабе, а не считали себя авторитетнейшими и безоговорочными руководителями, мнение которых должно приниматься безоговорочно и которые могут со дня на день менять свои линии», не допуская никаких возражений[376]. Эмоциональное выступление Радека на конференции РКП(б) не прошло бесследно. У него появился влиятельный покровитель, который разделял его опасения относительно судьбы только что зародившегося коммунистического движения, — Лев Троцкий. Вслед за Радеком он признал, что за рубежом итоги Второго конгресса «истолковываются как организационное закрепление диктатуры РКП в международном масштабе»[377]. Политбюро, которому было адресовано это письмо Троцкого, не сочло его достаточным поводом для обсуждения.
2.11. Открытое письмо КПГ
Несмотря на пышный прием в Москве и неоднократные встречи с Лениным и другими лидерами РКП(б), которые подтверждали мнение, что КПГ находится на особом счету у Коминтерна, лидеры партии вернулись в Берлин разочарованными, если не сказать подавленными. Работа Второго конгресса затянулась почти на месяц и была неожиданно свернута по приказу сверху («русские товарищи» сосредоточили свое внимание на событиях под Варшавой), организационной перестройки ИККИ провести не удалось, идея Леви о назначении Радека генеральным секретарем Коминтерна лишь углубила взаимное недоверие лидера КПГ и всесильного Зиновьева. Немецкие делегаты вновь и вновь выражали свои претензии по поводу представителей ИККИ в Берлине, несогласованная деятельность которых создавала организационную неразбериху и серьезные проблемы в коммуникации компартии с Москвой. Формально идя им навстречу, Исполком провел решение о роспуске Амстердамского бюро и Берлинского секретариата, мотивировав это тем, что они имеют тенденцию противопоставлять себя ИККИ[378]. Однако на деле все оставалось по-прежнему: денежные субсидии партия получала через доверенное лицо Зиновьева — Якова Рейха, который использовал их для продвижения своих сторонников и завоевания левых социалистов. Интрига развивалась и с противоположной стороны. В Москве Радек показал Паулю Леви письма Рейха, в которых тот давал нелицеприятные оценки руководителям КПГ. Вернувшись в Берлин, Леви поставил вопрос о недопустимости слежки и дискредитации Правления партии[379]. О том, что делегация КПГ вернулась из Москвы обиженной холодным приемом и настроена «антирусски», доносили и другие представители ИККИ в Берлине[380]. Рейх добавлял к этому, что немцы намереваются взять издательское дело (а значит, и значительную часть финансовых субсидий) в свои руки, чтобы в будущем работать без посредников[381]. Разочарование немецких коммунистов итогами конгресса было зафиксировано даже руководителем русского отдела Министерства иностранных дел Германии Аго фон Мальцаном. Его информатором стала сама Клара Цеткин, сообщившая, что паломники в Москву «испытали там в материальном плане серьезное разочарование и недоедание». Похоже, чиновник МИД услышал только то, что хотел услышать, и явно недооценил иронии своей собеседницы, которая пообещала ему «не применять коммунистический принцип социализации женщин в границах Германии»[382]. 29 августа 1920 года Леви выступил перед берлинскими рабочими в цирке Буша с докладом об итогах Второго конгресса Коминтерна, который был выдержан в восторженных тонах. Однако в узком кругу тональность его рассказов о впечатлениях, полученных в Москве, была совершенно иной. Отчет Председателя партии на Правлении КПГ был наполнен «ненавистью и глубоким пессимизмом… мы все были настолько шокированы, что даже не стали открывать дебаты», утверждал один из участников заседания[383]. Среди прочего он говорил о том, что Москва превратилась в Мекку, куда все правоверные обязаны ехать на поклон. «Русские вожди опьянены своими победами», никто из них, кроме Радека, не имеет ни малейшего представления о немецких делах, а сам Радек не решается перечить догматизму Ленина[384]. Отношения КПГ и ИККИ до и после Второго конгресса являлись наглядным примером того, что робкие попытки компартий сохранить самостоятельность хотя бы в принятии оперативных решений и избавиться от мелочного контроля Центра были обречены на неудачу. На заседаниях конгресса Леви неоднократно выступал с предложениями и замечаниями, которые не вписывались в помпезный сценарий. В то же время он внес немалый вклад в создание культа непогрешимости большевиков, заявив в одном из выступлений, перефразируя слова адмирала Нельсона: «Россия рассчитывает, что каждый исполнит свой долг»[385]. Действительно, безоговорочная верность идее и практике Советской России стала решающим критерием, который отделял коммунистов от прочих левых сил. Впоследствии Зиновьев не удержался от соблазна объявить, что раскусил ренегатскую сущность лидера КПГ уже летом 1920 года, когда тот являлся, «в сущности говоря, не осознавшим себя меньшевиком»[386]. Выстраивая вертикаль власти и подчинения, Исполком пытался замаскировать ее помпезными декларациями о равноправии всех секций Коминтерна, в которые чем дальше, тем меньше верили зарубежные рабочие. Показательными были тон и стилистика обращения ИККИ к членам НСДПГ, призванного опровергнуть тезис о «русской диктатуре» в коммунистическом движении: «Все те бешеные вопли и совершенно неприличные жалобы на мнимое засилье русских коммунистов, которые несутся теперь со страниц газет правых независимых, являются простым проявлением самого низменного национализма и попыткой разжечь самые грубые шовинистические инстинкты отсталых масс»[387]. Назревавший конфликт на какое-то время был погашен обычным способом: «присылка денег изменила настроение ЦК», — сообщал Рейх в Москву 7 октября 1920 года[388]. Во время пребывания в Германии Зиновьева (он приехал на съезд НСДПГ, где большинство делегатов проголосовали за слияние их партии с КПГ) стороны договорились о том, что параллельное информирование ИККИ сохранится, Рейх и далее сможет присутствовать на заседаниях Правления германской компартии[389]. Разрыв Леви с Коминтерном произошел после того, как он вместе с Цеткин принял участие в съезде итальянских социалистов в Ливорно, оба немецких представителя выразили возмущение тактикой выкручивания рук, которую проводили на съезде посланцы ИККИ. Через два месяца, в марте 1921 года группа «левитов» выступила против попытки организации в индустриальном районе Мансфельд-Галле в Центральной Германии вооруженного восстания, к которому подталкивали КПГ эмиссары из Москвы. Попытка была неподготовленной и дилетантской, сопровождалась провокациями партийных активистов и завершилась большими жертвами среди рабочих, взявших в свои руки оружие[390]. Лебединой песней «левитов» явился документ, который был опубликован еще до этих событий и мог бы увести КПГ в сторону от подобных авантюр, открывая для нее перспективу встраивания в национальную политическую повестку. 8 января 1921 года в газете «Роте Фане» появилось Открытое письмо Правления партии, обращенное ко всем рабочим партиям и профсоюзным организациям. В научной литературе расходятся мнения о том, кто был его автором, Пауль Леви или Карл Радек, однако это и не так важно. Несмотря на мелкие конфликты, оба разделяли точку зрения, что в условиях отступления революционной волны следует сосредоточиться на перегруппировке собственных сил, не идя на новые авантюры. В Открытом письме был сформулирован призыв к совместным действиям в защиту социальных завоеваний германской революции, против урезания зарплаты, нищеты и голода. Речь шла о введении средней нормы пособия по безработице, продаже продовольствия неимущим по сниженным ценам, уплотнении жилплощади, которую занимали буржуазные элементы. К традиционному для левых партий требованию объявить амнистию всем политзаключенным авторы письма добавляли призыв к немедленному восстановлению дипломатических и торговых отношений с Советской Россией. Главным в обращении было то, чего там не было. Правление компартии отказалось от революционной риторики и нападок на руководителей германской социал-демократии, отдавая себе отчет в том, что очередная порция приевшихся обвинений не добавит компартии никаких симпатий. В основе новой тактики лежало не только стремление отстоять насущные интересы рабочих, но и курс на завоевание массовой базы СДПГ и находившихся под ее влиянием свободных профсоюзов. Возглавив после слияния КПГ и НСДПГ в конце 1920 года массовую рабочую партию, Леви решился на демонстрацию политической самостоятельности, играя ва-банк. Он уже несколько раз подавал заявления об отставке, и отказ Москвы принять новую тактику стал бы достойным поводом для того, чтобы бросить перчатку. В свою очередь Радек, находившийся в тот момент в Германии, видел в Открытом письме шанс пробить стену догматизма в руководстве РКП(б), которое ничего не хотело слышать о стратегическом отступлении в Европе. Этот шанс превратился в реальную перспективу после того, как его совершенно неожиданно поддержал Ленин: «Я видел только Открытое письмо и считаю его совершенно правильной тактикой (я осудил противоположное мнение наших „левых“, которые были против этого письма)»[391]. Под последними подразумевались Зиновьев и Бухарин, которые продолжали ревниво отслеживать коминтерновскую активность Радека. Коллективная отставка «левитов», случившаяся еще до мартовских событий, перечеркнула намечавшийся поворот КПГ к признанию политических реалий, связанных со становлением Веймарской республики. Так или иначе, «свержение Правления под руководством Пауля Леви в феврале 1921 завершило собой первый этап большевизации КПГ»[392]. Карл Радек оказался в ситуации мучительного выбора. На одной чаше весов находилась новая тактика, которая совпадала с его видением будущего коммунистического движения, на другой — явная нелояльность Леви, который расценил попытку поднять вооруженное восстание как «путч» левых радикалов. Это выглядело как открытая фронда против генеральной линии Исполкома Коминтерна, который устами своего эмиссара Бела Куна требовал от немецких коммунистов следовать «тактике наступления» любой ценой. Для Леви Кун, бездумно транслировавший указания Москвы, являлся «наполовину шутом, наполовину — преступником», об этом он прямо заявил членам Правления компартии. Принять непростое решение Радеку помог тот очевидный факт, что председатель КПГ, как и он сам, в рабочем движении являлся чужим среди своих. «Леви сплачивал людей против себя, даже тех, кто изначально был готов безоговорочно следовать за его политическим руководством. Вследствие этого он повсюду видел заговоры против себя самого», — писал в своих мемуарах член Правления КПГ Пауль Фрелих. Его товарищи и коллеги, вышедшие из рабочей среды, чувствовали на себе глубокое презрение человека, повседневное поведение которого выглядело для них как череда «аристократических аллюров»[393]. На заседании Исполкома Коминтерна, состоявшемся 22 февраля 1921 года, Радек был вынужден присоединиться к критике германской компартии, прибегнув к уничижительному сравнению: «Перед нами не массовая партия, а ребенок с рахитичными ножками и водянкой головного мозга»[394]. Еще не зная об отставке Леви (она была принята Правлением КПГ в тот же день), он продолжал защищать тактику Открытого письма. Его главным аргументом была ссылка на мнение Ленина. Однако на тот момент ЦК РКП(б) все еще оставался местом для дискуссий, и в дело вступили оппоненты слева. Не решаясь напрямую перечить вождю, Зиновьев назвал новую тактику «скорее литературным измышлением, нежели массовым движением». Его поддержал Бухарин: «В письме сказано: мы хотим, чтобы пролетариат жил. Это звучит комично. Разве мы живем для нового капитализма? Из этого вытекает только одно следствие, что коммунизм означает смерть»[395]. К. Б. Радек выступает с трибуны на Красной площади на митинге в честь предстоящего открытия Третьего конгресса Коминтерна
17 июня 1921
[РГАСПИ. Ф. 490. Оп. 2. Д. 46. Л. 1]
К. Б. Радек выступает с трибуны на Красной площади на митинге в честь предстоящего открытия Третьего конгресса Коминтерна
17 июня 1921
[РГАСПИ. Ф. 490. Оп. 2. Д. 46. Л. 1]
То, что представители РКП(б) при обсуждении вопроса о КПГ выступили на февральском заседании ИККИ единым фронтом, имело своей причиной тайное соглашение, о котором Радек «вспомнил» лишь два года спустя, в разгар конфликта между ним и его главными оппонентами в Коминтерне. Зиновьев и Бухарин обещали не дезавуировать новую тактику немецких коммунистов, изложенную в Открытом письме, а Радек в ответ закрыл глаза на авантюристические планы сторонников «теории наступления» в КПГ, поддержанных отправленными в Берлин московскими эмиссарами[396].

 Принятие тактики единого рабочего фронта было следствием сложного компромисса, достигнутого между соратниками В. И. Ленина в отсутствие вождя
Письмо К. Б. Радека Г. Е. Зиновьеву и Н. И. Бухарину
27 июля 1923
[РГАСПИ. Ф. 326. Оп. 2. Д. 21. Л. 18–23]
Принятие тактики единого рабочего фронта было следствием сложного компромисса, достигнутого между соратниками В. И. Ленина в отсутствие вождя
Письмо К. Б. Радека Г. Е. Зиновьеву и Н. И. Бухарину
27 июля 1923
[РГАСПИ. Ф. 326. Оп. 2. Д. 21. Л. 18–23]
Дипломатические компромиссы подобного рода, которые заключали между собой российские лидеры Коминтерна, резко контрастировали с их публичными заявлениями об открытости и прямолинейности пролетарской политики, которая противопоставлялась лживости закулисной дипломатии мирового империализма. После краха «мартовской акции» присоединение к доводам Леви означало бы для Радека не столько продолжение борьбы с «левизной» среди германских коммунистов, сколько разрыв пакетного соглашения с лидерами большевистской партии, более влиятельными, чем он сам. Не отличавшийся последовательностью и принципиальностью, он несколько дней выжидал исхода борьбы в руководстве КПГ. Если бы «левиты» получили поддержку большинства членов Правления, это привело бы к открытому конфликту между Берлином и Москвой. Кто знает, не увидел ли Радек в этом свой уникальный шанс выйти на авансцену международного коммунистического движения. Однако Леви остался в меньшинстве и покинул вначале пост председателя КПГ, а затем и саму партию, начав бескомпромиссную публицистическую борьбу с ее путчистскими настроениями. В брошюре «Наш путь», излагавшей обстоятельства конфликта, он давал эмоциональную характеристику руководящего ядра Коминтерна: «Исполком превращается в чрезвычайку, действующую за пределами России… Нынешнее состояние дел, быть может, нормально для Интернационала сект, но неприемлемо для Интернационала массовых партий»[397]. Выбор Радека был предопределен печальным опытом его поражений во внутрипартийных схватках довоенного периода. Ввязываться в безнадежную борьбу проигравшей фракции ему явно не хотелось, тем более что он был связан джентльменским соглашением с Зиновьевым. Он благополучно забыл о том, что писал о леворадикальном путчизме во время заключения в берлинской тюрьме Моабит: «Потребовался ряд кровавых уроков, чтобы передовые отряды пролетариата поняли весь вред местных выступлений и вооруженной борьбы против усиливавшейся капиталистической власти. Потребовались Бремен, мартовские беспорядки в Берлине и Мюнхенская катастрофа, чтобы покончить с путчистскими настроениями в первых рядах германского пролетариата»[398]. Попытка вооруженного восстания в Центральной Германии весной 1921 года наглядно показала, что подобные настроения далеко не изжиты. Отказ Радека от борьбы с ними продемонстрировал, что его тактическая гибкость превратилась в политическую беспринципность. Чтобы сохранить себя в обойме Коминтерна, Радеку пришлось выступать в роли кающегося грешника, проглядевшего скрытый оппортунизм Леви. «Я сказал себе: моя обязанность удержать его и бросить только тогда, когда он станет действовать против нас». Этот момент настал. «Плохая услуга германской партии, если мы не укажем ей на существование правого крыла», — заявил он на заседании ИККИ 4 апреля 1921 года. Представитель Правления КПГ Курт Гейер не остался в долгу, ответив, что речь идет не о скрытых оппортунистах, а о старых и проверенных кадрах, которые неоднократно выступали против путчистских настроений, видя в них путь в тупик. «Хотя товарищей Радека и Зиновьева трудно заподозрить в любви к сектантской партии, однако та борьба, которую они ведут против мнимого правого крыла, должна неизбежно повести к развитию сектантства»[399]. Силы были неравны, и чуда, подобного исходу борьбы Давида и Голиафа, не произошло. Стремясь отвести от себя удар, Радек в течение нескольких дней написал объемистую брошюру против Леви, послесловие к которой было датировано 1 мая 1921 года. История ренегатства «левитов» описывалась в том же самом духе, в котором будет развиваться сталинская идеология показательных процессов: враг партии — враг изначально, он лишь долгое время маскируется, скрывая свою гнусную личину. Согласно легенде, придуманной Радеком, его недавний соратник в корыстных целях втерся в доверие к Розе Люксембург, а возглавив компартию, оказался ни к чему не способным нытиком, который постоянно саботировал решения Коминтерна. Единственный упрек, который Радек адресовал самому себе, — он не сразу разглядел, что имеет дело с «политическим резонером, а не революционным борцом». Брошюра завершалась недвусмысленным ультиматумом в адрес тех партийных функционеров, кто скрытно или явно поддерживал свергнутого вождя: в Германии «для партии левых независимцев или правых коммунистов уже не осталось места»[400]. Ядовитый тон публицистики подобного рода вызвал возмущение только у Клары Цеткин[401], но ее мнение уже мало кого волновало.
2.12. Идея единого рабочего фронта
В своей брошюре, посвященной итогам Третьего конгресса, Зиновьев начал готовить компартии к признанию неприятных реалий — революционный кризис первых послевоенных лет закончился, нужно начинать длительную организационную работу по завоеванию на сторону коммунистов большинства рабочего класса[402]. Радек, прочитавший рукопись, написал Председателю ИККИ, что говорить о масштабном повороте Коминтерна «по существу неверно и тактически очень неудобно»[403]. Ситуация в Европе изменилась уже в 1919 году, сразу же после завершения демобилизационного кризиса, и политические оппоненты поставят в упрек коммунистам то, что они признали очевидные истины с таким опозданием. «Друзья же слева заявят, что прав был Троцкий, когда характеризовал работу Третьего Конгресса как тактику отступления». Радек явно лукавил, когда утверждал, что в политическом плане Третий конгресс был простым продолжением Второго и не изобрел никакой новой тактики коммунистов. Перемена курса была налицо, и ее отстаивал сам Ленин, ссылаясь среди прочего на Открытое письмо КПГ. «Я от своего ребенка, от тактики Открытого письма ничуть не отказываюсь», — подчеркивал Радек, прекрасно понимая, что его акции в Коминтерне после завершения конгресса резко выросли. Естественно, о вкладе Пауля Леви в разработку новой тактики после того, как тот был объявлен ренегатом и исключен из КПГ, предпочитали не говорить.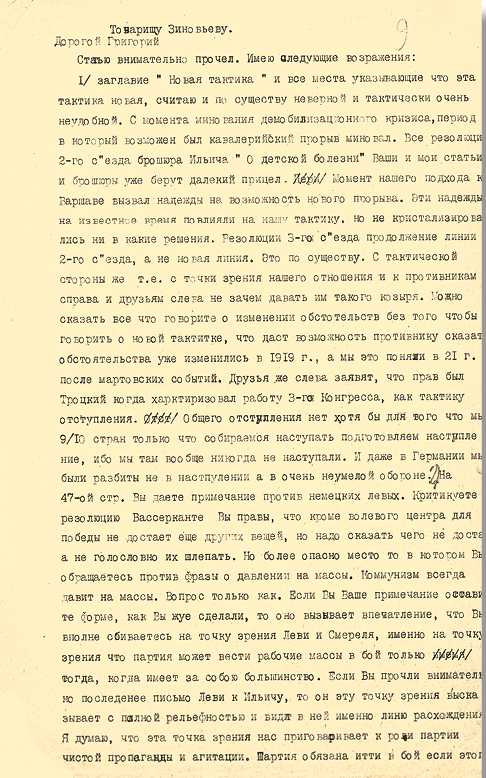
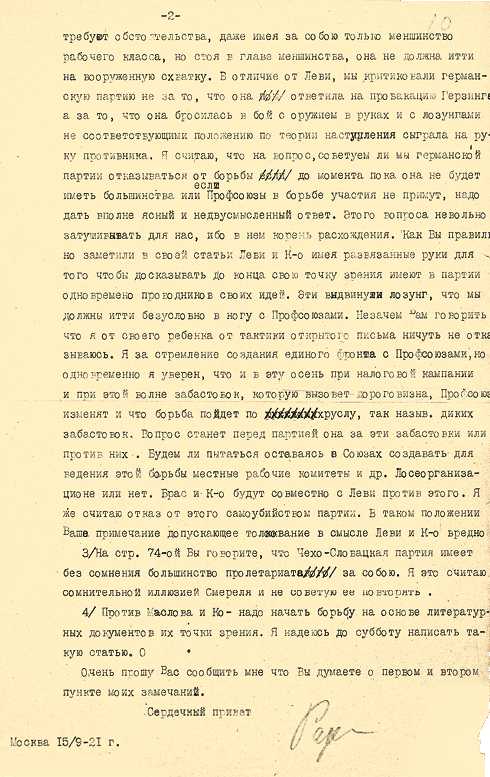 Критические замечания К. Б. Радека на пафосную оценку итогов Третьего конгресса, данную Г. Е. Зиновьевым
15 сентября 1921
[РГАСПИ. Ф. 324. Оп. 1. Д. 553. Л. 9–10]
Критические замечания К. Б. Радека на пафосную оценку итогов Третьего конгресса, данную Г. Е. Зиновьевым
15 сентября 1921
[РГАСПИ. Ф. 324. Оп. 1. Д. 553. Л. 9–10]
Леви, а заодно и чех Шмераль были упомянуты Радеком только в негативном плане как представители политического течения, называющего себя коммунистическим, но так и не ухватившего сути большевизма. «Более опасно то место, в котором Вы обращаетесь против фразы о давлении на массы. Коммунизм всегда давит на массы. Вопрос только, как. Если Вы Ваше замечание оставите в форме, как уже сделали, то оно вызовет впечатление, что Вы вполне сбиваетесь на точку зрения Леви и Шмераля, именно на ту точку зрения, что партия может вести рабочие массы в бой только тогда, когда имеет за собой большинство… Я думаю, что эта точка зрения приговаривает нас к роли партии чистой пропаганды и агитации»[404]. Тональность и содержание письма от 15 сентября 1921 года показывали, что Радек не просто вернулся на позицию «второго лица» в иерархии всемирной партии коммунистов, но и получил себе в вотчину оперативное управление германской компартией. На первом же заседании ИККИ после завершения Третьего конгресса Радек и Зиновьев схлестнулись при обсуждении практики отправки за границу эмиссаров с чрезвычайными полномочиями. Зиновьев согласился с тем, что в данной области сохраняется произвол, но свел проблему к самоуправству отдельных лиц. «Некоторые из наших людей, отправляющихся за рубеж для выполнения какого-нибудь технического задания, например, переправки литературы, сразу же по пересечении границы начинают чувствовать себя представителями Исполкома и мандат вырастает в их глазах. Чем дальше от Москвы, тем больше мандат. И тут совершаются великие глупости»[405]. Радек возмутился, поняв, что это камушек в его огород. Он заявил, что институт представителей — стержень нашей работы, и в данном случае Председатель ИККИ позволил себе выпад против организации, которую сам же и возглавляет. Что же касается недостаточной подготовки кадров, то «осел будет ослом и у нас, и в Испании». Подобные стычки были нередки в первые годы работы Коминтерна и не приводили к дисциплинарным последствиям, если не затрагивали интересы первых лиц в РКП(б). Летом — осенью 1921 года Радек пользовался полным доверием Ленина и мог считать себя неприкасаемым. Ему и пришлось проводить в жизнь линию на концентрацию сил в руководстве КПГ, которая подразумевала сотрудничество между оставшимися в партии «левитами» и левыми радикалами, захватившими лидерство в Берлинском окружном комитете КПГ. На партийном съезде в Йене (22–26 августа 1921 года) противоборствующие стороны дали соответствующие обещания. Радек имел все основания занести достигнутую победу на свой счет. 6 сентября 1921 года он писал Якову Рейху: «Партия объявила: да, мы совершили ошибки. В будущем мы будем в тысячу раз более осторожными, но мы хотим вести активную политику, никакая иная невозможна в нынешних условиях. Исход выборов в Правление означает, что бразды правления попали в руки активной части партии»[406]. В этих словах было нечто большее, чем удовлетворение бюрократа от удачно проведенного мероприятия. Главный куратор КПГ считал, что партия преодолела зону турбулентности и может ставить перед собой серьезные политические задачи. Международная обстановка и внутриполитическое положение Германии давали достаточно поводов для того, чтобы коммунисты обозначили свою позицию в вопросах текущей политики, вместо того чтобы подталкивать немецких рабочих к новым революционным боям. После того, как в мае 1921 года на Лондонской конференции были определены параметры репарационных платежей Германии, в стране резко выросла инфляция. С помощью печатного станка правительство пыталось залатать дыры в государственном бюджете, а заодно и обменять на международных биржах как можно больше национальной валюты для осуществления первых платежей. Номинальная зарплата рабочих росла, однако стоимость жизни ее неизменно обгоняла. Временный подъем экономической активности сменила затяжная рецессия, предприниматели переходили к бартерным сделкам, сокращали производство, что вело к росту безработицы, особенно среди молодежи. Россия также переживала один из переломных моментов своей истории. Революционная и государственная составляющая вмировоззрении и практической деятельности советского правительства все больше расходились между собой. В 1921 году участились конфликты ИККИ и Наркомата иностранных дел, которые выносились на заседания Политбюро ЦК РКП(б). В то время как коминтерновцы едва ли не открытым текстом обвиняли НКИД в саботаже собственной работы, Чичерин выдвигал в защиту своего ведомства неопровержимые аргументы: «Линия НКИД заключается в том, чтобы через миллионы трудностей благополучно прошла советская республика, цитадель мировой революции. Только с антибрестской точки зрения безразличия к существованию Советской республики можно эту линию отвергать… Все повсеместно смешивают РСФСР и Коминтерн, и несвоевременный шаг его может создать нам катастрофу»[407]. Гражданская война и политика военного коммунизма разрушили народное хозяйство страны, в Поволжье бушевал страшный голод. Зарубежные коммунисты прилагали немалые усилия для того, чтобы организовать международную кампанию помощи России, для этого были созданы специальные бюро в Москве и Берлине[408]. Исполком Коминтерна на своих заседаниях, посвященных организации кампаний солидарности с Советской Россией, рассматривал вопрос об обращении за поддержкой к Международному рабочему объединению социалистических партий (МРОСП), вошедшему в историю как Венский Интернационал[409]. Тем самым создавалась основа для совместных политических акций, которая в полной мере соответствовала духу и букве Открытого письма. Своеобразной формой помощи Советской России в годы нэпа стало направление в нее по путевкам КПГ квалифицированных рабочих, владевших новейшими технологиями, освоенными в германской промышленности. Одна из таких колоний сформировалась на московском Электрозаводе, где в течение нескольких лет смогла наладить производство ламп накаливания с вольфрамовой нитью[410]. Фактически речь шла об идейно мотивированном промышленном шпионаже, который сыграл не последнюю роль в индустриализации СССР. Ставка на идейных соратников делалась и при вербовке советской военной разведкой своих кадровых агентов. Документ соответствующего совещания, датированный 7 апреля 1921 го-да, давал однозначную установку: «1. Классовый характер войны, которую ведет Советская Россия с окружающими ее белогвардейскими государствами, создает необходимость постановки агентурной работы по отношению к государствам, обладающим развитым рабочим классом, на классовых началах… 2. Классовый характер агентурной работы выражается: а) в подборе агентов на основе партийности и классового происхождения; б) в самом широком содействии коммунистических организаций воюющих с нами государств»[411]. Комментируя этот и другие аналогичные документы, авторы сборника, посвященного становлению советской разведки, подчеркивают, что ее руководство «никогда не переоценивало помощи, оказываемой разведке со стороны организаций зарубежных компартий как в силу ограниченных возможностей по освещению важнейших военных объектов, так и в силу трудностей конспирации ведения разведывательной работы членами компартий даже при условии полного отхода их от активной партийной работы. Но тем не менее помощь зарубежных коммунистических партий военной разведке была весьма существенной, и, по сути дела, агентурные сети в некоторых странах были созданы при прямой помощи и поддержке коммунистических партий»[412]. Иностранные наблюдатели фиксировали произошедшую смену вех в российской внутренней и международной политике, пришедшуюся на рубеж двух десятилетий. Продолжавший сотрудничать с Радеком журналист и писатель Артур Рэнсом издал в 1921 году книгу, основанную на интервью с лидерами РКП(б). В ней он сформулировал нечто вроде теории конвергенции двух враждебных миров: «Только слепцы не видят того, что коммунистическая Европа меняется так же быстро, как и капиталистическая. Если нам удастся оттянуть начало их борьбы, то по истечению времени воинственные элементы на обеих сторонах забудут о причинах своего противостояния»[413]. Такие практики советского строительства, как Л. Б. Красин и А. И. Рыков, думают не о коммунистической утопии, а о том, как вырвать Россию из вековой отсталости. «Следует признать, что с громкими криками и огромным напряжением коммунисты делают в России то, что на их месте сделало бы любое другое правительство».
 К. Б. Радек и А. И. Рыков в кулуарах Третьего конгресса Коминтерна
23 июня — 12 июля 1921
[РГАСПИ. Ф. 490. Оп. 2. Д. 158. Л. 1]
К. Б. Радек и А. И. Рыков в кулуарах Третьего конгресса Коминтерна
23 июня — 12 июля 1921
[РГАСПИ. Ф. 490. Оп. 2. Д. 158. Л. 1]
Рэнсом имел в виду новую экономическую политику, которая вернула в страну рыночные отношения и материальный интерес, прежде всего для крестьянства, составляющего подавляющее большинство ее населения. С точки зрения английского журналиста, у Запада не было оснований для того, чтобы мешать модернизации России. Какое бы правительство не пришло после большевиков, оно либо будет проводить их политику — форсированными темпами преодолевать вековую отсталость, либо «позволит России и дальше превращаться в колонию». А это закончится тем, что «русская болезнь» перекинется на всю Европу[414]. Перемены во внутренней и внешней политике Советской России не могли не затронуть сферу Коминтерна. Менее чем через три года после его основания руководство РКП(б) признало крах надежд на «короткую перспективу», которая подразумевала победу рабочего класса в ключевых европейских странах уже в ходе Первой мировой войны или сразу же после ее окончания. «Война не завершилась непосредственно пролетарской революцией», — говорилось в резолюции о мировом положении, принятой на Третьем конгрессе Коминтерна. Новая тактика, вызревавшая на протяжении 1921 года и получившая название «единого рабочего фронта», в большей степени соответствовала как внешнеполитическим задачам Советской России, так и состоянию зарубежных компартий[415]. Левые радикалы и политические сектанты в коммунистическом движении, не желавшие идти на сотрудничество с близкими политическими силами, не без основания называли единый фронт «нэпом во всемирном масштабе». Напротив, рационально мыслящие политики и публицисты как в социалистическом движении, так и за его пределами ставили вопрос о том, не потерял ли смысл его организационный раскол, не приведет ли восстановление единого Интернационала к умножению его политической мощи. Обращаясь к большевикам в лице А. В. Луначарского, писатель В. Г. Короленко выражал мнение многих представителей либеральной интеллигенции на первом году нэпа: «Приходится задуматься о причинах явного разлада между западноевропейскими вожаками социализма и вами, вождями российского коммунизма. Ваша монопольная печать объясняет его тем, что вожди социализма в Западной Европе продались буржуазии. Но это, простите, такая же пошлость, как и то, когда вас самих обвиняли в подкупности со стороны Германии»[416].

 Записка В. И. Ленина в Политбюро ЦК РКП(б) о тактике Коминтерна в отношении международного меньшевизма
Не позднее 1 декабря 1921
[РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 22296. Л. 1–1 об.]
Записка В. И. Ленина в Политбюро ЦК РКП(б) о тактике Коминтерна в отношении международного меньшевизма
Не позднее 1 декабря 1921
[РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 22296. Л. 1–1 об.]
2.13. Сближение с социалистами
Курс на политическое сотрудничество различных отрядов рабочего класса стал лейтмотивом деятельности Венского Интернационала, который летом — осенью 1921 года выдвинул ряд конкретных инициатив, пытаясь усадить за стол переговоров коммунистов и социал-демократов. Осенью 1921 года Коминтерн также сделал первые шаги навстречу европейским социалистам, призвав рабочие партии к координации своих действий при сборе помощи голодающим Поволжья и в борьбе против белого террора в ряде европейских стран. Реагируя на сигналы из Москвы и из Лондона, печатный орган НСДПГ газета «Фрайхайт» 4 декабря 1921 года опубликовала план совместных действий всех рабочих партий для защиты немецкого рабочего класса от наступления предпринимателей. «Общность экономических интересов должна отодвинуть на задний план наши прошлые разногласия», — утверждалось в документе. Решение Политбюро ЦК РКП(б) от 1 декабря 1921 года, запустившее процесс перехода к новой тактике в Коминтерне, осторожно говорило о возможности «совместных действий с рабочими II Интернационала»[417], исключая его вождей, якобы давно и бесповоротно подкупленных буржуазией. Однако очень скоро стало ясно, что без них не обойтись. Первым это понял Радек, которому не впервой было подавать руку политическим противникам. Переворачивая ситуацию с ног на голову, он утверждал, что откат революционной волны приводит к тому, что для рабочих исчезают какие-либо надежды на реформы, улучшающие их материальное положение. «И если мы сейчас берем новый курс, то это не значит, что мы капитулируем перед Амстердамским, Вторым и Двухсполовинным Интернационалами, но мы подвергаем их такому испытанию, когда они вынуждены будут на глазах масс сбросить с себя маски»[418]. Такая формулировка, многократно растиражированная западной прессой, давала противникам Коминтерна повод для заявлений, что его лидеры отнюдь не стремятся помочь рабочему классу, а хотят только перетянуть его в свои ряды. Не было ясности и среди самих коммунистов. Протеже Радека в КПГ, недавно ставший лидером партии, Генрих Брандлер 4 декабря высказался против того, чтобы брать за основу стихийное движение и вносить сумятицу в представления о пути Коминтерна. «Следует возглавить массы и повести их за собой»[419]. Брандлер, Бестель и другие участники дискуссии повторяли тезис об опасности заражения компартий оппортунизмом, призывали к учету национальных особенностей (так, во Франции в тот момент не было сильной социалистической партии, зато было мощное движение анархо-синдикалистов, которое отказывалось от любых форм сотрудничества с реформистами). Итальянец Дженнари признал, что его партия не сможет объяснить простым рабочим, почему коммунисты вначале раскололи рабочее движение, а теперь предлагают социалистам сотрудничество. Аргументы приводились даже из сферы практического психоанализа: тяга к единству основана на психологии рабочего класса, и следование ей может привести тактический хаос в ряды компартий[420]. Э. Дженнари в Большом Кремлевском дворце
9 ноября — 5 декабря 1922
[РГАСПИ. Ф. 491. Оп. 2. Д. 134. Л. 1]
Э. Дженнари в Большом Кремлевском дворце
9 ноября — 5 декабря 1922
[РГАСПИ. Ф. 491. Оп. 2. Д. 134. Л. 1]
Ввиду волны протестов со стороны иностранных членов Исполкома[421] было решено провести еще одно заседание, посвященное имплементации новой тактики. По просьбе Зиновьева Радек прислал ему свои замечания к проекту резолюции о едином фронте, в которых сделал акцент на то, что борьба за него диктуется международным положением (банкротство Версальской системы, мировой хозяйственный кризис и т. д.). Дело не в разоблачении лидеров социал-демократии, а в завоевании идущих за нею рабочих, и здесь решающим фактором станет опыт совместной борьбы за свои насущные интересы. «В тех условиях, в каких находится сейчас рабочий класс, любая борьба, даже начавшаяся за частичные цели, будет иметь тенденцию к расширению и углублению, к постановке в повестку дня принципиальных вопросов пролетарской борьбы»[422]. На втором заседании ИККИ, посвященном новой тактике (18 декабря 1921 года), Радек настаивал на обращении к лидерам Венского Интернационала еще до созыва Расширенного пленума Исполкома, назначенного на весну следующего года: следует ковать железо, пока горячо, если мы начнем переговоры в марте, будет уже слишком поздно. Достаточно встретиться с лидерами зарубежных компартий, например, в Стокгольме, чтобы «довести дело до конца, либо они пойдут с нами, либо это останется первой попыткой»[423]. В своих выступлениях Радек признавал, что настроен пессимистически: «по моему личному мнению, 90 % за то, что нам не удастся прийти к рабочему правительству»[424]. Тем не менее наш герой с жаром принялся за дело. 6 декабря 1921 года он обратился со специальным письмом к Правлению КПГ, призывая его членов без колебаний принять новый курс[425]. 21 декабря они единогласно одобрили тезисы ИККИ о едином рабочем фронте, а через день газета «Роте Фане» опубликовала предложение о созыве совместной конференции трех рабочих Интернационалов. Для того чтобы успокоить лидеров компартий, увидевших в едином рабочем фронте завуалированный роспуск Коминтерна, и в то же время завоевать доверие руководства социал-демократических партий, Карл Радек отправился в один из своих самых длительных вояжей по европейским странам. В своих донесениях он признавал, что зарубежным коммунистам не удалось ни прорвать изоляцию Советской России, ни убедить трудящиеся массы в преимуществах советского строя. «Было бы неслыханно полезно, чтобы нас рабочие видели в Западной Европе, а также, чтобы Вы видели наших людей не в московской обстановке. Эти настроения — безусловные результаты нашего отступления. Люди ожидали, что мы сумеем чудо сделать, а оказывается, что это не умеем»[426]. Отстаивая «европейский стержень» коммунистического движения, посланец Коминтерна в общении с лидерами зарубежных компартий вел себя так, как полководец со своими подчиненными. Радек не был по своей натуре авторитарным человеком, однако время, проведенное им в чрезвычайных условиях Гражданской войны в России, где была достигнута высокая степень милитаризации общественной жизни, делало свое дело. Сразу же по приезде в Берлин он принялся бесцеремонно давить на лидеров французской компартии, выступавших наиболее последовательными оппонентами новой тактики, предложенной большевиками. Не скрывая своих начальственных амбиций, наш герой следующим образом докладывал об итогах своей встречи с делегацией ФКП, которую возглавлял сам Марсель Кашен. «В вопросе о едином фронте разногласия [оказались] очень велики, поэтому я затребовал от Кашена поездки в Москву. После долгих дискуссий я сказал ему, что отказ вызовет кризис нашего доверия к нему. Кашен обязался ехать»[427]. Все это напоминало процесс наставления грешника на путь истинный, не случайно многие из лидеров зарубежных компартий воспринимали вызовы на заседания Исполкома Коминтерна как «путь в Каноссу».
 «Буржуазная конференция в Генуе является новым Версалем», — под таким лозунгом Коминтерн готовил зарубежные компартии к акциям протеста
Письмо К. Радека в Президиум ИККИ
31 января 1922
[РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 156. Д. 51. Л. 2]
«Буржуазная конференция в Генуе является новым Версалем», — под таким лозунгом Коминтерн готовил зарубежные компартии к акциям протеста
Письмо К. Радека в Президиум ИККИ
31 января 1922
[РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 156. Д. 51. Л. 2]
В Германии Радек в очередной раз сменил свое амплуа, сосредоточившись на контактах с немецкими военными и дипломатами, чтобы помочь оформлению позиции Советской России на предстоявшей в апреле международной конференции в Генуе. Зиновьев в характерной для себя манере отрицал очевидное, когда говорил делегатам Одиннадцатого съезда партии, что внешнеполитический фактор не играл для Коминтерна никакой роли: преодолевая отвращение, мы пошли на контакт с социал-демократами «в силу интересов международного рабочего движения, а не в силу эгоистических, узких интересов наших, как Советской страны»[428]. Однако буквально в следующем предложении ему пришлось признать, что главным препятствием для налаживания сотрудничества является русский вопрос. Речь шла о репрессиях против российских социалистов — меньшевиков и эсеров. Радек принимал самое активное участие в подготовке легендарной встречи трех рабочих Интернационалов в Берлине, которая состоялась 2–5 апреля 1922 года[429]. О том, насколько тщательно готовилась к ней делегация Исполкома Коминтерна, свидетельствует тот факт, что все ее заседания стенографировались. Наш герой докладывал об обстановке, в которой в последний день марта прошло техническое совещание сторон: выступавший от имени венцев «Адлер пошел навстречу нам с распростертыми объятьями, а с представителями Второго Интернационала мы даже не обменялись рукопожатиями». Он предложил в случае обвинений со стороны последних немедленно прервать заседание, а потом потребовать дать слово представителям отдельных компартий, чтобы те «перечислили грехи Второго Интернационала в своих странах». Клара Цеткин остудила полемический запал главного докладчика, отметив, что это грозит срывом берлинской встречи, которая имеет только предварительный характер. «Нам нужна большая конференция, где дебаты найдут гораздо больший отклик в массах»[430]. После первого дня работы встречи, в ходе которой стороны обменялись перечнем взаимных обвинений, стало ясно, что обхитрить «прислужников мировой буржуазии» не удастся и придется либо хлопнуть дверью, либо пойти на односторонние уступки. Радек, поддержанный Бухариным, предложил ультимативно поставить вопрос о том, готовы ли делегации двух других Интернационалов в дальнейшем обсуждать исключительно вопрос о подготовке будущего рабочего конгресса, отставив в сторону все остальное. Нужно получить ясный ответ, «будут ли другие делегации вести переговоры или только дискутировать. При этом мы можем сказать, что дальнейшая дискуссия будет означать крах конференции»[431]. О том, что между позициями вчерашних соратников по борьбе за освобождение рабочего класса теперь находилась непреодолимая пропасть, свидетельствовала итоговая оценка, данная делегацией Коминтерна тому, как социалисты относились к одному из самых спорных вопросов — грузинскому. В ее отчете говорилось буквально следующее: «Если Отто Бауэр [лидер австрийских социалистов. — А. В.] вместе с Рамзеем Макдональдом [лидер лейбористской партии. — А. В.] принципиально выступал против „завоевания“ Грузии Советской Россией, то это показывает, что Венское рабочее сообщество не в состоянии оценивать положение в мире с точки зрения интересов пролетарской революции. Для него любая армия является милитаризмом, служит ли она интересам капитала или мировой революции. Как штык является штыком, так для них и любое нападение является нападением, заслуживающим морального осуждения… Разве представителей категорического императива занимает вопрос о защите нефтяных источников русской революции?»[432]
 После Берлинской встречи трех Интернационалов Коминтерн настаивал на скорейшей реализации принятых в ее ходе решений
Телеграмма К. Радека Ф. Адлеру
20 апреля 1922
[РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 18. Д. 86. Л. 18]
После Берлинской встречи трех Интернационалов Коминтерн настаивал на скорейшей реализации принятых в ее ходе решений
Телеграмма К. Радека Ф. Адлеру
20 апреля 1922
[РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 18. Д. 86. Л. 18]
О том, что «советизация» Грузии была необходима для того, чтобы вернуть России бакинскую нефть, на пленарном заседании берлинской встречи говорил Карл Радек. С полным основанием и этот длинный пассаж, смешавший в одну кучу классовый анализ, геополитические интересы и философский императив Канта, следует признать его творением. В первые годы после революции большевики многие вещи называли своими именами, хотя уже начинали брать их в кавычки. Напомним, что Ленин пенял нашему герою за то, что у того слишком длинный язык. Но подобные аллюры Радека не вызвали и тени порицания у лидера Советской России. Встреча трех Интернационалов ежеминутно грозила разрывом, но все же завершилась принятием заключительной декларации, которая открывала перспективу совместных действий всех течений международного рабочего движения. Несмотря на то, что позиция делегации Коминтерна, которую возглавляли Радек и Бухарин, была раскритикована Лениным, Политбюро ЦК РКП(б) не дезавуировало итоги встречи[433]. Радек не мог не оставить за собой последнее слово. 15 апреля 1922 года он направил членам Политбюро письмо, в котором выразил надежду на то, что при внимательном рассмотрении протоколов берлинской встречи «вы признаете, что мы были принципиально правы, не допуская срыва конференции на русских делах, но и что мы никакой высокой цены не уплатили». «Я считаю, что в данной стадии развития всякая зубодробительная линия означает срыв этих слабых связей, которые удалось завязать»[434], — подчеркнул коминтерновский дипломат, позволив себе в данном случае не согласиться с ленинской линией.
 Ответ О. Вельса на телеграмму Исполкома Коминтерна с призывом к совместным действиям до окончания Генуэзской конференции
22 апреля 1922
[РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 18. Д. 86. Л. 19]
Ответ О. Вельса на телеграмму Исполкома Коминтерна с призывом к совместным действиям до окончания Генуэзской конференции
22 апреля 1922
[РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 18. Д. 86. Л. 19]
Если «русский вопрос» был фактором отчуждения Москвы от Лондона и Вены, то открывшаяся 10 апреля Генуэзская конференция объективно являлась полем их политического сотрудничества. Оставшийся в Берлине Радек предпринимал максимум усилий для того, чтобы организовать совместные выступления рабочих партий Германии в поддержку советской дипломатии. 20 апреля 1922 года, сообщая Адлеру о ратификации Исполкомом Коминтерна итогов берлинской встречи, он добавлял: «По поручению Исполкома я вношу предложение о скорейшем созыве комиссии девяти для оценки ситуации, возникшей в Генуе. Отказ от дискуссии по разоружению, требование союзников уничтожить все социальные достижения русской революции, отношение союзников к русско-германскому договору показали, насколько опасно дальнейшее откладывание всемирного конгресса рабочего класса… Русская революция буквально находится под угрозой западной дипломатии. В этой ситуации потерять даже одну неделю было бы предательством интересов международного пролетариата»[435]. Чувствуя ветер в парусах, Радек усилил свое давление и на Москву. В случае если Политбюро откажется поддержать выработанную им и Бухариным линию, он потребовал немедленного отзыва из Берлина, что было равнозначно угрозе отставки. Социал-демократические контрагенты Коминтерна, напротив, не спешили, предпочитая не вступать в конфликт со своими правительствами до выяснения итогов Генуэзской конференции. 10 мая 1922 года Радек сообщал в Москву, что социал-демократы «девятку созовут, но будут тянуть со съездом до результатов процесса [эсеров. — А. В.]. Съезда они не хотят, но боятся отклонить, ибо идея становится с каждым днем все более популярной среди рабочих. Поэтому будут ждать, что им процесс даст возможность отклонить. Главная задача теперь: тут организовать нажим в массах. Это будет туго, ибо организационные способности наших людей минимальны»[436]. Боевая ничья по итогам встречи трех Интернационалов привела его к выводу, что Коминтерн начал политику единого рабочего фронта не с того конца — вначале нужно было показать ее практическую пользу в отдельных странах, не выходя на общеевропейский уровень. Единственная встреча комиссии девяти состоялась 23 мая 1922 года, когда Генуэзская конференция уже завершила свою работу. Радек сообщал в Москву, что все было решено заранее — после того, как лондонцы уговорили венцев принять участие в особом конгрессе в Гааге, не пригласив на него делегацию Коминтерна, разрыв представлялся лишь делом техники. Для социалистов поводом стало подавление меньшевистских восстаний в Грузии, для коммунистов — нежелание партнеров принимать на себя обязательства по проведению всеобщего рабочего конгресса[437]. Верный себе, по возвращении в Москву Радек добавил сюда еще и геополитическую составляющую: «Социальный смысл условий Второго и Двухсполовинного Интернационалов состоял в следующем: если вы хотите, чтобы мы вместе боролись против наступления капитала в Западной Европе, отдайте украинскую пшеницу, кавказскую нефть и т. д. мировому капиталу». Напротив, обещание делегации Коминтерна не применять смертную казнь по итогам процесса над эсерами объяснялось желанием «опровергнуть мнение отсталых масс, что с такими кровожадными людьми невозможно вступить в единый фронт»[438]. После того, как на заседании 23 мая лейборист Макдональд и Карл Радек зачитали ультиматумы своих Интернационалов[439], обвинив друг друга в срыве апрельских соглашений, комиссия девяти тихо скончалась. Этот день стал воистину «черным вторником» европейского рабочего движения, хотя он лишь превратил в свершившийся факт накапливавшиеся годами тенденции взаимного отчуждения. Только равноправное, основанное на разумном компромиссе соглашение руководства Интернационалов могло бы в тех условиях обеспечить единый рабочий фронт. Последующие попытки и Коминтерна, и Рабочего социалистического интернационала (РСИ)[440] создать такой фронт только снизу являлись, по сути дела, отрицанием идеи политического сотрудничества всех европейских социалистов. Зиновьев на протяжении нескольких последующих лет претендовал на то, чтобы связать выработку новой тактики уж если не со своим именем, то как минимум с инициативой Ленина, всячески пытаясь отодвинуть Радека на второй план. Это стало гораздо легче после того, как последний присоединился к Троцкому и получил категорический запрет на вмешательство в дела «левого» руководства КПГ. Председатель Коминтерна прибегал к историческим аналогиям, предупреждая его лидеров, что очень боится «голого отрицания единого фронта (чем охотно занимается Рут Фишер). Тактику единого фронта не Радек выдумал — Радек только извратил и опошлил ее. Тактику эту выдвинул и обосновал Ленин»[441]. Переписывание прошлого в угоду настоящему являлось для левых радикалов любой эпохи необходимым условием политического выживания, и лидеры большевизма владели им в совершенстве.
2.14. Вновь на дипломатическом паркете
Для Радека, который не был способен слишком долго сосредоточиваться на одной задаче, попытка налаживания сотрудничества трех рабочих Интернационалов оказалась не более чем эпизодом борьбы коммунистов за место под солнцем. Он не упоминал о ней ни в публицистике, ни в публикациях своих речей и статей. Очевидно, его задела за живое резкая, несправедливая по сути критика Ленина за излишнюю уступчивость, как и любой другой человек, наш герой не любил чувствовать себя мальчиком для битья. Не нравились ему и ежедневные директивы Зиновьева, выдержанные в безапелляционном тоне: к моменту начала суда над эсерами необходимо прибыть в Москву, «но пока Вам важно быть в Берлине для налаживания кампании по поводу процесса социалистов-революционеров»[442]. Сказывалось и то, что после берлинской встречи трех Интернационалов Радек выступил на закрытом мероприятии КПГ и тут же получил предупреждение германского правительства, что в случае повторения подобного будет выслан из страны[443]. Второй раз уходить на нелегальное положение и рисковать очередным арестом Радеку уже не хотелось. Гораздо безопасней было метать громы и молнии в адрес Второго Интернационала, на руках которого кровь миллионов убитых и покалеченных в мировой войне, сломанные судьбы революционеров, томящихся в буржуазных застенках, и т. д. Так выглядело прощальное письмо делегации Коминтерна на берлинской встрече, написанное, очевидно, Радеком, и обращенное к лейбористам. Срыв всемирного рабочего конгресса поставил на кон судьбу 47 эсеров, обвиненных на московском процессе в преступлениях, за которые им грозила смертная казнь. «Головы подсудимых для вас — не более чем разменная момента, звоном которой вы закрываете глаза политических детей на свой собственный постыдный союз с буржуазией»[444]. Полемика подобного уровня не оставляла надежд на то, что рациональные доводы сторонников тактики единого рабочего фронта заглушат треск ее пропагандистской упаковки. Оставив борьбу за единство рабочих организаций, Радек моментально переключился на работу, которую вел с лета 1921 года и которую на какое-то время отставил на второй план — завязывание деловых контактов с военной и политической элитой Веймарской республики. Фактически это было второе издание «моабитского салона», правда, на сей раз Радек находился на свободе и выступал в роли не столько члена тайной организации революционеров, сколько представителя великой державы, пытавшейся вернуть себе законное место в европейском концерте. Его цинизм и хладнокровие, равно как и способность в нужный момент снять идеологические шоры и называть вещи своими именами, пришлись ко двору немецким генералам, которые мечтали о реванше за поражение в Первой мировой войне, но не решались открыто разорвать Версальский договор, запрещавший Германии иметь военную индустрию и современную армию с танками и авиацией. И то, и другое можно было получить, наладив сотрудничество с другим «парием Версаля» — Советской Россией[445]. Для Москвы же не было ничего более желанного, чем клин, вбитый между вчерашними врагами. На марксистско-коминтерновском новоязе это называлось «использованием межимпериалистических противоречий», и Радек в данных вопросах неоднократно проявлял свои недюжинные способности. Уже в августе 1921 года вопрос о подписании тайного договора с германскими военно-промышленными кругами был согласован, и он информировал Кремль (стиль нашего героя все еще выдавал в нем иностранца и неофита): «Если цель наша — иметь дело с германским консорциумом, дабы воспользоваться им против антантовского и не допустить создания монопольного положения антантовского капитала — будет наперед уничтожена, то положение наше будет более затруднительное. Военные круги боятся этого, ибо это означает, что они будут отшиты от дела и никакая военная индустрия не будет создана… Принимая предложение Коппа[446], Политбюро руководствовалось двумя моментами: стремлением создать конкуренцию трестов, второе — поддержать в Германии клику, так или иначе враждебно настроенную по отношению к Антанте»[447]. Своим соратникам К. Радек казался «летучим голландцем», коммивояжером мировой революции пролетариата
Шарж В. Дени
1922
[Из открытых источников]
Своим соратникам К. Радек казался «летучим голландцем», коммивояжером мировой революции пролетариата
Шарж В. Дени
1922
[Из открытых источников]
Как видно из приведенной цитаты, в общении со «своими» наш герой прекрасно обходился и без лексикона классовой борьбы. В тот же день 10 мая 1922 года, когда Радек сообщал в Коминтерн о перспективе созыва «девятки», он в совершенно ином ключе доносил до руководителей Советской России свои мысли об угрозе новой интервенции, если международная конференция будет сорвана. Он изложил им позицию руководства рейхсвера, которое «боится, что в случае срыва в Генуе мы впутаемся в войну с Польшей, из которой поляки выйдут победителями, ибо имеют теперь громадный материальный интерес»[448]. Можно не сомневаться в том, что подобные предупреждения побуждали советское правительство к особой осторожности на международной арене, хотя делал их человек, отвечавший за продвижение вперед мировой революции. Эмиссар Коминтерна проявлял недюжинную работоспособность, справляясь с растущим потоком поручений из Москвы. После просьбы выступить на съезде компартии Норвегии он не без кокетства заявил: «Мне уж так надоела заграница, что если меня принудите туда ехать, то решусь родить ребенка, дабы отказаться от поездки»[449]. Радека хорошо знали на Западе, он часто выступал в роли посла по особым поручениям, формально не имевшего отношения к внешнеполитическому аппарату Советской России. Это развязывало ему руки, а еще больше — язык. Впрочем, и высокопоставленные западные дипломаты, и лидеры социалистических партий успели привыкнуть к enfante terrible с всклокоченной шевелюрой и неизменной трубкой во рту. Его карикатурный образ с трудом вписывался в масштаб переговоров, в которых Радек принимал самое активное участие, не особо утруждая себя соблюдением дипломатического этикета. Так, во время бесед с немецкими промышленниками он откровенно шантажировал их тем, что Советская Россия может получить займ и от держав Антанты: «Я им заявил, что такая мелочь, как 50 или 60 миллионов золотых марок… не может повлиять на нашу политическую позицию, что они заинтересованы в том, чтобы дать нам этот заем, ибо, когда капиталисты других стран, более сильных, начнут работать с Россией, то для немцев может оказаться [там] мало места»[450]. Любитель порассуждать о «достоевщине», Радек в данном случае напоминал не Карамазова, а Хлестакова. Но даже если убрать из его донесений в Москву очевидную браваду, несомненно то, что в 1921–1922 годах он играл существенную роль в процессе восстановления советско-германских отношений. Радек лоббировал и приветствовал назначение Мальцана, с которым был в хороших отношениях, на пост главы «русского отдела» германского МИД[451]. Неформальные контакты с представителями военной и предпринимательской элиты в условиях «чехарды кабинетов» Веймарской республики делали его неотъемлемым шарниром при налаживании деловых контактов двух стран. Весной 1922 года он стоял у истоков их военного сотрудничества, в рамках которого в России появились авиазаводы и военные полигоны для тайного перевооружения рейхсвера[452]. Неоспоримо участие Радека в подготовке и заключении Рапалльского договора 16 апреля 1922 года[453]. Иностранные наблюдатели относили Радека к числу «германофилов» в правящих кругах Советской России[454]. Но прежде всего он оставался самим собой. Его неосторожные высказывания в прессе постоянно вызывали протесты иностранных держав, которые доставляли не только самому Радеку, но и его покровителям в Кремле явное удовольствие. На любой полемический выпад в советской прессе, направленный против правящих кругов той или иной страны, нарком Чичерин с чистой совестью мог заявить, что это «частное мнение независимого журналиста». Накануне Генуэзской конференции впервые в советской истории произошло сближение внешнеполитической и коминтерновской линии, которые до того находились в состоянии пульсирующего конфликта[455]. Это обстоятельство в значительной мере расширило поле маневра для Радека, который в контактах с военными выступал как Константин Ремер, а в коммунистической прессе фигурировал под именем Карла Бремера. Новую попытку установить единый рабочий фронт, на сей раз в национальном масштабе, который Радек считал решающим, стимулировало убийство правыми радикалами министра иностранных дел Вальтера Ратенау. Социалистические партии и профсоюзы подписали 27 июня 1922 года соглашение о единстве действий, в рамках которого смогли договориться о проведении общих демонстраций и политических стачек в защиту Веймарской республики. В Берлине в день похорон Ратенау не работало ни одно предприятие, на улицы вышли, по разным оценкам, от 600 тысяч до 800 тысяч демонстрантов.
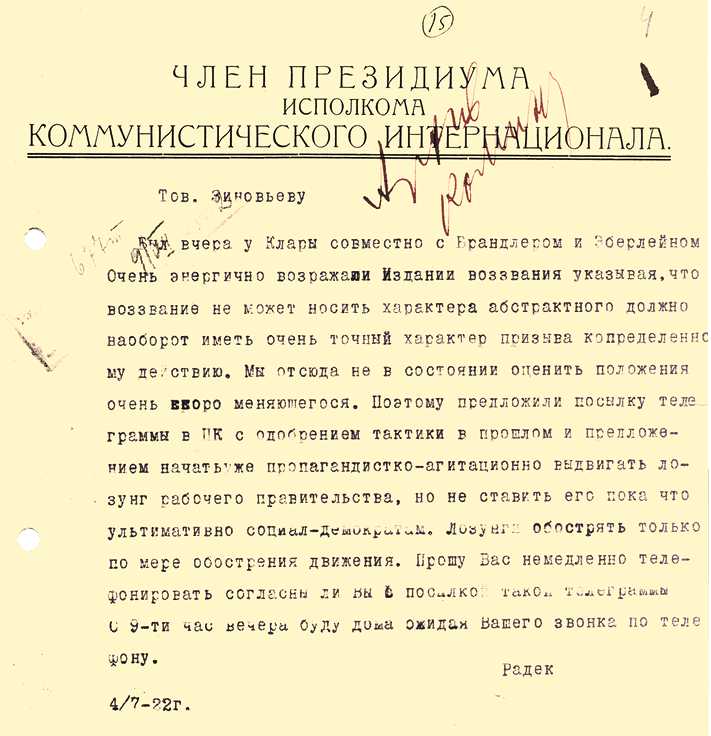 В борьбе за лидерство в Коминтерне К. Радек опирался на поддержку лидеров германской компартии, которых считал «своими кадрами»
Письмо К. Б. Радека Г. Е. Зиновьеву
4 июля 1922
[РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 156. Д. 51. Л. 4]
В борьбе за лидерство в Коминтерне К. Радек опирался на поддержку лидеров германской компартии, которых считал «своими кадрами»
Письмо К. Б. Радека Г. Е. Зиновьеву
4 июля 1922
[РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 156. Д. 51. Л. 4]
Вернувшись под опеку Радека, который блокировал любое проявление левацких тенденций, Правление КПГ летом — осенью 1922 года сделало еще один важный шаг к расширительному толкованию единого рабочего фронта. По итогам переговоров с Кларой Цеткин, Брандлером и Эберлейном, которые состоялись в начале июля в Москве, Радек предложил «начать уже пропагандистски-агитационно выдвигать лозунг рабочего правительства, но не ставить его ультимативно социал-демократам»[456], т. е. использовать пока только как инструмент для подталкивания влево представителей СДПГ в земельных правительствах.

 «Очень скучно сидеть в Европах». Отчет Радека об участии в Гаагском конгрессе лидеров социал-демократических партий и профсоюзов
17 декабря 1922
[РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 156. Д. 51. Л. 7–10]
«Очень скучно сидеть в Европах». Отчет Радека об участии в Гаагском конгрессе лидеров социал-демократических партий и профсоюзов
17 декабря 1922
[РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 156. Д. 51. Л. 7–10]
Полигоном для апробирования идеи формирования правительства из рабочих партий стала Саксония, где у социалистов традиционно имелись сильные позиции. Местная организация КПГ на первых порах поставила перед Правлением партии вопрос о поддержке саксонского правительства, состоящего из социал-демократов, без участия в нем самом. Выборы 5 ноября 1922 года усилили позиции фракций СДПГ и КПГ в ландтаге Саксонии, две партии получили 51 депутатский мандат из 96[457]. Впервые коминтерновская идея образования правительства «по ту сторону от буржуазии» с соблюдением всех правил парламентской демократии получила шанс своего практического воплощения. В самом конце 1922 года, который он практически полностью провел за рубежом, Радек участвовал в Европейском антивоенном конгрессе в Гааге. Его организовало Амстердамское объединение профсоюзов, находившееся в орбите Второго Интернационала. Несмотря на то, что в этой сфере открывалась благоприятная перспектива совместных действий, конкретных договоренностей так и не было достигнуто. Радек, с одной стороны, высказывал крамольную мысль о том, что раскол профсоюзов по партийному признаку привел к падению их влияния[458]. С другой, пытался уложить объяснение этого факта в прокрустово ложе классового анализа: реформисты «убеждены, что период революции окончен, что Советская Россия поворачивает направо и что РКП повернет направо. Так же, как Ллойд Джордж надеялся ускорить эволюцию Советской России допущением ее в так называемую семью наций… так же они надеются способствовать поправению русских рабочих, допуская их на международные съезды»[459]. Когда стало ясно, что поворот России к нэпу не привел к термидорианскому перерождению или хотя бы к «поправению» большевистского режима, на Западе «наступила полоса некоторого преходящего охлаждения к русскому вопросу», — констатировал Радек[460] в одной из своих аналитических записок. В отличие от руководства Наркоминдела он давал скорее пессимистичную оценку расчетам на возобновление экономического сотрудничества новой России и остальных европейских держав, даже если не принимать в расчет политические риски, иностранный капитал вряд ли будет взращивать себе опасного конкурента, да и не обладает он в условиях послевоенного экономического кризиса свободными миллиардами. Радек, в отличие от граждан Советской России, не имевших реального представления о положении дел в мире и продолжавших жить в условиях пропагандистского ожидания близкой мировой революции, постоянно просился на свою новую родину. «Очень скучно сидеть в Европах», где ничего не происходит, сообщал он в том же письме. События наступавшего года вскоре убедят его в обратном. Пока же, коротая дни в Берлине перед тем, как выехать в Норвегию, Радек имел возможность поразмыслить о новых угрозах, которые несла с собой послереволюционная эпоха. Для него прошедшие годы стали крахом надежд не на мировую революцию, а на реформы, завоеванные демократическим путем. 23 декабря 1922 года Радек писал Зиновьеву, что немецкая социал-демократия, уступившая лидерство буржуазным партиям, вполне мертва, «в связи с этим я считаю опасность фашизма в Германии совершенно реальной». Он справедливо отметил, что нацисты обратили свое внимание на рабочий класс, демонстрируя среди прочего и свое пролетарское происхождение («глава баварских фашистов Киттлер — бывший рабочий маляр», — продолжал Радек, издеваясь над художественными поисками раннего Гитлера[461]). Прошедший год вымотал посланца Коминтерна и неформального дипломата, жаловавшегося в Москву: «…я не только не отдохнул, но еще и обалдел, и когда вернусь, не будете иметь много пользы от моего трупа»[462]. Впрочем, с трупом пришлось повременить — на следующий день после написания этих строк Франция и Бельгия оккупировали Рурский бассейн под предлогом того, что Германия отказывается выплачивать возложенные на нее репарации. Радеку пришлось оставить мечты о том, что съезд КПГ, который был запланирован на 28 января 1923 года, сможет состояться без него[463]. Главный экспериментатор на немецком полигоне мировой революции, он так и не смог покинуть ее передовых рубежей. А ведь еще в первые дни нового года казалось, что поверженная Германия отходит на второй план среди беспокойных чад Версальской системы. Исполком Коминтерна на своем заседании 3 января 1923 года признал, что алгоритм дальнейших событий в Европе задан победой партии Муссолини в Италии[464], которая рано или поздно найдет свое повторение и в других странах. В русле единого рабочего фронта ИККИ принял решение о создании международного Фонда борьбы против фашизма, предложив Лондонскому и Амстердамскому Интернационалам разработать совместную программу антифашистских действий. Как и другие политические силы, Коммунистический Интернационал ощупью двигался к пониманию сущности такого политического феномена, как фашизм, соединявшего в своей пропаганде антикапиталистическую риторику и крайний национализм, граничивший с шовинизмом. В 1923 году «рабочий маляр Киттлер» впервые прогремит на всю Германию, хотя его «пивной путч» окажется жалкой копией похода на Рим Бенито Муссолини. Трудно обвинять политических деятелей прошлого в том, что они не обладали даром предвидения. Пройдет еще десять лет, и Германияпогрузится в пучину нацистского варварства, заставив Коминтерн отодвинуть в сторону свой курс на захват власти коммунистами.
 Рабочие оккупированного Францией Рура ждут помощи от своих русских братьев
Плакат
1923
[Из открытых источников]
Рабочие оккупированного Францией Рура ждут помощи от своих русских братьев
Плакат
1923
[Из открытых источников]
2.15. Оккупация Рура и реакция Коминтерна
11 января 1923 года, когда истек срок ультиматума с требованием немедленного погашения долга по репарациям, который был предъявлен германскому правительству державами Антанты, французские и бельгийские войска начали оккупацию Рурского бассейна. Там находился главный центр угледобычи и металлургии страны, билось ее «пролетарское сердце», как писала рабочая пресса. В Берлине разразился острый внутриполитический кризис. «Техническое правительство» Вильгельма Куно, начавшее свою работу в ноябре предшествующего года, продолжало делать ставку на пассивное сопротивление планам Антанты по выжиманию из Германии репараций. Чтобы покрыть выпадавшие из-за потери Рура доходы бюджета и не позволить оккупантам выкачивать оттуда репарации в натуральной форме, Куно провозгласил политику пассивного сопротивления. Шахтерам и металлургам, чиновникам и учителям продолжали выплачивать зарплату, если они саботировали распоряжения оккупационной администрации. Для того, чтобы обеспечить финансирование этой тактики, на полную мощь был включен печатный станок, и Германия погрузилась в период галопирующей инфляции. Стоимость немецкой марки, курс которой к началу оккупации Рура держался в районе 20 тысяч за доллар, в мае упала вдвое. После этого национальная валюта перешла в состояние свободного падения, и в середине августа за один доллар (обменные пункты возникали, как грибы после дождя, в любой подходящей будке каждого берлинского парка, вспоминали жившие в Берлине русские эмигранты) давали уже 3 млн марок. Крах гордившейся своей прочностью «рейхсмарки» в повседневной жизни каждого немца был не меньшим унижением, чем военное поражение 1918 года и Версальский диктат. Тактика единого рабочего фронта в этих условиях могла бы получить новое, «национальное» измерение. КПГ уже 10 января, т. е. до начала перехода франко-бельгийских войск через Рейн, призвала к всеобщей стачке, но ее проигнорировали. Газета «Роте Фане» накануне оккупации продолжала выдавать стандартные лозунги: только рабочее правительство сможет отстоять национальные интересы Германии, а это будет означать «конец буржуазной германской нации как инструмента господства и эксплуатации»[465]. Для коммунистов совершенно немыслимо было пойти на мировую с правящими кругами Германии. В то же время объявление нейтралитета в конфликте германских и французских империалистов угрожало упреками в предательстве национальных интересов. В ожидании руководящих указаний Москвы руководство КПГ занималось агитационной гимнастикой, осваивая шпагат между классовой линией и национальными интересами. Мы присоединяемся к сопротивлению рабочих, которые отказываются отгружать уголь французам, но это не означает для нас единства с германскими империалистами, утверждала партийная пресса. В ответ на активизацию правых радикалов, которые устраивали подрывы железных дорог, делали несудоходными реки и каналы, коммунисты усилили антифашистскую агитацию, предлагая создавать рабочие отряды самообороны. Ряд земельных организаций СДПГ, где доминировали левые элементы (Саксония, Тюрингия), поддержали эту инициативу. Внимание Исполкома Коминтерна сразу же сосредоточилось на ситуации в этой стране, которая летом 1923 года стала трактоваться как революционная. Естественно, Карл Радек, главный эксперт РКП(б) по германским вопросам, немедленно направился в Берлин, так и не успев ни написать роман о встрече трех Интернационалов, ни «родить ребенка», чтобы получить по месту основной работы декретный отпуск. 16 января 1923 года ИККИ и Профинтерн обратились с призывом к европейской стачке в ответ на оккупацию Рура, предложив для ее подготовки созвать в Берлине конференцию представителей трех политических и двух профсоюзных Интернационалов. Радек быстро охладил пыл коминтерновцев, веривших в идеалы пролетарского интернационализма: «дело в полной безнадежности. Бельгийские партии за поддержку оккупации»[466].
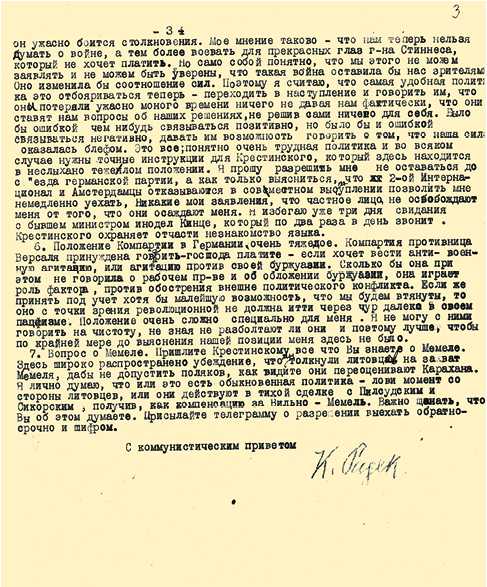 Радек был посвящен в детали секретного сотрудничества Советской России с германским рейхсвером, он передавал руководству большевистской партии секретную информацию о реакции Берлина на оккупацию Рура
Письмо К. Б. Радека Сталину и другим членам Политбюро
15 января 1923
[РГАСПИ. Ф. 159. Оп. 2. Д. 34. Л. 1–3]
Радек был посвящен в детали секретного сотрудничества Советской России с германским рейхсвером, он передавал руководству большевистской партии секретную информацию о реакции Берлина на оккупацию Рура
Письмо К. Б. Радека Сталину и другим членам Политбюро
15 января 1923
[РГАСПИ. Ф. 159. Оп. 2. Д. 34. Л. 1–3]
Руководители Советской России избегали публичных заявлений в пользу Германии, считая, что «нам ни к чему связывать себя конкретными обещаниями» и тем самым провоцировать Польшу[467]. Для них ключевым фактором являлось сохранение советско-германского союза как фактора, дестабилизирующего Версальскую систему в целом. Параллельно следовало готовиться к новому вооруженному конфликту на западных границах Советского Союза. В таком духе было выдержано постановление Политбюро от 18 января 1923 года, посвященное внешнеполитическим вопросам[468]. Особую тревогу в Москве вызывали планы Польши по вторжению в Германию с востока. Сразу же по прибытии в Берлин Радек вместе с полпредом Крестинским был принят генералом Сектом, который являлся фактическим главой рейхсвера. В центре внимания на переговорах находился вопрос о скорейшем налаживании сотрудничества военных ведомств двух стран[469]. В тот же день он написал пространное письмо Сталину, подчеркнув двойственность своего положения, связанного с необходимостью сочетать дипломатию и революционную работу. КПГ — «принципиальная противница Версаля, принуждена говорить: господа, платите», обращаясь к собственной буржуазии. Таким образом, партия «играет роль фактора против обострения внешнеполитического конфликта. Если же принять в учет хотя бы малейшую возможность, что мы будем втянуты, то она с точки зрения революционной не должна идти чересчур далеко в своем пацифизме. Положение здесь очень сложно специально для меня. Я не могу с ними [руководством КПГ. — А. В.] говорить начистоту, не зная, не разболтают ли они, и поэтому лучше, чтобы по крайней мере до выяснения нашей позиции меня здесь не было»[470].

 Партийное руководство немедленно отреагировало на тревожные сообщения К. Б. Радека из Берлина
Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) о Польше
18 января 1923
[РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 163. Д. 313. Л. 6–6 об.]
Партийное руководство немедленно отреагировало на тревожные сообщения К. Б. Радека из Берлина
Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) о Польше
18 января 1923
[РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 163. Д. 313. Л. 6–6 об.]
Итак, до оформления новой линии РКП(б) и Коминтерна в германском вопросе Радек решил вообще не встречаться с лидерами компартии, которые именно от него ждали руководящих указаний. Однако не в его характере было пассивное выжидание. Ровно через неделю, 22 января 1923 года, он объявил Сталину, что пытается побудить германскую компартию к активным действиям в Руре, пусть даже это будет выглядеть как поддержка национальной буржуазии. Главным внешним врагом является французский империализм, главным внутренним — правительственная коалиция буржуазных партий. Упражняясь в агитационной гимнастике, он предложил оригинальный лозунг, который в его собственном переводе выглядел так: «Надо бить Пуанкарэ над Рурой, а Куно над Шпревой»[471]. В тот же день этот лозунг появился в газетах немецких коммунистов. При этом Радек отказывался брать на себя ответственность за выработку конкретной линии действий, подчеркнув в переписке с генеральным секретарем ЦК РКП(б): я готов остаться до партийного съезда, но «выступать на нем не буду, считая невозможным не говорить ничего и считая невозможным говорить то, что надо», т. е. отделываться ничего не значившими фразами. Еще не представляя себе расстановку сил в Политбюро после отхода от дел Ленина, он одновременно посылал и официальные доклады Сталину, и неофициальные письма Троцкому. Первый был занят внутренней политикой, но второй проявил живой интерес к событиям в Германии.
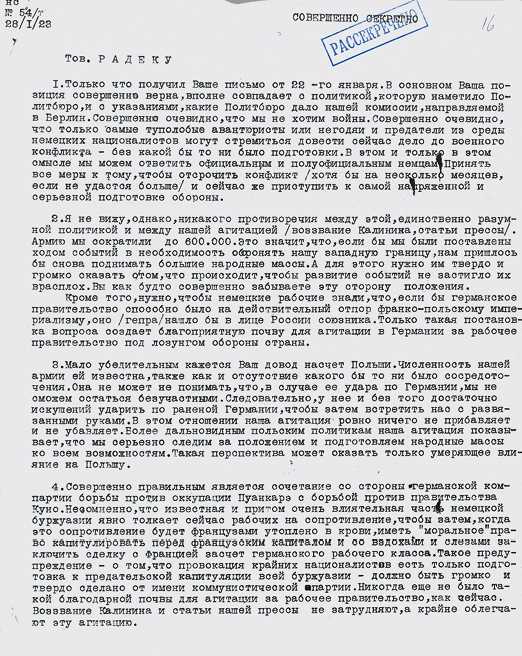
 В приватной переписке два партийных лидера обсуждали ключевые внешнеполитические проблемы Советской России
Письмо Л. Д. Троцкого К. Б. Радеку
28 января 1923
[РГАСПИ. Ф. 326. Оп. 2. Д. 21. Л. 16–17]
В приватной переписке два партийных лидера обсуждали ключевые внешнеполитические проблемы Советской России
Письмо Л. Д. Троцкого К. Б. Радеку
28 января 1923
[РГАСПИ. Ф. 326. Оп. 2. Д. 21. Л. 16–17]
Поддержав «речной» лозунг, Троцкий показал себя не меньшим государственником, чем Ленин в последние годы своей жизни, поставив во главу угла интересы Советской России: «Мы против войны, поэтому делайте все возможное, чтобы отговорить немецких партнеров от авантюр военного конфликта». Но при защите своих интересов германское правительство найдет в России верного союзника: «только такая постановка вопроса создает благоприятную почву для агитации в Германии за рабочее правительство под лозунгом обороны страны»[472]. На первых порах Радек сдерживал свое обещание и даже не появился на съезде КПГ, открывшемся в Лейпциге 28 января 1923 года. Накануне он телеграфировал через советское полпредство в Москву: «Бухарин просит меня ждать его, не указывая срока прибытия. Шпики следуют за мной, в лучшем случае могу уехать в горы. Коминтерн поручает мне выступить на съезде компартии, считаем с Крестинским [мое] открытое присутствие невозможным без приказа ЦК РКП»[473]. Это послание лишний раз подтверждает, насколько несогласованными были действия в треугольнике Коминтерн — НКИД — ЦК РКП(б), внутри которого оказался Радек. В то время как Исполком требовал решительных действий по восстановлению «гражданского мира» среди немецких коммунистов, дипломаты считали, что до выяснения масштабов международного кризиса, связанного с оккупацией Рура, лучше избегать какой-либо активности. В конечном счете Зиновьев уступил, разрешив Радеку вернуться в Москву[474]. Бухарин, которого на съезде КПГ ждали в качестве официального гостя из России, так и не смог выехать в Германию. Без участия авторитетных русских товарищей дебаты на съезде вышли из-под контроля президиума, зажигательные речи «берлинцев», т. е. левых оппозиционеров, определяли настроение значительной части делегатов. Их активность подстегивало и то, что по инициативе Зиновьева им следовало выделить два места в будущем составе Правления КПГ[475]. «Курс концентрации» партийных сил, одобренный под нажимом Москвы после Третьего конгресса Коминтерна, трещал по всем швам. Получив 31 января сигнал бедствия от Брандлера и Цеткин, Радек примчался в Лейпциг и принялся наводить порядок в партийных рядах. Позже он возложил ответственность за разгоревшийся конфликт на обе стороны: Правление игнорировало берлинцев, а те саботировали его решения. По оценкам Радека, к этому моменту за левыми шли уже 2/5 делегатов[476]. Его беседы и наставления в кулуарах съезда привели к тому, что до открытого раскола КПГ в Лейпциге дело не дошло. Через неделю после завершения съезда Радек уже солировал на обсуждении немецкого вопроса в Москве, на заседании Исполкома Коминтерна. Докладчик подчеркнул, что КПГ в ее нынешнем состоянии практически недееспособна. «Если мы в качестве лозунга выдвигаем революционный маневр и при этом видим, что девять десятых партийцев не признают решений штаба, руководящего маневром, то при его реализации это приведет к тому, что в девяти десятых случаев он закончится поражением»[477]. Компартия ведет политику, являющуюся зеркальным отражением социал-демократической, утверждал Радек: если СДПГ проводит реформы, забывая о конечной цели, то КПГ видит только эту цель, не думая о реформах. Несмотря на регулярные обещания прекратить дискредитацию Правления КПГ, берлинская оппозиция сплачивала свои ряды и неуклонно увеличивала число своих сторонников. На протяжении предшествующих лет в партию влились бывшие независимцы, а также группы анархистов и синдикалистов, которых отталкивало требование железной дисциплины. Многие из них сохраняли убежденность в том, что дни парламентской демократии сочтены, а единый рабочий фронт — уловка для того, чтобы ускорить ее бесславный конец. Они продолжали верить в чудодейственную силу «русского примера» и всерьез относились к перспективе создания Советской Германии. Чем больше КПГ походила на другие партии Веймарской республики, тем меньше симпатий она вызывала у левых радикалов. Подобные настроения достаточно точно описывал один из их главных лозунгов: «Назад ко Второму конгрессу Коминтерна!» Не только Радек, но и другие эмиссары Коминтерна рангом пониже, находившиеся в Германии, отмечали весной 1923 го-да, что партия движется к расколу на две секты. Руководство ИККИ стояло перед нелегким выбором: Радек тяготел к поддержке «правых», сторонники Зиновьева покровительствовали берлинцам. На личные симпатии и антипатии функционеров РКП(б), командированных на работу в Коминтерне, начинала накладываться логика внутрипартийной борьбы за ленинское наследство. В конце апреля — начале мая в Москве состоялись переговоры членов Президиума ИККИ и делегации КПГ, в которую входили Брандлер, Бетхер, Герхард, Рут Фишер, Маслов и Тельман. Взяв бразды правления в свои руки, Зиновьев впоследствии хвалил самого себя: «Исполком в три дня помог разрешить вопросы, которые занимали бы партию в течение трех лет»[478]. Немецкие коммунисты не вошли даже в рабочую комиссию по выработке резолюции, Бухарин заявил, что хватит и личных консультаций с ними. Это вызвало решительные протесты председателя КПГ. За него заступился Радек: «Я понимаю озабоченность Брандлера. Исполком выступает то в роли карающей десницы, то в роли доброго дядюшки из Америки, и из подобных бесед с лидерами партии потом вырастает множество слухов»[479]. Ход переговоров укрепил позиции Радека как куратора КПГ, на его сторону стал склоняться Бухарин, которого все больше раздражала претензия Зиновьева на единоличное руководство коминтерновскими делами. К услугам набиравшего силу Радека продолжал прибегать и его бывший начальник по НКИД. 14 апреля Чичерин запрашивал у него обвинительные материалы по делу католических священников, суд над которыми завершился смертным приговором К. Р. Будкевичу. Объяснений от советского руководства потребовал германский посол Брокдорф-Ранцау. Чичерин писал: «Приговор составлен настолько неудачно, что побивает и постановление Президиума ВЦИК, и мои заявления, сделанные со слов Троцкого… Абсолютно невозможно без этих материалов вести контркампанию. Нельзя ограничиться окриком: мы-де суверенны и материалов никому не покажем. Все поймут в том смысле, что якобы этих материалов нет»[480].
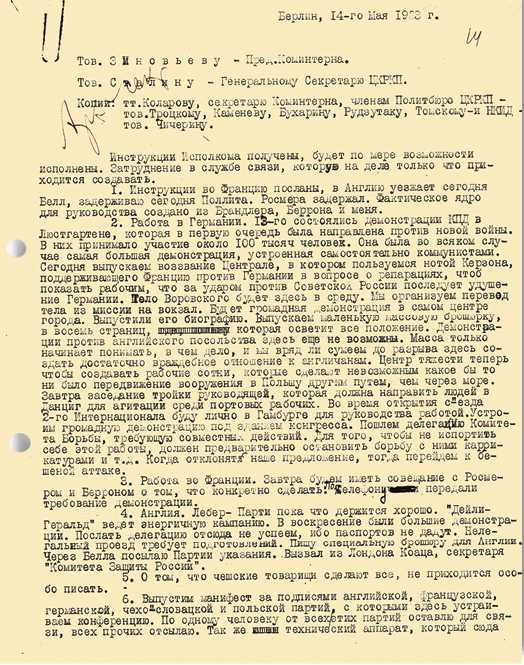
 Доклад К. Радека о своей конспиративной работе в Берлине, направленный Г. Е. Зиновьеву и И. В. Сталину
14 мая 1923
[РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 156. Д. 51. Л. 14–15]
Доклад К. Радека о своей конспиративной работе в Берлине, направленный Г. Е. Зиновьеву и И. В. Сталину
14 мая 1923
[РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 156. Д. 51. Л. 14–15]
7 мая 1923 года Радек в очередной раз направился в Берлин. Вслед за ним в его адрес полетела телеграмма Президиума ИККИ об организации по всей Европе (предпочтительно перед зданиями английских посольств) митингов протеста в связи с появлением ноты Керзона. В условиях нарастания международной напряженности вновь выросли акции тактики единого рабочего фронта: Радеку было поручено установить контакт с «симпатизирующими нам организациями лейбористской партии и тред-юнионов, выдвинув лозунги с персональным заострением против Керзона и другие элементарные, как то мир и признание Советской России»[481]. Одновременно ему пришлось организовывать демонстрацию немецких коммунистов в момент перевозки тела убитого в Лозанне Воровского из советского полпредства на вокзал для отправки в Москву. В Берлине в характерной для себя манере Радек провел серию блиц-встреч с каждой из фракций в руководстве КПГ, в ходе которых разъяснил линию Москвы. Не менее характерной была и роль верховного арбитра, которую посланец Коминтерна каждый раз исполнял со все большим удовольствием. «Мне удалось достигнуть согласия Централе [Правления. — А. В.] всеми голосами против Вальхера, который подчиняется, на московский компромисс. Клара больна. Пик в Швеции, но вряд ли посмеют публично оппонировать. С оппозицией имел конференцию. Единодушно приняла московские решения»[482]. Помимо контроля над выполнением февральской резолюции ИККИ о КПГ вернувшийся в Берлин Радек получил задание прощупать почву для восстановления диалога с Амстердамским интернационалом профсоюзов. Момент был крайне благоприятный — в ответ на ультиматум Керзона и убийство советского полпреда Воровского с пацифистскими заявлениями в Великобритании выступили либеральные круги и лейбористы. Радек встречался с лидером Амстердамского интернационала профсоюзов Э. Фимменом накануне его отъезда в Чехословакию на международный конгресс железнодорожников. Тот «обещал делать все для поднятия масс, сгруппировать вокруг себя все живые элементы амстердамцев. Произвел на нас всех впечатление человека, который хочет помочь. Смерть Воровского взбудоражила рабочие массы, затрудняет Керзону работу»[483]. Использование в партийной пропаганде лозунгов защиты отечества сделало КПГ одним из заметных участников внутриполитического процесса. 13 мая партия вывела на митинг против оккупации Рура и угрозы войны в центре Берлина около 100 тысяч своих сторонников. Комментируя этот успех, Радек рекомендовал сохранить акцент на проведение массовых акций, дополнив его точечными кампаниями: «Центр тяжести теперь в том, чтобы создавать рабочие сотни, которые сделают невозможным какое бы то ни было передвижение вооружения в Польшу другим путем, чем через море»[484]. При прямом содействии Радека в Правление КПГ были введены Рут Фишер из Берлина и Эрнст Тельман из Гамбурга, возглавившие в нем левую фракцию. Тактическая уступка Зиновьеву, который после своего «капитулянтства» накануне захвата власти большевиками очень боялся вновь показаться «правым», уже в конце 1923 года обернется для Радека трагическими последствиями: вначале потерей контроля над немецкой партией, а потом и конфликтом со сталинско-зиновьевским большинством в Политбюро ЦК РКП(б). Но еще летом того же года он был уверен, что новый приступ германской революции не за горами, и вот-вот пробьет его звездный час.
2.16. Дискуссия о фашизме и речь о Шлагетере
После начала оккупации Рура германская экономика покатилась в пропасть — национальная валюта обратилась в прах, из-за бешеной инфляции даже крупные предприятия вернулись к прямому продуктообмену. Журналисты заключали пари на дату, когда правительство капитулирует перед ультиматумом Антанты. Радек делал свои собственные ставки. Он согласился с мнением Правления КПГ, что «момент для развертывания движения более удобен после капитуляции, чем перед ней»[485]. В переводе на обыденный язык это означало, что предательство германской буржуазией национальных интересов должно было стать безотказным трамплином для успешной вылазки революционного авангарда. Однако радикализация политических сил происходила не только на левом фланге. Выступления участников Четвертого конгресса отражают тот шок, который они испытали после того, как бывший социалист Бенито Муссолини обосновался на крайне правом фланге итальянской политической сцены и, организовав печально известный «поход на Рим» осенью 1922 года, без особого труда захватил власть в стране. В своей речи Радек взял на себя роль Кассандры, утверждая, что речь идет не о случайном «вывихе» послевоенной европейской истории, но о массовом движении, которое противостоит марксистской логике исторического прогресса, а значит — является непримиримым врагом всего рабочего движения. «Если наши итальянские товарищи, если социал-демократическая партия Италии не поймет причин этой победы фашизма и причин нашего поражения, то нам предстоит встретиться с эпохой его длительного господства». Вслед за итальянским фашизмом стала набирать влияние и его немецкая копия — на первых порах казалось, что весьма карикатурная, вспомним хотя бы радековскую характеристику «рабочего маляра Киттлера». Однако оккупация Рура привела к подъему в стране праворадикальных движений, делавших ставку не только на ревизию Версальской системы, но и на разгром социалистических партий. Такие движения, первоначально казавшиеся малозначительными сектами, появлялись, как грибы после дождя. «Вся Европа живет под знаком фашизма», — утверждалось в докладе Брандлера на пленуме ЦК КПГ, состоявшемся 16 мая 1923 года. Ответом на вызов правых радикалов стало образование в Саксонии и Тюрингии отрядов пролетарской самообороны, в которые входили как коммунисты, так и социал-демократы[486]. Они готовились отразить атаку приверженцев Гитлера, если бы те решили повторить «„поход на Рим“ Муссолини», отправив свои вооруженные отряды из Мюнхена в Берлин. Вопрос о фашистской угрозе стал одним из центральных в ходе работы Третьего расширенного пленума ИККИ, который открылся в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца 12 июня 1923 года. Основной доклад сделала Клара Цеткин, которая рассматривала европейский фашизм как боевой отряд мировой буржуазии, ее последнее средство в борьбе за выживание в новой исторической эпохе. В то же время он был «наказанием пролетариату за то, что тот не развернул шире начатой в России революции»[487]. Признавая, что существенной частью тактики фашистских движений является «белый террор», Цеткин акцентировала внимание участников пленума на другом — на широкой социальной базе, которую сумели мобилизовать в свою поддержку вожди фашизма. В то время как Цеткин основывалась на анализе режима Муссолини, выступивший после нее Радек сделал акцент на Германии, выбрав совершенно неожиданный для ортодоксального марксиста подход — представив психологический портрет рядового фашиста. Его речь о Шлагетере стала символом рискованного маневра Коминтерна, который так и не был доведен до конца летом 1923 года, но на протяжении последующего столетия неизменно привлекал внимание ученых и публицистов, занимавшихся историей коммунистического движения. В Рурском бассейне немецкие активисты устраивали акты саботажа, которые не давали французским оккупантам вывозить уголь и лес
Начало 1923
[Из открытых источников]
В Рурском бассейне немецкие активисты устраивали акты саботажа, которые не давали французским оккупантам вывозить уголь и лес
Начало 1923
[Из открытых источников]
Лео Шлагетер — фашист и активный участник акций саботажа в Руре, расстрелянный французскими оккупантами, являлся для Радека не просто заблудшей овечкой, прибившейся к чужому стаду. Этот «мужественный солдат контрреволюции заслуживает того, чтобы мы, солдаты революции, мужественно и честно оценили его». Ставя перед правыми радикалами (назвав их «путниками в никуда») вопрос, против кого они хотят бороться — «против капитала Антанты или против русского народа?», Радек фактически предлагал им союз с Советской Россией для «совместного свержения ига антантовского капитала»[488]. Основой для такого союза, к которому неизбежно должны были подключиться и немецкие коммунисты, выступала капитуляция правящих кругов Германии в борьбе за Рур. О том, что в условиях иностранной оккупации экономического сердца страны, когда «Германия грозит превратиться в индустриальную колонию Европы», коммунисты не должны отдавать на откуп правым радикалам национальную идеологию, говорили в партии многие. Речь шла о первой попытке использовать реваншизм и великодержавный национализм, доминировавшие в послевоенном немецком обществе, для того чтобы навязать ему левую повестку дня. Немецкая историография традиционно проводит параллель между речью о Шлагетере и германской политикой балансирования между Востоком и Западом, получившей название «рапалльской». Однако было бы ошибочным считать, что неожиданный пассаж в речи Радека обслуживал интересы одной лишь внешней политики. В частном разговоре с представителем КПГ при ИККИ Эдвином Гернле Зиновьев подчеркнул, что постоянные указания Радека на национальную повестку дня не являлись экспромтом. «Во-первых, широкие слои рабочего класса разделяют национальные мысли и чувства, во-вторых, колонизация и расчленение Германии в современных условиях является ударом не столько по германской буржуазии, сколько по пролетарской революции»[489]. Сам Радек считал свою речь на пленуме очень важной и просил Брандлера обеспечить ей максимальное освещение в партийной прессе, чтобы вынудить фашистов откликнуться на нее. Он как заклинание повторял идею о необходимости расколоть фашистское движение, оторвать мелкобуржуазную массу от «феодальных и капиталистических вождей»[490]. Несмотря на то, что газеты КПГ предоставили свои страницы для дискуссий с идеологами «консервативной революции», отклик правых радикалов на речь о Шлагетере был минимальным. Фелькишское движение, организация «Оргеш» и нацисты Гитлера мало что понимали в борьбе идей. Радек являлся евреем, и этим было все сказано. Его речь, закрывавшая дебаты по докладу Цеткин, вряд ли была экспромтом. Экспромтом являлось ее публицистическое оформление. Волна, поднятая речью о Шлагетере на пленуме ИККИ, быстро улеглась, хотя в сентябре 1923 года в ИККИ все еще считали возможным «активный боевой союз с честными фашистами при дальнейшем обострении обстановки» в Германии[491]. Историки справедливо пишут о радековской линии в трактовке такого европейского феномена, как фашизм, подчеркивая ее «социологическую ориентированность»[492]. Однако в том же году наш герой втянется во внутрипартийную борьбу в РКП(б), после поражения в которой его догадки и теоретические размышления, нашедшие на первых порах немало поклонников в европейских компартиях, будут преданы забвению.
2.17. Курс на германский Октябрь
Радек, после завершения Третьего пленума ИККИ оставленный на коминтерновском хозяйстве, с сарказмом писал своим коллегам, отдыхавшим на Северном Кавказе: «Моя речь о Шлагетере прессой истолкована как предложение [фашистам. — А. В.] союза для свержения правительства Куно, так что визу [в Германию. — А. В.] мне вряд ли дадут»[493]. Не он один в то лето мечтал если не оказаться в самой Германии, то как минимум выступить вдохновителем и организатором успешной пролетарской революции в этой стране. Такое развитие событий, как это ни парадоксально, соответствовало интересам каждой из фракций в руководстве большевистской партии, которые готовились к решающему туру борьбы за ленинское наследство. Бухарин и Зиновьев отвечали за ведомства пропаганды и мировой революции, Троцкий мог рассчитывать на то, что станет командующим международной Красной армии. Сталин на первых порах оставался в тени, но и для него появление столь мощного союзника, как Советская Германия, открывало перспективу резкого ускорения социально-экономической модернизации страны. В высшем эшелоне КПГ ситуация выглядела еще проще: победитель (а в окончательной победе никто не сомневался) должен получить все, а значит, к моменту решающего сражения следовало либо вырвать у конкурентов, либо сохранить в своих руках партийные рычаги. Беседы в Москве за кулисами пленума ИККИ убедили и председателя КПГ Брандлера, и левую оппозицию («берлинцев») в том, что они могут рассчитывать на серьезную материальную и даже военную поддержку Советской России. 12 июля 1923 года в газете «Роте Фане» появилось воззвание КПГ, выдержанное в самом радикальном духе: буржуазная демократия потерпела крах, страна находится накануне фашистского путча, но на вылазки фашистов партия ответит «красным террором». Коммунисты протягивают руку другим рабочим партиям, однако если те откажутся от совместных действий, КПГ пойдет в бой самостоятельно. Через день после появления воззвания Брандлер сообщал в Москву, что его целью является «мобилизация партии во всех сферах для вооруженной борьбы» против государственного переворота, который готовят фашисты[494]. Он считал, что немецким коммунистам нужен ощутимый толчок и мощный сигнал для того, чтобы выйти из состояния летаргии и пассивности. Таким сигналом должны были стать массовые рабочие демонстрации в антифашистский день, который Правление КПГ назначило на воскресенье 29 июля. Радек немедленно охладил пыл Брандлера, высказавшись за максимальную осторожность: «Я боюсь, что мы попадем в ловушку. Мы плохо вооружены или вообще без оружия. Фашисты вооружены в десять раз лучше и имеют хорошие штурмовые отряды. Если они захотят, то 29 июля устроят нам кровавую головомойку. Если правительство запретит демонстрацию 29-го, а мы тем не менее попытаемся провести ее, мы окажемся между двух огней… Выдвиньте лозунг — никаких провокаций, твердая, спокойная демонстрация; ежедневно на первых страницах газет — большие заголовки в этом духе, назначьте ответственных людей за проведение демонстрации»[495]. Поэтому антифашистский день, задуманный коммунистами, не должен вылиться в вооруженные столкновения с реакцией или полицией.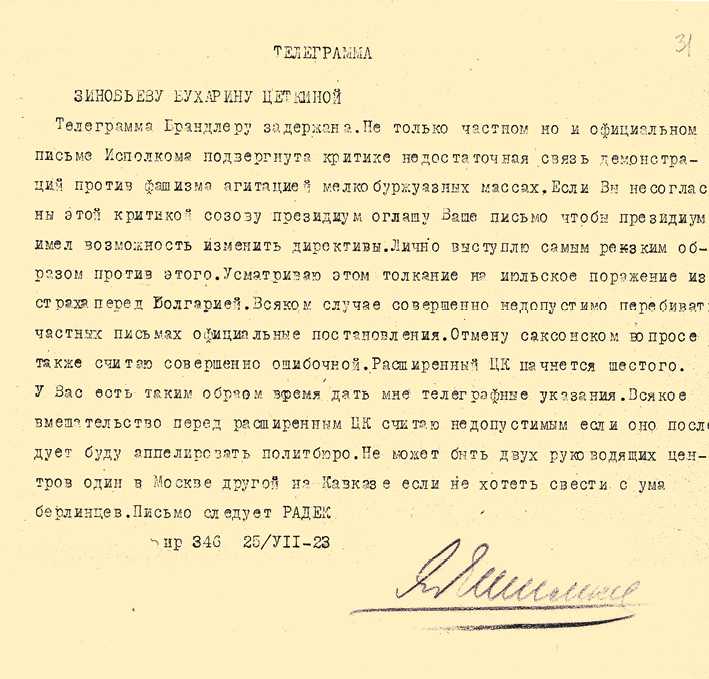 «Не может быть двух руководящих центров — один в Москве, другой на Кавказе — если не хотеть свести с ума берлинцев»
Телеграмма К. Б. Радека в Кисловодск Г. Е. Зиновьеву, Н. И. Бухарину и К. Цеткин
25 июля 1923
[РГАСПИ. Ф. 326. Оп. 2. Д. 21. Л. 31]
«Не может быть двух руководящих центров — один в Москве, другой на Кавказе — если не хотеть свести с ума берлинцев»
Телеграмма К. Б. Радека в Кисловодск Г. Е. Зиновьеву, Н. И. Бухарину и К. Цеткин
25 июля 1923
[РГАСПИ. Ф. 326. Оп. 2. Д. 21. Л. 31]
Находившиеся на Кавказе Зиновьев и Бухарин сделали из текста воззвания и сопровождавших его писем Брандлера прямо противоположные выводы. Они направили немецким коммунистам приветствие по случаю подготовки антифашистского дня, считая, что массовые демонстрации, особенно если они будут сопровождаться столкновениями с полицией и человеческими жертвами, позволят накалить политическую атмосферу в Германии. Отныне КПГ должна была наносить главный удар по националистам, чтобы завоевать на свою сторону социал-демократических рабочих. Тем самым дезавуировалась тактика национального фронта, предложенная Радеком, что и вызвало столь резкую реакцию последнего: «Не может быть двух руководящих центров — один в Москве, другой на Кавказе — если не хотеть свести с ума берлинцев»[496].

 Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) о разногласиях лидеров Коминтерна в оценке положения в Германии
27 июля 1923
[РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 163. Д. 350. Л. 81–81 об.]
Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) о разногласиях лидеров Коминтерна в оценке положения в Германии
27 июля 1923
[РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 163. Д. 350. Л. 81–81 об.]
Телеграмма Бухарина и Зиновьева вообще не была отправлена в Берлин. Радек добился от Политбюро (фактически от Сталина) ее задержания до выяснения сути разногласий между Москвой и Кисловодском[497]. От имени Президиума ИККИ он послал в Правление КПГ менее радикальные директивы: сосредоточиться на идейном разоблачении фашизма, подталкивать саксонское правительство Цейгнера к радикальным действиям, но ни в коем случае не разрывать с ним. «Идя на коалицию с буржуазными партиями, мы, разумеется, не можем рассчитывать, что такая коалиция будет игрушкой в наших руках; но горе нам, если мы станем игрушкой в руках социал-демократии»[498]. Параллельно Радек отправил в Кисловодск достаточно бесцеремонное письмо, в котором оправдывал свое самоуправство. Он объяснял свой протест против воззвания КПГ от 12 июля тем, что «партия своим огульным призывом к самостоятельной решительной борьбе с фашизмом сплачивает мелкобуржуазные элементы с элементами феодальными и капиталистическими… не ведет дальше линии, выразившейся с моей речи о Шлагетере, которую ЦК партии приветствовал». С формальной точки зрения отправка кисловодской телеграммы дезавуировала бы решение Президиума — высшего органа Коминтерна в перерывах между заседаниями Исполкома. И наконец, двум членам высшего руководства РКП(б) было направлено требование, которое звучало как удар по их самолюбию: «Откажитесь от частной корреспонденции с партиями во время отдыха»[499]. Возмущение Зиновьева и Бухарина не знало границ, они потребовали немедленного созыва Политбюро и выразили готовность срочно выехать в Москву[500]. В переписке со Сталиным Зиновьев всячески дискредитировал «болтунишку Радека», который пытается перетащить на нашу сторону фашистов вместо того, чтобы готовиться к решительному столкновению с ними. По мнению Председателя ИККИ, следовало занять жесткую позицию и в Саксонии: «абсолютно необходимы большая независимость, большая самостоятельность по отношению к правительству Цейгнера. Ни в коем случае не прощать ни одного выпада, не забывать их. В случае необходимости вести дело к разрыву»[501]. Следует иметь в виду, что в ходе неформальных совещаний в Кисловодске члены руководства РКП(б) обсуждали меры нейтрализации Троцкого, и демарш Радека (которого не без оснований считали его приверженцем) попал на почву, обильно пропитанную клинической подозрительностью Зиновьева. В Германии большинство партийных организаций поддержало осторожную линию Москвы, которую приняло Правление КПГ. Антифашистские демонстрации в воскресенье 29 июля собрали под свои знамена десятки тысяч левых активистов по всей стране и обошлись без провокаций со стороны радикалов. Радек не удержался от похвал в адрес дисциплинированных немецких пролетариев, призвав их сохранять выдержку до решающей битвы, которая уже не за горами[502]. Успех антифашистского дня вызвал неоправданную эйфорию среди немецких коммунистов. 5–6 августа состоялся пленум Правления КПГ, в ходе которого левая оппозиция заявила, что требование рабочего правительства самим ходом событий снято с повестки дня, и надо готовиться к боям за диктатуру пролетариата[503]. Брандлер отбросил в сторону всякую осторожность и стал транслировать радикальные лозунги своих недавних оппонентов. Резолюция пленума состояла из сплошных противоречий, говоря о необходимости «скорейшего установления единого фронта для завоевания политической власти». 10 августа 1923 года правительство перешло в контрнаступление и запретило выход коммунистических газет, однако такие решения только подливали масла в огонь, обостряя противостояние политической элиты и социальных низов. В этот день Брандлер писал в Москву: напряжение нарастает по всей стране, партия готова к решающей схватке за власть[504]. Тогда же съезд фабзавкомов Берлина по инициативе КПГ принял решение о трехдневной всеобщей стачке. На следующий день многие предприятия столицы остановили свою работу, в том числе и типографии, в которых печатали стремительно дешевевшие деньги. Среди политических лозунгов доминировали требования роспуска рейхстага и образования рабочего правительства. В Гамбурге и других крупных городах рабочие демонстрации грозили перерасти в голодные бунты, самое активное участие в них принимали женщины, устраивавшие перепалки и потасовки с полицейскими. На второй день стачки под угрозой вотума недоверия в рейхстаге состоялась давно ожидаемая отставка кабинета Куно. Предложение о голосовании было внесено фракцией КПГ, и социал-демократы отказались поддерживать правительство, лишившееся последнего доверия. Отставка охладила пыл рабочих, сказалось и то, что предприниматели, увидев масштаб социальных протестов, пошли на серьезные уступки. Вместо ничего не стоивших денег рабочим на некоторых предприятиях стали выдавать продовольственные пакеты. Коммунисты имели все основания записать смену кабинета министров на собственный счет, хотя сама по себе она не приближала перспективы решающих боев. Следовало искать новые пути закрепления авторитета компартии, который были вынуждены признать и ее политические конкуренты. КПГ сделала шаг навстречу потенциальным союзникам, поддержав решение о прекращении стачки, принятое берлинскими фабзавкомами 14 августа 1923 года[505]. Кризис завершился формированием нового правительства, которое возглавил Густав Штреземан. Однако инерцию завышенных ожиданий Москвы уже невозможно было остановить. Не решаясь и дальше единолично определять курс германской компартии, Радек телеграммой вызвал Зиновьева в Москву[506]. Казалось бы, перед лицом германской революции недавние склоки и недоразумения должны быть забыты. Российские большевики оказались в шаге от конечной цели, ради которой они захватили власть в октябре 1917 года, — дождаться пролетарского переворота в ключевых европейских странах. После возвращения Зиновьева и Бухарина в Москву соотношение радикалов и умеренных в Президиуме Коминтерна резко изменилось. На своем заседании 22 августа 1923 года Политбюро приняло тезисы о всемерной поддержке германской революции, и Радек засобирался в Берлин, хотя ранее против его приезда возражал советский полпред Крестинский, мотивируя это невозможностью обеспечить его безопасность[507]. Вынужденный остаться в Москве и отодвинутый от центра принятия решений, Радек резко полевел и обнаружил в Германии четкую альтернативу: либо мы, либо фашисты возьмут власть в свои руки. «И мы решили взять ее»[508].
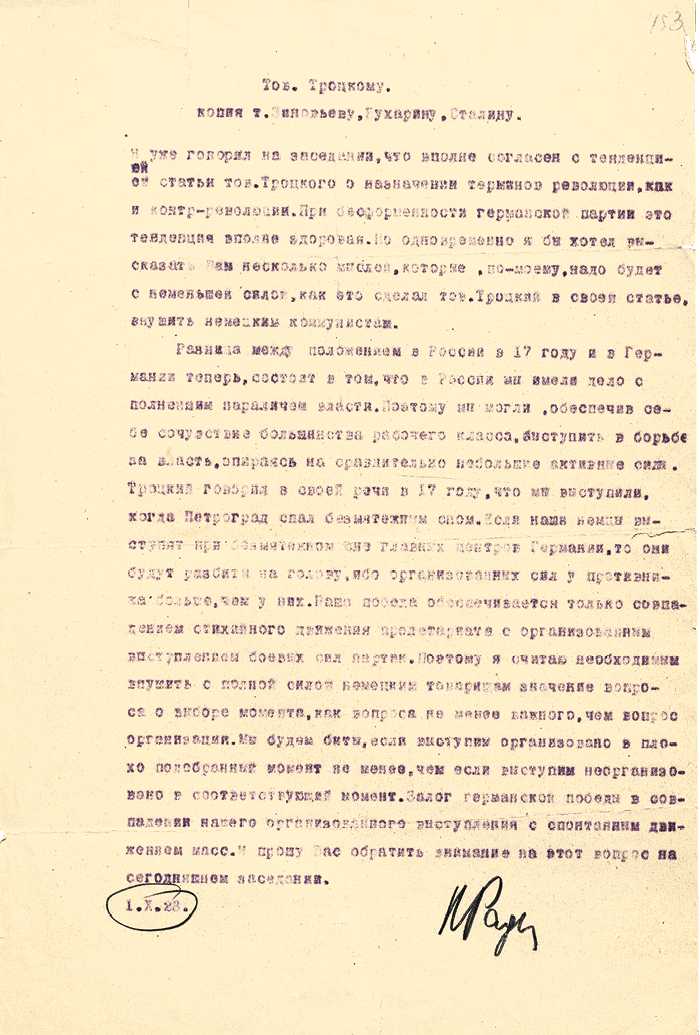 Письмо К. Б. Радека Л. Д. Троцкому с согласием о необходимости назначить дату германской революции
1 октября 1923
[РГАСПИ. Ф. 326. Оп. 2. Д. 1. Л. 153]
Письмо К. Б. Радека Л. Д. Троцкому с согласием о необходимости назначить дату германской революции
1 октября 1923
[РГАСПИ. Ф. 326. Оп. 2. Д. 1. Л. 153]
Он начал планировать действия КПГ уже на исходе еще не состоявшейся революции: «Мы оцениваем положение в Германии так, что вопрос борьбы за власть там подходит к решительной стадии, что даже если бы немецкая компартия не хотела революции, она идет, и если бы партия попыталась уклониться от боя, тогда не только наверняка будет разгромлен рабочий класс, но и партия. Ей придется сказать себе: в бою отступления нет, сражение будет в неслыханно тяжелых условиях. Надо теперь, кроме прочих вещей, чтобы она ориентировалась, что будет делать после взятия власти»[509]. Радек просил В. В. Куйбышева подготовить очерк развития германского земледелия после 1918 года, чтобы коммунисты могли разработать собственную аграрную программу. В рамках разделения труда в комиссии, которая курировала подготовку германского Октября, Радеку была поручена пропаганда и агитация. Осенью 1923 года в Москве начал выходить специальный «Бюллетень Коммунистического Интернационала по Германии», который рассылался по советским учреждениям, парткомам и профсоюзным ячейкам. Его первый номер открывался статьей Радека о капитуляции германской буржуазии перед Францией и подготовке гражданской войны. Материалы бюллетеня были выдержаны в духе, характерном для революционной эпохи, — желаемое выдавалось за действительное. Среди прочего воспевались боевые органы пролетариата от рабочих сотен до комитетов рабочего контроля, которые едва ли не заправляют всем в стране: так, «контрольные комиссии принудили кулаков-крестьян снабжать города молоком». Напротив, баварские социал-демократы выступали на страницах бюллетеня в роли создателей первых фашистских отрядов в Германии[510].

 Постановление Политбюро ЦК РКП(б) с инструкцией эмиссарам, отправляющимся в Германию для руководства вооруженным восстанием пролетариата
4 октября 1923
[РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 166. Д. 12. Л. 1–3]
Постановление Политбюро ЦК РКП(б) с инструкцией эмиссарам, отправляющимся в Германию для руководства вооруженным восстанием пролетариата
4 октября 1923
[РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 166. Д. 12. Л. 1–3]
Не могли остаться в стороне от настроений решающего штурма, нагнетаемых советской прессой, и лидеры КПГ, которые прибыли на совещание пяти компартий, посвященное подготовке германского Октября и начавшее свою работу 21 сентября 1923 года. Сообщая о его ходе членам Правления, Брандлер неизменно подчеркивал, что все участники совещания призывают немецкую партию к решительным действиям. В такой обстановке тональность докладов немецких коммунистов о ситуации в стране день ото дня становилась все более резкой, а приводимые ими данные о военно-технической подготовке восстания, накопленных запасах оружия, численности пролетарских дивизий и т. д. — все более фантастическими. Прибыв месяц спустя в Германию, Радек нашел, что средства, выделенные Москвой на вооружение, полностью исчерпаны, а в наличии у партии имеются всего 800 винтовок в Саксонии и 361 в Берлине. «Все, что Брандлер рассказывал в Москве о состоянии вооружения, есть сущий вздор»[511]. После того, как Зиновьев познакомил участников совещания с решениями Политбюро по германскому вопросу, принятыми 4 октября 1923 года[512], его дальнейшая работа потеряла всякий смысл. В постановлении были утверждены конкретные меры по ускорению организационной и технической подготовки захвата власти в Германии, для чего туда должна была отправиться «четверка» партийных лидеров. Две недели спустя Гернле докладывал руководству немецкой компартии: «…после беседы с Зиновьевым сегодня вечером стало ясно, что русские товарищи планируют отправлять принятые между собой решения по Германии напрямую, исключив нас как представителей немецкой партии из этого процесса»title="">[513]. Как это ни печально было признавать откомандированным в Москву функционерам КПГ, отныне коммуникация московского центра и берлинского филиала мировой революции должна была происходить без их участия. На одном конце канала связи находился ЦК РКП(б) и его представители в Исполкоме Коминтерна, на другом — «четверка», готовившаяся к отъезду в Берлин. Определение ее персонального состава вызвало новый всплеск подковерной борьбы на большевистском Олимпе, ведь речь шла о том, кто возглавит генеральный штаб грядущей германской революции. Немецкие коммунисты, продолжавшие считать Троцкого главным стратегом Красной армии, предлагали его кандидатуру. Председатель Реввоенсовета в тот момент оказался не у дел. Завершение Гражданской войны отодвинуло его ведомство на второй план, германские же события давали Троцкому шанс вернуть себе лидирующие позиции.
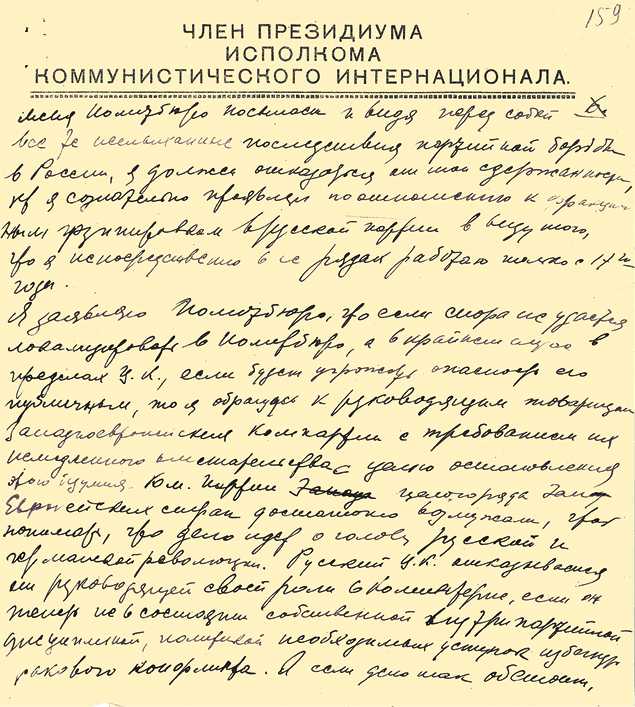
 Ультиматум К. Б. Радека, адресованный членам Политбюро: партийный кризис означает смертельный удар по советской власти и германской революции
16 октября 1923
[РГАСПИ. Ф. 326. Оп. 2. Д. 1. Л. 159–160]
Ультиматум К. Б. Радека, адресованный членам Политбюро: партийный кризис означает смертельный удар по советской власти и германской революции
16 октября 1923
[РГАСПИ. Ф. 326. Оп. 2. Д. 1. Л. 159–160]
Вторым по значению кандидатом на командировку в Германию был руководитель Коминтерна Зиновьев, который рассчитывал на то, что новый виток мировой революции превратит его в главного наследника Ильича. Но против его кандидатуры также нашлись серьезные аргументы. В итоге было принято компромиссное решение: «Политбюро считает, что отправка тт. Троцкого и Зиновьева в Германию абсолютно невозможна в настоящий момент… Возможный арест названных товарищей в Германии принес бы неисчислимый вред международной политике СССР и самой германской революции»[514]. Единственным кандидатом, ценность которого для ее успеха ни у кого не вызывала сомнений, был Карл Радек. После ряда кадровых перестановок вместе с ним в окончательном составе «четверки» оказались заместитель председателя ВСНХ СССР Г. Л. Пятаков, нарком труда В. В. Шмидт и полпред Н. Н. Крестинский. Шмидт был немцем по национальности, но никогда не занимался коминтерновскими делами. Кандидатура хозяйственника Пятакова также не могла вызвать ничего, кроме удивления. Уже находясь в Берлине, тот сообщал о своей беспомощности в германских делах: «…первое время я чувствовал себя как рыба, выброшенная на берег»[515]. Смысл столь необычного решения становится очевидным, если обратить внимание на то, какого масштаба к моменту его принятия достигли разногласия в высшем эшелоне РКП(б). Трое членов «четверки» были самыми известными сторонниками Троцкого. На сентябрьском пленуме ЦК партии состав Реввоенсовета был расширен таким образом, что его Председатель подал прошение об отставке, попросив отправить его в Германию, где он будет полезнее. Вскоре Троцкий перешел в контрнаступление и обратился с письмом в ЦК и ЦКК партии, где не только указал на факты дискредитации его кадров, но и подверг резкой критике весь партийный режим. Образование фракции его сторонников стало делом считанных дней. 15 октября 1923 года появилось обращение 46 известных большевиков, направленное в Политбюро. В нем говорилось о том, что «хозяйственный кризис в Советской России и кризис фракционной диктатуры» подрывает авторитет партии большевиков накануне решающих боев на мировой арене[516]. Одним из подписантов обращения являлся Георгий Пятаков.
 Телеграмма Г. Е. Зиновьева К. Б. Радеку и Г. Л. Пятакову о том, что вместо В. В. Куйбышева в берлинскую «четверку» назначен нарком труда В. В. Шмидт
24 октября 1923
[РГАСПИ. Ф. 326. Оп. 2. Д. 21. Л. 43]
Телеграмма Г. Е. Зиновьева К. Б. Радеку и Г. Л. Пятакову о том, что вместо В. В. Куйбышева в берлинскую «четверку» назначен нарком труда В. В. Шмидт
24 октября 1923
[РГАСПИ. Ф. 326. Оп. 2. Д. 21. Л. 43]
Радек выступил в защиту Троцкого иным образом, написав особое письмо в Политбюро ЦК РКП(б), превосходившее по своей резкости все прочие документы оппозиции. «Кризис партийный, который в других условиях не представлял бы для партии смертельной опасности, теперь означал бы смертельное поражение Советской России и германской революции». Понимая, какого накала достигла взаимная неприязнь оппонентов, Радек пытался использовать последний аргумент — брошенные на произвол судьбы компартии Запада. «Я заявляю Политбюро, что если спора не удастся локализовать в Политбюро, а в крайнем случае в ЦК, если будет угрожать опасность сделать его публичным, то я обращусь к руководящим товарищам западноевропейских компартий с требованием их немедленного вмешательства с целью остановить это безумие…»[517] То, что автор письма называл безумием, станет стержнем истории большевистской партии последующих пяти лет.
2.18. Варшава — Дрезден — Берлин
Не дожидаясь реакции на свой демарш, Радек без спешки отправился в Германию. Он несколько дней провел в Варшаве, где встретился со своими бывшими однопартийцами и даже посетил оперный театр. Очевидно, это была тактическая пауза, лидер «четверки» ежечасно получал свежую информацию из Германии и предоставил событиям право идти своим ходом, так как понимал, что его приезд уже ничего не изменит. В Дрезден он прибыл лишь вечером 22 октября. В фойе выбранного им отеля мелькали одни армейские униформы — город был объявлен на военном положении и в него вошли части рейхсвера. К этому моменту уже стало ясно, что германский Октябрь не состоялся. По указанию Политбюро, продублированному Исполкомом Коминтерна, представители КПГ вошли в земельные правительства Саксонии и Тюрингии, образовав коалицию с социал-демократами. Их целью было вооружение пролетарских сотен и отражение возможного выдвижения из Баварии фашистских отрядов, а в перспективе и самостоятельный поход на Берлин. Однако рейхспрезидент Эберт опередил такое развитие событий. Брандлер, всего на несколько дней ставший саксонским министром без портфеля, не получил поддержки собрания германских фабзавкомов, которое было созвано в Дрездене 21 октября. В таких условиях сохранять курс на вооруженный захват власти было равносильно самоубийству, и председатель КПГ дал приказ к отступлению, который сразу же по своему прибытию поддержал Карл Радек. Он же распорядился о немедленном возвращении Правления партии в Берлин. Московский эмиссар не стеснялся в выражениях, описывая поведение своих подопечных в дни, предшествовавшие его появлению в Дрездене. В то время как Брандлер, Бетхер и Геккерт целые дни просиживали на заседаниях саксонского кабинета министров, остальные члены Правления сидели сложа руки, и до сих пор они «ходят, как овцы, без дела и разлагаются». «Две недели партия занималась истерическим ожиданием [исхода. — А. В.] конфликта из-за Саксонии. В Саксонии мы оказались в дураках»[518]. Действительно, политический эксперимент, в ходе которого коммунисты легальным образом вошли в правительство одной из ключевых земель Германии, завершился полным крахом. Резкие оценки, которые давали члены «четверки» саксонскому отступлению, подтверждались и советскими журналистами, находившимися в Берлине. «…События застали партию врасплох. Она, очевидно, не была подготовлена ни к сильному сопротивлению буржуазии, ни к жалкому поведению левых социал-демократов… Верхи партии совершенно непозволительно преуменьшали трудности завоевания власти в Германии. В правительство Цейгнера вошли на авось, не отдавая себе отчета в том, что это означает вызов на гражданскую войну»[519]. В центральной прессе СССР, напротив, сохранялись бодряческие оценки: «Разгрома рабочего класса нет никакого… Настроение у рабочих — боевое; коммунисты быстро применились к новым условиям. Повторяем, разгрома не было и нет. В Саксонии то же самое: там было правильное отступление без разгрома наших сил. Это есть основной факт»[520]. Радек в своих взаимоотношениях с лидерами КПГ имел все основания представлять себя евангельским пастырем робких овец. 3 ноября 1923 года он не без труда добился одобрения резолюции, где говорилось об установлении в стране военно-фашистской диктатуры в лице генерала Секта, которая поставила крест на Веймарской республике. Тезис о победе фашистов не просто подтверждал идеологические построения Коминтерна, но и давал четкий ответ на вопрос «кто виноват». Если альтернатива, с которой соглашались все — «либо мы, либо фашисты» — была верна, то победа последних означала подтверждение сразу двух фактов: силы праворадикальных движений как последней надежды мирового капитала и слабости буржуазной демократии, воплощением которой выступала Веймарская республика. При такой постановке вопроса коммунисты оказывались «третьим радующимся», и их отказ от вступления в схватку мог быть оправдан выжиданием более благоприятного момента. Очевидно, что такое объяснение диктовалось прагматическими соображениями Радека, рассуждавшего в логике «своих не сдаем». Оно вполне устраивало руководство КПГ, хотя Брандлер и отдавал себе отчет в том, что в списке потенциальных козлов отпущения он все равно останется на первом месте. Подчеркивание фашистской угрозы плохо соотносилось с его собственными утверждениями в партийной прессе о Веймарской республике как о «проститутке, которую социал-демократы по частям переуступили буржуазии», о налаженном разделении труда между Сектом и Гитлером[521], каждый из которых по-своему охраняет основы капиталистического строя в Германии. На первых порах с этим согласились и в Исполкоме Коминтерна: «Воля рабочего класса еще не настолько оформилась, чтобы КПГ в одиночку могла выступить против фашистского переворота в Саксонии, устроенного имперским правительством», — говорилось в одной из аналитических записок информационного отдела ИККИ[522]. Этот тезис будет жить в Коминтерне до тех пор, пока сам Радек, обвиненный во фракционной борьбе, не покинет ряды его вождей. В момент ухода он будет объяснять свою новацию необходимостью дать хоть какое-то объяснение резкому отказу коммунистического движения от тактики единого рабочего фронта, которая подразумевала коалиции с социал-демократией — разве можно предлагать сотрудничество партии, которая привела к власти фашистов?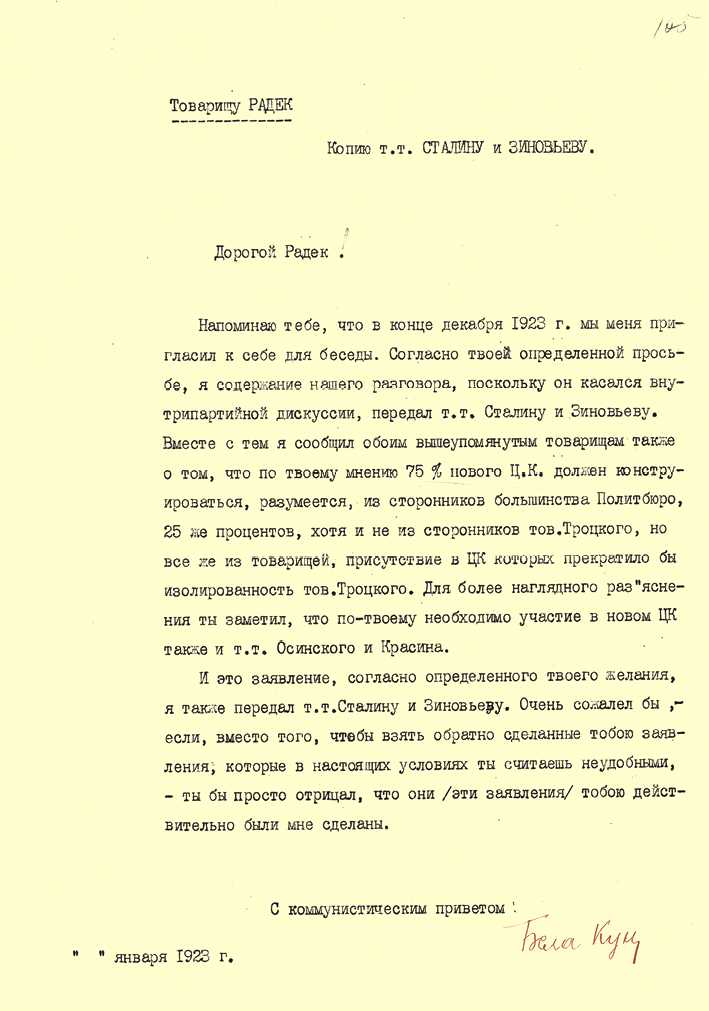 Письмо Бела Куна Радеку о том, что он донес до И. В. Сталина и Г. Е. Зиновьева основные требования оппозиционеров
Январь 1924
[РГАСПИ. Ф. 326. Оп. 2. Д. 1. Л. 105]
Письмо Бела Куна Радеку о том, что он донес до И. В. Сталина и Г. Е. Зиновьева основные требования оппозиционеров
Январь 1924
[РГАСПИ. Ф. 326. Оп. 2. Д. 1. Л. 105]
Отказ от борьбы в Саксонии дал левой оппозиции новые аргументы в борьбе против брандлеровского руководства. В Берлине открыто говорили об измене вождей, самые горячие головы предлагали даже арестовать все Правление КПГ и избрать вместо него комитет действия[523]. Оставаясь вплоть до конца ноября 1923 года в Германии, Радек безуспешно пытался выступить примирителем противостоящих друг другу фракций в партии, хотя ровно полгода назад именно он провел в жизнь решение Коминтерна о введении «левых» в состав ее Правления. Острота внутрипартийного размежевания в КПГ объяснялась тем, что оно являлось достаточно точным отражением конфликта, набиравшего силу в высшем эшелоне РКП(б). Принципиальные разногласия уступали место интригам и клановым разборкам, начиналось сведение старых счетов. Радек неожиданно пригласил на беседу своего недоброжелателя Бела Куна, изложив тому собственное видение путей урегулирования внутрипартийного конфликта. По словам Куна, его собеседник высказался за то, чтобы четверть членов ЦК представляли бы «хотя и не сторонников тов. Троцкого, но были бы все же из товарищей, присутствие в ЦК которых прекратило бы изолированность тов. Троцкого»[524]. Среди таковых назывались фамилии Осинского и Красина. Позже Радек стал отрицать сам факт состоявшегося разговора. Характерной чертой первой фазы конфликта в верхушке российской партии было то, что нараставшие коллизии в ней прикрывались в том числе и коминтерновскими сюжетами. Зиновьев и Сталин, на протяжении нескольких месяцев присматривавшиеся к берлинской оппозиции, после краха саксонского эксперимента высказались за смену руководства германской компартии, обвинив Брандлера в «правом уклоне». Напротив, Радек и Пятаков (Троцкий пока еще оставался в тени) подчеркивали, что ликвидация тактики единого фронта без тезиса о победе фашизма в Германии будет означать «признание ошибочности политики Коминтерна и КПГ в течение последних трех лет. Это делают берлинские левые болтуны. Они могут в свою защиту сказать, что всегда были врагами этой тактики. Вы этого сказать не можете без самоликвидации, как вожди мирового пролетариата»[525]. Развязка драмы о несостоявшемся германском Октябре должна была произойти если не при участии, то как минимум в присутствии лидеров КПГ, которые стали прибывать в Москву в конце ноября — декабре 1923 года Каждому из них предстояло определиться со своими политическим симпатиями. Если «левые» надеялись на покровительство Зиновьева, то «центр» во главе с Пиком и Брандлером сохраняли верность Радеку. Немалую роль играли и настроения немецких сотрудников Исполкома Коминтерна. Референт представительства КПГ Й. Айзенбергер предупреждал о плохо скрываемом раздражении, которое доминировало в высшем эшелоне большевистской партии. «При всем уважении, которого заслуживают русские товарищи, все они — за исключением Радека, имеющего гораздо более ясные представления о Германии, являются жертвами собственного положения. Другими словами: за последние шесть лет нахождения у власти они привыкли играючи преодолевать любые препятствия, и это обстоятельство накладывает свой отпечаток на их суждения по германскому вопросу»[526]. Активную разъяснительную работу среди прибывавших из Берлина вели и московские хозяева. Радек детально проинформировал немцев о разногласиях Троцкого с большинством Политбюро, подчеркнув, что остроту внутрипартийной дискуссии обусловило разочарование событиями в Германии[527]. 9 декабря состоялась трехчасовая беседа делегации КПГ с Зиновьевым, по итогам которой им стало ясно, что с нынешним составом Правления партии покончено[528]. Вопрос заключался только в том, сможет ли германская компартия занять консолидированную позицию в ходе предстоявшего обсуждения октябрьских событий, что могло бы побудить лидеров РКП(б) прислушаться к ее мнению. Радек продолжал настаивать на том, что, дав в последний момент сигнал к отступлению, Брандлер спас партию и весь рабочий класс Германии от полного разгрома. В случае же принятия зиновьевской точки зрения большевистское Политбюро «понесет ответственность за раскол немецкой коммунистической партии, который будет означать конец Коминтерна»[529]. Троцкий и Радек подготовили свой проект резолюции, ознакомив с ним делегацию КПГ. Поскольку в ней доминировали представители «центра», т. е. умеренного крыла Правления, ее солидарность с данным вариантом резолюции была предопределена. Дальнейший ход событий можно реконструировать по протоколам Политбюро и докладам, которые члены делегации КПГ направляли в Берлин. Немцы не просто участвовали в работе Политбюро российской компартии, но и неоднократно выступали на его заседаниях[530]. Страсти накалялись с каждым днем: 27 декабря 1923 года Сталин напомнил Радеку о его октябрьском ультиматуме: «Вы угрожали, что поднимите компартии Запада против РКП. В день, когда вы это сделаете, вы полетите в два счета из нашей делегации в Коминтерне»[531]. Тот парировал: «…точка зрения т. Сталина означает запрет членам РКП обращаться к Коминтерну по вопросам жизни и смерти русской партии, а также Интернационала, являясь, таким образом, полным отрицанием основ Коминтерна»[532]. Итогом словесной перепалки стало осуждение взглядов Радека на фашизм как «оппортунистических», включенное в постановление Политбюро ЦК РКП(б)[533]. В таких условиях приглашенные немецкие коммунисты, руководимые инстинктом самосохранения, предпочли держать свое мнение при себе. Заявление Троцкого с осуждением «ультимативной попытки заставить германскую партию принять за основу резолюцию Политбюро без участия немецких товарищей»[534] было оставлено большинством без внимания. Хотя дискуссии лидеров РКП(б) и КПГ велись за закрытыми дверями, Коминтерну в последний год жизни Ленина было далеко от тотальной секретности 1930-х годов. Радек мог опереться на поддержку не только своих немецких, но и польских соратников, которые уже в начале декабря потребовали от Зиновьева предоставить им полную информацию о внутрипартийном конфликте. Представители других компартий в ИККИ также имели достаточно полную картину происходящего и транслировали ее своим лидерам, что формировало определенные модели поведения и являлось фактором их подспудной «большевизации». Так, чех Карел Крейбих сообщал в Прагу о том, что члены Правления КПГ в Москве слишком долго колебались и не решались принять сторону Зиновьева без ознакомления с проектами резолюций, но после давления со стороны последнего «Радек вместе со всей брандлеровской группой отправился в преисподнюю». Чтобы сгладить конфликт, Зиновьев сдержал еще одно обещание, данное лидерам КПГ. 6 января 1924 года Исполком заслушал его доклад о конфликте в российской партии, обширный и скучный, который начинался с краткого курса истории большевиков и заканчивался цитатами из работ немецкого политолога Роберта Михельса[535]. Это было совсем не то, чего ожидали собравшиеся в зале иностранные коммунисты. Разочаровывающим был и содоклад Радека, который носил примирительный характер и выглядел как его попытка подняться над схваткой наследников Ленина. Докладчик припомнил свой старый разговор с одним из неназванных соратников вождя, который сказал ему буквально следующее: даже если позиция Ленина казалась ему неправильной, он все равно за нее голосовал, так как в конечном счете вождь всегда оказывался прав. Именно это ранее удерживало партию от внутреннего раскола, который теперь представлялся Радеку неизбежным. Он призвал к переходу РКП(б) на уставные рельсы внутрипартийной демократии, который откладывался вначале из-за Гражданской войны, разрухи и голода, затем из-за нэповского отступления и болезни вождя. «Ленин понял, что нельзя управлять партией в 400 тыс. человек, бросая ей лозунги сверху. Необходимо, чтобы масса сама размышляла и принимала участие в выработке этих лозунгов, боролась за них и таким образом участвовала в партийной работе»[536]. По объему содоклад от оппозиции почти не уступал речи Зиновьева, отличаясь от нее только остротами, от которых эмоциональный Радек не мог удержаться. Так, поднимаясь на трибуну, он предложил назвать речь основного докладчика следующим образом: «Как в декабре 1923 г. Троцкий сошел с ума и привел в психдом меньшинство РКП». Окончательный вариант резолюции «Об уроках германских событий» воспроизводил точку зрения сталинско-зиновьевской фракции, которая в целом солидаризовалось с левой оппозицией в КПГ. В нем говорилось о том, что осенью 1923 года Германия достигла революционной ситуации, в стране имелись все объективные предпосылки для успешного вооруженного восстания и перехода власти в руки пролетариата. Однако партийное руководство в силу своей нерешительности и колебаний не использовало представившийся шанс, дав сигнал уклониться от борьбы, что было аттестовано на большевистском жаргоне как капитулянтство, хвостизм и проявление «правого уклона». С партийного Олимпа были свергнуты не только Брандлер и Тальгеймер, но и целая плеяда немецких левых социалистов, основавших Союз Спартака, а затем и КПГ. Радек, оказавшийся с ними в одной компании и отстраненный от участия в германской политике, в очередной раз вынес сор из коминтерновской избы, заявив на заседании, что выступает «против идейной капитуляции перед незрелыми вождями лже-революционной левой, против ликвидации тактики единого фронта, как она была начата вопреки сопротивлению тов. Зиновьева и под руководством Владимира Ильича в 21-м году. Та часть Германской компартии, которую резолюция Политбюро называет правым крылом КПГ, является основной группой партии, которая выросла в боях против Каутского с 1911 г., которая вынесла на своих плечах всю тяжесть нелегальной борьбы Союза Спартака против войны, которая основала компартию в 1918 г. и руководила гражданской войной в 1919–1920 гг. С этой группой… я был и остаюсь в основном солидарным»[537]. В то же время Радек не был бы Радеком, если бы не оставил приоткрытой дверь для будущего покаяния и возвращения. Здесь же он заявил, что ради примирения фракций КПГ отказывается отстаивать свою позицию на предстоявшей партийной конференции. Мне придется оставить при себе, — писал Радек, — «мое мнение о причинах поражения в Германии и Болгарии и по другим назревающим вопросам, которые — не сомневаюсь — в ближайшем будущем встанут в ясной форме как перед русской, так и перед другими секциями Коминтерна»[538]. В последующие годы ему еще не раз придется каяться и предлагать свои услуги победителям во внутрипартийной схватке за единоличную власть — вначале добровольно, а затем по их указке.
2.19. В стане оппозиции
Не имея прочных связей в руководстве партии, к которой он пришел лишь в 1917 году, Радек после своего германского поражения оказался не у дел. От Ленина, которого он считал своим покровителям и к которому обращался в случае нужды, его изолировали уже в конце 1922 года, а смерть вождя поставила точку в их отношениях, диктовавшихся признанием взаимной полезности. Выступая перед студентами Социалистической академии на траурном мероприятии в дни похорон, Радек так обрисовал перспективу дальнейшего развития Коминтерна: «Задача состоит в том, что мы теперь будем руководить без советов Ленина… Задача руководства движением будет состоять не в канонизировании всякого слова Ленина, а в том, чтобы облегчить широкому кругу международного рабочего класса понять историческую обстановку, в которой сложились ленинские уроки о политике пролетариата, понять составные части его линии, научиться отличать временное от постоянного»[539]. Настаивая на необходимости недогматического подхода к ленинскому учению «как источнику живой, постоянно меняющейся тактики пролетариата», Радек употреблял термин «ленинизм», который вскоре станет ключевым в партийном лексиконе большевиков. Он одним из первых начал конструирование ленинского мифа, частью которого было утверждение, что уже в швейцарской эмиграции вождь начал подготовку создания нового Интернационала. Согласно Радеку, в недрах Циммервальдского объединения Ленин «создает нелегальную организацию» с сетью агентов в воюющих странах, чтобы «выйти из Циммервальда и начать подготовку международной конференции, которая должна была тогда в 1917 г. основать Коммунистический Интернационал. Мы не исполнили этих задач по той простой причине, что тогда надо было мобилизовать немецких независимых на защиту русской революции»[540]. Выбрав сторону Троцкого и проиграв первую схватку в союзе с ним, Радек на какое-то время попытался уйти в тень и вернулся к литературной работе. Он засел за написание трехтомной «Истории германской революции» и работал запоем, еженедельно возмущаясь по поводу издательской волокиты[541]. Но спрятаться за письменным столом от карающей длани правящей партии ему не удалось. Политбюро 31 января 1924 года лишило его всех постов, отправив в бессрочный отпуск, решением Исполкома Коминтерна ему было запрещено любое вмешательство в политику КПГ, лидерами которой стали ненавистные «леваки» Рут Фишер и Аркадий Маслов. Попав в опалу, наш герой пытался спасти хотя бы крохи политического капитала, наработанного в период борьбы за единый рабочий фронт, обращаясь напрямую к Зиновьеву, с которым еще совсем недавно разговаривал панибратски. Так, он писал о том, что после перехода компартии в руки левых «нас выбросят из профсоюзов и мы не будем в состоянии организовать наших людей. Видно, что общая ситуация в партии не позволяет даже Вальхеру трезво подумать о положении… Я лично считаю, что нельзя идти на раскол в профсоюзах в данный момент», т. е. нельзя раскалывать весь спектр рабочих организаций по партийному признаку, что неизбежно приведет к полной изоляции коммунистов[542]. «Последнему интернационалисту», ранее мечтавшему хоть несколько месяцев провести в Советской России, стали регулярно отказывать в поездках за рубеж, даже свой кабинет в здании ИККИ на Моховой бывший секретарь Коминтерна смог отстоять с большим трудом. Радек жил, перечитывая каждый день горы газет и занимаясь политической публицистикой. Пятый конгресс Коминтерна, состоявшийся летом 1924 года, фактически поставил крест на его политике единого рабочего фронта, подтвердив зиновьевскую трактовку рабоче-крестьянского правительства как синонима диктатуры пролетариата. Радек получил разрешение выступить на конгрессе (в то время как Троцкий предпочел отмолчаться) и в пространной речи изложил всю историю своей борьбы за новую тактику, завершив ее выводом о том, что Зиновьев в отсутствие Ленина тихо ее похоронил[543]. Когда Председатель Коминтерна назвал вхождение лидеров КПГ в саксонское правительство «банальной парламентской комедией», Радек взорвался: «Товарищи, события в Саксонии — не комедия. Это трагедия, и не парламентская трагедия, а трагедия коммунистической партии, которая еще не научилась подготовлять вооруженную борьбу»[544]. Оказавшись в низшей точке своей партийной карьеры, он произнес одно из самых ярких выступлений, в котором полемический пыл оттенял трезвые мысли о том, что иностранных рабочих не заманить в ряды компартий «барабанным боем». Наш герой ежеминутно находился под прицелом своих оппонентов, но не сбавлял тона в изложении своих разногласий с большинством ЦК РКП(б) перед иностранными коммунистами. Он продолжал защищать октябрьское отступление 1923 года в Германии: «…без этого отступления, подчинившись воле левых, мы имели бы 20 000 убитых и совершенно разгромленную партию». Что касается русского вопроса, то и здесь Радек высказывал «опасения насчет преувеличенной дисциплины. РКП может выполнить свои гигантские задачи лишь при условии, что она не только будет хорошо дисциплинированной партией, но и такой [партией], которая ощущает жизнь страны и умеет эту жизнь связать с собой». Он имел в виду, что успокоение, принесенное нэпом, порождает повышенную политизацию молодежи и крестьянства, которую уже невозможно втиснуть в узкие рамки большевистской партии[545]. Сделав выбор в пользу Льва, Радек проявлял завидную последовательность в его защите. «Я примкнул к Троцкому, убедившись, что он прав. Он единственный творческий ум крупного калибра среди нас, и после смерти Ленина он является самым популярным человеком в рабочем классе, крестьянстве, в глазах молодежи и армии»[546]. Осуждение троцкизма партиями Коминтерна на конгрессе 1924 года произошло чисто механически, «голосовалось не действительное отношение к проблемам, выдвинутым дискуссией, а доверие к ВКП, руководителю русской революции»[547]. Отчаяние было не в характере нашего героя. Скорее по привычке его продолжали приглашать на дипломатические приемы в Москве, на которых он неизменно шокировал чопорных иностранцев своим небрежным туалетом и своей беспардонностью. Любой идейный спор Радек приправлял своим фирменным цинизмом. Во время одной из бесед с новым германским послом в Москве, графом Брокдорф-Ранцау, он следующим образом отреагировал на заявление собеседника, что, придя к власти, немецкие коммунисты превратят Германию в руины и отдадут ее на растерзание французам: «…насколько я могу видеть, якобы имеющая место неспособность немецких коммунистов управлять страной еще должна быть доказана, в то время как политическое банкротство немецких буржуазных партий давно уже налицо»[548]. От случая к случаю Радек принимал участие в обсуждении внешнеполитических вопросов в Политбюро, 9 октября 1924 года этот орган признал желательной его поездку в Великобританию, где в этот день подало в отставку первое лейбористское правительство[549]. Вместе с опальными лидерами КПГ Брандлером и Тальгеймером, находившимися в Москве в почетной ссылке, Радек пытался наладить связь с немецкими функционерами, недовольными диктаторскими замашками левацкого руководства в партии, и создать противовес группе Фишер — Маслова. Ее представители в Москве вели за опальным коминтерновцем настоящую слежку, не упуская ни одного случая для того, чтобы обвинить его в «незаконных» связях с немецкими эмигрантами, не по своей воле оказавшимися в Советской России. Особенно старался Гейнц Нейман, в конце 1924 года он имел длительную беседу с Радеком, о результатах которой доложил в Берлин, поднявшись до глобальных обобщений: «Очевидно, что международная фракция правых использует рост влияния социал-демократии для того, чтобы пропихнуть новое издание тактики единого фронта сверху под флагом завоевания социал-демократических рабочих»[550]. В конце концов представительству КПГ при ИККИ удалось сфабриковать дело о подпольной фракции Радека — Брандлера — Тальгеймера и добиться их осуждения Центральной контрольной комиссией РКП(б). Нейман детально докладывал в Берлин о том, как «собирались» и препарировались данные о фракционной деятельности этой тройки, выражая сожаление, что вопреки предпринятым усилиям не удалось добиться исключения обвиняемых из КПГ. Дело в том, что у них нашлись влиятельные заступники — Бухарин и Мануильский, кроме того, «Клара [Цеткин] предпринимала отчаянные попытки со слезами на глазах повлиять на Зиновьева»[551]. Сохранившаяся в архиве Коминтерна стенограмма заседаний ЦКК в марте 1925 года[552] доказывает, как много общих черт объединяло этот партийный трибунал с технологией показательных процессов 1936–1938 годов, одним из главных обвиняемых на которых предстояло стать нашему герою. В августе 1925 года о нем наконец-то вспомнили: Карл Радек стал ректором Университета имени Сунь Ятсена. За звучным названием скрывалась коминтерновская школа подготовки китайских революционеров. «Китайская косичка не привела меня в восторг»[553], — писал Радек о своем новом назначении, однако со свойственной ему энергией взялся за новое дело, принялся учить китайский язык и вскоре превратился в признанного эксперта в данной сфере. Его статьи, посвященные проблемам китайской революции, стали регулярно появляться на страницах газеты «Правда» и журнала «Коммунистический Интернационал». К этому периоду относится его набросок тезисов о политике Коминтерна, в котором автор формулировал не только нелицеприятную критику состояния его Исполкома, но и позитивные предложения, очевидно, все еще рассчитывая на окончательную реабилитацию и возвращение на авансцену международной политики большевиков[554]. Избегая пропагандистских штампов, Радек давал в целом верную оценку итогам Пятого конгресса Коминтерна — из руководства компартий были устранены социалисты довоенного склада, им на замену должны были прийти «молодые левые элементы, которые не прошли социал-демократической школы и поэтому легче смогут повести борьбу против социал-демократии, как левого фланга фашизма, которые решительнее смогут мобилизовать рабочие массы под знамена ленинизма». Прошедший год показал, что решительная чистка европейских компартий от правых элементов закончилась катастрофой. «Левое крыло Коминтерна, пришедшее к власти под непосредственным давлением ИККИ, не было в состоянии справиться с задачей коминтерновской пропаганды». Играя с лозунгом раскола профсоюзов, коммунисты потеряли и без того шаткие позиции в рабочем движении. И наконец, «левый курс в Коминтерне означал не только отрыв от социал-демократических масс, от масс, симпатизирующих коммунизму, но он приводил с роковой необходимостью к отрыву от коммунистических партийных масс». Поставив верный диагноз, Радек, как и его ментор Троцкий, не нашел адекватных методов лечения болезни, которая давно уже была обнаружена в правящей партии большевиков. Речь шла о прогрессирующей бюрократизации партийного и советского аппарата, его отрыве от реальных проблем, стоявших перед Советской Россией. Очевидно, что эта болезнь не могла не перекинуться на аппарат Коминтерна и зарубежных компартий, которые, как это подчеркивалось на каждом шагу, представляли собой «плоть от плоти» доктрины и практики большевизма. Иными словами, компартии вырождались в секты аппаратчиков и догматиков, находившихся на содержании ВКП(б). О последнем факте говорилось как о язве, разъедающей организм коминтерновских секций, и говорилось открытым текстом (напомним, что радековские «наброски» не были предназначены для публикации): «Организационный поворот Коминтерна требует прекращения политики содержания партий субсидиями, особенно в тех странах, где партии легальны и могут содержать самих себя. Эти субсидии были необходимы в период непосредственных революционных возможностей, когда партиям приходилось пытаться охватить огромные массы… Теперь содержание партии — это содержание бюрократии, независимой от партии. Бюрократия эта не позволяет партии развить собственную внутреннюю жизнь, боясь, что будет смещена. Но, справляясь великолепно с функцией удушения жизни партии, она неспособна быть хотя бы только проводником решений Коминтерна, ибо это требует интимной связи с массой. Без ликвидации субсидий на содержание этой бюрократии все прочие реформы являются утопией»[555]. Разумные мысли о предоставлении партиям большей самостоятельности в кадровых и финансовых вопросах сочетались в документе с традиционным призывом к усилению руководящей и направляющей роли Исполкома. Радек обвинял этот орган в недостаточном контроле над отдельными секциями Коминтерна, самоустранении от оперативной реакции на ключевые для той или иной страны события. В случае с Болгарией и Эстонией это были неудавшиеся попытки революционных выступлений, в случае с Германией — неразумная тактика КПГ на президентских выборах, приводившая на первый пост в этой стране престарелого фельдмаршала Гинденбурга, деятельность которого станет роковой для веймарской демократии. Луч света забрезжил в политической карьере Радека в начале 1926 года, когда после поражения ленинградской оппозиции на Четырнадцатом съезде ВКП(б) под ударом оказался его главный оппонент — Зиновьев. До сих пор остаются в ходу исторические легенды, согласно которым Радек вынашивал идею союза Сталина и Троцкого против Каменева и Зиновьева[556]. Реалии выглядели иначе. Сталин действительно вспомнил о «мастере тайных поручений» и попытался перетянуть его на свою сторону, уговорив новое руководство КПГ на его реабилитацию и отправку в Германию. «На днях я натолкнулся на решительное сопротивление делегации, причем двукратная беседа с нею не привела ни к каким положительным результатам», — с сожалением сообщал он Радеку 20 февраля 1926 года[557]. Память о совместной борьбе накануне несостоявшегося германского Октября облегчили Радеку вступление в ряды «объединенной оппозиции». Он стал одним из ее главных экспертов по международным вопросам, хотя в отличие от Зиновьева и Троцкого ни разу не получил возможности выступить с изложением ее платформы на пленумах Исполкома Коминтерна. В пылу борьбы с фракцией Сталина — Бухарина Радек прибегал к весьма оригинальным методам, вплоть до карикатурного высмеивания оппонентов[558], однако все они имели тот же нулевой эффект, что и его октябрьский ультиматум 1923 года.2.20. «Китайская косичка»
Впервые Радек проявил себя в китайских вопросах во время Четвертого конгресса Коминтерна, когда под его руководством была подготовлена резолюция о задачах Компартии Китая (КПК). В ней делалась ставка на ее самостоятельное развитие в спектре национальных политических сил: «Коммунистическая партия Китая не должна подчиняться ни одному из этих центров, создающихся китайской буржуазией, даже если руководители этих центров имеют полудемократический или даже народнический характер»[559]. Однако вскоре с подачи советского полпреда в Китае Адольфа Иоффе НКИД высказался за тесное сотрудничество КПК и крупнейшей партии национально-освободительного движения страны — Гоминьдана, что и было продублировано на заседании Исполкома Коминтерна 6 января 1923 года[560].
 Университет трудящихся Китая имени Сунь Ятсена (современное фото) и его студенты
[Из открытых источников]
Университет трудящихся Китая имени Сунь Ятсена (современное фото) и его студенты
[Из открытых источников]
Последующие события на завершающем этапе китайской революции описаны в соответствующих разделах каждого из очерков этой книги — все лидеры ВКП(б) и Коминтерна с надеждой смотрели на Дальний Восток, рассчитывая увидеть там еще один центр противостояния мировому империализму Запада. И наш герой здесь не являлся исключением, хотя его позиция во многом определялась логикой внутрипартийного конфликта в российской партии. «Вплоть до лета 1926 г. Радек всецело поддерживал линию ИККИ в Китае и как один из официальных „китаеведов“ играл видную роль в ее пропаганде… Зачастую он был даже более категоричен, чем лидеры большевистской партии и Коминтерна»[561]. Среди прочего наш герой отстаивал наличие в Гоминьдане рабоче-крестьянского крыла, и в апреле 1926 года выступил в поддержку позиции Сталина против Зиновьева, считая, что ситуация не подошла к последней черте и китайские коммунисты еще смогут повернуть Гоминьдан влево. Оставаясь ректором Университета имени Сунь Ятсена, Радек резко критиковал замалчивание советской прессой репрессий против китайских коммунистов[562], жаловался на то, что в его учреждение присылают исключительно молодых гоминьдановцев, которые никак не хотят перевоплощаться в коммунистов[563]. 22 июня 1926 года он фактически сформулировал платформу «объединенной оппозиции» по китайскому вопросу, выступив с тезисами «Об основах коммунистической политики в Китае». Их методологической основой оставался все тот же ортодоксально-марксистский анализ соотношения классовых сил. Вопрос в конечном счете сводился к тому, сможет ли немногочисленный китайский пролетариат повести за собой многомиллионные массы крестьян и ремесленников. Радек ясно видел перспективу раскола в революционном лагере, который он считал неизбежным: «…выросши в массовую партию, Гоминьдан тяготится контролем со стороны коммунистов… На основе этого положения создаются трения, угрожающие существованию кантонского правительства, дающие почву для правого крыла Гоминьдана, которое стремится к разрыву блока с рабочим классом». Выход виделся автору тезисов в том, чтобы КПК и Гоминьдан перешли от аморфных форм сотрудничества «к блоку двух самостоятельных партий». Этот вывод нашел позитивную оценку Троцкого, который также считал, что в нынешнюю эпоху «организационное сожительство Гоминьдана и компартии… все более становится тормозом» революционного процесса[564].
 Сунь Ятсен и Чан Кайши
Середина 1920-х
[Из открытых источников]
Сунь Ятсен и Чан Кайши
Середина 1920-х
[Из открытых источников]
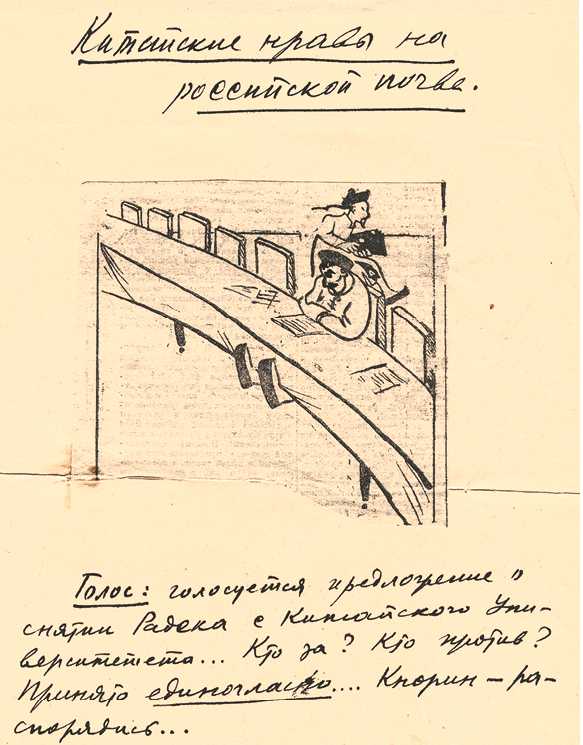 Пририсовав китайскому чиновнику сталинские усы, К. Радек прокомментировал свою отставку с должности ректора Университета трудящихся Китая
Коллаж Радека
1927
[РГАСПИ. Ф. 326. Оп. 2. Д. 19. Л. 11]
Пририсовав китайскому чиновнику сталинские усы, К. Радек прокомментировал свою отставку с должности ректора Университета трудящихся Китая
Коллаж Радека
1927
[РГАСПИ. Ф. 326. Оп. 2. Д. 19. Л. 11]
Радек рассматривал два возможных пути развития китайской революции — либо дело закончится «рабоче-крестьянской демократической диктатурой», которая приведет к появлению центральной власти, способной противостоять империалистической экспансии в страну, либо она, «миновав буржуазно-демократический этап, приведет непосредственно к социалистической революции»[565]. В дальнейших разработках по Китаю наш герой все более определенно высказывался за выход КПК из Гоминьдана, неизменно заслуживая похвалу Троцкого[566]. Оппоненты последнего немедленно нанесли ответный удар, отменив уже одобренную командировку Радека в Великобританию[567], вернувшись в ряды оппозиции, тот окончательно стал «невыездным». 13 декабря 1926 года Секретариат ИККИ отказал Радеку в предоставлении слова на расширенном пленуме Коминтерна, сославшись на то, что тот не является его делегатом, а решение ЦК ВКП(б) о запрете ему работать в Коминтерне остается в силе[568]. Зима 1926/1927 года показала, что в разработках оппозиционеров по китайскому вопросу содержалось немало рациональных моментов, которые с порога отвергались сталинским большинством.
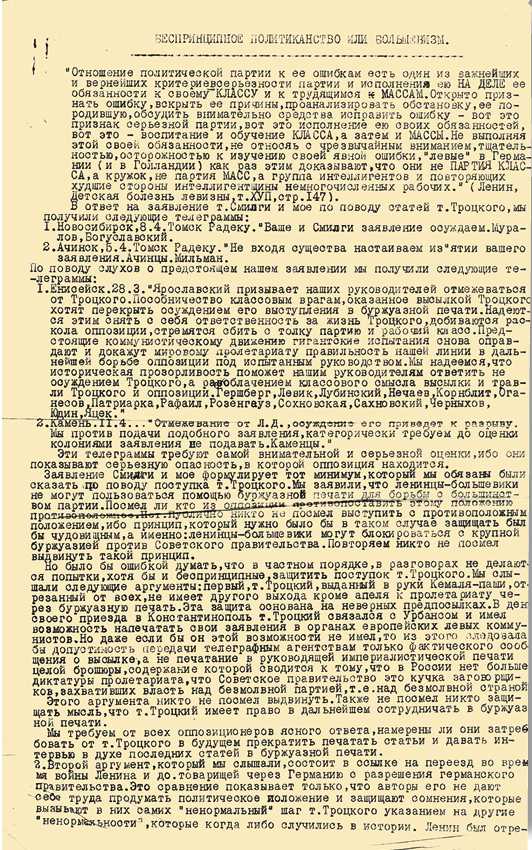
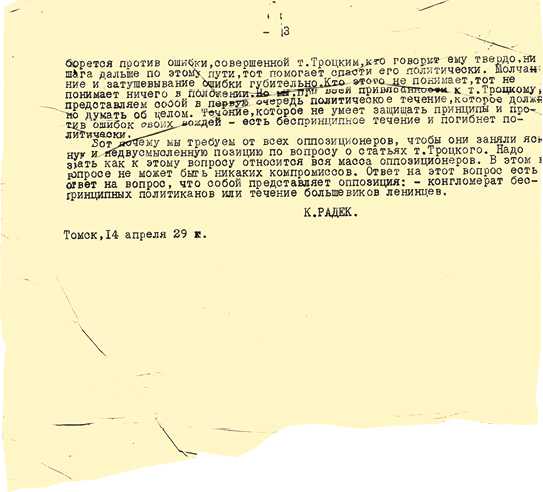 Статья К. Радека «Беспринципное политиканство или большевизм»
Томск. 14 апреля 1929
[РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 156. Д. 34. Л. 30–32]
Статья К. Радека «Беспринципное политиканство или большевизм»
Томск. 14 апреля 1929
[РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 156. Д. 34. Л. 30–32]
Лидер военной организации Гоминьдана Чан Кайши шаг за шагом становился политическим лидером общенационального масштаба, в то время какв Москве продолжали делать ставку на его левое крыло. В этот момент оппозиция сделала ставку на китайский фронт борьбы против сталинского большинства в руководстве ВКП(б). Это резко повысило значимость экспертных оценок Радека. В марте 1927 года он выступил с серией докладов, в которых требовал «ознакомить широкую общественность с реальной картиной соотношения сил в Китае и призывал аудиторию бить в набат в связи с возможной победой буржуазии»[569]. 4–5 апреля на собрании актива столичной организации ВКП(б) Радек уже очно схлестнулся со Сталиным и Бухариным. Расплата не заставила себя долго ждать, на следующий день его сняли с поста ректора Университета Сунь Ятсена[570]. Наш герой не унимался, в начале мая он подготовил статью «Измена китайской крупной буржуазии национальному движению», которая уже из-за своего объема выглядела как аналитическая записка, претендующая на то, чтобы стать осью оппозиционной платформы в китайском вопросе[571]. Реакция Троцкого на этот материал не оставляла сомнений в том, что он не хочет уступать свое теоретическое лидерство даже в частных вопросах. Он притушил максимализм некоторых радековских формулировок: «…думаю вообще, что нам о социалистических перспективах в Китае нужно говорить поточнее и построже: без победы пролетариата передовых стран не может быть и речи о переходе Китая к социализму собственными силами или хотя бы с помощью СССР»[572]. Соответственно, все разговоры о некапиталистическом пути развития без выполнения этого условия дают пищу народническим теориям и только запутывают вопрос о характере китайской революции, которая, согласно Троцкому, остается буржуазной и антиимпериалистической. Радек все больше тяготился идейным доминированием Троцкого среди оппозиционеров, который уже не казался ему гениальным стратегом мировой революции. Оказавшись в начале 1928 года в сибирской ссылке, наш герой начал готовить пути к отступлению и примирению со Сталиным. Для этого ему надо было безоговорочно порвать с Троцким. Разрыв вызревал достаточно медленно, первые трещины между двумя лидерами пробежали еще весной в оценках «левого поворота» и китайской тактики Коминтерна. Радек настаивал на том, что благодаря усилиям оппозиции Сталин возвращается на путь истинный. Троцкий писал об этом с искренним сожалением, пытаясь вернуть в строй одного из своих самых одаренных приверженцев: «Если бы тебе разрешили лечиться в Железноводске, я бы прибавил 5 % к своей оценке левого курса, и тогда расхождение между нами — теперь около 50–60 % — все-таки сохранилось бы»[573]. После Шестого конгресса Коминтерна, состоявшегося летом 1928 года, Радек усилил критические нотки в своих письмах и статьях, обвиняя недавнего патрона и покровителя в том, что за перспективой мировой революции он забывает об интересах простых советских рабочих[574]. Если осенью того же года Троцкий понял, что Сталин опаснее Бухарина, то Радек продолжал считать последнего корнем зла. Трудно сказать, каким здесь было соотношение между убежденностью и тактическим расчетом, желанием угодить генсеку и добиться прощения. После высылки Троцкого за границу Радек и примкнувший к нему Инвар Смилга заявили о своем несогласии с его оценкой сталинского режима: «Представление истории борьбы последних лет как заговора Сталина против Троцкого, как и концентрирование всего удара на центре со Сталиным во главе при полном умолчании опасности со стороны правых не может считаться изложением взглядов оппозиции»[575]. Радек снова почувствовал себя в своей тарелке — покаяние для него выглядело героизмом наоборот, путь в Каноссу — таким же актом исторической драмы, как и восхождение на политический Олимп. Каясь, он попадал в круг литературных героев и вслед за ними занимался самоанализом: «У меня нет никакой гордости перед партией, никакой потребности доказать, что я всегда прав, а другие — идиоты. Если б я думал, что могу помочь партии ложью и клеветой на себя, я бы на это пошел, но ведь это чистая достоевщина»[576]. Не пройдет и десяти лет, и ему придется примерить на себя роль Смердякова.
 «Радек в 1952 году». Ни автор, ни герой рисунка не доживут до этого года
Дружеский шарж Бухарина
Середина 1920-х
[РГАСПИ. Ф. 326. Оп. 2. Д. 19. Л. 29]
«Радек в 1952 году». Ни автор, ни герой рисунка не доживут до этого года
Дружеский шарж Бухарина
Середина 1920-х
[РГАСПИ. Ф. 326. Оп. 2. Д. 19. Л. 29]
Капитулировав перед мощью сталинского партаппарата, наш герой стал верным слугой диктатора, которого он превозносил как «зодчего социалистического общества» вплоть до своего ареста. «Сталин не просто подмял под себя Радека, он сделал его марионеткой в своей большой игре на международной арене и в борьбе против внутренней оппозиции»[577]. Его последняя статья, появившаяся в «Известиях» 31 августа 1936 года, как раз и была посвящена разгрому «троцкистско-зиновьевской банды». Вряд ли Сталин мог бы найти более подходящую жертву для показательных судебных процессов. Через две недели Радек был арестован и почти три месяца отказывался давать ложные показания и оговаривать своих бывших соратников. Ситуация изменилась после встречи со Сталиным и Ежовым, подсудимый начал активно сочинять не только собственные признания, но и готовить протоколы допросов, помогая следователям НКВД[578]. Вряд ли Радека сломили грубой силой, скорее ему объяснили, что он вновь может сыграть первую скрипку, правда, на сей раз не в политическом, а в судебном процессе. Бывший секретарь Коминтерна с растущим увлечением подыгрывал следствию, методично расширяя круг шпионов и диверсантов среди бывших соратников вождя. Оказавшись в этом кругу, Бухарин так описывал Сталину свои впечатления об очной ставке: «И когда я смотрел на мутные блудливые глаза Радека, который со слезами лгал на меня, я видел всю эту извращенную достоевщину, глубину низин человеческой подлости, от которой я уже полумертв, тяжко раненный клеветой»[579]. Радеку — и это удивило всех, кто следил за ходом судебного процесса, была сохранена жизнь. Через несколько лет он будет убит сокамерниками в одном из сталинских лагерей. Лишь недавно стало известно о том, что это убийство было спланировано и осуществлено по личному приказу Берии. В камеру к Радеку посадили бывшего сотрудника НКВД, который спровоцировал драку, закончившуюся убийством, а через несколько месяцев был освобожден из-под стражи как выполнивший «специальное задание»[580]. Можно не сомневаться в том, что ученые и биографы извлекут из архивных папок еще немало тайн, связанных с жизнью и смертью Карла Радека, трагическая судьба которого вобрала в себя немало ключевых сюжетов из ранней истории Коминтерна.
Часть 3. Зиновьев. Лидер поневоле
3.1. Человек не на своем месте
Первое, что бросается в глаза при знакомстве с документальным наследием Зиновьева, первого Председателя Исполкома Коминтерна, — это то, насколько тщательно (и тщетно) он вплоть до мелочей старался копировать своего вождя и учителя. Ленинские нотки звучали и в стилистике зиновьевских докладов, и в методах кадровой работы, и в общении с лидерами иностранных компартий, которых наш герой воспринимал как представителей второго эшелона большевистской партии. А. В. Луначарский писал о том образе Зиновьева, который сложился еще до революции: «…он выступал всегда верным оруженосцем Ленина и шел за ним повсюду… как политический мыслитель он был нам мало известен, и мы тоже часто говорили о том, что он идет за Лениным, как нитка за иголкой»[581]. Этот образ не претерпел радикальных изменений и после Октябрьского переворота. Второе — это ярко выраженное и плохо скрываемое тщеславие. Его огромный секретариат фиксировал даже самый малозначительный документ, которому предназначалось стать пищей для будущих исследователей мирового коммунизма. Сам Зиновьев уже в первой половине 1920-х годов вслед за Троцким принялся за издание многотомного собрания своих сочинений, рассчитывая на «памятник нерукотворный». Председатель Коминтерна крайне болезненно реагировал, если кто-то позволял себе усомниться в том, что он является душеприказчиком ленинского наследства и хранителем ценностей истинного большевизма. И, наконец, третье — именно в силу прошлых заслуг и близости к вождю Зиновьев слишком долго чувствовал себя «неприкасаемым», он включился в борьбу за власть лишь тогда, когда под угрозу было поставлено его собственное политическое существование. Григорий Евсеевич Зиновьев
1918
[РГАСПИ. Ф. 421. Оп. 1. Д. 323. Л. 1]
Григорий Евсеевич Зиновьев
1918
[РГАСПИ. Ф. 421. Оп. 1. Д. 323. Л. 1]
Если взглянуть на отношения внутри узкого круга лиц, поименованных в «политическом завещании» Ленина, то нетрудно прийти к выводу, что генсека Зиновьев раздражал больше других оппозиционеров. Нет сомнений в том, что Сталин больше всех ненавидел Троцкого, как нет сомнений и в том, что многие повороты его «генеральной линии» были навеяны троцкистскими идеями. Наставничество Зиновьева имело иной масштаб. Он научил Сталина искусству подковерной борьбы, плетению мелких интриг в ежечасной борьбе за место под солнцем. Как и в случае с Троцким, благодарности учитель не дождался. Напротив, именно Зиновьеву доставался от Сталина максимум презрения и самые уничижительные характеристики, вроде отнесения к категории партийных «дворян», которые нежились в эмиграции, пока настоящие подпольщики мучились в тюрьмах и ссылках[582]. Весьма характерно, что и Троцкий, готовя в последней эмиграции книгу очерков о лидерах большевизма, обошел вниманием Зиновьева, хотя написал краткие биографии более чем десятка своих соратников и соперников. Сохранился только набросок его некролога на смерть бывшего лидера Коминтерна, датированный 1932 годом. В нем есть холодное перечисление ряда фактов из жизни нашего героя, но нет ни одного теплого эпитета. От зиновьевской капитуляции в октябре 1917 года Троцкий прокладывал мостик к капитуляции 1928 года: «Он отступил перед репрессиями, испугавшись раскола партии и гражданской войны. Капитуляция Зиновьева и его ближайших единомышленников в критический момент вызвала, несомненно, чувство враждебности со стороны левой оппозиции. Смерть Зиновьева не может, разумеется, изменить нашей оценки его ошибок»[583]. Технический секретарь ЦК ВКП(б) Борис Бажанов, ставший одним из первых советских «невозвращенцев», пытался найти разгадку того, что Зиновьев, находясь еще в зените своей власти, не вызывал никаких симпатий у соратников: «Трудно сказать почему, но Зиновьева в партии не любят. У него есть свои недостатки, он любит пользоваться благами жизни, при нём всегда клан своих людей; он трус; он интриган; политически он небольшой человек; но остальные вокруг не лучше, а многие и много хуже. Формулы, которые в ходу в партийной верхушке, не очень к нему благосклонны: „Берегитесь Зиновьева и Сталина: Сталин предаст, а Зиновьев убежит“»[584]. При этом наш герой не являлся бездарным бюрократом, скорее он олицетворял собой тот тип партийного чиновника, который локтями и интригами отвоевал себе место за начальственным столом, оттеснив других представителей первого поколения большевиков. Зиновьев был непревзойденным мастером по написанию самых разных бумаг, которые должны были приводить в действие государственные структуры и партийные массы. Как сказали бы современные политологи, он умел «монетизировать» свой авторитет. Лучше всего у него получались запросы в разнообразные инстанции, которые занимались финансовыми субсидиями и материальной поддержкой, отбором кадров, предоставлением престижных помещений и т. д. Не менее искусен и продуктивен был он в подготовке стандартных приветствий и воззваний зарубежным коммунистам, в которых революционный пафос перемежался с бюрократической осторожностью[585]. Зиновьев воспринимал Коминтерн как собственную вотчину, и руководил им с барской широтой, предпочитая опираться на собственную интуицию, а не на тщательный анализ фактов. Это находило свое отражение в назначениях и отставках зарубежных лидеров компартий. Тот, кто по тем или иным причинам не приходился ко двору, имел немного шансов остаться на капитанском мостике. И напротив, «симпатичные ребята» (так он вместе со Сталиным называл группу немецких левых, приведенных к руководству КПГ в 1924 году) получали неоправданный кредит доверия, который беззастенчиво использовали в личных целях. Зиновьев без стеснений трудоустраивал в аппарате ИККИ своих родных и знакомых (тут он был не одинок — после прихода к власти партия большевиков испытывала жесточайший дефицит кадров). После явного отката революционной волны «идти на службу» в Коминтерн мало кому хотелось, и это обстоятельство год за годом уменьшало его влияние, в то время как конкуренты в Политбюро уверенно набирали политический вес.
 Письмо Г. Е. Зиновьева в Оргбюро ЦК РКП(б) с просьбами об обеспечении деятельности аппарата Коминтерна
26 марта 1919
[РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 157. Д. 2. Л. 1]
Письмо Г. Е. Зиновьева в Оргбюро ЦК РКП(б) с просьбами об обеспечении деятельности аппарата Коминтерна
26 марта 1919
[РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 157. Д. 2. Л. 1]
Говоря о дореволюционном жизненном пути нашего героя (кстати, он до сих пор не нашел своего биографа ни в отечественной, ни в зарубежной историографии[586]), следует иметь в виду, что он с самого начала прошел весь тернистый путь фракционной борьбы и интриг в РСДРП, причем всегда принимая сторону Ленина. Покинув вместе с будущим вождем царскую Россию и перемещаясь из одной европейской страны в другую, он постепенно поднимался по карьерной лестнице, возглавив к конце концов Заграничное бюро РСДРП. В годы Первой мировой войны Зиновьев и Ленин участвовали в создании Циммервальдской левой — объединения радикальных социалистов, выступавших за революционный выход из войны. Секретарь Циммервальда Анжелика Балабанова оставила интересное наблюдение о разделении труда между ними: «Я заметила тогда, что всякий раз, когда нужно было осуществить какой-нибудь нечестный фракционный манёвр, подорвать чью-либо репутацию революционера, Ленин поручал выполнение такой задачи Зиновьеву»[587]. Вместе, прихватив с собой семьи, они вернулись в Российскую революцию в апреле 1917 года, воспользовавшись знаменитым «пломбированным вагоном», который был предоставлен немецкими властями. В партии шутили над этой близостью, называя Зиновьева второй женой Ленина. Для последнего никакие человеческие отношения не могли заслонить собой фанатичное следование догмам марксизма. Единственная попытка Зиновьева проявить политическую самостоятельность, выступив против ленинского решения о немедленной подготовке к вооруженному захвату власти в октябре 1917 года, обернулось ярлыком «капитулянт» и постановкой вопроса об исключении из партии. Через несколько дней Зиновьев и сам вышел из ЦК ввиду того, что его большинство отказалось от создания «однородного социалистического правительства».
 «Исполнительный Комитет настоятельно просит американских товарищей немедленно основать подпольную организацию». Письмо Г. Е. Зиновьева американским коммунистам
12 января 1920
[РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 157. Д. 2. Л. 13]
«Исполнительный Комитет настоятельно просит американских товарищей немедленно основать подпольную организацию». Письмо Г. Е. Зиновьева американским коммунистам
12 января 1920
[РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 157. Д. 2. Л. 13]
На этом попытки фронды, навеянные опытом политической борьбы в европейских демократических странах, закончились. Обжегшись на воде, Зиновьев стал еще более строгим в выполнении ленинских указаний, поддержав вождя в дискуссии о Брестском мире и получив важный пост председателя Совнаркома Петроградской трудовой коммуны. Политическое влияние подпитывало философские амбиции нашего героя, на которого стал работать многочисленный аппарат референтов и спичрайтеров. Значительная часть его кадров рано или поздно перейдет на работу в Коминтерн.
3.2. После Бреста
12 апреля 1918 года Зиновьев выступил на заседании Петроградского совета с большим докладом, посвященным роли национального вопроса в революционном процессе[588]. Он нарисовал широкую перспективу, начав с ранней новой истории и пройдясь по самым различным странам мира от Австрии до Индии, от Ирландии до Палестины. Везде получалось одно и то же — национальные противоречия выступали проекцией классовых. Позже Зиновьев будет истово цитировать Ленина, но в 1918 году у него были и другие авторитеты, которые вели его вперед в своих утопиях. «Прав был Каутский, — утверждал он, — когда говорил, что социализм подведет все человечество к тому, что останется 3–4 основных языка, на которых говорит подавляющее большинство цивилизованного человечества. И в этот момент национальный вопрос будет решен окончательно, мы тогда не будем его замечать»[589]. В докладе своеобразно трактовалась ленинская интерпретация России как «слабого звена в цепи мирового империализма»: западная буржуазия «сильна не только голым насилием, но она сильна всей системой обмана, насилия, лицемерия. Буржуазный строй — это сложная машина. Нам так легко было разрушить самодержавие именно потому, что оно не стояло на высоте буржуазной техники». В передовых странах для несравненно более опытного правящего класса «было делом техники суметь использовать старину, использовать историю, использовать эти национальные войны, которые оставили глубочайшие следы в жизни народов, суметь их использовать так, как это нужно господам империалистам»[590]. Переходя к России, Зиновьев предпочел опираться на ленинский принцип самоопределения наций. «Мы никого не желаем загонять в рай дубиной, мы не желаем требовать, чтобы те народы, которые были завоеваны царем, чтобы они принадлежали к нашему государству. Мы стоим за то, чтобы государство было возможно более сильное, централизованное, мы не за распад России, но достигнуть этого можно не дубиной, а тем, чтобы создать такие условия в нашей стране, при которых эти народы будут сами тяготеть к нам, захотят жить в рамках России»[591]. Наша цель — «собрать единое, цельное, большое Российское государство», — подчеркивал докладчик. Я. М. Свердлов и Г. Е. Зиновьев
1918
[РГАСПИ. Ф. 71. Оп. 54. Д. 4. Л. 38]
Я. М. Свердлов и Г. Е. Зиновьев
1918
[РГАСПИ. Ф. 71. Оп. 54. Д. 4. Л. 38]
Все те народы, которые под влиянием буржуазных националистов захотят от него отделиться (Зиновьев приводил в пример Финляндию и Украину), будут обречены на то, чтобы стать сателлитами кайзеровской Германии. Однако новые российские власти не собираются бороться с ней ее же методами. «Мы бы не могли оказать большей услуги германским капиталистам, если бы стали разжигать ненависть к Германии, как таковой. Они натравили бы своих рабочих, мы своих, а им только этого и нужно, чтобы мы отказались от наших принципов интернационализма»[592]. Частным случаем его практического применения была борьба с погромными настроениями против евреев, с которыми зачастую отождествлялись большевики. Подобные настроения выгодны только буржуазии, которая стремится «посеять человеконенавистничество в самых массовых размерах»[593]. «Еврейство всегда являлось линией наименьшего сопротивления… Мы превосходно понимали, почему черносотенцы особенно ненавидели евреев. Мы марксисты, понимали, откуда это происходит. Раз наиболее гонимый народ, обездоленный, то вполне естественно, что из его рядов выходит наибольшее число революционеров». Переходя от теории к практике, Зиновьев указывал, что сейчас центральная задача нашей партии — «остановить погромное движение» в стране, не останавливаясь перед самыми крутыми мерами: «…мы будем расстреливать погромщиков, как расстреливали спекулянтов, мародеров и взяточников»[594]. Как бы схематично и даже утопично не звучала сегодня такая программа пролетарского интернационализма, на четвертом году всемирной бойни за ней готовы были последовать миллионы рабочих и крестьян, одетых в солдатские шинели. Без такой программы революционного выхода из войны не было бы свержения монархий в Центральной и Восточной Европе, без нее левые радикалы разных стран не смогли бы найти общего знаменателя, объединившись в Коммунистическом Интернационале. Зиновьеву нельзя отказать в личной храбрости ни в дни захвата власти большевиками, ни в начальный период имплементации Брестского мира, когда германские войска при поддержке финских националистов пытались продвинуться как можно ближе к Петрограду. 25 апреля 1918 года Председатель Северной трудовой коммуны вместе с военкомом М. М. Лашевичем отправился в форт Ино, игравший ключевую роль в защите Кронштадта. Ему удалось предотвратить капитуляцию форта после того, как его предал комендант, перебежавший к белофиннам (за спиной последних стояли немецкие войска генерала фон дер Гольца). Прекрасно знавший немецкий язык, Зиновьев быстро разобрался, что немецкие парламентеры на самом деле не знают родного языка, но финнам было выгодно выдавать себя за немцев, которые примерялись к роли новых хозяев распавшейся Российской империи.
 Провозглашая разрыв со «старым миром», большевики обращались к лубочным образам былинных богатырей, теперь вооруженных винтовкой
Плакат эпохи Гражданской войны
[Из открытых источников]
Провозглашая разрыв со «старым миром», большевики обращались к лубочным образам былинных богатырей, теперь вооруженных винтовкой
Плакат эпохи Гражданской войны
[Из открытых источников]
С Зиновьевым прибыли в Ино несколько сотен матросов с кораблей, стоявших в Кронштадте. Ссылки финнов на то, что форт не относится ныне к территории Советской России, были отвергнуты. До получения приказа из Москвы, заявил Зиновьев, гарнизон будет оборонять крепость, а когда силы будут на исходе, взорвет ее укрепления и эвакуируется на кораблях Балтийского флота. В конце концов стороны договорились о том, что «вопрос должен решиться сношениями центральных правительств»[595]. Советскому полпреду Иоффе удалось согласовать в Берлине компромиссное решение, оставлявшее форт за Россией, однако отсутствие прямой телеграфной связи не позволило реализовать его на практике: 15 мая 1918 года укрепления Ино были взорваны, а его гарнизон эвакуировался в Петроград[596]. За данным спором последовала целая серия советско-германских конфликтов, связанных с расплывчатостью ключевых положений Брестского мира. Наиболее известным из них является увод части кораблей Черноморского флота из Севастополя в Новороссийск, за которым последовал германский ультиматум. В разгар конфликта, выступая на общегородской партийной конференции, Зиновьев защищал политику «передышки», которая отдала превосходящим силам германской армии значительную часть западных окраин Российской империи. «Очень может быть, что передышка не так кончится, как мы ожидаем. В Германии победила военная реакционная партия. Наверху идет борьба между шпагой и кошельком — между рубаками и банкирами»[597]. При этом, замечал докладчик, военные во главе с генералом Людендорфом считают, что «советская власть дала им больше, чем можно получить путем захвата», а потому возобновление боевых действий в непосредственной близости от Петрограда представляется маловероятным. В своей концепции «мирной передышки» Ленин и его соратники рассчитывали на то, что Советская Россия будет со стороны наблюдать за военным конфликтом двух империалистических коалиций. Однако надолго расположиться в удобной позиции «третьего радующегося» не удалось, уже в начале октября 1918 года Германия запросила мира на условиях победителей. Поставленный Зиновьевым полгода назад вопрос о том, можно ли «собрать единое, цельное, большое Российское государство», приобрел практическое значение. На примере украинского гетмана Скоропадского Зиновьев показывал метания правящих кругов государств-лимитрофов: «…мы не знаем, чему больше удивляться: бесстыдству или шарлатанству». Один за другим они объявляли себя сторонниками Антанты и в одностороннем порядке разрывали договоры, подписанные в условиях немецкой оккупации.
 Григорий Евсеевич Зиновьев
Художник И. И. Бродский
1920
[РГАСПИ. Ф. 489. Оп. 1. Д. 68. Л. 20]
Григорий Евсеевич Зиновьев
Художник И. И. Бродский
1920
[РГАСПИ. Ф. 489. Оп. 1. Д. 68. Л. 20]
Чтобы выстоять во враждебном окружении, Советской России надо обернуть себе на пользу борьбу двух течений в лагере западной буржуазии. «Одни говорят, что надо идти напролом, пулеметы — единственный язык, который понимает эта чернь — рабочие и крестьяне. Другое течение среди буржуазии сводится к тому, что надо как-нибудь попытаться обойти историю, попытаться в любовных объятиях задушить революцию»[598]. Лавирование между ними будет продолжаться недолго, лишь до того момента, когда начавшаяся в Германии буржуазно-демократическая революция перерастет в революцию, которую возглавит пролетариат. На этом пути стоят социал-демократы, предавшие идеалы марксизма в 1914 году и готовящиеся повторить это во второй раз. «Германским рабочим надо совершить вторую революцию, свою октябрьскую революцию для того, чтобы покончить с этой бандой „социалистов“, которые являются буржуями второго призыва». Лидер нового правительства страны социал-демократ Фридрих Эберт отказался от хлеба, который предложила немецкому народу Советская Россия. Что ж, подводил итог Зиновьев, тогда мы отправим его «по адресу того человека, который заслужил доверие, — по адресу Карла Либкнехта, который сумеет распределить этот хлеб действительно правильно»[599]. Либкнехт, сын одного из основателей СДПГ и Второго Интернационала, будет убит менее чем через два месяца, но надолго станет первым «мучеником» мировой революции, запечатленным в именах заводов, улиц и даже целых населенных пунктов Советской России. Выступая на митингах, Зиновьев неоднократно проводил аналогии между Вторым Интернационалом и родителями, предавшими и бросившими своих детей. Еще до окончания мировой войны он отдавал себе отчет, что восстановление международной организации не за горами, тем более что социал-демократические партии легально существуют в большинстве европейских стран. Вклад российских социалистов, образовавших вместе со своими единомышленниками в Швейцарии новый Интернационал, был иным: «У нас не существовало ни конгрессов, ни секретарей, мы не вносили взносов, хотя наша революция внесла взнос несколько иной в международную революцию. Мы ассигновали несколько миллионов на поддержку интернационалистической агитации в Европе»[600]. Вряд ли все его слушатели были в восторге от подобных признаний — в городе свирепствовал голод. Для подъема настроений измученных петроградских рабочих (далеко не все из них были в восторге от идеи поделиться хлебом с немецкими братьями — в городе был страшный голод) Зиновьев устроил целую серию митингов, на которые были приглашены иностранные гости, разделявшие идеалы большевизма. Вот только один список докладчиков, многие из них станут коммунистами первого призыва: 19 декабря 1918 года на Дворцовой площади выступали Рейнштейн от США и Садуль от Франции (их переводила итальянская социалистка российского происхождения Анжелика Балабанова), Файнберг от Англии, Сирола от Финляндии, Берг от германского Совета в Петрограде, Маркович от Сербии, Антонов от Болгарии, представители Индии, Персии, Туркестана, Кореи и Китая, не названные поименно английские и американские военнопленные.
 Борис Исаевич Рейнштейн
Июль 1924
[РГАСПИ. Ф. 492. Оп. 2. Д. 214. Л. 1]
Борис Исаевич Рейнштейн
Июль 1924
[РГАСПИ. Ф. 492. Оп. 2. Д. 214. Л. 1]
 Жак Садуль
Художник И. И. Бродский
1920
[РГАСПИ. Ф. 489. Оп. 1. Д. 68. Л. 52]
Жак Садуль
Художник И. И. Бродский
1920
[РГАСПИ. Ф. 489. Оп. 1. Д. 68. Л. 52]
Зиновьев солировал на митинге, уверяя слушателей, что для скорейшей победы мировой революции необходимо сплочение коммунистов всех стран в единый боевой союз: «Третий Интернационал еще не сложился формально, но он уже существует в действительности. Я смотрю на наше собрание только как на маленькое преддверие, как на увертюру великого собрания Третьего Интернационала, который, я убежден, соберется также в Петрограде»[601]. Пафос подобных митингов, тиражируемый центральной прессой, не мог не вызвать отклика в Москве. Организационные способности Зиновьева, равно как и его ораторский дар, как нельзя лучше сочетались с информацией об издании коммунистических газет в Германии и Австрии, первые экземпляры которых стали для Ленина лучшим подарком к рождеству. Не прошло и недели после митинга интернационалистов в Петрограде, как газета «Правда» опубликовала призыв к созданию Коммунистического Интернационала. На сей раз Зиновьев мог быть уверенным в том, что его заслуги не будут забыты и Ленин не обойдет его своим вниманием.
3.3. Первые шаги Коминтерна
В архивах не сохранилось никаких свидетельств о том, почему именно Зиновьеву было поручено руководство Коммунистическим Интернационалом. На предварительном обсуждении, состоявшемся накануне открытия Учредительного конгресса, его попросили сделать доклад лишь по второстепенному вопросу — об отношении коммунистов к социалистическим партиям и к Бернской конференции. Наш герой присутствует на коллективной фотографии всех делегатов, но его нет на фото, запечатлевшем стол президиума и сидящих за ним Ленина, швейцарца Платтена, немцев Клингера и Эберлейна[602]. В ходе конгресса Зиновьев был достаточно активен, и в конечном счете именно он выступил с отчетом о деятельности РКП(б) (пропустив перед собой при обсуждении первого пункта повестки дня представителей Германии и Швейцарии). Его доклад выглядел достаточно сухо для коммунистической партии, впервые в истории завоевавшей всю полноту государственной власти, изобилуя цифрами и деталями (об избирательной системе Советской России, бюджетных ассигнованиях, деятельности аппарата пропаганды и т. д.). Переходя к международной деятельности большевиков, докладчик поставил на первое место субсидии зарубежным соратникам, тогда это еще не считалось большим секретом[603]. Проблема заключалась в том, что таких соратников можно было пересчитать по пальцам — на Учредительный конгресс прибыло всего два делегата, имевших мандаты от своих партий. Выдавая желаемое за действительное, Зиновьев пафосно завершил свое выступление: «…мы уже дожили до такого момента, когда лучшие элементы рабочего класса всех стран считают за честь организоваться в партию коммунистов и идти по пути, на который мы вступили»[604]. На третий день работы конгресса группа делегатов в очередной раз поставила вопрос о немедленном создании нового Интернационала. Первым по проекту соответствующей резолюции высказался представлявший КПГ Эберлейн, который имел поручение своей партии голосовать против такого «преждевременного» решения. Вслед за ним слово взял Зиновьев, который сообщил, что внесенный на обсуждение экспромт был обсужден накануне в редакционной комиссии, где доминировали лидеры РКП(б). Он признал, что в большинстве европейских стран коммунисты еще никак не проявили себя, и задал собравшимся в зале вопрос, на который сам и ответил: «Вы хотели бы иметь сначала формально организованные коммунистические партии во всех странах? Но у вас есть победоносная революция, и это больше, чем формальное основание партий»[605]. Все остальные участники дискуссии высказались в поддержку резолюции, и вопрос был тут же проголосован — Коммунистический Интернационал, который в России назывался Третьим, а за рубежом — Московским, стал реальностью. В тот же день о работе Учредительного конгресса впервые рассказала советская пресса, позже в ней появилось и официальное сообщение о создании Коминтерна. Активность Зиновьева, его полемический запал против конкурентов из рядов социал-демократии (он объявил их «маргариновыми социалистами», а их резолюции — «идейным убожеством») не осталась незамеченной. Очевидно, что вопрос о руководителе созданного Интернационала обсуждался в узком кругу большевистского руководства уже после завершения конгресса, но формального решения принято не было, поскольку РКП(б) по логике вещей являлась всего лишь одной из секций Коминтерна, т. е. подчиненной структурой. Вряд ли можно сомневаться в том, что решающее слово в данном вопросе оставалось за Лениным, и он его высказал. Вождь РКП(б) был мастером сложных кадровых комбинаций, и здесь он не изменил себе. В день закрытия конгресса он отмел все возражения Балабановой, представлявшей там Циммервальдское движение, и объявил, что решением ЦК партии она назначена Генеральным секретарем Коминтерна[606]. Лучшей кандидатуры для оформления его фасада трудно было придумать. Но стержнем создаваемой структуры должен был стать кто-то из своих, и здесь выбор пал на Зиновьева. В расчет были приняты связи с зарубежными социалистами, наработанные им за долгие годы эмиграции, свободное владение немецким языком и даже представительная внешность. Не последнюю роль сыграла и зиновьевская активность в проведении агитационной кампании до и после Учредительного конгресса. Так или иначе, поручение принять на себя опеку над только что созданной международной организацией коммунистов было для нашего героя весьма лестным, и не в правилах большевиков было отказываться от нового фронта работы, особенно, если она открывала новые горизонты. При этом Зиновьев продолжал оставаться руководителем Петроградской организации РКП(б) и главой Северной коммуны, что заставляло его буквально разрываться между двумя российскими столицами. Протокол № 12 заседания Бюро ИККИ об отпуске валюты для заграничной работы, в том числе для создания Я. Рейхом (Томасом) издательства в Германии
29 апреля 1919
[РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 1. Д. 1. Л. 25]
Протокол № 12 заседания Бюро ИККИ об отпуске валюты для заграничной работы, в том числе для создания Я. Рейхом (Томасом) издательства в Германии
29 апреля 1919
[РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 1. Д. 1. Л. 25]
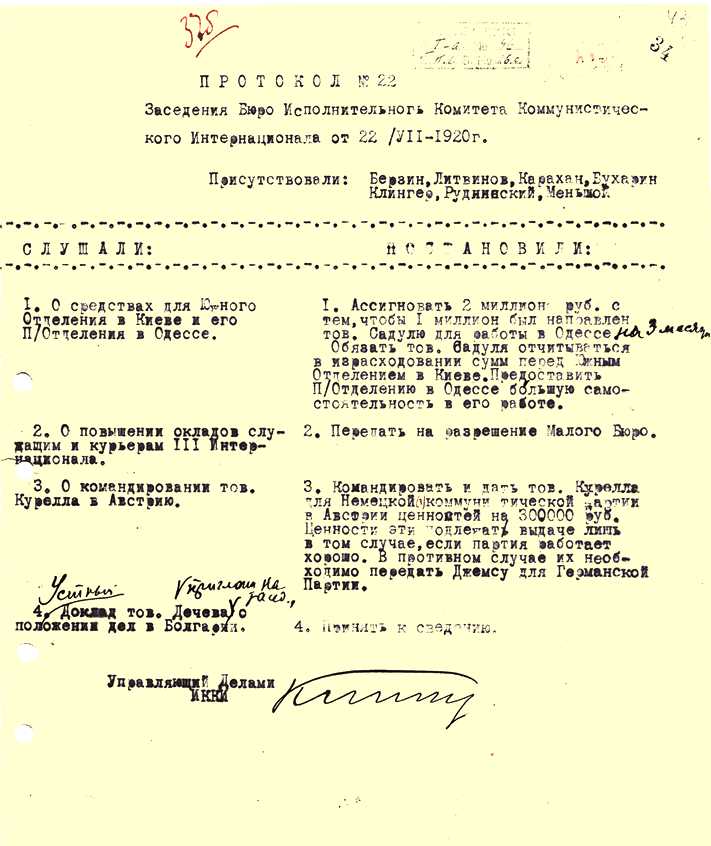 Протокол № 22 заседания Бюро ИККИ с постановлениями по финансовым вопросам
22 июля 1920
[РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 1. Д. 1. Л. 47]
Протокол № 22 заседания Бюро ИККИ с постановлениями по финансовым вопросам
22 июля 1920
[РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 1. Д. 1. Л. 47]
Ситуация не менялась на протяжении всех лет, которые он возглавлял Коминтерн. После Третьего конгресса Зиновьев жаловался Ленину: «Надо решить вопрос о моей работе… Выход один: либо Коминтерн перенести в Питер, либо мне оставить Петроград и переехать в Москву. Радек, Кун и др., находящиеся здесь, настаивают на первом»[607]. Кроме того, лидера международной организации коммунистов постоянно отвлекали партийные поручения, выполнение которых он считал более важным. Спустя два года Иосиф Пятницкий, также делегированный в Коминтерн российской партией, перечислив узкие места в его деятельности, сообщал Зиновьеву свой вывод: «Дело могло бы быть изменено, если бы Вы могли целиком отдаться работе ИККИ так же, как Вы теперь работаете в РКП»[608].
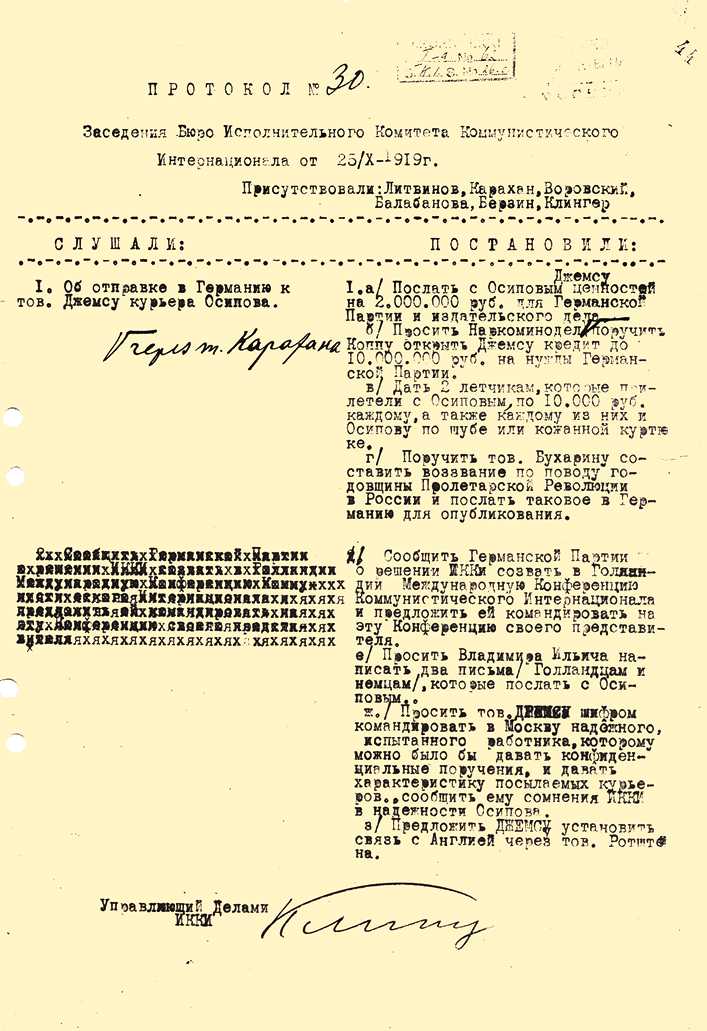 Протокол № 30 заседания Бюро ИККИ с поручениями Джемсу (Томасу), находившемуся в Берлине
25 октября 1920
[РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 1. Д. 1. Л. 81]
Протокол № 30 заседания Бюро ИККИ с поручениями Джемсу (Томасу), находившемуся в Берлине
25 октября 1920
[РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 1. Д. 1. Л. 81]
Во время своих коротких наездов в Москву наш герой честно бился за материальные интересы Коминтерна, как будто это был один из наркоматов Советской России. На первых порах подобные решения принимались келейно и лишь позже приобретали форму протоколов ЦК РКП(б). Так, Зиновьев уже 26 марта 1919 года информировал сотрудников аппарата Коминтерна о получении кредита в 1 млн рублей, передаче в его ведение иностранных коммунистических групп, находившихся ранее под опекой ЦК РКП(б). В ходе заседания он подчеркнул, что Коминтерн принимает на себя пропагандистские функции, ранее возлагавшиеся на Наркоминдел, и заявил о том, что руководство последнего не в восторге от появления конкурента: «Задержка как в выходе журнала, так и вообще в работе Бюро III Интернационала происходит вследствие технических трудностей и недостаточного содействия как со стороны тов. Чичерина, который проявляет некоторую ревность, так и со стороны партийных товарищей»[609]. Первый номер коминтерновского журнала, о котором шла речь в приведенной цитате, вышел в мае 1919 года и был выдержан в стиле передовиц газеты «Правда». Зиновьев в своей статье убеждал читателей в том, что международное коммунистическое движение «развивается с такой головокружительной быстротой, что с уверенностью можно утверждать: через год мы начнем забывать, что в Европе велась борьба за коммунизм, поскольку вся Европа станет коммунистической…»[610] Подобное настроение куратора «мирового большевизма» можно было понять — завершение Первой мировой войны привело к революционному кризису в побежденных странах, вслед за Российской империей рухнули Германская, Австро-Венгерская и Османская. То тут, то там возникали эфемерные советские республики, хотя срок их жизни исчислялся несколькими днями. Исключение составляла Венгерская советская республика, провозглашенная 21 марта 1919 года и просуществовавшая более четырех месяцев. Едва получив новое поручение, Зиновьев телеграфировал в Будапешт директивы, которые, по его мнению, помогли бы местным левым социалистам продержаться во враждебном окружении: «…нас очень удивляет, почему Вы до сих пор не опубликовали декрета о земле… Вы помните, какое значение имел декрет о земле в России, когда мы отдали землю крестьянам без всякого выкупа. Нам сдается, что декрет о земле должен бы быть и у Вас в Венгрии первым декретом»[611].
 Запись разговора по прямому проводу Г. Е. Зиновьева и Бела Куна о состоянии дел в Советской Венгрии
30 марта 1919
[РГАСПИ. Ф. 324. Оп. 2. Д. 10. Л. 2]
Запись разговора по прямому проводу Г. Е. Зиновьева и Бела Куна о состоянии дел в Советской Венгрии
30 марта 1919
[РГАСПИ. Ф. 324. Оп. 2. Д. 10. Л. 2]
30 марта из Будапешта пришел ответ Бела Куна — военнопленного австро-венгерской армии, принявшего во время пребывания в России идеалы большевизма и создавшего по возвращении на родину коммунистическую партию: через три дня венгерский Совнарком опубликует декрет о национализации всех земель. Следование «русскому примеру» казалось иностранным неофитам волшебным ключиком, который откроет дверь в светлое будущее. Кун сообщал о том, что строит партию по образу и подобию большевистской, берет за основу советский строй, выборы в стране пройдут по Конституции РСФСР, лишившей эксплуататоров права избирать и быть избранными. С русскими военнопленными ведется пропагандистская работа, они активно записываются в местную Красную армию. «Необходимо, чтобы III Интернационал прислал в Венгрию своего представителя»[612]. Вскоре к ней присоединилась Советская Бавария, просуществовавшая около трех недель. Тем не менее на одном из первых заседаний ИККИ обсуждался вопрос об открытии там заграничных отделений Коминтерна, которые могли рассчитывать на солидную финансовую подпитку. Зиновьев разрывался между Москвой и Петроградом, отсутствуя на большинстве заседаний. Ввиду его частого отсутствия было создано Малое бюро ИККИ, облеченное правом принятия оперативных решений без запроса мнения Председателя. Вечером 14 апреля 1919 года состоялось первое заседание группы московских сотрудников Исполкома, на котором присутствовали М. И. Калинин от ВЦИК и Л. М. Карахан от Наркоминдела. Доклад делал Зиновьев, затем обсуждался вопрос о том, как «ввиду передвижения рев. событий разгрузить Москву, перенеся работы в филиальные отделения в Киеве, Венгрии и Баварии»[613]. После того, как немецкий совет отказал Коминтерну в просьбе предоставить занимаемое им здание (особняк заводчика Берга в Денежном переулке, который в 1918 году занимало германское посольство), было решено отправить запрос о «помещении, могущем быть предоставленным в здании гостиницы Метрополь». Однако на него претендовал и Наркоминдел, который и получил в свое распоряжение изысканную недвижимость. Отсутствие Зиновьева в Москве ввиду слабой и нестабильной связи между столицами стало серьезной проблемой уже при рождении Коминтерна. 29 мая ему жаловался только что назначенный секретарем ИККИ Яков Берзин: «Нашу работу чрезвычайно тормозит Ваш „сепаратизм“, перехватывание иностранных материалов и проч. …» 19 июня он же подробно описывал, как наличие трех параллельных центров (вероятно, имелся в виду Киев) мешает налаживанию осмысленной работы новой международной организации. Его послание заканчивалось ультиматумом: «…необходимо или перестроить нашу организацию в смысле строгой централизации руководства — или же ликвидировать наш аппарат»[614]. В конце концов такое положение стало совершенно нетерпимым, и пленум ЦК РКП(б) 3 июля 1919 года принял решение о том, что оперативные вопросы сотрудники аппарата ИККИ должны решать самостоятельно, «не дожидаясь ответа от Петрограда», а самому Зиновьеву предписывалось «в особо важных случаях, а при отсутствии экстренности и вообще, сноситься по поводу предпринимаемых в Петрограде шагов с т. Бухариным», который, таким образом, превращался во второе лицо в коминтерновской иерархии[615].
 Записка Я. Берзина Г. Е. Зиновьеву о срочной необходимости централизовать руководство Коминтерном
29 мая 1919
[РГАСПИ. Ф. 324. Оп. 2.Д. 2. Л. 41]
Записка Я. Берзина Г. Е. Зиновьеву о срочной необходимости централизовать руководство Коминтерном
29 мая 1919
[РГАСПИ. Ф. 324. Оп. 2.Д. 2. Л. 41]
Весь первый год работы аппарата ИККИ прошел в выработке модуса собственной работы, причем к нему сотрудники продвигались методом проб и ошибок. В члены Исполкома должны были кооптироваться представители иностранных компартий, но, во-первых, число партий увеличивалось медленно, а во-вторых, Гражданская война и изоляция советской России делали невозможным приезд в Москву «посланцевпрогрессивного человечества». В результате все решения принимались сотрудниками аппарата без оглядки на последних, и эта практика работы Коминтерна (российский стержень при международной упаковке) сохранялась на протяжении всей его истории. Образованное по решению Восьмого съезда РКП(б) Политбюро ЦК настаивало на скорейшем издании журнала «Коммунистический Интернационал», который должен был выходить на нескольких языках мира, несмотря на жесточайший дефицит бумаги в стране. К июлю 1919 года был издан второй номер журнала на немецком языке, качество которого не удовлетворило ни Зиновьева, ни Клингера: «…уже в первом было несколько ляпсусов, а второй ими кишмя кишит»[616]. Попытка вынести центры принятия решений за пределы России также потерпела фиаско. Вначале была разгромлена Советская Бавария, в августе 1919 года такая же судьба постигла и Венгрию. В Киеве господствовал Петлюра, в Берлине утвердилась Веймарская республика, лидеры которой после «спартаковского восстания» в январе 1919 года также не жаловали коммунистов. Страны Скандинавии, сохранявшие либеральные режимы, находились слишком далеко от потенциальных очагов революционных выступлений. В конце концов было принято решение образовать Западноевропейское бюро Коминтерна (ЗЕБ) в Амстердаме, опираясь на поддержку голландского активиста Рутгерса, который принял участие в работе Учредительного конгресса, прибыв в Россию из США через Сибирь. Но уже первая конференция ЗЕБ в начале 1920 года прошла под контролем местных ультралевых, не обращавших никакого внимания на директивы Москвы (точнее, сделавших вид, что они их не получили). Зиновьев счел за лучшее вообще отказаться от коминтерновских филиалов, ограничившись отправкой за рубеж отдельных эмиссаров. Последние, подобно Абрамовичу, везли с собой значительные суммы денег и драгоценности, которые следовало потратить на формирование той или иной компартии[617]. По своим функциям они весьма напоминали облеченных чрезвычайными полномочиями комиссаров Красной армии, которых партия направляла на самые опасные участки фронта. Конечно, деятельность Коминтерна в момент его становления не сводилась к организационным вопросам. В политическом плане речь шла о том, чтобы завершить раздел наследия Второго Интернационала, т. е. привлечь на свою сторону массы рабочих, входивших в довоенное социал-демократическое движение. В некоторых странах уже в годы войны произошел раскол на левые социалистические партии, выступавшие с пацифистскими лозунгами, и правые социал-демократические, которые продолжали настаивать на необходимости поддержки своих правительств в их военных усилиях. Так, в Германии весной 1917 года образовалась Независимая социал-демократическая партия (НСДПГ), в которую перешли из СДПГ как ведущие марксистские теоретики (К. Каутский, Э. Бернштейн, Р. Гильфердинг), так и основная масса радикально настроенных рабочих. Позже эту партию стали называть «центристской», поскольку на крайне левом фланге социалистического движения утвердились группы и течения, ориентированные на Коминтерн. Политический словарь последнего изобиловал лексикой, набравшей популярность в годы мировой войны. Применительно к другим социалистическим партиям речь шла о «фронтальном наступлении», «разоблачении дезертиров», «завоевании массовой базы» и т. д. В декабре 1919 года Зиновьев подготовил проект письма к рабочим, входящим в НСДПГ, выдержанный в резко обличительном тоне. В нем чувствовалось влияние приемов военной пропаганды, обращенной на войска и население противника. Здесь также делалась ставка на то, чтобы запугиванием, разгромной патетикой и демонизацией противника («предательство вождей, подкупленных буржуазией») посеять страх и сомнения в лагере противника, с тем, чтобы перетянуть на свою сторону колеблющихся и сомневающихся, даже не утруждая себя вопросом о том, а не могут ли левые социалисты европейских стран стать потенциальным союзником Советской России. Такой подход не нашел поддержки остальных членов Политбюро, позицию которых выразил Ленин: «Обращение сейчас к немецким рабочим и в таком тоне общего нападения считаем преждевременным»[618]. В условиях изоляции только что созданного центра Коминтерна от зарубежных рабочих все большее значение приобретала его внутриполитическая функция — нужно было убедить население Советской России в том, что путь, избранный ее новыми властителями, является безальтернативным, опирается на строгое научное предвидение и ведет страну в светлое будущее. Несмотря на то, что простые россияне страдали от голода, холода и эпидемий, погибали на фронтах Гражданской войны, подобные обещания, эксплуатировавшие мессианский настрой русского народа, не просто примиряли его с суровой действительностью, но и мобилизовали на «последний и решительный бой». Знаменитый диалог из фильма «Чапаев», где герои рассуждают о том, сможет ли легендарный комдив Красной армии возглавить ее «в мировом масштабе», достаточно точно отражал настроения большевистского авангарда. И пропаганда Коминтерна, утверждавшая, что все передовые силы западного мира ждут от Советской России социального освобождения, делала свое дело. 16 мая 1920 года, выступая на Четвертом съезде Советов Украины, Зиновьев поклялся, что после начала войны с Польшей «Коммунистический Интернационал становится весь целиком в ваши ряды. Война украинской и российской советской республики с панами не дело национальное, а дело всего международного пролетариата… ваша война есть моя война», заявляют партии Коминтерна[619].
3.4. Второй конгресс
Решение пленума ЦК РКП(б) о созыве Второго конгресса Коминтерна было принято по инициативе Ленина 8 апреля 1920 го-да, но зарубежные компартии и группы (к тому моменту их число приближалось к пятидесяти) узнали о нем гораздо позже. Резолюцию пленума через две недели продублировал ИККИ, тогда же он определился с датой открытия и повесткой дня конгресса[620]. Его подготовку было решено держать в тайне до соответствующего решения руководства РКП(б), хотя эмиссары Коминтерна в европейских странах получили по конспиративным каналам соответствующую информацию. На письме Зиновьева о созыве конгресса, датированном 20 мая, есть пометка «не разглашать, пока ИККИ не опубликует сам», что произошло лишь в начале июня[621]. То, что потенциальными докладчиками по ключевым пунктам повестки дня конгресса выступали только лидеры РКП(б), отражало явный «русский акцент» формировавшегося коммунистического движения. Трамваи, ожидающие делегатов Второго конгресса на площади перед Московским вокзалом в Петрограде
19 июля 1920
[Из открытых источников]
Трамваи, ожидающие делегатов Второго конгресса на площади перед Московским вокзалом в Петрограде
19 июля 1920
[Из открытых источников]
5 апреля 1920 года закончился Девятый съезд партии, доклад о деятельности Коминтерна на котором сделал Карл Радек, только что вернувшийся из заключения в Германии и сразу же назначенный секретарем ИККИ[622]. Вряд ли Зиновьев добровольно уступил право выступления на съезде своему потенциальному оппоненту, но он заболел и не принимал участия в его работе. По выздоровлении наш герой активно включился в подготовку Второго конгресса, который по замыслу его организаторов должен был продемонстрировать силу и потенциал сложившегося на тот момент международного коммунистического движения.
 Торжественный прием делегатов Второго конгресса в Петрограде
19 июля 1920
[РГАСПИ. Ф. 489. Оп. 2. Д. 69. Л. 1]
Торжественный прием делегатов Второго конгресса в Петрограде
19 июля 1920
[РГАСПИ. Ф. 489. Оп. 2. Д. 69. Л. 1]
Идея провести торжественное открытие конгресса в «колыбели революции» — Петрограде родилась не сразу. Соответствующее решение Политбюро приняло только 18 июня 1920 го-да, ровно за месяц до начала его работы. Не вызывает никаких сомнений, что инициатива исходила от самого Зиновьева, который возглавлял городской совет и организацию РКП(б) и не упустил возможности лишний раз продемонстрировать соратникам и оппонентам в Политбюро ресурсы собственной вотчины. Прибывшим из Москвы делегатам целый день показывали достопримечательности города, делая акцент на роли Петрограда в Российской революции. Само открытие конгресса состоялось в Таврическом дворце, где когда-то заседала Государственная дума. Очевидец восторженно описывал убранство зала, где должна была состояться церемония: «Красные знамена, отделанные золотой вышивкой, украшали президиум и зал. Такие же полотна с эмблемами, расписанные и расшитые, свешивались с хоров. Тропические деревья в кадках, присланные оранжереями из-под Петрограда, красиво выделялись своей зеленью на пламени знамен. Дорожки устилали пол и проходы в зале и президиуме. Стол президиума с рядами кресел находился как бы в закругленной нише на значительном возвышении»[623]. Первым на трибуну для приветственного слова поднялся сам Зиновьев. Фирменным знаком его патетики был прогноз скорой победы коммунистов в ведущих странах мира, не обошлось без этого и в Таврическом дворце: «Я позволю себе высказать пожелание, чтобы к 50-летию Парижской коммуны мы имели во Франции Французскую Советскую республику». Впрочем, он тут же признал, что заблуждался, обещая год назад на Учредительном конгрессе Коминтерна, что следующий пройдет уже за рубежом. «Пожалуй, в самом деле мы увлеклись, пожалуй, в самом деле не год, а два или три года надо будет для того, чтобы вся Европа стала Советской»[624]. Организаторам конгресса предстояло не только обеспечить его парадную сторону, убедив иностранцев в невиданных достижениях советской власти, но и решить серьезные проблемы коммунистического движения, выявившиеся к 1920 году. Компартии так и не смогли завоевать массовое влияние, «смердящий труп Второго Интернационала», над которым год назад потешалась советская пресса, не только ожил, но и вернул себе влияние в большинстве зарубежных стран. Более того, социал-демократы в некоторых из них вошли в правительственные коалиции. Этот факт требовал серьезного осмысления и достойного ответа. В то время как Ленин принял на себя идейную борьбу с сектантскими наклонностями крайне левых лидеров зарубежных компартий, сформулировав их диагноз в своей книге как «Детская болезнь „левизны“ в коммунизме», Зиновьев взял на себя выработку позиции Коминтерна по отношению к его соседям справа — центристским партиям. 29 июня 1920 года Политбюро рассмотрело подготовленные им тезисы об условиях их приема в Коминтерн[625]. Обрастая поправками и дополнениями, этот документ стал краеугольным камнем коммунистического движения, которое в погоне за идейной чистотой и верностью «русскому примеру» упустило из виду реалии послевоенной эпохи, что предопределило его медленный, но неотвратимый упадок. Ни до, ни после конгресса Зиновьев не делал секрета из того, в каком ключе он сформулировал эти условия, называя их то игольным ушком, сквозь которое не должны пробраться оппортунисты всех мастей, то часовыми, поставленными у дверей Коммунистического Интернационала[626]. В первом проекте содержалось всего 9 условий, в историю эта резолюция вошла как «Двадцать одно условие приема в Коминтерн». По мнению Зиновьева их обсуждение являлось «одним из важнейших вопросов» конгресса, это подтверждал тот факт, что оно продолжалось на трех пленарных заседаниях[627]. Доработка условий как до конгресса, так и в его ходе шла только в направлении их детализации и ужесточения. Специальная комиссия предложила поименно назвать «заведомых реформистов», от которых следует избавиться той или иной социалистической партии до присоединения к Коминтерну. Список вождей, которым предстояло закрыть доступ в новый Интернационал, постоянно расширялся, равно как и список их преступлений против рабочего класса. Каждый из вождей РКП(б) считал своим долгом внести в документ собственный пункт, чтобы оставить свой след в истории. Так, Ленин предложил включить в руководящие органы будущих компартий как минимум две трети товарищей, стоявших на платформе Коминтерна еще до его Второго конгресса (условие № 20). Это выглядело не только самым радикальным, но и наименее выполнимым на практике предложением. Не решаясь принять на себя ответственность, Зиновьев обратился к Радеку: «Это — предложение Ильича. Стоит ли сейчас оглашать или подождать?» Радек написал в ответ, что «согласен с предложением, но лучше теперь еще не оглашать»[628]. В результате двадцатое условие было снято комиссией, что было серьезной уступкой представителям НСДПГ, участвовавшим в работе конгресса[629]. Однако Ленин не сдался и пустил свое предложение, переведенное на иностранные языки, по делегациям, добившись его восстановления в списке условий. Чтобы замять неловкую ситуацию, Председатель Коминтерна представил ленинскую поправку как консолидированное решение делегации РКП(б) на конгрессе[630].После конгресса он так рассказывал о модусе работы над этим пунктом повестки дня: «Мы тщетно ломали голову, нельзя ли еще десять условий придумать, чтобы было труднее проскользнуть к нам реформистам. Каюсь, вся наша изобретательность ничего больше придумать не могла»[631]. Все это выглядело как максимальное расширение комплекса карантинных мероприятий, чтобы не допустить заражения подопечных пациентов опасной болезнью. В ходе дебатов вокруг условий приема в Коминтерн Зиновьев озвучил перед собравшимися недвусмысленный ультиматум от имени ЦК РКП(б): «…наша партия готова скорее остаться в полном одиночестве, чем соединиться с такими элементами, которые мы считаем буржуазными»[632]. Если уже сложившиеся коммунисты были готовы принять любой рецепт очищения от буржуазной скверны, то левые социалисты из Германии и Италии расценили такую формулировку как захлопнувшуюся дверь. Представитель делегации НСДПГ Криспин писал: «Сами москвичи преградили нам путь в Москву своими решениями и своими действиями против независимых. На основании этих резолюций мы сможем попасть в Кремль лишь тогда, когда слепо подчинимся коммунистам и растворимся в международной коммунистическо-синдикалистской организации»[633]. Пройдет совсем немного времени, и лидеры Коминтерна выскажутся за «единый рабочий фронт», предложив центристам начать переговоры о политическом сотрудничестве. Забегая вперед, скажем, что и эта, фактически последняя попытка преодолеть раскол социалистического рабочего движения закончилась ничем, превратившись в запутанную дипломатическую процедуру. Зиновьев выступал с основным докладом по первому пункту повестки дня уже в Москве, где 23 июля конгресс продолжил свою работу. Речь шла о задачах компартий до и после захвата власти пролетариатом. Председатель ИККИ выступал более конкретно и деловито, чем Ленин в Петрограде, хотя и придерживался общепринятой схемы, используя в качестве опорной линии опыт большевизма. Для победы в любой стране пролетариям нужна «партия централизованная с железной дисциплиной». После захвата власти она не отходит на второй план, как утверждают анархо-синдикалисты. Напротив, объем решаемых ею задач увеличивается — партия ведет пролетариат дальше, ибо она есть «мозг советов»[634]. Менторский тон Зиновьева встретил сопротивление английских делегатов, представлявших движение «шоп-стюартов» — фабрично-заводских старост. Организационно оставаясь частью лейбористской партии, они отстаивали синдикалистскую тактику «прямого действия». Джек Таннер заявил, что признание модели большевистской партии как единственно верной приведет Третий Интернационал в тупик догматизма, ибо «то, что произошло и происходит сейчас в России, не должно все же выставляться как образец для всех стран». Он так закончил свою мысль: «Революцию в Англии будем делать мы; наши русские товарищи сделать ее не могут; они могут помочь нам, но действовать придется нам, и мы учимся и готовимся к этому»[635]. Хотя в Коминтерне еще не разучились спорить, содержательная дискуссия была оборвана на полуслове, и дальнейшее обсуждение тезисов передали в комиссию. Протесты англичан и их предложение продолжить дебаты на пленуме были тихо похоронены. На следующий день Зиновьев озвучил итоги работы комиссии, дело ограничилось редакционными поправками, не менявшими сути дела. Председатель Коминтерна обрушился на неназванных поименно «сторонников автономии», которые тянут Третий Интернационал в болото, оставленное его предшественником. «Мы должны быть единой коммунистической партией, имеющей отделения в разных странах»[636]. С этим никто из присутствовавших не решился поспорить.
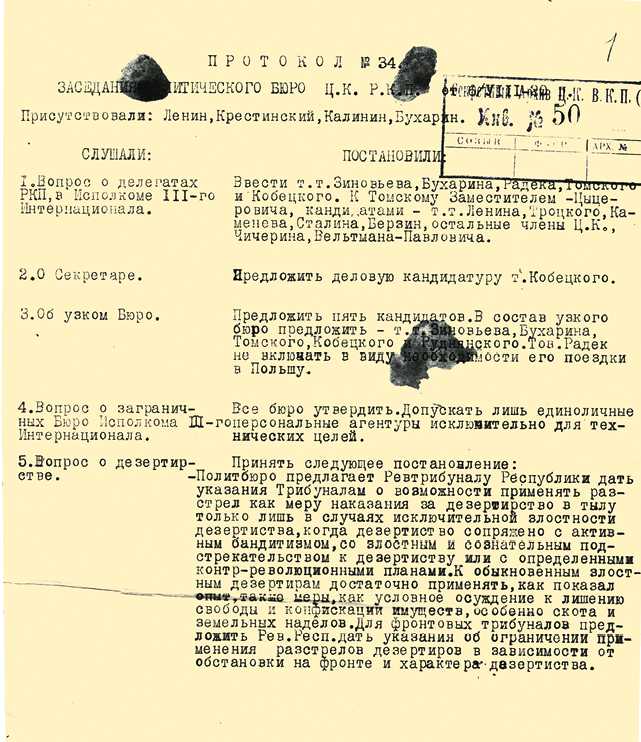 Протокол заседания Политбюро ЦК РКП(б) с постановлением о представителях российской партии в Исполкоме Коминтерна
6 августа 1920
[РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 163. Д. 84. Л. 1]
Протокол заседания Политбюро ЦК РКП(б) с постановлением о представителях российской партии в Исполкоме Коминтерна
6 августа 1920
[РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 163. Д. 84. Л. 1]
Курс большевиков на жесткое подчинение зарубежных коммунистов воле «генерального штаба мировой революции» отражал, с одной стороны, опыт милитаризации всей общественной жизни в России в условиях Гражданской войны, а с другой — предвосхищал процесс укладывания самой российской партии в прокрустово ложе догматизма и единомыслия, символом которого станет резолюция Десятого съезда РКП(б) «О фракциях», принятая весной 1921 года. Растущее увлечение лидеров большевизма командными методами достаточно ярко проявилось в ходе первого заседания Исполкома, состоявшегося в последний день работы Второго конгресса. Заседание вел Зиновьев, и по его речи было видно, что он крайне устал и спешил поскорее закончить затянувшееся мероприятие. Членов ИККИ делегировали отдельные партии, как правило, это были сами участники конгресса, им и полагалось избрать оперативный орган управления Коминтерном — Малое бюро. Накануне Политбюро утвердило пять кандидатур от РКП(б) в этот орган, и Зиновьев озвучил их перед собравшимися[637]. Фактически речь шла о том, что практика первых месяцев работы Исполкома, когда бразды правления «русские товарищи» передали в свои собственные руки, будет продолжена. Это выглядело как откровенная узурпация власти в Коминтерне одной партией и вызвало протест ряда иностранных делегатов. Леви внес альтернативное предложение: избрать в Малое бюро семь человек, четверо из которых должны представлять компартии крупнейших западных стран. Более того, по аналогии с русским Политбюро Малое бюро должно стать ключевым органом руководства Коминтерном, которому нужен еще и «политический генеральный секретарь» из членов РКП(б)[638]. Леви предложил на этот пост Радека, его поддержали итальянец Джачинто Серрати и делегат из США Джон Рид. Зиновьева испугала скорее не сама кандидатура Радека, а перспектива, что Малое бюро, не фигурировавшее в принятом на конгрессе уставе Коминтерна, присвоит себе политические функции. А значит, станет реальным органом коллективного руководства в ИККИ, ограничив полномочия и авторитет его Председателя. Предложение Леви уничтожит Исполком как таковой, его заседания «сведутся лишь только к парадам», — заявил Зиновьев. Малое бюро, по его мнению, задумано исключительно как технический орган оперативной связи с РКП(б), его задачей является рассмотрение текущих вопросов, в том числе финансирования отдельных партий. При молчаливой поддержке тех иностранных членов ИККИ, которые еще не вошли в курс дела и безоговорочно доверяли «русским товарищам», этот орган был утвержден в составе, предложенном Политбюро. Торжественное закрытие Второго конгресса Коминтерна состоялось вечером 7 августа. Оно прошло в Большом театре и было оформлено как совместное заседание делегатов с членами ВЦИК, Московского совета и горкома РКП(б). Иностранные участники конгресса расселись на сцене, за столом президиума собрались только что избранные члены Исполкома, в зале разместились функционеры российской компартии, столичных профсоюзов и Советов. Зиновьев разместился в первом ряду между двумя символическими фигурами — лидером КПГ Леви, олицетворявшим собой преемственность с довоенным социалистическим движением, и Николаем Бухариным, которому будет посвящен отдельный очерк. Вначале Леви, а потом и Бухарин покинут орбиту Коминтерна, первый — с ярлыком «ренегата», второй — «правого уклониста». Известная закономерность истории заключалась в том, что и сам Зиновьев не избежит этой участи: он будет подвергнут коминтерновской анафеме в период между уходом первого и исключением второго. Сразу же после завершения конгресса Зиновьев во главе солидной группы его участников отправился в Баку, где собирались представители стран Востока, по тем или иным причинам не добравшиеся до Москвы. Коминтерн уже заявил о себе как о покровителе и защитнике всех угнетенных народов, однако на практике выполнение этой функции выглядело отнюдь не гуманитарной миссией. В Северной Персии, совсем недалеко от Баку, местные коммунисты при поддержке советских войск и Каспийской флотилии совершили попытку создать Гилянскую социалистическую республику. Первоначальные успехи, связанные с привлечением к антиправительственной борьбе популярного в народе Кучук-хана, сменились поражениями, когда его отстранили от командования персидской Красной армией[639]. К началу работы Съезда народов Востока (1 сентября 1920 года) дела у восставших шли еще не так плохо. В докладах Зиновьева и Радека перед собравшимися была раскрыта перспектива движения к светлому будущему, минуя капитализм, для того чтобы сбросить оковы империализма, коммунистам следовало встроиться в национально-освободительное движение, не выдвигая на первых порах партийных лозунгов. Это касалось и зависимых стран первого эшелона, таких как Турция, Индия и Китай. Но опыт Гиляна показал, что, как только местные коммунисты добирались до власти и захватывали ключевые посты в армии, от национального союза ничего не осталось. Пройдет несколько лет, и именно по такому пути пойдет Китайская компартия.
 Заседание нового состава Исполкома Коминтерна в Красном зале Большого Кремлевского дворца
Август 1920
[РГАСПИ. Ф. 489. Оп. 2. Д. 143. Л. 1]
Заседание нового состава Исполкома Коминтерна в Красном зале Большого Кремлевского дворца
Август 1920
[РГАСПИ. Ф. 489. Оп. 2. Д. 143. Л. 1]
Зиновьев принимал активное участие в выработке решений Политбюро, посвященных выделению средств, поставкам оружия и отправке руководящих кадров для стран Востока. Коминтерн здесь оказывался на вторых ролях, поскольку не считался организацией, способной строго соблюдать секретность. Многочисленные утечки информации, раздувавшиеся западной прессой, создали вокруг него ореол всемогущей тайной организации, своего рода мирового ордена меченосцев, что было весьма далеко от истинного положения дел. С другой страны, не было на земном шаре ни одного уголка, который остался бы без внимания коминтерновских эмиссаров. Естественно, на особом счету были страны, освобождение которых стало бы серьезным ударом по классовому врагу. Наряду с Китаем внимание РКП(б) привлекал Афганистан, являвшийся удобным «коридором» для проникновения в Индию, которую считали главным бриллиантом в короне Британской империи[640]. Именно об Афганистане, точнее о пропаганде идей коммунизма среди пуштунских племен, населявших южное приграничье этой страны, шла речь на секретной встрече в Баку, состоявшейся в начале июля 1925 года. Наряду с восточными коммунистами в ней конспиративно участвовали члены Политбюро и сотрудники Наркоминдела[641]. Это было последнее обсуждение восточной политики Коминтерна, в котором принял участие Зиновьев. После смерти Ленина его звезда неотвратимо закатывалась, хотя причины этого лежали достаточно далеко от гор Индостана.
3.5. Визит в Германию
После завершения Второго конгресса и Бакинского съезда Зиновьев продолжал львиную долю времени проводить в Петрограде, не назначая в Москве ответственного заместителя. Мелкие технические предложения, адресованные сотрудникам («Чтобы лучше пошло дело, предлагаю между 12 1/2 и 13 часами каждый день Вы мне звоните»[642]), проблемы не решали. Однако он стал узнаваемым лидером коммунистического движения, его портреты и карикатуры регулярно появлялись в зарубежной прессе, а имя превратилось в символ тайной деятельности заговорщиков, пытавшихся подорвать устои цивилизованного мира. Итоги конгресса показали, что центром надежд и забот Коминтерна стала Германия, переживавшая болезненный период становления демократических институтов. Превращение КПГ к концу 1920 года в массовую политическую организацию стало важным итогом усилий ИККИ, хотя руководство последнего не скрывало своих симпатий к левацким элементам внутри этой и других партий. Рассказывая о конгрессе, Зиновьев подчеркивал, что «мы расстались с этим „левым“ крылом как с друзьями»[643]. Правление КПГ, разделявшее умеренную, т. е. «правую» линию в большинстве вопросов оперативной политики, неизбежно оказалось в состоянии «холодной войны» с Москвой, которая обострилась после завершения Второго конгресса. Пауль Леви неоднократно заявлял своим соратникам по возвращении из Москвы, что будет решительно бороться с влиянием на партийный курс «туркестанцев»[644]. Под ними он понимал агентов Коминтерна, имевших солидные денежные ресурсы и неограниченные полномочия, что позволяло им беззастенчиво вмешиваться во внутренние дела той или иной компартии. В свою очередь Зиновьев не собирался менять свои приоритеты в немецком вопросе. 10 августа 1920 года он писал своему эмиссару в Берлине, что объем его компетенций не изменился, «не стесняйтесь в средствах» для расширения издательской деятельности. В вопросе об отношении к КРПГ «линия Радека и Леви отвергнута нашим Цека и Исполкомом Коминтерна. Постарайтесь во что бы то ни стало прислать от них новую толковую делегацию из рабочих. Если мы поведем правильную тактику, мы сможем лучшую часть их рабочих перевести к нам, „вождей“, а дураков и националистов выгоним»[645]. Кроме того, «у нас состоялось соглашение с левыми независимцами. Мы дали им денег на некоторые дела»[646].
 По итогам конгресса Г. Е. Зиновьев информировал своих эмиссаров за рубежом о том, что «линия Радека и Леви» отвергнута лидерами РКП(б) и Коминтерна
10 августа 1920
[РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 18. Д. 20. Л. 52–53]
По итогам конгресса Г. Е. Зиновьев информировал своих эмиссаров за рубежом о том, что «линия Радека и Леви» отвергнута лидерами РКП(б) и Коминтерна
10 августа 1920
[РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 18. Д. 20. Л. 52–53]
Речь шла о поддержке центробежных процессов в НСДПГ, которые прогрессировали и без прямого воздействия Москвы. Партия левых социалистов все больше теряла внутреннюю устойчивость, ее руководящие органы принимали противоречившие друг другу резолюции. На рейхсконференции НСДПГ (1–3 сентября 1920 года) «Двадцать одно условие» Коминтерна было отвергнуто, однако при выборах делегатов на партийный съезд 58 % голосов получили сторонники немедленного объединения с коммунистами. Без сомнения, это было решение о том, «быть или не быть» третьей рабочей партии в Германии[647]. Поскольку делегаты согласно модусу выборов получали императивный мандат, вопрос можно было считать решенным, какие бы речи не произносились на предстоявшем партийном форуме. Стремясь придать ему максимально открытый характер, Правление пригласило на него «русских товарищей», олицетворявших собой как сам большевистский режим, так и ряды его противников.
 Николо Бомбаччи
Художник И. И. Бродский
1920
[РГАСПИ. Ф. 489. Оп. 1. Д. 68. Л. 27]
Николо Бомбаччи
Художник И. И. Бродский
1920
[РГАСПИ. Ф. 489. Оп. 1. Д. 68. Л. 27]
 Соломон Абрамович Лозовский
Художник И. И. Бродский
1920
[РГАСПИ. Ф. 489. Оп. 1. Д. 68. Л. 60]
Соломон Абрамович Лозовский
Художник И. И. Бродский
1920
[РГАСПИ. Ф. 489. Оп. 1. Д. 68. Л. 60]
На сентябрьском пленуме ЦК РКП(б) обсуждался вопрос о том, кто же выступит на съезде от лица первых. В Германию просились и Бухарин, и Зиновьев, оба яркие полемисты, прекрасно владевшие немецким языком. Участник пленума записывал в своем дневнике, что все отдавали себе отчет в рискованности такого предприятия. «Конкуренция по вопросу о том, кому сидеть в Моабите или быть подстреленным из-за угла прусским юнкером, кончилась вничью. Решили ввиду трудного положения республики никого не посылать. Немцы, не исключая Леви, жалуются на московских диктаторов, а сами зовут их в Берлин. Пусть независимые расколются без участия „агентов Ленина“»[648]. Позже принятое решение было пересмотрено в рабочем порядке. На съезд НСДПГ в Галле (12–17 октября 1920 года) отправился Зиновьев, причем он поехал туда легально, получив все необходимые разрешения от германских властей[649]. Еще до отъезда он созывал туда лидеров итальянской (Серрати, Бомбаччи и Дженнари) и французской (Кашен и Фроссар) социалистических партий[650], рассчитывая, что те получат необходимый опыт, и в их странах раскол пройдет по немецкому сценарию. На пути из порта Штеттин до места проведения съезда в целях охраны Председателя ИККИ сопровождали высшие функционеры КПГ и НСДПГ, причем каждый из них, не стесняясь попутчика, пытался склонить влиятельного гостя на сторону собственной партии. В своей речи на съезде Председатель ИККИ сделал ставку на дискредитацию вождей и завоевание симпатий простых партийцев. Обращаясь к первым, он заявил: «Я убежден, что большое количество рабочих только потому еще не находится с нами, что вы рассказываете им о „московском кнуте“»[651]. Зиновьев показал себя блестящим оратором, его речь продолжалась четыре с половиной часа и оказала сильное воздействие даже на противников объединения[652]. От имени профсоюзного крыла коммунистического движения выступил С. А. Лозовский, позиция противников объединения была изложена в докладах Гильфердинга и Мартова. Из-за прогрессировавшей болезни Ю. О. Мартов не смог появиться на съезде, его доклад зачитал другой видный меньшевик Александр Штейн. Доводы лидера РСДРП — социалистической партии, оказавшейся вне закона в Советской России, были менее острыми, но более весомыми, чем у его оппонентов. Он отрицал, что в послевоенную эпоху рабочее движение оказалось расколотым на революционный социализм и реформизм. Реформизм был похоронен уже в годы войны, в то время как его противоположность, «коммунистический большевизм, пытающийся демагогически использовать чувства отчаяния и элементарного, сознанием не освященного возмущения масс, чтобы ускоренным путем прийти к социальному перевороту», приобрел незаслуженное влияние и несет ответственность за тяжелые поражения пролетариата последних лет[653]. Коминтерн в докладе Мартова выступал не как всемирный союз истинных революционеров, а как «объединение ряда коммунистических партий и сект вокруг русского советского государства. …Русское правительство решало и предписывало — остальные прилагали свою подпись». Это не что иное, как новая ипостась самодержавия, ибо «большевистская партия стоит вне контроля международного социализма в своей политике». Сознание коммунистических вождей «развращено всей обстановкой нынешней эпохи, когда широкие дезорганизованные массы жаждут с почти религиозной верой немедленной победы, немедленного конца вековым страданиям»[654]. Мартов не обошелся без библейских аналогий, назвав Ленина «московским Искусителем», апостолы которого бродят по миру в поисках новых жертв своего соблазна. Голосование по главному вопросу съезда в Галле было предопределено связанным мандатом его делегатов. Раскол НСДПГ давно уже стал свершившимся фактом, Зиновьев верно заметил, что здесь «в одном зале сидят две партии». 236 голосов было подано за присоединение к Коминтерну, 156 — против. Победившая фракция приняла название «НСДПГ (левая)», ее сопредседателями были избраны Эрнст Деймиг и Адольф Гофман. Противники присоединения покинули съезд, продолжив заседать в другом месте. К меньшинству примкнули 59 из 81 депутата рейхстага от НСДПГ, оно сохранило за собой старое название, партийную кассу и большинство партийной периодики, включая главную газету «Фрайхайт».
 Юлий Осипович Мартов
1917
[РГАСПИ. Ф. 421. Оп. 1. Д. 492]
Юлий Осипович Мартов
1917
[РГАСПИ. Ф. 421. Оп. 1. Д. 492]
В ходе дебатов на съезде Гильфердинг подчеркнул, что противники диктатуры Москвы сохраняют верность принципиальным требованиям марксизма. Мирный демократический приход рабочего класса к власти невозможен «в такой стране, как Германия, где в головах буржуазии доминируют реакционные представления о насилии как главном средстве обеспечения собственного господства»[655]. Верность германскому «меньшевизму» сохранила лишь треть из 900 тысяч независимцев, причем большинство из них примкнуло к социал-демократии еще в предвоенные годы. В нее же они и вернутся после того, как станет очевидным откат протестной волны в странах Европы. Так и не успев оформиться организационно, «третий путь» европейского рабочего движения, который Мартов назвал революционным социализмом, начал исчезать с исторической арены. Яркое выступление Зиновьева не осталось без внимания властей Германии. 20 октября министр иностранных дел Вальтер Симонс заявил на заседании рейхстага, что за такие речи прокурору следует возбудить против него уголовное дело[656]. Чтобы не обострять отношения между двумя странами, которые только что начали налаживаться, было решено как можно скорее выслать лидера Коминтерна из страны, а до того посадить его под домашний арест. Вернувшись в Москву, Зиновьев в очередной раз продемонстрировал, что большевистское руководство живет героикой собственного прошлого, рассматривая свой путь к власти в качестве всеобщего канона. Съезд в Галле выглядел для него как сюжет из ранней партийной истории: «…как живо все это напоминает наш раскол с меньшевиками»[657].
 Г. Е. Зиновьев выступает с речью на Третьем конгрессе Коминтерна
23 июня — 12 июля 1921
[РГАСПИ. Ф. 490. Оп. 2. Д. 148. Л. 1]
Г. Е. Зиновьев выступает с речью на Третьем конгрессе Коминтерна
23 июня — 12 июля 1921
[РГАСПИ. Ф. 490. Оп. 2. Д. 148. Л. 1]
Еще одной новацией, навеянной немецкими впечатлениями, стало понятие «рабочие-кулаки», которые в Германии развращены жизнью в достатке, доступом к теплым местечкам в профсоюзных и партийных структурах и никак не желают подниматься на баррикады. Настроения этого городского кулачества и отражали, по мнению Зиновьева, лидеры независимцев, оказавшиеся в роли «подколодной змеи», которую рано или поздно раздавит рабочий класс[658]. Делая официальный отчет на заседании ИККИ, его Председатель подчеркнул значение принятых на конгрессе условий: «…это порошок против насекомых, разъедающих тело рабочего класса»[659]. Читая подобные сентенции, руководители немецкой компартии сгорали от стыда, но не решались подвергать сомнению авторитет лидера Коминтерна[660]. Отказ рассматривать иностранных коммунистов как равных большевикам, менторский тон и высокомерие отличали зиновьевский стиль на протяжении всех лет его работы в Коминтерне. Лидер итальянских левых социалистов Серрати, на Втором конгрессе неоднократно оппонировавший Председателю ИККИ, присутствовал на съезде НСДПГ в Галле. Он не показался Зиновьеву достаточно боевым в отстаивании позиции Москвы, и после завершения съезда тот попросту отчитал итальянца так, как воспитывают нашкодившего мальчишку: «Тон, который Вы взяли по отношению к Советской России в Ваших докладах и статьях в „Аванти“, заставляет нас насторожиться и пожать плечами. Мы не узнаем Серрати. Нам его кто-то подменил. Это не тот Серрати, которого мы в самые трудные для Советской России минуты привыкли считать самым верным нашим другом»[661]. Нестабильность политической ситуации в Германии, которая усилилась после июньских выборов в рейхстаг, резко сокративших представительство в нем демократических партий, играла на руку коммунистам. В КПГ усилилось влияние левой оппозиции, которая считала осторожный курс Леви изменой ортодоксальному марксизму, отказом от большевистского пути к решающей победе. В начале 1921 года по поручению Коминтерна в Берлин прибыл Бела Кун, получивший чрезвычайные полномочия. Среди функционеров КПГ ходила версия, что предложенный им план вооруженного восстания в стране был разработан в Москве и согласован с Председателем ИККИ. Реализация этого плана должна была перечеркнуть агрессивные планы западных держав в отношении Советской России[662]. Хотя его миссия была тайной, весть об этом быстро распространилась в кругах радикально настроенных рабочих. Они распевали частушку:
 Г. Е. Зиновьев, К. Б. Радек и Н. И. Бухарин среди делегатов конгресса у входа в Большой Кремлевский дворец
23 июня 1921
[РГАСПИ. Ф. 490. Оп. 2. Д. 115. Л. 1]
Г. Е. Зиновьев, К. Б. Радек и Н. И. Бухарин среди делегатов конгресса у входа в Большой Кремлевский дворец
23 июня 1921
[РГАСПИ. Ф. 490. Оп. 2. Д. 115. Л. 1]
Конечно, на такую оценку роли Председателя ИККИ наложил свой отпечаток накал развернувшейся к тому времени борьбы в партийной верхушке. На самом деле Зиновьев, неизменно симпатизировавший левым, ни разу после октября 1917 года не решался идти наперекор воле вождя. Благоприятной ситуацией для нанесения контрудара по «левым» не воспользовался и Радек, которого трудно было обвинить в приверженности незыблемым принципам. Так или иначе, никто не нарушил заговор молчания вокруг роли московских эмиссаров, подтолкнувших немецкихкоммунистов к кровавой авантюре. Имена Бела Куна, Иозефа Пеппера и Августа Клейне даже не упоминались в связи с «мартовской акцией» и последующим расколом КПГ. Докладывая делегатам Одиннадцатого съезда РКП(б) об итогах Третьего конгресса, Зиновьев признал, что в русской делегации имелись «известные разногласия» по отношению к группе Леви, среди ее членов были и те, кто считал, что его еще можно исправить[669]. Этот пассаж был максимумом фронды, которую верный паладин мог позволить себе по отношению к своему вождю. Изгнание «левитов» и изоляция их сторонников играли на руку левым догматикам, видевшим в Исполкоме Коминтерна скорее военный штаб, нежели ареопаг единомышленников. С точки зрения Зиновьева, отставки Серрати и Леви «сделали наш Коминтерн более однородным, более цельным, идейно более выдержанным и дали нам тот Коминтерн, который нам нужен на ту полосу, которая нам предстоит»[670]. И тот и другой являлись для лидера Коминтерна «отрыжкой реформизма», т. е. балластом довоенного рабочего движения, который мешает движению международной организации коммунистов вперед, к завоеванию власти в мировом масштабе. Если с отдельными личностями можно было расправиться методом исключений, то для перетягивания в ряды коммунистов организованных рабочих западных стран оставался только путь голой агитации. На первых порах он казался достаточно эффективным, тем более что поднаторевшие в полемических баталиях большевики были уверены в том, что внутри России смогли завоевать симпатии трудящихся, разоблачая предательство своих собственных социалистов — меньшевиков и эсеров. О направленных против них методах работы ВЧК, а затем ГПУ они предпочитали не говорить. Зиновьев лично показывал пример дискредитации западных социалистов. В ответ на обращение Амстердамского Интернационала, предлагавшего прекратить взаимные нападки и «обмениваться честной информацией на основе признания общей цели служения интересам пролетариата»[671], Коминтерн ответил настоящей филиппикой, авторство которой принадлежит нашему герою. Вот только несколько зиновьевских пассажей, которые дают представление о том, насколько глубоким оказался ров между двумя течениями социалистического рабочего движения: «Примите наши уверения, граждане, в том, что мы хорошо понимаем, как трудно ваше положение, и что мы догадываемся, что не от сладкой жизни вы обратились к нам с тем письмом, на которое мы в настоящих строках отвечаем вам. Примите наши соболезнования по поводу того, что ваши ряды на глазах у всего мира тают с такой быстротой, и будьте уверены, передовые рабочие всего мира знают вам цену и уже в последнее время убедились, что для того, чтобы перешагнуть через власть капиталистов, необходимо по дороге перешагнуть и через желтую предательскую организацию, которая называется Амстердамским Интернационалом профессиональных союзов»[672]. Следует признать, что подобный подход к потенциальным союзникам вслед за Зиновьевым поддерживали многие из новообращенных коммунистов. К началу 1921 года радикальные идеологи КПГ оформили свои взгляды в «теорию наступления», утверждая, что никаких объективных причин для стабилизации буржуазного господства не существует. На первых порах с ними никто не решался спорить, хотя Зиновьев был вынужден осторожно признать, что во второй половине 1920 года революционная волна отступила и европейская социал-демократия начала возвращать себе утраченные позиции: «…мы имеем некоторый новый „расцвет“ меньшевизма в международном масштабе»[673]. Исполком Коминтерна и его партии рано или поздно должны были отреагировать на изменившиеся условия политической деятельности в послевоенной Европе, которые отодвинули на второй план изначальную установку на «последний и решительный бой». Эти новые нотки прозвучали в первом зиновьевском докладе после завершения Десятого съезда РКП(б), который одобрил переход к новой экономической политике, означавшей отступление большевиков от изначально провозглашенных целей. Выступая на беспартийной конференции рабочей молодежи Петрограда 23 апреля 1921 года, он сравнил новую Россию с набирающим силу подростком. Мы оказались на переломе двух эпох — только что случилось Кронштадтское восстание, прошла полоса забастовок на питерских предприятиях. «Советская Россия похожа на неокрепшего юношу. Если она надорвалась, если она нажила себе за это время множество болезней, то это нисколько не удивительно. И вот только сейчас эта полунадорванная Советская Россия может присесть на камень, может хоть немножко отдохнуть, перевести дыхание, оглядеться кругом и поставить перед собою по-настоящему вопрос о том, что было плохого и как по-новому начать делать нашу жизнь»[674]. Зиновьев продолжал поэтические аллегории: «Сейчас трудный переходный момент. Ломается голос у Советской власти. Когда была война, тогда о многом забывалось и все были терпеливы, в том числе и молодежь. А теперь каждый оглянулся на себя и всякий увидел, что сапоги запросили каши, всякий хочет, чтобы были лучшие школы, лучшее питание… Все говорят: дай. Все требуют немедленного улучшения, в том числе и вы. Я уверен, что этот дождь записок, которые сыплется сюда, на 99 % содержит те же самые слова: дай, дай»[675]. Приведенные цитаты показывают, что, даже оказавшись на большевистском Олимпе, Зиновьев, как и его соратники по Политбюро, отдавал себе отчет в том, что россиян волнуют не коммунистические дали, а новые сапоги, сытная еда и достойная зарплата…
3.6. Единый рабочий фронт и Первый пленум ИККИ
После Третьего конгресса главный конкурент Зиновьева в Коминтерне не только восстановил свои позиции, утраченные в 1920 году, но и стал в глазах членов Политбюро ключевым экспертом по Коминтерну в целом. После того, как рискованный шаг Радека и Леви — обращение ко всем рабочим партиям с Открытым письмом, предлагающим политическое сотрудничество в решении насущных проблем пролетариата, был одобрен Лениным, акции Зиновьева резко пошли вниз. И на сей раз не решившись спорить с авторитетом вождя, Председатель Коминтерна попытался дать собственное толкование новому курсу на единый рабочий фронт. 4 декабря 1921 года на заседании ИККИ он увязал новую тактику с растущей радикализацией пролетариата («теперь начинается новая волна, когда в настроениях рабочего класса начинается поворот влево»), который еще в прошлом году доверял обещаниям социал-демократов, что удастся достигнуть желаемых результатов без революционных потрясений. Это было «бабье лето» социал-реформизма, поскольку «широкие слои рабочего класса, уже до известной степени утомленные долголетней борьбой, еще раз поверили, что удастся, пожалуй, мирным путем решить роковой вопрос и избегнуть тяжкой борьбы»[676]. Зиновьеву пришлось признать, что вопрос о едином фронте первыми поставили социалисты, попытавшись перехватить и использовать в своих целях настроение низовых организаций своих партий. Не скрывая сарказма и щедро добавляя в свой доклад привычной патетики, он сделал следующий вывод: «…если мы относимся к ним с недоверием, мы смеемся над этими заправилами, то мы совершенно правы. Но это только внешняя сторона дела. Суть дела серьезна: внутренний процесс развития рабочего класса состоит в глубоком и страстном стремлении к борьбе единым фронтом против предпринимателей; это стремление надо понять и использовать его в целях коммунизма»[677]. В данной фразе заключалась квинтэссенция зиновьевского понимания новой тактики — она была призвана не улучшить положение европейского рабочего класса, а дать Коминтерну возможность отобрать массовую базу у социал-демократических партий. В речи 4 декабря Зиновьев ставил ей четкие границы— единый рабочий фронт не может означать ни автоматической поддержки коммунистами правительственных коалиций с участием социал-демократии (даже для того, чтобы та поскорее разоблачилась), ни потери компартиями своей организационной самостоятельности. То же самое относилось и к Красному интернационалу профсоюзов (Профинтерну), созданному в 1920 году и значительно уступавшему по численности Амстердамскому интернационалу, находившемуся под влиянием реформистов: сторонникам профсоюзного единства «мы отвечаем, что Амстердам — организация буржуазно-демократическая, а мы — организация пролетарская. Мы хотим вести переговоры с этой силой, идти вместе с ней там, где это возможно. Но мы не можем отказываться от своих собственных организаций»[678]. В заключительном слове по итогам дискуссии 4 декабря Зиновьев признал, что сама жизнь покажет, имеет ли новая тактика шансы на успех. Его соратники и оппоненты еще не потеряли способности к самоиронии, прерывая предложенный Председателем ИККИ образ шутливыми репликами: «Для того чтобы научиться плавать, мы должны броситься в воду, а не заниматься отговорками, что вода слишком холодная (Радек: и сырая). Опасность плавания известна — можно утонуть (Бухарин: стратегическое плавание). Мы должны сделать все, чтобы этого не случилось…» Важное место в зиновьевской речи занимало успокоение левых оппонентов единого рабочего фронта: «Мы должны так направить нашу тактику, чтобы вода полилась на нашу мельницу. Речь идет об изоляции других [т. е. социал-демократов. — А. В.], а не о совместной борьбе с ними. У нас в России нам многократно удавалось отобрать у меньшевиков лучшие элементы рабочего класса, и они сейчас находятся в наших рядах»[679]. Такое понимание тактики единого фронта обесценивало ее новизну, позволяло политическим оппонентам говорить о хитром маневре коммунистов, придуманном ими «троянском коне» для проникновения в лагерь социал-демократии и т. д. Впрочем, хватало ее противников и в рядах зарубежных компартий, лидеры которых утверждали, что непродуманный поворот вправо приведет к неразберихе и хаосу, ибо для простых коммунистов он будет означать отказ от конечных целей движения. Следует отдать должное членам РКП(б) в ИККИ, несмотря на внутренние разногласия, они высказались за вторичное обсуждение вопроса после того, как иностранные представители ознакомятся с переводом проекта тезисов о едином фронте на немецкий язык. Шансы влиятельных лидеров зарубежных компартий, таких как Серрати, Леви или Шмераль, на то, чтобы представить лидерам РКП(б) собственное видение новой тактики, соответствующее реальностям послевоенного мира, падали день ото дня. Для посвященных в дела Коминтерна не являлось большим секретом то обстоятельство, что тормозом для развертывания политической инициативы любой партии была ее идейная и финансовая зависимость от Москвы. Елена Стасова, прибывшая в Берлин по поручению Ленина для наведения порядка и налаживания подпольной работы КПГ, в своем первом отчете сообщала вождю, что «сейчас некоторое время извне не получалось денег и весь партийный аппарат готов остановиться… Некоторые товарищи прямо и открыто говорят, что как только у партии не будет субсидий от Коминтерна, то она распадется, ибо все теперь работают, рассчитывая на жалованье»[680]. Внешний контроль московских инстанций за отдельными секциями, практиковавшийся в годы их становления и нередко принимавший гротескные формы, из детской хвори коммунистического движения превратился в хроническую болезнь, от которой оно не избавилось на протяжении всей своей истории. Тревогу по поводу «антимосковского настроения среди ближайших людей», имея в виду лидеров зарубежных компартий, выражал и Карл Радек. Чтобы подчеркнуть вовлеченность Коминтерна в европейские дела, он даже предложил провести не в Москве, а в Берлине Первый расширенный пленум ИККИ, посвященный обсуждению тактики единого рабочего фронта[681]. Идея рабочих встреч лидеров компартий, избавленных от помпезности и размаха конгрессов, давно витала в воздухе. Руководство КПГ, претендовавшей на звание «образцовой секции Коминтерна», решило воспользоваться этим шансом для того, чтобы добиться перезагрузки отношений между Исполкомом и отдельными партиями. 19 февраля делегация КПГ, прибывшая на Первый расширенный пленум ИККИ (21 февраля — 4 марта 1922 года), направила руководству партии большевиков «для предварительного обсуждения» письмо о необходимости реорганизации Коминтерна и Профинтерна, а также серьезного изменения методов их работы[682]. Немецкая партия сохраняла сложившуюся стилистику обращения к вышестоящим инстанциям, признав первым делом свою вину в том, что при Леви в ее руководстве имелась «скрытая враждебность по отношению к Москве». В то же время, отмечалось в письме, не является секретом и тот факт, что все кардинальные вопросы в Коминтерне решаются «русскими товарищами» без привлечения иностранных коммунистов. Делегация КПГ предлагала отказаться от «системы личного влияния на партии путем отправки частных писем», которую практиковал Зиновьев, и положить конец практике рассылки по всему миру эмиссаров с чрезвычайными полномочиями. Принятие подобных предложений означало бы серьезное сокращение, изменение структуры и образа действий коминтерновского аппарата, а их обсуждение на пленуме ИККИ могло по-новому оформить иерархию отношений между ним и зарубежными партийными лидерами. Это таило в себе угрозу «дворцового переворота», и Зиновьев сделал все, чтобы погасить данную инициативу. Он добился того, что Политбюро отказалось от рассмотрения письма КПГ по существу, поручив ему, Радеку и Каменеву переговорить с членами немецкой делегации в частном порядке[683]. Остальное являлось делом бюрократической техники, вопрос был тихо похоронен в аппарате ЦК РКП(б)[684]. Председатель ИККИ отдавал себе отчет в том, что порученная ему сфера деятельности — отнюдь не «тротуар Невского проспекта», и за внешним послушанием зарубежных участников пленума кроется глухое недовольство. После первых дней его работы он запросил помощи у Ленина: «Мне кажется совершенно необходимым доверительно, в узком закрытом собрании (человек 8–10) объяснить находящимся здесь вожакам… компартий основное в тактике нашей делегации в Генуе[685]. В особенности „пацифистскую“ часть нашей тактики. Иначе в решающий момент выйдет столпотворение Вавилонское и недовольство громадное. Вред будет очень большой»[686]. Под пацифизмом Зиновьев понимал готовность советского правительства к компромиссам, в частности к выплате царских долгов, что вызывало непонимание иностранных коммунистов, продолжавших свято верить в то, что Советская Россия была и останется костью в горле Версальской системы международных отношений. Их расчеты на то, что пленум как новая форма взаимодействия Исполкома и национальных секций внесет свежую струю в повседневную жизнь Коминтерна и даст им шанс донести до Москвы свои идеи и представления, не оправдались. Вопрос о едином рабочем фронте стоял лишь десятым пунктом повестки дня, еще дальше, на девятнадцатое место был отодвинут вопрос о перестройке организационной структуры Коминтерна. Отношение иностранных коммунистов к введению нэпа также осталось без критического рассмотрения, дело ограничилось докладом об экономической политике Советской России, который был заслушан без содержательного обсуждения. Предвосхищая стиль советского руководства, который будет доминировать на протяжении всей его последующей истории, руководитель вверенного ему учреждения предпочитал «заметать мусор под ковер», т. е. скрывать имевшиеся проблемы, чтобы не попасть в немилость к высшему начальству. Вот еще один пример зиновьевской перестраховки: получив от Александры Коллонтай просьбу направить ее в загранкомандировку, он оказался между двух огней. С одной стороны, «фурия революции» все еще обладала серьезным авторитетом и влиянием, с другой — на Десятом съезде РКП(б) она поддержала «рабочую оппозицию», за что была подвергнута остракизму. 12 января 1922 года Зиновьев ответил Коллонтай: «…я распорядился ОМСу сделать Вам паспорт. Но вместе с тем я счел своим долгом вопрос о Вашей поездке поставить в Политбюро». На его заседании выяснилось, что на Третьем конгрессе «Вы резко выступили против политики РКП в основном вопросе современности», а недавно заявили о своем несогласии с политикой нэпа. Александра Михайловна Коллонтай
1920-е
[РГАКФД. № 2-97666]
Александра Михайловна Коллонтай
1920-е
[РГАКФД. № 2-97666]
Зиновьев продолжал: «Политбюро поручило мне запросить Вас, считаете ли Вы сами, что сможете в данное время, находясь за границей, выступать так, чтобы ни в чем существенным не разойтись с линией партии». В современных внешнеполитических условиях, когда Советская Россия билась за свое дипломатическое признание, «малейшие внутренние споры могут сильно повредить Коминтерну и республике. Для ясности: Политбюро не высказалось против поездки Вашей, но поручило мне запросить Вас на указанную тему»[687]. Яснее было просто некуда: для любого деятеля российской компартии выезд за рубеж, а тем более за государственный счет, превращался в награду, которую можно было заслужить только абсолютной лояльностью.
3.7. Зиновьев о встрече трех Интернационалов
Наш герой пытался взять на себя подготовку конференции трех рабочих Интернационалов со стороны Коминтерна, выступая в качестве передаточного звена между Лениным, занятым государственными делами, и Радеком, который всю весну 1922 года находился в Берлине и напрямую контактировал с лидерами европейских социалистических партий. Времена изменились, если осенью 1920 года Зиновьев мог легально приехать в Германию на съезд НСДПГ, то полтора года спустя о заграничных поездках пришлось забыть. Ему оставалось только комментировать происходившие за рубежом события членам Исполкома и знакомить их с позицией «русских товарищей». Вопрос о повестке дня первой в послевоенной истории встречи всех течений социалистического движения набрал особую остроту после того, как в Москве начали подготовку судебного процесса против 47 видных деятелей партии правых эсеров. Советская пресса называла их террористами, местные партийные организации проводили митинги, участники которых требовали для подсудимых смертной казни. Но для европейских социалистов российская партия социал-революционеров являлась собратом по классовой борьбе. 16 марта 1922 года Объединение немецких профсоюзов, примыкавшее к СДПГ, напрямую обратилось к Ленину: «…от имени восьми миллионов организованных рабочих Германии мы просим амнистии для обвиняемых… Судьба международного рабочего движения зависит от прекращения насильственного подавления и преследования братских партий» в России[688]. Через пару дней в Москву направил телеграмму лидер британских лейбористов Р. Макдональд: «Срочно просим приостановить суд над социалистами до обсуждения в Берлине»[689]. Ни для кого не было секретом, что «русский вопрос» рискует стать главным камнем преткновения на конференции полномочных представителей трех рабочих Интернационалов. Телеграмма Р. Макдональда В. И. Ленину с требованием приостановить суд над лидерами эсеровской партии
20 марта 1922
[РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 157. Д. 1. Л. 11]
Телеграмма Р. Макдональда В. И. Ленину с требованием приостановить суд над лидерами эсеровской партии
20 марта 1922
[РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 157. Д. 1. Л. 11]
5 апреля 1922 года Зиновьев докладывал в ИККИ о первом дне ее работы (конференция началась в Берлине 2 апреля). Из сообщений телеграфных агентств и подоспевших телеграмм от делегации Коминтерна (ее возглавляли Бухарин и Радек) стало ясно, что для зарубежных социалистов вопрос о внутриполитической эволюции Советской России является центральным. Вопрос этот неоднократно поднимался в ходе предварительных совещаний. Речь шла прежде всего о том, что правящая партия большевиков использует всю мощь государственного аппарата для того, чтобы уничтожить другие социалистические партии — партии меньшевиков и эсеров. «…Мы действительно являемся [единственной] легальной политической партией в России, мы обладаем, так сказать, монополией легальности, — утверждал Зиновьев. — Это большое преимущество, и я даже считаю, что без такой монополии диктатура пролетариата невозможна, по крайней мере, в свои первые годы, и что мы сможем проводить диктатуру в жизнь, лишь подавляя всё, что борется против нее. Посмотрим, как будет выглядеть диктатура в других странах, быть может, возможна иная тактика, но уже сегодня можно предвидеть, насколько она маловероятна. Я по крайней мере не могу себе представить, что в Германии диктатура пролетариата будет возможна при сохранении свободы для социал-демократов»[690]. Далее Председатель Коминтерна формулировал собственное понимание единого рабочего фронта в условиях Советской России, позже оно получит в партийной пропаганде название «блок коммунистов и беспартийных». Говоря о привлечении рабочих к управлению государством и установлению взаимного доверия между ними и правящей партией, он вплотную приблизился к идее «политического нэпа»: «Хотя мы и имеем власть, мы должны установить тесный контакт со всей массой трудящегося народа, и мы должны идти на известные уступки, подобные тем, которые мы сделали в экономической сфере, мы должны сделать их и в других сферах»[691]. Все это отдавало одновременно маниловщиной и прекраснодушием, приправленными несмелым либерализмом, однако в первую годовщину нэпа лидеры РКП(б) могли позволить себе подобные вольности. После того, как Ленин сказал свое веское слово — представители Коминтерна в Берлине «заплатили слишком дорого», позволив зарубежным социалистам вмешиваться во внутренние дела Советской России, Зиновьев взял более жесткий тон: «…какие бы то ни было новые шаги нашей делегации откладываются до рассмотрения вопроса о ратификации берлинского результата»[692]. Это являлось характерной чертой зиновьевского стиля руководства и до, и после революции (редкие исключения лишь подтверждали правило): при любом обращении к вождю следовало показать себя наиболее радикальным и бескомпромиссным, чтобы тот имел возможность поправить своего паладина, про себя отдав должное его напору и решительности. После встречи трех Интернационалов Ленин согласился с тем, что дальнейшая кампания должна строиться на разоблачении половинчатой политики социал-реформистов, во всей коммунистической прессе их следует называть «эсерами и меньшевиками», которые в годы Гражданской войны выступали заодно с помещиками и буржуазией. Даже запланированные на 20 апреля рабочие демонстрации в поддержку позиции Советской России на Генуэзской конференции следовало проводить, не стесняясь резких выражений в собственной агитации. Ленин лишь один раз поправил «левизну» Зиновьева, признав допустимым выпуск совместных заявлений «девятки». Но уже одно это удержало Председателя Коминтерна от разгромных оценок итогов Берлинской встречи. Он достаточно точно констатировал мотивы, определявшие позицию лидеров западной социал-демократии: «…они были против созыва всемирной [рабочей. — А. В.] конференции, так как не хотят быть скомпрометированными сотрудничеством с коммунистами перед предстоящими выборами» в парламенты своих стран. А вот Венский Интернационал «удалось склонить к известному, хотя и неформальному союзу с Коммунистическим Интернационалом, т. к. он был инициатором [Берлинской. — А. В.] конференции и не хотел ее распада без каких-либо позитивных итогов»[693]. Увы, из этой констатации не вытекали практические выводы, которые позволили бы коммунистам продолжить начавшийся диалог с лидерами европейской социал-демократии. Зиновьев был прав и в том, что стержнем конфликтных отношений оставался «русский вопрос», и прежде всего предстоявший в Москве процесс против руководства партии правых эсеров. Он напомнил собравшимся на заседании ИККИ 20 апреля 1922 года, что даже минимальные уступки делегации Коминтерна в данном вопросе были расценены Лениным как чрезмерные. А значит, оставалось только усилить пропагандистскую кампанию, «припечатав к стенке и разоблачив наших врагов». При этом Зиновьев в соответствии с установкой Политбюро предложил членам ИККИ ратифицировать достигнутое в Берлине соглашение и одновременно «дать задание нашим трем товарищам в комиссии девяти начать оппозиционную борьбу в ней»[694]. 25 апреля 1922 года Зиновьев разослал всем членам ЦК РКП(б) одобренные Политбюро директивы коминтерновской делегации на предстоящей встрече «девятки», которые были утверждены ИККИ в присутствии Радека и Цеткин. «Из документа видно, что уступки, сделанные в Берлине, выходят из рамок принятой директивы»[695]. Наш герой имел все поводы для довольства — отчаянный поиск коминтерновцами на встрече трех Интернационалов достойного компромисса был перечеркнут его холодным неприятием, инспирированным ленинской статьей в «Правде». В дальнейшем Исполком Коминтерна исходил из того, что после Генуэзской конференции интерес «русских товарищей» к политическому сотрудничеству с европейскими социалистами сведется к нулю. Оставалось только ждать этого момента, используя поступавшую из-за границы информацию для того, чтобы продолжать процесс дисциплинирования отдельных компартий. Так, 6 мая Зиновьев распекал лидеров ФКП за то, что они саботировали совместные выступления в поддержку позиции Советской России в Генуе: «…впервые мы имели столь грубое нарушение дисциплины в Коммунистическом Интернационале»[696]. Но поскольку через пару недель «девятка» была распущена, устный выговор не привел к формальным взысканиям. После завершения встречи в Генуе (19 мая 1922 года) вопрос о продолжении даже минимального политического сотрудничества трех Интернационалов действительно потерял всякую актуальность. Именно Зиновьев с молчаливого одобрения Ленина (за годы, совместно проведенные в эмиграции, оба научились понимать друг друга без слов) начал кампанию за отказ от продолжения попыток найти общий язык с зарубежными социалистами. Для него это был оптимальный путь к тому, чтобы отодвинуть на второй план Радека, который уверенно входил в роль «серого кардинала» международной организации коммунистов. 19 мая члены ИККИ были поставлены перед фактом: РКП(б) готова к дальнейшим уступкам социалистам только при условии немедленного созыва всемирного рабочего конгресса. Зиновьев ограничился скупым комментарием: «Насколько можно предвидеть, разрыв неизбежен… но он не означает, что потерпела крах тактика единого фронта — пока лишь закончился ее первый этап»[697]. Он же настоял на том, чтобы в ходе единственной встречи «девятки» (она состоялась 23 мая 1922 года) представители ИККИ поставили вопрос о созыве всемирного рабочего конгресса ультимативно, зачитав собственную статью, подготовленную специально к этому дню. Ни Бухарин, ни тем более Радек не могли записать участие в берлинской встрече трех Интернационалов в собственный актив, тем более что сама делегация в своем отчете признала: «…что касается актуальной цели — созыва мирового конгресса — то конференция потерпела крах»[698]. Радеку оставалось лишь бросить Зиновьеву упрек в отсутствии политического чутья, поскольку его требование предъявить ультиматум закрыло коминтерновцам всякие возможности для дальнейшего маневрирования. Этот упрек уже не мог ничего изменить, хотя радековское письмо было разослано в копиях всем членам Политбюро: «Для меня было ясно, что требование Зиновьева огласить его статью на заседании комиссии девяти было тактической ошибкой… Ультиматум означал разрыв, однако когда мы доводим до разрыва, тактика состоит в том, чтобы провести его в наиболее благоприятных условиях для нас и наиболее неблагоприятных для противника. Была необходима дискуссия по сути всех требований и выдумок Второго Интернационала, которая вынудила бы разоблачиться и Двухсполовинный Интернационал. Но после изложения статьи Зиновьева для всех этих маневров уже не было места»[699]. Председатель ИККИ не обратил на этот упрек никакого внимания, поскольку переключился на решение новых задач. Летом 1922 года представители Коминтерна принимали самое активное участие в подготовке и проведении судебного процесса против партии правых эсеров (он проходил в Москве с 8 июня по 7 августа), и Зиновьев заранее распределил их роли: «Некоторые товарищи могли бы выступить в качестве защитников эсеров Коноплевой и Семенова, которые сейчас повернули к коммунизму, которые по нашему мнению выполнили свой долг, но которые все же на процессе будут выступать в роли обвиняемых»[700]. Речь шла о тех участниках процесса, на показаниях которых (подлинных и мнимых) строилась вся его режиссура, не случайно в научной литературе суд над эсерами рассматривается как предтеча сталинских показательных процессов[701]. В 1922 году такой подход казался само собой разумеющими, и Зиновьев продолжал свою мысль: «Протокол этого процесса будет, наверное, интереснейшей книгой, если удастся все хорошо зафиксировать», а сам суд в результате станет «наполовину процессом, наполовину конгрессом», сопоставимым по своему значению с форумами Коминтерна. Позже он даже увязал с началом процесса открытие Второго расширенного пленума ИККИ (7 июня 1922 года), сохранив свой наступательный настрой: «…судебный процесс станет историческим событием, он будет иметь всемирно-историческое значение, причем не только для России, но для всех тех стран, в которых Гражданская война только разворачивается»[702]. В первый день работы пленума между делегатами была распределены роли на суде: они должны были выступать обвинителями нераскаявшихся и защитниками раскаявшихся подсудимых, а также выдвинуть обвинения в адрес своих стран, которые приняли участие в интервенции против Советской России.
3.8. Лучший год Коминтерна
Карл Ретцлав, один из членов «Союза Спартака» и основателей КПГ, назвал 1922 год «лучшим годом» германской компартии[703]. Есть все основания распространить это определение на весь Коммунистический Интернационал[704]. В предшествующих очерках уже говорилось о том, что весной этого года в Берлине состоялась встреча лидеров трех рабочих Интернационалов, оставшаяся в истории единственной и уникальной. Компартии делали первые попытки практической реализации тактики единого рабочего фронта, в ряде стран включались в переговоры с социалистами по поводу предвыборных блоков, организовывали совместные забастовки и политические стачки. Левацкие настроения на какое-то время уступили место пониманию того, что путь к власти — это не столько решительный штурм без учета потерь, сколько трудная и длительная работа по воспитанию и мобилизации своих сторонников. Да и Советская Россия, которая в конце 1922 года станет Советским Союзом, начала приходить в себя после страшных лет Гражданской войны, а ее новая экономическая политика, хотя и называлась ее творцами «стратегическим отступлением», принесла в этот год измученному населению реальную передышку. Наконец, 1922 год стал последним в политической биографии Ленина — его авторитет и влияние сплачивали старую гвардию большевизма, не давали разрастись личным конфликтам и амбициям в его ближайшем окружении. Напротив, во многих европейских странах стал очевиден явный откат демократических преобразований. Сторонники немедленного реванша в Германии не успокоились даже после бесславного краха «капповского путча» в марте 1920 года, устроенного монархистами, оставшимися в рядах вооруженных сил Германии. Правые радикалы устроили настоящую охоту на политиков, стоявших у истоков Веймарской республики. Были совершены покушения на ее первого рейхсканцлера Филиппа Шейдемана и на Матиаса Эрцбергера, подписавшего от имени Германии Компьенское перемирие. Оценка этих событий Зиновьевым сохраняла ортодоксальность классового подхода, отрицая самоценность борьбы за республиканские ценности. В воззвании по поводу «капповского путча» ИККИ утверждал, что «в начавшуюся эпоху Гражданской войны возможны только две диктатуры — или диктатура пролетариата, освобождающая все человечество и перестраивающая все хозяйство на коммунистических началах, или диктатура самых реакционных, диких, черносотенных буржуа и генералов, затягивающих петлю на шее рабочего класса и ведущих человечество к новым войнам. Или одна, или другая диктатура. Третьего не дано»[705]. Однако жизнь показывала, что безразличие значительной части политического спектра к демократическим устоям отбрасывает Веймарскую республику назад, ко временам «второго рейха», ничуть не приближая ее к диктатуре пролетариата. 24 июня 1922 года членами праворадикальной организации «Консул» был убит министр иностранных дел Вальтер Ратенау, выступавший за примирение с Западом и налаживание взаимовыгодных отношений с Советской Россией[706]. Рабочие партии и профсоюзные центры смогли договориться о проведении общих демонстраций и политических стачек в защиту Веймарской республики. Налицо было практическое применение тактики единого рабочего фронта, в данном случае использованной для защиты демократических завоеваний в стране. Однако уже через несколько дней КПГ вышла из «пакта о ненападении» рабочих партий, заключенного на следующий день после похорон и подразумевавшего отказ от взаимных нападок. В основе такой непоследовательности лежала инерция полевения КПГ после изгнания из ее руководства «левитов». Руководители Берлинской организации партии во главе с Аркадием Масловым требовали дополнить соглашение пунктом о свержении правительства Вирта. Диагноз, поставленный Кларой Цеткин еще в конце 1921 года, продолжал оставаться актуальным: «Большинство членов ЦК не решается рассчитаться с масловцами потому, что они боятся вследствие этого потерять репутацию особенно радикальных»[707]. Берлинцы вели себя крайне бесцеремонно на заседаниях Правления КПГ, поскольку пользовались симпатиями Августа Клейне, выполнявшего функции представителя ИККИ в Германии и находившегося под покровительством Зиновьева[708]. После отъезда Радека в Москву на Второй расширенный пленум ИККИ (11–14 июня 1922 года) Клейне обрел утраченную решительность и вознамерился в очередной раз подстегнуть своих подопечных. В первые дни после убийства Ратенау он сообщал своему патрону, что КПГ, согласившись на совместные акции с социалистами, топчется на месте и тормозит революционную энергию масс[709]. Зиновьев, и без того ревниво относившийся к немецкой партии как «заповеднику» Радека, решил показать ей, кто является хозяином в коминтерновском доме. 8 июля 1922 года появилось обращение ИККИ ко всем рабочим Германии, призывавшее использовать убийство Ратенау для того, чтобы остановить дрейф страны вправо. В обращении выдвигалась идея создавать комитеты действия для отпора монархической реставрации и реваншу военщины. Жесткий тон документа, в котором в очередной раз обращались к массам через головы вождей, явно противоречил установкам декабря 1921 го-да и стал важным фактором прекращения сотрудничества коммунистов и социал-демократов. Правление КПГ, отдавая себе в этом отчет, приняло беспрецедентное решение не публиковать обращение Исполкома Коминтерна в партийной печати[710]. Уверенный в своих силах, Председатель ИККИ все больше и больше чувствовал себя демиургом, способным создавать зарубежные компартии по образу и подобию большевистской. Любое проявление «левитских» тенденций вызывало у него всплеск негодования. Так, 28 сентября 1922 года Зиновьев следующим образом отреагировал на доклад эмиссара ИККИ Мануильского об очередном кризисе в руководстве французской компартии: «Каналью Верфейля и его единомышленников не потерпим больше в Коминтерне ни одного дня». Если его не выкинет из своих рядов Парижский съезд партии, то это сделает Четвертый конгресс. «Верфейль есть французский Леви, если не хуже… он ничего общего с коммунизмом не имеет и является буржуазным агентом в лагере французской компартии». По мнению Зиновьева, левая фракция в ЦК должна внести на съезд соответствующее предложение. В этом же письме лидер Коминтерна давал детальные распоряжения о составе будущего руководства партии, хотя и просил Мануильского вести себя сдержанно. Левые заходят слишком далеко, требуя для себя абсолютное большинство, мы не можем этого поддержать. «Но это вовсе не значит, что мы хотим оставить будущий ЦК без определенного большинства…. Однако выступать с ультимативным формальным требованием 2/3 было бы опасно». «Весь вопрос в лицах. Добейтесь во что бы то ни стало того, чтобы в ЦК была группа рабочих. Я думаю, что избрание Росмера[711] также было бы значительным завоеванием». Альфред Росмер
23 июня — 12 июля 1921
[РГАСПИ. Ф. 490. Оп. 2. Д. 310. Л. 1]
Альфред Росмер
23 июня — 12 июля 1921
[РГАСПИ. Ф. 490. Оп. 2. Д. 310. Л. 1]
В конце письма Зиновьев предлагал самый действенный, с его точки зрения, рецепт, уже не раз испробованный им в аналогичных ситуациях: «Мы уже два раза писали в Париж и повторяю еще раз: самым подходящим и желательным мы бы считали, чтобы окончательное распределение должностей произошло в Москве… Здесь же будет виднее, как быть»[712]. Зиновьев имел в виду, что кадровые вопросы можно будет решить в ходе совместного заседания делегаций РКП(б) и ФКП на предстоящем конгрессе Коминтерна (он состоится 6 ноября — 5 декабря 1922 года). 4 сентября он подготовил для членов Политбюро первоначальный план его работы. Девятым пунктом значилось «место пребывания Исполкома и выборы Председателя» — последнего отныне предлагалось избирать на пленарном заседании, что предрешало безоговорочную победу лица, занимавшего этот пост с момента основания Коминтерна. Кроме того, Зиновьев предложил дополнить повестку дня докладом о пятилетии Российской революции и о новых формах наступления капитала, среди которых он выделил «фачизм», имея в виду рост влияния партии Муссолини в Италии[713]. Все еще находясь в логике единого рабочего фронта, Зиновьев предложил закончить обсуждение вопроса о наступлении капитала «открытым письмом, обращенным ко 2-му и 2 1/2 Интернационалам. В этом международном открытом письме еще раз предложить единый фронт для борьбы против наступающего капитала и наметить совершенно конкретно очень скромную, но деловую программу борьбы против капиталистической реакции для целого ряда стран»[714]. Это вполне разумное предложение могло вернуть дискуссию между отдельными течениями рабочего движения в позитивную плоскость, однако после завершения суда над лидерами правых эсеров такая перспектива представлялась уже маловероятной. Вновь, как и в 1920 году, работа конгресса Коминтерна началась в Петрограде с торжественного заседания, на сей раз оно было посвящено пятилетнему юбилею Российской революции. Ленин в силу пошатнувшегося здоровья не смог прибыть на открытие, и Зиновьев чувствовал себя главным действующим лицом международного форума коммунистов, принимая не только делегатов, но и иностранных писателей и художников, которые симпатизировали коммунистам и с неподдельным интересом следили за развитием новой России. Большинство из них приехало самостоятельно, хотя и с рекомендациями компартий своих стран либо с поручительством известных защитников Советской России из западной интеллигенции. Среди них был Георг Гросс, приверженец конструктивизма, прибывший в Россию, чтобы лично познакомиться с Владимиром Татлиным — автором идеи гигантского монумента «Третий Интернационал», который так и не был воплощен в металле. Характерно, что немецкому художнику гораздо больше, чем сам Зиновьев, запомнился его секретарь Александр Тивель. «Это был маленький милый человечек, похожий на попугая. Наверняка в своей прошлой жизни он действительно был попугаем, потому что уверенно порхал от скамейки к столу, потом устраивался на подоконнике, как будто на жердочке. Он постоянно лузгал семечки, и это довершало сходство. Он никогда не умолкал и щебетал на всех языках мира, как умудренный жизнью попугай». Зиновьев пригласил иностранных гостей для того, чтобы познакомить их со своей новой идеей — организацией международного литературного журнала, причем его редакция предполагалась в Берлине или Париже. Целью журнала должна была стать пропаганда достижений советской культурной революции среди европейской общественности, которая, как подчеркнул Зиновьев, устала от прогрессирующего декаданса западного мира. Присутствующие тут же распределили между собой роли в редакционном совете, однако никакого продолжения зиновьевская идея не имела, так и оставшись одной из многочисленных потемкинских деревень, выросших на коминтерновской почве. Имея в своем распоряжении огромный аппарат, Председатель ИККИ считал, что его собственная роль ограничивается генерированием идей и распеканием нерадивых подчиненных, к числу которых он относил и лидеров иностранных компартий. Приезжая в Москву, последние видели то, что подметил и Гросс: «…мы чувствовали, что он нам, западным симпатизантам, не вполне доверяет», и это отчасти оправдывало плохо скрываемое им высокомерие[715]. Все более выпуклыми становились черты культа личности, складывавшегося вокруг Зиновьева. Он сам ревниво следил за малейшими проявлениями критики в свой адрес. Узнав, что вернувшийся из Москвы Эрнст Мейерзаявил на заседании Правления КПГ 21 ноября 1921 года, что «у Москвы не все получается», Зиновьев едва ли не вызвал его на дуэль, потребовав незамедлительных объяснений и лишний раз показав иностранным коммунистам, что их политическая жизнь находится под неусыпным контролем эмиссаров Исполкома Коминтерна[716].
3.9. Первые шаги без Ленина
Международный кризис, связанный с невыплатой Германией возложенных на нее репараций, достиг своего пика в январе 1923 года, когда ее Рейнскую область оккупировали французские и бельгийские войска. В стране обострились внутриполитические конфликты, поставившие под вопрос дальнейшее существование Веймарской демократии[717]. В Берлин отправился Радек, чтобы на месте определить пределы возможной активизации действий германских коммунистов. Зиновьев вновь имел все основания почувствовать себя отодвинутым на второй план накануне нового приступа европейской революции. Васил Петров Коларов
Июль 1924
[РГАСПИ. Ф. 492. Оп. 2. Д. 206. Л. 1]
Васил Петров Коларов
Июль 1924
[РГАСПИ. Ф. 492. Оп. 2. Д. 206. Л. 1]
Коминтерн выступил с инициативой проведения международной конференции рабочих организаций, которая должна была выразить протест против оккупации Рура. 7 марта Председатель Профинтерна Лозовский телеграммой запрашивал Зиновьева, не следует ли пригласить для участия в ней делегацию Второго Интернационала, а также ведущих деятелей профсоюзов и социал-демократических партий Европы[718]. Была сформирована «пятерка» из Лозовского, Василя Коларова, Евгения Варги, а также представителей КПГ и ФКП. Зиновьев жестко запретил участие в конференции подвергнутого опале француза Фроссара, который после начала оккупации Рура «предал рабочих как раз в момент, когда Пуанкаре двинул войска в Германию… Приглашение Фроссара заставило бы нас немедленно отозвать делегацию Исполкома»[719]. Конференция состоялась во Франкфурте-на-Майне 22 марта 1923 года. В тот же день Лозовский телеграфировал Зиновьеву: «Конференция удалась. Предлагаю выбранному комитету дать название „Международный комитет действий против войны и фашизма“, разбить на две секции — военную и фашистскую, выбрать двух председателей — Цеткин и Барбюсса, одним из товарищей председателя — Ледебура»[720], который к тому времени уже покинул ряды НСДПГ и представлял делегацию Второго Интернационала. Последний не спешил соглашаться на совместные действия, видя в создании Международного комитета очередной маневр коммунистов, на сей раз выставивших в качестве «троянского коня» Профинтерн. По задумке Ленина и Зиновьева он должен был увести рабочие массы из реформистских профсоюзов и Амстердамского интернационала, однако за три года своего существования не добился сколько-нибудь весомых успехов. Многие «профсоюзники» в рядах компартий предпочитали вести прагматическую работу в рядах существующих профсоюзов, которые с точки зрения Москвы были виноваты уж тем, что не ставили перед собой революционных целей. Напротив, лидеры Профинтерна занимались составлением обширных политических трактатов, которые уводили от ответственности и их самих, и сектантскую стратегию Коминтерна в профсоюзном вопросе.
 Противостояние двух профсоюзных центров находило свое выражение даже в наглядной агитации. Объединенный интернационал профсоюзов так и остался неосуществленной мечтой
Плакат
Начало 1920-х
[Из открытых источников]
Противостояние двух профсоюзных центров находило свое выражение даже в наглядной агитации. Объединенный интернационал профсоюзов так и остался неосуществленной мечтой
Плакат
Начало 1920-х
[Из открытых источников]
Давая в апреле 1923 года очередному съезду РКП(б) справку о работе вверенной ему международной организации, Лозовский так оправдывал ее политическое ничтожество: «Беда мирового рабочего движения в настоящий момент заключается в том, что ни коммунистические партии, ни руководители революционных профсоюзов не успевают организационно закреплять политическое полевение масс. В этом кроется опасность для всего движения, но поскольку эта опасность Коминтерном сознана, она в ближайшие годы, несомненно, будет устранена»[721]. В те дни Зиновьева не слишком волновала судьба созданного по его инициативе Профинтерна. Его одолевали иные заботы — стало очевидным, что Ленин не оправится от очередного удара, его болезнь прогрессировала, ставя перед ближайшим окружением вождя вопрос о разделе его политического наследства. Председатель Коминтерна больше других членов большевистского руководства размышлял о своей будущей судьбе, испытывая страх перед каждым из своих вчерашних соратников (за исключением только Л. Б. Каменева[722]) как потенциальным политическим конкурентом. Он выстраивал различные комбинации, делая ставку на сохранение сложившегося при Ленине баланса сил в Политбюро, который получил официальное название коллективного руководства. Повышенное внимание Троцкого к Коминтерну до и после Четвертого конгресса, его попытка занять нишу главного эксперта по французскому вопросу не могли не вызвать серьезной озабоченности Зиновьева. Политическое завещание вождя, ставшее известным членам Политбюро уже в начале 1923 года, уравняло их шансы на вступление в ленинское наследство. И тем не менее первым из претендентов на него в тот момент члены партии, да и все население страны, считали именно Троцкого. Против него и было направлено острие фракционной работы «семерки» членов и кандидатов в члены Политбюро, которая действовала по принципу «все против одного»[723]. Зиновьев принимал в этом заговоре самое активное участие. Главным инструментом оппонентов стала изоляция Троцкого: вначале его инициативы и предложения попросту замалчивались, затем последовали обвинения, что его письма «сильно вредили дружной работе, но мы до сих пор воздерживались от ответов на них»[724]. Зиновьев сосредоточился на идее реорганизовать Политбюро, расширив его состав и сферу компетенций, а также создав «постоянное совещание активных работников при ЦК»[725]. Очевидно, что такой формально демократический орган в реальности стал бы игрушкой в руках генсека, контролировавшего кадровую политику РКП(б). Предвидя столкновение с Троцким на предстоявшем пленуме, 25 июня 1923 года, Зиновьев предложил Сталину обдумать вопрос, не стоит ли стенографировать его целиком или хотя бы отдельные заседания[726]. Несмотря на нараставший кризис в Германии и неустойчивую обстановку в странах к востоку от нее, Зиновьев сосредоточил свое внимание на укреплении личных позиций в РКП(б), отодвинув на второй план вопросы Коминтерна. Однако они сами настигали его. В ночь на 9 июня 1923 года в Болгарии произошел государственный переворот, было свергнуто правительство Земледельческого союза. Власть захватили военные, отдавшие власть консервативной партии Народного согласия во главе с Александром Цанковым. Болгарские коммунисты, рассматривавшие годы правления крестьянской партии как диктатуру сельской буржуазии, заявили о своем нейтралитете по отношению к путчистам. Впервые Коминтерну и РКП(б) пришлось иметь дело с ситуацией, в которой классовый («марксистский») анализ не прояснял, а затемнял ее понимание. Очевидный факт — устранение милитаристами и реакцией демократических завоеваний — никак не укладывался в стереотип «буржуазной диктатуры», которая могла принять разные обличья. В результате 14 июня 1923 года Политбюро ограничилось обменом мнений о положении в Болгарии, так и не приняв никакого решения[727]. Болгарская история имела свое продолжение на Третьем расширенном пленуме ИККИ (12–23 июня 1923 года). Он был отложен по предложению Зиновьева из-за появления ноты Керзона[728], и за это время у него образовалась новая повестка дня. В докладе Радека компартия упрекалась в том, что не возглавила вооруженную борьбу против фашиствующих путчистов. Зиновьев потребовал от лидеров Болгарской компартии (БКП) изменить свою психологию, пробудить в себе волю к власти. Участники пленума в последний день его работы приняли «Воззвание к болгарским рабочим и крестьянам». Уже из его названия было понятно, что Исполком обращается к болгарам через голову руководства местной компартии, которое совершило грубую политическую ошибку, никак не отреагировав на «белогвардейский переворот»[729]. Патовая ситуация с каждом днем становилась все более нетерпимой, поскольку руководители БКП начали активную кампанию по оправданию собственной линии, публикуя соответствующие статьи в прессе зарубежных компартий. Чувствуя, что нити управления последними могут уйти из его рук, Зиновьев уже после завершения пленума ИККИ решился начать контрнаступление, пусть даже на неподготовленной почве. Он написал обширную статью, в которой осудил нейтральное отношение болгарских коммунистов к перевороту Цанкова. Неуверенный в своих выводах, Председатель Коминтерна решил подстраховаться, запросив у коллег предварительного согласия («Я сам колебался — ввиду этого и внес на обсуждение членов Политбюро, иначе просто напечатал бы статью»[730]). Состоявшийся обмен мнениями стал отражением не только краткого периода олигархического равновесия в партии, но и характерных черт личности каждого из участников дискуссии (естественно, Троцкому запрос вообще не был направлен). Их мнения разошлись — Бухарин и Томский высказались за немедленное помещение статьи в печати, Сталин, Молотов и Каменев предложили отложить[731].

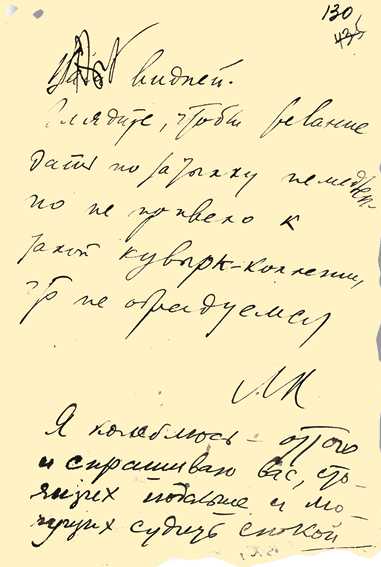
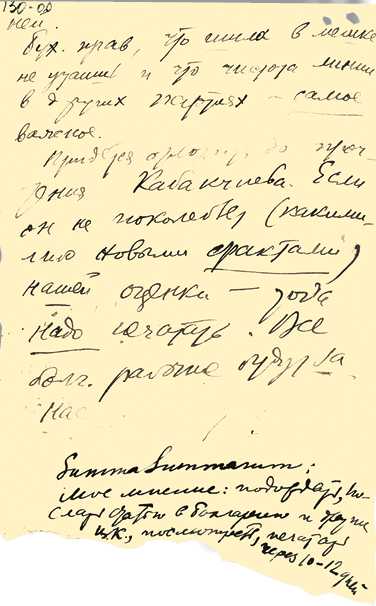
 Обмен мнениями между М. П. Томским, Л. Б. Каменевым, Г. Е. Зиновьевым и И. В. Сталиным по поводу статьи о государственном перевороте в Болгарии и позиции болгарских коммунистов
Июнь 1923
[РГАСПИ. Ф. 324. Оп. 2. Д. 10. Л. 126, 130–130 об., 133]
Обмен мнениями между М. П. Томским, Л. Б. Каменевым, Г. Е. Зиновьевым и И. В. Сталиным по поводу статьи о государственном перевороте в Болгарии и позиции болгарских коммунистов
Июнь 1923
[РГАСПИ. Ф. 324. Оп. 2. Д. 10. Л. 126, 130–130 об., 133]
Хотя Зиновьев просил сталинского секретаря Назаретяна провести опрос по телефону, в итоге он принял форму обмена записками — у историков появился важный исторический источник, позволяющий уточнить место каждого из участников обсуждения в реальной расстановке сил в Политбюро[732]. Его значение побуждает опубликовать ключевые моменты эпистолярной дискуссии, выстроив их в отличие от опубликованной версии в логической последовательности. Вот как отреагировал уверенный в своих силах и одновременно крайне осторожный Сталин: «Было бы лучше, по-моему, переделать статью в циркуляр от Коминтерна и разослать компартиям для руководства, не публикуя. Публикация опасная мера, — боюсь, как бы мы не сыграли на руку II-ому Интернационалу, толкнув болгар на откол от Коминтерна». Его поддержал верный оруженосец Молотов, изложивший свое мнение с характерной рассудительностью партийного бюрократа: статья действительно хорошая, но «необходимы прежде всего официальные указания болгарским коммунистам со стороны Коминтерна, чтобы добиться начала исправления линии болгарских коммунистов… Коминтерновская директива должна действительно быть жесткой, но вначале непубличной». Каменев, занимавший в тот момент промежуточную позицию между Сталиным и Зиновьевым, остался верен принципу «и вашим, и нашим»: «Статья очень хороша, готов подписаться под каждой фразой. Но думаю, что надо сначала пойти по пути Сталина, т. е. внутрикоминтерновской критики, отложив публичную экзекуцию на некоторое время, пока выяснится степень сопротивления болгар такому обучению. Не начать ли обсуждение не статьей Зиновьева, а менее ответственным лицом и менее заостренной статьей?» Томский был краток, конкретен и тактичен: «Зная болгар, я уверен, что они не уйдут из III Интернационала, а затушевывать нельзя. Следует смягчить в смысле мостика, надежды на поправимость и т. д., дабы дать им возможность приличного отступления». Бухарин, игнорировавший любые авторитеты, в очередной раз продемонстрировал горячность «мальчишки революции», как его называла Клара Цеткин. Он жестко раскритиковал позицию Сталина: «Мы уже доигрались с такой осторожностью. Чуяли, что будет беда, а сами с „осторожностью“ ходили вокруг почтенного живота Коларова, Димитрова и других, боялись сказать о наших сомнениях. Вот и достукались со своей дипломатией. Можно в статье кое-что выкинуть, но нужно публично отмежеваться от „болгарской линии“. Без этого мы запутаем остальные партии». После явного провала первого тура обмена мнениями Зиновьев повторил: «Я колеблюсь — оттого и спрашиваю вас, стоящих подальше и могущих судить спокойней. Бухарин прав, что шила в мешке не утаишь и что чистота линии в других партиях — самое главное». Предложенный им новый компромисс — опубликовать его статью как критический ответ на письмо неназванного болгарского коммуниста[733], «немного усластивши его приятными оговорками», вторично вызвал возражения членов Политбюро. Каменев принял сталинскую линию на осторожность, предлагая собственные аргументы: «Дело не в „приятных оговорках“, а в том, что статья (правильная по существу) приравнивает поведение болгар к поведению социал-демократии в 1914 г. После такого публичного „упрека“ за подписью Зиновьева люди поставлены в безвыходное положение: надо или уходить, или драться за свою линию, что неизбежно загонит их ко II Интернационалу». В конце концов Зиновьев согласился с доводами «умеренных», лишь в самом конце обмена мнениями упомянув, что за печатание статьи высказался Исполком Коминтерна и персонально Карл Радек. Он подготовил новый облегченный вариант своей статьи, приложив к нему пришедшее очень кстати письмо румынского коммуниста Бодулеску из Софии, сообщавшего о репрессиях против болгарских коммунистов. По мнению Председателя ИККИ, оно «целиком подтверждает наш анализ событий. Совершенно ясно, что нужно выступать немедленно. Скорее я опоздал». Зиновьев, вконец запутавшийся, попросил коллег просмотреть новый вариант («я сильно переделал статью, смягчил и т. д.»), и если возражений не будет, в среду 4 июля она появится в печати[734]. Если Сталин рассматривал зиновьевскую статью как увертюру к репрессиям против лидеров БКП, то некоторые представители номенклатурного сословия в РКП(б) пришли к совершенно иным выводам. Е. З. Волков, который должен был отправиться в Софию под прикрытием Общества Красного креста, в день ее появления писал своему непосредственному начальнику наркому Чичерину: «Такие статьи — это лучший способ добиться полной изоляции РКП в международном Коммунистическом Интернационале, ибо они рисуют лишь полное непонимание руководителей в нем русской фракции, если можно так выразиться, что происходит в Западной Европе вообще и на Балканах в частности, где коммунистические партии суть легальные массовые и в то же время парламентские партии, для которых чисто революционные действия возможны лишь при совершенно исключительных обстоятельствах, но совершенно невозможны, как исключительная и последовательно, или вернее, прямолинейно проводимая „рассудку вопреки и наперекор стихиям“ во имя голого принципа и без учета последствий тактика»[735]. В этих словах звучало совершенно иное понимание сути коминтерновской деятельности: не противопоставление компартий нормам парламентской демократии, но их интеграция в политическую систему, существующую в той или иной стране, для того чтобы пропагандировать массам собственную программу. Волков справедливо указывал на то, что навязывание революционной борьбы во что бы то ни стало по своей сути являлось отголоском «левизны», осужденной еще на Втором конгрессе Коминтерна, но прораставшей вновь и вновь вопреки всем доводам разума. «Взрывать призывами к открытым революционным выступлениям наши коммунистические резервы во враждебном лагере, призывать их массы к борьбе с руководящими ими центрами, дискредитировать последние в глазах этих масс без достаточных оснований, как это [случилось] в болгарском вопросе, давать своими призывами документальные основания правительствам буржуазных государств для оправдания своего террора против коммунистов — не значит ли это рубить сук, на котором сидишь?»[736] — вопрошал автор письма. Шансов дождаться позитивного ответа у него не было. Уход из политической жизни Ленина поставил точку на перспективе «нормализации» коммунистического движения, его приспособления к реалиям межвоенной Европы. Подобные голоса звучали вновь и вновь, но в зависимости от политической конъюнктуры в Кремле расценивались как проявление то «меньшевистской отрыжки», то «правого уклона». Поворот, начатый согласно директивам пленума ИККИ, заставил болгарских коммунистов пересмотреть свою тактику, сориентировать ее на активные антиправительственные выступления, что привело к их попытке возглавить стихийное крестьянское восстание, охватившем в сентябре 1923 года южные районы страны. Оно было жестоко подавлено военной силой (потери повстанцев превысили 10 тысяч человек) и привело к массовым репрессиям против БКП[737]. Обсуждение же проекта зиновьевской статьи по болгарскому вопросу как в капле воды отразило тот очевидный факт, что надежды на сохранение механизма коллективного руководства после ухода с политической арены Ленина являлись пустой иллюзией. Без абсолютного авторитета вождя диктатура революционной партии была обречена на быстрое и неуклонное вырождение.
3.10. Кризис в Германии и его оценки в Москве
Как принято говорить, «на полях» Третьего пленума ИККИ состоялась неформальная встреча лидеров РКП(б), работавших в Коминтерне, с членами германской делегации. Наряду с Зиновьевым в ней участвовали Радек, Бухарин и Пятницкий. Протокола встречи не велось, но сохранилась краткая запись дискуссии, сделанная одним из немцев, которая в полной мере раскрывает настроения, царившие среди большевистских лидеров: Германия стояла на пороге пролетарской революции, и ее колыбелью на сей раз должна стать Саксония, где уже несколько месяцев правили социал-демократы. Коммунистам следовало сделать все для того, чтобы разложить их правительство изнутри, занять их место и таким образом создать плацдарм для наступления в национальном масштабе. «Дискуссия прояснила точку зрения Президиума: следует как можно дольше поддерживать правительство Цейгнера[738] с целью его дискредитации, но не любой ценой. …Такая поддержка будет играть на руку фашистам. Компартии следует на какое-то время отойти на второй план и сосредоточиться на пропаганде, представляя себя партией завтрашнего дня, чтобы затем вновь перейти в контрнаступление»[739]. Такая формула являлась средним арифметическим между мнениями Зиновьева и Радека — первый настаивал на подстегивании лидеров КПГ, второй призывал их к осторожности, защищая Правление партии под руководством Брандлера. Немецкие участники встречи отметили, что Председатель ИККИ, требуя скорейшего вооружения «пролетарских сотен» в Саксонии, видел в них боевые отряды для вооруженного восстания, в то время как КПГ поддерживала их как политические органы единого рабочего фронта[740]. Достигнутый компромисс при всей своей непрочности давал немцам определенную ориентацию, в рамках которой им не возбранялись самостоятельность и инициатива.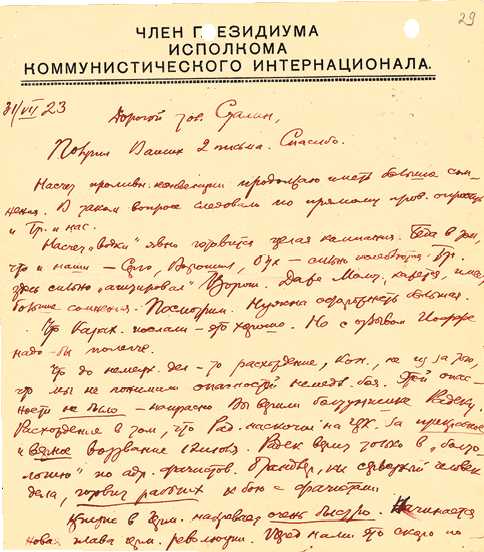
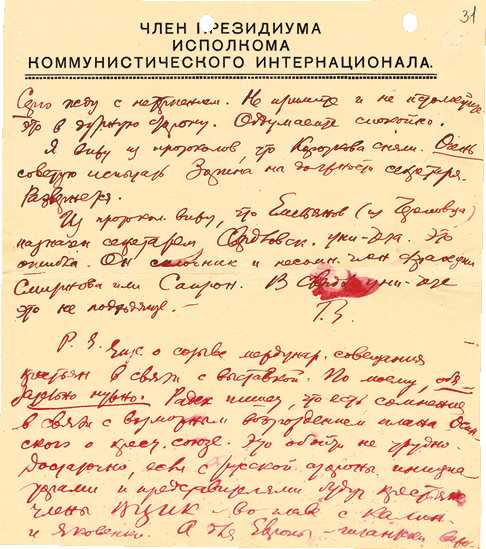 «Кризис в Германии назревает очень быстро. Начинается новая глава германской революции». Отдыхавший в Кисловодске Зиновьев настаивал на скорейшей подготовке коммунистами захвата власти в Германии
Письмо Г. Е. Зиновьева И. В. Сталину
31 июля 1923
[РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 734. Л. 29–31]
«Кризис в Германии назревает очень быстро. Начинается новая глава германской революции». Отдыхавший в Кисловодске Зиновьев настаивал на скорейшей подготовке коммунистами захвата власти в Германии
Письмо Г. Е. Зиновьева И. В. Сталину
31 июля 1923
[РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 734. Л. 29–31]
Исполнив свой коминтерновский долг, в начале июля 1923 го-да Зиновьев отправился в Кисловодск, поручив вести оперативные дела в Исполкоме Радеку. Казалось бы, летняя пауза давала прекрасный повод отдохнуть от политической горячки последних недель. Но прошло несколько дней, и с курорта полетели отчаянные письма в адрес Каменева, оставшегося в Москве — наш герой обнаружил, что Сталин, которого он считал фигурой второго эшелона и своим верным попутчиком, начал вести собственную игру. Каменев должен был приложить все свое «немалое влияние» для того, чтобы купировать претензии генсека на единоличную власть и восстановить принципы коллективного руководства в Политбюро. Чем больше времени Зиновьев вместе с Бухариным и Кларой Цеткин проводил на минеральных водах, тем больше ему казалось, что за его спиной идет передел власти. 30 июля он перешел от просьб к требованиям: «Мы этого терпеть больше не будем. Если партии суждено пройти через полосу (вероятно, очень короткую) единодержавия Сталина — пусть будет так. Но прикрывать все эти свинства я, по крайней мере, не намерен. Во всех платформах говорят о „тройке“, считая, что и я в ней имею не последнее значение. На деле нет никакой тройки, а есть диктатура Сталина»[741]. Зиновьевский список прегрешений Сталина с каждым письмом становился все больше и больше. Немалое место среди них занимали и коминтерновские проблемы, точнее — кризис в Германии и связанная с ним стратегия КПГ. Бравурные репортажи советской прессы о том, что Германия катится в пропасть, оптимистические донесения эмиссаров Коминтерна о стачечной борьбе по всей стране изменили настроение Зиновьева, которому стало казаться, что Радек в союзе со Сталиным пытаются «подкачать» его на немецких сюжетах. Провал болгарских коммунистов также давал о себе знать. Накануне антифашистского дня появилось частное письмо Зиновьева и Бухарина Брандлеру и Тальгеймеру о поддержке курса КПГ на обострение внутриполитической ситуации в стране: «…только этим путем можно избежать немецкой Болгарии». В этом же письме кисловодские коминтерновцы прошлись и по Радеку, который в своем докладе на Третьем пленуме ИККИ (знаменитая «речь о Шлагетере»[742]) якобы сделал иллюзорную ставку на то, что рядовые фашисты могут быть завоеваны для дела коммунизма. «Но он забывает, что крепкий удар кулаком наилучшим образом разлагал бы фашизм. Разумеется, преждевременная решающая битва опасна»[743]. Тем не менее в тех германских землях, где у рабочих партий имеются сильные позиции (речь шла о Саксонии), они должны выдвигать лозунг «рабоче-крестьянского правительства», одобренный Четвертым конгрессом Коминтерна. После первых сообщений об успехе антифашистского дня в Германии Зиновьев пришел в настоящий восторг: «Начинается новая глава германской революции… Близко то время, когда нам придется принимать решения всемирно-исторической важности». Из Кисловодска в Москву полетели предложения ускорить подготовку вооруженного захвата власти немецкими коммунистами, следовало наладить снабжение их оружием, послать из России «50 наших лучших боевиков»[744]. В то же время Председатель ИККИ не забывал и о собственных интересах в близящемся приступе германской революции. В частных письмах Каменеву он выражал опасения, что Радеку удалось перетянуть на свою сторону Сталина, и заговор членов Политбюро против Троцкого разваливается на глазах. «Ты — в Москве. У тебя — немалое влияние. И ты позволяешь Сталину прямо издеваться… Коминтерн. Уделив 10 минут своего высокого внимания и поговорив с интриганом Радеком, Сталин сразу решил, что германский ЦК ничего не понимает, что я, Бухарин, Цеткин, Брандлер не разобрались в вопросе и что надо поддержать болтуна Радека, который чуть-чуть не уговорил уже фашистов своей речью о Шлагетере. Тут Сталин прыток…»[745] 2 августа Зиновьев дошел до ультиматума, заявив Каменеву, что если будет принято хотя бы еще одно решение без согласования с ним, он объявит о выходе из Политбюро[746]. Вместе с Бухариным он выразил готовность немедленно выехать в Москву, если Политбюро вынесет германский вопрос на повестку одного из своих ближайших заседаний[747]. В ответном письме Сталин неторопливо и хладнокровно реагировал на его упреки: «Если сейчас в Германии власть, так сказать, упадет, а коммунисты ее подхватят, они провалятся с треском. Это в „лучшем“ случае. А в худшем — их разобьют вдребезги и отбросят назад… нам выгодно, чтобы первыми напали фашисты: это сплотит весь рабочий класс вокруг коммунистов (Германия не Болгария). Кроме того, фашисты по всем данным слабы в Германии. По-моему, немцев надо удерживать, а не поощрять»[748].
 Находясь в Кисловодске, Г. Е. Зиновьев активно вживался в роль наследника В. И. Ленина на посту руководителя РКП(б), сообщая К. Е. Ворошилову, что И. В. Сталин «почти готов» присоединиться к предлагаемым им внутрипартийным мерам
11 августа 1923
[РГАСПИ. Ф. 324. Оп. 2. Д. 71. Л. 38–40]
Находясь в Кисловодске, Г. Е. Зиновьев активно вживался в роль наследника В. И. Ленина на посту руководителя РКП(б), сообщая К. Е. Ворошилову, что И. В. Сталин «почти готов» присоединиться к предлагаемым им внутрипартийным мерам
11 августа 1923
[РГАСПИ. Ф. 324. Оп. 2. Д. 71. Л. 38–40]
Конфликт между Москвой и Кисловодском стал набирать такие обороты, что инструкции для немецких коммунистов отошли на второй план. 10 августа Зиновьев жестко ответил генсеку на письмо от 7 августа, решив, что тот заигрывает с Радеком и Троцким, подрывая тем самым сплоченное противодействие «семерки» претензиям последнего на раздел власти: «Вы стали на сторону Радека. Не снеслись с нами, задержали нашу телеграмму, стали телеграфировать Троцкому. Вот это не годится, даже если бы „группа“ не существовала»[749]. Одновременно председатель Коминтерна стал готовить обширный документ «Положение в Германии и наши задачи», чтобы по возвращении в Москву вынести его на обсуждение Политбюро. Тем временем развитие событий в Германии обгоняло самые смелые прогнозы лидеров Коминтерна. 7 августа 1923 года курс доллара совершил невиданный скачок и вырос с полутора до трех с половиной миллионов марок[750]. С прилавков магазинов тут же исчезли товары первой необходимости, начались задержки с выдачей зарплаты — в кассах просто не было такого количества денег. Советский генконсул Г. Л. Шкловский доносил из Гамбурга: «При последних получках фабрики и заводы не в состоянии были выплачивать рабочим и половины причитающегося им жалованья, а то, что давалось, выдавалось какой-нибудь крупной купюрой на несколько человек, которую никто не соглашался разменивать и по этой причине добрую часть ее приходилось оставлять в кабаке»[751]. Крестьяне отказываются везти продовольствие на продажу в города, предпочитая бартер: подметки подбивают за 10 фунтов муки. Местные органы власти и хозяева предприятий перешли к выпуску «эрзац-денег», что свидетельствует о полном развале финансовой системы Германии, писал Шкловский[752]. По всей стране прокатилась волна стихийных стачек, их участники требовали установления тарифов своего труда в золотом эквиваленте, гарантированных цен на товары первой необходимости. Рабочие контрольные комиссии проводили конфискации продуктов у спекулянтов, в ряде городов местные власти шли на сотрудничество с ними. Впервые после капповского путча трудящиеся добились реальных успехов в борьбе за свои права, заставили власть считаться со своими требованиями. Теперь вопрос стоял о том, как воспользоваться этой победой. С точки зрения левой оппозиции КПГ, в повестку дня вернулся лозунг вооруженного восстания. «Партия не должна ограничиваться переходными лозунгами, а должна уже сейчас ясно и доступно пропагандировать свою программу действий на второй день после завоевания власти». На пути к этому следует обеспечить «скорейший переход фабзавкомовского движения в организацию рабочих советов» и нанести главный удар по левой социал-демократии, которая «своими радикальными фразами способна вводить массы в заблуждение и поэтому опаснее правой»[753]. В случае вхождения коммунистов в земельные правительства последние должны быть поставлены в зависимость не от парламентов, а от местных съездов Советов.
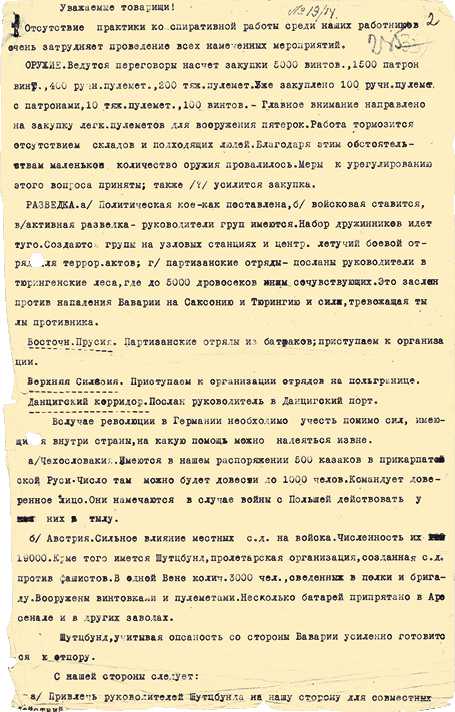
 Доклад находившегося в Германии заместителя председателя ГПУ и члена Реввоенсовета СССР И. С. Уншлихта о ходе военно-технической подготовки коммунистического восстания в этой стране
29 сентября 1923
[РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 19. Д. 70. Л. 2–3]
Доклад находившегося в Германии заместителя председателя ГПУ и члена Реввоенсовета СССР И. С. Уншлихта о ходе военно-технической подготовки коммунистического восстания в этой стране
29 сентября 1923
[РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 19. Д. 70. Л. 2–3]
Левое крыло компартии продолжало видеть ближайшее будущее в духе обветшавшей «теории наступления», предлагая идти вперед несмотря ни на что, хотя на деле это означало бы повторение мартовских событий 1921 года, включая их трагический итог. Его лидеры считали, что именно они олицетворяют революционный дух партии и ведут ее к победе. Лидер Берлинской организации КПГ Рут Фишер утверждала на заседании Правления 12 сентября 1923 года, что в партии борются два непримиримых течения: одно выступает за формирование рабочего правительства в условиях демократии, что нашло свое отражение в кампании после убийства Ратенау, и второе («которое олицетворяем мы»), ведущее партию к решающим боям[754]. С ее позицией были солидарны многие коминтерновские и советские эмиссары, находившиеся в тот момент в Германии. Шкловский настаивал на том, что «вопрос о вооруженном восстании есть конкретный вопрос завтрашнего дня… Мы можем по инерции или из дипломатии еще продолжать говорить о едином фронте, но практически мы с ним считаться больше не должны»[755].
 Иосиф Станиславович Уншлихт
1927
[РГАСПИ. Ф. 56. Оп. 2. Д. 58. Л. 91]
Иосиф Станиславович Уншлихт
1927
[РГАСПИ. Ф. 56. Оп. 2. Д. 58. Л. 91]
Требование снять лозунг рабочего правительства («…мы должны строить нашу тактику в расчете на то, что рабочие массы все больше и больше будут собираться под знамена компартии и, что эта партия в своей борьбе за власть будет одинока», — писал Шкловский в том же письме) вполне импонировало настроениям самого Зиновьева. Тем временем в Берлине было образовано коалиционное правительство Густава Штреземана с участием лидеров социал-демократической партии, что было воспринято как подготовка к репрессиям против КПГ. «Вероятнее всего, что правительство большой коалиции попытается достичь соглашения с французами, во внутриполитической сфере нанесет главный удар по коммунистическому движению, опираясь на поддержку правого крыла социал-демократии и верхушки профсоюзов»[756]. В Исполкоме Коминтерна были подготовлены материалы, где правительство Штреземана расценивалась как керенщина, т. е. последняя ступенька перед захватом власти коммунистами[757]. В таком же ключе были выдержаны тезисы Зиновьева по германскому вопросу, написанные в Кисловодске. Они ориентировали «всю партию и все находящиеся под ее влиянием слои на неизбежность и необходимость в ближайшем будущем вооруженного восстания и решающего боя». Не менее масштабные задачи ставились и перед российскими коммунистами, подразумевалось, что победа пролетарской революции в Германии вызовет агрессию в эту страну вооруженных сил Антанты и, как следствие — ее военный конфликт с Советской Россией[758]. Хотя и не дословно, тезисы Зиновьева легли в основу резолюции Политбюро «о международном положении», которая ориентировала партию на всемерную помощь грядущей германской революции. Ему удалось перетянуть на свою сторону Сталина, который согласился с установкой на то, что дни Веймарской республики сочтены и ее наследником будет либо фашистская реакция, либо коммунистическая диктатура («революция назрела, надо взять власть, нельзя давать власть фашистам»)[759]. Представитель КПГ в ИККИ Эрвин Гёрнле достаточно точно выразил общий настрой лидеров РКП(б), нашедший свое отражение в резолюции Политбюро от 22 августа: «…здешние товарищи ведут речь о гораздо более быстром темпе развития событий. Главную задачу партии они видят в организационно-технической подготовке [восстания]. Политическая же ситуация сама собой будет развиваться в нужном нам направлении, и партия в какой-то момент может оказаться не на высоте положения»[760]. Диссонансом такому подходу звучали предупреждения Евгения Варги, который возглавлял аналитический центр Коминтерна, находившийся в Берлине. 18 сентября 1923 года он писал Зиновьеву: «Я опасаюсь, что там у Вас темп революционного развития будет расцениваться гораздо выше, чем он есть на самом деле»[761]. С первых дней осени в советской прессе развернулась кампания солидарности с идущим на баррикады германским пролетариатом. В срочном порядке в частях Красной армии организовывались курсы по изучению немецкого языка, печатались топографические карты территорий, сопредельных с западной границей СССР. В качестве военных советников в Германию были направлены опытные подпольщики и кадровые офицеры Красной армии. Во исполнение августовских решений Политбюро постановило 13 сентября «в самом срочном порядке перебросить в Германию 10 миллионов пудов зернового хлеба»[762], как стратегический резерв для будущего революционного правительства страны.
3.11. Провал германского Октября
Одним из центральных пунктов резолюции Политбюро от 22 августа 1923 года был созыв совещания руководителей компартий Германии и сопредельных с ней стран, где предстояло выработать общую программу действий в связи с близящейся германской революцией[763]. Потребовался целый месяц для того, чтобы закончить все согласования и собрать в Москве немцев, французов, бельгийцев, поляков и чехов. Зиновьев открыл совещание и участвовал в большинстве его заседаний, как правило, знакомя собравшихся с решениями, которые уже были приняты «русскими товарищами». В своем вводном докладе Брандлер сделал акцент на ситуации в Саксонии и Тюрингии, которым предстояло стать исходным плацдармом будущей революции. Он утверждал, что уже в ходе августовской политической стачки «в этом индустриально наиболее развитом регионе Германии (за исключением Рура) с 13 миллионами населения не было силы, которая была бы способна помешать нам взять власть»[764]. Спустя столетие трудно утверждать, чего было больше в подобных оценках, весьма далеких от реального хода событий в стране. С одной стороны, немецкими лидерами руководило желание возглавить новый этап мировой революции, с другой — страх, что отсутствие реальных успехов навлечет на них громы и молнии руководства Коминтерна. Так или иначе, подобные оценки звучали музыкой «Интернационала» в сердцах большевиков. Сохранилась записка Зиновьева, написанная им 1 октября и предназначенная для членов Правления КПГ, остававшихся в Германии: «Мы считаем, что при данном положении вещей вопрос о нашем вступлении в саксонское правительство надо поставить практически. Под условием, что группа Цейгнера, его правительство, выразит согласие и готовность действительно защищать Саксонию против белой Баварии и фашистов, мы должны вступить в это правительство. Немедленно провести вооружение 50–60 тысяч рабочих, осуществлять политику игнорирования генерала Мюллера[765]. То же самое сделать в Тюрингии»[766]. Чтобы передать лидерам КПГ директиву, содержавшуюся в этой записке, член Правления Эберлейн немедленно отбыл в Берлин на самолете. Политбюро отказалось отправить Зиновьева или Троцкого в Германию для того, чтобы возглавить штаб коммунистической революции. Вместо них в Берлин отправилась «четверка» посланцев большевистской партии, неформальным лидером которой являлся Карл Радек[767]. В нее вошли три сторонника Троцкого и один представитель сталинского большинства, что предопределило внутренние конфликты между ними. Во всем разделявший взгляды Радека Георгий Пятаков, давно уже не занимавшийся ни международной, ни подпольной работой, чувствовал себя попросту лишним: «…фактически роль ЦК играем мы, что с моей точки зрения лишает ЦК необходимой уверенности в себе»[768]. Советский полпред Крестинский, еще один сторонник Троцкого, также старался держаться в тени, понимая, что раскрытие его революционной работы вызовет дипломатический скандал между Россией и Германией. Его личные письма, в которых он критиковал неподготовленность КПГ к захвату власти, Троцкий рассылал всем членам Политбюро. Хотя данный шаг являлся попыткой продемонстрировать лояльность коллегам, он стимулировал у сталинской фракции подозрения, что Троцкий и его сторонники ведут подготовку контрнаступления и на коминтерновском фронте. Крестинский получил выговор от Молотова и обязался отныне писать только официальные донесения в адрес НКИД и ЦК РКП(б). Однако это не отразилось на их критическом настрое. Среди прочего полпред констатировал быстрое охлаждение боевого духа прибывавших в Берлин эмиссаров мировой революции: «…все без исключения русские товарищи, приезжавшие сюда с московскими настроениями, после нескольких дней внимательного ознакомления с обстановкой изменяли свою прежнюю оценку»[769]. Вторая германская революция закончилась, так и не успев начаться. Войдя 10 октября в правительство Саксонии, коммунистические министры во главе с Брандлером ничего не успели сделать до того, как Берлин ввел в этом регионе «имперское правление» и отправил туда войска. И тайные склады с оружием, и подготовленные к бою «пролетарские дивизии» оказались вымыслами, существовавшими лишь на бумаге. В этих условиях Брандлер после консультаций с Радеком принял решение отказаться от общегерманского вооруженного выступления, дело ограничилось локальными стычками гамбургских рабочих с полицией. Германский Октябрь оказался почти бескровным и абсолютно безуспешным, что не могло остаться без последствий для тех, кто его провозглашал и готовил. Несколько недель после саксонского отступления в руководстве РКП(б) и Коминтерна продолжали сохраняться надежды на то, что затишье в Германии сменится новым приступом революционной бури. Постановление Политбюро от 3 ноября 1923 года подчеркивало, что «возможность отсрочки событий в Германии ни в коем случае не должна повести к ослаблению нашей военно-промышленной и военной подготовки»[770]. Однако внимание Зиновьева и других участников несостоявшейся драмы уже переместилось на поиск виновных в таком исходе событий. Тезис о победе фашизма в Германии был отвергнут как «литературный выкрутас» Радека уже в момент своего рождения[771]. На роль потенциального козла отпущения прежде всего претендовал сам Председатель Коминтерна, и он прекрасно это понимал. Вернувшись после болезни к текущим делам, Зиновьев принял самое простое и очевидное решение — взвалить ответственность на саксонских социал-демократов, с которыми коммунисты вступили в столь недолгую и несчастливую коалицию. В аппарате ИККИ тут же подобрали подходящую формулировку: «Не Брандлер использовал Цейгнера, а наоборот»[772]. Первая репетиция состоялась в ИККИ 30 октября 1923 года, когда в Москве еще не имели достоверной информации о том, что коалиция саксонских КПГ и СДПГ развалилась. Предмет был назван в повестке дня, речь шла о роли социал-демократии как контрреволюционной силы в немецких событиях последних недель. Зиновьев предложил разработать специальный манифест, разоблачающий ее «неописуемое предательство», заявив, что с политикой компромисса покончено. Теперь мы можем бороться только без социал-демократии или против нее — таков главный урок последних дней, утверждал лидер Коминтерна, попутно подчеркнув, что разделение этой партии на левое и правое крыло потеряло всякий смысл[773]. Несколькими днями позже он добавил остроты в свою оценку, предлагая «четверке» соответствующим образом сформулировать резолюцию конференции КПГ: «При нынешней ситуации германская социал-демократия объективно является только „левым“ крылом фашизма». Его письмо венчал тезис, который станет катализатором последующего ухода Коминтерна в сектантский угол: «Главный враг сейчас именно левые социал-демократы. Если руководители партии не поймут тех ошибок, которые были совершены, партийный кризис в острейшей форме неизбежен, а главное, мобилизация масс вокруг компартии будет невозможна»[774]. Стремясь избежать преждевременного конфликта со сторонниками Троцкого, отправленными в Берлин, Зиновьев избегал нотаций «четверке», формально обращаясь к ней за помощью и советом. «Нам крайне необходимо получить от вас как можно скорей ваше заключение по поводу первого нашего закрытого письма в ЦК КПГ. Как вы видите из постановления Политбюро, решено теперь выступить с открытой критикой. Проект я составлю сегодня-завтра. Наши мотивы следующие. Партия должна признать свои политические ошибки и поражения в Саксонии и в области отношений к социал-демократии и т. д. Иначе, как открытой критикой, этого добиться нельзя. Иначе это сделают левые, которые вместе с водой выплеснут и ребенка»[775]. Интерпретация событий Зиновьевым не так уж сильно отличалась от позиции Радека, согласно которой фашизм уже подмял под себя Веймарскую демократию: «Вы говорите, что фашизм победил ноябрьскую республику, не победив еще рабочих». Но его успех невозможно объяснить, не приняв во внимание тот факт, что «разделение труда, кооперация, которая существует между фашизмом и социал-демократией, до сих пор играла прямо роковую роль».«Призрак откровенного фашизма вытаскивается каждый раз, когда фашистам прикрытым, т. е. деятелям ноябрьской республики, приходится сделать очередной нажим на пролетарское движение»[776]. Следует признать, что огульное сведение роли всех политических противников к роли фашистов или их скрытых пособников действительно стало настоящим призраком, преследовавшим идейную эволюцию Коминтерна на протяжении последующего десятилетия. Столь же очевидным является и тот факт, что подобные «открытия» определялись логикой борьбы за лидерство в большевистской партии, хотя содержательным стержнем этой борьбы выступали иные сюжеты. Ее прямые участники и даже сторонние наблюдатели из прагматических соображений отрицали очевидные факты, которые были понятны даже непосвященным. Так, Клара Цеткин осенью 1923 года в своих донесениях из Москвы подчеркивала, что «делегация КПГ ни в коей мере не пытается совместить германские события со спорами в русской партии»[777]. Для того чтобы сохранить за собой доминирование на коминтерновском фронте, сталинской фракции в Политбюро было мало ключевого поста, который занимал Зиновьев. Обе стороны начали активную кампанию по перетягиванию на свою сторону отдельных членов Правления германской компартии, для чего их по одному или группами вызывали в Москву. Состав делегаций КПГ часто варьировался, но постоянной тенденцией было то, что в них все большее место отводилось представителям левой оппозиции. К 10 декабря 1923 года аппарат Зиновьева завершил работу над проектом тезисов «Уроки германских событий и тактика единого фронта», который был разослан членам Политбюро[778]. Изначальный посыл тезисов был достаточно самокритичным: «В октябре 1923 г. германская коммунистическая партия и Исполнительный Комитет Коминтерна считали, что революционный кризис в Германии назрел в такой степени, что вооруженное восстание является вопросом недель. События показали, что наши расчеты были преувеличенными». Председатель ИККИ признал неизбежным сигнал к отступлению, который был дан Брандлером на Хемницкой конференции фабрично-заводских комитетов[779]. Германские делегаты Четвертого конгресса. Вторая слева — Рут Фишер, четвертый — Аркадий Маслов
9 ноября — 5 декабря 1922
[РГАСПИ. Ф. 491. Оп. 2. Д. 115. Л. 1]
Германские делегаты Четвертого конгресса. Вторая слева — Рут Фишер, четвертый — Аркадий Маслов
9 ноября — 5 декабря 1922
[РГАСПИ. Ф. 491. Оп. 2. Д. 115. Л. 1]
Отказавшись от лобовой атаки на тактику единого рабочего фронта, освященную ленинским авторитетом, Зиновьев обратил внимание на те опасности, которые не учло брандлеровское руководство при ее практическом применении в условиях острого внутриполитического кризиса в Германии. Коминтерн одобрил вхождение КПГ в саксонское правительство только как переходный этап к «непосредственной борьбе германского пролетариата за политическую власть во всей стране». И далее следовал объемный перечень упущений и ошибок саксонских министров от КПГ, включавший в себя отказ от создания рабочих Советов и вооружения пролетарских сотен, национализации крупной промышленности и даже «реквизиции богатых особняков для бездомных рабочих и их детей»[780]. Председатель ИККИ конструировал совершенно иную картину произошедшего, которая подводила к выводу о «правых ошибках» одного только Правления КПГ. Очевидный факт, что партия вошла в саксонское правительство на правах младшего партнера и была связана коалиционным соглашением, совершенно не интересовал Зиновьева, отрицавшего правила парламентской демократии как выдумку буржуазии. Однажды превратив понятие «фашизм» в пустой пропагандистский лозунг, он уже не смог слезть с любимого конька: «Руководящие слои германской социал-демократии являются в настоящий момент ни чем иным, как фракцией германского фашизма с „социалистической“ фразеологией… Постепенно вырождаясь, вся международная социал-демократия объективно становится ни чем иным, как разновидностью фашизма»[781]. Называя генерала Секта «германским Колчаком», а рейхспрезидента Эберта — его «слугой и пленником», Зиновьев шаблонно переносил опыт Гражданской войны в России в совершенно иные условия, сбивая политический прицел зарубежных коммунистов. Осуждая левую оппозицию в КПГ на словах, проект тезисов повторял ее центральные доводы: в Германии имела место объективно революционная ситуация, но руководство партии уклонилось от решающего боя, не подготовив своих сторонников к вооруженному выступлению. За этим неизбежно вставал вопрос о кадровых переменах, и альтернативой брандлеровскому руководству оказывались любимцы Зиновьева — берлинские левые во главе с Фишер и Масловым. Руководитель Коминтерна не был одинок в своих симпатиях, его разделяли и многие «русские товарищи», находившиеся в Германии. Так, Шкловский настаивал на том, что после саксонского поражения, вызванного трусостью Брандлера, политика единого рабочего фронта должна быть похоронена. Левые социал-демократы показали себя нашим главным врагом, и для того чтобы партия жестко отмежевалась от них, нужно вернуть в Германию лидеров берлинской оппозиции в КПГ[782]. Данной линии оппонировал не только Радек и стоявшие за ним сторонники Троцкого. Председатель Профинтерна Лозовский укорял Зиновьева: «Крайне опасно Ваше полудружеское отношение к оппозиции. Центральный Комитет КПГ имеет за собою много ошибок, но я утверждаю, что лучшего ЦК у нас в ближайшее время в Германии быть не может и что благожелательное отношение к оппозиции деморализует и сделает совершенно невозможной работу нынешнего большинства Центрального Комитета. Логически из такого отношения к оппозиции должно вытекать предоставление ей руководства партией, но это означало бы полнейший разгром коммунистического движения в Германии»[783]. Троцкий устроил зиновьевскому проекту резолюции о германских событиях генеральный разгром, указав, что в нем «вопиюще неправильно поставлена критика саксонского эксперимента: революционно-стратегический критерий, несмотря на все оговорки, подменен формально-парламентским… Принятие этих тезисов в их нынешнем виде считал бы крайне опасным как для германской партии, так и для Коминтерна в целом»[784]. Это выглядело уже как открытый вызов сталинскому большинству, тем более что все свои соображения и документы по германскому вопросу Троцкий отправлял прибывавшим в Москву лидерам КПГ, рассчитывая на их поддержку в момент решающих дискуссий[785].
 В период резкого обострения внутрипартийного конфликта стороны не оставляли без внимания ни одного выпада соперника
Записка Г. Е. Зиновьева К. Б. Радеку
17 декабря 1923
[РГАСПИ. Ф. 324. Оп. 1. Д. 553. Л. 18]
В период резкого обострения внутрипартийного конфликта стороны не оставляли без внимания ни одного выпада соперника
Записка Г. Е. Зиновьева К. Б. Радеку
17 декабря 1923
[РГАСПИ. Ф. 324. Оп. 1. Д. 553. Л. 18]
Сам Зиновьев, как и ранее, уделял особое внимание слухам, которые курсировали в партийной верхушке и порой приобретали фантасмагорические масштабы. В одной из записок он писал Радеку: «Тов. Каменев передавал мне, что на собрании товарищей из красной профессуры Вы бросили публичное обвинение Исполкому Коминтерна и большинству Политбюро в том, что своей политикой мы разбили Цека германской компартии и вообще нанесли существенный ущерб германскому движению»[786]. Естественно, подобная интерпретация событий не оставляла места для предметных дискуссий. Вопреки протестам оппозиционеров зиновьевский проект резолюции был принят за основу 20 декабря 1923 года, а через неделю был представлен делегации КПГ (Троцкий от имени оппозиционеров вскоре направил ей собственный контрпроект[787]). Немцы безуспешно пытались донести до членов Политбюро реальное соотношение сил в своей партии и то, чем обернется для нее передача власти «левым». Но внутренний разлад сил не позволил членам Правления КПГ подготовить резолюцию с собственным видением итогов германского Октября, каждая из трех фракций отстаивала свой документ, не желая принимать во внимание аргументы коллег[788]. Представитель «центра» Вильгельм Пик утверждал, что «левая группа более шумна, чем сильна… оппозиция революционно нетерпелива, нервна, пессимистична. Никакой положительно программы она не имеет, довольствуется отрицательной ролью, указывая задним числом, как бы следовало поступить»[789]. Рациональные доводы делегации не были услышаны, хотя ее члены были допущены на заседания Политбюро и смогли принять участие в дискуссии. Им пришлось признать, что лидер Коминтерна взял твердый курс на то, чтобы, воспользовавшись разногласиями в трактовках причин поражения германского Октября, устроить показательную порку компартиям, осмелившимся высказывать особое мнение. Под прицелом была не только КПГ, но и польская компартия (она также считалась доменом Радека). 23 декабря 1923 года пленум ее Центрального комитета направил в Президиум ИККИ и Политбюро ЦК РКП(б) специальное письмо, подвергавшее резкой критике игнорирование Москвой зарубежных секций Коминтерна. «За два истекших месяца ИККИ не обратился ни разу ко всем секциям с подлинным и авторитетным сообщением о случившемся в Германии, не осветил ни общих причин поражения, ни совершенных ошибок, не указал перспектив будущего»[790]. Лишь однажды партиям было направлено закрытое письмо ИККИ в КПГ, в котором вся вина за совершенные ошибки была возложена на лидеров КПГ. Приняв на веру данную ими информацию о готовности пролетариата к вооруженному выступлению против Веймарской республики, аппарат Коминтерна как минимум должен был разделить ответственность за понесенное поражение, утверждалось в письме. Польскими коммунистами ставилась под сомнение сама логика политической работы Коминтерна: «…отсутствие в продолжение пары недель значительной части руководства германской партии, задерживаемой в Москве накануне самих событий, затрудняло в высшей степени возможность проведения необходимой политической подготовительной акции в самой Германии, немыслимой без наличности надлежащего руководства»[791]. Этот тезис не так уж далеко отстоял от обвинений в «экспорте революции из России», которые с первых дней существования международной организации коммунистов выдвигали их партийно-политические противники. Вместо четкой поддержки руководящего ядра КПГ в решающий момент революционного подъема аппарат Исполкома применял по отношению к нему «приемы лавирования, перетасовок, соломоновых судов», что вконец дезориентировало массовую базу партии. Переходя от германских к российским сюжетам, пленум КПП констатировал, что разгоравшаяся борьба в большевистском руководстве вызывает у иностранных коммунистов серьезную тревогу. «Вера в РКП, в ее мощь и единство, является фундаментом борьбы всех секций». Начавшаяся после ухода Ленина с политической арены дискредитация Троцкого, о которой регулярно писала западная пресса, наносила серьезный удар по авторитету коммунистического движения в целом. Следовало «убить в корне нарождающуюся легенду о надвигающемся расколе в РКП(б)», а для этого поставить вопрос о кризисе в руководстве партии большевиков на ближайшем пленуме ИККИ. Излишне говорить, что подобные требования выглядели как ультиматум, за которым мог последовать бунт «низов» против «верхов» Коминтерна. 10 января 1924 года Политбюро одобрило проект ответа на обращение КПП, составленный Зиновьевым. Последний в характерном для себя стиле попытался замять реальный конфликт, сведя его к фракционной работе Радека, который якобы подбил польских коммунистов на «не вполне товарищеский образ действий». Доставалось в ответном письме и Троцкому: «…глубоко ошибались те товарищи, которые предлагали при данном положении вещей установить „календарную программу“ восстания», т. е. назначение точной даты вооруженного выступления немецкого пролетариата[792]. Зиновьев явно кривил душой (что не считалось большим грехом в партийном обиходе левых радикалов), обещая польским коммунистам, что русское Политбюро «не мыслит себе руководящих государственных органов без участия в них тов. Троцкого». Ответ завершался скрытой угрозой, что, защищая оппозиционеров в РКП(б), руководство польской компартии «приносит пользу только фракционным политиканам»[793]. По таким же лекалам прошло (вначале в руководстве российской партии, а затем и в Президиуме ИККИ) обсуждение германских событий — поражение Радека и Троцкого было предопределено соотношением сил в Политбюро, где сталинско-зиновьевская фракция обладала подавляющим большинством[794]. Накануне решающего заседания, состоявшегося 1 и 2 января 1924 года, Председатель Коминтерна вызвал членов немецкой делегации, которые должны были принять в нем участие, и заявил им без обиняков: тот, кто поддержит «меньшевистский проект» Радека и Троцкого, проголосует «против 98 % российской партии и должен себе отдавать отчет в том, что будет означать для него лично такая позиция»[795]. Хотя немцы, представлявшие умеренное и правое крыло Правления, и не решились на подобный шаг, судьба этих фракций в КПГ была предрешена.
3.12. Последний взлет — Пятый конгресс
Смерть Ленина стала тяжелым ударом для нашего героя, который на всех партийных и государственных постах привык быть «вторым номером», находящимся под надежной защитой лидера. В своих статьях и некрологах Зиновьев неизменно подчеркивал невосполнимость понесенной утраты и открытость будущего, что контрастировало с ортодоксальным пониманием «железных законов истории», которые всегда и всюду пробьют себе дорогу. Тело вождя еще не было погребено, когда продолживший свою дипломатическую карьеру Иоффе, только что вернувшийся из Китая, попытался примирить своих партийных покровителей, предложив им забыть осенние разногласия и сделать фантастический ход, который решил бы проблему ленинского наследства: «Я полагаю, что было бы весьма рискованным и неудачным пытаться заменить Ленина одним лицом и что поэтому необходимо теперь создать не [пост] председателя Совнаркома, а президиум. Хотя по-прежнему все важные вопросы будут решаться не в Совнаркоме, а в Политбюро, — это — необходимо для народа и для заграницы, прежде всего, чтобы сразу же дать понять, что Ленина и не пытаются заменить. Единственной возможной комбинацией такого президиума была бы: Троцкий, Зиновьев, Каменев. Она имеет только тот минус, что все три евреи, но она единственно возможная»[796].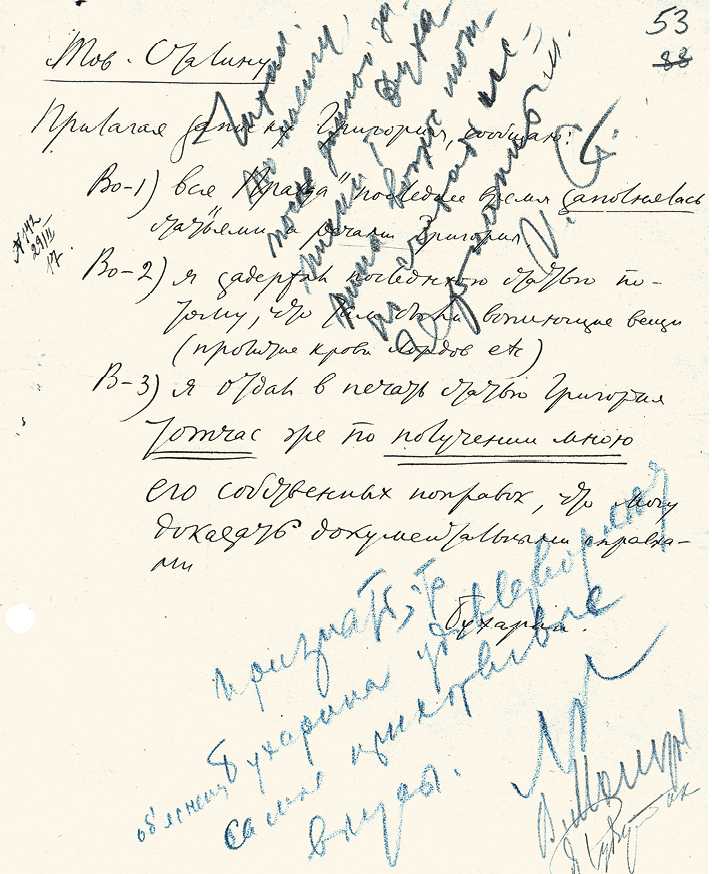 С доводами главного редактора «Правды» согласились все члены Политбюро: «Признать, что объяснения Бухарина удовлетворят самые прихотливые вкусы»
Записка Н. И. Бухарина И. В. Сталину
29 февраля 1924
[РГАСПИ. Ф. 324. Оп. 2. Д. 71. Л. 53]
С доводами главного редактора «Правды» согласились все члены Политбюро: «Признать, что объяснения Бухарина удовлетворят самые прихотливые вкусы»
Записка Н. И. Бухарина И. В. Сталину
29 февраля 1924
[РГАСПИ. Ф. 324. Оп. 2. Д. 71. Л. 53]

 Н. И. Бухарин разъясняет по пунктам все обвинения, которые выдвинул против «Правды» Г. Е. Зиновьев: «Отнюдь не для оправдания, а для информации»
Записка Н. И. Бухарина Г. Е. Зиновьеву
Не ранее 29 февраля 1924
[РГАСПИ. Ф. 324. Оп. 2. Д. 71. Л. 55–55 об.]
Н. И. Бухарин разъясняет по пунктам все обвинения, которые выдвинул против «Правды» Г. Е. Зиновьев: «Отнюдь не для оправдания, а для информации»
Записка Н. И. Бухарина Г. Е. Зиновьеву
Не ранее 29 февраля 1924
[РГАСПИ. Ф. 324. Оп. 2. Д. 71. Л. 55–55 об.]
Следует отдать должное интеллектуальному напору Иоффе, который и в отношениях со своим начальством избегал служебной иерархии. Ради того, чтобы отодвинуть в тень Сталина, как ему казалось, были хороши любые средства. Правда, оставался вопрос о том, на кого Зиновьев бросит Коминтерн, но Иоффе, прекрасно знакомого с реальным соотношением сил в этой организации, это не очень волновало: «Если бы даже Вам в этом случае пришлось перестать быть Предкоминтерна, то и тогда это необходимо было бы сделать; Вы могли бы остаться фактическим председателем Коминтерна, а юридически была бы хоть Клара Цеткин. Впрочем, я лично полагаю, что в нынешнее время это вовсе не нужно, и Вы спокойно могли бы совмещать обе должности»[797]. В чем был прав автор письма, так это в том, что между «фактическим» и «юридическим» состоянием дел в Исполкоме Коминтерна пролегла огромная пропасть. После смерти Ленина и без того беспримерная подозрительность Зиновьева буквально удвоилась. Прошедший год, с одной стороны, сплотил противников Троцкого, образовавших «семерку», которая проводила фракционные совещания до заседаний Политбюро. С другой — он показал, что НЭП не является панацеей и достаточной гарантией экономического подъема страны, и его противоречия («ножницы цен», социальное неравенство) имеют тенденцию к нарастанию. Наконец, на 1923 год пришлись поражения партий Коминтерна в Болгарии и Германии, которые проходили по ведомству нашего героя. Не прошло и месяца со дня смерти Ленина, как Зиновьев устроил настоящую атаку на редакцию «Правды», регистрируя все случаи, когда та не помещала на страницах газеты его статьи и выступления. Главный редактор Бухарин отреагировал в характерном для себя беззаботно-примирительном тоне, разобрав по пунктам все обвинения и не найдя в них политического подтекста[798]. Однако Зиновьев не унимался. Отодвинув на второй план коминтерновские дела, он занялся выстраиванием оборонительных укреплений против сталинского единовластия. В августе он писал Каменеву, что собирает «точные цитаты из Старика, на 100 % подтверждающие нас» по вопросу о диктатуре[799]. Его секретариат скрупулезно подмечал все недостатки статей и резолюций, подписанных генсеком. Позже Зиновьев представлял себя провидцем, первым разглядевшим диктаторские замашки Сталина. В проекте открытого письма, адресованного ЦК КПГ (сентябрь 1926 года), он упоминал свою статью, которая появилась в «Правде» 23 августа 1924 года без подписи, поскольку была одобрена «ядром Центрального комитета» и «направлена против Сталина»[800]. Речь в ней шла о соотношении диктатуры класса и его партии, в промежутках между обширными цитатами из работ и выступлений Ленина в статье делались лишь прозрачные намеки на необходимость разделения компетенций партийных комитетов и советских органов управления. Имя Сталина в статье вообще не упоминалось, в ней говорилось лишь о том, что «всякое „увлечение партийностью“, неправильное отношение к органам советов, нелепое „тыканье“ диктатурой партии наносят ущерб и партии, и классу в целом»[801]. При всем желании здесь нельзя было увидеть той теории бонапартистского перерождения диктатуры большевиков, которую гораздо позже (и на другом историческом материале) построит Троцкий. В данном случае Зиновьев оставался верным ленинцем, сочиняя прошлое и подчиняя его прагматическим задачам внутрипартийной борьбы. Сложно складывались его отношения с наркомом иностранных дел Чичериным, которые имели в своей основе конфликт двух ведомств, проявившийся уже на рубеже 1920-х годов. В то время как Коминтерн подчинял национальные интересы СССР идеалам мировой революции, Наркоминдел как раз эти интересы отстаивал, а значит — тормозил интернационалистские посылы внешней политики. Чичерин неоднократно жаловался на то, что структуры ИККИ не делятся с ним информацией о положении в зарубежных странах, просил держать его наркомат в курсе дел, «а то абсолютная оторванность!»[802] Глава Коминтерна не оставался в долгу, постоянно требуя от НКИД присылки материалов о международном положении[803]. Нарком просматривал выступления Зиновьева перед закрытыми партийными собраниями, вычеркивая из них те пассажи, которые с его точки зрения могли бы навредить интересам советской страны. Так, из проекта доклада на Шестом пленуме ИККИ Чичерин предложил вычеркнуть слова, что она является «главой мира пролетарской революции», поскольку «эти слова слишком идут навстречу привычной кампании наших врагов, ратующих в пользу изоляции СССР или единого фронта против него»[804].
 В год 5-летия Коминтерна еще можно было шутить над его основателями
Обложка журнала «Смехач». 1924. № 3
[Из открытых источников]
В год 5-летия Коминтерна еще можно было шутить над его основателями
Обложка журнала «Смехач». 1924. № 3
[Из открытых источников]
Соперничество двух ведомств продолжалось и все последующие годы. В своем политическом завещании, написанном в 1929 году, Чичерин назвал Коминтерн «первым из наших внутренних врагов». «Особенно вредными и опасными были коминтерновские выступления наших руководящих товарищей и всякое обнаружение контактов между аппаратом и компартиями. В 1928 г. был поставлен вопрос об удалении иностранных коммунистов из наших полпредств, торгпредств, разных экономических учреждений, банков и представительств ТАСС. Действительно, если крупным участником крупного коммунистического выступления оказывался портье нашего банка, поднимался общий крик о нашей виновности. Были установлены разные степени строгости для разных стран». Для предотвращения подобных случаев была образована специальная комиссия, которая пришла к неутешительным результатам. «Выяснилось, что в Турции вся компартия служила в наших учреждениях; для Турции была установлена максимальная строгость в избегании контакта. В Берлине весь актив партии сидел в наших учреждениях; это была форма финансирования партии»[805]. Чувствуя, что акции Коминтерна неуклонно падают, Зиновьев попытался привлечь к нему внимание, использовав 5-летний юбилей международной организации коммунистов. Но его и тут обогнали конкуренты, выпустившие к этой дате сборники собственных статей и выступлений[806]. Председатель ИККИ сосредоточил свои усилия на подготовке и проведении мероприятия, где его приоритет был неоспорим — речь идет о Пятом конгрессе Коминтерна. Это был первый конгресс, на котором не было Ленина, и последний — в политической карьере самого Зиновьева. Решение о его созыве было принято 5 апреля, сам конгресс проходил в Москве с 17 июня по 8 июля 1924 года. В отчетном докладе лидер Коминтерна не предложил заметных теоретических новаций, воспроизведя на примерах отдельных стран устоявшуюся схему: налицо объективная «перезрелость» капитализма, но пока хромает субъективный фактор — за границей все еще нет настоящих революционных партий, которые можно было бы поставить в один ряд с РКП(б). Отсюда выводился курс на «большевизацию» существующих компартий, что означало «перенесение в наши секции того, что в русском большевизме было и есть международного общезначимого»[807]. Эта туманная формулировка включала в себя жесткую централизацию на всех уровнях партийной иерархии, создание коммунистических ячеек на предприятиях, проведение подпольной работы в армиях буржуазных стран, повышенное внимание аграрному вопросу и многое другое. Все это было изложено на бюрократическом новоязе и плохо сочеталось с романтикой мировой революции, которая сопровождала рождение Коминтерна. Позже Троцкий даст нелицеприятную оценку тому, во что превратилась эта международная организация без Ленина, который до конца своей жизни боролся против «бюрократического вырождения централизма». Будет назван и виновник этого процесса: «Во главе V конгресса не только формально, но и по существу стояла группа Зиновьева. Именно эта группа придала основной тон работам V конгресса против так называемого троцкизма». В результате «идеологией Коминтерна ныне не руководят, а распоряжаются. Теория из орудия познания и предвидения превратилась в техническое орудие управления»[808]. В данном случае Троцкий был явно неправ — сам он не выступал на конгрессе только потому, что не хотел давать повода своим конкурентам в Политбюро для новых нападок[809]. Что касается деградации теоретического уровня дискуссий, то здесь Пятый мало чем отличался от череды своих предшественников. Даже признание «временной и частичной» стабилизации капитализма было не более чем запоздалым признанием очевидного факта, который находил свое отражение и в цифрах экономического роста, и в потере влияния самих коммунистических партий. В резолюциях конгресса шла речь о том, что одним из проявлений стабилизации стала «демократически-пацифистская полоса» в сфере международных отношений. Однако и этот реалистичный тезис сопровождался многочисленными оговорками: эта полоса «не только не привела и не может привести к сокращению вооружений, но напротив, рост вооружений бешеным темпом продолжается. Интриги тайной дипломатии процветают больше, чем когда бы то ни было. Каждая демократия с большей или меньшей откровенностью вооружается для непримиримого империалистического столкновения с другой „дружеской демократией“»[810]. Революционная развязка может наступить в любой момент (и она представлялась неизбежной при развязывании новой империалистической войны), а может затянуться на долгую перспективу. Лозунг рабоче-крестьянского правительства был дан в его зиновьевской трактовке, что вызвало аплодисменты «левых», как синоним диктатуры пролетариата. То же произошло и с оценками фашизма — решения конгресса подчеркивали, что социалисты не могут быть нашими союзниками в борьбе с праворадикальной угрозой, ибо «фашизм и социал-демократия составляют два острия одного и того же оружия диктатуры буржуазии». В лагерь фашизма были занесены любые политические силы, которые считались антикоммунистическими: «При все более прогрессирующем распаде буржуазного общества все буржуазные партии, и особенно социал-демократия, принимают более или менее фашистский характер, прибегая к фашистским методам борьбы с пролетариатом»[811]. При этом коммунистам рекомендовалось взять на вооружение те же методы, которые использовали фашисты: захват складов с оружием и создание вооруженных дружин, а также не конкретизированные «массовые репрессии» в ответ на акты террора крайне правых. О союзниках коммунистов в этой борьбе ничего не говорилось. Таким образом, политика компартий (как бы ни слабы они были на национальной политической сцене), внешне заостренная против правых радикалов, на самом деле была политикой маргиналов, закрывших в отчаянии глаза и наносивших хаотичные удары против истинных и мнимых противников. Голоса иностранных членов ИККИ, которые предупреждали, что при таком подходе «мы рискуем повторить во Франции ошибку, совершенную нашей коммунистической партией в Италии при возникновении и развитии фашистского движения», попросту не были услышаны[812]. К сожалению, часто наши знания о том или ином историческом событии, в том числе и имевшем место в прошедшем веке, опираются только на официальные документы. Это характерно для коминтерновской истории, которая несла на себе черты секретности, сопровождавшей подпольную работу революционных движений и антиправительственных заговорщиков. Но не бывает правил без исключений — в архиве Коминтерна сохранилось пространное письмо Йозефа Айзенбергера, сотрудника представительства КПГ при ИККИ, принимавшего участие в работе Пятого конгресса. Автор являлся сторонником отправленных в отставку Брандлера и Тальгеймера, что придавало его оценкам критическую направленность и обеспечило историческую ценность нашего источника. Само письмо отложилось в фонде переписки Зиновьева с деятелями международного коммунистического движения — либо оно было перехвачено, либо передано ему одним из доброхотов из нового состава ЦК КПГ. Так или иначе, Председатель Коминтерна был в курсе данных ему нелицеприятных характеристик. Вопрос о виновниках поражения «германского Октября», по мнению Айзенбергера, витал в ходе конгресса не только над правыми лидерами немецкой партии, но и над самим Зиновьевым. Он «был первым, кто понял значение этого вопроса, что доказал бесцеремонный и демагогический характер дискуссии по русским делам, в которой нынешнее руководство русской партии любой ценой хотело утвердиться и не оставляло места для уступок оппозиции»[813]. Однако речь шла не только о Троцком, но и о размежевании между правыми и левыми группами в руководстве самих компартий. Зиновьев сделал все для того, чтобы «привести левое большинство к поддержке позиции РКП(б) и ее нынешней троицы[814] — к этому и сводился смысл прошедшего конгресса». Значительную часть этой работы взяли на себя эмиссары ИККИ, контролировавшие на местах большинство европейских компартий[815]. В итоге лидеру Коминтерна не нужно было брать на себя функцию гонителя «правых» — в ходе конгресса он предпочел роль умеренного и осторожного судьи. «Выполнение работы палача отнюдь не противоречит его характеру — если он в этот раз отказался от нее, то только потому, что прекрасно отдавал себе отчет в неискренности своей критики. Если бы он лично высказал ее, это означало бы уничтожение последних мостов „направо“. Этого Зиновьев не хотел». Умеренное наказание Радека и Брандлера вызвало бурю возмущения у новых руководителей германской партии, которых Айзенбергер характеризовал не иначе как «осиное гнездо». Автор письма приходил к выводу, что в истории Коминтерна «не было еще ни одного такого конгресса, который прошел бы так скучно и нерешительно», поскольку его режиссеры думали прежде всего о собственном политическом будущем[816]. Следует отдать должное его проницательности — смена руководства, которую накануне конгресса пережила германская компартия, рассматривалась Айзенбергером как рецидив «детской болезни левизны». Эта болезнь, превратившаяся в хроническую, может быть преодолена только внешними по отношению к Коминтерну факторами, такими как прогресс нэпа и дальнейшая стабилизация в капиталистических странах, утверждал автор письма. Все это свидетельствовало о том, что «пролетарская революция на Западе становится длительным процессом, а Германия перестает быть ее главным очагом»[817]. Голос разума, дошедший до нас из глубин коминтерновского аппарата, свидетельствует о том, что в рядах зарубежных коммунистов сохранялось рациональное и умеренно оптимистическое видение перспектив будущего, ориентированное скорее на ортодоксальный марксизм, нежели на опыт российского большевизма. Самый известный немецкий историк коммунистического движения ХХ века Герман Вебер, сам выходец из рядов КПГ и крайне популярный у студенческого движения 1968 го-да, сформулировал тезис о «демократической альтернативе» в рядах западных компартий, которой уже после Пятого конгресса была противопоставлена их насильственная и тотальная «большевизация»[818]. Представитель компартии Чехословакии Крейбих в ИККИ в своих рассуждениях не так уж далеко ушел от Айзенбергера, хотя выражался более резко и настаивал на том, чтобы они были опубликованы в партийной прессе. Он писал о том, что конгресс и Зиновьев лично не нашли в себе силы для того, чтобы признать контрнаступление капитала и предложить компартиям политический курс, адекватный новым реалиям. Вместо этого активизировалась кампания по выдавливанию из руководства партий людей, сделавших карьеру в социал-демократическом движении. Вместо них рекрутировались незрелые рабочие, поскольку «они походят на чистый лист бумаги, на котором без труда можно записать чисто коммунистический текст»[819]. Особое внимание уделялось в статье дискуссии в РКП(б). После смерти Ленина, отмечал чешский коммунист, «позиция в русском вопросе стала рассматриваться как отличительный признак деления товарищей из Интернационала на овец и козлищ. Козлищем считается всякий, кто хотя бы сколько-нибудь посмел усомниться в правильности и целесообразности личных выпадов против Троцкого, хотя бы во всех прочих вопросах он и считал правым ЦК [РКП(б)]. Надо во что бы то ни стало подписаться под приговором Троцкому, чтобы тебя не клеймили как оппортуниста и члена правого крыла Коминтерна»[820]. Зиновьев отправил статью Крейбиха (она так и не была опубликована) Молотову с припиской, что это признак наличия среди иностранных работников ИККИ группы, которая солидарна с Троцким и Радеком, зачислив в нее и Брандлера с Тальгеймером. Нам неизвестно, чем закончилось партийное расследование, но времена, как шутили в Коминтерне десятилетием позднее, были еще вегетарианские. И Крейбих, и Айзенбергер продолжали работать в аппарате ИККИ, хотя последний и стал жертвой сталинских репрессий 1937 года, но это уже совсем другая история[821]. Другой историей является и «письмо Зиновьева», наделавшее шуму в английской политике накануне парламентских выборов осени 1924 года[822]. Оно было топорно сфабриковано конкурентами лейбористов и содержало призыв английским коммунистам использовать все средства для подготовки вооруженного переворота в Великобритании, в том числе и подпольную работу в воинских частях. Публикация письма в британской прессе и развернутая на этой основе антисоветская кампания вызвали обмен нотами протеста между Форин офис и НКИД[823], хотя и не привели к разрыву дипломатических отношений между странами. 1924 год, на который пришлось немало событий коминтерновской истории, лишний раз подтвердил, что Зиновьев не был человеком, способным «продавить» собственную политическую линию. Его личный авторитет держался на том, что за его спиной стоял вначале Ленин, а затем Сталин. Подражая и тому, и другому, он хотел выглядеть верховным арбитром, карающим и милующим, соединяющим своей волей крайние точки зрения. Реагируя на критические замечания руководителей чехословацкой компартии, которая традиционно занимала позиции на правом фланге коминтерновского спектра, Зиновьев писал одному из них: «Надеюсь, когда Вы познакомитесь с решениями Пятого конгресса, Вы сами увидите, что напрасно опасались, будто бы мы выдадим Коминтерн (или германскую партию) крайним левым». В то же время он предупреждал КПЧ от сохранения устаревшей трактовки единого рабочего фронта как политического союза с социал-демократами. «Когда я убедился в том, что чехословацкой партии, как и некоторым другим секциям Коминтерна, угрожает опасность пойти по социал-демократической дорожке, разумеется, я должен был забить в набат»[824]. Подобные колебания «генеральной линии» Коминтерна действительно были характерны для ленинской эпохи, но тогда они опирались на анализ ситуации в зарубежных странах, а не следовали тактическим коллизиям внутри большевистской верхушки.
3.13. КПГ в руках «зиновьевцев»
До начала 1924 года германская компартия оставалась одновременно и главной надеждой московского центра Коминтерна, и главным нарушителем спокойствия его лидера. Зиновьев на дух не переносил старые «спартаковские» кадры в Правлении КПГ, которые прекрасно помнили, сколь незначительной была роль и его самого, и РСДРП в целом в довоенном Интернационале. Многие из лидеров немецкой компартии были прекрасно знакомы с Лениным и Радеком, они ориентировались на их советы и указания, игнорируя по возможности таких зиновьевских «экспертов», как Бела Кун или Август Клейне. Заручившись поддержкой вождя, Зиновьеву удалось убрать Леви с поста председателя КПГ, однако это являлось для него слишком слабой сатисфакцией. Речь шла о том, чтобы до основания вычистить «авгиевы конюшни» социал-реформизма, а затем буквально с нуля создать новую компартию по образу и подобию большевистской. Обвинение брандлеровского руководства КПГ в «капитулянтстве» и трусости в тот момент, когда, по мнению Москвы, Германия находилась всего в нескольких шагах от собственного Октября, создавало для столь радикальной чистки оптимальные условия. Сделав ставку на группу «левых» из Берлинской организации партии, которую возглавляли Фишер и Маслов, Зиновьев был уверен, что новые, молодые и неопытные лидеры КПГ будут свой каждый шаг сверять с директивами ИККИ. Он жестоко ошибся. «Левые» потому и считали себя «левыми», что не желали встраиваться в механизмы внутрипартийной дисциплины, неважно социалистического или большевистского образца. Уже в феврале 1924 года в Москву стали приходить сигналы о том, что новый состав Правления КПГ проводит собственную политику, не обращая внимания на данные обещания. Так, «левые» выступили за созыв всегерманского рабочего конгресса, рассчитывая на то, что он приведет к окончательному расколу профсоюзного движения в стране. Эта инициатива была категорически отвергнута в ИККИ, но не снята с повестки дня в Берлине. На словах Зиновьев выступал за то, чтобы инициированная им смена руководства КПГ не обернулась тотальной чисткой партии от «спартаковцев». На деле все выглядело совершенно иначе. Тальгеймер, обращаясь к Председателю ИККИ, уверял, что против последних организована настоящая травля, их безосновательно обвиняют в образовании «правой фракции»: «Наоборот, мы считаем, что в интересах оздоровления партии фракционность должна быть как можно скорее ликвидирована. Если все же эта, почти бешеная травля, направленная против Брандлера и нас двоих, будет иметь успех, то новые потрясения для партии станут неизбежными»[825]. Зиновьев был вынужден написать в Берлин: попытки исключения трех бывших лидеров «встретят мое решительнейшее и энергичнейшее сопротивление. Более того, эти попытки были бы преступлением против партии и Интернационала»[826]. В конце концов он посчитал за лучшее оставить Брандлера и Тальгеймера на незначительных должностях в своем московском аппарате. В течение почти пяти лет они боролись за право вернуться на родину, а вернувшись, образовали оппозиционную коммунистическую партию, так что слова о «новых потрясениях» оказались вполне пророческими[827]. На протяжении марта 1924 года Президиум Исполкома направлял немцам настоятельные просьбы прибыть в Москву для выяснения отношений, но те хладнокровно их игнорировали. Для того чтобы «додавить» непокорных, в Берлин отправился Пятницкий, распоряжавшийся финансовыми ресурсами Коминтерна. Опытный аппаратчик сразу увидел реальную расстановку сил: «Настроение на местах, насколько я узнал от товарищей, погромно-левое». Фишер и Маслов «боятся ехать в Москву, чтобы им там не навязали решений, с которыми они принципиально не согласны… У меня получилось такое впечатление, что левые товарищи подготовляют своих сторонников к борьбе против ИККИ»[828]. Ему вторила Елена Стасова, пользовавшаяся в партии непререкаемым авторитетом: «Вчерашнее заседание заставило меня еще больше почувствовать, что мы стоим перед внутрипартийными вопросами, которые чреваты весьма серьезными последствиями для Коминтерна»[829]. Мнение двух подпольщиков с многолетним опытом работы Зиновьев игнорировать не мог, а потому решил спустить разраставшийся конфликт на тормозах. Вначале он попытался сыграть роль доброго начальника («Приложите все усилия, чтобы мирным путем разрешить конфликт»[830]), а затем пошел на попятную в вопросе о вызове немцев в Москву. Если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе — в конце марта 1924 года в Германию была направлена внушительная делегация высших функционеров РКП(б)[831]. Председатель ИККИ (он сам хотел поехать в Берлин, но не получил на это разрешения Политбюро[832]) вернулся к тактике мягких увещеваний, пытаясь вернуть «левых» на путь истинный: похоже, у вас создалось впечатление, «будто мы колеблемся разделить с вами ответственность за новое руководство Германской компартии, или что мы оказываем вам недостаточное доверие, или что мы рядимся в тогу каких-то непогрешимых учителей, которые подвергают строгому экзамену новичков. Все это вздор». Мы гарантируем вам полную поддержку, поскольку знаем, «как велики трудности, и поэтому вовсе не склонны придираться к мелочам и небольшим ошибкам»[833]. Зиновьев заканчивал свое письмо скрытой угрозой, напоминая о том, кому Маслов должен быть благодарен за свое столь быстрое возвышение и кто в Москве остается его главным противником: «Здесь все с нетерпением ожидают решений вашего съезда. Ваши противники, как Радек и Ко., несомненно ждут, чтобы вы сделали какие-нибудь серьезные ошибки, и тогда они смогут взять реванш прежде всего перед общественным мнением русских коммунистов»[834]. Несмотря на всю патетику письма, для «левых» оно выглядело как карт-бланш, которым те беззастенчиво воспользовались в своих целях, выкорчевав из партийного аппарата всех представителей старого руководства. Такой же индульгенцией выглядела и статья Зиновьева, которую «на крайний случай» получили члены делегации ИККИ, отправлявшиеся на Франкфуртский съезд КПГ (он состоялся 7–10 апреля 1924 года). В ней говорилось о том, что победа «левых» не была простым успехом одной из фракций. Она «отражает возросшую активность коммунистического авангарда и сочувствующих революции элементов рабочего класса, их стремление к действительно революционной борьбе, их ненависть к правым и „левым“ социал-демократам, их пресыщенность тактикой выжидания, их справедливое озлобление по поводу громадных ошибок, совершенных группой Брандлера в октябре и их искреннее желание стать настоящей большевистской партией»[835]. В статье перечислялись и ошибки группы Фишер — Маслова: отрицание необходимости единого фронта, попытка построить партию на основе идей Розы Люксембург, а не ленинской модели. Вопреки критическому состоянию партии после поражения осени 1923 года Зиновьев ориентировал КПГ на то, чтобы «как можно большеприблизить революционную развязку», заодно соглашаясь с тезисом левых о «необходимости применения тактики единого фронта только снизу и отказе от переговоров с официальными вождями социал-демократии»[836]. Его призыв наладить «дружную работу», не игнорировать инакомыслящих членов Правления партии повис в воздухе: «Фракционная борьба заканчивается. Болезни „левизны“ излечиваются. Революционной фразе, левому „визгу“, левому „ребячеству“ объявляется решительная война… Никакой фракционной дипломатии. Настоящая серьезная пролетарская дисциплина по отношению к Коминтерну»[837]. В противном случае последний объявит «левым» решительную войну, в которой у тех не будет никаких шансов на успех. Франкфуртский съезд КПГ утвердил новый состав руководящих органов партии, в которых «левые» получили доминирующие позиции, но не разрешил внутрипартийный кризис. Делегация из Москвы прибегла к крайним мерам, чтобы обеспечить принятие согласованных в ИККИ резолюций, и добилась своего[838]. Однако, подводя итоги съезда, ее члены единодушно признали, что «левые» ждут только удобного момента, чтобы возобновить свои атаки на Коминтерн[839]. Не прошло и недели после завершения съезда КПГ, а переизбранная «тройка» (Тельман получил пост Председателя партии) опять поставила под вопрос авторитет Москвы, вновь выступив с идеей созыва рабочего конгресса. Говоря о проведении «единого фронта снизу», она вела дело к расколу профсоюзов по партийному признаку. Даже из Москвы было видно, что такой шаг будет означать потерю коммунистами имеющихся у них позиций в профсоюзном движении. Реакция Зиновьева не заставила себя ждать: «Снимаем с себя всякую ответственность, если будете ставить перед свершившимися фактами, так далеко мы не уедем. Требуем, чтобы ничего не публиковалось до совещания с Тельманом в Москве. По-видимому, вопрос стоит так: или Интернационал, или ультралевые ликвидаторы партии. Вам придется выбирать»[840]. Председатель ИККИ оставил Пятницкого в Берлине, потребовав от него скорейшей публикации своих писем и статей о положении в КПГ. В случае если это было выгодно, он прибегал к аргументам от демократии. Так, Исполком принял решение заслушать в Москве не только новоизбранного председателя КПГ Тельмана, но и представителя «центральной группы». Зиновьев писал по этому поводу: «Допущение представителя меньшинства никоим образом не обозначает нелояльности по отношению к ЦК. Мы действительно стремимся к уничтожению группировок. Но каждое меньшинство имеет право донести свои пожелания до Интернационала»[841]. Дмитрий Захарович Мануильский
23 июня — 12 июля 1921
[РГАСПИ. Ф. 490. Оп. 2. Д. 300. Л. 1]
Дмитрий Захарович Мануильский
23 июня — 12 июля 1921
[РГАСПИ. Ф. 490. Оп. 2. Д. 300. Л. 1]
В апреле 1924 года Зиновьев отправил в турне по европейским странам ответственного сотрудника ИККИ Мануильского, поручив тому среди прочего распутать клубок интриг в руководящей группе КПГ и по возможности перенести акцент с Аркадия Маслова на Эрнста Тельмана, который казался Москве «простым рабочим парнем». Он писал Мануильскому: «…теперь перехожу к главному — к Германии. Признаюсь откровенно, я в первый раз нахожусь в таком положении: решительно не понимаю, в чем суть положения, к чему дело идет, с кем мы имеем дело — с друзьями, которые еще путают и не все понимают, или с врагами, которые выигрывают время, чтобы овладеть аппаратом, войти в силу и после этого поднять открытый бунт»[842]. Весьма показательные слова, которые свидетельствовали о том, что партийные интриги вошли в плоть и кровь нашего героя, усилили его природную подозрительность и недоверие. В его обширной переписке со своими соратниками и подчиненными нетрудно выделить фразу, повторяющуюся чаще всего: «это несомненный скандал». В приступе откровенности Зиновьев высказался и о том, на чем держится лояльность лидеров зарубежных компартий к московскому центру: «…нужно заставить новый ЦК показать настоящее лицо и покончить со всеми условностями и дипломатией. Если для этого нужно обострить положение, то не останавливайтесь перед этим. Ведь Пятый конгресс — наша единственная серьезная пушка против них. И вообще положение необходимо выяснить во что бы то ни стало. Не говоря уже обо всем прочем: не станем же мы посылать громадные суммы денег в распоряжение людей, которые завтра, может быть, окажутся против нас»[843]. Стоит напомнить, что речь идет о Рут Фишер и Аркадии Маслове, которым всего несколько месяцев назад именно Зиновьев вручил бразды правления КПГ. Даже видавший виды адресат был несколько шокирован безапелляционным тоном начальства, сообщив в ответном письме, что не считает положение в партии катастрофическим, и посоветовал «применять методы педагогики, а не полного и безоговорочного боя». Познакомившись с положением дел поближе, Мануильский все-таки признал, что левое руководство начало «усиленный нажим в сторону полного удушения центральной группы», подразумевая под ней тех членов ЦК КПГ, который имели «спартаковское» прошлое, т. е. вышли из рядов довоенного социалистического движения[844]. Никогда не питавший особых симпатий ни к «партийным интеллигентам», ни к руководителям, способным принимать самостоятельные решения, он все же понимал, что «простые рабочие» во главе КПГ привели к потере партией в 1924 году около миллиона избирателей, что являлось для нее настоящей катастрофой[845]. Еще более ярым поклонником левого руководства немецкой компартии был Бела Кун, также постоянно наведывавшийся в Германию в роли представителя ИККИ. После падения Советской Венгрии в 1919 году его обвиняли в излишней податливости по отношению к социалистам, и он всю оставшуюся жизнь пытался ответить на эти обвинения собственной левизной. Кун восхищался энергией Рут Фишер, превозносил радикальную риторику ее единомышленников. «Следует признать, что поворот влево в вопросе о руководстве действительно стал спасительным для [германской] партии»[846]. В своих докладах венгр не скупился на обвинения «правых» в том, что они готовят внутрипартийный переворот и не подчиняются большевистской дисциплине, что продлевало дни скоротечной эпохе лидерства группы Фишер — Маслова. Зиновьев слишком долго колебался — его успокаивали пафосные письма Рут Фишер, в которых та превозносила успехи собственной фракции («еще никогда партия не была столь единой, как теперь») и озвучивала угрозы со стороны ее оппонентов («правые все еще живы, организованы и в Москве, и в Германии, и ждут лучших времен»), подводя Председателя ИККИ к мысли о собственной незаменимости[847]. Однако все попытки группы Фишер — Маслова поставить себя на один уровень с Москвой наталкивались на жесткий отказ, более того, возбуждали у руководителей Коминтерна подозрения, что с германские левые ведут с ними двойную игру[848]. Конец терпению Москвы в этом вопросе положила провальная тактика партии в кампании по выборам рейхспрезидента весной 1925 года. Отказавшись идти на политическое сотрудничество с социал-демократами и выдвинув даже во втором туре собственного кандидата (Э. Тельман), КПГ не просто выбрала иллюзорный курс — она пошла наперекор директивам ИККИ. В результате фаворитом предвыборной гонки стал фельдмаршал Пауль фон Гинденбург. Для либеральных партий он олицетворял собой угрозу монархической реставрации, и эту точку зрения поддержали в Москве. Зиновьев был вне себя — все его увещевания, что нужно идти на соглашение с СДПГ для того, чтобы не допустить к власти открытого монархиста, в Берлине не были услышаны. Хотя ИККИ потребовал от руководства КПГ еще в первом туре выборов направить Открытое письмо в адрес Правления СДПГ, где предложить на известных условиях поддержать социал-демократического кандидата в рейхспрезиденты, Фишер и Маслов на это не пошли. Под давлением Москвы такое письмо, предлагавшее союз рабочих партий для совместной борьбы против реакции, появилось лишь после избрания Гинденбурга, когда все уже было решено. По справедливому замечанию Зиновьева, оно было столь же уместно, «как горчица после обеда»[849]. Москве приходилось спасать то, что еще можно было спасти после бездумного хозяйничанья в партии «левых» — речь шла о коалиционном правительстве Пруссии во главе с социал-демократом Отто Брауном. Зиновьев (и это было крайне нетипично для него) заявил, что коммунисты ни в коем случае не должны проваливать коалицию с СДПГ в прусском ландтаге, а предложить ей прямое соглашение на приемлемых условиях. Это выглядело настоящим «дежавю» — через четыре года Председатель Коминтерна, оппонировавший тактике единого рабочего фронта, признал ее оправданность и набросал план действий, который имел все шансы на успех. Ирония судьбы заключалась в том, что главным противником этого плана оказались как раз те функционеры КПГ, которые продолжали говорить языком революционного наступления и которых он сам привел на руководящие позиции в партии. Сообщая в Москву одно, они за спиной Исполкома гнули собственную ультралевую линию, которая стоила КПГ серьезных потерь не только на парламентских выборах. Лишь после того, как ситуация в ЦК КПГ окончательно вышла из-под контроля Исполкома Коминтерна, Зиновьев признал, что вожди немецкой партии его попросту обманывают: «Получил от них сегодня телеграмму. Они, видите ли, считают создавшееся положение guenstig[850]. Cтошнило. Всё guenstig да guenstig! Не хотят люди видеть своих ошибок»[851].
 Гейнц Нейман
[Из открытых источников]
Гейнц Нейман
[Из открытых источников]
Мануильский, направленный в Берлин на сей раз для быстрой расправы с «левыми», предложил Зиновьеву не останавливаться перед крайними мерами. Зарубежная партия выглядела для коминтерновского эмиссара как тесто, из которого можно вылепить все что угодно. В первом же письме он нарисовал сценарий грядущего съезда: «Я убежден, что мы составим Политбюро такое, которое будет означать честное пролетарское отношение к Коминтерну. Тэдди [Тельман] при всех своих недостатках классовым инстинктом понимает это, и если увидит с нашей стороны твердую поддержку, ринется в драку вовсю. Но я думаю, обойдется без драки, ибо при всей своей наглости Рутиха [Рут Фишер] капитулирует по всем пунктам»[852]. Накануне очередного съезда КПГ Зиновьев стал продумывать варианты замены группы Фишер — Маслова, вплоть до самых оригинальных. Так, он предложил вернуться в Правление КПГ «спартаковке» Кларе Цеткин, которая на протяжении полутора лет засыпала его письмами, критиковавшими левое руководство партии. Та вежливо отказалась, напомнив, что вот уже несколько лет находится в Москве, а «изучение задним числом протоколов Правления ничего не даст», «тем более что практика нынешних руководящих товарищей делает весьма сомнительной возможность того, что протесты или критика вообще будут услышаны [партийной] общественностью»[853]. Цеткин выдвинула целый ряд условий, при которых она могла бы вернуться в партийное руководство, — от реабилитации исключенных до «восстановления свободы дискуссий, гарантированных уставом Коминтерна». Чтобы закрыть тему, она процитировала «Фауста» Гете: «Я слышу весть, но веры нет в нее».
 Михаил Вениаминович Кобецкий
23 июня — 12 июля 1921
[РГАСПИ. Ф. 490. Оп. 2. Д. 297. Л. 1]
Михаил Вениаминович Кобецкий
23 июня — 12 июля 1921
[РГАСПИ. Ф. 490. Оп. 2. Д. 297. Л. 1]
Оказывали давление на Председателя Коминтерна и германские ультралевые, считавшие, что группа Фишер — Маслова установила в партии единоличную диктатуру и хочет расправиться со своими недавними друзьями. Один из них, Иван Кац, некоторое время занимавший пост представителя КПГ в Исполкоме, писал в Москву: «В партии господствует чрезвычайщина. Рут Фишер правит, как будто она является абсолютным монархом, еще более беспардонно, чем династические деспоты со своими приспешниками, интригами и террором. Lepartic’estmoi. Партия превратилась в ее частную собственность». Хотя в письме, весьма похожем на донос, доминировали личные обиды изгнанного из ближнего круга функционера, он был безусловно прав, обращаясь к Зиновьеву: «Многое зависит от Вас. Абсолютная диктатура Рут Фишер возможна только потому, что каждый член партии уверен, что она является ставленницей Москвы»[854]. В поисках пусть даже минимальной опоры для того, чтобы сменить курс и руководство германских коммунистов, Зиновьев пытался прощупать члена левой фракции Гейнца Неймана, который намекал, что готов от нее отколоться. Нейман посылал Председателю ИККИ протоколы заседаний Правления КПГ, раскрывая всю кухню интриг против Исполкома[855]. Это соответствовало зиновьевскому стилю руководства Коминтерном, который транслировал механизмы выживания большевиков дореволюционного образца в мир 1920-х годов, пытаясь воспроизвести их «во всемирном масштабе». В его секретариате отложилась огромная коллекция эпистолярных документов, которые содержат информацию не только о коминтерновских сюжетах. В них отражена геополитика и личные склоки, карьерные взлеты и поражения, свидетельства о повседневной жизни политических маргиналов, в один момент получивших роли государственных деятелей. Так, секретарь Зиновьева М. В. Кобецкий, занявший по протекции своего начальника пост в советском полпредстве в Копенгагене, сообщал о «будуарно-физиологической атмосфере», окружавшей тамошнего полпреда Александру Коллонтай[856]. Но вернемся в Берлин, к истории крупнейшей зарубежной партии Коминтерна. Меча в своей переписке громы и молнии в адрес «левых», Зиновьев до последнего сопротивлялся их изгнанию из Правления КПГ. Заявление немецких делегатов Пятого конгресса о том, что они полностью одобряют его курс на «полевение» и особенно «осуждение ревизиониста Радека», уже не могло спасти Фишер и Маслова[857]. Донесения Мануильского с Берлинского съезда КПГ (12–17 июля 1925 года) о реальном положении дел в партии оказались более весомым аргументом. Дело дошло до заявления делегации из Москвы, оглашенного на съезде, в котором прямо говорилось о том, что «линия ИККИ наталкивается на фракционное сопротивление», а левые вожди партии позволяют себе «мелкие дипломатические игры с Коминтерном»[858]. Представитель советского комсомола на съезде КПГ подробно описал Зиновьеву, под каким нажимом делегаты приняли ультиматум делегации из России, смысл которого сводился к следующему: «…отклонение предложений Коммунистического Интернационала будет означать нежелание вождей партии прекратить фракционные методы руководства»[859].

 Письмо Н. И. Бухарина И. В. Сталину о кризисе доверия в отношениях между ИККИ и левым руководством компартии Германии
22 июля 1925
[РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 708. Л. 45–48]
Письмо Н. И. Бухарина И. В. Сталину о кризисе доверия в отношениях между ИККИ и левым руководством компартии Германии
22 июля 1925
[РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 708. Л. 45–48]
22 июля 1925 года Тельман и Фишер написали в ИККИ о том, что имевшиеся разногласия преодолены в ходе съезда и представители обеих фракций готовы дать соответствующие объяснения руководству Коминтерна[860]. Однако это был всего лишь очередной маневр. Исполком Коминтерна твердо взял курс на «перевербовку» Тельмана, который все еще был потрясен столь быстрым выходом на партийную авансцену. Соглашаясь с этим курсом, Зиновьев до последнего пытался защитить своих выдвиженцев, выступая против резких и поспешных выводов. «Нужна громадная осторожность. Я против введения нами новых членов ЦЕКА, но за то, чтобы поставить немедленно на руководящую работу намеченную группу лиц»[861] (имелось в виду возвращение к партийному руководству «спартаковцев» и готового к сотрудничеству с ними Тельмана). Бухарин был более напорист в отстаивании противоположной точки зрения, он утверждал в своих письмах Сталину в Сочи, что с господством «левых» в КПГ надо немедленно покончить. В ходе съезда «представителей Коминтерна третировали и обманывали самым гнусным образом»[862]. В очередной раз уклонившись от открытого столкновения с большинством Политбюро по германскому вопросу, Зиновьев отказался прервать отпуск на водах в Боржоми, предоставив остававшимся в Москве Пятницкому и Бухарину самостоятельно принимать решения по немецкой компартии. В его отсутствие был избран жесткий курс, согласованный со Сталиным. 28 июля 1925 года вопрос стоял на закрытом заседании Президиума ИККИ. 5 августа Пятницкий телеграфировал Зиновьеву и Сталину: Тельман согласен возглавить партию, он выедет в Москву сразу же после конференции левых, где будет защищать линию ИККИ[863]. После съезда изгнанные с руководящих постов Фишер и Маслов не решились ехать с покаянием в Москву, отправив для отчета в Исполком функционеров второго эшелона, в том числе Неймана, активно боровшегося за место «серого кардинала» при Тельмане. Их проработка в Президиуме продолжалась два дня, 28 и 29 июля, и завершилась полным покаянием: немцы «внесли декларацию с признанием всех своих ошибок и обязательством бороться самым решительным образом против личной диктатуры в ЦК, за исправление ошибок и за осуществление коллективного руководства в партии»[864]. Судьба Рут Фишер была предрешена — ее оппоненты завалили Исполком письмами, в которых сообщали о том, что она «без сомнения примет бой и использует все средства сопротивления и саботажа». Их вывод не отличался оригинальностью: «Для нашей узкой группы совершенно неопровержимо следующее: Маслов и Рут Фишер должны выйти из состава Политбюро, до этого в партии не будет никакого покоя и нельзя будет проводить в жизнь решения Коминтерна»[865]. Вернувшиеся после Берлинского съезда в состав ЦК «спартаковцы» сообщали в Москву, что партия превратилась у руины, «руководящая группа очень неработоспособна и не проявляет решительности к борьбе», «Рут хитрит», а «ЦК представляет собой дискуссионный клуб, находящийся под влиянием берлинских группировок»[866]. Противников «левых» поддержал и набиравший влияние в Коминтерне Мануильский. Из Берлина он докладывал лидерам РКП(б), что «Рут потеряла доверие организации, ухватилась за поездку в Москву как за средство к спасению. Будет у вас искать компромисса, который только задержал бы разрешение кризиса»[867]. Как только низвергнутая с пьедестала богиня оказалась в Москве, мышеловка захлопнулась, тот же Мануильский потребовал «ни при каких условиях не возвращать Рут в Германию. Она элемент гниения и разложения»[868]. Завершение истории с «левым» руководством КПГ совпало с падением самого Зиновьева. В ходе первых заседаний Президиума ИККИ в 1926 году Рут Фишер, все-таки прибывшая в Москву, отказалась давать показания в связи с тем, что не имеет свежей информации о состоянии дел в партии. Позже она обманом вернула свой германский паспорт и отбыла на родину, где распрощалась с коммунистическим движением. Председатель Коминтерна запоздало включился в общую кампанию обличения «левых», но это ему уже не помогло — окончательное решение о внутрипартийном положении в КПГ было принято после речей Сталина и Бухарина на внеочередном заседании Президиума 22 января 1926 года, что позволило не приглашать на него формального лидера международной организации коммунистов.
3.14. Разрыв со Сталиным
В октябре 1925 года дело дошло до открытых перепалок между двумя лидерами РКП(б)[869]. От былого единства «тройки» и «семерки», которых сплачивало противостояние Троцкому, не осталось и следа. Накануне Четырнадцатого съезда РКП(б) Зиновьев сообщал Каменеву о попытках примирения со стороны Сталина, которые так и не увенчались успехом[870]. Новый раунд внутрипартийной борьбы раскрывал многие сюжеты предыдущего: Зиновьев жаловался Бухарину, что мы вместе «решили осторожно готовить снятие Троцкого — на деле весьма неосторожно начали снимать наших сторонников. Тогда вы снимаете и нас. Так и знай это»[871]. Зиновьев спешил с подготовкой и проведением Шестого расширенного пленума ИККИ, который должен был укрепить его позиции перед открытой схваткой на съезде. Но большинство Политбюро перенесло его на послесъездовский период[872]. В руках Зиновьева находилась не только мощная партийная организация Петрограда. Под его контролем сохранялось достаточное количество рычагов для того, чтобы вынести внутрипартийную борьбу на международную арену, инициировав дискуссию в рядах зарубежных компартий. Это грозило не только новыми расколами, но и уходом целых партий из-под контроля ИККИ — такая опасность существовала прежде всего в германской партии, где даже после Франкфуртского съезда среди нового поколения молодых функционеров было немало «зиновьевцев». Подобная перспектива пугала обе стороны во внутрипартийном конфликте. Нежелание выносить сор из избы привело к тому, что во время острейших дебатов на съезде ВКП(б) в декабре 1925 года коминтерновская проблематика тщательно обходилась. Поражение Зиновьева, Каменева и их сторонников, вошедших в историю как «ленинградская оппозиция», заставило и победителей, и проигравших искать приемлемый выход из создавшейся ситуации. Первым логический шаг сделал Зиновьев, сложив с себя полномочия Председателя ИККИ. «Я считался, как с фактом, что большинство пошлет [компартиям] письмо, направленное против моей позиции, и поэтому поправок в текст не вносил, ограничившись лишь предложениями 1) сообщить, что я подал в отставку, 2) сообщить, что по нашему общему мнению дискуссию не следует переносить в Коминтерн»[873]. Опубликование этого решения было бы равнозначно международному скандалу, поэтому стороны пошли на компромисс: ради сохранения коллективного руководства было решено все стратегические вопросы коминтерновской политики предварительно обсуждать на заседаниях делегации представителей ВКП(б) в ИККИ, чтобы затем выходить на заседания Президиума и Исполкома с единым мнением. Зиновьев пообещал «беречь Коминтерн» и лояльно работать в его Исполкоме[874], хотя добился лишь «пирровой победы» — он сохранил свой ключевой пост, но отныне попадал под пристальное наблюдение своих оппонентов. Так родилась «русская делегация» — орган, не упоминавшийся ни в одном из официальных документов Коминтерна и вообще известный лишь в узком кругу его высших функционеров и тем не менее сосредоточивший в себе основные бразды правления международным коммунистическим движением во второй половине 1920-х годов. Как правило, решения делегации начинались со слов «предложить Президиуму ИККИ…», но каждый сотрудник коминтерновского аппарата понимал, что это — директива, подлежащая неукоснительному исполнению. Первое заседание делегации состоялось уже 8 января 1926 года. Ее председателем был избран Зиновьев, секретарем — Пятницкий[875]. На первых порах в заседаниях принимали участие Сталин, Бухарин, Троцкий, Каменев, Лозовский и Мануильский. Месяц спустя для решения неотложных вопросов было создано Бюро делегации, куда вошли Зиновьев, Сталин, Пятницкий, Бухарин и Мануильский[876]. В течение всего недолгого существования делегации в ее составе шел постоянный процесс «вымывания» оппозиционеров и замены их людьми Сталина от В. В. Ломинадзе до В. М. Молотова. 13 января 1926 года опросом члены Политбюро приняли решение о нежелательности перенесения дискуссии в ряды Коммунистического Интернационала, которое накануне было одобрено делегацией[877]. Это нашло свое отражение в письме зарубежным компартиям, разъясняющем решения съезда, в тот момент победителям казалось, что «гласность» на их стороне, тем более что проигравшие обязались молчать в обмен на обещанное им милосердие. ЦК партии большевиков (на съезде она была переименована во Всесоюзную) заявлял о том, что «по вопросам иностранной политики СССР, а равно и по вопросам, касающимся политики братских партий, внутри ВКП(б) не было сколько-нибудь существенных разногласий», с чем, однако, плохо согласовывалась просьба о неперенесении состоявшейся дискуссии в ряды зарубежных компартий[878]. Хотя в данном вопросе обе стороны формально были едины, каждая из них пыталась разыграть коминтерновскую карту в своих интересах. Сразу же после съезда сторонники Зиновьева попытались отправить в вояж по европейским странам сотрудницу аппарата ИККИ Гертруду Гесслер, чтобы она проинформировала зарубежные партии о реальном состоянии дел. Та уже усвоила правила придворных интриг и обратилась к Пятницкому: «Мне было с первого момента ясно, что здесь речь идет об опасной фракционной борьбе в интернациональном масштабе, и я пока что согласилась принять поручение, чтобы проследить развитие этого дела». Образование «русской делегации» было расценено его организаторами как «перемирие в коминтерновском вопросе», и поездка Гесслер так и не состоялась[879]. В свою очередь Сталин отправил собственного эмиссара Ломинадзе в Германию для того, чтобы в нужном ключе проинструктировать руководство КПГ. Зиновьев завалил «русскую делегацию» протестами, после чего Политбюро было вынуждено дать задний ход[880]. Сохранив личный секретариат в Исполкоме Коминтерна, его председатель забросил текущую работу, сосредоточив свое внимание на недопущении дальнейших нападок на себя лично. Первоначально ему казалось, что не произошло ничего страшного и необратимого, его авторитет слишком высок, чтобы кто-то поставил крест на его карьере. Он сам выдвигал условия, при соблюдении которых соглашался выступить на Шестом пленуме ИККИ (17 февраля — 15 марта 1926 года). Вот только некоторые из них: 2) Пятницкий должен выработать «ряд необходимых мер, обеспечивающих неперенесение дискуссии на пленум ИККИ и в секции Коминтерна». 4) После пленума произвести чистку аппарата и привлечь новых работников по соглашению с Зиновьевым. 5) Разрешить Зиновьеву выступить с докладами по итогам пленума перед рабочими, о чем делегация ВКП(б) в ИККИ выйдет с предложением в Политбюро. 6) Осудить выступление Ломинадзе в иностранных компартиях после принятия ЦК решения о неперенесении дискуссии[881]. Зиновьев лояльно выполнил обещание не затрагивать в ходе Шестого пленума вопрос о «ленинградской оппозиции», однако кампания по его дискредитации, за которой стояла фигура Сталина, исподволь продолжалась. Тогда он в очередной раз попросил «русскую делегацию» об отставке, но получил резкую отповедь в ответных письмах Бухарина, Сталина, Мануильского и Пятницкого. Генсек отбросил в сторону уважительный тон, заявив, что «Зиновьев пытается, по сути дела, сочинить материал против ЦК, сочинить материал для сплетен насчет „поправения“ ЦК»[882]. Этот материал каждой из противоборствующих сторон приходилось буквально высасывать из пальца. Председатель Коминтерна сосредоточил огонь на письме сотрудника ИККИМ М. Г. Рафеса Бухарину, которое содержало критику первого варианта тезисов Шестого пленума и было датировано 17 февраля 1926 года[883]. Никогда ранее внутренние документы Исполкома, работники которого имели различные взгляды на перспективы Коминтерна, не становились предметом столь детального и предвзятого разбора. Зиновьев увидел в нем не только дискредитацию себя лично, но и скрытый призыв к самороспуску международной организации коммунистов. Г. Е. Зиновьев в образе мифического зверя
Дружеский шарж Н. И. Бухарина
3 марта 1926
[РГАСПИ. Ф. 74. Оп. 2. Д. 168. Л. 66]
Г. Е. Зиновьев в образе мифического зверя
Дружеский шарж Н. И. Бухарина
3 марта 1926
[РГАСПИ. Ф. 74. Оп. 2. Д. 168. Л. 66]
Ничего подобного Рафес не имел в виду, он просто сосредоточил свою критику на том, что под давлением оппозиции тезисы пленума ИККИ превратились в набор пустых фраз («из сугубо внутренней стратегии забыли стратегию большую классовую»), что они «увещевают левых применить „единый фронт“, а по самым основным вопросам проводят сектантскую линию». В качестве примера автор письма приводил резкий ответ Коминтерна на предложение Второго интернационала о слиянии. «Это — не тактика единого фронта. В 1920 году Коминтерн стоял перед вопросом о превращении своих маленьких групп в массовые партии. Как мы тогда действовали? Всех, кто к нам тянулся, мы приглашали в Москву, как партии, так и группы, и с ними разговаривали». И лишь после этого приняли «Двадцать одно условие», «по которым пошло межевание в рядах передовой части пролетариата» и которое привело к появлению массовых коммунистических партий. Можно предположить, что особый гнев коминтерновского лидера вызвало то, что в письме он был назван по имени, причем в весьма критическом плане. Рафес удивлялся тому, как Председатель ИККИ, еще недавно являвшийся сторонником сохранения профсоюзного единства, готов отказаться от сотрудничества с британскими тред-юнионами. По мнению автора письма, такая позиция «все более толкает нас на путь ликвидаторства по отношению к новым путям. Это не прогресс, а регресс…»[884]. Письмо Рафеса, достаточно путаное и сопровождавшееся недоговоренностями, ни в коей мере не могло быть воспринято как угроза самому существованию Коминтерна, однако лучшего жупела у Зиновьева не было. В то время как Сталин весной 1926 года не упускал ни одного шанса, чтобы дискредитировать поверженного на декабрьском партийном съезде оппонента[885], секретари Зиновьева тщательно подбирали контраргументы, рассчитывая на возобновление дискуссии. Борьба двух вождей за право считаться главным толкователем теоретического наследия Ленина набирала новые обороты. Узнав о том, что собрание речей генсека под заголовком «Вопросы ленинизма» выходит на иностранных языках, Зиновьев направил в «русскую делегацию» заявление о том, что он готов отказаться от распространения за рубежом своего сборника «Ленинизм», если на это пойдет и Сталин[886]. Все эти склоки оказались лишь скромной прелюдией к буре, порожденной всеобщей стачкой в Великобритании[887]. Ей предшествовала девятимесячная борьба английских горняков за повышение зарплаты и улучшение условий труда, причем правительство прилагало немалые усилия для мирного урегулирования конфликта. Компромисс не был найден, и 4 мая 1926 года к горнякам присоединились трудящиеся всей страны. Остановились заводы и транспорт, не выходили газеты, ведущая страна западного мира оказалась на грани экономического коллапса. Лидеры ВКП(б) были едины в том, что английская стачка стала концом стабилизации послевоенного капитализма, в очередной раз приняв желаемое за действительное. Выступая перед студентами МГУ, Зиновьев заявил, что теперь «у нас есть все основания сказать: то, что происходит сейчас, есть что угодно, только не стабилизация»[888]. Споры начинались вокруг того, каким образом можно «раскачать» ситуацию, и здесь открывалась благодатная почва для взаимных обвинений. Зиновьев в июне 1924 года выступил с идеей создания Англо-русского комитета профсоюзного единства (АРК), в который вошли бы представители ВЦСПС и английских тред-юнионов[889]. Такой орган был создан в апреле 1925 года, причем левые течения в ряде зарубежных компартий посчитали его создание «дипломатическим инструментом Советской России»[890], стремившейся не допустить разрыва советско-английских отношений, и даже гирей, повисшей на ногах революционных профсоюзов. Еще в марте Зиновьев внес в Политбюро вопрос о поддержке английских горняков, решивших продолжать борьбу даже в случае, если дело не дойдет до всеобщей стачки[891]. Сразу после ее начала Зиновьев по поручению Политбюро подготовил тезисы, которые в логике фракционной борьбы были раскритикованы сталинским большинством как недостаточно резкие и боевые. Чтобы не попасть в одну корзину с Рафесом, Председатель Коминтерна был вынужден взять иной тон и уже на следующий день заговорил о завершении капиталистической стабилизации и даже «зачатках двоевластия» в Великобритании[892]. Наученный этим уроком и понимая, что находится под пристальным наблюдением оппонентов, Зиновьев справедливо рассудил, что разумнее быть крайне левым, нежели чуть-чуть правым. После принятия Генеральным советом британских тред-юнионов решения о прекращении всеобщей стачки Зиновьев во всю ширь развернул тезис о его предательстве: «Капитуляция Генсовета без всяких условий и даже без гарантирования рабочим, что они смогут поступить назад на работу, есть акт небывалой еще в истории международного рабочего движения измены. Если бы английская компартия добровольно подчинилась этому позорному решению и поспешила выразить лояльность Генсовету, она сама бы стала соучастницей этой измены»[893]. Не решаясь напрямую возразить все еще казавшемуся всесильным Председателю ИККИ, лидеры английской компартии (КПА) пытались объяснить ему, что ситуация на местах выглядела как минимум несколько иначе: «Сообщения, содержавшиеся в телеграммах Исполкома Коминтерна, были абсолютно правильными, но партия должна была соблюдать некоторую осторожность в применении лозунгов и в отношении к лидерам рабочего движения в течение первых нескольких дней забастовки, поскольку рабочие чрезвычайно недоброжелательно относились к осуществлявшейся над их вождями критике, считая, что лидеры совершенно неотделимы от масс»[894]. Руководство КПА высказалось против выхода рабочих из тред-юнионов, якобы предавших стачечников, чего требовал Зиновьев. Однако логика фракционной борьбы заключалась в том, что под огонь критики должна попасть позиция оппонента, какой бы разумной или «левой» она не была. Сталин писал об этом председателю ВЦСПС М. Н. Томскому, находившемуся в Париже: «Ты, должно быть, уже получил постановление инстанции [т. е. Политбюро. — А. В.] о директиве вашей комиссии. Была очень настойчивая попытка со стороны Гриши [т. е. Зиновьева. — А. В.] заострить вопрос и поднять шум против вашей комиссии и лично против тебя. Мы это отклонили…»[895] Вторым фактором, подтолкнувшим Зиновьева к лобовому столкновению со сталинско-бухаринским большинством Политбюро, стали события в Польше. Местная компартия увидела в приходе к власти Пилсудского (14 мая 1926 года) только удар по «прогнившей демократии», заняв на первых порах благожелательную позицию по отношению к совершенному перевороту. Зиновьев, как и другие члены большевистского руководства, колебался, что потом не преминул интерпретировать в погромном ключе Сталин: якобы на заседании польской комиссии Политбюро Зиновьев представил «проект указаний польским коммунистам, где говорилось о том, что нейтральность коммунистов в борьбе Пилсудского с фашистами недопустима, где Пилсудский рассматривался как антифашист, где движение Пилсудского рассматривалось как революционное движение, но где ни единого слова не говорилось о том, что тем более недопустима поддержка Пилсудского со стороны коммунистов»[896]. Хотя такая позиция не нашла поддержки других членов комиссии и не была зафиксирована документально, она стала одним из самых долгоиграющих аргументов в ходе последующей эскалации конфликта в руководстве ВКП(б). Независимо от того, принимать или не принимать на веру то, что было сказано Сталиным (Зиновьев впоследствии всячески отрицал свои колебания), причины выдвижения тезиса об «антифашисте» Пилсудском лежат на поверхности: Коминтерн после неудавшегося германского Октября считал социал-демократию главным врагом коммунистов всех стран. Именно Зиновьев ввел в обиход понятие «социал-фашизм» как обозначение реформистского крыла рабочего движения. В такой «перевернутой» картине мира авторитарные и фашистские движения оказывались меньшим злом, нежели социал-демократы, которым по историческим меркам еще недавно предлагалось войти в единый рабочий фронт. На счет «социал-фашистов» записывались и экономический подъем, и очевидная стабилизация политического положения в европейских странах. Отсюда делался простой и внешне очевидный вывод — без разгрома социал-демократических партий, лидеры которых входили в правительства ряда государств Европы, коммунистам не удастся успешный штурм крепости мирового капитализма. А следовательно, и Пилсудский, и другие творцы авторитарных режимов выступали невольными помощниками исторического прогресса. 27 мая, со значительным опозданием, Политбюро дало установку польским коммунистам: «считать недопустимым ни при каких условиях голосование за кандидатуру Пилсудского в президенты»[897]. Предвыборную кампанию следовало использовать для того, чтобы КПП исправила допущенные ранее ошибки, т. е. осудила свое благожелательное отношение к перевороту. Через несколько дней тон был усилен: «Голосование за Пилсудского считаем преступлением. Перестраивайте немедленно всю работу согласно директивам Коминтерна». Телеграмма заканчивалась еще одним типичным зиновьевским выражением: позиция польских коммунистов «ничего общего с большевизмом не имеет»[898].
3.15. Формирование «объединенной оппозиции»
После того, как разногласия по польскому вопросу были улажены, вопрос об английской стачке стал пунктом номер один в международной повестке дня большевистского руководства. Силы сторон оказались неравными — правительство объявило чрезвычайное положение, привлекло значительные силы полиции и армии. После недельной борьбы по решению Генсовета английские рабочие вышли на работу. Вопреки воле профсоюзного руководства стачку продолжали лишь горняки, ибо на карту было поставлено их дальнейшее существование. Важным подспорьем для них стал отказ советского правительства отправлять уголь из советских портов в Великобританию (было решено даже задерживать английские суда, уже загруженные и готовые к отправке)[899]. События в этой стране стали важным катализатором обострения конфликта в руководстве ВКП(б). Каждая из сторон пыталась извлечь из английских событий максимальную пользу. Зиновьев вновь оказался в центре внимания, он был полон энергии, ежедневно писал новые директивы коммунистическим партиям Европы, требуя от них максимальной поддержки английских рабочих. Это не могло не беспокоить сталинскую фракцию. Ее представители, за исключением Бухарина, никогда не проявляли интереса к проблемам международного коммунистического движения. Сейчас им приходилось принимать бой на невыгодных позициях. Однако уклониться от него было невозможно, и полемическому блеску оппозиционеров была противопоставлена точная механика бюрократического аппарата. Решением Политбюро отдельным членам партийного руководства было запрещено давать комментарии и публиковать статьи об английских событиях за собственными подписями, что работало против оппозиционеров[900]. Первой была подвергнута просмотру статья Троцкого «Куда идет Англия», предназначенная для «Правды». Все еще сохранявший пост Председателя ИККИ Зиновьев попросил разрешения отстаивать свою линию в Исполкоме Коминтерна, вновь сославшись на практику ленинской эпохи, но его просьба в очередной раз была проигнорирована[901]. В таких условиях ему не оставалось ничего иного, как опустить забрало и примкнуть к Троцкому, образовав вместе с ним и Каменевым «объединенную оппозицию».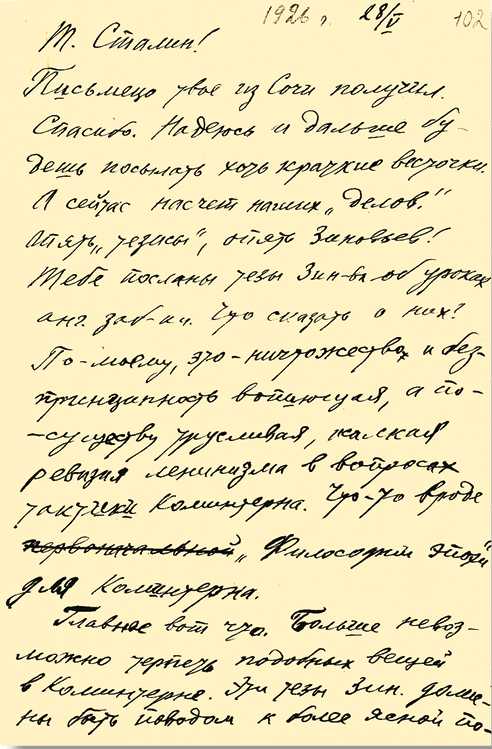
 Письмо В. М. Молотова И. В. Сталину с критическими замечаниями о тезисах Г. Е. Зиновьева
28 мая 1926
[РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 766. Л. 107]
Письмо В. М. Молотова И. В. Сталину с критическими замечаниями о тезисах Г. Е. Зиновьева
28 мая 1926
[РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 766. Л. 107]
Столь резкий поворот к союзу с «наследственным врагом» не мог не ударить по авторитету Зиновьева, и без того не слишком прочному, несмотря на все усилия находившейся под его контролем пропагандистской машины. Секретарь Политбюро Бажанов увидел в этом характерную черту поведения Зиновьева как политика: «В области большой политической стратегии он подчинял все мелкой тактике борьбы за власть, яростно стараясь отвергать все, что говорил Троцкий, а отброшенный от власти, сразу принял все позиции Троцкого (прямо противоположные), чтобы блокироваться с ним против Сталина»[902]. Зиновьев спешил перейти в наступление, так как Сталина не было в Москве — он отдыхал на Кавказе. Ломинадзе, его доверенное лицо, только что пришедший на работу в ИККИ (и соответственно, ставший членом «русской делегации»), в достаточно резких тонах рисовал вождю сложившуюся расстановку сил: «В делегации положение такое же обостренное и напряженное, как и в Политбюро. Мне не хотелось Вам об этом писать, но раз Вы спрашиваете, скажу, что думаю: Вас здесь очень недостает… Зиновьев и Троцкий нападают, чем дальше, тем наглее. Большинство лишь обороняется. А между тем следовало бы дать должную квалификацию их атакам. В делегации Зиновьев пытается все время, с поразительной настойчивостью, играть на „противоречиях“ между Бухариным и Молотовым. Дескать, Бухарин „левее“. В сколько-нибудь серьезных вопросах эта игра у Зиновьева не удается, срывается. Все же как-то не чувствуется твердой уверенности убольшинства делегации при решении почти всех вопросов»[903]. Соратники генсека, все еще робевшие перед риторикой оппозиционеров, пытались отложить решающее столкновение до возвращения вождя. 26 мая Председатель ИККИ представил собственные тезисы об уроках английской стачки. Едва прочитав их, Молотов отправил Сталину свой приговор: «По-моему, это ничтожество и беспринципность вопиющая, а по существу трусливая жалкая ревизия ленинизма в вопросах тактики Коминтерна», в тезисах «имеются гнуснейшие выпады против отдельных цекистов, конечно, все это в трусливой и жульнической форме». Не надеясь на собственные силы, Молотов взывал о помощи вождя: «…главное у нас теперь — договориться с тобой, срочно иметь твое мнение. Это страшно необходимо…»[904] Зиновьев был уверен в том, что он опережает оппонентов на несколько ходов, хотя те и сумели на четыре дня отложить обсуждение вопроса об уроках английской стачки. В унисон с ним действовал и Троцкий: 26 мая в «Правде» появилась его статья об уроках стачки и ошибках английской компартии. Оппозиционеры вместе выступили в Свердловском университете с докладами на эту тему. Решающее столкновение произошло на заседании Политбюро, состоявшемся 3 июня 1926 года. Наличие его стенограммы (на этом настаивал Зиновьев), научная публикация которой произошла уже в постсоветский период, а также основанные на ней научные работы позволяют обойтись кратким изложением итогов схватки[905]. Стенограмма отразила не только формирование «единого фронта» оппозиции, но и сплочение сил большинства в высшем органе правящей партии. В отсутствие Сталина оно выдержало атаку слева и продемонстрировало способность дискутировать с Зиновьевым и Троцким на равных и по международным проблемам. Вызов «объединенной оппозиции» был принят, в истории внутрипартийной борьбы начинался новый этап. Хотя проект резолюции, внесенный Зиновьевым, не получил большинства голосов, исход заседания 3 июня каждая из сторон могла трактовать в свою пользу. Оппозиционеры получили возможность заявить об объединении собственных сил и представить партийному активу свою платформу в международных вопросах. На следующий день никто из русских товарищей не появился на заседании Президиума ИККИ — нужно было прийти в себя после столь жаркой и продолжительной схватки, доработать в комиссии тезисы большинства. В результате английский вопрос был просто снят с повестки дня[906]. Таким образом, Коминтерн был выключен из обсуждения уроков стачки, хотя «по долгу службы» он должен был оказаться самой заинтересованной организацией. Сказывалось то, что английские представители не могли приехать в Москву для отчета о ее итогах, но решающим фактором был конфликт в руководстве ВКП(б) и общее нежелание выносить его за рамки собственной партии. Однако новое поколение большевиков, лишенное возможности следить за дебатами лидеров вживую (стенограммы заседаний Политбюро рассылались только узкому кругу высших функционеров), уже научилось определять политический вектор по одним только заголовкам «Правды». 26 июня в газете был опубликован доклад Бухарина на заседании Политбюро 3 июня, достаточно четко показавший расстановку сил в руководстве ВКП(б). Троцкий и Зиновьев увидели в этом вызов на дискуссию и раскрыли карты: «…безнадежными являются рассуждения о том, что мы, большевики, должны оставаться в составе Англо-Русского комитета потому-де, что Генсовет не свалился с неба, а отражает „данную ступень“ развития английского рабочего класса. В такой постановке сосредоточена самая суть политического хвостизма»[907]. Дальнейшие события разворачивались на пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б), открывшемся 14 июля. Зиновьев направил пленуму пространное заявление, в котором изложил историю своих разногласий со сталинским большинством, не забыв и о предыстории. Он упомянул, что «семерка» членов Политбюро сложилась на неформальном совещании 17–19 августа 1923 го-да, но спорадически собиралась для принятия решений и ранее. В течение двух лет она являлась фактическим ареопагом партии большевиков и выполнила задачу изоляции Троцкого[908]. Вопрос о будущей судьбе АРК выглядел в стенограмме пленума достаточно бледно. Требование оппозиционеров о немедленном разрыве с британскими тред-юнионами было озвучено ранее, и дискуссия не принесла новых аргументов. Было очевидно, что данный пункт повестки дня использовался для разведки боем, проверки «заряженности» как большинства, так и оппозиции. Принятая на пленуме резолюция поручала делегации ВЦСПС, выезжавшей на очередное заседание АРК, не допускать разрыва по собственной инициативе. Ослабив на несколько месяцев свое внимание к английским событиям (вскоре стало очевидным, что стачка ни в коей мере не подорвала стабильности западного мира), Зиновьев продолжал наращивать критику сталинской фракции, и ее ошибки в международной политике являлись лишь одним из сюжетов политического размежевания. От переписки с «русской делегацией» Коминтерна он перешел к тактике открытых писем, которые рассылались компартиям; последние в своих заявлениях поддерживали линию большинства в руководстве ВКП(б), даже не имея точного представления о сути разногласий[909]. Зиновьев явно переоценивал значение печатного слова, которое играло столь важную роль в дореволюционной пропаганде РСДРП. Это напоминало ситуацию 1918 года, когда партийные лидеры были уверены в том, что стоит рассказать зарубежным рабочим о реальном положении дел в Советской России, и они все как один пойдут за коммунистами. Теперь он обвинял руководство компартий, что те сознательно скрывают от своей массовой базы платформу российских оппозиционеров, которые называли себя «большевиками-ленинцами». Насыщая свои обращения ленинскими цитатами, Председатель ИККИ превращал их в скучные проповеди, которые не возбуждали никаких позитивных эмоций, и в этом было разительное отличие его стиля от блестящей полемики Троцкого. Обращаясь к истории КПГ, Зиновьев скорее по инерции продолжал раздавать советы и директивы, напоминая об ошибках недавнего прошлого: «Нынешний ЦК должен был бы поостеречься прибегать к „хирургии“ еще и потому, что все мы знаем, что нынешний ЦК, это не тот ЦК, который выбирал съезд германской компартии. По крайней мере половина выбранных членов теперь исключена или выбыла»[910]. При этом он сам «забыл» о том, что первые хирургические операции с кадрами КПГ были проведены при его самом деятельном участии — достаточно вспомнить такие имена, как Пауль Леви или Генрих Брандлер. Не только история КПГ, но и ее актуальная линия «подверстывались» к оппозиционной платформе. Зиновьев увидел поддержку бухаринского лозунга «обогащайтесь», обращенного к российскому крестьянству, даже на страницах газеты КПГ «Роте Фане» («и такие поверхностные и явно ревизионистские статьи, беспардонной софистикой покрывающие грубейшие ошибки, должны поддерживать идейное знамя Коминтерна!»). Вряд ли било в цель и его указание на то, что вся западная буржуазная и реформистская печать рукоплещет повороту сталинской фракции вправо, поскольку такой курс «поддерживает политику наших противников» как внутри страны (имелось в виду кулачество и нэпманская буржуазия), так и за ее пределами (беспринципные бюрократы в руководстве зарубежных компартий)[911]. Преувеличения, содержавшиеся в зиновьевском письме немецким коммунистам, вырастали из завышенной самооценки оппозиционеров: «…наши разногласия имеют гигантское значение для всего Коммунистического Интернационала. Разобраться в них надо спокойно и объективно, без того, чтобы ставить немедленно каждое разногласие на лезвие ножа. Иначе мы рискуем погубить дело, одинаково дорогое нам всем. Кричать, будто всякая критика по адресу большинства нынешнего ЦК ВКП(б) есть антисоветская критика — это значит поступать не так, как учил Ленин»[912]. Однако по существу с доводами оппозиции было трудно спорить — на десятом году своего существования Советская Россия гораздо больше напоминала традиционный авторитарный режим, нежели революционную диктатуру.
3.16. От отставки до расстрела
Процедура отставки Зиновьева с поста Председателя ИККИ была детально прописана Сталиным уже летом и реализована осенью 1926 года[913]. «Русская делегация» обратилась к октябрьскому пленуму ЦК ВКП(б) с заявлением, что она не находит возможным дальнейшее пребывание Зиновьева во главе Коминтерна. 18 ноября, накануне открытия Седьмого расширенного пленума ИККИ, Политбюро приняло решение об исключении Зиновьева из состава делегации ВКП(б) в Коминтерне, что должно было изолировать его от участия в принятии решений по ходу пленума. На самом пленуме Зиновьеву предстояло выступить с заявлением о добровольной отставке, текст которого следовало предварительно согласовать с Молотовым[914].
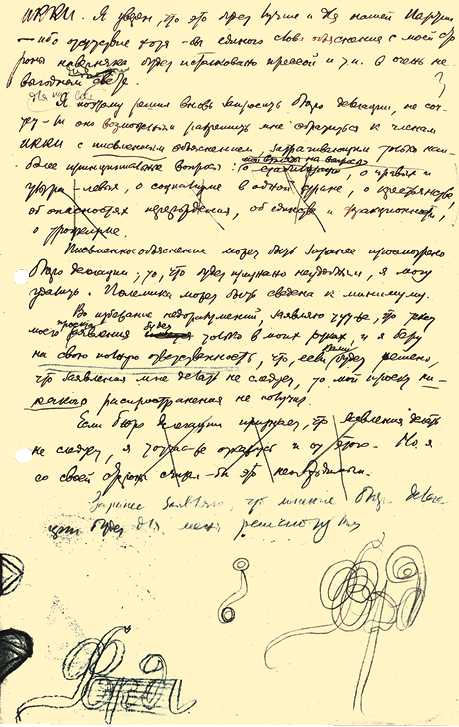 Письмо Г. Е. Зиновьева в Бюро делегации ВКП(б) на Седьмом пленуме ИККИ с просьбой о разрешении изложить свои взгляды перед участниками пленума
Не ранее 23 ноября 1926
[РГАСПИ. Ф. 324. Оп. 1. Д. 165. Л. 2–3]
Письмо Г. Е. Зиновьева в Бюро делегации ВКП(б) на Седьмом пленуме ИККИ с просьбой о разрешении изложить свои взгляды перед участниками пленума
Не ранее 23 ноября 1926
[РГАСПИ. Ф. 324. Оп. 1. Д. 165. Л. 2–3]
В тот же день была предрешена очередная реорганизация Бюро делегации ВКП(б) в Коминтерне, куда отныне входили лишь Сталин, Бухарин и Пятницкий. После того, как Зиновьев проигнорировал мнение Политбюро о нежелательности перенесения дискуссии на пленум Коминтерна, его противники заметно активизировались. Их реакция несла на себе отголоски былых игр во внутрипартийную демократию: поскольку его речь даст толчок фракционной борьбе, «Бюро делегации считает такое выступление нецелесообразным. Тем не менее, оно не считает возможным запретить т. Зиновьеву такое выступление, т. к. каждый член компартии имеет право апеллировать к ИККИ на решение своей партии»[915]. Однако Зиновьев после острых нападок на него лично в речи Сталина, прозвучавшей 7 декабря, продолжал настаивать на предоставлении ему слова, и его поддержали некоторые иностранные участники пленума. Режиссура, связанная с данным событием, стала темой специального обсуждения бюро делегации ВКП(б) на пленуме. Было решено предоставить бывшему Председателю ИККИ час времени (он просил два), а остальным ораторам от оппозиции дать по 15 минут, был составлен список докладчиков, которым предстояло выступить их оппонентами. Чтобы подвести итоги полемической битвы, распланированной до мелочей, после нее на квартире Рыкова предусматривалось провести особое заседание бюро «русской делегации»[916].

 Письмо Г. Е. Зиновьева в Политбюро ЦК ВКП(б) с просьбой о выступлении на сессии Седьмого пленума ИККИ
3 декабря 1926
[РГАСПИ. Ф. 324. Оп. 1. Д. 165. Л. 2–3]
Письмо Г. Е. Зиновьева в Политбюро ЦК ВКП(б) с просьбой о выступлении на сессии Седьмого пленума ИККИ
3 декабря 1926
[РГАСПИ. Ф. 324. Оп. 1. Д. 165. Л. 2–3]
Зиновьев получил слово на следующий день после Сталина, сокращенная стенограмма его речи была опубликована в «Правде» только 14 декабря 1926 года. Он начал с того, что пообещал «самым тщательным образом избегать абсолютно всего того, что могло бы дать толчок» обострению разногласий. «Фракционной борьбы я не хочу, фракционной борьбы я вести не буду». Более того, продолжал докладчик, «я категорически заявляю, что с моей стороны никакой апелляции к Коминтерну на решения моей партии не будет. Я целиком подчиняюсь этим решениям. Но я чувствую себя обязанным дать известные объяснения перед Коминтерном, в руководящих органах которого я с первого дня существования Коминтерна принимал активное участие»[917]. Однако содержание речи свидетельствовало об обратном — Зиновьев не собирался сдаваться и безмолвно сходить с исторической сцены. В зачитанном с листа докладе не содержалось ничего нового — его автор начал с вопроса о возможности построения социализма в одной стране, обрушив на слушателей девятый вал высказываний классиков, вначале Маркса и Энгельса, а затем и Ленина. Если первый раздел занял около 20 страниц опубликованной стенограммы, то остальные семь разделов уместились в половину этого объема и были откровенно скомканы. Опасения членов сталинской фракции, что теперь уже бывшему председателю ИККИ удастся мобилизовать своих сторонников, оказались совершенно излишними. Его речь, перегруженная цитатами, была откровенно скучна, став символом бесславного конца зиновьевского Коминтерна. 1927 год закрепил проявившиеся ранее тренды конфликта в верхушке ВКП(б). Его накал продолжал нарастать, среди коминтерновских тем продолжали лидировать Китай и Англо-русский комитет. Зиновьев держался «вторым номером», признав полемическое мастерство и идейную убежденность Троцкого. И наконец, сталинское большинство продолжало делать ставку на «тихую бюрократию», по возможности избегая столкновений с лидерами «объединенной оппозиции» на партийных и коминтерновских форумах. Примером такого подхода является судьба зиновьевских тезисов по китайскому вопросу, ставших ответом на переворот военного руководителя Гоминьдана Чан Кайши, который сопровождался массовыми репрессиями против коммунистов. Их автор высказался за незамедлительное выдвижение лозунга рабочих и крестьянских Советов, посоветовав компартии оставаться в «левом Гоминьдане». Речь шла о его завоевании, чтобы затем выйти на прямое столкновение с Чан Кайши. «От Сталина его отличало то, что Зиновьев был особенно последователен и настойчив в проведении этого наступательного курса. Вот почему он так активно защищал идею китайских советов»[918]. Зиновьев внес свои тезисы на пленум ЦК ВКП(б), который проходил 13–16 апреля 1927 года, но они даже не были розданы его участникам — Сталин и Молотов не допустили дискуссии в явно невыигрышном для себя положении. Лишь спустя месяц Сталин оформил свою реакцию на зиновьевские тезисы, компенсировав ее опоздание солидным объемом[919]. Его ответ завершался констатацией того, что тезисы «являются еще одним доказательством того, что оппозиция рвет с марксизмом, ленинизмом». «Вынужденный ответ» Зиновьева не заставил себя ждать — датированный 17 мая и разосланный всем членам ЦК партии, он превзошел сталинскую реакцию, составив 45 страниц машинописного текста. В нем утверждалось, что Сталин «бронирует» свои плохонькие статейки авторитетом ЦК, а подготовленный в его секретариате текст «есть документ из ряда вон выходящий. Сердитые, но не обоснованные слова т. Сталина о том, будто мы „рвем“ с марксизмом — никого не убедят. Надеемся, что мы доказали это выше. Мы видели ясно, „куда растут“ отступления т. Сталина от ленинизма»[920]. Полемические приемы большинства и оппозиции выглядели зеркальным отражением друг друга, содержательные аргументы все больше отходили на второй план, спорящие не стеснялись в навешивании друг на друга ярлыков, вытащенных из пыльного сундука дореволюционного прошлого. Так, при обсуждении дальнейшей судьбы АРК представители большинства, выступавшие за его сохранение, оказывались «ликвидаторами», а оппозиционеры, настаивавшие на выходе из него советских профсоюзов — «отзовистами». И то, и другое определение потеряло какую-либо связь с реальностью, равно как и оценки бесславного конца Англо-русского комитета профсоюзного единства. Оставаясь в нем, мы разоблачили предательство реформистов, утверждал Бухарин на заседании Президиума ИККИ, «нас просто выгнали» — парировал Троцкий[921]. Дискуссия внутри партийного руководства теряла всякий рациональный смысл, обе стороны действовали по шаблону «сам такой». В таких условиях на первый план выходили преимущества административных ресурсов, владение машиной голосования, и здесь сталинское большинство обладало неоспоримым превосходством. Лидеров оппозиции изолировали от общения даже с их ближайшим окружением, им не направляли секретных документов, которые по рассылке получали высшие партийные чиновники. Любой контакт, который имел политическое значение, любая статья или выступление перед широкой аудиторией требовали целой серии бюрократических согласований. Тем важнее для историка исключения из этой практики. По настоянию делегации американских рабочих, прибывших в СССР для знакомства с достижениями социалистического строительства, 22 августа 1927 года Зиновьев провел с ее членами обстоятельную беседу[922]. Он сразу же предупредил гостей, что будет говорить как «рядовой член Коминтерна». Нетрудно предположить, что первым был задан вопрос о перспективах мировой революции, на который последовал ответ: «Если говорить сейчас о соотношении войны и революции, надо сказать так: новые революции возможны теперь и без войны, но война без новых революций уже невозможна». Зиновьев резко высказался против упрощенных и вульгарных представлений о работе Коминтерна: «…нельзя по инструкции организовать вооруженное восстание, оно создается самой жизнью». «Мы исходим из того, что эпоха, в которой мы живем, есть эпоха мировой революции. Предугадывать сроки революции трудно, это не то, что астрономические явления. Ясно только одно: те, кто сейчас в Европе носятся с идеей новой войны, играют с огнем. И без войны новые революции в Европе произойдут в течение ближайшего десятилетия (5–10 лет). В случае же новой войны революции придут скорее, — в течение ближайших двух — трех — пяти лет»[923]. Это не означает, что коммунисты — за войну. «Наше дело победит и без войны. Мы — единственная партия, искренне борющаяся за мир». Американцы сразу взяли быка за рога, задав второй вопрос о доходах Коминтерна, которыми он располагает для проведения своей деятельности. Ответ был легко предсказуем: «Россказни, будто советское правительство содержит Коминтерн и т. п. — все это буржуазное шарлатанство»[924]. При всей казенности даваемых ответов Зиновьев не упускал шанса блеснуть остроумием. Когда его спросили, почему встреченные коммунисты не похожи на голодающих, он парировал: «Коммунисты, хоть бы и мексиканские, ни перед кем не подряжались непременно голодать (Смех)». На вопрос о печально известном «письме Зиновьева» он ответил: «К сожалению, я с ним так же мало знаком, и не видел его, как и вы». Ушел он и от вопроса о причинах разногласий в верхушке ВКП(б). «Если мы, коммунисты, и спорим между собой, то спорим ведь прежде всего о том, как бы лучше, вернее и основательнее побить международную буржуазию». Двоемыслие вошло в плоть и кровь даже такого «рядового члена Коминтерна», как Зиновьев, и можно не сомневаться в том, что искренние ответы потребовали бы от него гораздо больше усилий. На осень 1927 года пришелся фатальный разгром «объединенной оппозиции». К нему подключились и штатные провокаторы, и органы ОГПУ, взаимные обвинения опустились до немыслимого ранее уровня. Хотя Зиновьев и оставался тенью Троцкого, его исключение из членов Политбюро и Исполкома Коминтерна оказалось более скоротечным. Накануне Пятнадцатого съезда ВКП(б) он был лишен партбилета, а через несколько недель выслан из Москвы и обосновался в Калуге. Именно там его и нашло известие о созыве Шестого конгресса Коминтерна — с момента окончания предыдущего, еще зиновьевского, прошло около четырех лет. Не надеясь на то, что он вновь займет место в президиуме или хотя бы будет допущен в зал заседаний, Зиновьев углубился в чтение проекта программы Коминтерна, которую в спешном порядке подготовили его более удачливые соперники — Сталин и Бухарин[925]. Мы уже никогда не узнаем, был ли скрупулезный анализ объемистого документа с карандашом в руках просто способом убить время, рассчитывал ли наш герой на то, что его выводы и советы будут востребованы, или готовился к следующему туру борьбы за ленинское наследство. Так или иначе, он четырежды проштудировал текст в сотню страниц, оставив и развернутое заключение, и многочисленные пометки на полях[926]. Кое-что из этого труда заслуживает быть упомянутым.
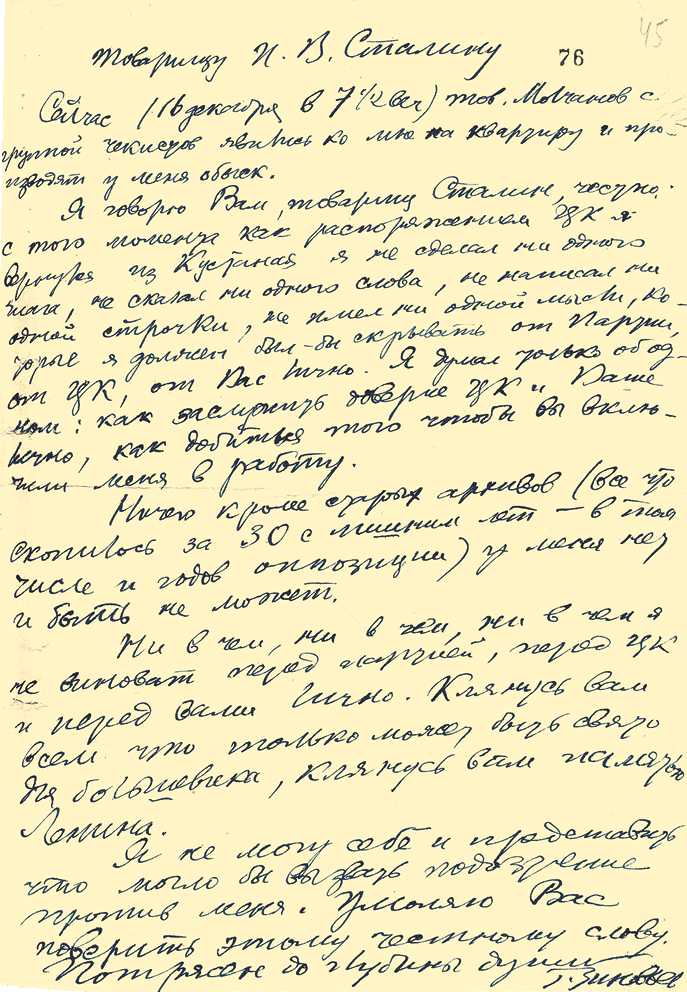 Сообщая об обыске, проведенном в его квартире, Г. Е. Зиновьев клянется: «Ни в чем, ни в чем, ни в чем я не виноват перед партией, перед ЦК и перед Вами лично»
16 декабря 1934
[РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 171. Д. 199. Л. 45]
Сообщая об обыске, проведенном в его квартире, Г. Е. Зиновьев клянется: «Ни в чем, ни в чем, ни в чем я не виноват перед партией, перед ЦК и перед Вами лично»
16 декабря 1934
[РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 171. Д. 199. Л. 45]
Критический настрой рецензента очевиден и легко объясним. Карьера Зиновьева в Коминтерне закончилась не просто бесславно — она была сочтена деятельностью, враждебной интересам рабочего класса. Он отвечал той же монетой, утверждая, что проект программы дает анализ современного империализма «не по-ленински, а по-бухарински». «Связь судеб социал-демократии с судьбами буржуазии совершенно не разработана», дается «совершенно никуда не годная формулировка роли Америки, взаимоотношений с Англией, роли Германии (новой) — вообще всей новейшей конфигурации» международных отношений.
 Тюремное фото Г. Е. Зиновьева
Август 1936
[Из открытых источников]
Тюремное фото Г. Е. Зиновьева
Август 1936
[Из открытых источников]
При этом в зиновьевских заметках невозможно найти свежих самостоятельных мыслей, он раз за разом прятался за обильным цитированием ленинских трудов, которые им самим были возведены на недосягаемый пьедестал: «учение Ленина о советах изложить точнее — его же собственными словами», «об уклонах — надо сказать по Ленину, что главный враг — правые». Отсутствие конструктивной критики заметно и в разделе, посвященном СССР: «все подсахарено», «все трудности обойдены», «бухаринская отсебятина». При сравнении проектов программы 1924 и 1928 годов преимущество отдавалось первому — более короткому и внятному. Итоговая ремарка: «Плохое подражание Коммунистическому манифесту». Складывается впечатление, что Зиновьев, проигравший в борьбе за власть, тешил собственное самолюбие, оказавшись пусть еще не на краю жизни, но уже навсегда отодвинутым от ее сердцевины. Судьба подарила Зиновьеву еще восемь лет жизни — немало, если учесть, что он постоянно страдал от сердечной недостаточности. В эти годы вместились еще два исключения из партии и два восстановления в ее рядах, неоднократное нахождение под следствием по политическим обвинениям и покаянное выступление на Семнадцатом съезде ВКП(б), абсурдный судебный процесс 1936 года и расстрел, на котором, по некоторым свидетельствам, не отказал себе в удовольствии поприсутствовать лично Н. И. Ежов[927]. Черчилль увидел в итогах первого показательного процесса символ того, что «Россия решительно отвернулась от коммунизма». Появление этой фразы в новейшей биографии Зиновьева сопровождается корректировкой ее автора: «На самом деле Советский Союз отвернулся не от коммунизма, а от мировой революции»[928]. Так или иначе, и жизнь, и смерть героя этого очерка была наполнена символикой, порожденной отнюдь не им самим. «Революция пожирает своих детей» — это фраза, приписываемая Дантону, как нельзя лучше описывает коминтерновскую часть биографии Григория Зиновьева.
Часть 4. Троцкий: «мы — авангард авангарда»
4.1. На капитанском мостике
Один из вдохновителей и творцов Коммунистического Интернационала, автор его Учредительного манифеста, Л. Д. Троцкий из всех героев наших очерков оставил после себя самое обширное и наиболее читаемое по сей день публицистическое наследие. Его идейные наследники в разных странах не могут похвастаться числом, но продолжают вести бескомпромиссную борьбу за чистоту своих рядов и в джунглях Латинской Америки, и в интернет-пространстве. Регулярно пополняется библиография работ о Троцком, включая литературные и политические труды, пьесы и даже художественные фильмы. В каких только образах ему не пришлось выступать — и «демона революции», и ее гениального стратега, и даже агента мирового сионизма. Неоспоримо одно: он сохранял верность идее мировой революции до последних дней своей жизни, которая была оборвана ударом ледоруба, направленного волей Сталина. Эта идея была путеводной звездой, которая вначале привела Троцкого в социалистическое движение, затем — в ряды партии большевиков и наконец — в оппозицию и изгнание. Константой на этом сложном пути оставалось признание ведущей роли Ленина как в теоретическом, так и в практическом плане. Два вождя не были равноправными партнерами ни в дореволюционной истории РСДРП, ни на ключевых постах в советском правительстве. Именно поэтому представляется целесообразным сосредоточиться на том периоде биографии Троцкого в Коминтерне, когда эта организация осталась без ленинского руководства. Наш герой был не прочь занять место вождя и в сфере международной политики, точнее, считал, что оно ему автоматически обеспечено. Проиграв борьбу за ленинское наследство в ВКП(б) и Коминтерне, он назвал историю последнего с 1923 года цепью роковых ошибок и фатальных поражений[929]. С середины 1920-х годов, не порывая с официальным коммунистическим движением, Троцкий разрабатывал альтернативную стратегию развития СССР и коммунистического движения, которую сталинская «школа фальсификаций» отправила в историческое небытие. Лев Давидович Троцкий
1920-е
[РГАСПИ. Ф. 325. Оп. 1. Д. 24. Л. 12]
Лев Давидович Троцкий
1920-е
[РГАСПИ. Ф. 325. Оп. 1. Д. 24. Л. 12]
В научной литературе и публицистике нет недостатка в размышлениях на тему того, какими путями пошло бы развитие Советской России, если бы Троцкий вовремя вступил в борьбу за ленинское наследство и одержал победу над сталинской фракцией. «Если бы после укрепления Советской республики и начала фракционной борьбы против него, после решения Центрального комитета о том, что настала пора снизить популярность и самоуверенность бывшего меньшевика, Троцкий показал свое собственное превосходство перед лицемерием его соперников, отказавшись использовать их методы, то насколько другой могла бы быть его судьба! Велика вероятность того, что, когда настал момент разочарования в бюрократии, он стал бы вождем революционного рабочего движения во всем мире и авторитет и число его последователей были бы во много раз больше, чем сейчас»[930]. Увы, все эти «если» и «бы» далеки от реалий исторической ситуации первых нэповских лет. Они навеяны романтикой образа «одинокого пророка», к созданию которого наш герой с его незаурядным литературным даром приложил немало усилий. Согласимся с процитированной выше Балабановой: «Сам Троцкий после 1917 года был не только настоящим большевиком, стопроцентным „ленинцем“, он также был слишком слабым и слишком робким, чтобы вести такую борьбу, будучи еще частью правящей клики»[931]. На Первом и Втором конгрессах Коминтерна Троцкий появлялся лишь спорадически — в стране шла Гражданская война, и на первом месте для создателя Красной армии находились ее боевые успехи. В то же время Троцкий не порывал связей со своими соратниками по дореволюционному периоду, в том числе с иностранными социалистами. В ряде коммунистических партий — французской, румынской, американской — именно они заняли руководящие посты, неоднократно обращаясь к своему неформальному патрону за советом и поддержкой.

 Письмо Л. Д. Троцкого в Политбюро с критикой «организационной диктатуры РКП над Интернационалом и международными профсоюзами»
6 октября 1920
[РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 109. Д. 122. Л. 1–2]
Письмо Л. Д. Троцкого в Политбюро с критикой «организационной диктатуры РКП над Интернационалом и международными профсоюзами»
6 октября 1920
[РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 109. Д. 122. Л. 1–2]
Внимательно следивший за зарубежной прессой, Троцкий уже осенью 1920 года обращал внимание своих коллег по Политбюро ЦК РКП(б) на то, что «организационная гегемония русской партии, иногда довольно неуклюжая и выпячивающаяся», с успехом используется противниками для дискредитации деятельности Коминтерна. Не ставя под вопрос принципы жесткого централизма и идейный приоритет большевизма, он предлагал «устранить все приемы и методы, которые истолковываются как организационное закрепление диктатуры РКП в международном масштабе»[932]. Что имел в виду Троцкий? Речь шла прежде всего об административном воздействии на ту или иную компартию путем рассылки жестких директив и комиссарских инспекций из Москвы. Иностранные коммунисты изначально рассматривались не как равные товарищи по борьбе, а как ученики, которым еще предстоит дорасти до уровня партии, одержавшей победу в России. Так, говоря о лидерах итальянской компартии, Ленин отмечал: «…они неопытны, глупят… Надо учить, учить и учить их работать, как работали большевики…»[933] Во-вторых, имелась в виду финансовая поддержка большевиками зарубежных компартий. Она распределялась негласно, без определения реальных потребностей и принятия официальных решений. Первоначально курьеры Коминтерна получали драгоценности в Государственном хранилище по запискам Секретариата ЦК РКП(б) и отправлялись с ними за рубеж, позже в иностранных банках заводились секретные счета и образовывались особые фонды. И Ленин, и Зиновьев, как это было показано в предыдущих очерках, метали громы и молнии по поводу «злоупотреблений» в этой сфере, но ни один из них не поставил под вопрос саму практику такого субсидирования. И в-третьих — кадровые назначения. Иногда это было прямое смещение неугодных лидеров, иногда — поддержание неустойчивого равновесия в руководстве отдельных партий, «перманентной склоки», как выражались ее участники. Каждый из них искал расположения в Москве, обрастал клиентами и покровителями в «генеральном штабе мировой революции». В результате складывались двойные каналы информации о положении дел в отдельных партиях, вносившие сумбур в «вертикаль» коминтерновской власти. И в данном случае практика «назначенчества» из Москвы не ставилась под сомнение ни одним из лидеров Коминтерна. Лев Троцкий, адресовавший приведенные выше строки членам Политбюро, опирался на репортажи немецких и французских газет и делал следующий вывод: «Коммунистические организации в других странах уже достаточно сильны, чтобы не чувствовать младенческой потребности держаться за полу нашей партии, и в то же время еще слишком слабы, чтобы не бояться травли [буржуазной прессы], бьющей на национальное самолюбие рабочих». Лозунг помощи Москве, брошенный Коминтерном в их адрес, вполне справедлив. Но «лозунг этот ни в коем случае не может означать для сознательных рабочих других стран признания нашей организационной диктатуры над Интернационалом и международными профсоюзами»[934]. Трудно увидеть в этом предложении альтернативную концепцию коммунистического движения, но очевидно, что в 1920 году перед ним открывался целый спектр путей дальнейшего развития. Решения Второго конгресса Коминтерна отвергли многие из возможных вариантов, но еще не привели коммунистов в исторический тупик полного подчинения линии «русских товарищей».
4.2. Ставка на красноармейский штык
То, что диктатура большевиков имеет «всемирный замах», Троцкий показал уже в Бресте в начале 1918 года, когда отказался подписывать мирный договор, ставивший значительную территорию Российской империи под контроль германской военщины. Его формула «ни мира, ни войны» подразумевала, что европейский, и прежде всего немецкий, рабочий класс, увидев, в каком бедственном положении оказалась Советская Россия, поднимется на ее защиту и сметет политические режимы, стоящие на страже интересов буржуазии. Практическое применение этой формулы обернулось наступлением германских войск на Петроград и гораздо более суровыми условиями мира, подписанного в Бресте 3 марта 1918 года. Впрочем, ошибочный шаг не был поставлен в вину лично Троцкому — данный факт свидетельствовал о том, что подобные настроения и надежды разделяли многие его соратники (не всегда высказывая их вслух). Так или иначе, вскоре он сменил свое амплуа, оставив Наркомат иностранных дел на попечение своего заместителя Чичерина, Троцкий возглавил военное ведомство Советской России. В стране разгоралась Гражданская война, и он принял на себя задачу создания революционной Красной армии. Нарком военных дел появился на Учредительном конгрессе Коминтерна в первый и последний день его работы, когда и был запечатлен на знаменитой коллективной фотографии[935]. Свой доклад о Красной армии он завершил словами: «Если пробьет час и наши западные братья призовут нас на помощь, мы ответим: „Мы здесь, мы за это время научились владеть оружием, мы готовы бороться и умирать за мировую революцию!“»[936] Вернувшись впоследствии в гущу военных событий, Троцкий ни на минуту не забывал о том, что написал в манифесте новой международной организации, который сам и огласил в последний день работы конгресса 6 марта 1919 года: «Сократить эпоху переживаемого кризиса возможно только мерами пролетарской диктатуры, которая не озирается на прошлое, не считается ни с наследственными привилегиями, ни в правами собственности, исходит из потребностей спасения голодающих масс, мобилизует в этих целях все средства и силы, вводит всеобщую трудовую повинность, устанавливает режим трудовой дисциплины, чтобы таким путем в течение нескольких лет не только залечить зияющие раны, нанесенные войной, но и поднять человечество на новую, еще небывалую высоту»[937]. В этих словах, как и во всем манифесте, практически не было отсылок к опыту Советской России. Зато были названы срок всемирной победы — несколько лет и ее география — с Запада на Восток. Прошло всего несколько месяцев, и Троцкому пришлось задуматься об изменении маршрута мировой пролетарской революции — теперь ее зарево должно было загореться там же, где восходит солнце. Военные неудачи и поражение советских республик в Венгрии и Баварии заставили его признать очевидное: «…англо-французский милитаризм сохранит еще некоторую долю живучести и силы, и наша Красная армия на арене европейских путей мировой политики окажется довольно скромной величиной не только для наступления, но и для обороны. В этих условиях мелкие белогвардейские страны на западной окраине могут создать для нас до поры до времени „прикрытие“. Иначе представляется положение, если мы станем лицом к востоку… Нет никакого сомнения, что на азиатских полях мировой политики наша Красная армия является несравненно более значительной силой, чем на полях европейских. Перед нами здесь открывается несомненная возможность не только длительного выжидания того, как развернутся события в Евпрое, но и активности по азиатским линиям. Дорога на Индию может оказаться для нас в данный момент более проходимой и более короткой, чем дорога в Советскую Венгрию»[938]. Л. Д. Троцкий во время инспекционной поездки на один из фронтов Гражданской войны
1920
[РГАСПИ. Ф. 325. Оп. 1. Д. 24. Л. 22]
Л. Д. Троцкий во время инспекционной поездки на один из фронтов Гражданской войны
1920
[РГАСПИ. Ф. 325. Оп. 1. Д. 24. Л. 22]
Троцкий развивал фантастический план формирования конного корпуса в 30–40 тысяч всадников для отправки его в индийский поход — «путь на Париж и Лондон лежит через города Афганистана, Пенджаба и Бенгалии». Нам нужно лишь создать «политический и военный штаб азиатской революции, который в ближайший период может оказаться гораздо дееспособнее Исполкома Третьего Интернационала»[939]. Начавшееся вскоре наступление Деникина на Москву похоронило эти планы, но не установку на использование военно-политического потенциала новой России для расширения «красной зоны». Так, в октябре 1919 года Ленин поддержал просьбу Чичерина удержать Троцкого от перенесения военных действий на территорию Эстонской республики[940]. Вспоминать о «красноармейском штыке» большевики будут еще неоднократно. В начале 1920 года Гражданская война казалась почти законченной, боевые действия велись на окраинах бывшей Российской империи. Троцкий получил двухмесячный отпуск, за время которого он успел написать манифест предстоящего конгресса Коминтерна, который, согласно его позднейшему признанию, «имел во всех отношениях программный характер»[941]. Документ начинался с анализа международных отношений после заключения Версальского мира. Троцкий исходил из того, что сформировалась их новая система («Программа „организовать Европу“, выдвинутая германским империализмом в момент его высших военных успехов, перешла по наследству к победительнице Антанте»), и делал вывод, что она будет крайне непрочной («самые могущественные силы работают над подготовкой нового мирового поединка»). Наступила эпоха гегемонии США, которые «запустили руки во все вопросы европейской и мировой политики», сменив доктрину Монро на лозунг «Весь мир для американцев»[942]. Гораздо слабее выглядела та часть манифеста, которая была посвящена мировым хозяйственным отношениям. Капиталисты отказались от «планомерного выжимания прибавочной стоимости в процессе производства» и перешли к откровенному грабежу как отсталых народов, так и трудящихся в собственных странах. «Экономическое восстановление Европы, о котором говорят ее министры, есть ложь. Европа разоряется, и вместе с ней разоряется весь мир». Переходя в сферу политики, Троцкий отказывал в каких-либо перспективах парламентской демократии, отождествленной с наиболее утонченной формой буржуазного господства, он даже назвал ее «выкидышем истории». «В то время как социал-демократические тупицы продолжают противопоставлять путь демократии насильственному пути диктатуры, последние остатки демократии попираются и уничтожаются во всех государствах мира»[943]. Манифест завершался апологетикой в адрес Советской России, которая «обнаружила на деле великие возможности, заложенные в коммунизме». Ее дело Коминтерн «объявил своим делом. Международный пролетариат не вложит меча в ножны до тех пор, пока Советская Россия не включится звеном в федерацию Советских республик всего мира». В последнем разделе речь шла не столько о политической стратегии создаваемых коммунистических партий, сколько о предательской роли социал-демократии, которая, по мнению автора манифеста, стала главным препятствием для развертывания мировой революции пролетариата, объективные условия для которой давно уже созрели[944]. Троцкому пришлось прервать свой первый отпуск на государственном посту, поскольку вновь напомнил о себе Западный фронт. Польские войска под командованием Пилсудского перешли в наступление и 7 мая 1920 года почти без боя захватили Киев. Здесь речь шла уже не о внутреннем, а о внешнем конфликте, который имел давние корни, уходившие в средние века и «смутное время». Как справедливо отметил наш герой, «страна встряхнулась», польские легионеры были отброшены, Киев освобожден. Но дело этим не ограничилось. Инерция легко одержанной победы порождала опасные иллюзии всемогущества, главным источником которых являлся сам Ленин. Уже в первые дни советско-польской войны все члены Политбюро сошлись во мнении, что «поляки будут биты и дело кончится весьма вероятно провозглашением советской власти в Варшаве»[945]. В своих мемуарах Троцкий достаточно точно излагал положение, сложившееся к началу июля: «Поляки откатывались с такой быстротой, на которую я не рассчитывал, так как не допускал той степени легкомыслия, какая лежала в основе похода Пилсудского. Но и на нашей стороне, вместе с первыми крупными успехами, обнаружилась переоценка открывающихся перед нами возможностей. Стало складываться и крепчать настроение в пользу того, чтоб войну, которая началась как оборонительная, превратить в наступательную революционную войну»[946]. Необходимо было принимать судьбоносные решения, учитывая, что три года мировой и три года Гражданской войны привели страну на край пропасти. И все же после появления ультиматума английского министра иностранных дел Керзона (11 июля 1920 года), который потребовал немедленно остановить наступление, Ленин настоял на том, чтобы отвергнуть его и продолжать двигаться на запад. «Надо прощупать красноармейским штыком, готова ли Польша к советской власти. Если нет, всегда сможем под тем или иным предлогом отступить назад». Его поддержали традиционно «левые» Зиновьев и Бухарин. Троцкий занял осторожную позицию, выступив за то, чтобы принять посредничество Антанты и тем самым добиться раскола между правящими кругами Англии и Франции. Он указал, что на фронте «поляки не сдаются в плен, отступают в порядке, разложения у них большого незаметно». Еще дальше пошел Радек, заявивший, что он и польские коммунисты «считают Польшу не готовой к советизации. Наше наступление вызовет лишь взрыв патриотизма и бросит пролетариат в сторону буржуазии»[947]. Троцкий практически не принимал участия в работе Второго конгресса Коминтерна — наступление на Варшаву представлялось ему гораздо более важным делом. Он «лишь изредка появлялся на конгрессе, его больше заботило положение на полыхающем польском фронте»[948], вспоминал один из участников конгресса. Наркомвоен командовал парадом красноармейских частей в честь иностранных делегатов, который состоялся на Красной площади, там же была организована выставка трофейного оружия[949]. Троцкий отличался склонностью к подгонке революционных побед под важные события и юбилейные даты, и собравшиеся в Москве представители компартий всего мира заслуживали подобного подарка. Их восторги у карты военных действий, вывешенной перед залом заседаний, определялись тем, что благодаря успехам Красной армии ониначинали чувствовать себя решающим фактором мирового развития.
 Народный комиссар по военным делам Л. Д. Троцкий на Красной площади с делегатами Второго конгресса
27 июля 1920
[РГАСПИ. Ф. 489. Оп. 2. Д. 168. Л. 1]
Народный комиссар по военным делам Л. Д. Троцкий на Красной площади с делегатами Второго конгресса
27 июля 1920
[РГАСПИ. Ф. 489. Оп. 2. Д. 168. Л. 1]
В последние дни работы конгресса в секретариате Троцкого обсуждался вопрос о создании в сопредельных с Польшей странах боевых отрядов из коммунистов, которые в нужный момент поддержат Красную армию[950]. Фактически речь шла об организации партизанской войны за пределами Советской России, прежде всего в Германии. Для достижения поставленных целей использовались напряженные отношения между польскими войсками и местным населением на территории Белоруссии. 9 июля 1920 года Троцкий получил от Уншлихта записку, в которой тот сообщал об организации с конца 1919 года из белорусов «нелегальной военной организации». В числе ее задач было «разрушение тыла польской армии, порча железных дорог, мостов, всякого рода связи, отдельные теракты и в конечном смысле руководство крестьянским повстанческим движением под лозунгом Советской власти…». В качестве главного недостатка разворачивавшегося партизанского движения автор называл дефицит «выдержанных коммунистов — красных командиров, приток которых в последнее время совершенно прекратился»[951]. Именно с данным фактом были связаны неоднократные запросы Троцкого в Исполком Коминтерна о создании военных школ из иностранных коммунистов, прежде всего поляков и немцев. Их результатом стало образование Отдельной бригады особого назначения, которая также именовалась «спартаковской» и состояла из бывших немецких и австрийских военнопленных[952]. После победоносного завершения советско-польской войны и выхода Красной армии на границы Германии ее бойцы должны были стать командирами местных рабочих отрядов, подготовкой которых занимался уже военный отдел ЦК КПГ[953]. Post factum наш герой предавался уже иным размышлениям, обращаясь не к будущему, а к прошлому. «По сравнению с эпохой Бреста роли резко переменились: тогда я требовал, чтобы не спешить с заключением мира и хотя бы ценою потери территории дать немецкому пролетариату время понять обстановку и сказать свое слово. Теперь Ленин требовал, чтоб наши армии продолжали наступать и дали, таким образом, польскому пролетариату время оценить обстановку и подняться. Польская война подтвердила с другого конца то, что показала брестская война: события войны и события революционного массового движения измеряются разными масштабами… Если не учитывать правильно этой разницы темпов, то зубчатые колеса войны могут только обломать зубья на колесах революции, а не привести их в движение. Во всяком случае, так произошло в короткой брестской войне, так произошло и в большой польской войне. Мы прошли мимо собственной победы — к тяжелому поражению»[954].
 Летом 1920 года взоры большевистского руководства были обращены на запад, где Красная армия перешла границы Польши
Плакат
1920
[Из открытых источников]
Летом 1920 года взоры большевистского руководства были обращены на запад, где Красная армия перешла границы Польши
Плакат
1920
[Из открытых источников]
Сохранившиеся документы свидетельствуют о том, что в тот момент, когда передовые части Красной армии приближались к Висле, Троцкий (в отличие от брестских переговоров) лояльно проводил в жизнь ленинскую линию. Так, он представил своим соратникам проект собственного интервью по польскому вопросу, в котором предлагал назначить главным виновником советско-польской войны коллективный Запад, точнее — французские правящие круги, науськивавшие Варшаву обещаниями масштабных поставок вооружений. Кроме того, предлагалось организовать в Москве манифестации «по поводу подлой провокации французского правительства, не допускающего Польшу заключить с нами мир»[955]. Прошло всего несколько дней, и фортуна отвернулась от красноармейцев — интервью так и не было опубликовано. После неожиданного поражения под Варшавой Троцкий выступил за скорейшее подписание мира, даже при «всяческих уступках Польше». Он предложил отказаться от прений о причинах поражения на предстоявшей в конце сентября конференции РКП(б) 1920 года: «…в такой момент, когда нужно единодушие, когда нужно думать о том, как победить, мы лишь разложим конференцию, сосредоточив ее внимание на спорах о неудаче под Варшавой». Дело дошло до конфликта с Лениным, который высказался за то, чтобы представить партии полную картину произошедшего («такое поведение на конференции, которое рекомендовал Троцкий может погубить партию, а не оздоровить ее»), хотя и предлагал возложить ответственность за крах наступления на военное командование. Его поддержали Сталин и Бухарин, причем последний выступил в характерном для себя ура-революционном духе: «…политической ошибки не было. Общая линия на переход от обороны к наступлению взята правильная, и борьба еще не кончилась». В записи Преображенского особо отмечен упрек Троцкому, что «на решающем заседании он голосовал со всеми за продолжение наступления, а ведь именно это решало дело и привело к поражению». Тот не стал спорить с данным фактом, но сказал в свое оправдание, что «позже, когда было еще не поздно, предлагал Данишевскому дать инструкции вести дело к соглашательскому миру, что Политбюро отвергло»[956]. Советско-польская война была не единственным «освободительным походом» Красной армии, которая вплотную подошла к былым границам Российской империи. Одновременно с наступлением на Варшаву драматические события разворачивались в Северной Персии, населенной преимущественно крымскими татарами (их только позже назовут азербайджанцами). Все началось с успешной операции Каспийской флотилии по возвращению кораблей, захваченных белогвардейцами и ушедших в персидский порт Энзели. После этого небольшая, но крайне активная группа местных коммунистов во главе с Султан-Заде обратилась за поддержкой к Москве. Во время работы Второго конгресса Коминтерна спешно созданные части персидской Красной армии, во главе которых стоял популярный в народе Кучук-хан, захватили крупный город Решт. Хотя «застенчивая интервенция» развивалась под лозунгами освобождения прикаспийского региона от кабалы английского империализма, местные жители отдавали себе отчет в том, что «дело идет только о политических интересах соседней северной державы, стремящейся принести Персию в жертву своей политике»[957]. Через только что попавший под контроль большевиков Азербайджан в страну поставлялось оружие и боеприпасы, перебрасывались воинские части. Почувствовав вкус к власти, коммунисты избавились от Кучук-хана и провозглавсили Гилянскую советскую республику. В Москве выступление персидских революционеров вызвало серьезные дискуссии. Наркоминдел в своих нотах убеждал шахское правительство в Тегеране, что повстанцы действуют на свой страх и риск. Военное руководство настаивало на том, что участие в нем регулярных частей Красной армии не должно стать достоянием гласности. Троцкий был в курсе данной операции, хотя давал установку, чтобы действия частей РККА «не вызывали подозрений в захвате» персидской территории[958]. Еще год назад он настаивал на том, что Восток, и прежде всего Индия, становится главным полигоном разворачивавшейся мировой революции. Летом 1920 года создатель Красной армии смотрел на вещи уже совершенно иначе, государственный деятель постепенно одерживал верх над фанатиком-революционером. В записке, датированной 4 июня и адресованной лидерам РКП(б) и наркому Чичерину, он признавал, что в условиях продолжавшейся войны с Польшей переворот в Персии причинил бы Советской России величайшие затруднения: «…до упрочения положения на Западе и транспортного состояния советская экспедиция на Востоке может оказаться не менее опасной, чем война на Западе». Гораздо предпочтительнее было бы «столковаться с Англией относительно Востока»[959].
 Президиум торжественного закрытия Второго конгресса Коминтерна в Большом театре
За столом в первом ряду слева направо: председатель туркестанской комиссии ВЦИК Г. Я. Сокольников, член ИККИ Э. Руднянский, член ИККИ Дж. Сератти, нарком по военным делам РСФСР Л. Д. Троцкий, сотрудник Южного отделения ИККИ Ж. Садуль, член ИККИ П. Леви, председатель ИККИ Г. Е. Зиновьев, член ИККИ Н. И. Бухарин, председатель ВЦИК РСФСР М. И. Калинин, член и секретарь ИККИ К. Б. Радек
7 августа 1920
[РГАСПИ. Ф. 489. Оп. 2. Д. 190. Л. 1]
Президиум торжественного закрытия Второго конгресса Коминтерна в Большом театре
За столом в первом ряду слева направо: председатель туркестанской комиссии ВЦИК Г. Я. Сокольников, член ИККИ Э. Руднянский, член ИККИ Дж. Сератти, нарком по военным делам РСФСР Л. Д. Троцкий, сотрудник Южного отделения ИККИ Ж. Садуль, член ИККИ П. Леви, председатель ИККИ Г. Е. Зиновьев, член ИККИ Н. И. Бухарин, председатель ВЦИК РСФСР М. И. Калинин, член и секретарь ИККИ К. Б. Радек
7 августа 1920
[РГАСПИ. Ф. 489. Оп. 2. Д. 190. Л. 1]
Точка зрения наркомвоенмора нашла поддержку наркоминдела. Чичерин бил тревогу, утверждая, что продолжение военных действий в регионе окончательно рассорит Москву и с Лондоном, и с Тегераном, хотя его заместитель Л. М. Карахан рассуждал иначе: следует усилить военную операцию, «ибо она дает немедленный эффект и наносит Англии удар, который докажет, что мы ставим нашу агрессию на Востоке в прямую зависимость от политики Англии по отношению к нам: на удар отвечаем ударом»[960]. В таком же ключе выступал и С. Орджоникидзе, координировавший действия Красной армии в Закавказье. В Коминтерне также были недовольны самодеятельностью персидских коммунистов, игнорировавших установки Второго конгресса на сплочение национально-освободительного фронта, в который должны были войти и представители буржуазных партий той или иной страны. Сдача Решта, враждебное отношение к повстанцам местного населения и пленение нескольких красноармейцев шахскими войсками, вызвавшее волну дипломатических протестов, поставили крест на судьбе Гилянской республики. 5 апреля Чичерин настаивал в письме Орджоникидзе: «…не допускайте ни в коем случае новой авантюры»[961]. Однако последний продолжал идти напролом, рассчитывая на то, что в случае успеха его подопечных сработает принцип «победителей не судят». Но чуда не случилось. Последние активисты Гиляна в октябре 1921 года были эвакуированы в Советский Азербайджан. Эсханулла-хан, сменивший Кучук-хана на посту лидера повстанческих отрядов, до конца 1920-х годов проживал в Москве и находился в стратегическом резерве Коминтерна, неоднократно требуя направить его в Персию для организации новой революции. Поражение в войне с Польшей и провал «застенчивой интервенции» на Востоке отодвинули на второй план идею подталкивания мировой революции красноармейским штыком, однако не сдало ее в архив. Троцкий отметил соответствующие места донесения Виктора Коппа от 6 ноября 1920 года, когда Германия и Польша находились в шаге от военного конфликта вокруг Верхней Силезии, где по решению Парижской конференции должен был пройти плебисцит о принадлежности региона той или иной стране. Советский посланник в Берлине писал: «С точки зрения революции в Германии я считаю этот конфликт, даже в том случае, если он начнется под знаменем германского национализма, толчком, который сдвинет с мертвой точки германскую революцию. Немецким коммунистам нет никакого смысла выступить против этой войны в момент ее объявления. Я считал бы самой правильной тактикой — воспользоваться этой войной для вооружения рабочих, и только во втором фазисе ее, когда она осложнится интервенцией Франции, поставить себе, как непосредственную цель, низвержение буржуазного правительства и захват власти»[962]. Копп призывал Троцкого готовить Красную армию к тому, чтобы в нужный момент вмешаться в ход событий и новым наступлением добить буржуазную Польшу. Его приверженность настроениям «бури и натиска» была одной из причин того, что германский МИД в 1921 году отказался признать кандидатуру Коппа в качестве будущего полпреда Советской России. Им стал Николай Крестинский, являвшийся одним из «левых коммунистов» во время брестских переговоров, а затем ставший секретарем ЦК РКП(б). Его назначение в Берлин было сюрпризом только для непосвященных в кухню внутрипартийной борьбы — верный соратник Троцкого, Крестинский лишился своих постов по итогам дискуссии о профсоюзах. Он стал одним из первых партийных лидеров в истории большевиков, которого отправили в дипломатическую ссылку. После завершения Гражданской войны Троцкий охладел к революционному потенциалу «красноармейского штыка». Он стал сторониться военных авантюр, которые находили поддержку остальных членов Политбюро. Так, 23 апреля 1921 года этот орган в отсутствие Троцкого принял решение о выделении значительной суммы денег опальному турецкому лидеру Энвер-паше (в годы мировой войны он являлся фактическим главнокомандующим османской армии) и неназванному «тов. Е.» для подрывной работы в Турции[963]. Последний обещал использовать находившиеся в окрестностях Константинополя части врангелевской армии, эвакуированные из Крыма, для захвата этого города и передачи его турецким революционерам пантюркистского толка. Непродуманное решение соратников, готовых на все ради ослабления позиций западных держав у границ Советской России, вызвало оправданное, хотя и запоздалое возмущение Троцкого. Очевидно, что «тов. Е.» являлся бывшим белым офицером, который был либо перевербован после пленения, либо выступал в роли «инициативника». Создатель Красной армии прекрасно отдавал себе отчет в том, чем обернется для большевиков подобная попытка, и фактически наложил на нее вето: «Предприятие считаю авантюрой, 95 шансов на провал даже в случае временного успеха», а в случае очевидной неудачи нас ждет «невероятный международный позор»[964]. Постепенно отходя от военных дел, наш герой обрел вкус к коминтерновской работе, приняв на себя роль «корректировщика огня». Вместе с Лениным он поддержал Открытое письмо КПГ, увидев его смысл в том, чтобы «использовать переживаемый период как для упрочения своей организации, так и для систематической раскачки рабочих масс с целью прорыва создавшегося неустойчивого равновесия»[965]. Плечом к плечу два вождя стояли на «крайне правом фланге» Третьего конгресса Коминтерна, резко выступив против левацкой теории наступления и дав установку на завоевание зарубежными компартиями массового влияния[966]. Характерной чертой политической работы Троцкого было внимание к мелочам, которые в тот или иной момент могли привести к серьезным и неблагоприятным для партии и Коминтерна последствиям. Накануне открытия конгресса он сообщал Ленину: «Приезжающие делегаты попадают в отчаянное положение. Несмотря на то, что ждали тысячу человек, а приехало около трехсот, делегатов помещают по 8–10 человек в одну комнату. Они лишены самых минимальных жизненных удобств»[967]. Ситуация, когда бюрократическая неразбериха и нерасторопность хозяев перечеркнули позитивные надежды нескольких делегатов, случилась и на предыдущем конгрессе[968]. Повторение скандальной ситуации грозило разоблачением светлого образа Советской России как «рая для трудящихся», который разбивался о бытовую неустроенность прибывавших в нее иностранцев. Мы не случайно посвятили особый раздел военной составляющей деятельности нашего героя — это был его звездный час. Опыт и методы воздействия, которые он приобрел в годы Гражданской войны, продолжали определять его образ действий в последующие годы, хотя время требовало иных подходов и не в последнюю очередь — идеологического разоружения. Второй том самой известной биографии Троцкого, написанной Исааком Дойчером более полувека назад, озаглавлен «Безоружный пророк», хотя в английском оригинале он звучит гораздо точнее: «Разоруженный пророк». Наверное, оптимальным было бы определение «пророк, не желавший сложить оружие», но издателям книги на русском языке оно, вероятно, показалось слишком громоздким. Не прибегая к резким характеристикам, Дойчер показал, что окончание Гражданской войны в стране (включая сюда кронштадтское восстание и антоновщину) лишило его героя, подобно рыбе, выброшенной на берег, привычной среды обитания. И в нее ему уже не суждено было вернуться. «Облик и речи Троцкого по-прежнему завораживали толпу. Но его явно покинула способность наладить тесный контакт со слушателями, что неизменно удавалось ему во время Гражданской войны, как и Ленину с его скромной внешностью и простыми словами. Троцкий на трибуне выглядел настоящим гигантом, а в его речах раздавались прежние героические нотки. Однако страна устала от героизма, от захватывающих дух перспектив, от возвышенных надежд и широких жестов… Его театральные манеры и героический стиль не казались такими неуместными в прежние годы, когда они соответствовали драматизму момента. Теперь же в них проглядывало позерство»[969].
4.3. Несостоявшийся триумф на Четвертом конгрессе
В следующем 1922 году Троцкий в буквальном смысле «открыл» для себя Коминтерн, забрасывая Зиновьева идеями и предложениями по самым разным вопросам, которые демонстрировали и его эрудицию, и его интерес к международным делам. Ход его мысли продолжал определяться «всемирным масштабом». Приведем лишь несколько примеров. «Теперь, после создания Ирландской республики, можно ждать очень быстрого развития коммунистического движения в Ирландии, — утверждалось в записке, датированной январем этого года. — Революционные традиции там имеются, трудящиеся массы сильно взбудоражены всей предшествовавшей борьбой. Разочарование в национальной республике получит очень острый характер. Ирландия может стать коммунистическим оплотом Великобритании, несмотря на свою отсталость, отчасти вследствие этой отсталости»[970]. В связи с нэповским отступлением лидеры РКП(б) стали все больше задумываться о слабеющем авторитете правящей партии в обществе, постепенно отходившем от шока революции и «чрезвычайщины». Троцкий выражал опасение, что оппоненты будут выступать за повышение заработной платы рабочих и тем самым могут приобрести авторитет, угрожающий устоям большевистской диктатуры. Он предлагал расширить опыт дискредитации эсеров на партию меньшевиков, дав слово ее бывшим членам, получившим работу в аппарате Коминтерна. «В то время как мы будем вынуждены сообразовывать повышение заработной платы с действительной производительностью нашей промышленности, меньшевики, конечно, будут гнать движение вперед изо всех сил. Необходимо теперь же, наряду с репрессиями, повести с ними борьбу комбинированными средствами», разрешив бывшим меньшевикам издавать свой периодический орган, «разумеется, лишь на основе вполне определенный декларации и боевого выступления против тактики заграничного центра» РСДРП[971]. Сочетание репрессий и дискредитации все в большей степени выступало как универсальный метод сохранения власти большевиков и применялось не только против политических оппонентов. В таком ключе была спланирована отправка за границу «философского парохода» с выдающимися представителями отечественной интеллигенции. По мере того, как отход Ленина от политической деятельности становился все более очевидным, его ближайшее окружение стало готовиться к решающей битве за ленинское наследство, и Троцкий не являлся здесь исключением. До того лишь изредка обращавшийся к вопросам Коминтерна, он стал заявлять о себе и на этом фронте. Его коньком был французский вопрос, что было связано со знанием языка[972]. Французская коммунистическая партия, «вылупившаяся» в начале 1921 года из социалистической партии СФИО, на протяжении последующих лет оставалась для Коминтерна проблемным ребенком. Французские делегаты Четвертого конгресса Коминтерна Борис Суварин и Альфред Росмер
9 ноября — 5 декабря 1922
[РГАСПИ. Ф. 491. Оп. 2. Д. 142. Л. 1]
Французские делегаты Четвертого конгресса Коминтерна Борис Суварин и Альфред Росмер
9 ноября — 5 декабря 1922
[РГАСПИ. Ф. 491. Оп. 2. Д. 142. Л. 1]
При формировании ее руководства Зиновьев сделал ставку на фракцию «левых» во главе с протеже Троцкого Борисом Сувариным[973]. Главным условием Председатель ИККИ считал сохранение в своих руках всех кадровых решений: «Мы уже два раза писали в Париж и повторяю еще раз: самым подходящим и желательным мы бы считали, чтобы окончательное распределение должностей произошло в Москве»[974]. В противовес Зиновьеву Троцкий выступил против «механической передачи ФКП в руки левых», да еще и решением московского руководства. «Создание левого ЦК было бы организационным выражением влияния Интернационала, но не выражением внутренней эволюции французской партии. В результате мы получили бы на другой день после Конгресса оппозиционный блок центра и правой — против ЦК, который считался бы прямым детищем Москвы». И далее: «Левая хочет просто перескочить через затруднения и просит, чтобы мы ее приподняли за волосы. Немного приподнять можно и должно, но если слишком приподнять, как бы мы не остались со скальпом Суварина в руках»[975]. На такую позицию Троцкого наложила отпечаток история с расколом Итальянской социалистической партии, который произошел на съезде в Ливорно в начале 1921 года. Тогда ставка эмиссаров Коминтерна на фракцию «левых» привела к тому, что большинство социалистов предпочло остаться в старой партии. Троцкий высказался за соблюдение принципа «лучше позже, да больше», т. е. за то, чтобы терпеливо дожидаться полевения простых рабочих-социалистов. «Я считаю, что более осторожный метод является и более экономным», — заявил оппонент Зиновьева, тонко намекая на то, кто же несет личную ответственность за конфуз в Ливорно. При этом он настаивал на твердом проведении линии на сохранение единства в руководстве ФКП: «Разрыв между левой и центром из-за числа мест в ЦК был бы, на данной стадии борьбы, явной и грубой ошибкой. Думаю, что надо дать левой твердую инструкцию в этом смысле»[976]. Для иностранных коммунистов, прибывавших осенью 1922 года в Петроград на торжественное открытие Четвертого конгресса Коминтерна, создатель Красной армии был и оставался «вторым номером» российской революции, и его вступление в ленинское наследство казалось само собой разумеющимся[977]. Сам Троцкий отдавал себе отчет в том, какой политический капитал скрывается для него в международной поддержке, пусть даже со стороны одних только компартий. Если на предыдущем конгрессе он ограничился ассистированием повороту вправо, предпринятому Лениным, то на сей раз сам решил выйти на коминтерновскую авансцену.
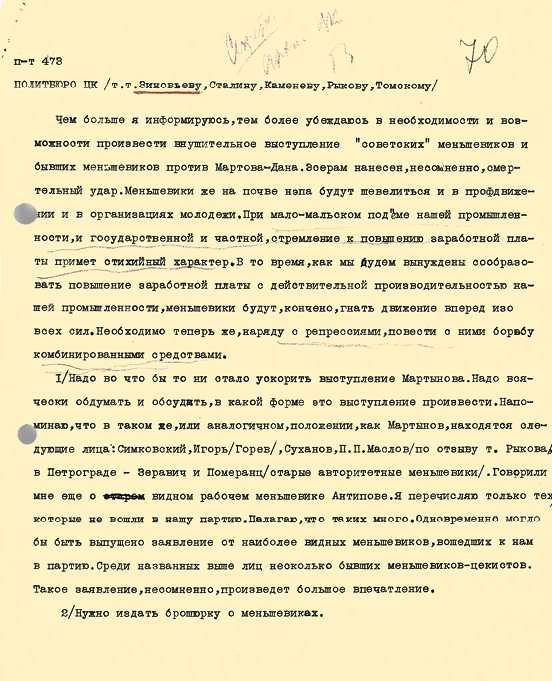
 Троцкий был одним из инициаторов кампании по дискредитации меньшевиков — фракции российского социал-демократического движения, к которой когда-то принадлежал и он сам
Письмо Л. Д. Троцкого Г. Е. Зиновьеву, И. В. Сталину, Л. Б. Каменеву, А. И. Рыкову и М. П. Томскому
11 октября 1922
[РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 156. Л. 59. Л. 70–71]
Троцкий был одним из инициаторов кампании по дискредитации меньшевиков — фракции российского социал-демократического движения, к которой когда-то принадлежал и он сам
Письмо Л. Д. Троцкого Г. Е. Зиновьеву, И. В. Сталину, Л. Б. Каменеву, А. И. Рыкову и М. П. Томскому
11 октября 1922
[РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 156. Л. 59. Л. 70–71]
 Открытие Четвертого конгресса Коминтерна было приурочено к годовщине Октябрьской революции
Плакат
1922
[Из открытых источников]
Открытие Четвертого конгресса Коминтерна было приурочено к годовщине Октябрьской революции
Плакат
1922
[Из открытых источников]
Вот как описывал Троцкий, уже высланный из СССР, свою роль в тот момент. Главный доклад на Четвертом конгрессе — «о положении Советской республики и о перспективах международной революции — Ленин поделил со мной пополам. Мы выступали плечо к плечу, мне принадлежало заключительное слово по обоим докладам». При этом герой очерка не удержался от того, чтобы не напомнить своему главному сопернику, что тот «не принимал в тот период ни малейшего — ни прямого, ни косвенного — участия в трудах Коммунистического Интернационала… Нет ни одного документа, который свидетельствовал бы, не говоря уже о творческом участии Сталина в работах первых четырех конгрессов, но хотя бы о его серьезном интересе к этим работам»[978]. Сохранилась обширная переписка Троцкого с «пятеркой», т. е. руководителями делегации РКП(б) на конгрессе. Кроме Троцкого и Ленина в нее входили Бухарин, Радек и Зиновьев. Именно к последнему были обращены многочисленные идеи и предложения нашего героя, касающиеся широкого круга вопросов (до того он как член ИККИ участвовал только в дискуссиях, связанных с французской компартией). Уже после доклада Ленина, который многим из делегатов показался разочаровывающим[979], он подготовил тезисы о перспективах социалистического строительства в Советской России, настаивая на их включении в итоговые резолюции конгресса[980]. В них не только подводились итоги пяти лет партийной диктатуры в России, но и намечались дальнейшие шаги ее социально-экономического развития. Автор тезисов сохранял уверенность в международном значении опыта нэпа, подчеркивая, что «каждое новое рабочее правительство будет стремиться — в той мере, в какой это допускают политические условия — не разрушать механически буржуазный хозяйственный аппарат, в том числе банки и биржи, а подчинить его себе политически и организационно овладеть им для постепенной перестройки хозяйства на новых началах».
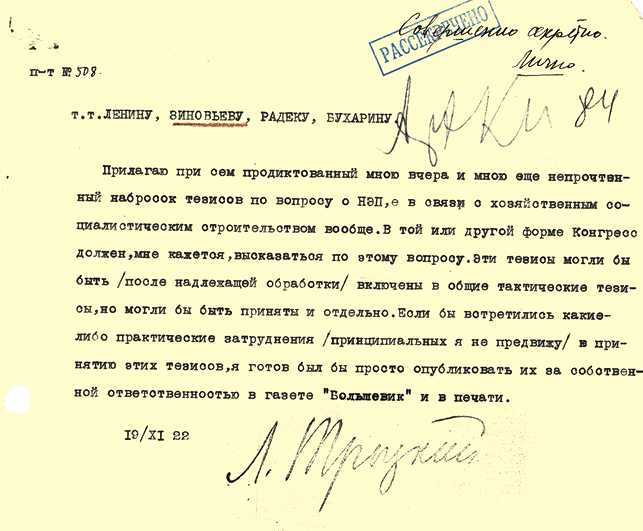 Троцкий настаивал на том, чтобы коммунистические партии зафиксировали свое одобрение политики нэпа в решениях Четвертого конгресса Коминтерна
Письмо Л. Д. Троцкого В. И. Ленину, Г. Е. Зиновьеву, К. Б. Радеку и Н. И. Бухарину
19 ноября 1922
[РГАСПИ. Ф 495. Оп. 156. Д. 59. Л. 84]
Троцкий настаивал на том, чтобы коммунистические партии зафиксировали свое одобрение политики нэпа в решениях Четвертого конгресса Коминтерна
Письмо Л. Д. Троцкого В. И. Ленину, Г. Е. Зиновьеву, К. Б. Радеку и Н. И. Бухарину
19 ноября 1922
[РГАСПИ. Ф 495. Оп. 156. Д. 59. Л. 84]
Главный вывод тезисов являлся своего рода «ледяным душем» для иностранных коммунистов: «Советской России предстоит своими силами строить свое хозяйство в течение еще очень значительного периода, необходимого для подготовки европейского пролетариата к завоеванию власти»[981]. Это означало закрепление поворота вправо, начатого Третьим конгрессом Коминтерна и подразумевавшего отказ от ставки на победу мировой пролетарской революции в ближайшей перспективе. Естественно, на этой основе Троцкому трудно было мобилизовать своих сторонников в зарубежных компартиях, да такой задачи в тот момент он еще и не ставил перед собой. Но не пройдет и пяти лет, и среди левых радикалов начнет обсуждаться идея Четвертого Интернационала, в очередной раз «очищенного от оппортунизма». Документ Троцкого, до сего дня практически незамеченный историками, являлся ничем иным, как его заявкой на роль главного стратега, причем не только в Коминтерне, но и в партийном руководстве. Это прекрасно понял Зиновьев, не допустивший обсуждения представленных тезисов даже в «пятерке». Его ремарки на записках Троцкого показывают, насколько ревниво председатель Коминтерна относился к запискам своего соратника, который буквально фонтанировал новыми идеями. Если Троцкий явно переоценивал свой потенциал, оставаясь из-за своего дореволюционного «небольшевизма» чужим среди своих, то Зиновьев страдал комплексом неполноценности, о чем уже говорилось в соответствующем очерке. На протяжении 1922 года Троцкий все более активно выступал с упреками в адрес Зиновьева, который продолжал цепляться за своих ставленников в ФКП. В то время как последний пообещал по-немецки «укрепить спину» одного из лидеров партии Жака Дорио (впоследствии он станет фашистом и вольется в ряды коллаборационистов), его оппонент предлагал не обращать внимания на интеллигента, который «засел в книжной лавочке»[982]. 22 ноября Троцкий поставил перед членами «пятерки» вопрос ребром: создавать ли на конгрессе новый ЦК ФКП или ограничиться предложением, адресованным чрезвычайному съезду ФКП?[983] Сам он высказался за второй вариант, предложив военную хитрость: подготовить точный список членов ЦК и по отдельности заставить согласиться с ним все три фракции, входившие в руководство французской компартии. Находясь на коминтерновской стезе, Троцкий наслаждался обретенной свободой без ответственности, ежедневно рассылая своим соратникам письма и короткие записки со все новыми глобальными идеями. Среди прочего он обрисовал руководителям Коминтерна потенциал кино как средства коммунистической пропаганды. «В России можно было бы поставить специальные политико-сатирические пьесы для кинематографа и распространять их затем по всему свету»[984]. В этом плане нашего героя можно было бы назвать отцом не только Красной армии, но и знаменитой киностудии Межрабпомфильм, работавшей под эгидой Коминтерна в 1924–1936 годах. Троцкий с удовольствием примерял на себя тогу примирителя двух фракций в компартии США, подчеркнув, что Коминтерну не нужно вести дело к тому, чтобы оппоненты подчинились «только из страха лишиться материальной помощи». Он в полной мере отдавал себе отчет в том, какое значение для формирования компартий играли субсидии из Москвы, предлагая давать деньги и тем, и этим: «Должен признаться, что у меня очень большие сомнения насчет объединения [фракций]. Может быть, было бы целесообразно дать им возможность в течение, примерно, года действовать врозь, то есть американцам своими методами, а эмигрантам — своими, не лишая поддержки ни тех ни других?»[985] Не забывал Троцкий и о «трудном ребенке» — французской компартии. Выступая против жесткого администрирования, он все же не мог отказать себе в удовольствии поименно назвать состав будущего ЦК ФКП, дав каждому из потенциальных кандидатов нелицеприятные характеристики[986]. Вскоре этот пример возьмет на вооружение Ленин, который даст в своем политическом завещании критические оценки своим ближайшим соратникам. В отличие от Зиновьева, прятавшего свою неуверенность за приказным тоном, Троцкий предпочитал отеческие внушения. Так, он писал Борису Суварину, который из протеста не явился за заседание Малой комиссии конгресса, обсуждавшей французский вопрос: «Воспитание французской партии в коммунистическом духе подразумевает самовоспитание левой, предполагает упорную и систематическую работу в каждой организации, в каждом учреждении в течение недель, месяцев и лет»[987].
 Французская компартия оставалась для Троцкого любимым, хотя и непослушным ребенком
Письмо Л. Д. Троцкого Г. Е. Зиновьеву
6 декабря 1922
[РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 156. Д. 59. Л. 72]
Французская компартия оставалась для Троцкого любимым, хотя и непослушным ребенком
Письмо Л. Д. Троцкого Г. Е. Зиновьеву
6 декабря 1922
[РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 156. Д. 59. Л. 72]
Следует отдать должное работоспособности Троцкого — переключившись с военных на хозяйственные дела, он не забывал следить за жизнью своих французских товарищей. Накануне освобождения Андре Марти из тюрьмы (тот участвовал в организации восстания во французской эскадре на Черном море в 1919 году и был приговорен к 20 годам каторжных работ[988]) он предложил пригласить его в Москву и провести в его честь массовую пропагандистскую кампанию. «Он незаурядный и несомненно мужественный человек. В то же время в голове его царит большой сумбур. Достаточно того, что он франк-масон. Наше решение о франк-масонах может его оттолкнуть»[989]. Троцкий имел в виду одну из самых спорных резолюций Четвертого конгресса, которая запрещала коммунистам какое-либо сотрудничество с ложами «свободных каменщиков», более того — требовала публичного покаяния от тех, кто ранее состоял в них[990]. Он сам являлся инициатором и главным лоббистом данной резолюции, дав в советской прессе подробное обоснование такого решения: «…франк-масонство является по существу мелкобуржуазной подделкой феодального по своим историческим корням католицизма», став в современных условиях одной из заметных духовных скреп политического устройства западных стран. Крайне жесткая и бескомпромиссная оценка масонства отражала характерную черту мышления Троцкого: анализ любого из общественных явлений приводил нашего героя к обнаружению его классовой подоплеки, что по сути дела было вульгаризацией классического марксизма. «По внешней форме франк-масонство аполитично, как и церковь; по существу оно контрреволюционно, как и она. Обострению классовых противоречий оно противопоставляет мистические, сентиментальные, моральные формулы, и так же, как церковь, сопровождает их маскарадной обрядностью. Будучи по своим источником бессильным мелкобуржуазным противоядием против классовой борьбы, разъединяющей людей, масонство, как и все такого рода движения и организации, само становится незаменимым оружием классовой борьбы — в руках господствующего класса против обездоленных… Масонство не было бы самим собою, если бы поступало иначе. Его политическая функция — всасывать в свои ряды представителей рабочего класса, чтобы содействовать размягчению их воли, а по возможности и мозгов»[991]. Зиновьеву пришлось взять на себя пропаганду принятого решения, увязав его с антирелигиозным стержнем коммунистического движения[992]. К концу 1922 года, как показывает переписка вождей РКП(б), они еще держались вместе, продумывая свою стратегию в грядущей борьбе за ленинское наследство. Идейное наступление Троцкого за кулисами Четвертого конгресса еще не было открытым вызовом сталинско-зиновьевскому большинству, но оно предвосхищало тот разрыв, который случится осенью 1923 го-да[993]. Логика внутреннего конфликта в верхушке партии большевиков вела к образованию в ней неформальных групп и фракций — «троек», «семерок» и проч. «Пятерка» представителей РКП(б) в Коминтерне, ставшая фактическим режиссером его Четвертого конгресса, была первой ласточкой в процессе деградации «коллективного руководства». Фактически она играла роль комиссии Политбюро по вопросам зарубежных компартий и, как и само Политбюро, несла в себе зерна внутреннего раскола. Переходя в сослагательное наклонение, можно предположить, что если бы Ленин не отошел от дел как раз накануне конгресса, «тройка» Ленин — Троцкий — Радек, уже опробованная в ходе работы его предшественника, по всем статьям переиграла бы несамостоятельного Зиновьева и все еще не преодолевшего левацких наклонностей Бухарина. Трактуя сложившуюся в Политбюро ситуацию в свою пользу, Троцкий делал заявку на то, что после ухода Ленина он станет главным творцом «генерального курса». И весь конгресс мог бы стать его бенефисом, если бы он обладал способностью сплачивать команду единомышленников, раздавая им привилегии и бонусы. Увы, блестящий стратег Троцкий был плохим тактиком, совершенно искренне считая, что и сам справится с решением всех задач, так как он на голову выше всех его окружающих, особенно «посредственностей» типа Сталина. Эта самоуверенность ослабила его напор и в то же время сплотила его оппонентов.
4.4. 1923 год — вызов брошен
В первой половине 1923 года Троцкий демонстрировал свою готовность к конструктивной работе с большинством Политбюро, сосредоточившись на путях преодоления внутреннего кризиса во французской компартии. Его проекты директив и инструкций как самим лидерам ФКП, так и делегации Коминтерна, работавшей в Париже, были совсем не похожи на тон военных приказов, к которым Троцкий успел привыкнуть во время работы в Реввоенсовете. Вместо того, чтобы использовать здравые мысли этих документов на практике, пусть даже подвергая «вертикаль власти» известному риску, Зиновьев предпочитал хоронить их в закоулках коминтерновского аппарата. Троцкий был гораздо свободнее в своих суждениях, чем кто-либо еще из членов Политбюро, хотя и они неизменно облекались в марксистские мантии. Призывая французских коммунистов заранее готовиться к парламентским выборам 1924 года, он подчеркивал, что «их значение далеко выходит за пределы обычной парламентской механики». И тут же противопоставлял последней абстракции классовых сдвигов, которые можно было трактовать как угодно: «На этот раз во время выборов — в искаженной форме парламентского лжедемократизма — будет производиться глубокая перегруппировка сил и новая ориентировка общественных классов». «Буржуазия может надеяться выйти из финансового кризиса путем ограбления трудящихся классов города и деревни только в том случае, если проведение этой политики будет поручено ее радикальным и социалистическим приказчикам. В этом — смысл левого блока, идущего на смену национальному»[994]. За год до парламентских выборов Троцкий перечеркивал даже саму возможность «картеля левых», фактически поддержав тех лидеров ФКП, которые отказывались проводить в жизнь тактику единого рабочего фронта. В то же время он прагматически рассматривал перспективу участия непокорных лидеров французских социалистов в мероприятиях, которые открывали Коминтерну путь к европейским народам. Весной 1923 года он высказался за участие их лидера Фроссара в работе Международной рабочей конференции во Франкфурте, в центре внимания которой находилась военная угроза, вызванная оккупацией Рура франко-бельгийскими войсками. Троцкий писал, что Фроссар, как и инициатор конференции немецкий независимец Ледебур, «при известных условиях могут явиться орудием разложения социал-демократов слева, при условии, конечно, дальнейшей беспощадной критики их со стороны национальных коммунистических партий»[995]. Излишне говорить, что такое понимание тактики единого рабочего фронта, которое делало ставку на саморазоблачение потенциальных союзников, не имело шансов на успех. В конце лета 1923 года формирование антитроцкистской фракции в руководстве РКП(б) стало фактом. Вернувшись из отпуска в Кисловодске, коллеги по Политбюро слушали Троцкого все меньше и меньше, проводя перед официальными заседаниями фракционные встречи «семерки», где предрешался исход обсуждения ключевых вопросов. Оказавшись в изоляции, наш герой также начал подготовку к фронтальному контрнаступлению. Одним из его флангов стал Коммунистический Интернационал. Позже Троцкий именно в этой точке увидел начало его оппортунистического перерождения: «С осени 1923 года история Коминтерна есть история полного обновления его московского штаба и штабов всех национальных секций путем серии дворцовых переворотов, чисток сверху, исключений и пр. В настоящее время Коминтерн представляет собою совершенно покорный и всегда готовый к любому зигзагу аппарат на службе советской внешней политики»[996]. Первыми яблоками раздора между двумя фракциями в Политбюро стали хозяйственные трудности («ножницы цен») и деградация внутрипартийной демократии («засилье аппарата»). Для любого посвященного было ясно, что Троцкого шаг за шагом «оттирают» от реальной власти, предоставляя посты, имеющие скорее декоративное значение. Оказавшись не у дел, он увидел в обострении ситуации в Германии свой последний шанс для восстановления былых позиций в Политбюро. На заседании этого органа 22 августа 1923 года он солировал, заявив, согласно воспоминаниям Бориса Бажанова, что грядущая революция в этой стране откроет собой второй тур революции мировой, и призвал идти ва-банк: «Если германская революция удастся, капиталистическая Европа не сможет ее допустить и попытается раздавить ее силой оружия. Мы со своей стороны должны бросить в борьбу все наши силы, так как исход борьбы решит все. Или мы выиграем, и победа мировой революции обеспечена, или мы проиграем, и тогда проиграем и первое пролетарское государство в мире, и нашу власть в России»[997]. С этим были согласны все участники заседания Политбюро, хотя они и не поддержали предложение Троцкого о назначении календарного срока вооруженного выступления. «ЦК считает, что германский пролетариат стоит непосредственно перед решительными боями за власть», и этот факт был назван главной тенденцией текущей ситуации в стране. В резолюции была обозначена военная и экономическая помощь германским рабочим, предусмотрена соответствующая пропагандистская кампания в советской прессе. Для большей оперативности была создана особая комиссия по международным вопросам, решения которой не требовали дополнительного одобрения Политбюро. Эфраим Маркович Склянский
[Из открытых источников]
Эфраим Маркович Склянский
[Из открытых источников]
Вошедший в нее Троцкий поставил во главу угла не всемерное ускорение германской революции, на чем настаивал Зиновьев, а государственные интересы нэповской России, не готовой к новому военному столкновению с западными державами. Об этом свидетельствовало его письмо заместителю Э. М. Склянскому по горячим следам обсуждения германского вопроса. В нем он подчеркивал, что «все усилия нашей дипломатии должны быть и будут направлены на то, чтобы немецкая революция не осложнилась международными военными конфликтами». Следует отдавать себе отчет в том, что антантовская интервенция в Германии станет «только вступлением к удару против Советского Союза», который следует оттягивать на возможно поздний срок[998]. В переводе на понятный массам язык это означало, что, задушив германскую революцию, Антанта не остановится на ее восточных границах. Не прошло и пяти лет после окончания Первой мировой войны, а перед народами Европы вновь возникал все тот же призрак. Чтобы как минимум обезопасить Советскую Россию от удара с запада, Троцкий внес предложение о том, чтобы сделать польскому правительству «открытое демонстративное предложение» о заключении договора, подразумевавшего невмешательство в германские дела в случае начала в этой стране революции. Чтобы усилить давление на Польшу, он подготовил проект приказа по Красной армии, который требовал от нее быть готовой к конфликту с соседней страной.
 Протокол № 1 совместного заседания пленумов ЦКи ЦКК РКП(б), в ходе которого разбирался вопрос о внутрипартийном положении в связи с письмами Л. Д. Троцкого
25–27 октября 1923
[РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 2. Д. 104. Л. 1]
Протокол № 1 совместного заседания пленумов ЦКи ЦКК РКП(б), в ходе которого разбирался вопрос о внутрипартийном положении в связи с письмами Л. Д. Троцкого
25–27 октября 1923
[РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 2. Д. 104. Л. 1]
Большинство членов Политбюро охладило пыл наркомвоенмора, выступив против публикации приказа в советской прессе. Прошло еще всего несколько недель, и усилиями Сталина эта довольно ординарная инициатива была возведена в ранг легкомысленной авантюры, характерной для «политики волевых импульсов» Троцкого: «Мы не можем в данный момент делать такие предложения, которые могут выставить нас как застрельщиков разрыва и инициаторов войны с Польшей, привести нас к разрыву или полуразрыву еще до наступления германской революции»[999]. Очевидная и довольно безыскусная дискредитация Троцкого свидетельствовала о том, что восемь членов Политбюро, подписавшихся под ответом на его заявление от 19 октября 1923 года, далеко не были уверены в своем превосходстве. В их памяти еще свежа была горячая речь Троцкого на заседании пленума ЦК 25 сентября о том, что нынешний состав ЦК КПГ «проникнут фатализмом, ротозейством», а его бездеятельность обрекает на гибель назревающую германскую революцию[1000]. Критикуя (отчасти заслуженно) пассивность немецких коммунистов, Троцкий думал о своей собственной судьбе — об этих словах можно было бы напомнить в случае их политического провала, заработав серьезный капитал. В том же духе ленинского активизма образца 1917 года (не так страшно забежать вперед, как плестись в хвосте событий) было выдержано и его требование о назначении точной даты начала германской революции[1001]. Ценой немалых усилий[1002] Троцкому удалось провести свою точку зрения — постановление Политбюро ЦК РКП(б) от 4 октября предписывало немецким коммунистам завершить подготовку вооруженного восстания к 9 ноября, пятой годовщине свержения монархии Гогенцоллернов. Последним, кто сдался в этом вопросе, был Карл Радек. Согласившись с «назначением терминов революции», он отметил важность правильного выбора оптимального момента, «когда совпадает стихийное движение пролетариата с организованным выступлением боевых сил партии»[1003]. Однако даже новый приступ мировой революции не примирил наследников еще живого Ленина. Сторонники Троцкого подписали так называемое письмо 46-ти, которое стало предметом острого обсуждения на октябрьском пленуме ЦК РКП(б). Масла в огонь разгоравшегося конфликта добавил Карл Радек, написавший перед отъездом в Дрезден заявление в поддержку Троцкого, выглядевшее как ультиматум Коминтерна, обращенный к партии большевиков[1004]. После его появления Клара Цеткин обратилась с письмом к Зиновьеву, потребовав изложить суть имеющихся разногласий. Зиновьев в очередной раз решил перестраховаться, обратившись за поддержкой к… самому Троцкому: «Она указывает на то, что эти разногласия кровным образом затрагивают и немецкую партию… Пока что я ответил ей только по телефону, что бывшие расхождения на пленуме ЦК ликвидированы. Но она настаивает на личном разговоре по этому поводу»[1005]. Троцкий, проиграв на пленуме первый раунд внутрипартийной схватки, взял паузу. Сохранился его обмен записками с Зиновьевым, датированными 29 октября 1923 года. Послание Троцкого написано на бланке наркома по военным делам, причем шапка зачеркнута — он был снят с этого поста незадолго до этого. Глава складывающейся оппозиции отреагировал на «недоуменный» вопрос Председателя ИККИ, откуда ему известно, что партии Коминтерна проинформированы о конфликте в большевистском руководстве. Троцкий написал: «О разногласиях немцы и французы говорят давно (т. Брандлер, со ссылкой на Вас, говорил мне о внутренних разногласиях как о причине, побудившей меня поставить вопрос о поездке в Германию). Против ответа т. Кларе Цеткин в предложенном Вами духе не возражаю». Ответ обличал трусоватое интриганство Зиновьева, который продолжал побаиваться Льва, против которого вел вместе со Сталиным тайную охоту: «Прилагаю проект письма к КЦ [Кларе Цеткин]. Прошу вернуть с Вашей подписью. Заявление Брандлера основано на какой-либо ошибке. Я ни слова не говорил Брандлеру о внутренних разногласиях. С Кларой Цеткин у меня (и Радека) были только разговоры — но только в духе того, что я пишу ей сейчас. О французах нечего и говорить. Никогда, никому из них я ни звука не говорил о разногласиях»[1006]. Германский Октябрь не состоялся в предписанные ему решением Политбюро сроки: ни 7, ни 9 ноября 1923 года. Все было решено уже во второй половине октября, когда Председатель КПГ Брандлер, трезво оценив ситуацию, дал сигнал к отбою. Вопрос «что делать» сменился вопросом «кто виноват», который стал серьезным катализатором дальнейшего обострения внутрипартийного конфликта как в германской, так и в российской компартии. Троцкий сразу же поставил вопрос ребром: «Правильна или неправильна была общая оценка положения? Правильно или неправильно было самое вступление [германских коммунистов. — А. В.] в саксонское правительство?» В случае признания ошибочности установки на вооруженное восстание вина падала не столько на Брандлера, сколько на руководство РКП(б) в целом. И здесь тактические соображения перевесили политическую принципиальность, которую левые историки незаслуженно приписывают оппозиционерам из «старой большевистской гвардии», умалчивая о том, что она проявляла себя только после отстранения их самих от рычагов власти[1007]. Не решившись поставить вопрос об ошибках большевистского руководства (так же, как Ленин в сентябре 1920 года признал ошибочность своего курса на «советизацию» Польши силами Красной армии), Троцкий и его соратники загнали сами себя в угол. Пытаясь обогнать сталинскую фракцию слева, высмеивая размытость ее формулировок в обращении к членам КПГ, они подчеркивали наличие в Германии революционной ситуации. Но в этом случае немецкие коммунисты, за спиной которых стояли Радек и Пятаков, оказывались главными виновниками саксонского поражения. Подчинив стратегию тактике, Троцкий убеждал членов «четверки», находившихся в Берлине, в том, что Правление КПГ продемонстрировало «хвостистское поведение». То, за что он вместе с Лениным боролся на Третьем конгрессе Коминтерна — учет коммунистами массовых настроений и завоевание на свою сторону большинства рабочего класса — ради сиюминутных интересов было «выброшено на помойку истории» (Троцкий любил это выражение и неоднократно его употреблял). Теперь генеральная линия большевизма выглядела иначе. «…наступление ведет меньшинство пролетариата — при благожелательном нейтралитете пассивной изверившейся массы. Конечно, какой-либо пустозвон увидит в такой концепции „бланкизм“. Но я даю здесь не рецепт и не стратегию, а характеризую возможный вариант исторического развития», — утверждал Троцкий[1008]. Вряд ли такой сдвиг влево был случайным — лидер такого масштаба отдавал себе отчет в том, что обвинение со стороны оппонентов в «правом уклоне» и «хвостизме» не оставит шансов на реванш. Чтобы избежать фронтальной атаки на Брандлера (и тем самым на своих сторонников в ЦК партии большевиков), Троцкий был вынужден прибегнуть к словесной эквилибристике: «Правильно оценив обстановку, она [компартия] не сумела поднять свою фактическую политику на уровень этой правильной оценки». «ЦК переселился на саксонские квартиры и прикрывал свою пассивность фаталистическим оптимизмом»[1009]. В итоге получалась парадоксальная ситуация — обе фракции в высшем эшелоне российской партии были готовы пожертвовать Брандлером, но затевали горячий и бесплодный спор о том, с какой мотивировкой провести это решение. Из-за болезни Троцкий не принял участия в заседании Президиума Исполкома Коминтерна 11–19 января 1924 года, но присоединился к тезисам Радека, которые пытались вывести из-под удара руководство КПГ и переносили акцент на объективные причины германского поражения. В них содержалась следующая оценка событий: «Если бы партия в октябре объявила восстание, как это предлагали берлинские товарищи, она лежала бы сейчас со свернутой шеей. В ходе отступления партия совершила крупные ошибки… но самый переход в отступление соответствовал положению вещей и Исполкомом одобряется»[1010].

 После поражения в первом туре внутрипартийной схватки Троцкий начал разрабатывать план новой кампании, сделав акцент на различиях в оценке международного положения и перспектив мировой революции
Письмо Л. Д. Троцкого К. Б. Радеку
16 февраля 1924
[РГАСПИ. Ф. 326. Оп. 2. Д. 23. Л. 1–2]
После поражения в первом туре внутрипартийной схватки Троцкий начал разрабатывать план новой кампании, сделав акцент на различиях в оценке международного положения и перспектив мировой революции
Письмо Л. Д. Троцкого К. Б. Радеку
16 февраля 1924
[РГАСПИ. Ф. 326. Оп. 2. Д. 23. Л. 1–2]
Оппозиционный проект тезисов был отклонен вначале в Политбюро, а затем и большинством Президиума ИККИ, принявшим за основу зиновьевскую линию на преодоление «правого уклона» в КПГ. Это стало поражением не только сторонников Троцкого в Коминтерне, но и Коминтерна в целом, надолго сбив шкалу размежевания между «правыми» и «левыми» и закрепив практику произвольного приклеивания политических ярлыков. Конструирование тех или иных уклонов ради сохранения своего собственного лица все больше становилось привычной практикой в РКП(б) и Коминтерне, что искореняло любые формы плюрализма мнений, характерного для начального этапа истории коммунистического движения.
 Чан Кайши
1920-е
[Из открытых источников]
Чан Кайши
1920-е
[Из открытых источников]
Уклонившись от прямого столкновения по германскому вопросу, Троцкий позже резонировал по поводу решения Сталина отправить в Германию своего ставленника Аркадия Маслова: «Лояльность в такого рода вопросах, как во всех вообще партийных вопросах, не есть вопрос отвлеченной морали, а есть вопрос нравственно-политического сохранения партии»[1011]. Его морализаторство не знало границ, а география разногласий в Политбюро вышла за рамки европейского континента. Ни одной недели не проходило без того, чтобы Троцкий не встретился с деятелями культуры, искусства или лидерами национально-освободительного движения, симпатизировавшими большевикам. Вопреки обещаниям «беречь партию» он раскрывал своим собеседникам механику внутрипартийной борьбы. Так, в ноябре 1923 года он принял в своем кабинете Чан Кайши и других руководителей китайской партии Гоминьдан, высказавшись против прямой военной поддержки революционного движения в Поднебесной. «Мы не отказываемся от оказания военной помощи, но при теперешнем стратегическом соотношении военных сил она не принесет должного успеха. Большевики помогут китайским революционерам, обучая их военному делу в СССР»[1012]. Накануне китайская делегация приняла участие в заседании Исполкома Коминтерна, что было воспринято ею как особая честь. Чан Кайши выступил во вполне коммунистическом духе: «Гоминьдан предлагает, чтобы Россия, Германия и Китай после успеха революции в двух последних странах образовали союз трех крупных государств, усилиями которого мы смогли бы свергнуть капиталистическую систему во всем мире»[1013].
 Чтобы не обострять отношения с соперниками, Троцкий предпочел отказаться от защиты своей позиции на Пятом конгрессе Коминтерна
Письмо Л. Д. Троцкого В. Коларову
29 июня 1924
[РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 156. Д. 59. Л. 148]
Чтобы не обострять отношения с соперниками, Троцкий предпочел отказаться от защиты своей позиции на Пятом конгрессе Коминтерна
Письмо Л. Д. Троцкого В. Коларову
29 июня 1924
[РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 156. Д. 59. Л. 148]
4.5. Один против всех
Одержав победу в германском вопросе, Зиновьев, который на первых порах олицетворял собой фракцию большинства, продолжал наступать на позиции Троцкого. Председатель ИККИ, в руках которого были сосредоточены нити подготовки Пятого конгресса Коминтерна, сделал все для того, чтобы превратить его в судилище над своим главным оппонентом. Делегаты компартий один за другим выходили на трибуну, чтобы осудить троцкистскую оппозицию как мелкобуржуазный уклон, следуя духу и букве резолюции XIII съезда РКП(б). Решением специальной комиссии конгресса Борис Суварин, опубликовавший в газете «Юманитэ» ряд статей нашего героя, был исключен из ФКП. В отчетном докладе РКП(б) конгрессу, с которым выступил Рыков, особое место отводилось разоблачению оппозиции, причем докладчик старательно избегал упоминания имени Троцкого, а тем более слова «троцкизм». Вопрос о том, есть ли смысл открывать дискуссию по данному вопросу, вообще не был поставлен на голосование. Это вызвало явное недовольство большинства иностранных делегатов. 28 июня 1924 года представители четырех компартий демократических стран Запада обратились в Президиум с предложением «предоставить 2 часа для изложения своей точки зрения выдающемуся представителю оппозиции РКП»[1014]. Естественно, такое предложение, звучавшее почти как вызов большевистской дисциплине, сопровождалось клятвенными заверениями, что его инициаторы солидарны с курсом ЦК РКП(б). И все же в нем просматривалось пусть скрытое, но все же ощутимое сопротивление секций Коминтерна стремлению изолировать их от решения «русского вопроса». На следующий день Президиум конгресса обратился к Троцкому с просьбой выступить в прениях: «Вам, разумеется, известен громадный интерес, с которым секции КИ относились и теперь еще относятся к этому вопросу. Какую бы позицию руководящие русские товарищи ни занимали, они обязаны всесторонне осветить и сформулировать перед Конгрессом этот вопрос, столь глубоко волновавший первую партию Коммунистического Интернационала»[1015]. Сославшись на то, что возобновление дискуссии означало бы выражение несогласия с решением Тринадцатого съезда партии, Троцкий от выступления отказался[1016]. Что стояло за таким неожиданным шагом, который равнялся признанию собственной неправоты? Вероятно, после череды чувствительных поражений Троцкий предпочел на время выйти из игры, надеясь, что рано или поздно его способности будут востребованы вновь. Нельзя исключать и того, что его нежелание изложить свои взгляды являлось результатом устного соглашения со сталинско-зиновьевской фракцией: молчание могло быть оплачено обещанием возврата к конструктивной работе в Политбюро. Л. Д. Троцкий среди делегатов Пятого конгресса Коминтерна
17 июня — 8 июля 1924
[РГАСПИ. Ф. 492. Оп. 2. Д. 101]
Л. Д. Троцкий среди делегатов Пятого конгресса Коминтерна
17 июня — 8 июля 1924
[РГАСПИ. Ф. 492. Оп. 2. Д. 101]
Так или иначе, ни один из конгрессов Коминтерна не услышал выступлений Троцкого как представителя инакомыслящих в большевистской партии. Принятая без дискуссии резолюция, повторяя тезис о мелкобуржуазном характере оппозиции в РКП(б), неожиданно для иностранных делегатов дополнила его обвинением в «правом уклоне» из-за солидарности с рядом оппозиционных групп в компартиях Польши, Франции и Германии. Этот ярлык, который Троцкий отныне понесет как крест и, отправляясь в ссылку, «передаст» бухаринцам, станет синонимом административного кнута во всем Коминтерне. После этого никто из коммунистов, верных его генеральной линии, не посмеет даже подумать о том, что и «правые» могут оказаться правы. В первой половине 1924 года Троцкий еще выбирал осторожные выражения при характеристике положения в Коминтерне, ограниваясь ссылками на Ленина, который призывал иностранные компартии искать собственные источники финансирования, чтобы проложить путь к самостоятельной жизни. Он выступил против «чрезмерного вмешательства Исполкома во внутренние персональные вопросы партий». Что касается глобальной перспективы мировой революции, то для ее победы коммунистам придется дождаться завершения периода «демократического империализма», о чем он говорил уже в ходе работы Четвертого конгресса Коминтерна и за что был обвинен в оппортунизме.

 В заявлении Пленуму ЦК РКП(б) Л. Д. Троцкий написал о готовности отказаться от дальнейших дискуссий и сложить с себя полномочия председателя Реввоенсовета
15 января 1925
[РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 156. Д. 60. Л. 13–17]
В заявлении Пленуму ЦК РКП(б) Л. Д. Троцкий написал о готовности отказаться от дальнейших дискуссий и сложить с себя полномочия председателя Реввоенсовета
15 января 1925
[РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 156. Д. 60. Л. 13–17]
Более подробно Троцкий разбирал причины поражения «германского Октября». Признавая (в отличие от Зиновьева) вину в этом «русских товарищей», он искал для нее объективные причины: «Ошибка заключалась в том, что установку на революцию мы взяли уже летом, приблизительно в июле, а сознательно взяться за ее осуществление решились только в октябре. Он [Троцкий] сравнивает положение с поведением всадника, дающего лошади шпоры перед самым прыжком через ров, вместо того чтобы заранее развить быстрейший ход. Тут лошадь либо поворачивает в последний момент, либо падает в яму»[1017].
 Макс Истмен
Декабрь 1922
[РГАСПИ. Ф. 491. Оп. 2. Д. 263. Л. 1]
Макс Истмен
Декабрь 1922
[РГАСПИ. Ф. 491. Оп. 2. Д. 263. Л. 1]
Сторонники Троцкого в зарубежных компартиях прекрасно видели, что в спорах речь идет не столько о политических вопросах, сколько о дискредитации их лидера. Французский коммунист Росмер в начале 1925 года подводил итоги борьбы с ним в уходящем году: «Был мобилизован Интернационал. Гром и молнии сыпались на упрямые секции, которые отказывались высказаться вслепую о важных вопросах, которых они не знали или знали мало. Эта работа была поручена эмиссарам Зиновьева. Они громко кричали „долой фракционизм“ и в то же время фабриковали фракции. Это было доброе время для ограниченных вульгарных честолюбцев, которые отравляют послевоенное рабочее движение, а сейчас получили возможность выдвинуться»[1018]. Троцкий прибегал к лавированию, реагируя на растущее давление со стороны сталинского большинства. 15 января 1925 года он написал самокритичное письмо пленуму ЦК, на котором не смог участвовать ввиду болезни: «Я говорю, что большевизм подготовлялся к своей борьбе в революции непримиримой борьбой не только с народничеством и меньшевизмом, но и с „примиренчеством“, т. е. с тем течением, к которому я принадлежал»[1019].

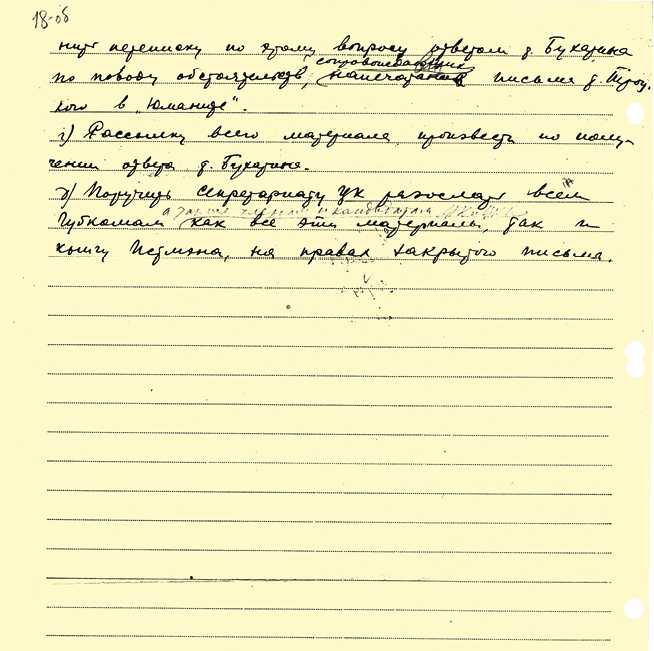 Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) о предложениях Президиума ИККИ относительно книги М. Истмена
27 августа 1925
[РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 163. Д. 504. Л. 18–18 об.]
Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) о предложениях Президиума ИККИ относительно книги М. Истмена
27 августа 1925
[РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 163. Д. 504. Л. 18–18 об.]
Тем самым он подбросил своим оппонентам — Зиновьеву и Сталину, а позже и Бухарину важный аргумент для своей собственной дискредитации. Впрочем, «примиренцев» клеймил в своих работах еще Ленин, да и будущие «правые» в ВКП(б) во главе с Бухариным в конце концов будут фигурировать под этим псевдонимом. Следующим ходом в кампании дискредитации Троцкого стало предъявленное ему от имени Политбюро требование осудить появившуюся на Западе весной 1925 года книгу американского журналиста Макса Истмена, который симпатизировал большевикам и неоднократно бывал в Советской России. Книга называлась «После смерти Ленина» и раскрывала многие секреты «кремлевской кухни». Истмен был знаком с Троцким, брал у него интервью и восхищался масштабом его личности. По его мнению, только «создатель Красной армии» имел право претендовать на ленинское наследство, на его фоне остальные лидеры РКП(б) выглядели бледными троечниками. Вряд ли издание книги было согласовано с ее главным героем — Троцкий был вынужден оправдываться на страницах «Правды», назвав себя жертвой интриги и пообещав ответить западным злопыхателям брошюрой «Куда идет Англия»[1020]. Попытавшись сыграть на опережение, он направил Сталину объяснительную записку, в которой признал, что давал биографические материалы Истмену, но не передавал ему никаких документов о внутрипартийной дискуссии. То, что «английские меньшевики» воспользовались выходом в свет книги, не имеет ко мне никакого отношения, подчеркивал Троцкий, отметив в заключение, что «уже около полугода, как я не получаю документов Коминтерна». Письмо было выдержано в примирительном тоне и заслуживало того, чтобы похоронить потенциальный конфликт[1021]. Однако дело на этом не закончилось. Амбиции Троцкого ни для кого не были секретом, поэтому появление книги было воспринято его оппонентами в Политбюро как попытка сохранить международный авторитет и вновь поставить вопрос о деятельном участии в делах РКП(б) и Коминтерна. Первым забил тревогу Сталин, отличавшийся особой подозрительностью и выступавший вместе с Зиновьевым застрельщиком всех кампаний по дискредитации Троцкого. Он не только «немедля познакомился с содержанием этой книги», но и «предпринял меры к переводу книги Истмена на русский язык и разослал перевод членам и кандидатам Политбюро на их усмотрение»[1022]. Смысл этого шага был понятен без комментариев, хотя генсек не обошелся без указания на то, что «книжка Истмена является клеветнической, что она принесет громадную пользу (уже принесла!) мировой контрреволюции и нанесет серьезный ущерб всему мировому революционному движению». В подходящих случаях Сталин не пренебрегал судить о тех или иных событиях во всемирном масштабе. В ответ на решение Политбюро Троцкий написал новое письмо для печати с формальным осуждением содержания книги Истмена, но и оно не удовлетворило Сталина. Последний предложил довести переписку по данному вопросу до сведения партийного актива и даже подготовить ее публикацию на иностранных языках, однако не получил поддержки соратников, которые сочли, что это уж слишком. Зато Коминтерн «отработал» по полной. Вначале Мануильский предоставил газете французских коммунистов «Юманите» первый вариант опровержения Троцкого (вслед за ним был опубликован и второй, покаянный), а затем Куусинен внес в Политбюро просьбу Президиума ИККИ дать все материалы, связанные с публикацией книги Истмена, «для ознакомления ЦК важнейших компартий»[1023]. Естественно, эта просьба была немедленно удовлетворена. Вынужденный под давлением Сталина опровергать общеизвестные факты вроде сокрытия политического завещания Ленина, Троцкий выглядел трусом и лжецом. Один из его рядовых сторонников восклицал: «Это ужас, просто ужас! Непонятно, зачем Лев Давидович это сделал. Ведь таким письмом он голову на плаху положил»[1024]. Можно не сомневаться в том, что данное мнение разделяли его сторонники в зарубежных компартиях. В очередной раз уклонившись от столкновения на проигрышной позиции, главный оппозиционер лишь на какой-то момент приостановил собственное движение вниз. Это прекрасно видел Сталин: «Своим ответом на книгу Истмена Троцкий предопределил свою судьбу, т. е. спас себя»[1025]. Троцкий на удивление равнодушно отнесся к разгрому «ленинградской оппозиции» на XIV съезде ВКП(б) в декабре 1925 года, хотя и отдавал себе отчет в том, что методы борьбы с ней не имели ничего общего с внутрипартийной демократией. В тот момент «обезоруженный пророк» пошел на контакт со Сталиным и Бухариным, которые, в свою очередь, выражали готовность к примирению для того, чтобы не допустить его блока с остатками зиновьевцев[1026]. Троцкий получил разрешение «русской делегации» выступить против только что вышедшей книги Зиновьева под названием «Ленинизм»: «Так как в книге т. Зиновьева, которая ныне издается на иностранных языках, заключается полемика против меня — полемика, которую я считаю совершенно несостоятельной и компрометирующей теоретический уровень нашей партии, — то я прошу разрешить мне выступить с антикритикой также и на иностранных языках. Рукопись своей работы я до публикации представлю нашей делегации [в Коминтерне] или Политбюро»[1027].
 После поражения зиновьевской оппозиции Троцкий решил включиться в спор о том, чья интерпретация ленинских идей является единственно верной
Письмо Л. Д. Троцкого О. А. Пятницкому
4 февраля 1926
[РГАСПИ. Ф. 508. Оп. 1. Д. 106. Л. 1]
После поражения зиновьевской оппозиции Троцкий решил включиться в спор о том, чья интерпретация ленинских идей является единственно верной
Письмо Л. Д. Троцкого О. А. Пятницкому
4 февраля 1926
[РГАСПИ. Ф. 508. Оп. 1. Д. 106. Л. 1]
Не расстался с надеждой на примирение Троцкий и после заседания Политбюро 18 марта 1926 года, когда фракция большинства, устраняя Зиновьева с поста председателя Ленсовета, действовала максимально жестко. Наш герой попытался подняться над схваткой, настаивая на необходимости исправления внутрипартийного режима в целом: «Тов. Сталин совершенно прав был в той части речи, когда говорил, что победа над ленинградской оппозицией была обеспечена не только давлением центрального аппарата, но и благодаря стремлению ленинградских партийцев освободиться от чрезмерного зажима местного аппарата. Правильно! Но что, если окажется, что они попали из огня да в полымя? Разве нынешний режим в Москве позволяет думать, что новый режим в Ленинграде будет мягче?» Троцкий осуждал и саму оппозицию, и методы борьбы с ней, подчеркивая, что они неизбежно приведут «к принижению и к сужению идейной верхушки. А что значит это сужение? Оно означает неизбежное усиление аппаратных методов. Почему? Потому что недостаток силы убеждения приходится возмещать принуждением»[1028]. Уже на следующий день он предлагал Бухарину встретиться и подумать о разрешении кризиса: «Хотя из вчерашнего заседания Политбюро мне стало совершенно ясно, что в Политбюро окончательно определилась линия на дальнейший зажим, со всеми вытекающими отсюда последствиями для партии, но я не хочу отказаться еще от одной попытки объяснения, тем более что Вы сами мне предложили переговорить о создавшемся положении»[1029]. Одновременно Троцкий присматривался и к зиновьевцам, презрение к которым не скрывал ни до, ни после XIV съезда. Для фракции большинства в Политбюро уже в апреле 1926 года было очевидно, что Пятаков и Троцкий «делают попытку повести за собой Каменева — Зиновьева в борьбе за власть»[1030]. Сплочение оппозиционных сил в руководстве ВКП(б) против фракции Сталина являлось только вопросом времени.
4.6. Во главе объединенной оппозиции
Объединение оппозиционеров шло на фоне событий в Великобритании и Китае, которые проходили по ведомству Коминтерна. Троцкий выдвинул против его руководства обвинение в том, что после ухода Ленина его аппарат захватил в свои руки все рычаги воздействия на иностранные компартии, превратив последние в марионетки Кремля. Еще до окончательного оформления блока со сторонниками Зиновьева и Каменева он направил делегации ВКП(б) в Коминтерне резкое письмо, датированное 18 июня 1926 года: «Надо отдать себе совершенно ясный отчет в том, что одним из важнейших источников скрытого замаскированного, но тем более действительного оппортунизма в Коминтерне является ныне аппаратно-бюрократический режим в самом Коминтерне и в его руководящей партии… Поскольку европейские коммунистические партии, т. е. главным образом их руководящие органы, организационно равнялись по аппаратным сдвигам и перегруппировкам в ВКП, постольку бюрократизм внутри иностранных партий являлся прежде всего отражением и дополнением бюрократизма внутри ВКП». Те зарубежные коммунистические лидеры, которые поднимали голос против этой угрозы, «либо выбрасывались из партии вообще, либо загонялись в правое (нередко мнимо-правое) крыло, либо, наконец, попадали в оппозицию слева». В партиях Коминтерна происходил негативный кадровый отбор, причиной которого являлся «административно-бюрократический нажим сверху, из Москвы»[1031]. Лояльные Исполкому лидеры компартий нового поколения были вынуждены прибегать к «двойной бухгалтерии» — внешне демонстрируя свою лояльность и транслируя продиктованные Исполкомом лозунги, они на деле вели против него закулисную борьбу. Наряду с изобличением бюрократизма письмо Троцкого наносило удар по теории построения социализма в одной стране, подчеркивая, что она трансформирует задачи отдельных секций и Коминтерна в целом, а значит — может сыграть фатальную роль в их дальнейшей судьбе. Но тот реальный поворот, который был сделан Советской Россией в середине 1920-х годов, получал совершенно гипертрофированные масштабы. «Если стать на ту точку зрения, — писал Троцкий, — что советская власть, опираясь на союз рабочих и крестьян, построит социализм совершенно независимо от того, что будет происходить во всем остальном мире — при условии только, если советская республика будет ограждена от военных интервенций, — то роль и значение коммунистических партий сразу отодвигаются на второй план», их задачей становится уже «не завоевание власти, а противодействие интервенционистским покушениям империализма»[1032]. Отсюда автором выводился разрыв между установкой на сохранение СССР как плацдарма мировой революции и необходимостью ее расширения на остальные страны. Недиалектичность мышления присуща здесь не одной из спорящих сторон, а обеим, поскольку каждая из них сохраняла догматическую трактовку современности как кануна социалистической революции. В результате идейные баталии в ВКП(б) и Коминтерне сводились к задаче «вытолкнуть» противника за рамки общей идейно-теоретической платформы, что, с одной стороны, придавало им черты схоластического спора, а с другой — усиливало соблазн разрешить их административными мерами. Растущий накал страстей не могли остудить никакие решения Политбюро, этот орган давно уже перестал олицетворять собой коллективное руководство. 12 августа 1926 года Политбюро вынесло строгий выговор Троцкому за то, что тот назвал Сталина «могильщиком партии и революции»[1033]. Людей, обменивающихся такими «комплиментами», уже трудно представить себе сидящими за одним столом и даже в одном зале. Взаимное недоверие, прикрываемое словами о большевистском единстве, переросло в плохо скрываемую ненависть, общее дело, во имя которого деятели революции пришли к власти, отходило на второй план, уступая место личным амбициям и коварным интригам. О самооценке Троцкого летом 1926 года может немало рассказать стенограмма встречи с делегацией рабочей молодежи из Германии, еще не введенная в научный оборот[1034]. Троцкий с присущим ему полемическим блеском демонстрировал знание как международной обстановки, так и новинок научной литературы. Например, о переведенный на русский язык работе Дж. М. Кейнса, посвященной недостаткам Версальской системы, он заявил следующее: «…его книжка доказывает, что написал ее довольно порядочный и умный человек из рядов буржуазии, сравнительно мало понимающий в развитии социализма».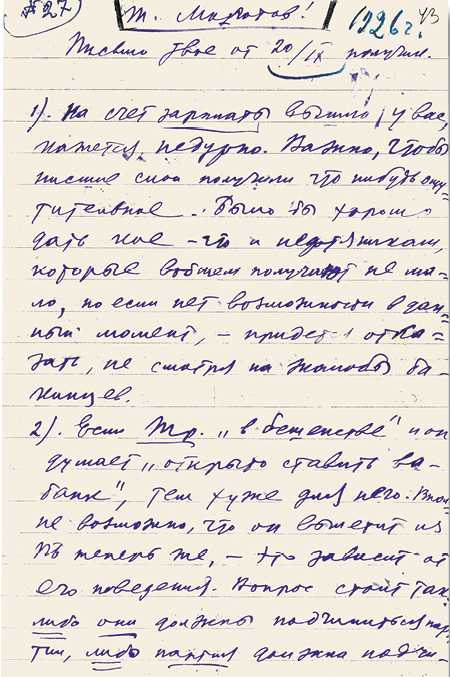
 «Если Троцкий „в бешенстве“, и он думает „открыто ставить ва-банк“, тем хуже для него. Вполне возможно, что он вылетит из ПБ теперь же, — это зависит от его поведения»
Письмо И. В. Сталина В. М. Молотову
23 сентября 1926
[РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 1. Д. 5388. Л. 43–44 об.]
«Если Троцкий „в бешенстве“, и он думает „открыто ставить ва-банк“, тем хуже для него. Вполне возможно, что он вылетит из ПБ теперь же, — это зависит от его поведения»
Письмо И. В. Сталина В. М. Молотову
23 сентября 1926
[РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 1. Д. 5388. Л. 43–44 об.]
Но как только его собеседники позволили себе критические замечания по поводу репрессий против меньшевиков и эсеров, которые продолжались в Советской России, Троцкий буквально взорвался, заявив, что для нас нет социалистов, а есть контрреволюционеры и за вопросом об их судьбе следует обращаться к Дзержинскому. «Знаете, мы рассматриваем вопрос не с сентиментальной точки зрения. Тот, кто нам вредит в строительстве социалистического государства, должен быть обезврежен… И если эти маленькие господа, называйте их меньшевиками или эсерами, хотят делать нам затруднения в момент, когда мы должны обеспечить свое существование в борьбе с капиталистическим миром, мы всегда готовы посадить их под замок, а если дело принимает серьезный оборот, то и расстрелять»[1035]. «Безоружный пророк» все еще считал себя частью большевистской элиты и размышлял о судьбах революции так же, как это делали французские якобинцы после установления собственной диктатуры. Проигрывая в организационно-кадровой борьбе, оппозиция безоговорочно верила в силу идей, подразумевая под этим собственное полемическое мастерство. Троцкий, этот коммунистический Дон Кихот, бросился в бой с ветряными мельницами «центризма», как он называл бесхарактерность и отсутствие идейного стержня у партийного аппарата. Уроки оппозиционной борьбы могли бы научить его тому, что этот аппарат проголосует не за ту точку зрения, которая верна, а за ту, которая выгодна для его собственного выживания. И наоборот, он будет аргументировано оправдывать любой ярлык, приклеенный поверженным оппонентам своим непосредственным начальством. Одним из таких ярлыков стало одобренное XV конференцией ВКП(б) (26 октября — 3 ноября 1926 года) утверждение, что троцкизм превратился в социал-демократический уклон. Динамика взаимных обвинений демонстрировала, что до «прислужников мирового капитала» и «фашистских агентов» оппозиционерам в ВКП(б) осталось не так уж далеко. Троцкий прекрасно понял, куда его загоняют. В своей речи на конференции он заявил: «В чем, товарищи, объективная опасность резолюции о социал-демократическом уровне? Опасность в том, что она приписывает нам такие взгляды, из которых необходимо вытекает не только политика фракционности, но и политика двух партий»[1036]. А с точки зрения революционера, нет необходимости делиться властью — Троцкий все еще считал завоеванную в октябре 1917 года власть своей. Тезис о недопустимости двух мнений в стране пролетарской диктатуры, не говоря уже о двух рабочих партиях, — вот ахиллесова пята его оппозиции, равно как и любого внутрипартийного протеста, не решавшегося выйти за рамки фетиша пролетарской диктатуры и собственной авангардной роли. Впрочем, иногда в сухом политэкономическом анализе, обильно сдобренном марксистской терминологией, прорывались и личные нотки, связанные с внутренними сомнениями в правильности избранного пути. Обращаясь к делегатам партийной конференции, Троцкий маскировал их сослагательным наклонением: «Думаете ли вы, что капитализм может обеспечить себе новую полосу подъема, расширенное воспроизведение того процесса, который был до империалистической войны? Если считать, что это возможно (а я полагаю, что на это шансов у капитализма никаких нет), если теоретически это допустить, то это означало бы, что капитализм в европейском мировом масштабе своей исторической миссии еще не исчерпал, что это не империалистический загнивающий капитализм, а развивающийся капитализм, ведущий хозяйство и культуру вперед, — но это означало бы, что мы пришли слишком рано»[1037]. Даже высказанная в виде предположения, заключительная фраза «пророка» отражала весь трагизм исторической развилки, на которой оказалась диктатура большевиков на исходе нэпа.
 Протокол голосования членов Политбюро ЦК ВКП(б) об отклонении поправок Л. Д. Троцкого к тезисам Н. И. Бухарина, подготовленным для выступления на Седьмом пленуме ИККИ
24 ноября 1926
[РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 163. Д. 607. Л. 5]
Протокол голосования членов Политбюро ЦК ВКП(б) об отклонении поправок Л. Д. Троцкого к тезисам Н. И. Бухарина, подготовленным для выступления на Седьмом пленуме ИККИ
24 ноября 1926
[РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 163. Д. 607. Л. 5]
Вторая половина 1926 года оказалась богатой на внутрипартийные коллизии. Не успело утихнуть эхо дебатов на Пятнадцатой конференции, как начался Седьмой расширенный пленум ИККИ, где при обсуждении «русского вопроса» схлестнулись все те же лица. Еще до его открытия Троцкий написал обширное письмо с критикой тезисов Бухарина, которому впервые предстояло стать основным докладчиком от Исполкома Коминтерна. Однако Политбюро вслед за «русской делегацией» отказалось рассматривать поправки к докладу, сочтя их «неприемлемыми»[1038]. Седьмой пленум наглядно продемонстрировал деградацию идейно-политической борьбы в Коминтерне. Обилие цитат из произведений классиков дополнялось ворохами вырезок из «вражеских» газет, хвалящих оппонента, этот прием, которым пользовался еще Ленин, с равным успехом применяли и Сталин, и Троцкий. Быстрая смена ударных аргументов в арсенале «объединенной оппозиции» свидетельствовала о том, что на первый план выдвигалась задача дискредитации сталинско-бухаринского большинства любой ценой. В письме Н. К. Крупской Троцкий выражался уже без дипломатических уловок: «Сталин и Бухарин изменяют большевизму в самой его сердцевине — в пролетарском революционном интернационализме»[1039]. На Седьмом пленуме наш герой произнес одну из своих самых блестящих речей, сосредоточив внимание на критике теории построения социализма в одной стране, назвав ее даже «социалистической доктриной Монро». Его анализ был основан на категории глобальной политэкономии — «из изолированного положения эпохи военного коммунизма мы все больше выходим, включаясь в систему мировых хозяйственных связей и взаимозависимостей»[1040]. С Троцким согласился его главный оппонент Бухарин: действительно, в случае блокады со стороны ведущих капиталистических государств мы не погибнем, но темпы нашего развития значительно замедлятся. Однако тот же Бухарин вместе со Сталиным сделал все возможное для того, чтобы зафиксировать в резолюции пленума два важных положения: во-первых, что Зиновьев и Каменев перешли в идейный лагерь троцкизма, и, во-вторых, что сам троцкизм стал «социал-демократической отрыжкой». Как ни странно, в решениях пленума на было ожидаемых дисциплинарных мер против оппозиционеров. Не исключено, что это стало платой за умеренность их выступлений, в которых не поднимался самый острый вопрос о термидорианском перерождении партии и государства. Идея «сокрушения всевластия аппарата» и возвращения к «истинному» Коммунистическому Интернационалу будет проходить красной нитью через все последующие работы Троцкого, который в славном прошлом будет черпать энергию для поддержания у своих сторонников веры в близящуюся мировую революцию. И чем дальше будет уходить это славное прошлое, тем более изолированными окажутся он сам и его немногочисленные последователи. В его работах встречаются рассуждения о том, что один революционный рабочий лучше сотни мелких лавочников. Жизнь наказала Троцкого за элитарность и догматическое преклонение перед абстрактным пролетариатом, граничившие с социальным расизмом. Она увела живой поток рабочего движения в сторону от троцкизма, оставшегося в русле идейных воззрений большевиков образца 1917 года.
4.7. Китайская революция и английская стачка
Наряду с внутриполитическими вопросами важную роль в новом витке противостояния играл и коминтерновский фронт, в свою очередь, состоявший из нескольких удаленных друг от друга плацдармов. Как это часто бывало в истории большевизма, за тем или иным «деловым» спором скрывались личные амбиции вождей, которые предпочитали вести друг с другом гибридную войну, не открывая забрала. Речь шла прежде всего о судьбах китайской революции, в которую Москвой было вложено немало финансовых и военных средств. Существует точка зрения, что в начале 1920-х годов китайские коммунисты строили свою стратегию и тактику по лекалам «перманентной революции» Троцкого — модели, которая не делала принципиальных различий между развитыми и развивающимися странами, подводя их под общий знаменатель глобального кризиса капиталистической системы[1041]. Троцкий датировал исходную точку разногласий в Политбюро по проблемам китайской революции началом 1926 года, хотя документы свидетельствуют о том, что в тот момент он старался сохранить рабочую атмосферу в этом органе вопреки всем попыткам его изолировать. Развал «семерки» и выступление «ленинградской оппозиции» на Пятнадцатом съезде изменили соотношение сил — сталинско-бухаринская фракция неуклонно набирала силу и влияние. Для Троцкого вопрос о примирении с ней уже не стоял, но он пытался как минимум добиться того, чтобы скоординировать работу государственных, партийных и коминтерновских структур на этом направлении. Именно он предложил направить в Китай группу экспертов для того, чтобы те на месте смогли разобраться в хитросплетениях властных структур в этой стране[1042]. Троцкий лояльно участвовал в работе комиссии Политбюро, которая представила развернутые тезисы о перспективах политики СССР в отношении Китая и Японии[1043]. Его авторство выдает глобальный подход к оценке событий на Дальнем Востоке — в условиях стабилизации своего внутриполитического положения западные державы обратили внимание на этот регион, усилив свою экспансию. «В этих условиях руководящие революционные силы Китая, а тем более Советское государство, должны сделать все для того, чтобы затруднить создание единого империалистического фронта против Китая». При этом представителям военных, дипломатических и коминтерновских структур, отправленным в эту страну, строго указывалось на недопустимость «великодержавных замашек, компрометирующих советскую власть и вызывающих представление о ее империализме»[1044]. Что касается союза КПК и Гоминьдана, то они выступали в тезисах как составные части народно-революционного движения, совместно контролировавшие его воинские соединения. Весной 1926 года Чан Кайши преподнес оппозиционерам важный «подарок», начав вытеснение китайских коммунистов из политических и армейских структур своего движения. После некоторых раздумий Троцкий все же поставил вопрос о выходе КПК из Гоминьдана, на что Политбюро столь же незамедлительно отреагировало: «…признать вопрос о разрыве между Гоминьданом и компартией имеющим первостепенное политическое значение. Считать такой разрыв совершенно недопустимым». При этом на китайских коммунистов возлагалась явно невыполнимая задача раскола национального движения и поддержки еголевого крыла («идти на внутренние организационные уступки левым гоминьдановцам», «вести дело к исключению правых гоминьдановцев»)[1045]. В тех условиях это выглядело как призыв к битве Давида с Голиафом, вот только у первого не было никаких мифических ресурсов. Это прекрасно понимал Троцкий, который расчетливо ударил в точку, крайне болезненную для своих оппонентов. 30 августа 1926 года он излагал Радеку свои аргументы против дальнейшего пребывания КПК в Гоминьдане: «Очень важно, на мой взгляд, сопоставить положение дел в Китае с положением в Индии. Почему индусская компартия не входит ни в какую национально-революционную организацию?.. Политически вопрос ставится так: обречена ли компартия на длительный период времени на роль пропагандистского кружка, вербующего отдельных единомышленников (внутри революционно-демократической партии), или же компартия может претендовать уже в ближайшую эпоху на руководство рабочим движением? В Китае несомненны условия этого второго порядка»[1046]. В таком же ключе он вел диалог и с китайскими коммунистами, правда, освобождая их от ответственности за «ошибки, давно проверенные на опыте других стран». Как обычно, корнем всех бед выступала сталинская фракция: «Пребывание в Гоминьдане, наперекор всему ходу вещей, было продиктовано из Москвы как высшая будто бы заповедь ленинизма. Китайским коммунистам ничего не оставалось, как принять те политические выводы, которые вытекали из этой организационной заповеди»[1047]. Современные исследователи соглашаются с Троцким в том, что тот не имел никаких шансов на успех, противодействуя сталинской фракции в китайском вопросе[1048]. Тем не менее в марте 1927 года наш герой открыл новый фронт внутрипартийной дискуссии, призвав поддержать выдвинутый оппозиционерами лозунг образования Советов в этой стране (с учетом особой позиции Зиновьева и Радека вопрос о немедленном выходе КПК из Гоминьдана сознательно обходился). «Кровавая баня», устроенная 12 апреля 1927 года войсками Чан Кайши в Шанхае, нивелировала разногласия оппозиционеров в китайском вопросе. Большинство из них считало произошедшие события, несмотря на весь их трагизм, шансом для смены соотношения сил в руководстве ВКП(б), скорее всего такие настроение разделял и сам Троцкий[1049]. Лидеры оппозиции направили в Президиум ИККИ требование созвать внеочередной пленум «для обсуждения положения и исправления неверной линии, проводимой Коминтерном в Китае»[1050]. Арестованные китайские коммунисты
Апрель 1927
[Из открытых источников]
Арестованные китайские коммунисты
Апрель 1927
[Из открытых источников]
Троцкому потребовалось время для того, чтобы выяснить масштаб произошедшего переворота. Только 7 мая 1927 года появились его первые оценки, которые были оформлены как ответ на «тезисы для пропагандистов по китайскому вопросу», подготовленные Сталиным и утвержденные Политбюро двумя неделями ранее[1051]. «Именно в этой статье тогдашние взгляды Троцкого на проблемы китайской революции были изложены в наиболее систематическом виде»[1052]. Их суть оставалась прежней: не примыкание к буржуазии на разных фронтах, а ее беспощадное разоблачение и отмежевание от нее. В переписке с Радеком, который все еще считался главным экспертом оппозиции по китайскому вопросу, Троцкий продолжал настаивать на том, что курс на объединенную демократическо-коммунистическую партию, которого упорно держится сталинское большинство, игнорирует «классовую механику национального гнета», т. е. разное отношение тех или иных социальных слоев китайского общества к господству в стране иностранного империализма и его пособников. После окончательного разрыва Чан Кайши с коммунистами «политическое развитие Китая вступило в новую фазу, которая начинается с самостоятельного выступления рабочих»[1053]. Все эти положения позже войдут в арсенал Коминтерна, однако без указания на их автора. Восьмой пленум ИККИ, состоявшийся во второй половине мая 1927 года (последний, на котором Троцкий получил возможность выступить[1054]), не мог обойти вниманием вопросы международной повестки дня, которые проявились в его преддверии. Речь шла о перевороте Чан Кайши в Китае и о резком обострении советско-британских отношений, которое вошло в историю как «военная тревога». Троцкий активно готовился к пленуму, как член Исполкома он имел полное право на развернутое выступление перед своими бывшими соратниками[1055]. Он подготовил обширное письмо, заостренное против тезисов Сталина, посвященных китайской революции. Послесловие к нему выглядело как яркий политический памфлет (в этом жанре, как и в написании манифестов, наш герой был непревзойденным мастером): «Сталин обрушивается на лозунг Советов и поддерживает худшие, кружково-бюрократические предрассудки и суеверия тех горе-революционеров, которые боятся народных Советов и верят в священную кляксу чернил на бланке Гоминьдана»[1056]. Подобные театральные монологи, даже если бы они оказались доступны простым партийцам, вряд ли вызвали у них то же воодушевление, которое испытывали красноармейцы, слушая зажигательные речи Троцкого, выступавшего с подножки бронепоезда в нескольких километрах от линии фронта.
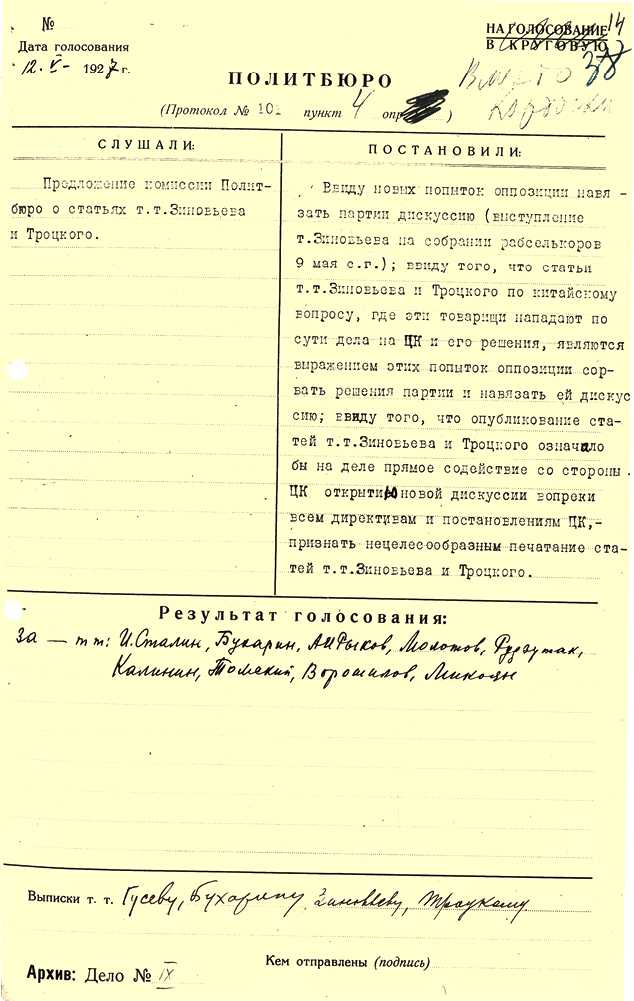 Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) о нецелесообразности публиковать статьи Л. Д. Троцкого и Г. Е. Зиновьева
12 мая 1927
[РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 163. Д. 638. Л. 14]
Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) о нецелесообразности публиковать статьи Л. Д. Троцкого и Г. Е. Зиновьева
12 мая 1927
[РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 163. Д. 638. Л. 14]
Его полемический жар и публицистические перехлесты в условиях, когда оппозиционерам уже нечего было терять, привели вначале к постановлению Политбюро о запрете публикации речей и статей лидеров объединенной оппозиции в советской печати[1057], а затем (уже без всякого решения) к отказу от публикации стенограммы Восьмого пленума ИККИ. Он так и остался единственным форумом «генерального штаба мировой революции», для изучения которого коминтерноведам приходится обращаться к архивным фондам. Троцкий ответил на запрет пространной нотой протеста: «Я считаю линию ЦК в китайском вопросе в корне ложной… Мы хотим обсуждения вопроса о судьбах китайской революции и, стало быть, о наших собственных судьбах. Почему такие обсуждения считались нормальными при Ленине в течение всей истории нашей партии? …Вправе ли Политбюро запрещать обсуждение вопроса, где дело идет о коренных ошибках самого Политбюро в вопросах всемирно-исторического значения?»[1058] Во время работы пленума он брал слово девять раз, внес альтернативный проект резолюции по китайскому вопросу, квинтэссенция которого сводилась к тому, чтобы держать курс на установление в Китае «демократической диктатуры через Советы рабочих и крестьянских депутатов». В одном из своих выступлений наш герой заявил, что кампания против него «представляет собой, особенно в свете китайских событий, жалкую трусливую маскировку правого уклона». Он сам давно уже перешел на личности, не оставляя никаких сомнений в том, кто же олицетворяет собой корень зла. «Вместо того, чтобы исправлять явные и очевидные ошибки руководства, столь дорого обошедшиеся партии и международному пролетариату, Сталин хочет избавиться от тех, кто эти ошибки раньше видит и о них предупреждает»[1059].
 Л. Д. Троцкий во время отпуска на Кавказе
1920-е
[РГАСПИ. Ф. 325. Оп. 1. Д. 24. Л. 20]
Л. Д. Троцкий во время отпуска на Кавказе
1920-е
[РГАСПИ. Ф. 325. Оп. 1. Д. 24. Л. 20]
Троцкий и в последующие месяцы не оставлял своим вниманием китайский вопрос. Переворот Чан Кайши и нараставшие репрессии против коммунистов в Китае, в которых участвовал и левый Гоминьдан, базировавшийся в Ухани, казалось бы, подтверждали точку зрения оппозиционеров. 20 июня он наконец-то склонил своих союзников к тому, чтобы принять его предложение о немедленном выходе КПК из Гоминьдана. Еще несколько дней ушли на то, чтобы решить вопрос о том, как подать простым партийцам тот факт, что они выступили только через два месяца после переворота Чан Кайши. Троцкий предложил признать совершенную ошибку, Зиновьев же настаивал на том, что оппозиционерам нужна была пауза для размышлений, но в конечном счете они оказались правы по всей линии. 25 июня лидеры «объединенной оппозиции» внесли в ЦК ВКП(б) и ИККИ очередное письмо по китайскому вопросу, потребовав немедленного выхода КПК из движения Гоминьдан и уханьского правительства, мобилизации трудящихся масс против местной буржуазии, создания Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, которые должны были «довести до конца китайскую революцию»[1060]. Троцкий вместе с Зиновьевым признали свою вину в том, что слишком поздно выдвинули лозунг о выходе китайских коммунистов из Гоминьдана, обосновав это следующим образом: «Мы исходили из того, что компартия слишком долго задержалась в Гоминьдане; что наша партия и Коминтерн слишком ангажировались в этом вопросе; что прямое требование немедленного выхода из Гоминьдана еще более обострило бы противоречия в нашей собственной партии… Мы ставили вопрос педагогически, а не политически. Как всегда в таких случаях, это оказалось ошибкой»[1061]. Вторым международным акцентом в спорах сталинского большинства и оппозиции стало событие, также имевшее прямое отношение к Коминтерну, в мае 1926 года в Великобритании прошла всеобщая забастовка, основную тяжесть которой вынесли на своих плечах английские шахтеры, продолжившие бороться и после того, как большинство рабочих по призыву тред-юнионов вернулось на фабрики и заводы. Оппозиционеры обвинили сталинско-бухаринскую группу в том, что из дипломатических соображений и стремления сохранить Англо-русский комитет профсоюзного единства она отказалась от разрыва с «желтыми профсоюзами» и выхода из АРК. Вопросы внешней политики и Коминтерна открывали широкое поле для обвинений в адрес фракции большинства по поводу «оппортунистических компромиссов». На первых порах солировал один Зиновьев, Троцкий инкогнито находился на длительном лечении в Берлине[1062]. Вернувшись в Москву без миндалин, отдохнувшим и поздоровевшим, он вновь почувствовал себя востребованным пророком. Он настаивал на том, что создание АРК не помогло формированию революционного сознания английских рабочих, напротив, выставило в негативном свете руководителей СССР. «Соглашение, основанное в значительной мере на организационно-дипломатических началах, не выдержало испытания борьбы, что обрушилось на неподготовленные рабочие массы в виде совершенного отказа Генерального совета [тред-юнионов] от принятия нашей помощи, а затем и прямого предательства стачки. Неправильность чисто организационного, аппаратного и дипломатического подхода к исключительно важным вопросам международного рабочего движения обнаружилась здесь полностью и целиком»[1063]. Троцкий поставил вопрос об использовании трудового конфликта в Великобритании для подрыва капиталистической стабилизации еще в марте 1926 года, увязав с уроками так и не состоявшегося германского Октября. Пообещав англичанам «историческую полосу великих потрясений», он сосредоточил внимание на силе их реформистских традиций и слабости местной компартии, предоставив Зиновьеву написать проект тезисов, посвященных ближайшим задачам последней. После того, как этот документ был ожидаемо отвергнут Политбюро, Троцкий вышел на авансцену, потребовав на заседании 17 июня 1926 года немедленно разорвать все отношения с Генсоветом тред-юнионов и распустить Англо-русский комитет профсоюзного единства. На следующий день он предложил соответствующий проект резолюции и на заседании «русской делегации» в Коминтерне. Обращенный к английским коммунистам, он был выдержан в тонах безоговорочного наступления, требовал от них «добиться того, чтобы, по крайней мере, авангард пролетариата чувствовал себя прямым и непосредственным участником британской стачки, исход которой определит либо упрочение буржуазного режима, либо ускорение революционного развития»[1064]. Казалось, Троцкий все еще находился в 1920 году на посту руководителя Красной армии, давая боевой приказ британской компартии сосредоточить на стачке все свои силы, «мобилизоваться по-военному». 7 июля Троцкий направил в Политбюро письмо, где повторил свое требование скорейшего разрыва АРК, который он рассматривал как «жизнью превзойденный блок с оппортунистами»[1065].
4.8. Арьергардные бои
На последнем этапе борьбы Коминтерн в речах Троцкого и Зиновьева выступал в двух ипостасях: как добровольный пособник сталинской клики и как жертва ее диктата, загнанная в тупик капитулянтством и «правыми ошибками». Оппозиция обещала выправить его политическую линию, вернуться к ленинским нормам взаимодействия центра и национальных секций. Если сталинисты безудержно приукрашивали настоящее, то троцкисты то же самое делали с прошлым, напротив, не жалея черной краски для характеристики сложившегося в нэповском СССР политического режима. Объединение всех оппозиционных сил не приобрело характера монолитного блока даже в своей верхушке. Ходившая в партийном аппарате той поры фраза «Сталин обманет, а Зиновьев убежит» имела под собой реальные основания. Позже Троцкий писал о том, что ему постоянно приходилось удерживать своего слабохарактерного соратника от дезертирства[1066]. Но в мае 1927 года он страстно защищал его с трибуны Восьмого пленума ИККИ: «Я знаю, товарищи, — и это не секрет ни для кого — что многие из находящихся здесь товарищей протестуют в кулуарах против того, что Зиновьев, который был еще вчера председателем Интернационала и который является сегодня законнейшим членом Исполкома, механически не допускается на заседания Исполкома для защиты своих взглядов, которые являются также и моими взглядами»[1067]. Он обвинил ЦК ВКП(б) в том, что его верхушка, пользуясь административным ресурсом, попросту скрывает принципиальные различия между революционной линией оппозиционеров и капитулянтской — сталинской фракции. «Вы не допустили сюда тов. Зиновьева, который в течение семи лет был председателем Коминтерна. Наши речи и статьи не печатаются. Работы самого Исполкома окружены плотным молчанием. Разве так готовят рабочий класс к опасностям войны? Но теперь уже недостаточно замалчивать речи и статьи оппозиции. Приходится все чаще замалчивать факты. Каждый день от партии и рабочего класса скрываются телеграммы из Китая, Англии, отовсюду, только потому, что ход событий идет вразрез с ложной линией руководства»[1068].
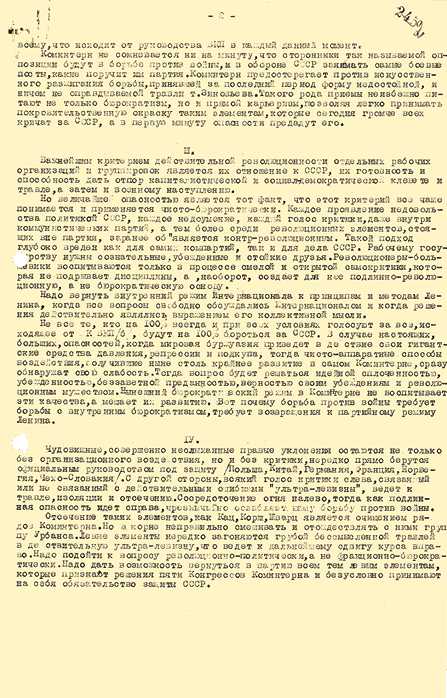 Поправки
Л. Д. Троцкого и В. Вуйовича к резолюции Восьмого пленума ИККИ
21 мая 1927
[РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 166. Д. 200. Л. 1–2]
Поправки
Л. Д. Троцкого и В. Вуйовича к резолюции Восьмого пленума ИККИ
21 мая 1927
[РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 166. Д. 200. Л. 1–2]
«Русский вопрос» в ходе работы Восьмого пленума специально не обсуждался, однако на встрече делегаций ВКП(б) и КПГ был согласован следующий порядок действий: после выступлений оппозиционеров «братские партии» должны поставить на голосование резолюцию, отсылавшую к «военной тревоге»: «…формы выступления оппозиции на пленуме ИККИ в такой момент недостойны звания членов ИККИ. Такую резолюцию следует внести в ИККИ лишь в том случае, если она будет принята без какого бы то ни было давления»[1069]. Такой мягкий по меркам дальнейших событий подход можно отнести на счет бухаринского стиля в Коминтерне. Пленум обошелся без исключений и иных административных мер воздействия на оппозицию, хотя и не изменил общего вектора давления на нее.

 «Очень возможно, что кое-кому из наших необузданных критиков придется убраться во Второй Интернационал. Мы же были и останемся в Третьем»
Речь Л. Д. Троцкого на Восьмом пленуме ИККИ
21 мая 1927
[РГАСПИ. Ф. 326. Оп. 2. Д. 5. Л. 51–54]
«Очень возможно, что кое-кому из наших необузданных критиков придется убраться во Второй Интернационал. Мы же были и останемся в Третьем»
Речь Л. Д. Троцкого на Восьмом пленуме ИККИ
21 мая 1927
[РГАСПИ. Ф. 326. Оп. 2. Д. 5. Л. 51–54]
Поправки оппозиционеров к резолюции о военной опасности не внесли чего-то принципиально нового в картину западного мира, как она виделась Коминтерну. Речь шла о непрочности стабилизации, о временном усилении социал-демократии и даже подъеме антипартийных революционных настроений в рабочем классе. Доставалось в поправках и зарубежным коммунистам: «…задача братских партий состоит в том, чтобы помогать выпрямлять классовую линию ВКП, а не в том, чтобы молчаливо присоединяться ко всему, что исходит от руководства ВКП в каждый данный момент… Сосредоточение огня налево, тогда как подлинная опасность идет справа, чрезвычайно ослабляет нашу борьбу против войны»[1070]. «Безоружный пророк» в очередной раз доказал, что его самым острым оружием является слово. В короткой речи он предсказал не только угрозу новой мировой войны, но и дальнейшую деградацию Коммунистического Интернационала. На его пути «мы имели за последнее десятилетие могущественный подъем, но и ряд тяжких поражений. Кто опускает руки перед лицом этих поражений, тот жалкий трус. Кто закрывает на поражения глаза, тот дурак или чиновник, для которого Коминтерн — лишь большая канцелярия, а не революционное орудие мирового переворота». Троцкий завершил это выступление невольным пророчеством в свой собственный адрес: «Нам говорят, что наша линия ведет к Четвертому Интернационалу. Эти дешевые предсказания и дешевые угрозы исходят от тех, кто думает, что можно руководить революционным пролетариатом посредством выписок из постановлений секретариата». Его клятва до конца жизни бороться против «сдвига вправо» завершалась на пафосной ноте: «Очень возможно, что кое-кому из наших необузданных критиков придется убраться во Второй Интернационал. Мы же были и останемся в Третьем»[1071]. С каждым днем выполнять это обещание становилось все труднее. Лишенные доступа к прессе, лидеры оппозиции начали проводить подпольные митинги, нелегально печатать свои информационные материалы. Тогда же начались вызовы в ЦКК, из политических оппонентов они были превращены в обвиняемых. Резкое обострение международных отношений после разрыва в конце мая дипломатических отношений между СССР и Великобританией способствовало ужесточению репрессий, сталинцы мотивировали их тем, что в условиях военной угрозы стране нужен надежный тыл. Масла в огонь подлили авантюристические высказывания самого Троцкого вроде того, что иностранная интервенция будет способствовать передаче власти в руки истинных революционеров. «Мы заявляем, — утверждал Троцкий на заседании ЦКК ВКП(б) в июне 1927 года, — что сталинский режим мы будем критиковать до тех пор, пока вы нам механически не закроете рот. До тех пор, пока вы не вгоните нам в рот кляп, мы будем критиковать этот сталинский режим, который подорвет все завоевания Октябрьской революции, а они нам так же дороги, как и вам. Еще во времена царизма были патриоты, которые, по словам Щедрина, смешивали отечество с начальством… Мы будем критиковать сталинский режим, негодный, сползающий, идейно слабый, короткомысленный, недальнозоркий. Мы будем его с удвоенной силой критиковать именно потому, что видим опасность, именно потому, что ошибки Сталина в случае войны помножатся на 10 и на 100»[1072]. Чем ярче и яростней выступали лидеры оппозиции, тем больше энергии тратил сталинский аппарат на их изоляцию от партийных низов. В дело шли любые поводы для дискредитации. Примером тому является ультиматум Политбюро, обращенный к Троцкому и Зиновьеву, — готовы ли они дезавуировать сборник своих статей, изданный в Германии исключенными из КПГ «ультралевыми», более того, «не допускать впредь печатания ваших статей и речей в органах этой группы?» Помимо того, что оппозиционеры не являлись инициаторами этой публикации, они никак не могли согласиться с тем, что соратники Рут Фишер, еще недавно возглавлявшие немецкую компартию, были заклеймены в сталинской стилистике как «пройдохи, контрреволюционные щенки от буржуазии»[1073]. Каждая из сторон продолжала отстаивать догмат о собственной непогрешимости, готовясь к решающей схватке на предстоявшем съезде партии. Оппозиционеры выражали уверенность в собственной победе, считая, что только молчание Троцкого спасло сталинское большинство от поражения на предыдущем съезде. В свою очередь, Сталин, Бухарин и их соратники не забыли уроков 1925 года, когда представитель «ленинградской оппозиции» Каменев прямо требовал отставки генсека. Поэтому сталинская фракция вела дело к тому, чтобы покончить с оппозиционерами еще до начала Пятнадцатого съезда ВКП(б). Центральный аппарат Коминтерна активно включился в эту кампанию. 13 сентября 1927 года состоялось специальное совещание его руководителей, посвященное выработке превентивных мер, направленных против оппозиционных выступлений. Практически все его участники выражали опасения, что, проиграв битву в ЦК ВКП(б), Троцкий и Зиновьев перенесут центр своей деятельности за границу. Секциям Коминтерна было предписано доносить в Москву о любых попытках сторонников «объединенной оппозиции» поддерживать контакты с единомышленниками за рубежом. В свою очередь, представители иностранных компартий подчеркивали на совещании, что им трудно вести разъяснительную работу, когда программные заявления и речи оппозиционеров недоступны даже им самим[1074]. Одним из центральных событий антитроцкистской кампании в Коминтерне стало заседание Президиума Исполкома 27 сентября того же года, на котором присутствовали Сталин и Молотов. Речь шла об исключении оппозиционеров, заседание продолжалось с половины десятого вечера до пяти часов утра. Троцкий последний раз выступил в Исполкоме Коминтерна, подвергнув беспощадной критике ключевые аспекты его деятельности. Однако все было уже решено. Накануне заседания в Президиум ИККИ и ЦК ВКП(б) было направлено письмо итальянца П. Тольятти и швейцарца Ж. Эмбер-Дро, где говорилось о том, что Троцкий и его сторонники, начав собирание своих сил за рубежом, «перешли грань, за которой оппозиция становится контрреволюционным преступлением». Свою долю ответственности за фактическое сокрытие от международного коммунистического движения реальной ситуации в СССР, за его формальную «большевизацию» и безоговорочную поддержку любых решений ВКП(б) несли руководители и сотрудники Исполкома Коминтерна, являвшиеся в большинстве своем членами российской партии. Двигаясь по линии наименьшего сопротивления в созданной ими же административной вертикали, они вполне отдавали себе отчет в том, что критическое отношение к большевистскому эталону подорвет основы как коммунистического движения в целом, так и их собственной политической карьеры. В итоге тактические соображения контроля над зарубежными компартиями перевешивали стратегическую установку на превращение их в значимый фактор политической жизни своих стран. Сентябрьское заседание Президиума ИККИ превратилось в настоящую фантасмагорию взаимных обвинений, уходивших едва ли не в дореволюционное прошлое. Приведем отрывок из стенограммы. «Бухарин: Я заявляю, что в 1921 году, после профсоюзной дискуссии, когда я с Троцким был в хороших политических отношениях, Троцкий заявил мне буквально следующее в Архангельском, где он тогда жил: „Вы не видите, куда ведет режим, создающийся в партии? Невозможный режим ведет партию к гибели, и я думаю, что я должен сделать такой жест, как выход из партии, чтобы партия опомнилась и увидела, куда ее ведут“. Троцкий: Это, может быть, Вы сами говорили тогда, когда расплакались — в буквальном смысле — мне в жилет и говорили, что Ленин превратил партию в навозную кучу, а я гладил Вас по голове и успокаивал: не плачьте, Бухарчик, дело совсем не так плохо. Это было в Смольном, когда Вы, как мальчишка, плакали, называя партию не навозной кучей, а гораздо круче — я не решаюсь только повторить»[1075]. Накал страстей в руководстве ВКП(б) осенью 1927 года, судя по приведенному отрывку из стенограммы, ничем не уступал остроте парламентских дебатов в демократических странах. Различие состояло лишь в том, что в условиях авторитарных режимов результаты дискуссии рано или поздно переплавлялись в статьи уголовных обвинений. Неуслышанный Троцкий оставался самим собой — свою последнюю речь в Коминтерне он завершил словами: «Бюрократический режим неотвратимо ведет к единоначалию. Коллективное руководство мыслимо только на основах партийной демократии»[1076]. Никакой другой демократии поверженный вождь не признавал до последнего дня своей жизни, прерванной ударом сталинского ледоруба. К этому моменту партийные массы уже старались не слушать Троцкого, потому что боялись его услышать. А он продолжал бить наотмашь, целясь в одну и ту же точку, не теряя полемического задора и упорно не замечая, что глас вопиющего раздается в мертвой пустыне. Последняя очная встреча нашего героя и Сталина в публичном пространстве состоялась 23 октября 1927 года, атмосфера закончившегося в тот день пленума ЦК и ЦКК ВКП(б) «пробила дно» кампании травли, срежиссированной в секретариате генсека. Троцкому не давали говорить, заглушая его слова выкриками, свистом, пытались стащить его с трибуны. Получив стенограмму заседания, Троцкий начал перечислять: «…в стенограмме не указано, что с этой трибуны брошен был в меня стакан… тов. Ярославский во время моей речи бросил в меня томом контрольных цифр». Заключение напрашивалось само собой: методы, которые были применены для недопущения содержательной дискуссии на пленуме, «иначе никак нельзя назвать, как фашистски-хулиганскими»[1077]. Троцкий, конечно, не опускался до подобных методов борьбы. Но многие из его обвинений, адресованных оппонентам, имели отношение и к нему самому. Троцкий утверждал, что идейная недобросовестность революционного руководства — «то же самое, что неряшливость и неопрятность хирурга. И то и другое неизбежно ведет к заражению организма… Дисциплина, необходимая как соль и еда, за последние годы призвана заменять самое пищу. Но никому еще не удавалось насытиться солью»[1078]. Назвав Коминтерн «великим организатором поражений», Троцкий невольно дал самое точное определение последнему отрезку своей собственной жизни.
4.9. Голос из ссылки
Иногда в судьбе того или иного политического деятеля решающую роль играют события, в которых он сам не принимает непосредственного участия, таким событием для Троцкого стал Пятнадцатый съезд ВКП(б), состоявшийся в декабре 1927 года. Он открыл для него не только 1928 год, но и весь последний отрезок жизни. Сталинский секретариат не решился вынести конфликт с «объединенной оппозицией» на партийный форум, более того, ее представителям было даже запрещено апеллировать к нему. В отличие от предыдущего этот съезд выглядел уже хорошо отрепетированным спектаклем, призванным придать официальный статус итогам «горячей осени» 1927 года, в которых нашло отражение преимущество аппаратной сплоченности перед ораторским популизмом. Оппозиция подготовила к съезду собственный подарок — «Платформу большевиков-ленинцев», в которой были собраны воедино все претензии к сталинскому руководству ВКП(б). Ее лидеры разбирали причины той полосы поражений, с которой партии Коминтерна столкнулись в последние годы. Эти причины виделись в «меньшевистской тактике большинства», которое уверяло коммунистов всех стран в прочном характере стабилизации капитализма, пыталось заигрывать с социал-демократами и Гоминьданом. В кадровом плане «тактика огня налево» привела к захвату руководства Коминтерна «правыми элементами», которые ведут дело к его расколу[1079]. Фактически оппозиционеры воспроизводили историю августа 1914 года, когда Второй Интернационал не смог противостоять искушению входивших в него партий поддержать в разгоравшейся мировой войне правительства своих стран. Не последние роли были отведены на Пятнадцатом съезде и представителям Коминтерна. «Поведение оппозиции есть или святотатство, или безумие, — говорила с трибуны Клара Цеткин, — она поднимает руку на великое бессмертное дело социалистического строительства. Она посягает на единство партии. Партийные массы, огромные массы членов партии отклонили предложение оппозиции, и тогда она с беспримерной дерзостью апеллировала к беспартийным массам. Это показывает, что оппозиция отошла от ленинизма. Она скатилась к социал-демократизму, она скатилась к русскому меньшевизму»[1080]. Как в выступлении Цеткин, так и в докладе председателя ЦКК Серго Орджоникидзе выдвигалось обвинение, что оппозиционеры пытаются, используя коминтерновские структуры, наладить связи со своими единомышленниками в других партиях. «Оппозиция, несмотря на обязательства, взятые на себя, не прервала связи с группой Маслова — Рут Фишер и других исключенных из Коминтерна»[1081]. Президиум XV съезда ВКП(б) на его последнем заседании
19 декабря 1927
[РГАСПИ. Ф. 56. Оп. 2. Д. 58. Л. 106]
Президиум XV съезда ВКП(б) на его последнем заседании
19 декабря 1927
[РГАСПИ. Ф. 56. Оп. 2. Д. 58. Л. 106]
Сами оппозиционеры, напротив, демонстрировали полное раскаяние. В письме 121-го исключенного, подписанном среди прочих Троцким, Зиновьевым и Каменевым, единство партии ставилось превыше всего («ни на раскол, ни на вторую партию мы не пойдем»). В обмен за прекращение фракционной деятельности они требовали восстановления в партийных рядах, и такая процедура предполагалась к распространению на все секции Коминтерна. Получалась парадоксальная ситуация — отстаивая иное мнение в ВКП(б) и Коминтерне, «объединенная оппозиция» отрицала использование для этого демократического механизма политической борьбы, отождествляя его с возвратом к «буржуазной демократии». Складывается впечатление, что появления «второй партии» она боялась еще больше сталинского большинства, активно использовавшего этот жупел, несущий в себе, по общему мнению обеих соперничавших фракций, угрозу диктатуре пролетариата. Рука примирения была протянута в пустоту. Решение съезда, квалифицировавшее оппозицию как «вспомогательный отряд социал-демократии», по сути дела, являлось синонимом обвинений в «прислужничестве мировому капиталу», которые после 1917 го-да адресовались большевиками своим вчерашним союзникам по социалистическому лагерю. Выросшее из революционного экстремизма признание любого мнения, не согласующегося с генеральной линией правящей партии, контрреволюционным становилось нормой политического поведения первого поколения сталинской номенклатуры. Отныне любая фракционная деятельность внутри ВКП(б) рассматривалась как уголовное преступление и попадала в компетенцию политической полиции — ОГПУ. Внешне Коминтерн выступал в качестве независимого судьи в определении истины и в оценке итогов внутрипартийной борьбы в ВКП(б). Однако к 1928 году это превратилось уже в простое чтение заученной роли. Фактом было то, что секции не имели даже документов для ознакомления с ситуацией в ВКП(б), ибо любое распространение материалов оппозиции трактовалось как пропаганда ее взглядов и влекло за собой исключение из партии. Троцкий перешел к тактике директивных писем, которые рассылались его сторонникам в стране и за рубежом. В первом из них выдвигался тезис о «вынужденно пролетарском» характере советского государства, незавершенность буржуазного перерождения которого предопределена незавершенностью мировой революции. Установка давалась предельно ясная: «Надо бить по руководству ВКП(б), не противопоставляя себя СССР». Не менее четкой была и реакция этого руководства — 17 января 1928 года Троцкий, когда-то один из лидеров партии и руководителей советского государства, был отправлен в административную ссылку. Таинственные обстоятельства самого отъезда, попытки сторонников оппозиции провести прощальную демонстрацию на вокзале дали богатый материал для буржуазной и социал-демократической прессы. Коммунистическая печать, поспешившая опровергнуть очередную «утку», последней напечатала сообщение о ссылке Троцкого, которая никак не укладывалась в представления европейских коммунистов о приемах и методах внутрипартийной борьбы. Это нашло свое отражение в работе Девятого пленума Исполкома Коминтерна, открывшегося 9 февраля 1928 года. Выступивший с докладом по вопросу об оппозиции в ВКП(б) Бухарин изобразил произошедшее в самых розовых тонах. Якобы Троцкому была предложена работа в Астрахани, но тот отказался, назвав это предложение скрытой ссылкой. Процитируем Бухарина: «Я требую, — сказал он, — чтобы меня открыто сослали либо в Гагры, либо в Кисловодск. Решающую роль здесь играли, конечно, соображения не медицинского, а организационного характера. Целью было: создание центра со связями во всех направлениях. Притягивали Троцкого не пальмы, а возможность вести подрывную работу в столь благоприятных условиях. Затем мы сочли нужным опять-таки предложить ему отправиться куда-нибудь в другое место. Но он опять отказался. Потом Троцкий предложил отсрочить его отъезд. Мы исполнили его желание. Но затем мы узнали, что троцкисты хотят использовать это время для новых выступлений в связи с отъездом Троцкого. Поэтому отъезд был ускорен»[1082]. Сам Троцкий свою отправку в Алма-Ату рассматривал как почетное и недолгое изгнание, нечто вроде царской опалы. В своих первых письмах из ссылки он с увлечением рассказывал о творческих планах, сетовал на хозяйственные неурядицы, прикидывал перспективы охоты в Илийской долине. Административное решение конфликта в ВКП(б), воспринимавшегося как борьба Сталина и Троцкого за лидерство в партии, вызвало неоднозначную реакцию за рубежом. Если правая пресса рассматривала ссылку Троцкого как закономерный этап деградации «диктатуры максималистов», то социал-демократические газеты давали негативную оценку этому факту как новой дискредитации социализма советского образца. 2 февраля 1928 года от имени Социалистического рабочего интернационала к М. И. Калинину обратились председатели комиссии по изучению положения политзаключенных Луи де Брукер и Артур Криспин. В их письме говорилось: «Все эти годы Вы ссылали и бросали в тюрьмы сотни убежденных, искренних социалистов, а на вопрос о причинах этих преследований Вы отвечали вымыслами об их контрреволюционной деятельности. Это обвинение было, как доказано уже сотнями случаев, прямой клеветой на лиц, пожертвовавших свою жизнь делу рабочего класса. В случае Вашей нынешней партийной оппозиции Вы уже не сможете применить эту обычную клевету о „контрреволюционерах“ по отношению к членам Вашей собственной партии. Хотя мы отнюдь не придерживаемся мнения, что мысли и дела людей вроде Льва Троцкого в последние десять лет были благодеяниями для рабочего класса, мы никогда не будем отрицать, что он был убежденным революционером, и Вы тоже не сможете этого отрицать. Поэтому преследование Вашей собственной оппозиции в партии и особенно дело Троцкого стало типичным примером Вашей системы, не допускающей свободы мнений и подчиняющей все диктату Вашего абсолютистского правительства»[1083]. Оказавшись в Алма-Ате, Троцкий засел за мемуары. В переписке с Радеком он делился их главной идеей — череда поражений последних лет на арене мировой революции была вызвана отсутствием правильного и выдержанного курса Коминтерна. «Надо ребром поставить вопрос об убийственных ошибках начиная с 1923 г.»[1084]. В Казахстане наш герой был отрезан от источников достоверной информации, т. е. «закрытых рассылок», которые получала партийная верхушка. Ему приходилось довольствоваться «Правдой» и письмами своих сторонников, которые пробирались в Казахстан сквозь препоны ОГПУ. Это сказалось на глубине оценок внешне- и внутриполитических событий 1928 года, хотя одновременно лидер оппозиции получил возможность больше времени уделять изучению теоретических и практических вопросов. Центром его внимания оставалась китайская революция, переживавшая в тот момент драматическое завершение. Декабрьское восстание в Кантоне, развязанное без должной подготовки под давлением эмиссаров Коминтерна, завершилось полным поражением и кровавыми репрессиями по отношению к коммунистам[1085]. Глядя на любое событие сквозь антисталинские очки, Троцкий и в этом восстании увидел крах умеренной линии большинства, которая на деле оказалась «бессодержательной фикцией, пустышкой». И вновь масштабом всех вещей оказывалась Российская революция. «Можно сказать, что Китай не созрел для социалистической революции. Но это будет абстрактная безжизненная постановка вопроса. А разве Россия, изолированно взятая, созрела для социализма? Она созрела для диктатуры пролетариата, как для единственного метода разрешения всех национальных проблем; что же касается социалистического развития, то оно, исходя из экономических и культурных условий страны, неразрывно связывается со всем дальнейшим развитием мировой революции. Это относится целиком и полностью и к Китаю. Если 8–10 месяцев назад это был прогноз (довольно-таки запоздалый), то теперь это непререкаемый вывод из кантонского восстания». С высоты сегодняшнего дня подобные формулы выглядят как те же самые лозунговые «пустышки», в производстве которых наш герой так горячо обвинял своих оппонентов. Но на исходе 1920-х годов тезис о том, что коммунисты должны и могут возглавить широкое движение крестьянских масс в Китае, имел немалое мобилизующее значение[1086]. Публикация в центральной прессе проекта программы Коммунистического Интернационала побудила Троцкого написать собственный контрпроект. Вряд ли он мог серьезно рассчитывать на то, что его политические противники, оставшиеся в Москве, допустят обсуждение этого документа[1087]. Его цель состояла в другом — в консолидации сил оппозиционеров путем создания альтернативной теоретической платформы. Троцкий отверг бухаринский проект как несущий на себе следы небрежной работы и не обсужденный в компартиях, противопоставив ему собственное видение грядущей эпохи. Его внимание сосредоточилось на американо-европейском конфликте, получившем классовую окраску. «Преодоление европейского хаоса в виде Советских Соединенных Штатов Европы является одной из первых задач пролетарской революции, которой придется защищаться от североамериканской буржуазии»[1088]. Отдадим должное политической проницательности нашего героя (хотя он и считал англо-американский конфликт стержнем будущей мировой войны[1089]) — его предвидение всемирной гегемонии США стало реальностью лишь в конце ХХ века. Он одним из первых деятелей коммунистического движения указал на неизбежность процесса европейской интеграции (хотя и видел в нем исключительно революционную составляющую). Именно взаимозависимость европейских государств, общие традиции континента привели Троцкого к тому, чтобы настаивать на характерном для первых конгрессов Коминтерна понимании революционного процесса как «мирового пожара», легко преодолевающего национальные границы. Отсюда делался вывод, идущий вразрез с реалиями времени: «Для пролетариата каждой страны, еще в большей степени, чем для СССР, — разница здесь, однако, только в степени, — самой кровной необходимостью будет перенесение революций в соседние страны, поддержка восстания там вооруженной рукой, — не из соображений отвлеченной международной солидарности, которая сама по себе не способна двигать классами, а из того жизненного соображения, которое сотни раз формулировал Ленин: без своевременной помощи международной революции нам не устоять»[1090]. Фатализм подобных утверждений очевиден — ведь не социализм в одной стране пугал Троцкого, а слабая разработанность его теоретической модели, грозившая для СССР обернуться самоизоляцией от окружающего мира и произволом правящей элиты. Но вместо конструктивного сотрудничества в разработке этой модели логика внутрипартийной борьбы вела нашего героя к выискиванию слабых мест во взглядах оппонентов, злоупотреблению полемическим искусством в ущерб поиску рациональных аргументов. Не смог он сохранить и единство своих российских товарищей, отправленных в 1927–1928 годах (многих не в первый раз) в тюрьмы и ссылки. В отличие от Радека, приветствовавшего «левый сдвиг» в Коминтерне и ВКП(б), Троцкий был настроен скептически. По его мнению, сталинская фракция (он называл ее центристской), ведя кампанию против кулака, ни в коей мере не отказалась от блока с «правыми». «Еще хуже обстоит дело в Коминтерне. Оценка Радеком февральского пленума [Девятого пленума ИККИ] как крупного, в своем роде решающего поворота на путь марксистской политики в корне неверна. Систематическое значение пленума очень велико: он показал, что правоцентристская политика окончательно зашла в тупик и что руководство пытается найти выход не вправо, а влево. Но и только. В левизне февральского пленума нет никакой объединяющей мысли. Эта левизна очень напоминает левизну Пятого конгресса»[1091]. В характерной для себя высокомерно-остроумной манере Троцкий замечал по поводу «добродушной» критики Радеком бухаринского проекта программы Коминтерна: «Выходит так, что из центристской обезьяны уже народился полностью марксистский человек с одним только лишним органом — хвостом». Взаимоотношения двух нераскаявшихся лидеров объединенной оппозиции накануне Шестого конгресса Коминтернасвидетельствовали о том, что в ней начался неудержимый процесс разброда и шатаний. Этот процесс искусственно стимулировался Сталиным — его эмиссары регулярно посещали оппозиционеров и предлагали им возвращение на высокие партийно-государственные посты в обмен на отречение от своего идейного вождя. Так и не дождавшись реакции Коминтерна на свои критические замечания по поводу проекта программы, алма-атинский ссыльный направил его Шестому конгрессу развернутое обращение, датированное 12 июля 1928 года. В нем он изложил свое отношение к новому размежеванию, намечавшемуся в стане победителей. Сталин посчитал свои позиции достаточно крепкими, чтобы пойти на свертывание нэпа и замену товарно-денежных отношений административными мерами. Это неизбежно вело к его конфликту с «правой» группой Бухарина — Рыкова и сулило ВКП(б) очередной виток внутрипартийной борьбы. Троцкий не оставил никаких сомнений в том, на чьей стороне левая оппозиция. «В корне ошибаются те, кто думает, что нынешний лево-аппаратный поворот свел правую опасность на нет» — она никогда не была так велика, как сейчас. Поэтому, «поддерживая против правых каждый шаг правящего центра влево, оппозиция не может иметь ничего общего с комбинаторским авантюризмом, рассчитывающим при помощи правых опрокинуть центр»[1092]. Итак, стратегический выбор сделан: со Сталиным против Бухарина — возможно да, с Бухариным против Сталина — никогда. Можно только гадать о том, какие коллизии ожидали бы руководство ВКП(б), окажись Троцкий в эти дни не в далекой ссылке, а в Москве. 11 июля, когда было закончено его обращение к конгрессу Коминтерна, случилось то, что Троцкий при всех своих качествах пророка никак не мог предвидеть — лидер «правых» Бухарин встретился с Каменевым, представлявшим объединенную оппозицию, ища союзников против наступления Сталина на основы нэпа. Соглашение между вчерашними врагами могло привести к принципиально иному соотношению сил на большевистском Олимпе, но оно так и не было достигнуто. И в обстоятельствах, и в недомолвках этого разговора еще слишком много тайн, которые предстоит раскрыть историкам. Очевидно, что слишком глубокими оказались рвы, вырытые в ходе взаимной борьбы в 1926–1927 годах между представителями «старой гвардии» большевиков, слишком слаба оказалась их идейная убежденность по сравнению с дисциплинированностью сталинского аппарата. О призрачности образования их единого фронта против Сталина в 1928 году свидетельствовало послесловие Троцкого к собственному обращению в адрес конгресса Коминтерна, датированное 22 июля того же года. По его мнению, сдвиг Сталина влево был преходящим и малозначительным эпизодом, а значит, победа «правых» несомненна. «Мы говорим нашей партии, и мы говорим Коммунистическому Интернационалу: Рыков открыто приступает к сдаче Октябрьской революции враждебным классам. Сталин, переминается с ноги на ногу, отступает перед Рыковым и бьет по левым. Бухарин запутывает сознание партии паутиной реакционной схоластики». В данном случае Троцкий показал себя плохим шахматистом — сосредоточив внимание на правом фланге, он не заметил пешку, прорвавшуюся в ферзи. Осенью 1928 года Троцкий оказался перед непростым выбором, который его самый известный биограф формулирует следующим образом: «В то время как Сталин перенял левый курс Троцкого, Бухарин апеллировал к левой оппозиции во имя пролетарской демократии. Троцкий оказался в тисках: он не мог отвергнуть призывы Бухарина, не отрицая собственных принципов, определявших его поддержку левого курса»[1093]. В результате алма-атинский ссыльный занял выжидательную позицию, хотя в ряде писем (впервые 12 сентября) и заявлял о возможности условного блока с «правыми» ради защиты принципов партийной демократии. Это вызвало негативную реакцию некоторых оппозиционеров, и Троцкому пришлось улаживать очередной кризис в собственных рядах. Не покидал его и китайский вопрос. Хотя в самом Китае революция закончилась и на первый план выдвинулась угроза японской интервенции, лидер оппозиции продолжал настаивать на непоколебимости собственных оценок. Начальные строки одной из статей показывали, что Троцкий сжег за собой все мосты и теперь рассматривает «дуумвират» с его коминтерновской составляющей в качестве главного врага. Он писал: «Ни одна партия не пострадала так жестоко от оппортунистического руководства Коминтерна за последние пять лет, как китайская компартия. Мы имели в Китае законченный и именно поэтому катастрофический образец применения меньшевистской политики в революционную эпоху»[1094]. Следует признать, что к окончанию эпохи битв за ленинское наследство «меньшевизм», равно как и другие политические термины, превратился в ярлык, лишенный содержания, удобное ругательство, которым одинаково часто пользовались и сталинисты, и оппозиционеры. При этом и те, и другие знаменем «большевизма» осеняли свою собственную фракцию. Не имея солидных каналов информации, Троцкий был вынужден опираться на стенограмму конгресса Коминтерна, которую печатали газеты. Кантонское восстание заставило советское руководство «отшатнуться от путчизма», но не вывело его из состояния, которое наш герой описал как «худшую разновидность левизны». Хотя он еще два года назад настраивал китайских коммунистов на блок антиимпериалистических сил, теперь такая установка была расценена как «реакционная попытка оттянуть революцию назад, к уже пройденным этапам гоминьдановской коалиции»[1095]. Если бы Троцкий проявлял больше склонности к диалектике, он мог бы завершить свои выводы прогнозом, что Сталин еще вернется к «пройденным этапам» — применительно к Китаю это произойдет лишь в 1936 году.
 Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) о высылке Л. Д. Троцкого из СССР за антисоветскую деятельность
7 января 1929
[РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 166. Д. 289. Л. 8]
Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) о высылке Л. Д. Троцкого из СССР за антисоветскую деятельность
7 января 1929
[РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 166. Д. 289. Л. 8]
Преувеличенная оценка потенциала оппозиции (в одном из писем Радеку он замечал: «Мы — авангард авангарда») мешала Троцкому увидеть реальную расстановку сил в руководстве ВКП(б). Накануне решающего столкновения с «правыми» Сталин решил обезопасить свой левый фланг и провел через Политбюро решение о его высылке за границу. По данным самого Троцкого, против этого проголосовали Бухарин, Рыков и Томский, но остались в меньшинстве. Принятое решение явно не увязывалось с коминтерновскими резолюциями о противодействии международной консолидации троцкистов. Сталин показал тем самым, что рассматривает интересы Коминтерна лишь как производную от своих собственных политических амбиций. Получив решение о высылке, оформленное через ОГПУ, Троцкий обратился с очередным письмом к руководству ВКП(б) и Коминтерна. Он продолжал играть роль Кассандры, с которой свыкся за пять лет пребывания в оппозиции: «Если бы не эта слепая, трусливая и бездарная политика приспособления к бюрократии и мещанству, положение трудящихся масс на двенадцатом году диктатуры было бы несравненно благоприятнее; военная оборона неизмеримо крепче и надежнее; Коминтерн стоял бы совсем на иной высоте, а не отступал бы шаг за шагом перед изменнической и продажной социал-демократией»[1096]. Подобные пророчества уже не вызывали интереса ни у его немногочисленных сторонников, ни и у его могущественных врагов. Троцкий рассчитался с Коминтерном накануне высылки за рубеж так, как только он умел, — вонзив в каждого из руководящих деятелей пучок отравленных стрел. По стилистике и смыслу это напоминало политическое завещание Ленина, но охарактеризованные им фигуры не тянули на масштаб лидеров большевистской партии. Согласно логике Троцкого, все они были «непромокаемые, не горящие в огне и не тонущие в воде большевики из отеля „Люкс“», многие из них (вроде Бела Куна или Отто Куусинена) провалили революционные выступления в собственных странах и «продолжали свое барахтанье вокруг да около революции»[1097]. Характерно, что в этом Пантеоне наоборот Сталин и Бухарин были погребены отдельно, очевидно, для Троцкого они все же проходили по иному ведомству. Уже оказавшись за границей, герой нашего очерка продолжил свою борьбу с ветряными мельницами, не щадя никого и ничего. Публикации документов оппозиции на иностранных языках привлекали все меньше внимания, несмотря не то, что за их перевод и издание принимались политические единомышленники. Представляя французскому читателю свою критику программы Коминтерна, изгнанник подчеркивал, что она «не утратила ничего от своей актуальности. Наоборот. Все роковые ошибки проекта остались на своем месте: они только юридически закреплены и превращены в символ веры». «Программа теоретически несостоятельна и политически вредна», — утверждал Троцкий. Это подразумевало, что его поправки к ней являлись состоятельными и полезными, хотя на самом деле они не предлагали коммунистам ни покаяния, ни альтернативного курса. Ничтоже сумняшеся наш герой переходил на личности, назвав участников конгресса безвольной и покорной массой. «Всё это рекруты нового политического курса и агенты нового организационного режима. Обвиняя меня или, вернее, подписываясь под обвинением меня в нарушении ленинских принципов, делегаты VI конгресса обнаружили гораздо больше покорности, чем ясности теоретической мысли и знакомства с историей Коминтерна»[1098]. Подобные установки и личное высокомерие не оставляли Троцкому шансов на сплочение своих сторонников, сопоставимое с былыми и существовавшими на тот момент рабочими Интернационалами.
4.10. В последней эмиграции
«Причал в одесском порту был окружен плотным кольцом войск, которые еще четыре года назад находились под его командованием. Как горькая шутка воспринималось название судна, ожидавшего его на рейде, „Ильич“! В бурную ночь, в шторм, корабль быстро покинул гавань. Ледоколу пришлось на протяжении 60 миль прокладывать кораблю путь к свободной воде. Когда „Ильич“ поднимал якорь и Троцкий последний раз смотрел на удаляющийся берег, он, должно быть, чувствовал, что вся оставляемая им страна превратилась в вымерзшую пустыню и сама революция стала глыбой льда. И не было такой силы на Земле, такого человеческого ледокола, который мог бы проложить ему путь обратно»[1099]. Л. Д. Троцкий в образе Агасфера, блуждающего по Европе и направляющегося в Испанию
Карикатура В. И. Межлаука
Вторая половина 1930-х
[РГАСПИ. Ф. 74. Оп. 2. Д. 170. Л. 15]
Л. Д. Троцкий в образе Агасфера, блуждающего по Европе и направляющегося в Испанию
Карикатура В. И. Межлаука
Вторая половина 1930-х
[РГАСПИ. Ф. 74. Оп. 2. Д. 170. Л. 15]
Так Исаак Дойчер описывал высылку Троцкого из СССР. Образы ледяной пустыни весьма созвучны трагедии революции, пожиравшей своих детей, о ней уже шла речь в заключительных строках очерка, посвященного судьбе Григория Зиновьева. Этот афоризм, родившийся во Франции конца XVIII века, судьбами старых большевиков был превращен едва ли не в социологическую закономерность. В то же время сам факт избавления властей от неудобного интеллектуала удивительно напоминал стилистику «философского парохода», на котором был собран цвет российской интеллигенции, не пришедшейся ко двору большевистскому режиму. Как известно, в организации и проведении этой акции наш герой играл отнюдь не последнюю роль[1100]. Решение о высылке из СССР, предъявленное Троцкому 18 января 1929 года, вызвало не только живой отклик в международном рабочем движении, но и активную дипломатическую игру. Сталин делал все возможное, чтобы не допустить предоставления политического убежища Троцкому в Европе (сам Троцкий выбрал Германию, считая, что эта страна ближе всего подошла к порогу мировой революции). Узнав о давлении, оказываемом на берлинское правительство по этому поводу, один из лидеров той самой «изменнической и продажной социал-демократии» Фридрих Штампфер писал рейхсканцлеру Герману Мюллеру, тоже социал-демократу: «Я с ужасом узнал о том, что есть возражение против принятия Троцкого. Я этого совершенно не понимаю. Мы принципиально должны стоять на том, что германская республика предоставляет право политического убежища всем, кто из-за несвободы на своей родине был вынужден ее покинуть. Я не вижу практических оснований для отказа от этого принципа. Мы ведь не можем отказать Троцкому в том, что предоставляем несметному числу ультрареакционно настроенных русских. Троцкий не может принести нам вреда. Он не испортит русско-германских отношений, т. к. Россия сама направила запрос, сможем ли мы его принять. Если он кому и может навредить, так только коммунистам». Отказ германского правительства предоставить убежище Троцкому вызвал официальное осуждение со стороны Второго Интернационала. 22 января 1929 года Троцкий с семьей в сопровождении эскорта сотрудников ОГПУ выехал из Алма-Аты. В письмах соратникам он описывал трудности перехода через Курдайский перевал, а также двухнедельную стоянку поезда на одном из глухих полустанков где-то на Украине, пока не был решен окончательно вопрос о визах. Пароход «Ильич» доставил Троцкого в Константинополь, и тот первым делом направил заявление протеста турецкому лидеру. Вся весна прошла в оживленной переписке с Берлином, но Троцкому так и не удалось получить визу даже для лечения в Германии. Он остался верен себе, направив социал-демократу Паулю Лебе, являвшемуся в тот момент председателем рейхстага, ироничную телеграмму: «Сожалею, что не получил возможности обучиться на практике преимуществам демократического права убежища»[1101]. Решающую роль в отказе германского и других европейских правительств предоставить политическое убежище Троцкому сыграли не интриги сталинской дипломатии, а страх перед усилением радикальных тенденций в рабочем движении. Эпизод с визой послужил нашему герою основой для широких обобщений: «Совершенно второстепенный, в конце концов, эпизод с моей визой бросает яркий сноп света на самое существо проблемы нашей эпохи и одним взмахом ниспровергает насквозь лживый и реакционный миф — о возможности демократического перехода к социалистическому обществу»[1102]. Изоляция Троцкого на турецком острове Принкипо не позволила ему начать организационную работу по сплочению левой оппозиции в международном коммунистическом движении — лишь его обширная переписка показывает, что это оставалось задачей номер один для опального революционера. Оказавшись вне России, Троцкий в значительной мере освободил свой анализ международной ситуации от конъюнктурных соображений. Практик революции стал одним из наиболее трезвых критиков существующих порядков как в СССР, так и в странах Европы, он был наиболее точен в описании тоталитарных режимов и меньше всего близок к истине в оценке потенциала европейской демократии. Исходные позиции Троцкого в 1929 году не претерпели изменений по сравнению с предыдущим периодом: капитализм находится на грани краха и переходит от демократических форм обеспечения своего господства к фашизму. Что касается СССР, то здесь в процессе строительства социализма произошло «перерождение» диктатуры пролетариата в бонапартистский режим, потерявший опору в рабочем классе и опирающийся исключительно на бюрократический аппарат. Находящиеся в руководстве страны приверженцы Сталина склонны к соглашению с правыми и устранению левых течений, однако сохранение рабочего характера Советского государства оставляет последним шанс встать во главе его реформирования и возврата к ленинской политике. Внутренняя логика этой схемы имела немало «узких мест» при соприкосновении с реальностью. Рассчитывая на железную поступь законов истории, левая оппозиция оставалась ничтожной силой в европейском рабочем движении. Для объяснения этого противоречия вне Советского Союза (в СССР все списывалось на сталинские репрессии и отсутствие партийной демократии) Троцкий был вынужден признать затишье в революционном процессе конца 1920-х годов, сохранив веру в близость нового подъема. «Повторяю, сейчас мы снова только международное пропагандистское общество. Я не вижу в этом ни малейшего основания для пессимизма, несмотря на то, что за спиной у нас великая историческая гора Октябрьской революции. Вернее сказать — именно поэтому. Я не сомневаюсь, что развитие новой главы пролетарской революции будет от нашей сектантской группы вести свою родословную»[1103].
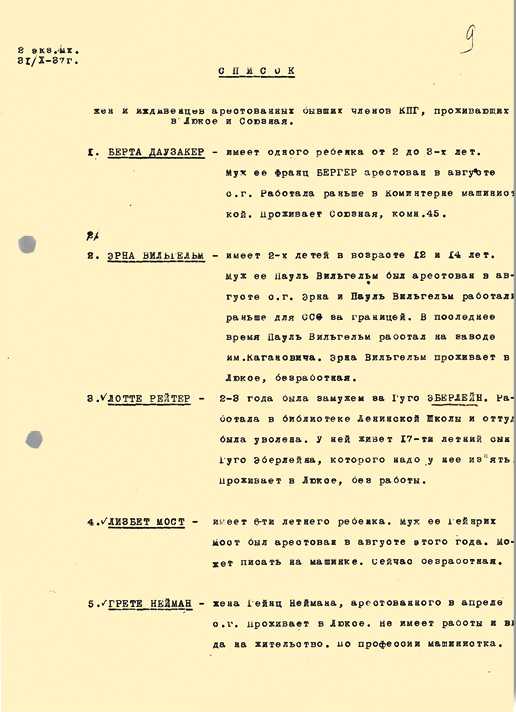
 В годы большого террора будут репрессированы не только истинные и мнимые соратники Л. Д. Троцкого, такие как Гейнц Нейман и Герман Реммеле, но и члены их семей. Список жен и иждивенцев арестованных троцкистов — бывших членов компартии Германии
31 октября 1937
[РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 156. Д. 173. Л. 9–10]
В годы большого террора будут репрессированы не только истинные и мнимые соратники Л. Д. Троцкого, такие как Гейнц Нейман и Герман Реммеле, но и члены их семей. Список жен и иждивенцев арестованных троцкистов — бывших членов компартии Германии
31 октября 1937
[РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 156. Д. 173. Л. 9–10]
Сжигая мосты по отношению к другим оппозиционным группам в социалистическом рабочем движении («молодые, особенно оппозиционные оппортунистические фракции настолько же симпатичнее старых социал-демократических партий, насколько молодой поросенок симпатичнее старой свиньи»), Троцкий обрекал себя на гордое одиночество. Апологетический подход к собственному прошлому объединял его взгляды со сталинской версией истории ВКП(б) и в конечном счете лишал коммунистические партии привязки к ценностям европейской политической культуры. Троцкий с удовлетворением фиксировал каждое поражение буржуазной демократии в годы мирового экономического кризиса, доводя ее неприятие до абсолюта: «Демократия стоит и падает с капитализмом. Отстаивая пережившую себя демократию, социал-демократия загоняет общественное развитие в тупик фашизма»[1104]. Вопреки очевидной для всех, и прежде всего для советских граждан, трагедии «великого перелома» он продолжал считать Сталина всего лишь «выдающейся посредственностью» и беспринципным бюрократом, пытавшимся сыграть в международном рабочем движении роль лидера Интернационала левых социалистов, который вошел в историю как «Двухсполовинный». «Политика Сталина, хотя и исходит из других исторических основ и традиций, представляет собою разновидность того же центризма… После всех ошибок и вызванных ими жестоких поражений сталинский центризм давно уже был бы политически ликвидирован, если бы он не опирался на идейные и материальные ресурсы государства, вышедшего из Октябрьской революции. Но и самый могущественный аппарат не может спасти безнадежную политику. Между марксизмом и социал-патриотизмом нет места для сталинизма»[1105]. Популярная среди современных сторонников Троцкого на Западе легенда об искреннем стремлении этого политического деятеля к сотрудничеству рабочих партий перед лицом фашистской угрозы лишена реальной почвы именно потому, что он, признавая в 1932 году возможность обращения даже к вождям социал-демократии, видел его цель не в защите демократических ценностей, а в создании предпосылок пролетарской революции. Позже Троцкий не примет курс Седьмого конгресса Коминтерна на антифашистский народный фронт, посчитав его очередным проявлением «вихляний» бюрократического оппортунизма. Сентябрьские выборы в рейхстаг 1930 года, огромный прирост голосов у нацистов заставили Троцкого сосредоточить свое внимание на германских событиях. Он ни минуты не колебался в признании гитлеровского движения врагом номер один не только коммунистов, но и всех рабочих партий. «Несмотря на парламентскую победу компартии, пролетарская революция, как целое, потерпела на этих выборах серьезное поражение», ибо они показали, что мелкая буржуазия качнулась в сторону фашизма. Верный тезис о необходимости ее привлечения на сторону пролетариата сопровождался сомнительным утверждением, что «этот поворот не может быть достигнут без радикальных изменений в самом пролетариате, т. е. без политической ликвидации социал-демократии»[1106]. Руководители Коминтерна в начале 1930-х годов предлагали иные решения. КПГ должна была стать «третьим радующимся» в борьбе буржуазной демократии и фашизма, перепрыгивая в ходе политических баталий с одной чаши весов на другую и отбирая голоса избирателей у обеих противостоящих сторон. Это нашло свое выражение в обращении компартии к социал-демократическому правительству Пруссии с требованием немедленного выполнения предвыборных обещаний. Отказ СДПГ привел к участию компартии вместе с нацистами в референдуме против прусского правительства в 1931 году. Это вызвало резкую отповедь Троцкого: «Мы не имеем права сокращать путь фашизма к власти». Он настаивал на параллелях ситуации в Германии и российских событий 1917 года, когда участие большевиков в едином фронте демократических сил предопределило разгром корниловщины. Не раздувание нацистской опасности, а решительная борьба с ней обеспечат выход КПГ на исходные рубежи пролетарской революции. Сила социально-политического анализа Троцкого наиболее ярко проявилась в двух крупных работах, написанных накануне прихода гитлеровского фашизма к власти, — «Что же дальше?» и «Единственный путь». В первой из них он дал определение фашизма, ставшее основой для размышлений не только марксистских теоретиков. Вот оно: «Фашизм — это не просто система репрессий, насилия, полицейского террора. Фашизм представляет собой особую государственную систему, основанную на искоренении всех элементов пролетарской демократии в буржуазном обществе. Задача фашизма — не только в разгроме пролетарского авангарда, но в распылении всего класса. И здесь недостаточно физическое преследование самых революционных слоев рабочих. Речь идет о разгроме всех самостоятельных и добровольных организаций, уничтожении всех опорных пунктов рабочего класса и искоренении плодов семидесятилетней работы социал-демократии и профсоюзов. А на эту работу в конечном счете опирается и Коммунистическая партия». Последнее признание было явно не в духе Троцкого, оно было вызвано самой жизнью, отодвинувшей в сторону частные разногласия перед лицом общей угрозы. В его работах, написанных на острове Принкипо, впервые появился термин «сталинизм» и была дана характеристика советского общества, временно попавшего под власть бюрократического аппарата. Но надежды на то, что массы воспрянут и сметут переродившихся лидеров как в Советском Союзе, так и в зарубежных компартиях, оказались тщетными. Призывы Троцкого к чрезвычайному конгрессу Коминтерна так и остались гласом вопиющего в пустыне. Он прорабатывал альтернативный вариант, отнюдь не связывая его только с победой фашизма: «…хотя мы всеми силами и боремся за возрождение Коминтерна и преемственность его дальнейшего развития, мы абсолютно далеки от голого фетишизма форм. Судьба пролетарской революции для нас выше судьбы организации Коминтерна. И если станет реальностью худший из вариантов, если вопреки нашим стараниям нынешние официальные партии будут приведены сталинской бюрократией к краху, если нам в известном смысле придется начинать все сначала, то новый Интернационал вырастет из идей и кадров Левой коммунистической оппозиции»[1107]. Троцкий последним признал свой разрыв с Коминтерном, произошедший уже в 1927 году. Генерал без армии, он не скрывал своей растерянности, признаваясь в одном из писем: мы похожи на людей, одиноко стоящих на вокзале и ждущих поезда, о котором они знают лишь то, что он должен иметь номер четыре. Эфемерность Четвертого Интернационала, с которым перебравшийся вначале в Скандинавию, а затем во Францию Троцкий связывал надежды на новый подъем мировой революции, имела в своей основе нечто большее, чем отсутствие у новой организации социальной базы. История, повторенная дважды, становится фарсом. Четвертый по счету Интернационал, как и все его предшественники, претендовавший на единоличное представительство интересов рабочего класса, не мог стать не чем иным, как памятником человеку, уже пережившему и фарс, и трагедию. Шли годы, а идея всемирного пролетарского переворота так и не обрастала новыми сторонниками, напротив, проклинаемая Троцким социал-демократия завоевывала все новые позиции на политической арене. Да и Коминтерн после своего Седьмого конгресса обрел второе дыхание, провозгласив политику антифашистского народного фронта. История не желала развиваться по законам, предписанным ей небольшой группой «большевиков-ленинцев» самых разных национальностей. А они оставались сами собой, готовые в любой момент броситься туда, где разгорается пожар мировой революции. Троцкий с удвоенным вниманием следил за горячими точками планеты, будь то Германия или Китай, Испания или Латинская Америка. К его выводам прислушивались и правительства, и революционеры, но все меньше людей шло за ним. Все силы «безоружного пророка» были отданы делу революции, но новые поколения, казалось, не хотели принимать такой жертвы.
 Лев Давидович Троцкий
1940
[Из открытых источников]
Лев Давидович Троцкий
1940
[Из открытых источников]
Коминтерн всего на три года пережил Троцкого. В их трагической судьбе много общего, но есть и принципиальное отличие. В то время как секции Коминтерна попали под пресс сталинского диктата и склонились перед ним, Троцкий поставил политическую независимость выше амбиций власти. Сумей Коминтерн отстоять свое право на иное мнение, сохранить дух коммунистического плюрализма и идейной самостоятельности, кто знает, какими путями пошло бы европейское рабочее движение. Но и сам Троцкий оставался пленником той доктрины, которая окрыляла его в решающие моменты его жизни. Выброшенный из руководства ВКП(б), высланный из Советского Союза, он не желал, а может быть, просто не мог внести коррективы в собственный маршрут. Чем больше он увлекался созданием «своего» Интернационала, тем более конъюнктурными становились его оценки Коминтерна. Как когда-то меньшевики — для большевиков, а левые социалисты — для коммунистов, ближайшие конкуренты в борьбе за истинное толкование и практическое воплощение марксистской теории превращались из потенциальных союзников в главных врагов. Троцкий писал в марте 1938 года, добравшись до конечной точки странствий современного Агасфера — мексиканского города Койоакана: «В практической политике Коминтерн стоит вправо от Второго Интернационала. В Испании Коммунистическая партия методами ГПУ душит левое крыло рабочего класса. Во Франции коммунисты стали, по выражению газеты „Тан“, представителями „ярмарочного шовинизма“. То же наблюдается, более или менее, в Соединенных Штатах и в ряде других стран. Традиционная политика сотрудничества классов, на борьбе с которой возник Третий Интернационал, стала теперь в сгущенном виде официальной политикой сталинизма, причем на защиту этой политики призваны кровавые репрессии ГПУ… Для революционной политики нужна революционная партия. У Сталина ее нет. Большевистская партия убита. Коминтерн вконец деморализован»[1108]. В этих горьких признаниях было немало правды, но не вся правда. Троцкий внес немалый вклад в то, что на многих поворотах коминтерновской истории верность стратегическим целям движения отступала перед тактическими интересами его отцов-основателей, одним из которых был он сам. Интересы эти имели весьма широкий спектр: от защиты «отечества всех трудящихся» до «искоренения троцкизма» в западных компартиях. Зигзагообразность генеральной линии международного коммунистического движения давно уже стала притчей во языцех западной прессы, и Троцкий не открывал ничего нового, приподнимая завесу секретности над тем, что давно уже потеряло даже минимальный аромат таинственности и романтизма. Идея поглотила его, превратила окружающий мир в замкнутое пространство. Бесспорно, в разгар сталинских репрессий Троцкий был одним из немногих, кто со всей страстью выступал против беззакония, возведенного в закон. Спасая честь большевизма, Троцкий не мог не остаться последним большевиком. Смольный в октябре семнадцатого стал колыбелью этого политического деятеля, и он уже не мог поставить под вопрос главный итог собственной жизни. В любом обществе есть люди, не желающие подстраиваться под общепринятый размер. К их числу принадлежал и Троцкий. Его идеи и дела принадлежат прошлому. Но это наше прошлое. И чем дальше оно будет уходить от будничных забот современности, тем более одиноко наш герой будет смотреться на историческом пьедестале, сотворенном для себя самого. Абсолютизация насилия и отрицание демократических ценностей оказались отнюдь не чужды политической культуре Европы в период между двумя мировыми войнами. Было что-то символическое в том, что Троцкий стал свидетелем подъема фашистских движений, но так и не дожил до их сокрушительного краха, который подвел черту под самым страшным периодом в истории прошлого века.
Часть 5. Бухарин. Местоблюститель
5.1. Путь на вершину
В отличие от Зиновьева и Радека Николаю Бухарину — третьему из российских партийных лидеров, возглавлявших Коминтерн в 1920-е годы, посвящено немалое количество научных биографий как российских, так и зарубежных[1109]. Его образ в годы горбачевской перестройки стал символом «социализма с человеческим лицом», безжалостно растоптанного сталинским сапогом. Перестройка вскоре обернулась крахом всей социалистической модели, Бухарина в пантеоне российской истории заслонили древние князья и старорежимные полководцы. Данное ему Лениным определение «любимец партии» из похвалы превратилось едва ли не в клеймо, ведь как рассуждает средний обыватель, «яблоко от яблони недалеко падает». Действительно, Бухарин был плотью от плоти большевистского проекта, в своих последних письмах перед расстрелом главный обвиняемый третьего показательного процесса продолжал клясться в верности его целям и принципам. Николай Иванович Бухарин
1920-е
[РГАСПИ. Ф. 329. Оп. 1. Д. 22. Л. 10]
Николай Иванович Бухарин
1920-е
[РГАСПИ. Ф. 329. Оп. 1. Д. 22. Л. 10]
И в то же время он, как никто другой, подходит для психологического анализа того сообщества, которое создало и управляло партией, страной и Коминтерном. Его политические противники и биографы с учеными степенями сходились в том, что это был человек нараспашку, политическая наивность которого прекрасно уживалась с революционной романтикой. Если Зиновьев хотел, но не мог быть похожим на Ленина, то Бухарину это удавалось без особых усилий. Троцкий в одном из набросков своих очерков, посвященных лидерам большевизма, писал: «В характере Бухарина было нечто детское, и это делало его, по выражению Ленина, любимцем партии. Он нередко и весьма задорно полемизировал против Ленина, который отвечал строго, но благожелательно. Острота полемики никогда не нарушала их дружеских отношений. Мягкий, как воск, по выражению того же Ленина, Бухарин был влюблен в Ленина и привязан к нему, как ребенок к матери»[1110]. О детской открытости нашего героя свидетельствует немало мемуаров людей, знавших его лично. Клара Цеткин называла его на французский манер gamin de la revolution — «уличным мальчишкой революции». Надежда Иоффе вспоминала о выходке Бухарина в то время, когда он проживал в здании советского полпредства в Берлине: «Мое 12-летнее воображение он потряс тем, что в день своего рождения, принимая поздравления, он вскочил на длинный банкетный стол, пробежал его до половины и… встал на голову»[1111]. Наш герой одним из первых представителей «старой гвардии большевизма» получил не только правовую, но и партийную реабилитацию, посвященная ему книга американского историка Стивена Коэна (и очень вовремя переведенная на русский язык) стала на рубеже 1980–1990-х годов одним из бестселлеров для гуманитарной интеллигенции. Автору очерка, тогда молодому сотруднику Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, довелось участвовать и в издании первого сборника произведений Бухарина, и в написании статей, посвященных его теоретическому наследию[1112]. Могу с уверенностью сказать, что эта работа велась не просто в авральном режиме «возвращения прошлого», но и с большим эмоциональным подъемом. Нам казалось тогда, что мы восстанавливаем историческую справедливость, заполняем «белые пятна» сталинской эпохи и тем самым возвращаемся к «ленинской модели социализма», от которой победившая в революции партия отказалась шесть десятилетий назад[1113]. Интерес к личности, политическому и научному наследию Бухарина постепенно стих к концу прошлого века, но он и по сей день остается одним из наиболее изученных большевиков ленинского призыва. Его короткая, но яркая биография вместила в себя подполье, ссылки и эмиграцию, оппонирование Ленину в период заключения Брестского мира, кодификацию исторического материализма и литературные этюды, роль главного экзорциста в борьбе с внутрипартийной оппозицией, редакторство газеты «Правда», союз со Сталиным и превращение в «правого оппортуниста» после разрыва с ним, три брака и счастье отцовства, чудовищные обвинения в терроризме и расстрельный приговор, наконец.
 В руководстве РКП(б) Бухарин больше других олицетворял собой романтику мировой революции
Плакат
1918
[Из открытых источников]
В руководстве РКП(б) Бухарин больше других олицетворял собой романтику мировой революции
Плакат
1918
[Из открытых источников]
Все это останется за рамками настоящего очерка — мы ограничимся ролью Бухарина в создании и работе Коммунистического Интернационала на протяжении первого десятилетия истории этой международной организации. За этот период наш герой проделал путь от бесшабашного радикала до политического тяжеловеса, способного постоять за свое видение перспектив коммунистического движения. Скорее вознесенный, чем вознесшийся к вершинам власти в нэповской России, он вчистую проиграл борьбу за ее сохранение, оставив один на один со сталинской диктатурой своих друзей и соратников как отечественных, так и зарубежных. В начале 1918 года Бухарин стал одним из самых заметных «левых коммунистов», которые выступали против заключения сепаратного Брестского мира с кайзеровской Германией. Его уверенность в том, что Советская Россия даже ценой собственной гибели должна разбудить европейский пролетариат, разбилась о ленинскую непреклонность в необходимости «мирной передышки», за которую следовало заплатить любую цену. Именно к этим дням относился эпизод, упомянутый Троцким, когда эмоциональный Бухарин сравнивал партию с чем-то похуже навозной кучи[1114]. На третьем показательном процессе в 1938 году всплыл и еще один сюжет, связанный с обсуждением «левыми коммунистами» планов ареста Ленина, который не был ни подтвержден, ни опровергнут обвиняемыми. Так или иначе, Брестский договор был подписан, Бухарин сохранил свои позиции в ближайшем окружении вождя и вплотную занялся как пропагандой мировой революции, так и налаживанием советско-германских отношений. Уже в начале июня 1918 года он отправился в Берлин для участия в подготовке Добавочного договора, уточнявшего и развивавшего положения Брестского мира. Одновременно с заседаниями в двусторонней политической комиссии Бухарин поддерживал подпольные связи со «спартаковцами», рассказывая им о положении дел в Советской России[1115]. Вернувшись в Москву, он рассказывал свои соратникам о том, что немецкий рабочий класс изможден годами войны, и без создания боевой партии по типу РКП(б) победа пролетарской революции в Германии невозможна. Его второй приезд в Берлин в октябре того же года был связан с подготовкой германской революции, свой вклад в которую внесло советское полпредство[1116]. Детали этой работы до сих пор практически неизвестны, мы точно знаем только то, что имя Бухарина, который был выслан из Берлина 5–6 ноября 1918 года в связи с «подрывной деятельностью против кайзеррайха»[1117], фигурировало в списке персонала полпредства. За долгие годы вынужденной эмиграции он установил контакты с левыми социалистами не только в Германии, но и в странах Антанты. Вполне закономерно, что именно ему Ленин поручил написать воззвание «К первому съезду Коммунистического Интернационала», которое было опубликовано в советской печати 24 января 1919 года.

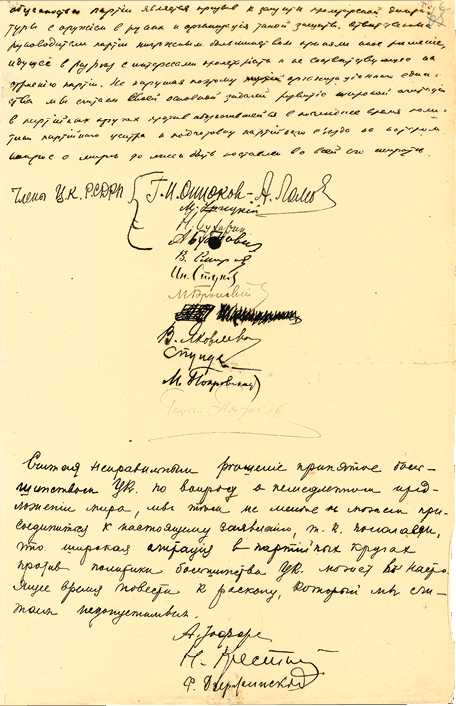 Н. И. Бухарин третьим подписал заявление оппозиционной группы «левых коммунистов» о несогласии с решением ЦК о немедленном заключении мира с Германией
Не позднее 22 февраля 1918
[РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 1а. Д. 411. Л. 5–6]
Н. И. Бухарин третьим подписал заявление оппозиционной группы «левых коммунистов» о несогласии с решением ЦК о немедленном заключении мира с Германией
Не позднее 22 февраля 1918
[РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 1а. Д. 411. Л. 5–6]
Хотя окончательный текст воззвания вышел за подписями Ленина и Троцкого, наличие рукописного оригинала платформы не оставляет сомнений в том, что их ключевым соавтором был Бухарин. За несколько минут до наступления нового 1919 го-да он отправил Ленину свой проект, нарисовав на его последней странице шарж, в котором без труда можно было узнать адресата[1118]. В документе были сведены воедино основные мысли ленинских работ, дававших характеристику современной эпохи: капитализм достиг предела своего развития и стал угрозой для человеческой культуры, единственный путь спасения — в немедленном захвате пролетариатом политической власти. Для того чтобы преодолеть сопротивление эксплуататоров и двигаться к коммунизму, считал Бухарин, должен быть создан пролетарский аппарат власти в виде «Советов или сходных организаций», ничего общего не имеющих с институтами буржуазной демократии. Именно этот аппарат возьмет на себя задачу национализации основных средств производства, чтобы превратить их в общенародную собственность. Столь же просто выглядела и тактика коммунистов в рабочем движении Европы: беспощадная борьба с правыми элементами, откол от центристов и завоевание их рядовых сторонников, сближение со всеми, кто «стоит теперь в общем и целом на точке зрения пролетарской диктатуры и Советской власти». На Учредительном конгрессе Коминтерна Бухарин вместе с немцем Эберлейном делал доклад об идейных основах создаваемой «всемирной партии коммунистов». В основу ее будущей программы следовало положить опыт российской революции, согласно которому советское оформление господства одной партии выступало оптимальным практическим воплощением диктатуры пролетариата, предначертанной Марксом. Если большевики смогли использовать в своих целях деградацию царского режима, которую стимулировала Первая мировая война, то их зарубежным единомышленникам для выхода на боевые позиции «придется использовать буржуазные парламентские организации, чтобы затем, уже организованно, со всей силой пойти на последний бой»[1119].
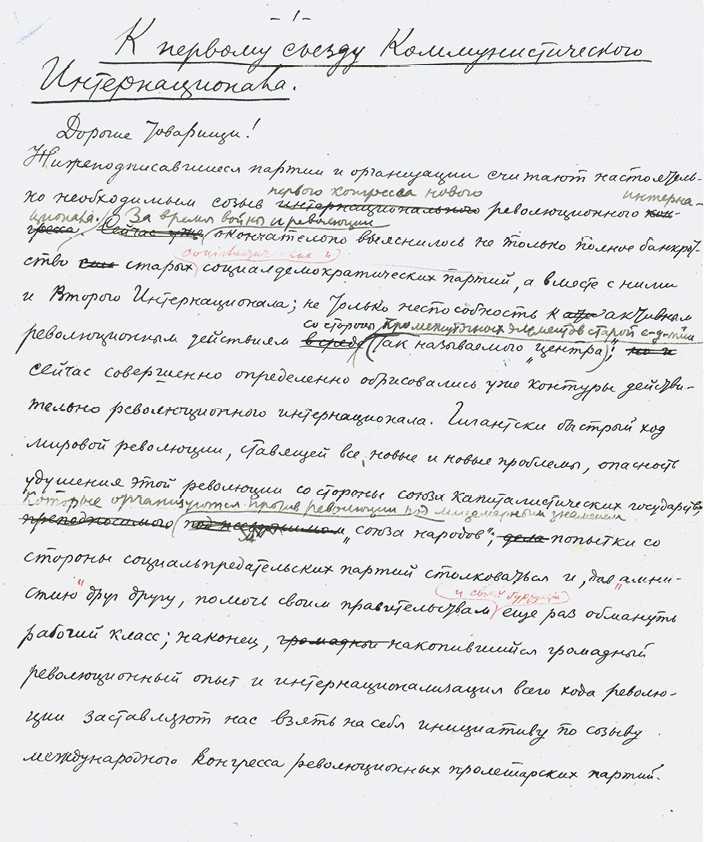 Первая часть воззвания к учреждению Коммунистического Интернационала была написана Н. И. Бухариным
31 декабря 1918
[РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 8094. Л. 1–5]
Первая часть воззвания к учреждению Коммунистического Интернационала была написана Н. И. Бухариным
31 декабря 1918
[РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 8094. Л. 1–5]
И все же абсолютизация опыта большевиков доминировала и в теоретической, и в практической работе Коминтерна. Уже через две недели после завершения конгресса Бухарин заявил на съезде РКП(б): «…программа нашей партии в значительной степени является и программой международного пролетариата… Всякая революция, которая следует за нашей революцией, должна учиться у нее»[1120]. Это обусловило насыщенность коминтерновских документов военно-коммунистическими установками, избавиться от которых до конца не удалось и в окончательном варианте программы этой организации. В последующем Бухарин не потерял интереса к делам Коминтерна, зарезервировав за собой образ «революционного романтика»[1121]. Свидетельством этого была его активная работа в Малом бюро, а затем в Президиуме ИККИ, выступления и встречи с зарубежными делегациями в ходе первых конгрессов Коминтерна. После поражения Красной армии под Варшавой он выступил в коминтерновской прессе со статьей, оправдывающей использование военной силы Советской России для стимуляции захвата власти коммунистами в других странах. Ссылаясь на опыт Великой Французской революции, автор писал, что «штыки революционных армий прорвали тогда подгнившую феодально-крепостническую оболочку Европы»[1122]. Развивая любимую тему, Бухарин констатировал принципиальную разницу «между буржуазной и пролетарской экспансией», перенимая стилистику Ленина в полемике с Каутским и другими социалистами: «Кто этой разницы не понимает, тот не понимает ровно ничего, тот безнадежен, того исправит только могила». Люди такого рода, которых большевики уничижительно называли «социал-пацифистами», заблуждались, утверждая, что «штык негоден для таких деликатных вещей, как великая идея социализма»[1123]. Точно так же, как Пилсудский принимал помощь Англии и Франции, рабочие западных стран будут благодарно принимать помощь Красной армии, когда она пересечет их границы. Бухарин формулировал жесткую директиву: «Раз „вмешательство“ уже началось (началась внешняя „советизация“), коммунистические партии обязаны ее поддерживать со всей энергией. Иначе — простая измена и дезертирство с поста». Можно не сомневаться в том, что он изложил на бумаге те мысли, которые лидеры РКП(б) доверяли своим зарубежным гостям в кулуарах Второго конгресса.
 Н. И. Бухарин (второй слева) среди делегатов Второго конгресса Коминтерна на балконе Большого Кремлевского дворца у снятых с фасада символов Российской империи
23 июля — 6 августа 1920
[РГАСПИ. Ф. 489. Оп. 2. Д. 128. Л. 1]
Н. И. Бухарин (второй слева) среди делегатов Второго конгресса Коминтерна на балконе Большого Кремлевского дворца у снятых с фасада символов Российской империи
23 июля — 6 августа 1920
[РГАСПИ. Ф. 489. Оп. 2. Д. 128. Л. 1]
 В. И. Ленин, Н. И. Бухарин и Г. Е. Зиновьев беседуют в перерыве заседания Второго конгресса Коминтерна
23 июля — 6 августа 1920
[РГАСПИ. Ф. 489. Оп. 2. Д. 113. Л. 1]
В. И. Ленин, Н. И. Бухарин и Г. Е. Зиновьев беседуют в перерыве заседания Второго конгресса Коминтерна
23 июля — 6 августа 1920
[РГАСПИ. Ф. 489. Оп. 2. Д. 113. Л. 1]
Бухарин, хотя и отличалсякрайними формулировками (ему принадлежит термин «красная интервенция», отвергнутый Коминтерном), не был одинок в своем безудержном радикализме. Зиновьев также проявил чудеса словесной эквилибристики, обосновывая на примере советско-польской войны диалектику между революционной обороной и наступлением. «Начавшись, как война в стратегическом отношении для Советской России оборонительная, она затем превратилась в войну со стратегической точки зрения наступательную — все время оставаясь в более глубоком, историческом смысле слова оборонительной войной российского пролетариата против польской и всемирной буржуазии»[1124]. Подобные мысли попадали на благодатную почву. Сторонники левого крыла в компартиях видели в них опровержение ленинского диагноза «детской болезни левизны», считали, что успех их политической линии зависит от того, сможет ли активное меньшинство выступить в роли катализатора новых революционных боев.
5.2. Погружение в коминтерновские проблемы
В первые годы существования Коминтерна Бухарин проявлял себя сознательным сторонником левого крыла коммунистического движения, защищая «мартовскую акцию» КПГ и лежавшую в ее основе «теорию наступления» и критически относясь к предложенной Радеком политике единого рабочего фронта. В ходе первого обсуждения новой тактики в ИККИ наш герой не скрывал своего скептицизма: «Опасность заключается в том, что иностранные товарищи смотрят на этот новый этап как на постоянную величину, и на частичные требования, о которых говорил тов. Радек, будут смотреть как на программу этого нового этапа. По моему мнению, чрезвычайно важно, чтобы Исполком и все примыкающие к нему партии поняли, что новый этап — величина весьма неустойчивая и что через сутки может наступить другой новый этап…»[1125] Бухаринский тезис о том, что обсуждаемый тактический поворот является не постоянной величиной, а временным стечением обстоятельств, породил бурную дискуссию. На трибуну вновь вышел Радек, скрестивший шпагу с оппонентом. «В европейском масштабе мы стоим перед длинным периодом серьезной борьбы, и мы не можем отбросить нашу тактику через 24 часа». В немецком оригинале стенограммы есть даже фраза о том, что требования, выдвигаемые в рамках новой тактики, — «стратегические, они имеют программный характер»[1126]. Естественно, такая трактовка единого рабочего фронта не могла импонировать ни Бухарину, ни Зиновьеву, которые ревниво следили за карьерным взлетом своего оппонента. Вероятно, негативное отношение Бухарина к радековской трактовке единого рабочего фронта побудило Ленина, бравшего на себя роль последней инстанции, включить его в делегацию Коминтерна, отправившуюся на первую и последнюю в истории встречу трех рабочих Интернационалов[1127]. Обмен взаимными обвинениями уже в первый день встречи достиг такой остроты, что Радек стал настаивать на уходе с нее коммунистов. В ходе последующих дебатов в делегации Бухарин проявил тактическую гибкость, предложив не метать громы и молнии, а искать пункты соприкосновения. «Мы должны быть спокойнее. У нас еще будет возможность для использования крепких слов. Неразумно после того, как Вандервельде [бельгийский социал-демократ, представлявший Второй Интернационал. — А. В.] произнес острую речь, нам сразу же говорить о крахе конференции»[1128]. Николай Иванович Бухарин
Художник И. И. Бродский
[РГАСПИ. Ф. 489. Оп. 1. Д. 68. Л. 39]
Николай Иванович Бухарин
Художник И. И. Бродский
[РГАСПИ. Ф. 489. Оп. 1. Д. 68. Л. 39]
Она завершилась одним из тех «гнилых компромиссов», которые были характерны скорее для дипломатической практики, ибо не привела ни к созыву всемирного рабочего конгресса, ни к международной кампании в защиту интересов Советской России. Бухарин остался при своем мнении, высказанном еще при первом обсуждении тактики единого рабочего фронта: «Я вам гарантирую, что каждый западноевропейский рабочий, который не увидит в ней стратегического маневра, будет рассматривать ее как капитуляцию коммунизма», ибо для него Коминтерн превратится в «инструмент русских — молчанием этой опасности не устранишь»[1129].
 Официальный протокол встречи трех рабочих Интернационалов в Берлине, опубликованный на немецком языке
1922
[Из открытых источников]
Официальный протокол встречи трех рабочих Интернационалов в Берлине, опубликованный на немецком языке
1922
[Из открытых источников]
Такое отношение Бухарина к попыткам создания единого рабочего фронта не осталось незамеченным. 20 апреля 1922 года решением ЦК он был вызван в Москву для участия в судебном процессе по делу эсеров и не вошел в состав берлинской «девятки», единоличным лидером которой остался Радек. Впрочем, срок жизни этого рабочего органа трех Интернационалов был недолгим — 23 мая того же года его работа прекратилась, и Бухарин был последним, кто проливал слезы по этому поводу. 9 мая он докладывал на заседании ИККИ об итогах берлинской встречи. По его мнению, ее проведение явилось результатом давления европейских рабочих на своих лидеров, причем Венский Интернационал левых социалистов «пытался сыграть роль папочки, соединяющего своих детей». В вопросах, касающихся Советской России, оппоненты Коминтерна выступали единым фронтом, добившись от его делегации «оправданных уступок», которыми была оплачена перспектива созыва всемирного рабочего конгресса. Далее докладчик вступал на стезю «реальполитик». Так, при обсуждении ситуации в Грузии наиболее активной являлась английская делегация, поскольку Великобритания нуждалась в бакинской нефти. «Можно сказать: то, что произошло в Генуе, в модифицированной форме произошло и на Берлинской конференции. Так же, как и наша делегация в Генуе, Коминтерн был единственной силой, противостоящей пристяжным буржуазных правительств»[1130], — утверждал Бухарин.
 Г. Е. Зиновьев, американский писатель К. Маккей и Н. И. Бухарин в кулуарах Четвертого конгресса Коминтерна
9 ноября — 5 декабря 1922
[РГАСПИ. Ф. 491. Оп. 2. Д. 180. Л. 1]
Г. Е. Зиновьев, американский писатель К. Маккей и Н. И. Бухарин в кулуарах Четвертого конгресса Коминтерна
9 ноября — 5 декабря 1922
[РГАСПИ. Ф. 491. Оп. 2. Д. 180. Л. 1]
Его ожидания, что период спокойного внутриполитического развития в европейских странах, оправдались уже через несколько месяцев — в Германии разразился национальный кризис, вызванный оккупацией Рурского бассейна. Именно Бухарин в январе 1923 года выступал с балкона здания Исполкома Коминтерна, расположенного напротив Кутафьей башни Кремля, на многотысячном митинге протеста против франко-бельгийской агрессии. Она впервые поставила перед лидерами Коминтерна вопрос об учете национального фактора в реальной политической борьбе компартий. Ссылок на принципы пролетарского интернационализма («у пролетариев нет своего отечества») в данном случае явно не хватало, следовало разъяснить простым рабочим, почему в столкновении двух империализмов следует поддержать германский, а не французский.
 Шифропереписка эмиссаров Коминтерна с Москвой велась через дипломатические представительства Советской России Телеграмма полпреда в Берлине Н. Н. Крестинского Г. Е. Зиновьеву и И. В. Сталину
4 марта 1923
[РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 19. Д. 69. Л. 25]
Шифропереписка эмиссаров Коминтерна с Москвой велась через дипломатические представительства Советской России Телеграмма полпреда в Берлине Н. Н. Крестинского Г. Е. Зиновьеву и И. В. Сталину
4 марта 1923
[РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 19. Д. 69. Л. 25]
Чтобы на месте ознакомиться с ситуацией, в феврале — марте 1923 года Бухарин инкогнито побывал в Германии и Скандинавии. По возвращении оттуда он сообщал 4 марта 1923 года из Берлина Зиновьеву и Сталину, что «норвежцы приняли все-таки резолюцию подчинения решениям [ИККИ. — А. В.]. Положение шведов исследовано»[1131]. В данном случае наш герой выступал в роли обычного коминтерновского эмиссара, которого отправляли на съезд той или иной партии, необычным был только его высокий статус в руководстве РКП(б). Как правило, такое лицо являлось не почетным гостем или пассивным наблюдателем, а имело право на вмешательство в ход заседаний из-за кулис. Скандинавские партии в первые годы существования Коминтерна воспринимались как «правые», т. е. партии, в теории принимавшие революционную перспективу, но на практике ориентировавшиеся на парламентскую и пропагандистскую работу. 20 апреля 1923 года Бухарин выступал с отчетом российского представительства в Исполкоме Коминтерна на Двенадцатом съезде РКП(б) — отход от политической деятельности Ленина привел к тому, что он был признан вторым человеком в коминтерновской иерархии. Говоря на съезде о международных последствиях оккупации Рура, Бухарин подчеркивал уникальность сложившейся ситуации, которая «требует от Коммунистического Интернационала, чтобы он различал между французским империализмом и немецкой национальной буржуазией. Это не есть простое повторение конфликта 1914 года, и поэтому мы можем сейчас брать для Германии более резкие „национальные тона“. Это значит, что мы считаем необходимым, чтобы Коммунистическая партия в Германии выступала и имела смелость сказать немецкому рабочему классу, что она сейчас защищает и будет вести за собой весь немецкий трудящийся народ. Она действительно выступает защитником немецкой нации против буржуазии, которая национальные интересы Германии предает»[1132]. Наряду с Зиновьевым Бухарин больше других лидеров РКП(б) был вовлечен в процесс неформальной коммуникации с лидерами зарубежных компартий, находившимися в России (Радек участвовал в нем в основном за границей). Прибывшая в июне 1923 года в Москву Клара Цеткин уже отдавала себе отчет в ее важности. Она сообщала в Берлин о своей первой встрече с Зиновьевым и Бухариным. «Поскольку собралось достаточно много товарищей, разговор получился „официальным“, поверхностным… Более интимные разговоры происходили у меня [дома]»[1133].
 С Кларой Цеткин Н. И. Бухарина связывала долгая дружба, основанная на совпадении политических взглядов
Дружеский шарж Бухарина
Середина 1920-х
[Из открытых источников]
С Кларой Цеткин Н. И. Бухарина связывала долгая дружба, основанная на совпадении политических взглядов
Дружеский шарж Бухарина
Середина 1920-х
[Из открытых источников]
Под последними Цеткин понимала содержательные дискуссии в узком кругу единомышленников, где не нужно было сверять каждое сказанное слово с марксистскими канонами и передовицами «Правды». Более того, в кругу «своих» можно было обсуждать собственные интриги и осуждать интриганство других, критиковать бодряческий тон официальной пропаганды и высказывать сомнения в правильности избранного курса. Биограф немецкой коммунистки, опубликовавшая это письмо, справедливо замечает в своем комментарии, что при работе с коминтерновскими источниками следует отличать то, что было сказано, от того, что было задумано на самом деле. Многое из сказанного и даже сделанного вообще не было зафиксировано в официальных документах — большевики были мастерами конспирации, опыт подпольной работы научил их тому, что любое лишнее слово может стать причиной провалов и полицейских репрессий. Да и об историках будущего в горячке революционных будней никто не думал — переписка вождей, за исключением ленинского секретариата, лишь эпизодически откладывалась в их личных архивах. Мы не имеем ни одного донесения Бухарина из Берлина летом — осенью 1918 года, когда он одновременно участвовал в переговорах и с кайзеровскими дипломатами, и с левыми социалистами (информация об этом дошла даже до Карла Каутского[1134]). Точно так же у нас нет достоверных данных о том, что делал наш герой пять лет спустя, накануне так и не состоявшегося «германского Октября». За Бухариным еще в начале апреля 1924 года был зарезервирован пост первого заместителя Зиновьева, это решение было проведено в жизнь на заседании ИККИ, которое избрало новый состав руководящих органов Коминтерна после его Пятого конгресса[1135]. Имея немало параллельных линий в своей партийной биографии, оба члена Политбюро по своему характеру являли собой полную противоположность. Осторожный и мнительный Зиновьев при рассмотрении любого вопроса следил за тем, чтобы в нем не содержалось умаления его собственных интересов. Бухарин же, как свидетельствуют мемуары его родных[1136], был человеком легким и непринужденным, нередко гасившим личные разногласия и недомолвки легкой шуткой или дружеским шаржем[1137]. В ответ на обиженные записки Зиновьева, что его деятельность не получает на страницах газеты «Правда» достойного освещения, Бухарин как ее главный редактор ответил по-простецки: «Чего ты объелся и зачем нам ссориться из-за кожуры гнилого огурца?» «Давай руку и помиримся»[1138]. Лояльно работая со сталинским секретариатом в вопросах партийной пропаганды, он без труда находил общий язык и с Председателем Коминтерна, и с зарубежными членами Исполкома. Вместе с Зиновьевым Бухарин работал над проектом письма ИККИ Берлинскому съезду германской компартии, который должен был состояться в июле 1925 года. В своих поправках к документу Бухарин подчеркнул, что «рост социал-демократии есть следствие стабилизации. Чтобы бороться с социал-демократией, нужно говорить не только „вопче“, но и о повседневных нуждах, чего не делает германская компартия». Зиновьев отреагировал на это замечание, добавив к своему тезису о вере немецких рабочих в то, будто коммунисты годятся только для периода прямых революционных битв, в то время как СДПГ более успешна в момент затишья, самокритичную фразу: «В этом виноваты, с одной стороны, иллюзии, порожденные „дауэсизацией“ Германии (международный фактор), с другой стороны, наши собственные „ультралевые“ ошибки»[1139]. После того, как Зиновьев и Сталин отправились в отпуск, еще до начала съезда КПГ, Бухарин остался главным на хозяйстве в Коминтерне. На его плечи легло урегулирование кризиса, связанного с устранением из партии группы Фишер — Маслова[1140]. Представлявший ИККИ на съезде Мануильский слал из Берлина отчаянные телеграммы: «Личная диктатура Рут грозит привести партию к катастрофе. Большинство нового списка ЦК — креатуры Рут, которыми она рассчитывает играть в борьбе за независимость партии от Коминтерна»[1141]. Большего обвинения по отношению к лидеру иностранной компартии нельзя было и придумать. Бухарин бил в набат: «Рассказы Мануильского… подтверждают худшие предположения. Делегация ИККИ третировалась все время как враждебная сторона и даже хуже. Ни одно решение наше не проведено». Он предложил принять по отношению к лидерам КПГ самые жесткие меры: вести дело к устранению из руководства Рут Фишер, пригрозив ей апелляцией к рабочим и созывом чрезвычайной партийной конференции. «Ориентироваться надо на рабочую группу во главе с Тельманом. На своих решениях настоять. В Германии искать верных людей, готовить будущих цекистов»[1142]. Это звучало как установка на полное переформатирование партийного руководства.
 Аркадий Маслов
Середина 1920-х
[Из открытых источников]
Аркадий Маслов
Середина 1920-х
[Из открытых источников]
Одновременно Бухарин вел отдельную переписку со Сталиным, в которой использовал более резкие выражения: левых в КПГ давно пора поставить на место, Рут Фишер — «дрянь», которая пытается «образовать руководящую силу в КИ без РКП» и против РКП. «Эти сволочи нас водят за нос, и теперь с невероятной яркостью вскрылось все лицемерие, политическое убожество и карьеризм этой группки». Бухарин вновь предложил подобрать подходящих людей в «рабочую группу» во главе с Тельманом, которую ввести в состав Центрального комитета на чрезвычайной конференции КПГ[1143]. Использование им особого канала информации было связано с тем, что группа Фишер — Маслова была приведена в руководство партии Зиновьевым, и предложенные жесткие меры неизбежно нанесли бы удар по его авторитету. Сталин, еще недавно протежировавший Аркадия Маслова, скорректировал бухаринские предложения в сторону смягчения, но был непреклонен в двух пунктах: во-первых, «нужно изгнать и наказать всех воришек и расточителей партийной кассы», во-вторых, объявить беспощадную войну Рут Фишер. Исполком «должен поставить себе задачей полное ее разоблачение, как средство оздоровления партии, идя к этой цели твердо и спокойно, без торопливости, но и без гнилой дипломатии»[1144]. Наряду с официальными письмами Сталин также писал Бухарину лично, выражаясь уже без обиняков. Общность их позиции в отношении зиновьевского руководства КПГ отчасти предопределит расстановку сил на Четырнадцатом съезде РКП(б), когда руководитель Коминтерна бросит открытый вызов большинству Политбюро, возглавив «ленинградскую оппозицию». Получив одобрение Сталина, 29 июля 1925 года Бухарин поставил вопрос о кризисе немецкой партии на обсуждение Президиума, на которое была приглашена только что прибывшая делегация КПГ. Под его давлением последняя «внесла декларацию с признанием всех своих ошибок и с обязательством бороться решительным образом против личной диктатуры в ЦК», что вызвало сдержанное одобрение Сталина («успех ясен, приветствую, но это только первый шаг, без организационного закрепления успех сведется к нулю»)[1145]. То, что Бухарин при устранении ультралевых в КПГ ни словом не обмолвился о том, что те на протяжении почти двух лет находились под защитой Сталина (который, в свою очередь, находился под прессингом Зиновьева), не могло не импонировать вождю, только набиравшему силу и влияние. Вероятно, именно этот эпизод привел его к мысли о том, что молодой и креативный Бухарин на посту руководителя Коминтерна будет работать более эффективно, чем пассивный и без меры амбициозный Зиновьев. «Организационное закрепление» не заставило себя ждать. Несмотря на настойчивые вызовы в ИККИ, Рут Фишер вначале заявила о своем отказе ехать в Москву, где ее ждала почетная ссылка, которую уже отбывали Брандлер и Тальгеймер[1146], но потом все же приняла участие в совещании 12–14 августа, где была подвергнута форменному остракизму. Маслов и Фишер были выведены из состава Политбюро на пленуме ЦК КПГ 11 ноября 1925 года.
 Страстью Н. И. Бухарина было рисование карикатур на своих соратников. Щадя их самолюбие, он нередко посылал вдогонку и шарж на самого себя
30 июня 1925
[РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 2. Д. 35. Л. 5]
Страстью Н. И. Бухарина было рисование карикатур на своих соратников. Щадя их самолюбие, он нередко посылал вдогонку и шарж на самого себя
30 июня 1925
[РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 2. Д. 35. Л. 5]
5.3. Дуумвират
После поражения ленинградской оппозиции на Четырнадцатом съезде РКП(б) — ВКП(б) перед победителями встал вопрос о дальнейшей судьбе Зиновьева. Чтобы не посвящать иностранцев во внутренние коллизии, было решено оставить его на посту Председателя ИККИ, однако реальные рычаги управления сосредоточить в постоянно действующей делегации российской компартии в Коминтерне. Ее первое заседание в новом составе, состоявшееся 8 января 1926 года, приняло решение о том, как информировать зарубежных соратников о новой вспышке разногласий в руководящем ядре большевиков. «Поручить т. Бухарину в двухдневный срок составить проект обращения к секциям Коммунистического Интернационала для опубликования. Базой для этого обращения должна служить резолюция XIV съезда ВКП(б)»[1147]. Позже такие «знаковые» поручения станут партийной традицией: в первой половине 1980-х годов таким же образом председатель похоронной комиссии оказывался преемником почившего генсека ЦК КПСС. Правда, в нашем случае речь шла о гораздо менее важной должности, которая для Бухарина выглядела как еще одно партийное поручение. Наш герой не был в восторге от новой сферы деятельности. Его больше привлекали теоретические изыскания, да и работа на посту главного редактора газеты «Правда» отнимала много сил и практически все время. Наблюдавший за ним Бажанов выделил Бухарина из других членов большевистского руководства, отметив, что он «человек умный и способный. На заседаниях Политбюро никаких марксистских глупостей он не произносит, а, наоборот, выступает толково и дельно. И дело говорит, и острит, и мыслью играет. Что он умело скрывает, это глубину своих стремлений к власти. Здесь он ленинский ученик, и ленинская школа не прошла для него бесследно. Но в настоящем периоде, когда все решается взятием в руки партийного аппарата, у него нет никаких шансов, кроме того, чтобы быть на вторых ролях и участвовать в верхушечных партийных интригах»[1148]. Исполком Коминтерна и стал для Бухарина такой ролью второго плана. Фронт работы, на котором он сменил Зиновьева, не относился ни к престижным, ни к каторжным. Это было очевидное следствие новой расстановки сил, в которой «любимец партии», выбрав правильную сторону, сделал еще один шаг наверх. Его не освободили от других занятий, обязав в то же время два дня в неделю уделять коминтерновским делам[1149]. На первых порах Бухарин пытался внести свежие нотки в работу громоздкого аппарата ИККИ как в организационном, так и политическом плане.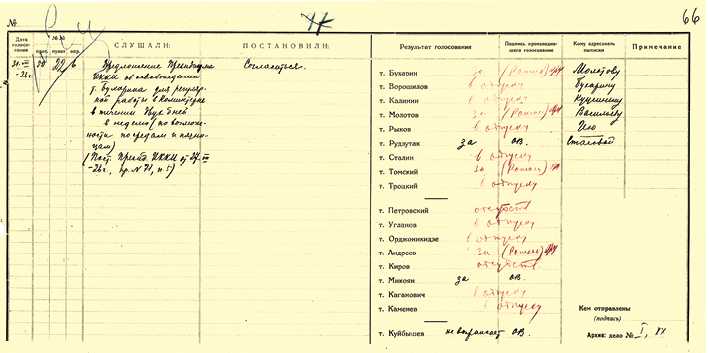 После того, как удаление Г. Е. Зиновьева с поста Председателя Коминтерна стало свершившимся фактом, Политбюро ЦК ВКП(б) заменило его Н. И. Бухариным
31 августа 1926
[РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 163. Д. 587. Л. 66]
После того, как удаление Г. Е. Зиновьева с поста Председателя Коминтерна стало свершившимся фактом, Политбюро ЦК ВКП(б) заменило его Н. И. Бухариным
31 августа 1926
[РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 163. Д. 587. Л. 66]
Так, на внеочередном заседании Президиума 22 января 1926 года он позволил себе смелое заявление, отражавшее инерцию борьбы с левацким уклоном в КПГ, за которым стоял Зиновьев. Бухарин обосновал новый поворот в трактовке ленинской тактики единого рабочего фронта, предложив обращаться не только к социал-демократическим рабочим, но и ко всем политическим группировкам, выступающим против наступления империалистической реакции[1150]. Хотя эта идея вскоре ушла в песок, само ее выдвижение показывало, что в момент перехода лидерства у Коминтерна был шанс серьезного пересмотра своих догматических аксиом. Это касалось и организационных основ международной структуры — первое заседание постоянно действующей делегации ВКП(б) в Коминтерне рассмотрело вопрос о «границах централизма во взаимоотношениях секций и ИККИ»[1151]. После дискуссии решили вернуться к нему на одном из следующих заседаний, однако следов его решения в протоколах «русской делегации» не осталось. Летом 1926 года, когда повестка дня коминтерновской работы определялась английской стачкой и китайской революцией, находившийся на Кавказе Сталин буквально выталкивал Бухарина на авансцену, чтобы тот затмил собой попавшего в немилость и все больше раздражавшего вождя Зиновьева[1152]. Заодно досталось и Исполкому Коминтерна: Сталин посчитал, что его структуры не следует привлекать к организации кампании солидарности с английскими горняками («Фирма Коминтерна не желательна — она может повредить. Лучше дать фирму ВЦСПС»[1153]). Бухарин как мог отказывался от сомнительной чести взять на себя основную работу по дискредитации вчерашнего соратника. Поддерживая нападки на Председателя ИККИ («Зиновьев пересматривает оценку стабилизации и тактику Коминтерна, обливает грязью проводившуюся до сих пор коминтерновскую политику… и берет фактически на себя инициативу немедленного разрыва с Генсоветом»), он неизменно высказывался за сглаживание конфликта, а не его раздувание («Бухарин предпочитает не свои контртезисы, а соответствующие поправки Зиновьеву»)[1154]. При этом Бухарин все же не решался нарушать фракционную дисциплину. 8 июня именно он, а не Зиновьев, председательствовал на заседании Президиума ИККИ, где обсуждались итоги всеобщей стачки в Великобритании. В отличие от оппозиционеров, выступивших за немедленный выход советских профсоюзов из АРК, Бухарин настаивал на том, чтобы сохранить этот орган «профсоюзного единства», который является важным каналом влияния коммунистов на массу тред-юнионистски настроенных рабочих[1155]. Две недели спустя именно он (а не Зиновьев, уже подвергнутый анафеме) сделал главный доклад о дальнейшей борьбе английских горняков на Президиуме ИККИ. В нем Бухарин, не называя имен, раскрыл подоплеку разногласий в Политбюро, и 26 июня доклад появился в «Правде». Только что оформившаяся «объединенная оппозиция» восприняла это как вызов и стала активно готовиться к пленуму ЦК и ЦКК ВКП(б), чтобы изложить перед партией собственную платформу. Дальнейшие события разворачивались уже на самом пленуме, открывшемся 14 июля 1926 года. Выступая с основным докладом по английскому вопросу, Бухарин целился уже не в британский империализм, а в Троцкого с Зиновьевым. Он расценил попытки оппозиционеров поставить под вопрос капиталистическую стабилизацию на Западе как «радикальную переоценку всей международной ситуации, всего международного положения», для которой не было оснований. Докладчику пришлось продемонстрировать чудеса диалектики: с одной стороны, нужно было защищать английских коммунистов, выступавших за сохранение АРК, с другой — не забывать о «предательстве» вождей Генсовета, которые тоже пока не собирались выходить из Англо-русского комитета. Его вновь выручили «массы», на позицию которых большевики неизменно ссылались в критические моменты своей истории. «Мы ставили перед собой такую перспективу, — говорил Бухарин, — что в Англии, с ее неизбежно обостряющейся социально-классовой борьбой, даже реформистские вожди, которые сами по себе не хуже и не лучше, чем в других странах, под давлением масс неизбежно будут должны занять такую позицию, которая будет их отличать от реформистов в других странах. Мы подходим к этому вопросу с точки зрения постоянного давления, которое на этих вождей оказывают массы, и мы смотрели на массы, когда завязывали „наверху“ узелок Англо-Русского Комитета»[1156]. Напротив, оппозиция говорила об оппортунизме «верхов», причем не только в Лондоне, но и в Москве. С ее точки зрения, увлекшись верхушечными комбинациями, фракция большинства в Политбюро пошла на поводу у Генсовета тред-юнионов. С точки зрения Троцкого деятельность АРК была оправданной «лишь до того момента, когда поворот событий отбрасывает оппортунистов в лагерь классовых врагов и дает нам возможность сомкнуться с низами против вождей»[1157]. 12 августа 1926 года Политбюро согласилось с предложением секретаря ИККИ Куусинена о поездке Бухарина на пять дней в Германию. Сталин «мило» пошутил по поводу отсутствия новостей от него: «Бухарин — свинья, и пожалуй, хуже свиньи, ибо считает ниже своего достоинства написать две строчки о своих германских впечатлениях»[1158].

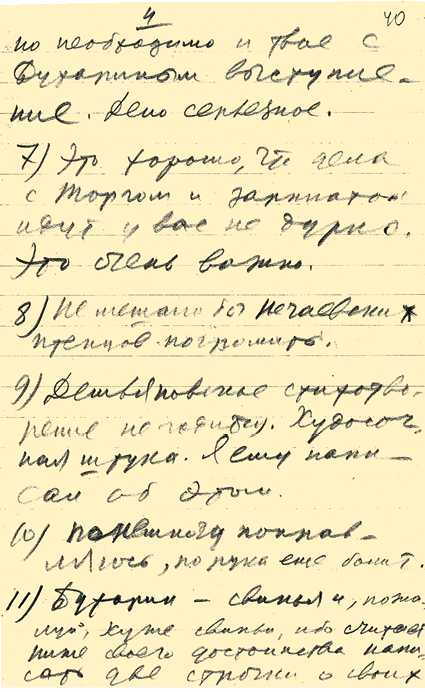 «Бухарин — свинья, и, пожалуй, хуже свиньи, ибо считает ниже своего достоинства написать две строчки о своих германских впечатлениях»
Письмо И. В. Сталина В. М. Молотову
16 сентября 1926
[РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 1. Д. 5388. Л. 37–40]
«Бухарин — свинья, и, пожалуй, хуже свиньи, ибо считает ниже своего достоинства написать две строчки о своих германских впечатлениях»
Письмо И. В. Сталина В. М. Молотову
16 сентября 1926
[РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 1. Д. 5388. Л. 37–40]
Грубый юмор скрывал крайнюю заинтересованность генсека в поддержке со стороны своего основного союзника, который, в отличие от Зиновьева, пользовался симпатией простых партийцев. Бухарин не хуже оппозиционеров жонглировал ленинскими цитатами, держался на равных с ними и при обсуждении международных проблем, и в ходе теоретических дискуссий.
 Как будто предчувствуя свою судьбу и реагируя на сталинский эпитет, Н. И. Бухарин изобразил себя «свиной лисичкой в старости»
Середина 1920-х
[РГАСПИ. Ф. 329. Оп. 2. Д. 11. Л. 158]
Как будто предчувствуя свою судьбу и реагируя на сталинский эпитет, Н. И. Бухарин изобразил себя «свиной лисичкой в старости»
Середина 1920-х
[РГАСПИ. Ф. 329. Оп. 2. Д. 11. Л. 158]
К началу осени решение вопроса о смене лидера Коминтерна казалось уже само собой разумеющимся. Бухарин выступал с докладами по всем вопросам коммунистического движения на форумах ВКП(б) и Коминтерна, формулировал принятые на их основе тезисы и постановления, при активной поддержке Пятницкого и Мануильского переключал на себя ключевые каналы связи с лидерами зарубежных компартий. По его предложению была предпринята попытка реанимировать журнал «Коммунистический Интернационал», который стал еженедельным, а значит — получил возможность более оперативно отражать проблемы и вызовы, встающие перед международным коммунистическим движением[1159]. Наконец, после согласования со Сталиным Политбюро признало возможным удовлетворить просьбу Президиума ИККИ «об освобождении т. Бухарина для регулярной работы в Коминтерне в течение двух дней в неделю (по возможности по средам и пятницам)»[1160], что выглядело как завершающий акт передачи ему ключевых функций в руководстве международной организации коммунистов. 5 сентября Молотов сообщал Сталину среди прочего, что «еженедельник ИККИ уже на днях должен выйти. Бухарин усиленно работает»[1161]. 13 сентября Исполком предоставил новоиспеченному руководителю ответственного секретаря и попросил его определиться с часами приема по служебным вопросам[1162]. Через несколько дней Бухарин был назначен еще и ректором Международной ленинской школы, где готовили кадры зарубежных компартий, ему в помощь был дан Эрколи (П. Тольятти) — будущий лидер итальянских коммунистов[1163].

 «Но ты ведь знаешь, черт побери, что никого из ближайших друзей не люблю так крепко, как тебя»
Письмо И. В. Сталина Н. И. Бухарину
23 сентября 1926
[РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 708. Л. 144–145 об.]
«Но ты ведь знаешь, черт побери, что никого из ближайших друзей не люблю так крепко, как тебя»
Письмо И. В. Сталина Н. И. Бухарину
23 сентября 1926
[РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 708. Л. 144–145 об.]
Генсек, находившийся в Сочи, всячески подбадривал новичка, которому досталась не самая престижная и безусловно весьма хлопотная работа, обещая свою помощь и поддержку: «Я думаю, что твой план насчет расширенного пленума ИККИ, постановки русского вопроса и т. д. — совершенно правилен. Недели через полторы приеду и двинем вместе махину. По вопросам внутренним поговорим особо. Знаю, что ты устал чертовски, и мне несколько совестно, что я здесь пробавляюсь на берегу моря. Но скоро буду у вас, и вместе потянем вовсю»[1164].
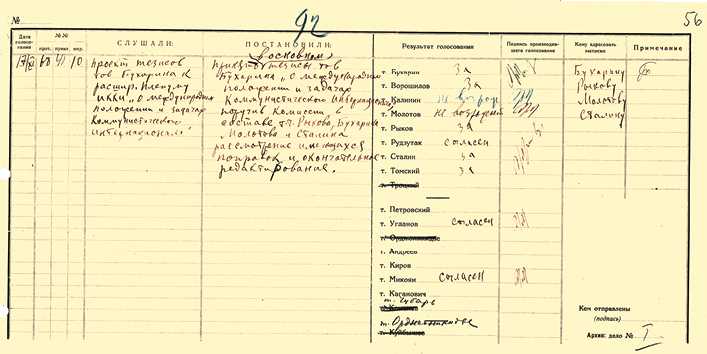 Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) об одобрении предложенного Н. И. Бухариным проекта тезисов о международном положении к Седьмому пленуму ИККИ
18 ноября 1926
[РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 163. Д. 605. Л. 56]
Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) об одобрении предложенного Н. И. Бухариным проекта тезисов о международном положении к Седьмому пленуму ИККИ
18 ноября 1926
[РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 163. Д. 605. Л. 56]
Бухарин выступал с отчетом делегации ВКП(б) в Коминтерне на Пятнадцатой конференции ВКП(б), которая прошла в конце октября — начале ноября 1926 года. Одновременно этот отчет, стоявший первым пунктом повестки дня, рассматривался как доклад о проблемах международной политики, по которому также не планировалось открывать дискуссию[1165]. За год до десятой годовщины Октябрьской революции Коминтерн рекомендовал компартиям использовать эту дату для развертывания агитационной кампании, началась подготовка к отправке в СССР рабочих делегаций из стран Европы. Позже эта идея обрела облик конгресса друзей Советского Союза, который рассматривался как инструмент преодоления изоляции коммунистов на национальной политической сцене. Бухарин поддержал проведение этого конгресса в годовщину революции, но при условии, что «коммунисты не должны занимать особые посты как инициаторы этого дела. Напротив, коммунисты должны стоять за кулисами и оттуда организовывать всю деятельность» друзей Советского Союза самой разной политической окраски: «получится пестрая картина, но это не страшно»[1166]. В конце того же 1926 года на Седьмом пленуме ИККИ в коминтерновской карьере Зиновьева была поставлена точка. Пост Председателя был упразднен, провозглашалось восстановление принципов коллективного руководства, Бухарин оказывался «всего лишь» одним из членов нового органа — Политсекретариата ИККИ. Однако именно он на протяжении двух последующих лет рассматривался и правоверными коммунистами всего мира, и представителями оппозиционных движений левого толка как неформальный лидер Коминтерна. Материалы, связанные с подготовкой пленума, свидетельствуют о том, что Бухарин не просто внутренне смирился с поручением возглавить международную организацию коммунистов, но и попытался вдохнуть в нее новую жизнь. Он предложил дополнить повестку дня пленума анализом новейших тенденций мировой экономики и политики, увязав их с модернизацией программы и тактики Коминтерна. Среди тем, которые предлагались к обсуждению, была названа «количественная сторона стабилизации» и связанная с ней рационализация производства, в оценке которой мнения коммунистов расходились. Шла речь об изменении структуры и психологии рабочего класса, прежде всего за счет выходцев из деревни, об усилении политической роли профсоюзных организаций, о новых измерениях в применении тактики единого рабочего фронта и о многом другом[1167]. Каталог тем включал в себя даже «ошибки наших партий в прошедшем году», однако обсуждения на пленуме дождалась лишь малая толика бухаринских идей и предложений.
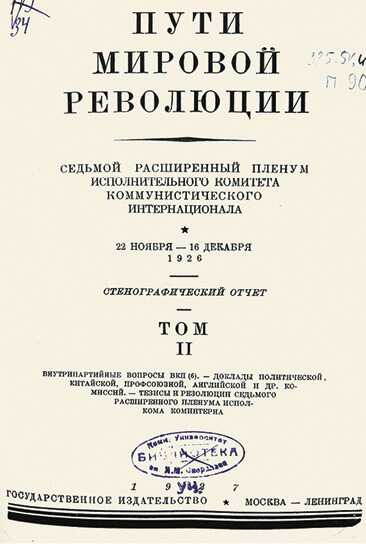 В запале внутрипартийного конфликта члены Политбюро ЦК ВКП(б) отодвинули на второй план «Пути мировой революции».
Второй том опубликованной стенограммы Седьмого пленума ИККИ
[Из открытых источников]
В запале внутрипартийного конфликта члены Политбюро ЦК ВКП(б) отодвинули на второй план «Пути мировой революции».
Второй том опубликованной стенограммы Седьмого пленума ИККИ
[Из открытых источников]
Седьмой пленум, давший ряд интересных импульсов для модернизации тактики коммунистов, так и не стал «прорывом к новым берегам». Победа твердокаменного догматизма над слабыми ростками теоретических новаций была предопределена конъюнктурными соображениями — пленум ИККИ в очередной раз стал ареной столкновения сталинско-бухаринской фракции и «объединенной оппозиции». Никто не хотел «подставляться» противнику, выдвигая свежие и нестандартные идеи. Как и ранее, главным инструментом полемики являлись ленинские цитаты, и битва велась лишь вокруг их ортодоксальной интерпретации. Вряд ли Бухарину импонировала задача выступить сталинским приспешником на финальной стадии устранения сторонников Троцкого и Зиновьева. Она не доставляла особого удовольствия «любимцу партии», прекрасно знакомому с обеими лидерами и ценившему их публицистические и организаторские способности. Но на другой чаше весов находилась близость к новому вождю и утверждение в роли его равноправного партнера. При определении модуса поведения делегации ВКП(б) на Седьмом пленуме ИККИ ее бюро приняло решение о том, что «вопросы, не терпящие отлагательства, могут быть разрешаемы тт. Бухариным и Сталиным»[1168]. Наш герой исправно таскал каштаны из огня для своего партнера по «дуумвирату», не понимая, насколько временным и непрочным являлся его союз со Сталиным. Последний играл на самолюбии Бухарина, убеждая его в том, что «мы с тобой Гималаи, остальные — ничтожества»[1169]. На самом деле ситуация выглядела иначе. За исключением некоторых лично знакомых ему работников ИККИ и собственных учеников из так называемой бухаринской школы у нового лидера Коминтерна не было солидной опоры в этой организации. Он присматривался к молодежи, присланной компартиями, и обратил внимание на немца Рихарда Зорге, работавшего с начала 1925 года референтом информотдела. Его теоретические труды, посвященные анализу экономических взглядов Розы Люксембург и послевоенному возрождению германского империализма, отличались аналитической глубиной и уверенным владением статистическим материалом. Руководство информотдела ревниво следило за научной активностью Зорге (он печатался под псевдонимом Зонтер) и в конце концов избавилось от него. Как часто случается в жизни, переход с места на место в аппарате ИККИ обернулся для немца продвижением в профессиональной карьере. В 1926 году он стал членом бюро секретариата ИККИ, сумев наладить оперативный контроль за выполнением решений его руководства. В ходе работы Седьмого пленума ИККИ он входил в состав политической комиссии, которую возглавляли Мануильский и Бухарин. Биограф Зорге справедливо полагает, что по своим теоретическим позициям и политическим симпатиям тот был близок последнему, согласовывал с ним свои политические проекты и аналитические записки[1170].
 В большевистском руководстве Н. И. Бухарин отвечал за молодежную политику, курируя как советский комсомол, так и Коммунистический интернационал молодежи
Апрель 1925
[Иллюстрированный сатирический журнал «Комар». 1925. № 6]
В большевистском руководстве Н. И. Бухарин отвечал за молодежную политику, курируя как советский комсомол, так и Коммунистический интернационал молодежи
Апрель 1925
[Иллюстрированный сатирический журнал «Комар». 1925. № 6]
Бухарин к середине 1920-х годов также нашел себя в новой сфере, отдавая львиную долю времени теоретической и пропагандистской работе, и не горел желанием брать в свои руки знамя мировой революции пролетариата. Генсек же мог опираться на лояльных себе функционеров из числа большевиков с дореволюционным опытом, которые по его инициативе несколько лет назад были направлены на работу в Исполком Коминтерна. Речь шла прежде всего о Пятницком и Мануильском. Через сталинский секретариат были подобраны и кадры «второго эшелона», занявшие ключевые посты в аппарате ИККИ: А. Л. Абрамов, Б. А. Васильев, А. С. Мартынов. Этот состав активно пополнялся комсомольской молодежью. Так, 24 марта 1926 года членом Президиума ИККИ на правах представителя Коммунистического интернационала молодежи (КИМ) стал сталинский выдвиженец Виссарион (Бессо) Ломинадзе, отличавшийся непокорным нравом. Через полгода он уже окончательно закрепился в высшей лиге, перейдя на работу из Исполкома КИМ в руководящий аппарат Коминтерна. На первых порах генсеку импонировала горячность и бескомпромиссность молодого грузина, и он использовал его как орудие для дискредитации «старых вождей», ограничиваясь намеками и избегая в личной переписке прямых указаний. Причем речь шла не только о Зиновьеве — как опытный стратег, Сталин не упускал из виду и набиравшего политический вес в Коминтерне Бухарина. Ломинадзе, закончивший только курсы Коммунистического университета, сразу же после перехода на работу в ИККИ вступил в конфликт с «бухаринской школой». Она объединяла молодых обществоведов, которые претендовали на развитие марксистской теории в условиях диктатуры пролетариата, фактически приспосабливая ее к конъюнктуре нэпа. Отстаивая собственное видение перспектив революционного процесса, несущее на себе отпечаток левацкого нетерпения, Ломинадзе неизбежно становился оппонентом такого подхода. Летом 1926 года он докладывал Сталину, находившемуся на Кавказе, что вместе с руководителем КИМ Лазарем Шацкиным он поднял бунт против «правых ошибок» одного из бухаринских учеников — А. Н. Слепкова, который стал работать в коминтерновском отделе агитации и пропаганды. «Бухарин испугался, что у нас особая „стратегия“ на взрыв кружка. Сперва он выступил против нас очень резко. Мы хотели уйти. Потом он смягчил тон»[1171]. Ломинадзе торжественно сообщил генсеку, что конфликт улажен: мы пообещали больше не «бузить», а Бухарин — навести порядок в собственном «кружке». Однако в логике складывавшегося внутрипартийного режима на самом деле все было с точностью до наоборот. Не прошло и трех месяцев, как спор вновь вспыхнул на Седьмом пленуме Коминтерна. Направленный в январе 1927 года в Берлин, Ломинадзе уже в своем первом донесении подчеркнул недовольство руководства КПГ осторожностью нового коминтерновского лидера. «На ЦК я прямо указывал на нетерпимость этой игры с именем Бухарина… Я, конечно, защищал целиком и полностью, забыв все споры в Москве, линию Бухарина на пленуме ИККИ по обоим вопросам и решительно протестовал против попыток провести между этими двумя линиями какую-нибудь черту»[1172]. Речь шла о спорах, развернувшихся на пленуме по вопросам, поставленным немецкими делегатами: об отношении к капиталистической рационализации и о том, должна ли коммунистическая партия поддерживать лозунг защиты отечества до прихода к власти. Ломинадзе явно кривил душой — достаточно было нескольких намеков, сделанных его немецким подшефным, чтобы те поняли, насколько шаткими являются позиции Бухарина в Коминтерне. Войдя во вкус и не без оснований рассчитывая на одобрение Сталина, эмиссар Коминтерна интриговал во всех направлениях. Сразу же по прибытии в Берлин он стал раздувать еще не остывший конфликт вокруг сосланных в Москву за «правые ошибки» лидеров КПГ 1923 года Брандлера и Тальгеймера. Не говоря напрямую о том, что Бухарин выступает за их возвращение на руководящие посты (хотя такую позицию разделяло и умеренное крыло в самой компартии), Ломинадзе создавал в ее руководстве нервную атмосферу, порождал у неуверенного в себе Эрнста Тельмана подспудное желание заручиться дополнительной поддержкой Сталина.

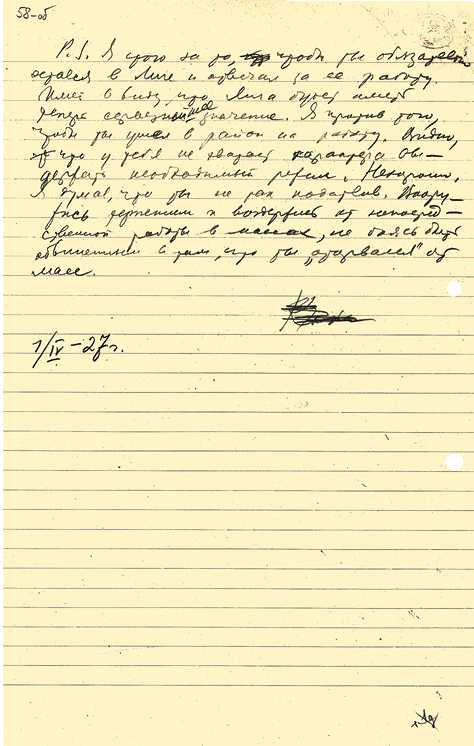 Донесения коминтерновского эмиссара Бессо Ломинадзе из Берлина были использованы Сталиным для подготовки наступления на позиции Бухарина
Письмо И. В. Сталина В. В. Ломинадзе
1 апреля 1927
[РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 758. Л. 58–58 об.]
Донесения коминтерновского эмиссара Бессо Ломинадзе из Берлина были использованы Сталиным для подготовки наступления на позиции Бухарина
Письмо И. В. Сталина В. В. Ломинадзе
1 апреля 1927
[РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 758. Л. 58–58 об.]
Согласно донесениям коминтерновского эмиссара, выбившийся из «низов» председатель КПГ чувствовал себя на этом посту явно не в своей тарелке: на съезде партии в рурском городе Эссен весной 1927 года «он читал доклад в продолжении трех с лишним часов, все время одним и тем же тоном, часто заглядывая в бумажки, нагромождая одну сложную фразу с „учеными“ словами на другую, допустил ряд досадных ошибок, исправленных после в стенограмме, часто повторялся и т. д.»[1173]. В переписке Сталин неизменно выступал против снятия Тельмана, которого также считал своим протеже, и предлагал вести с ним терпеливую воспитательную работу. Ломинадзеотчитывался в своем последнем докладе из Берлина: «С Тельманом я в частном разговоре говорил о том, что он должен отказаться от своих немножко диктаторских замашек и от нетерпимости к критике»[1174]. В ином ключе развивалась интрига против Бухарина. Ломинадзе жаловался, что не получает твердых директив из ИККИ, и вынужден вести дела на свой страх и риск. Сталин прекрасно понял, о чем (и о ком) идет речь: «Твои письма получаю все аккуратно. …Я думал, что на вопросы, выдвигаемые тобою в письмах, отвечает обычно Бухарин. Оказывается, что последний и не думал отвечать. Это, конечно, плохо, и я тебе вполне сочувствую. Я думаю, что в спорных вопросах в общем ты стоишь на правильной позиции… Только теперь (после твоих писем) начинаю понимать, как много дурных наслоений имеется все еще (и будет еще) в КПГ»[1175]. Гроссмейстер внутрипартийных схваток, Сталин мыслил на несколько ходов вперед, и вызов, брошенный Бухарину, позволял ему какое-то время оставаться внешне беспристрастным арбитром.
5.4. Реформы и интриги
После Седьмого пленума ИККИ Бухарин сосредоточил политическую работу Коминтерна в его Политсекретариате — рабочем органе, созданном по образу и подобию большевистского Политбюро. Он должен был символизировать переход к коллективному руководству и одновременно повысить управляемость международной организации, которая становилась все более громоздкой и забюрократизированной. Первый состав Политсекретариата был избран на заседании Президиума ИККИ 20 декабря 1926 года, в него вошли 9 членов и три кандидата[1176]. Заседания Политсекретариата ИККИ, как и Политбюро ЦК ВКП(б), проходили раз в неделю и разрешали широкий круг организационных и кадровых проблем. При этом именно он вырабатывал первую реакцию Коминтерна на непредвиденные события за рубежом, будь то фашистский переворот или правительственный кризис, в то время как на долю Президиума оставались «парадные» и запланированные политические сюжеты. На первом же заседании Политсекретариата Бухарину было поручено предварительное обсуждение того или иного вопроса в ЦК российской партии (фактически — в Политбюро) для того, чтобы внести в Коминтерн уже сформировавшееся мнение «русских товарищей»[1177]. Такой механизм работы превращал аппарат и выборные органы ИККИ в придаток ВКП(б), хотя формально речь шла о соблюдении принципов коллективного руководства. Малозначительные вопросы решались самим аппаратом ИККИ, который лишь запрашивал информацию с мест и приглашал лидеров компартий, но оставлял последнее слово за собой. Вот только один пример. 29 июля 1927 года шло обсуждение программы действий индонезийской партии, с докладами выступали Петровский и Васильев. В ходе дискуссии Реммеле спросил ее представителя Семабена, как он сам относится к проекту. Тот ответил: я участвовал в обсуждении резолюции, когда уже почти все было готово[1178]. Как и Политбюро, Политсекретариат стал тем местом, куда стекалась информация обо всех внутрипартийных конфликтах и расколах, с тем отличием, что речь шла не об одной партии, а о нескольких десятках. Ни одного заседания Политсекретариата не обходилось без разбора положения в той или иной компартии, не исключая самые малые и незначительные. Как правило, вначале заслушивался доклад представителя ИККИ, побывавшего в соответствующей стране, затем слово предоставлялось конфликтующим сторонам. Отказ одной из них прибыть в Москву рассматривался как нарушение партийной дисциплины и давал неоспоримое преимущество ее соперникам в борьбе за лидерство. Не прошло и года с момента создания Политсекретариата, как он, опять же по аналогии с Политбюро, стал проводить «летучие голосования», которые впоследствии оформлялись наравне с решениями, принятыми на обычных заседаниях. В их повестке дня стояли вопросы, дискуссия по которым не представлялась целесообразной либо которые просто дублировали постановления и директивы, уже принятые Политбюро ЦК ВКП(б) или «русской делегацией». Примером первого случая было осуждение левой оппозиции во главе с Рут Фишер и Аркадием Масловым, исключенной из КПГ[1179]. Примером второго — разрешение бывшему лидеру КПГ Тальгеймеру, осужденному за «правые ошибки» и находившемуся в Москве, вернуться на родину при условии признания генеральной линии партии, от которой он был изолирован на протяжении трех последних лет[1180]. Сама делегация ВКП(б) также претерпела изменения: в начале 1927 года было принято предложение Пятницкого решать текущие вопросы голосованием тех ее членов, которые постоянно работали в Исполкоме. «В делегацию переносить только вопросы принципиального характера»[1181]. К. Б. Радек, Август Тальгеймер, Н. И. Бухарин и И. И. Скворцов-Степанов в перерыве заседания Четвертого конгресса Коминтерна
9 ноября — 5 декабря 1922
[РГАСПИ. Ф. 491. Оп. 2. Д. 191. Л. 1]
К. Б. Радек, Август Тальгеймер, Н. И. Бухарин и И. И. Скворцов-Степанов в перерыве заседания Четвертого конгресса Коминтерна
9 ноября — 5 декабря 1922
[РГАСПИ. Ф. 491. Оп. 2. Д. 191. Л. 1]
Ни в начале, ни в конце 1920-х годов Бухарин не отказывался от мысли, что главным врагом коммунистов на политической сцене европейских стран являются социал-демократические партии, опиравшиеся на традиции и принципы Второго Интернационала. Когда-то он оппонировал тактике единого рабочего фронта, подразумевавшей сотрудничество с социал-демократами в отстаивании насущных интересов рабочего класса. Став неформальным лидером Коминтерна, Бухарин получил возможность доказать свою правоту на практических примерах. Уже на Седьмом пленуме ИККИ компартии были ориентированы на то, чтобы в условиях «полевения» европейского пролетариата усилить свою борьбу с конкурентами в рабочем движении. В марте 1927 года Президиум ИККИ не согласился с предвыборной тактикой австрийской компартии — одной из незначительных секций Коминтерна, которой приходилось иметь дело с влиятельной социал-демократической партией в этой стране, исповедовавшей к тому же левую доктрину «австромарксизма». Решение Политбюро австрийских коммунистов, выступившего за общую предвыборную платформу с социал-демократами, было превращено в собственную противоположность. Москва высказалась против «политики мелких сделок и общих списков, против общей избирательной кампании, так как это не позволит сохранить лицо нашей маленькой и слабой компартии»[1182]. Разрешалось лишь поставить социал-демократам ультиматум с максимальными требованиями, а в случае если они его не примут, сосредоточить против них партийную агитацию. Вскоре аналогичное давление, опробованное на австрийцах, начало оказываться и на крупнейшие партии Коминтерна. В апреле того же года Президиум выступил против традиционной предвыборной тактики французских коммунистов, которые выставляли совместных с социалистами кандидатов там, где те имели шансы на успех. Курировавший ФКП швейцарец Ж. Эмбер-Дро, являвшийся членом Президиума ИККИ и быстро почувствовавший настроения нового руководства, во время инспекционной поездки резко высказался против продолжения такого курса, поскольку на этом пути «тактика единого фронта превращается в тактику чисто парламентскую, не мобилизующую рабочие массы»[1183].
 В течение первого десятилетия истории Коминтерна на обложке его журнала рабочий разбивал цепи капитала, опутавшие земной шар.
Однако на деле Исполкому этой организации все больше приходилось заниматься «текучкой», отодвигая на второй план конечную цель коммунистов
1921
[РГАСПИ]
В течение первого десятилетия истории Коминтерна на обложке его журнала рабочий разбивал цепи капитала, опутавшие земной шар.
Однако на деле Исполкому этой организации все больше приходилось заниматься «текучкой», отодвигая на второй план конечную цель коммунистов
1921
[РГАСПИ]
Поддержав Эмбер-Дро, Бухарин крайне резко обрушился на французских коммунистов: «Вы пишете в своей резолюции, что социал-демократия готова вести политику единого фронта и классовой борьбы. Разве это критика, разве это разоблачение социал-демократии? Разве это клеймение социал-демократов как предателей рабочего класса? Нет, напротив, это их приукрашивание… Наше отношение к социал-демократии является важнейшей проблемой, и если Вы вынуждены ее формулировать, так делайте это наоборот, так, как положено революционеру. Тогда вы перечеркнете всю свою линию»[1184]. Безапелляционность бухаринских суждений определялась не только буквой резолюции о парламентаризме, принятой Вторым конгрессом Коминтерна еще в 1920 года, а значит — освященной ленинским авторитетом, и даже не упоением свалившейся на него властью — эта черта отсутствовала в его характере. Дело было в другом — вся нормализация политической жизни в странах Западной Европы представлялась ему продуктом соглашательства социал-демократии с буржуазными партиями и даже фашистами[1185], и здесь он был готов поставить ей любую подножку, лишь бы этот тайный сговор выплыл на свет и был дискредитирован в глазах рабочего класса. Повторяя на заседаниях руководящих органов Коминтерна стандартные формулы о борьбе за рабочее единство, при разборе конкретных случаев позитивного взаимодействия коммунистов и социалистов Бухарин неизменно занимал жестко негативную позицию. Так, компартия Дании была осуждена за поддержку законопроекта, внесенного социал-демократическим министром. При разборе поведения в ходе предвыборной кампании болгарской компартии, которая пошла на соглашения с социалистами, Бухарин дал волю эмоциям: «…объективно нет никакой разницы между этой социал-демократией и палаческими партиями, входящими в правительство Цанкова. Поэтому я склонен считать, что эта тактика была ошибочной», усилив позиции оппонентов БКП в рабочем движении. Хуже всего, продолжал он, если такая коалиция выйдет за рамки выборов, «эксперимент будет перенесен в непарламентскую сферу» — «в результате мы потеряем собственное лицо»[1186]. Столь же неконструктивную и догматическую позицию занимал Политсекретариат в тех странах, которые считались образцами буржуазной демократии и где коммунисты имели все условия для свободной агитации. Их мнение учитывалось в последнюю очередь. Так, накануне выборов в Норвегии европейский секретариат ИККИ направил местной компартии письмо, в которой назвал «категорически неправильной предвыборную тактику, намечаемую ЦК. Лендерсекретариат целиком поддерживает точку зрения, отстаиваемую представителями ИККИ [в Норвегии. — А. В.], и сообразно этому призывает партию выступать всюду в стране самостоятельно, также и в тех округах (быть может, за несколькими исключениями), где наша партия не может завоевать мандатов. Особенно важно, чтобы партия выдвинула своих кандидатов в Осло. Если необходима субсидия для предвыборной работы, надо предоставить конкретную смету»[1187]. В данном документе, как в капельке воды, отразилась далеко зашедшая бюрократизация аппарата Коминтерна и административно-финансовые методы решения проблем, о которых в Москве имели отнюдь не детальное представление. Ставя партийный эгоизм выше интересов рабочего класса в целом, бухаринский Коминтерн не только перечеркивал тактику единого пролетарского фронта, но и изолировал компартии от актуальной повестки дня в своих странах. Осенью 1927 года новая политика получит название «класс против класса» и еще через несколько месяцев будет утверждена очередным пленумом ИККИ. Очевидно, что такой поворот вызревал давно, и ему противодействовало только сохранение таких организаций единого фронта, как Англо-русский комитет профсоюзного единства. В свою очередь, это сохранение было ответом на требование «объединенной оппозиции» немедленно выйти из АРК, обращенное к советским профсоюзам. В 1927 году вокруг этой организации продолжались острые столкновения сталинско-бухаринской фракции и оппозиционеров. Представители первой искали и находили новые аргументы в защиту АРК. Выступая на заседании Президиума ИККИ 11 мая, Бухарин заявил, что коммунистические партии признают высшим приоритетом своей деятельности защиту СССР от военной угрозы. АРК как орган связи между советскими профсоюзами и британскими тред-юнионами мог бы сыграть важную роль в разрешении майского кризиса, поставившего отношения между странами на грань настоящей войны, и здесь идеологические компромиссы представляются неизбежными. Вслед за руководителем ВЦСПС Томским Бухарин отметил, что в случае войны британские тред-юнионы «не будут нас поддерживать, но они будут балластом на ногах английского правительства. А это уже кое-что»[1188]. Оба докладчика признали, что АРК не является выбором советской стороны, и делегации ВЦСПС в нем пришлось сыграть «полудипломатическую роль». Но если Бухарин видел в этом уникальный случай, вызванный чрезвычайными обстоятельствами, то Томский шел гораздо дальше, рассматривая АРК как воплощение принципов единого рабочего фронта. Противостояние с левой оппозицией (на заседании Президиума ИККИ ее представлял Вуйович) неизбежно сплачивало сторонников умеренной линии в поиске рациональных решений, причем все это происходило без какого-либо сталинского контроля и давления. Пока Запад не осветили всполохи нового приступа мировой пролетарской революции, Политсекретариату в целом и Бухарину лично приходилось заниматься идеологической и кадровой «мелочевкой». 15 июня 1927 года Политбюро разбирало застарелый конфликт в польской компартии. Накануне созыва ее очередного съезда большинство и меньшинство ЦК КПП в лучших традициях польской шляхты несколько недель вели жаркие дебаты, но так и не согласовали ни одной резолюции. На заседание были приглашены и члены Польской комиссии ИККИ во главе с Пятницким, и представители обеих фракций КПП. Общее мнение членов Политбюро заключалось в том, что пришло время ломать поляков через колено, чтобы любой ценой заставить обе фракции принять предложенный ИККИ план примирения. На этот счет Рыков выразился дипломатично («если съезд не сговорится, я буду предлагать метод хирургического решения»), а Молотов рубил сплеча, косвенно обвиняя руководство Коминтерна в излишнем либерализме: «Товарищ Бухарин, нужно Вам проявить большую волю, изнасиловать их, чтобы не допустить дело к особым платформам. Нужно запретить отдельным группам выставлять свои платформы»[1189]. Жесткая позиция Молотова вытекала из логики внутрипартийной борьбы в ВКП(б), которая к лету 1927 года достигла своего апогея. После того, как большинство не добилось победы на полемическом фронте, против оппозиционеров начали применяться полицейские репрессии. Следует отдать должное польским представителям меньшинства — они настаивали на соблюдении норм внутрипартийной демократии, подчеркивая, что «товарищи из Коминтерна не разбираются досконально в наших разногласиях». Попытка Бухарина найти компромисс провалилась — в завершение заседания Политбюро обе фракции КПП уперлись в своем нежелании искать приемлемое решение. История имела свое продолжение на заседании Президиума ИККИ. В данном случае сохранились не только прения сторон, но и речь самого Бухарина. Тот метал громы и молнии в адрес «фракции комиков», разоблачал «шляхетскую политику», обвинял и большинство, и меньшинство в подтасовке ключевых положений ленинизма. И в завершение расписался в собственном бессилии, намекнув на то, что в его арсенале есть и иные методы: «Мы зашли в такой тупик с польским съездом, что этот выход должен быть найден. Нет больше сил, и надо прибегнуть к методу коминтерновского принуждения. Мы как будто говорим на разных языках, как будто бы товарищи нас не понимают. Получается так, что польские товарищи, как представители большинства, так и представители меньшинства, противопоставляют себя представителям Коминтерна»[1190]. За десять лет, прошедших после захвата власти большевиками, Бухарин проделал значительную эволюцию. Уже мало что осталось от безрассудного «левого коммуниста» и горячего «мальчишки революции», как называла его Клара Цеткин. Внутрипартийные баталии сделали его циничным прагматиком, господство партийного аппарата научило технологии властвования, когда к каждой бумаге следовало, как говорили тогда, «приделать ноги», т. е. ее путь по инстанциям должен был сопровождаться неформальными толчками — звоночками, записочками и т. д. Приходилось прикладывать немалые усилия для того, чтобы решить простые и обыденные вопросы.
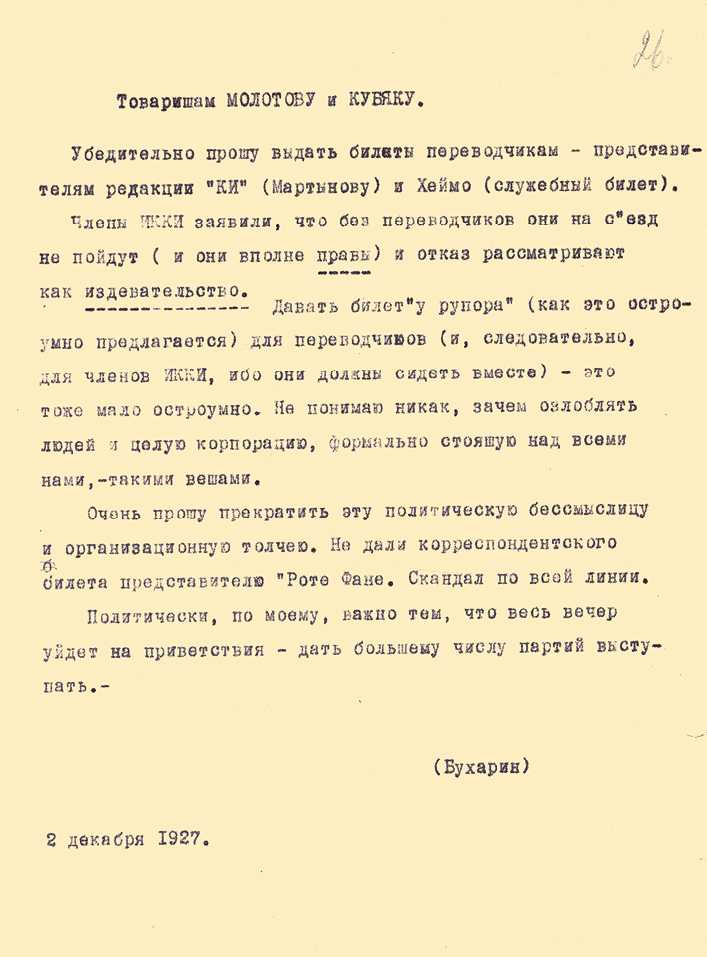 В бюрократической переписке Бухарин отстаивал интересы Коминтерна как организации, «формально стоящей над всеми нами»
Письмо Н. И. Бухарина В. М. Молотову и Н. А. Кубяку
2 декабря 1927
[РГАСПИ. Ф. 329. Оп. 2. Д. 6. Л. 26]
В бюрократической переписке Бухарин отстаивал интересы Коминтерна как организации, «формально стоящей над всеми нами»
Письмо Н. И. Бухарина В. М. Молотову и Н. А. Кубяку
2 декабря 1927
[РГАСПИ. Ф. 329. Оп. 2. Д. 6. Л. 26]
Вот только один пример бюрократических междоусобиц. Приглашенные на Пятнадцатый съезд ВКП(б) иностранные члены ИККИ получили пропуска, а сопровождавшие их переводчики — нет. Бухарин был вынужден обратиться к Молотову: «Не понимаю никак, зачем озлоблять людей и целую корпорацию, формально стоящую над всеми нами, такими вещами. Очень прошу прекратить эту политическую бессмыслицу и организационную толчею»[1191]. Это не только штрих к тому, как работала сталинская бюрократия; обращают на себя внимание слова о Коминтерне, как инстанции, которая командует в том числе и большевистской партией. Бухарин отдавал себе отчет в реальном положении дел и вместе с остальными лидерами ВКП(б) отказывался называть вещи своими именами. Такое двоемыслие сослужит многим из них свою коварную службу… На первых порах оно давало преимущество оппозиционерам, которые разбивали аргументы большинства ссылками на их же собственные речи. В запале полемики на Восьмом пленуме ИККИ Троцкий бросил Бухарину: «Вы монопольно скажете все, что вам нужно. Но вы сами однажды правильно указали, что даже социалистическая монополия ведет иногда к загниванию»[1192]. Сам Бухарин видел эту опасность, но старался вести дискуссию в духе открытости дореволюционного большевизма. На первых порах он выступал даже за публикацию материалов внутрипартийной дискуссии в коминтерновской прессе: «…если мы не опубликуем документы оппозиции, они будут опубликованы за границей»[1193]. На том же совещании аппарата ИККИ, состоявшемся после Восьмого пленума и посвященном новому этапу борьбы с троцкистами и зиновьевцами, наш герой произнес пророческую фразу: дело оппозиции в нашей стране проиграно, поэтому она неизбежно перенесет центр своей борьбы за рубеж[1194]. До высылки Троцкого из СССР оставалось еще полтора года, до создания им и его соратниками Четвертого Интернационала — около десяти лет. Однако и в 1927 году у левой оппозиции было немало сторонников как среди свергнутых вождей компартий, обвиненных в троцкизме, так и среди радикально настроенных рабочих. Неизвестным даже многим коминтерноведам остается такой факт, как резолюция ЦК компартии Бельгии от 27 ноября 1927 года, направленная в Исполком. Руководство партии требовало прекратить исключения оппозиционеров из ВКП(б), срочно созвать конгресс Коминтерна для рассмотрения ситуации в российской партии, а до этого опубликовать документы как большинства, так и меньшинства, не допуская «искажений мыслей Троцкого»[1195]. Скандал был тихо замят, хотя в ходе обсуждения данного вопроса раздавались призывы к немедленной смене лидера партии Оверстратена. Горячие головы остудил опытный аппаратчик Пятницкий: за ним стоит большинство (весьма немногочисленных) бельгийских коммунистов, и, сняв его, «мы получим партию против нас»[1196]. Параллельно в адрес «русской делегации» и других инстанций Коминтерна шел поток писем зарубежных коммунистов, которые указывали на то, что репрессии против левой оппозиции в ВКП(б) противоречат принципам и традициям социалистического движения Европы. 22 ветерана ФКП обращались к делегатам Пятнадцатого съезда ВКП(б): «В момент, когда сгущается угроза наступления на СССР, в момент, когда большевистское единство русской партии более необходимо, чем когда бы то ни было, внутрипартийная борьба становится все более и более яростной. Массовые исключения, аресты коммунистов, насилие заменили собой дискуссии в рядах партии. Ни в СССР, ни в Интернационале масса коммунистов незнакома с подлинной точкой зрения оппозиции. Таким образом, низы партии не уясняют себе гибельности раскола, подготовленного Сталиным…»[1197] Несмотря на многочисленные исключения подобного рода, они только подтверждали общее правило — политическая монополия ВКП(б) позволила фракции большинства расправиться с носителями иного мнения в партийной верхушке, но не смогла искоренить его в массах. Что касается Коминтерна, то предсказанное Бухариным перенесение оппозиционной борьбы на международную арену делало зарубежные компартии одновременно и проводниками сталинско-бухаринской линии, и питомниками потенциальных сторонников Троцкого. Ни то, ни другое не обещало им в последующем десятилетии ни спокойной жизни, ни светлого будущего.
5.5. Красная Вена и левый поворот
В 1927 году Европа и США переживали пик послевоенного экономического подъема, и это не могло не отразиться на состоянии компартий. Их установка на штурм устоев капитализма находила все меньше понимания у кадровых рабочих, не говоря уже о других слоях общества. Померк и «свет с Востока» — Советский Союз вошел в фазу мирного сосуществования и со своими соседями, и с великими державами, лишившись ореола ниспровергателя основ западной цивилизации. Все это отодвигало идеологию и практику Коминтерна на обочину политической жизни, и Бухарину, конечно, не хотелось принимать на себя роль предводителя отступавшей стороны. Панические настроения не были характерны для большевиков, прошедших через горнило Гражданской войны, и наш герой вряд ли являлся здесь исключением. Какие бы сомнения не мучили его душу, внешне он сохранял уверенность в том, что «победа будет за нами». Как и другие деятели Коминтерна, он устремлял свои взоры на Запад, стремясь даже в рядовых столкновениях социальных низов с правящей верхушкой увидеть смену вектора мирового развития. В условиях несомненного «просперити» и политической стабилизации в странах Запада и Коминтерн в целом, и его отдельные партии оказывались перед сложной дилеммой — следует ли сложа руки ждать «нового тура войн и революций», или нужно подталкивать их всеми имеющимися силами. Естественно, любой сторонник ленинского активизма высказался бы за вторую перспективу. И Бухарин не был здесь исключением. Луч надежды пришел оттуда, откуда его никто не ждал. Вена, до Первой мировой войны столица огромной Австро-Венгерской империи и символ величественной стабильности, в 1920-е годы превратилась в «голову рахитичного ребенка». В столице проживало около трети населения Немецкой Австрии — жалкого обрубка империи Габсбургов. Свержение монархии и провозглашение республики не привели к установлению в стране стабильной демократии. Компартия Австрии объединяла в своих рядах всего несколько сот рабочих активистов и влачила маргинальное существование. Крупнейшей партии страны — социал-демократической СДРПА — противостояли силы авторитарно-клерикальной реакции, опиравшиеся на военизированные отряды «хаймвера». Австрийские рабочие, восставшие против фашистской провокации, подожгли здание Дворца правосудия Вена
15 июля 1927
[Из открытых источников]
Австрийские рабочие, восставшие против фашистской провокации, подожгли здание Дворца правосудия Вена
15 июля 1927
[Из открытых источников]
Оправдание венским судом хаймверовцев, расстрелявших рабочую демонстрацию в одном из альпийских городков, переполнило чашу терпения их политических противников. В пятницу 15 июля 1927 года утренние выпуски австрийских газет сообщили об оглашенном накануне приговоре по делу «убийц из Шаттендорфа». Рабочие стали покидать свои заводы и фабрики, мощными колоннами двигались к центру Вены, к парламенту и дворцу юстиции. Попытки конной полиции преградить путь оказались безуспешными — в стычках на улицах демонстранты обезоружили нескольких стражей порядка. В ответ раздались первые выстрелы. Возмущение людей нарастало, был взят штурмом полицейский участок, ограблено несколько оружейных магазинов, захвачен и подожжен дворец юстиции. В полдень подоспевшие формирования полиции открыли огонь по демонстрантам, находившимся на центральных площадях столицы. В ходе этого расстрела и последующих облав в рабочих районах Вены было убито около 80 человек, несколько сотен было ранено. Таков в общих чертах ход событий, вызвавших самые противоречивые оценки современников. Английская «Таймс» писала о «заговоре Коминтерна в австрийской столице», газета немецких социал-демократов «Форвертс» — о гневе неуправляемой толпы, коммунистическая пресса всего мира — о революционных боях венского пролетариата. Первая информация о венских событиях появилась в газете «Правда» 17 июля — выборку из сообщений телеграфных агентств венчали броские заголовки: «Восстание австрийского пролетариата против фашистской реакции. Бои на улицах Вены. Социал-демократы пытаются кастрировать движение». Еще большее установочное значение имела передовая статья этого номера, посвященная событиям в Вене. Хотя она не была подписана, ее стиль и композиция выдают авторство Николая Бухарина. Для него это была та самая искра, из которой могло разгореться пламя нового революционного подъема, способного уничтожить хрупкое здание европейского «просперити». Подчеркивая революционный характер выступления австрийских рабочих, передовица прямо указывала на виновника его поражения: «Роль австрийской „левой“ социал-демократии в основных чертах ясна уже сейчас… Вместо того, чтобы возглавить революционное движение масс, „левая“ социал-демократия его обезглавливает. Социал-демократический шуцбунд стреляет в социал-демократических рабочих». Такое изложение отражало не столько реальный ход событий (шуцбундовцы, т. е. члены военизированных отрядов СДРПА, напротив, пытались в ряде мест организовать живой кордон между рабочими и полицией), сколько авторское видение перспективы: «Самое важное для австрийских рабочих не упустить момента и развертыванием своих боевых массовых действий, созданием революционных центров движения, созданием советов, как подлинных боевых штабов борьбы, поставить в упор вопрос о власти». Появление в статье лозунга «Вся власть Советам!» никак не соответствовало настроениям реально существующих рабочих. 15 июля они вышли на улицы, чтобы бороться не против капиталистической системы как таковой, а за сохранение демократической республики, завоеванной ими в 1918–1919 годах. Лозунги борьбы за власть и создания рабочих Советов могли быть оправданы только в условиях революционной ситуации, которой не было не только в Австрии, но и во всей Европе. Их поспешное выдвижение были следствием революционного нетерпения, охватившего Бухарина и все руководство Коминтерна, нужен был лишь небольшой повод, чтобы затаенные ожидания нового тура войн и революций вырвались наружу. Воззвание ИККИ «К рабочим всех стран, к рабочим Австрии» повторяло положения правдинской статьи о героических боях венского пролетариата и банкротстве социал-демократического австромарксизма. Лозунг создания рабочих Советов был дополнен призывом к образованию рабоче-крестьянского правительства. Более отчетливо трактовалась в воззвании и революционная перспектива: «Июльская гроза, разразившаяся в Австрии, открыла для рабочих Австрии новый путь. Впереди — новые великие революционные бури». В последующем мысль о том, что венское восстание потерпело поражение из-за предательства социал-демократов, стала обязательным рефреном всех коминтерновских резолюций и директив, отправляемых австрийским коммунистам. Чтобы не повторять кровавых ошибок, рабочие должны нанести главный удар именно по левым социалистам. «Левые социал-демократические растлители рабочего класса добиваются того же, что и правые, но первые гибче и умнее вторых; первые в настоящих условиях опаснее с точки зрения пролетарской революции, чем вторые… именно эти „левые“ являются опаснейшими врагами коммунизма в борьбе за левеющие рабочие массы»[1198]. Последний тезис из пропагандистского штампа газеты «Правда» быстро превратился в символ радикального поворота Коминтерна, случившегося буквально на пустом месте. Поставив во главу угла вопрос о необходимости создания Советов по образцу российских при любой вспышке классового конфликта в западных странах, Бухарин сделал очередной шаг «большевизации», а точнее, дисциплинирования зарубежных компартий. На заседании Политсекретариата 13 августа 1927 года он заявил буквально следующее: «Если бы рабочие Советы были созданы, правительство попыталось бы напасть и разогнать их. Мы бы получили еще один объект борьбы. Социал-демократы прямо или косвенно выступили бы за роспуск Советов и тем самым еще больше скомпрометировали себя, а мы бы использовали новую ситуацию усиления классовых противоречий, вбивая клин между социал-демократической массой и руководством»[1199]. Неформальный лидер Коминтерна проводил параллели между линией австрийских коммунистов и позицией Троцкого, который в 1923 году считал, что немецким рабочим еще рано создавать собственные Советы. Месяц спустя он уже выдвигал в адрес первых прямые обвинения: «Было бы очень плохо, если бы в Австрийской партии сохранялись настроения, согласно которым КИ якобы был неправ, выдвигая лозунг рабочих Советов, ибо по существу это означало бы, что партия оказалась не в состоянии в полной мере извлечь уроки из произошедших событий и разоблачать социал-демократию так, как это необходимо в нынешней ситуации»[1200]. Авторитарный стиль подобных выводов стал нормой коминтерновской практики. Фикция «большевистской дисциплины» не допускала открытого сопоставления различных точек зрения, глушила обратную связь между секциями и центром, деформировала принцип демократического централизма до обыденной формулы «начальство всегда право». Стихийное выступление австрийских рабочих против реакционной юстиции поставило как социал-демократов, так и коммунистов перед необходимостью движения навстречу друг другу ради защиты демократических свобод в стране. Этот сигнал не был понят. Вопреки очевидным фактам руководство Коминтерна увидело в нем начало нового революционного подъема, ускорив движение влево. Попытки представителей компартии Австрии предложить более реалистичную оценку событий разбились об отсутствие механизмов обратной связи в ИККИ и политические амбиции его лидеров. Пытаясь внести в будни коминтерновской работы свежее начало, Бухарин с начала осени 1927 года инициировал рассылку иностранным компартиям писем с информацией об общем политическом положении и директивах ИККИ. В соответствующем решении Президиума данный шаг был обоснован необходимостью установления «более тесной связи между секциями КИ и его руководящим центром». Внешне разумное решение в его практическом воплощении стало собственной противоположностью — оно означало появление еще одного канала, по которому руководителям компартий рассылались директивы из Москвы, завуалированные оперативным характером содержавшейся в них информации и не прошедшие сквозь сито согласований и одобрений исполкомовского аппарата. Так, уже в первом из таких писем, датированном 18 сентября 1927 года, содержались директивные указания на то, что «в среде рабочих масс замечается сейчас явный поворот налево», а при разоблачении угрозы войны империалистических держав против СССР следует подчеркивать «особо предательскую и особо злостную роль социал-демократии»[1201].
 «Великий страх», который вызывал при своем создании Коммунистический Интернационал, к концу 1920-х годов ушел в прошлое
Плакат В. Дени
1921
[Из открытых источников]
«Великий страх», который вызывал при своем создании Коммунистический Интернационал, к концу 1920-х годов ушел в прошлое
Плакат В. Дени
1921
[Из открытых источников]
Левый поворот, выросший из завышенных амбиций Бухарина и его неадекватной оценки венских событий, увязывался с новым стилем руководства и приходом в Коминтерн «второго дыхания». Он с каждым днем накладывал все больший отпечаток на конкретные решения руководства Коминтерна, в свою очередь, диктовавшиеся страхом большевистской партии перед угрозами со стороны «враждебного империалистического окружения». При этом направление главного удара вызывало удивление даже у сотрудников коминтерновского аппарата: как будто, следуя поговорке «бей своих, чтобы чужие боялись», новая тактика отказывалась от фронтальных атак на правительства западных стран, ставя своей главной задачей устранение из политической жизни их «прислужников» — социалистов. Коминтерн полностью игнорировал тот факт, что идея восстановления единства рабочего движения Европы продолжала жить в рядах левых социалистических партий, которые все более оттеснялись на обочину политической жизни в своих странах, но тем не менее объединяли в своих рядах значительное количество радикально настроенных рабочих. Так, в сентябре 1927 года Независимая рабочая партия Великобритании обратилась к Коминтерну и Социнтерну с предложением возобновить переговоры об объединении своих рядов. Ответ, последовавший от имени секретариата ИККИ, был выдержан в стиле грубого памфлета: «Второй Интернационал функционирует в целом в качестве отдела пропаганды в пользу организации мясников, известной как Лига наций, между тем как его главный теоретик Карл Каутский использует последние остатки своей репутации для гнусных атак против Союза Советских Республик…»[1202] Игнорируя компартии в своих странах и выражая готовность к переговорам только со структурами советского государства, социал-демократические партии большинства также не проявляли готовности к диалогу. Ко второй половине 1920-х годов Коминтерн потерял для них свою субъектность, стал одним из инструментов внешней политики большевиков. Бухарин утверждал, что таким образом правые социал-демократы хотят не только продлить господство капитализма, но и дискредитировать классовый характер политического режима в Советском Союзе. Он вкладывал в уста их лидеров следующую логику: «…реформизм готов „помириться“ с СССР, если СССР ликвидирует Коминтерн или же будет проповедовать „мудрую“ (т. е. реформистскую) тактику, или если Коминтерн (т. е. его руководство) „надавит“ на компартии в смысле их перехода на полуреформистские рельсы»[1203]. Это рассматривалось как «составная часть буржуазного плана ослабить силы революции и облегчить нападение на СССР», а далее следовала известная формула: «даром завоеванного не отдадим». Здесь желаемое, точнее, недавно пережитое выдавалось за действительное — весной 1927 года достигла своего предела «военная тревога», пиком которой стал обыск и аресты сотрудников советско-английского торгового учреждения «Аркос», которое подозревалось в связях с Коминтерном[1204]. 27 мая Лондон разорвал дипломатические отношения с Москвой. Поскольку лейбористы поддержали этот шаг, компартии Великобритании директивно предписывалось разорвать с ними все связи и соглашения. Именно она, малозаметная в политическом ландшафте своей страны на фоне массовой лейбористской партии, стала полигоном для апробации «левого поворота» Коминтерна. Свой план Бухарин изложил на заседании Политсекретариата 1 октября 1927 года Он решил действовать не напрямую, а через эмиссара ИККИ Р. Мэрфи, который отправлялся на съезд КПА. Перед отъездом «мы с ним обсудили ряд вопросов английской политики с условием вынести их на Политсекретариат, и если он одобрит те вещи, которые мы набросали, то они будут служить в качестве директив для Мэрфи как представителя партии, с одной стороны, и Коминтерна — с другой»[1205]. К этому моменту аппарат Исполкома в лице Петровского подготовил собственный проект обращения к съезду, однако его, по мнению Бухарина, следовало радикально переработать, отдав должное «новому соотношению сил в Англии». Политсекретариат ИККИ, приняв линию Бухарина, в приветственной телеграмме съезду КПА заявил, что пришло время самой жестокой и самой беспощадной борьбы против лидеров тред-юнионов и лейбористов, которые «разоблачили себя как непосредственные агенты английского империализма». Из такой посылки делался радикальный вывод: «Коммунистическая партия должна усилить свою борьбу против руководства Рабочей партии, против парламентского кретинизма во всех его разновидностях и подготовиться к тому, чтобы выступить на предстоящих выборах как самостоятельная партия со своей платформой и своими кандидатами…»[1206] Во втором информационном письме за подписью Бухарина философия «левого поворота» была представлена уже всем национальным секциям Коминтерна[1207]. Исходным тезисом данного документа стало утверждение о «полевении» пролетариата, т. е. об изменении соотношения сил в европейском рабочем движении в пользу коммунистов — утверждение, которое никак не соответствовало действительности[1208]. Сохранявшиеся в рядах европейских социалистов расчеты на то, чтобы сохранить хотя бы минимальное политическое взаимодействие с компартиями в своих странах, трактовались в этом документе как «ряд заигрываний социал-демократов с правительством СССР, а иногда и с руководством Коминтерна… Необходимо понять и разоблачить перед рабочими эту маневренную тактику реформистов, целиком и полностью направленную против революции. Коммунистические партии должны в настоящее время ответить на эту тактику усилением борьбы против реформизма. Единый фронт в огромном большинстве случаев снизу и помимо обращения к верхам»[1209]. В переводе на язык политических действий ответная тактика коммунистов означала отказ от любых предвыборных блоков, даже если их целью было противодействие реакционным кандидатам. Здесь Бухарин не оставлял компартиям Западной Европы никакой свободы маневра, жестко предписывая им линию на предстоявших выборах. Для того чтобы перечеркнуть этот коварный план, «следует обратить внимание на подготовку выборов в Англии и Франции, где вопрос об отношении к СССР стоит особенно остро. Необходимо иметь в виду, что ИККИ считает в корне ошибочной линию на поддержку либерально-лейбористского блока (Ллойд Джордж — Макдональд) в Англии и левого картеля во Франции, хотя бы таковая поддержка и прикрывалась соображениями о помощи СССР»[1210].
 Евгений Самуилович Варга
Декабрь 1922
[РГАСПИ. Ф. 491. Оп. 2. Д. 254. Л. 1]
Евгений Самуилович Варга
Декабрь 1922
[РГАСПИ. Ф. 491. Оп. 2. Д. 254. Л. 1]
Следует отметить, что новая тактика была озвучена единолично Бухариным и не прошла формальной процедуры одобрения даже в Президиуме Коминтерна. Дело ограничилось обсуждением в Политсекретариате, где в ее адрес были сделаны серьезные возражения (впрочем, оставшиеся без последствий). Так, венгерский экономист Е. Варга, работавший в берлинском бюро Коминтерна, заявил на заседании 28 октября 1927 года: «Если мы сегодня примем такую тактику, то усилим опасность изоляции компартии в английском рабочем движении. Лейбористская партия ответит, что не может получить власть на этих выборах из-за того, что голоса рабочих расколоты из-за попытки компартии противопоставить своих кандидатов кандидатам лейбористов. Насколько я знаю, настроения рабочих таковы, что они еще не потеряли доверия к правительству лейбористской партии»[1211]. Мнение человека, не понаслышке знакомого с реальным состоянием дел в зарубежном рабочем движении, противоречило голословному утверждению о его «полевении», которое никак не вписывалось в последние годы эпохи межвоенного «просперити».
 Уильям Галлахер
Художник И. И. Бродский
1920
[РГАСПИ. Ф. 489. Оп. 1. Д. 68. Л. 51]
Уильям Галлахер
Художник И. И. Бродский
1920
[РГАСПИ. Ф. 489. Оп. 1. Д. 68. Л. 51]
Стремление Бухарина придать новой тактике универсальный характер вызвало серьезные возражения со стороны как представителей ВКП(б), так и лидеров тех партий, которые в ходе предвыборных кампаний обычно заключали соглашения с социалистами. Речь шла прежде всего о компартиях Великобритании и Франции. Руководитель КПА Уильям Галлахер, срочно вызванный в Москву, критиковал новую линию Коминтерна по трем направлениям. Во-первых, она подрывает всю предшествующую традицию и просто вредна, ибо голосование против социалистов (в Англии — лейбористов) неизбежно окажется голосованием за представителей реакции. Во-вторых, Исполком принимает на веру только слова своего представителя Мэрфи, не обращая внимания на позицию избранных руководителей КПА. И наконец, компартию поставили перед свершившимся фактом, поскольку новая линия была предрешена в Москве буквально за ее спиной[1212]. По такому же сценарию произошло «принятие» нового курса французскими коммунистами. Представитель ИККИ в Париже немец Р. Шюллер с гордостью докладывал на заседании Политсекретариата, что руководство ФКП согласилось с «исправлением линии партии в оценке кризиса, отношении к мелкобуржуазной социалистической партии и тактике на выборах», сделав «крупный шаг вперед к образованию действительно большевистской партии во Франции». Здесь же Шюллер назвал новую тактику именем, которое станет синонимом Девятого пленума ИККИ: «класс против класса», и здесь же он объяснил ее смысл, следуя букве коминтерновского догматизма: «Границы между классами при выборах были неясны рабочим и до сих пор компартия не выделяла их четко, противоречия между коммунистами, радикалами и социалистами не акцентировались»[1213]. Такая позиция полностью соответствовала установкамБухарина, данным в октябрьском информационном письме: «Необходимо, чтобы во время выборов основной водораздел проходил не между правым и левым блоком, с компартией в хвосте, а между буржуазными партиями плюс социалисты и коммунистической партией как единственной партией революционного пролетариата»[1214]. Излишне говорить о том, что выставление собственных кандидатов во Франции, как и в Великобритании, означало для каждой из компартий радикальное уменьшение парламентской фракции по итогам следующих выборов. В ноябре 1927 года Бухарин согласился лишь с предложением представителей КПА и ФКП о переносе обсуждения их предвыборной тактики на следующий пленум ИККИ («Почему бы нам здесь не подискутировать? …Речь идет о серьезном вопросе, и поэтому я выступаю за максимальную толерантность») и выразил готовность провести с ними особые встречи делегации ВКП(б)[1215], которые состоялись уже в январе следующего года. Несмотря на внешний либерализм такого подхода, оставлявшего партиям известные права в отстаивании собственной позиции, по существу вопроса Бухарин не пошел ни на какие уступки. В ходе дискуссий 18 и 25 ноября 1927 года детально обсуждались исключения из тактики «класс против класса» (например, если отказ от голосования за социалиста отдавал бы парламентский мандат реакционеру), но в директивы компартиям их решили не включать, хотя Галлахер настаивал на том, что именно исключения сделают новую линию приемлемой для британских коммунистов[1216]. Однако англичане и французы оказались бессильны перед единым фронтом членов Политсекретариата и сотрудников аппарата ИККИ, представлявших страны с авторитарными режимами. Их позицию категорично выразил поляк Валецкий: «…акцент на выборы уничтожает коммунистическое лицо наших партий». Вскоре руководством ИККИ было осуждено сотрудничество компартии с социал-демократами даже в такой экзотической стране, как Япония[1217]. Девятый пленум ИККИ (9–25 февраля 1928 года) стал символом поворота к левацкой тактике «класс против класса», хотя пока речь шла о ее применении только в двух странах — Великобритании и Франции[1218]. В его решениях подчеркивалось, что рабочие продолжают двигаться влево, а лидеры социалистического движения правеют, что создает для коммунистов уникальную возможность «завоевания руководства рабочим классом в борьбе с капитализмом». Для этого они должны в равной степени наносить удары и против правоконсервативных сил, и против социалистов[1219]. Резолюции пленума прозвучали погребальным колоколом для тактики единого рабочего фронта, обрекая коммунистические партии в демократических странах Западной Европы на полную изоляцию. Что же лежало в основе «левого поворота» Коминтерна осенью 1927 года, главным инициатором которого являлся Николай Бухарин? На первое место следует поставить идейно-психологический феномен, который можно назвать усталостью российских лидеров коммунистического движения от эпохи «просперити» на Западе и отступления в собственной стране. Эта усталость порождала лихорадочные попытки подстегнуть европейские компартии, не дать им увязнуть в болоте мелочной политической борьбы, вернуть политику из парламентов на улицы крупнейших городов. В Москве видели, что в большинстве коммунистических партий руководство оказалось в руках интеллектуалов, которые обладали тактической гибкостью и ораторскими способностями, демонстрировали верность СССР и убежденность в победе коммунизма, но не являлись олицетворением пролетарского революционера. Особенно остро, с точки зрения лидеров Коминтерна, дело обстояло в демократических странах Западной Европы, где компартии интегрировались в существующий партийно-политический механизм. Депутатские мандаты открывали их лидерам доступ в высшие сферы, отрывая от пролетарского образа мысли, привязывали к доминировавшим политическим ценностям в той или иной стране, стимулировали конформистское поведение. Тот факт, что такой тип партийного функционера утвердился и в нэповской России (его олицетворением был и сам Бухарин), конечно, принимался во внимание Сталиным, который в ходе борьбы с оппозицией неизменно критиковал «партийных аристократов». Альтернативной могла быть только жесткая иерархия касты профессиональных революционеров, не принимавших ценности западного мира, в том числе и демократические правила игры в политической жизни. Естественно, ни о каком сотрудничестве, а тем более о предвыборных коалициях с социалистами в данном случае не могло быть и речи. Выступив глашатаем такого подхода, Бухарин фактически подготовил удар против самого себя и своих идейных соратников, ибо именно они олицетворяли собой тенденцию «врастания», «примирения» и даже сотрудничества капитализма и социализма как в хозяйственной жизни нэповской России, так и в сфере международных отношений. Вторым фактором, приведшим к левому повороту 1927 года, являлся страх руководства Коминтерна и отдельных компартий потерять и без того скромную массовую базу своего движения. В условиях экономического подъема и стабильной политической жизни европейские рабочие тянулись к реформистам, деятельность которых приносила им пусть небольшие, но ощутимые успехи. Об этом говорил Бухарин при обсуждении предвыборной тактики болгарских коммунистов еще в июне 1927 года — поддержав социалистов, мы способствовали укреплению их влияния. «Я считаю, что опасность очень велика. Это вопрос не только парламентских выборов, но и будущего существования этой похожей на блок коалиции с социал-демократией, своего рода новой партии»[1220]. Наконец, третий момент, который отнюдь не являлся последним по значимости, — инерция борьбы с объединенной оппозицией. К осени 1927 года судьба последней была предрешена, и именно это обстоятельство открывало для победителей возможность взять на вооружение многое из ее идейного арсенала. Давление слева, которое Троцкий, Зиновьев и их соратники оказывали на большинство в Политбюро, не прошло бесследно. Не будучи уверенным в своих силах и в своей способности выжить во враждебном окружении как внутри страны, так и на международной арене, оно являлось весьма восприимчивым к предупреждениям против «оппортунистического перерождения». На пике внутрипартийной борьбы воспользоваться аргументами от оппозиции было невозможно, но после ее административно-организационного разгрома отношение к ним резко изменилось. В конечном счете и Сталин, и Бухарин оставались революционерами, и всякого рода «отступления», «передышки», «заминки темпа» не вызывали у них особого восторга. Опыт первых лет нэпа показал, что добиться на его основе мобилизации страны на модернизационный рывок попросту невозможно. В известной степени левый поворот Коминтерна предварял тот стратегический маневр, который задумал Сталин применительно к СССР и который был реализован им в 1928–1929 годах. Генсек отдавал себе отчет в том, что при этом маневре за бортом окажется определенная часть большевистской элиты, та самая «партийная аристократия», которую он неустанно бичевал. В таком же ключе Бухарин в рамках коминтерновского поворота рассчитывал на чистку коммунистических партий Европы от вредных элементов, не способных «изжить остатки парламентского кретинизма и левоблокистских традиций»[1221].
5.6. Китайские сюжеты
Важным пунктом международной работы Политбюро во второй половине 1920-х годов оставался китайский вопрос. И Сталин, и Бухарин претендовали на роль главного эксперта в данном вопросе, поскольку затишье в Европе превращало Китай в основной плацдарм для разворачивания сил мировой пролетарской революции. Специфика этой страны давала большой простор для различных оценок даже при наложении на нее ортодоксального классового подхода, а тот факт, что Китай являлся главным восточным соседом Советского Союза, приводил к тесному переплетению внешнеполитических и революционных установок в поиске оптимальной стратегии РКП(б) и Коминтерна. Зачастую эти установки и стоявшие за ними ведомства вступали в серьезные конфликты друг с другом. 4 января 1923 года Политбюро, конкретизируя резолюцию Четвертого конгресса по восточному вопросу, одобрило линию на «всемерную поддержку партии Гоминьдан» под руководством Сунь Ятсена. Еще через день Бухарин на заседании Исполкома Коминтерна заявил: «Главный вопрос состоит в том, оставаться нам в партии Гоминьдан или нет… Я — за, ни один из товарищей не оспаривает эту необходимость. Значит, мы должны предложить такую политику, какую мы рекомендовали нашей британской партии в отношении лейбористской партии — конечно, с вариациями, зависящими от имеющихся [в Китае] специфических условий». Народы колониальных и зависимых стран всегда были предметом особого внимания Коминтерна
Плакат
1931
[Из открытых источников]
Народы колониальных и зависимых стран всегда были предметом особого внимания Коминтерна
Плакат
1931
[Из открытых источников]
Он не отрицал того, что данная линия тесно увязана с внешнеполитическим курсом только что образованного СССР: «Фразу о политике по отношению к Советской России я внес в резолюцию потому, что ситуация в Китае этого настоятельно требует, ведь в отчаянной ситуации партия Гоминьдан предпринимает попытки заключить союз с буржуазными государствами. Потому что ей нужен союзник»[1222]. Москва предлагала себя на эту роль, подкрепив свое предложение готовностью предоставить Сунь Ятсену кредит в 2 млн мексиканских долларов[1223]. Активная поддержка СССР и Коминтерном деятельности китайских революционеров замалчивалось, чтобы не вызывать антисоветской кампании в западной прессе. Политбюро 24 июня 1925 года постановило «предложить членам РКП(б) и другим ответственным товарищам обязательно воздерживаться в своих устных и печатных выступлениях от афиширования роли ИККИ, СССР и РКП(б) в китайском революционном движении»[1224]. Полгода спустя из тех же соображений было признано нежелательным вхождение Гоминьдана в Коминтерн на правах сочувствующей организации[1225]. Очевидно, Бухарина увлекла китайская проблематика. В своем выступлении на Двенадцатом съезде РКП(б) он подчеркивал, что Гоминьдан является единственным движением буржуазного национализма, которое не запятнало себя связями с иностранными империалистами, что нашло свое отражение в резолюциях съезда. Позже, в мае 1923 года, Бухарин внес развернутые поправки в тезисы Дальневосточного отдела ИККИ, предварительно согласовав их с Зиновьевым. Он предлагал взять курс на развертывание в стране аграрной революции против остатков феодализма. Поскольку крестьянский вопрос был признан центральным для успешного развития революционного процесса, КПК вменялось в обязанность «постоянно толкать партию Гоминьдан в сторону аграрной революции»[1226]. Фактически речь шла о том, чтобы перенести на почву Китая опыт российской революции, что стало ахиллесовой пятой китайского курса Москвы. «Ни тогда, ни много позже руководители и идеологи Коминтерна не сознавали, что особенности социальной структуры, землевладения и землепользования в китайской деревне делают здесь невозможной аграрную революцию по русскому образцу»[1227]. По мнению Бухарина, суть проблемы сводилась к «совершенно объективному противоречию между необходимостью на данной стадии [добиться] максимально большего блока, направленного против империализма, и, с другой стороны, необходимостью развивать крестьянское движение»[1228]. В тезисах Седьмого пленума ИККИ о международном положении китайским коммунистам была обрисована перспектива дальнейшей борьбы за самостоятельное некапиталистическое развитие страны в союзе с советским и международным пролетариатом. Инструментом этого развития назывался «единый фронт всех национально-революционных сил, включая антиимпериалистические слои буржуазии», т. е. движение Гоминьдан[1229]. Оптимизм коминтерновцев подпитывался первыми успехами Северного похода китайской национально-революционной армии. Одновременно Сталин, имея полную поддержку Бухарина, подчеркивал необходимость подготовки перехода государственной власти в Китае в руки пролетариата и коммунистической партии. Если первый остерегался давать конкретные рецепты того, как будет выглядеть «некапиталистический путь развития», то Бухарин, выступивший в китайской комиссии пленума на следующий день после Сталина, был максимально конкретен: «Мы будем строить диктатуру пролетариата и крестьянства с антиимпериалистическим содержанием, с национализацией промышленности, национализацией земли, с широким привлечением масс к государственному аппарату, с монополией внешней торговли, с аннулированием государственных долгов…»[1230] Это выглядело как повторение ленинского взгляда на перспективы России после начала в ней революции 1917 года, хотя и с важной поправкой: в то время, как большевики призывали к скорейшему выходу страны из империалистической войны, китайским коммунистам отводилась центральная роль в развертывании войны антиимпериалистической. Не проводя прямых параллелей, Бухарин ориентировал их на то, чтобы добиться «осторожной перегруппировки» сил внутри Гоминьдана в пользу его левого крыла, что выглядело как некое подобие «большевизации» Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов летом — осенью 1917 года. 19 января 1927 года Политсекретариат ИККИ принял резолюцию об организационной работе КПК, подтвердив решения Седьмого пленума. В своих выступлениях в ходе заседания Бухарин говорил о недопустимости раскола Гоминьдана, укрываясь за словесной эквилибристикой и предлагая вести речь о «вытеснении правых», «о завоевании стратегически важных позиций во всех организациях и инстанциях Гоминьдана, в правительственных аппаратах, в армии и т. д.». Это было немедленно отмечено представителями оппозиции: «…если создавать сейчас левую фракцию, то это означало бы раскол» Гоминьдана. Однако он продолжал настаивать на своей позиции, ссылаясь на необходимость сохранить участие коммунистов в Национальном правительстве[1231].
 В первые годы деятельности Коминтерна индийский коммунист Манабендра Нат Рой считался одним из главных экспертов по вопросам, связанным с китайской революцией
Начало 1920-х
[Из открытых источников]
В первые годы деятельности Коминтерна индийский коммунист Манабендра Нат Рой считался одним из главных экспертов по вопросам, связанным с китайской революцией
Начало 1920-х
[Из открытых источников]
Неотъемлемой частью китайской революции было нарастающее вмешательство в ее ход иностранных держав. Бухарин, не так давно рассуждавшей о праве России на «красную интервенцию», выступил здесь поборником сплочения всех антиимпериалистических сил. В январе 1927 года Политсекретариат обсуждал подготовку к Антиколониальному конгрессу в Брюсселе, продумывая систему мер, чтобы сохранить контроль над ним в руках коммунистов. Параллельно Коминтерн разворачивал антивоенную кампанию. Бухарин подчеркивал: «В ходе этой кампании главный акцент должен быть сделан не на Россию, а на интервенцию в Китае. Широкие круги не слишком верят в военную опасность для России, в то время как в Китае налицо факт интервенции»[1232]. 3 марта 1927 года Бухарин выступал на заседании Политбюро, определившим линию КПК на длительную перспективу. Несмотря на нараставший конфликт партии с Гоминьданом, рекомендовалось сохранить курс на «вытеснение правых гоминьдановцев, дискредитировать их политически и систематически снимать с руководящих постов»[1233]. В плане военной работы китайские коммунисты должны были создавать «особо верные революции воинские части», т. е. собственную армию. Через неделю, после того, как в Москву дошли известия о формировании в Ухани и Нанкине двух центров Гоминьдана, директива о необходимости их примирения была отправлена в Китай от имени Коминтерна. Соответствующая телеграмма, подписанная Бухариным, предлагала всем членам гоминьдановского руководства ориентироваться на решения уханьского Национального правительства. В ней еще сохранялась надежда на то, что Чан Кайши удастся образумить, а его выпады против коммунистов расценивались как тактическая уступка правому крылу Гоминьдана[1234]. К 1927 году Бухарин уже твердо усвоил, что китайская тема — безоговорочный домен Сталина. Даже в таких мелочах, как посылка гоминьдановскому пленуму приветственной телеграммы, он запрашивал генсека, «целесообразно ли открыто афишировать связь между Коминтерном и Гоминьданом»[1235]. К этому моменту Коминтерн в решениях Политбюро уже без оговорок относился к числу «советских и партийных органов», действующих за рубежом[1236]. Несмотря на то, что многие директивы китайским коммунистам шли от имени его Исполкома, он был лишен возможности вести с ними переписку без ведома ЦК ВКП(б), а шифротелеграммы от советских эмиссаров, работавших в Китае, получал в Коминтерне один только Пятницкий[1237]. Увлечение коминтерновских экспертов по Китаю параллелями с российским 1917 годом заставило Бухарина высказать на этот счет собственную позицию. «Неверно сразу же выдвигать лозунги, которые мы, к примеру, выдвигали в русской революции во время Керенского. Механическое перенесение этих лозунгов было бы неправильно. Такая тенденция есть у ряда очень нетерпеливых товарищей. Абсолютно неверно переносить наши лозунги после Февраля 1917 г., например, что Чан Кайши это Керенский, мы — большевики, а Гоминьдан — эсеры». Это неверно потому, что Китай ведет национальную войну одновременно и против остатков феодализма, и против иностранного империализма. Поэтому «в русской войне мы саботировали оборону, здесь же мы поддерживаем наступление»[1238], — завершал свою мысль Бухарин. Карл Радек, безоговорочно примкнувший к объединенной оппозиции, выступал за разрыв отношений с Чан Кайши, хотя озвучил это публично лишь в мае 1927 года. По его мнению, это позволило бы стимулировать размежевание внутри национально-освободительного движения страны. Бухарин и Сталин понимали, что часы единого фронта в этой сфере сочтены, но предпочитали занимать выжидательную позицию[1239]. Развязка не заставила себя ждать. Шаблонное понимание «русского опыта», явное забегание вперед, стремление добиться изменения соотношения сил в пользу КПК «здесь и сейчас» привели к трагедии. Руководство революционной армии не горело желанием повторить героический путь Красной армии, которая целиком и полностью находилась под контролем РКП(б). Да и сам Чан Кайши с растущим раздражением относился к директивам Москвы, хотя она внешне не ставила под вопрос его лидерство в Гоминьдане[1240]. Кризис доверия достиг высшей точки к концу марта — началу апреля 1927 года. В ходе дискуссии в Президиуме ИККИ Бухарин сосредоточил свое внимание на угрозе империалистической интервенции, которая дала себя знать бомбардировкой прибрежного Нанкина. «Для империалистов опасность состояла в том, что вскоре возникнет единый Китай, а это было для них неприятным делом». Виновником трагического поворота в развитии революции оказывались европейские рабочие, в том числе и коммунисты, которые не проявляли никакого интереса к китайским событиям. «Это действительно большой скандал. Мы вынуждены вновь и вновь тянуть этих людей за ноги, чтобы они что-нибудь делали, хотя всякий разумный коммунист должен был бы прийти к мысли, что ему надо во весь голос протестовать против действий империалистов в Китае»[1241]. Такой подход, выдвигая на первый план внешний фактор, неизбежно затушевывал назревавший раскол в самом революционном лагере. Несколькими днями позже членам «дуумвирата» уже очно пришлось дискутировать с Радеком на закрытом собрании московского партийного актива. Признавая «безобразия правых», Бухарин оправдывал их своеобразием организационной структуры Гоминьдана, который соединял в себе черты «партии и советов». Сталин пошел еще дальше — не называя имени Чан Кайши, он привел в качестве доказательства притчу, что хороший хозяин не станет выгонять из дома плохую кобылу до тех пор, пока она его слушается. «Когда правые перестанут слушаться, — резюмировал Сталин, — мы их выгоним»[1242]. На самом деле хозяином положения в Китае чувствовал себя как раз Чан Кайши, а проведение компартией самостоятельной политики рано или поздно должно было обернуться репрессиями против нее. Близость развязки в Китае была в те дни очевидна обеим фракциям в руководстве ВКП(б), и она не заставила себя ждать. Видя в коммунистах угрозу собственной власти, Чан Кайши обрушил репрессии на коммунистов, устроив побоище в одном из крупнейших городов страны — Шанхае, которое вошло в историю как «кровавая баня» (в ходе протестов была расстреляна студенческая демонстрация, погибло более 300 человек). «Расправа Чан Кайши со своими коммунистическими союзниками в Шанхае в апреле 1927 года застала Бухарина и остальных советских руководителей врасплох… Китайскую катастрофу можно отнести к наихудшим событиям в политической деятельности Бухарина как лидера. Обвиненный (вместе со Сталиным) оппозицией в провале китайской революции, Бухарин стал беспомощно предлагать различные тактические ходы, которые по мере развития событий теряли смысл»[1243]. Действительно, Зиновьев тут же обвинил Политбюро в капитулянтской политике, утверждая, что предвидел «предательство» Гоминьдана с самого начала[1244]. Накануне открытия Восьмого пленума ИККИ Бухарину от имени «русской делегации» на ходу приходилось вносить изменения в проект резолюции по китайскому вопросу. Обе поправки касались лозунга Советов, который выдвигала оппозиция и который теперь тихой сапой перешел в арсенал официальных структур ВКП(б) и Коминтерна. Во-первых, из документа было вычеркнуто предложение о большевистском характере данного лозунга — Москва не хотела демонстрировать, что ее китайская политика попросту копировала опыт Российской революции. Во-вторых, было добавлен тезис о том, что в ходе превращения демократической революции в социалистическую требование передачи всей власти советам — центральное для компартии[1245]. Очевидно, что вторая поправка была полной противоположностью первой, настаивая на обязательности большевистской модели захвата власти. Спешка и огрехи сталинского большинства в китайской политике давали обильную почву для критики со стороны «объединенной оппозиции». Исследователи справедливо подчеркивают, что начиная с апреля 1927 года Троцкий развил максимальную активность, став ее бесспорным лидером. В отличие от Сталина, прибегавшего к притчам, он предпочитал использовать литературную классику: «Население гоголевского городка в „Ревизоре“, как известно, пользовалось каждым новым забором, чтобы нанести к нему мусору. Так и некоторые публицисты, полемисты и „теоретики“ нашей партии пользуются постановкой каждого нового серьезного вопроса, чтобы завалить его кучей мусора»[1246]. Троцкий и Бухарин в очередной раз схлестнулись друг с другом на заседаниях Восьмого пленума, хотя изначально он был посвящен не китайскому вопросу, а военной угрозе со стороны Запада. Первый настаивал на том, что блок с национальной буржуазией был вообще недопустим в китайской революции — ее ход давно перерос подобные лозунги, и теперь на повестку дня следует выдвинуть образование в стране рабоче-крестьянских Советов. Отвечая ему, Бухарин также старался опереться на авторитет Ленина, пересказывая не только длинные пассажи из его работ, но и по памяти свои беседы с вождем. Подобное цитатничество носило прагматический характер, так, применительно к китайской революции, о которой Ленин не успел высказаться, герой нашего очерка именно у него находил ключевые выводы, оправдывавшие блок коммунистов с Гоминьданом: «Чему учил нас Ленин? Во-первых, что форма советов имеет различное классовое содержание, что советы могут быть не только формой пролетарской диктатуры, но, например, также и формой крестьянской власти. С другой стороны, Ленин, как подтвердит всякий, кто с ним работал, считал возможным, что даже диктатура пролетариата возникнет не в форме советов»[1247]. Следовательно, утверждал Бухарин, возможно сохранение ставки на левый Гоминьдан, базировавшийся в Ухане. Он видел в нем «своеобразную историческую полупартию», способную поддержать массовое движение рабочих, крестьян и ремесленников, которое возглавят коммунисты. Схематичность такого сценария, соответствовавшего марксистской ортодоксии, дополнялась полемической схоластикой: «Тов. Троцкий голосовал в Политбюро за снабжение оружием Чан Кайши, а теперь говорит, что буржуазию надо было с самого начала разоблачать как палача рабочего класса — так что можно с уверенностью выдвинуть тезис, что Троцкий сам в этот период был палачом рабочего класса». Последнему своими колкими замечаниями все-таки удалось вывести из себя Бухарина, и тот сорвался: «Попрошу Вас немного сократить свои дерзости. Это несколько неприлично. Не думаю, чтобы они вплели новые лавры в Ваш победный венок»[1248]. Подобные выпады свидетельствовали как о накале противостояния, которое разыгрывалось на сцене Коминтерна, так и о том, что лидеры партии, когда-то стоявшие плечом к плечу, давно уже потеряли взаимное уважение друг к другу. Эти перепалки, на первый взгляд лишенные особого смысла, следует внимательно анализировать, поскольку их эмоциональная окрашенность дает историкам дополнительные штрихи к биографиям лидеров Коминтерна. О том, насколько близко к сердцу Бухарин принимал китайские сюжеты, свидетельствует письмо Ворошилова, в котором тот упомянул стычку в Политбюро в июне 1929 года. «Обсуждался вопрос о китайских делах. Были высказаны мысли о необходимости военной демонстрации на границе Маньчжурии[1249]. Бухарин резко выступил против этого. Я в своем слове упомянул о том, что в свое время Бухарин отождествлял Китайскую революцию с нашей настолько, что гибель первой мыслил только с нашей гибелью. Бухарин, отвечая, заявил — что мы все кое-что говорили, но вот, мол ты, Ворошилов, один стоял за поддержку Фына и Чан Кайши, которые в то время резали рабочих»[1250]. Речь идет о периоде до «шанхайской бани», устроенной последним — Бухарин действительно выступал за всемерную поддержку китайских коммунистов, но и в тот момент, и позже избегал призывать к «красноармейскому штыку». Столкновения двух лидеров продолжались и летом, пока Сталин находился на отдыхе. В руках у Бухарина была «Правда», и потенциал массовой прессы он использовал в полной мере, готовя читателя к будущим поворотам «генеральной линии». Его былые расчеты на единый рабочий фронт «снизу» в новых условиях трансформировались в призывы китайским коммунистам не доверять Национальному правительству, сделать ставку на массовую инициативу, дать рабочим и крестьянам оружие[1251]. Если же лидеры левого Гоминьдана не очистят Ухань от «буржуазного охвостья и ренегатов», утверждал Бухарин, то отправятся на свалку истории вслед за Чан Кайши и его окружением. Сталин нашел цитируемую статью «удачной»[1252], а Троцкий увидел в ней очередное проявление меньшевистского уклона[1253].
5.7. На грани разрыва
Китайская политика породила и заметные для посторонних глаз трещины в «дуумвирате». В информационном письме партиям Коминтерна от 31 октября 1927 года Бухарин давал директиву выжидать и собирать силы: «Очередная задача Китайской компартии заключается в необходимости ее консолидации, сосредоточения ее кадров в крупных промышленных центрах и в основных районах крестьянского революционного движения. Партия должна избегать распыления партийных сил в данный момент и предупредить возможное истощение их к моменту нового подъема революционной волны». Сталин, перехвативший лозунг оппозиционеров о развертывании в Китае борьбы за рабоче-крестьянские Советы, напротив, стал требовать от направленных туда эмиссаров более энергичных действий. Неподготовленное восстание рабочих в Кантоне обернулось кровавыми репрессиями властей
Декабрь 1927
[Из открытых источников]
Неподготовленное восстание рабочих в Кантоне обернулось кровавыми репрессиями властей
Декабрь 1927
[Из открытых источников]
Осенью 1927 года к Ломинадзе присоединился молодой и крайне амбициозный Гейнц Нейман, до того работавший в аппарате КПГ спичрайтером самого Тельмана. Согласно воспоминаниям его жены, накануне отъезда Нейман имел разговор со Сталиным, который поручил ему «встретить Ломинадзе в Китае, вместе с ним поехать в Кантон и возглавить там руководство восстанием». В Кантон оба эмиссара отправились с чемоданом американских долларов, который едва не потеряли из-за шторма на Тихом океане[1254]. Едва освоившись на новом месте, не знавший китайского языка Нейман стал торопить Москву, помня о наставлениях Сталина и выдавая желаемое за действительное: «Прошу настоятельно ваших немедленных указаний, считаю восстание вполне назревшим, отсрочка изменит к худшему соотношение сил». «Мы решили взять в Кантоне твердый курс на подготовку восстания и создание советов. Организовываем всеобщую забастовку, начали создание красной гвардии под руководством ревпрофсоюзов»[1255].
 Виссарион Виссарионович Ломинадзе
1921
[РГАСПИ. Ф. 490. Оп. 2. Д. 171. Л. 1]
Виссарион Виссарионович Ломинадзе
1921
[РГАСПИ. Ф. 490. Оп. 2. Д. 171. Л. 1]
9 декабря Нейман изложил Москве конкретный план восстания, и не получив одобрения, дал приказ о выступлении 12 декабря 1927 года (оно стихийно началось накануне, в воскресенье). Уже после начала вооруженного выступления рабочих города последовал уклончивый ответ: «Ввиду наличия определенного настроения в массах и более или менее благоприятной обстановки на месте, не возражаем против вашего предложения и советуем действовать уверенно и решительно»[1256]. Восстание оказалось неподготовленным, его участники не имели ни осмысленного плана действий, ни достаточного количества винтовок[1257]. Ломинадзе покинул Китай еще до его начала, Нейману чудом удалось ускользнуть от преследования кантонских властей, и «разбор полетов» в Москве проходил уже при их непосредственном участии. Обсуждение кантонской катастрофы было начато на Пятнадцатом съезде ВКП(б) и продолжено в китайской комиссии, готовившей соответствующую резолюцию Девятого пленума Исполкома Коминтерна. Бухарин, выступивший 31 января 1928 года на последнем заседании комиссии, жестко раскритиковал безрассудство и вспышкопускательство эмиссаров, направленных в Кантон[1258]. Ему не менее резко оппонировали Ломинадзе, Нейман и Шацкин, Сталин до поры до времени держался в тени. Первый из кантонских эмиссаров заявил, что Бухарин пытается превратить их в некую фракцию «по обывательскому признаку», хотя и не отрицал, что «мое выступление против т. Бухарина, члена Политбюро и руководителя ИККИ, могло быть, конечно, истолковано в превратном смысле»[1259]. Ввиду непримиримости сторон обсуждение было отложено, и проект резолюции был принят «русской делегацией» лишь 22 февраля и на следующий день за подписями Бухарина и Сталина утвержден Политбюро[1260]. Наряду с традиционными фразами о буржуазно-демократическом характере китайской революции и недопустимости ее «перепрыгивания» к социалистическому этапу в нем содержались здравые мысли о временном торможении хода революции («в настоящее время нет нового мощного подъема революционного движения масс в общенациональном масштабе») и даже признание ее отступления («обескровленное и зажатое в тиски неслыханного белого террора рабочее движение переживает стадию известной депрессии». Посвященных интересовало прежде всего то, как пленум ИККИ оценит уроки кантонского восстания. То или иное толкование этих оценок позволило бы партийным и коминтерновским аппаратчикам сделать свои заключения о состоянии дел внутри «дуумвирата» и, соответственно, определиться с собственной позицией. Можно не сомневаться в том, что, прочтя резолюцию от начала до конца, бухаринцы были разочарованы. Вопреки очевидным фактам леворадикальный авантюризм в Китае выступал не как результат давления извне, а как некое внутреннее движение, порожденное отсталостью местного пролетариата и крестьянства. «Необходимо решительно бороться против путчизма в известных слоях рабочего класса, против неподготовленных и неорганизованных выступлений как в городе, так и в деревне, против игры с восстанием. Игра с восстанием вместо массового восстания рабочих и крестьян есть верное средство загубить революцию»[1261]. В последний тезис резолюции, принятой пленумом, было внесено существенное дополнение — в нем появились троцкисты и социал-демократия, утверждавшие, что китайская революция завершилась, и таким образом лившие воду на мельницу западных империалистов и их местных пособников[1262]. Еще хуже обстояло дело с оценкой кантонских событий. Применительно к ним не использовалось понятие «путч», речь шла о «восстании, являющемся героической попыткой пролетариата организовать советскую власть в Китае». Такой подход являлся запоздалым отражением коминтерновских оценок «мартовской акции» германского пролетариата 1921 года. Ленин, в частных разговорах признавая это выступление путчем, так и не смог переломить настроения российских и немецких коминтерновцев, считавших, что оно было тяжелом, но необходимым уроком, важным шагом на пути формирования коммунистического авангарда в Германии. Пойти наперекор ленинскому наследию, приложенному спустя семь лет к Китаю, Бухарин, конечно, не мог. Многие искры разгоравшегося конфликта остались за рамками китайской резолюции Девятого пленума. В протокол заседания «русской делегации» 22 февраля 1928 года вошла фраза, которая уже в ближайший год сыграет роковую роль для Бухарина и его соратников. Ввиду постоянной критики «правых уклонов», которую вели Шацкин и Ломинадзе, было принято следующее решение: «Ограничиться состоявшимся обменом мнений. Считать необходимым, чтобы правые ошибки и уклоны, совершаемые в секциях КИ, освещались в журнале „Коммунистический Интернационал“ и в коммунистической печати. Считать нежелательным выступления на заседаниях органов КИ членов делегации ВКП(б) друг против друга»[1263]. Хотя решение выглядело как компромисс, ключевыми в нем были не призывы к дружной работе и даже не запреты выносить сор из избы. Обкатанный на Пятнадцатом съезде партии тезис об угрозе справа в китайской резолюции начинал приобретать зримые очертания. Он во многом перенимал доводы левой оппозиции в ВКП(б), которая давно уже трубила о «правом крыле» и «капитулянтах», причем не только на хозяйственном, но и на коминтерновском фронте. Троцкий не мог скрыть своего глубокого удовлетворения: «Мы впервые услышали в феврале 1928 года от центрального органа [газеты „Правда“] то, что знали давно и что не раз высказывали, именно: в партии Ленина не только „народилось“, но и оформилось крепкое правое крыло, которое тянет к неонэпу, то есть к капитализму в рассрочку»[1264]. На первых порах Сталин избегал нагнетать истерию вокруг «правой» угрозы, однако находившаяся под его покровительством молодежь прекрасно знала, что действует с его ведома и согласия. Ломинадзе хлопнул дверью, попросив освободить его от работы в Коминтерне, однако голоса членов делегации разделились поровну, и он продолжил играть свою роль enfante terriblе. Подобный поворот в поведении вождя не мог укрыться от Бухарина, который скорее поздно, чем рано, почувствовал, что с ним ведут двойную игру. Очевидно, во время пленума или сразу после него он написал Сталину сердитую записку, которую стоит привести полностью: «Ввиду всяких слухов (я же не могу за каждым бегать и говорить „Сталин не за них“, „Сталин не за них“), я им разъясняю их ошибки; 2) бить их вовсю, значит бить в одну из первых очередей Неймана, который, на основе подлизывания, связан с Тельманом, ссориться с коим из-за этого говнюка, который особо лезет в „щели“, измышляя их — я тоже не могу. Вот переплет какой». Не менее интересен ответ Сталина, который все еще выступал в роли объективного арбитра, способного подняться над схваткой: «Я ругал Ломинадзе и Шацкина в присутствии Неймана, которому заставлял перевести все слово в слово. Ты их развратил совершенно непонятным миндальничаньем. Я буду искать теперь случая отхлестать этих людей с вывихом открыто. 1) Эту сволочную группу надо раздробить и рассовать по разным концам России. 2) Никакой свободы обсуждения не давать им и везде и всюду третировать их».

 В ходе дискуссии по итогам кантонского восстания члены «дуумвирата» сохраняли внешнее единство, ограничиваясь мелкими уколами
Обмен записками Н. И. Бухарина и И. В. Сталина
Начало 1928
[РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 23. Л. 83–83 об.]
В ходе дискуссии по итогам кантонского восстания члены «дуумвирата» сохраняли внешнее единство, ограничиваясь мелкими уколами
Обмен записками Н. И. Бухарина и И. В. Сталина
Начало 1928
[РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 23. Л. 83–83 об.]
Бухарин попался на удочку, попытавшись встроиться в тон сталинского ответа: «Откровенно говоря, сам Нейман вреднее их: 1) Смотри, мы его послали без всякого мандата в Китай, а он вполз в руководители. 2) Он начал восстание, не получив нашего ответа (сам мне признавался)». Сталин продолжал плести свою сеть, укоряя Бухарина: «Не Нейман влез в руководство, а Ломинадзе допустил это с удовольствием. Они осмелели потому, что ты избаловал их своим „либерализмом“. Надо бросить „либерализм“. Созовем объединенное собрание русской и немецкой делегации, и там разругаю этих чудаков решительно»[1265]. Несколько месяцев спустя, уже в ходе Шестого конгресса Коминтерна, Бухарин позитивно оценил результат споров по китайскому вопросу в феврале 1928 года, еще не понимая в полной мере, что это было не генеральное сражение со сторонниками Сталина, а лишь увертюра к нему: «Я считаю, что китайскую партию мы сохранили только потому, что на IX пленуме решительно повернули. Если бы мы не повернули решительно на IX пленуме, у нас не было бы китайской партии. Относительно линии руководства китайской партии, что там не было путчизма — но ведь целый ряд товарищей говорил, что их замучили невыполнимыми приказами о восстаниях… Люди брали в руки спички и шли устраивать восстания. Теперь произошел огромный перелом в партии, этого отрицать нельзя»[1266]. Трудно обвинять героя этого очерка в том, что он не смог просчитать дальнейшие ходы своего будущего оппонента, а в конечном счете — палача. Если бы в истории все просчитывалось заранее, ее изучали бы не историки, а математики. Вряд ли можно обвинить Бухарина и в том, что он (в отличие от Сталина) не прислушивался к доводам своих внутрипартийных оппонентов. Логика конфликта в верхушке ВКП(б) подразумевала зеркальность используемых контраргументов, о поиске в них рациональных зерен давно уже не было и речи. Правда, и сам Троцкий к 1928 году отпустил тормоза, формируя карикатурный образ своего оппонента. «Махать кулаками после драки — самое пустое и недостойное занятие. В этом, однако, состоит специальность Бухарина. Сперва он доказывал, что Гоминьдан — то же, что и советы, и что через Гоминьдан коммунисты могут прийти к власти без драки. А когда Гоминьдан, при помощи Бухарина, разгромил рабочих, Бухарин начал махать кулаками… маленький Бухарин раздувается в гигантскую карикатуру на большевизм»[1267]. Нетрудно предположить, что Сталин, внимательно изучавший все документы внутрипартийных оппозиций, посмеивался в усы, читая эти строки. Командированный по его воле в Коминтерн, Бухарин сыграл роль громоотвода в критический для генсека момент, когда позиции последнего в верхушке ВКП(б) еще не казались непоколебимыми. Если для Бухарина поворот влево к тактике «класс против класса» означал прежде всего окончательный разрыв с «проклятой» социал-демократией, то для Сталина более важным представлялось освобождение компартий от «демократических иллюзий», в том числе и во внутрипартийной жизни. Не последнюю роль в нарастании подобных «разночтений» играл и спор о лидерстве в Коминтерне — не начиная пока открытой атаки, генсек исподволь дискредитировал взгляды своего вчерашнего соратника и завтрашнего соперника. Сам Бухарин отрицал какую-либо связь нового курса с давлением оппозиции, но иначе говорить он просто не мог. Обращает на себя внимание тот факт, что этот курс не был связан с серьезной перестановкой социально-политических сил на европейской и мировой арене. Зато он как нельзя лучше вписывался в новый период советской истории, первым предвестником которого стал «кризис хлебозаготовок» зимы 1927/1928 года. Как показывают документы, Бухарин возлагал большие надежды на Девятый пленум ИККИ, рассчитывая использовать его для консолидации своих сторонников в Коминтерне и утверждения собственных представлений о перспективах мирового революционного процесса. 5 января 1928 года при обсуждении вопроса о повестке дня предстоящего пленума, Бухарин подчеркнул, что ставит своей задачей донести до компартий, работающих легально, принципиальный характер изменений, зафиксированных тактикой «класс против класса». «Я излагаю мое личное мнение, так как русская делегация еще не приняла официального решения. Мне хотелось бы обратить внимание членов Политсекретариата на то, что мы все-таки должнывынести на пленум английский и французский вопросы как имеющие чрезвычайную важность… Мы знаем, что с линией, которую предложили мы в Коминтерне, не согласна часть французских и английских товарищей. Если сложилась такая ситуация с вопросами, отчасти являющимися судьбоносными для соответствующих партий, то мы должны серьезно проанализировать и обсудить их… Товарищи формально имеют право поставить этот вопрос еще раз, тем более что пленум ИККИ имеет более высокий авторитет и его решения имеют большее политическое значение, чем решения Президиума»[1268]. Внешне сохраняя верность демократическим традициям гласного обсуждения принципиальных решений, Бухарин «забыл» сказать, что эти решения были приняты уже три месяца назад и перспектива их пересмотра по инициативе зарубежных компартий представлялась крайне маловероятной. Тем не менее его обещание было частично выполнено. Во второй половине января 1928 года состоялся ряд встреч лидеров английской компартии с членами «русской делегации», которые должны были привести стороны к соглашению. Их участникам пришлось сопоставлять два проекта резолюции о предвыборной тактике КПА: один из них был подготовлен самим Бухариным, второй — лидерами английской компартии[1269]. Галлахер и Инкпин защищали более мягкий проект резолюции предстоявшего пленума, но в конечном счете смирились с требованием отказаться от общих с лейбористами кандидатов в избирательных округах[1270]. В принятом на основе предложений Бухарина проекте излагались ключевые задачи предвыборной кампании: лозунг лейбористского правительства отвергался, выдвигалось требование разработки собственной платформы и «беспощадной разоблачительной кампании» против руководства лейбористов и тред-юнионов. В последнем пункте проекта, который являлся частичной уступкой англичанам, голосовать за кандидатов противника разрешалось «в исключительных случаях, но с разоблачением лейбористской партии в особой декларации». В ходе встреч англичане безуспешно пытались донести до руководителей Коминтерна тот очевидный факт, что маленькой компартии не по силам тягаться с лейбористами, а худой мир между двумя партиями — лучше доброй ссоры. Они точно предсказали результаты новой тактики в своей стране: «Мы выступим против организованного рабочего движения, будем разбиты, изолированы и облегчим реформистским вождям [возможность] выкинуть нас из профсоюзов»[1271]. Модус работы с лидерами КПА показал, что идеи Бухарина после того, как он возглавил Коминтерн, о «создании подлинно международного руководства», в том числе образовании постоянных представительств отдельных партий в Москве, так и остались пустыми пожеланиями[1272]. Близкие к нему сотрудники Исполкома изредка выступали с протестами и заявлениями, отмечая, что в повседневной работе их роль сведена до роли статистов. Так, итальянец Эрколи (П. Тольятти), избранный членом Западноевропейского Бюро Коминтерна (ЗЕБ), отказался работать в этом органе. «Благодаря тому, что в составе Бюро находятся два товарища, связанные очень близко с ВКП(б), западноевропейские товарищи склонны рассматривать его скорее как представительство ВКП(б), а не ИККИ. Все это стоит в противоречии с идеей большего привлечения западноевропейских секций к делу руководства Коминтерном»[1273]. Созданная уже после Девятого пленума «комиссия трех» (Бухарин, Реммеле, Эмбер-Дро), которая должна была повысить оперативность в принятии решений, оказалась мертворожденным организмом[1274]. В своей практической работе Исполком руководствовался стилем и нормами, которые безоговорочно доминировали в ВКП(б). Голос лидеров КПА был услышан, но не более того. «Русская делегация» оставалась стержнем коминтерновской структуры, что лишний раз подтвердила ее позиция в английском вопросе. Бухарин мог торжествовать победу, хотя она, как покажет уже ближайшее будущее, оказалась пирровой. В ходе работы Девятого пленума ИККИ тезис о «полевении» рабочего движения, о тяге простых рабочих к коммунистам и репрессиях социал-демократов по отношению к последним превратился в сакральную истину, которую никто не решался поставить под сомнение. Вот как логика эволюции европейского рабочего движения выглядела в бухаринском докладе на пленуме: «Мы имеем все усиливающуюся тенденцию к устранению коммунистов из больших рабочих организаций. Атака на коммунистов уже началась, по-моему, она еще более обострится. Таково положение в Германии: вспомним последние события в профдвижении, характерна позиция профсоюзов в Англии, позиция Рабочей партии, заостренная против левых элементов внутри партии; такие же симптомы мы имеем и во Франции. И все это вырастает в общую тенденцию обострения борьбы со стороны реформизма, со стороны социал-демократии, со стороны профсоюзных организаций Второго Интернационала, в первую очередь против коммунистов»[1275]. Желаемое в очередной раз выдавалось за действительное — чтобы оправдать собственный сдвиг на обочину политической жизни, западные коммунисты и их московский центр представляли себя мучениками, главной жертвой буржуазного мира, в то время как этот мир как раз в годы просперити избавился от страха перед «красной угрозой» и все меньше внимания уделял борьбе с ней. Данная угроза ассоциировалась с существованием Советского Союза, который в отличие от Веймарской Германии никак не хотел встраиваться в Версальскую систему международных отношений, и в той мере, в какой компартии проводили политику оправдания и защиты советской внешней политики, они рассматривались как составная часть этой угрозы. Не будет преувеличением сказать, что инерция борьбы с внутрипартийными оппозициями левого толка, под которой к началу 1928 года была подведена черта, продолжала накладывать свой отпечаток на восприятие лидерами ВКП(б) и Коминтерна внешнего мира. Вместо поиска полей для сотрудничества, пусть даже самого ограниченного, вместо прагматических компромиссов и в том, и в другом случае делалась ставка на «последний и решительный бой». «Было бы ошибкой полагать, — продолжал Бухарин, — что поскольку враг усугубил свое наступление на нас, мы должны идти на какие-нибудь идеологические, тактические или иные уступки для того, чтобы таким путем завоевать новые возможности для продвижения вперед». Но если левые течения внутри компартий, включая российскую, можно было изолировать и нейтрализовать, то за их пределами такая тактика оборачивалась самоизоляцией самих коммунистов. Они стали восприниматься общественным мнением западных стран не столько как занесенная над ними «рука Москвы», сколько как дорогостоящая игрушка, пропагандирующая военно-политический потенциал Советского Союза, выступавшего в роли первой страны, покинувшей орбиту «цивилизованного мира». Этому в значительной мере содействовала коминтерновская установка на то, что компартии должны отказаться от следования лозунгу «пораженчества» в ходе грядущей войны между империалистическими державами и СССР[1276]. Напротив, им предписывалась активная поддержка последнего. При закрытии прений по вопросу об оппозиции в ВКП(б) Бухарин отметил: «…мое заключительное слово будет кратким, т. к. в целом никто не критиковал мое мнение». Интонация глубокого удовлетворения, которая сопровождала это высказывание, вряд ли могла успокоить иностранных участников пленума. Именно им предстояло проводить в жизнь в своих странах такие новации Девятого пленума, как перенесение главного удара на левых социал-демократических лидеров, которые якобы «стояли стеной на нашем пути к массам». Наученные читать между строк, они с точностью до наоборот понимали заявление докладчика о том, что левый поворот Коминтерна никак не связан с давлением на него объединенной оппозиции в ВКП(б). Еще не отдавая себе в этом отчета, Бухарин в заключительном слове подписывал себе приговор, говоря о том, что «мы в нашем развитии совершали гораздо больше правых, чем левых ошибок», хотя и подразумевая под этим, что «правый уклон внутри наших партий находит свое воплощение в троцкизме»[1277]. Фантасмагория обвинений, выросших из логики внутрипартийного противостояния в партии большевиков, будучи перенесенной на международную почву, не могла дать никаких позитивных результатов. Избирательные кампании во Франции и Великобритании, в ходе которых коммунисты отказались от какого-либо сотрудничества с социалистами и лейбористами, обернулись для обеих партий потерей большей части электората и заметными поражениями. Еще более абсурдной была попытка привести к общему знаменателю тактики «класс против класса» мизерную компартию Швейцарии, которую руководство Коминтерна предприняло весной 1928 года. Ее представитель в Москве Эмбер-Дро пытался добиться для партии исключения, чтобы рабочие партии могли на кантональных выборах выдвигать совместного кандидата. Если уж это невозможно, то тогда имеет смысл вообще бойкотировать выборы. Бухарину пришлось сдавать назад: «В стране почти по всем вопросам существует так называемая демократическая свобода. Для нас будет чрезвычайно трудно бороться против подобных демократических иллюзий, если мы будем упорствовать в бойкоте»[1278]. Продолжая и дальше действовать методом проб и ошибок, Коминтерн лишь в середине 1930-х годов придет к признанию того, что «демократические иллюзии» стоят того, чтобы защищать их от фашистской угрозы. Но в 1928 году никто из деятелей этой организации даже в самом страшном сне не мог представить себе такого «поворота вправо». Их одолевали иные заботы. Необходимо было срочно завершить работу над программой Коминтерна, без которой нельзя было проводить его Шестой конгресс, откладывавшийся уже четыре года. Буквально накануне его открытия Политбюро приняло решение о том, что он должен проходить не в Большом Кремлевском дворце, как ранее, а в Доме союзов на Моховой. Документы не говорят о том, было ли это решение формой дискредитации бухаринского Коминтерна, за которой стоял лично Сталин. Так или иначе, представители российской компартии в Политсекретариате (Пятницкий, Мануильский и Бухарин) дисциплинированно проголосовали за него, в то время как все его иностранные члены высказались против (Арно, Белл, Эмбер-Дро, Барбье, Эрколи и Семар). Один из них привел такой аргумент: «…наши рабочие увидят победу буржуазии в том, что коммунисты выведены из Кремля»[1279]. Однако принятые «русскими товарищами» решения согласно канонам большевистской дисциплины подлежали неукоснительному исполнению.
5.8. Программа мировой революции
Ленин в своем политическом завещании дал весьма нелицеприятную оценку Бухарину как теоретику: его «воззрения очень с большим сомнением могут быть отнесены к вполне марксистским, ибо в нем есть нечто схоластическое (он никогда не учился, и никогда не понимал вполне диалектики)»[1280]. На фоне характеристик, которые получили иные из потенциальных наследников вождя, эти слова не звучали приговором, хотя и часто припоминались впоследствии. Так или иначе, Бухарину нравилось заниматься теоретическими вопросами, и ленинская оценка не отбила у него эту охоту, скорее наоборот — подстегнула желание доказать противоположное. В то время как Троцкий считался непревзойденным мастером написания манифестов Коминтерна, с которыми выступали его первые конгрессы, нашему герою досталась работа над подготовкой программы международной организации коммунистов. До тех пор, пока достижение конечной цели представлялось коммунистам делом ближайшего будущего, потребности в кодификации и систематической пропаганде их требований попросту не возникало. Первый проект программы Коминтерна был подготовлен Бухариным лишь к Четвертому конгрессу, когда откат революционной волны стал неоспоримым фактом. В нем он отказался от включения в этот документ переходных требований, считая, что в силу их специфики в каждой из стран их достаточно сформулировать в программных документах отдельных партий. В результате проект выглядел как выдержки из общей части программы РКП(б), принятой в марте 1919 года, а по стилистике напоминал «Коммунистический манифест» 1848 года. Выступая на конгрессе с главным докладом по программному вопросу, Бухарин сосредоточил свое внимание на трех моментах. Во-первых, разоблачении социал-демократических теоретиков, якобы извративших марксизм в угоду своим буржуазным хозяевам. Полемический задор («чистейшее тупоумие свихнувшихся оппортунистов») лишь отчасти прикрывал отсутствие позитивных оценок мирового развития на современном этапе, отличных от того, что уже было сказано классиками марксизма. Вторая часть доклада была посвящена опыту построения социализма в Советской России. Предупреждая попытки трактовать НЭП как вынужденное отступление, Бухарин настаивал на том, что это с экономической точки зрения самая рациональная политика. В случае рецидивов «военного коммунизма» «пролетариат будет вынужден создавать колоссальный административный аппарат», который рано или поздно выступит тормозом развития производительных сил страны[1281]. И наконец, в докладе обосновывалось «право на красную интервенцию», т. е. использование Советской Россией вооруженной силы для подталкивания пролетарских революций в других странах. Считая это принципом, достойным упоминания в программе, Бухарин повторил свои доводы против включения в нее тактических вопросов, которые оценивались уже в логике личных амбиций — он был совсем не настроен придавать тактике единого фронта всеобщий и обязательный характер и тем самым лить воду на мельницу своих конкурентов во главе с Радеком. Содокладчики Август Тальгеймер и болгарин Христо Кабакчиев отстаивали противоположную точку зрения, ибо переходные и частичные требования были детально прописаны в программных документах их собственных партий. Богумир Шмераль
23 июня — 12 июля 1921
[РГАСПИ. Ф. 490. Оп. 2. Д. 320. Л. 1]
Богумир Шмераль
23 июня — 12 июля 1921
[РГАСПИ. Ф. 490. Оп. 2. Д. 320. Л. 1]
В ходе последующих дебатов Бухарину так и не удалось убедить оппонентов в обоснованности своей позиции, хотя его приоритет как автора программы никем не ставился под сомнение. Дискуссия зашла в тупик, и чех Богумир Шмераль высказал общее мнение, что детальное обсуждение не пойдет на пользу этому документу: «…вопрос о форме и стиле программы будет лучше всего разрешен, если программа не будет склеена из отдельных кусков, выработанных всевозможными коллегиями, а будет с начала до конца написана кем-нибудь одним из выдающихся наших товарищей»[1282]. Лидеры иностранных компартий не проявляли особого интереса к теоретическим спорам, ибо считали себя людьми дела, нацеленными на практическое воплощение «русского опыта». Однако творцы этого опыта рассуждали иначе. 20 ноября 1922 года было созвано специальное совещание по программному вопросу, в котором приняли участие Ленин, Троцкий, Радек, Зиновьев и Бухарин. Его итог обернулся поражением для революционного максимализма последнего. Решение «пятерки», оформленное затем как резолюция конгресса, подчеркивало необходимость включения частичных и переходных требований в программу с учетом особенностей той или иной страны[1283]. Связанная с этим необходимость коренной переделки проекта, неудавшийся германский Октябрь и смерть Ленина более чем на год заморозили дальнейшую работу. Только накануне Пятого конгресса программная комиссия в новом составе возобновила свою деятельность во многом благодаря настойчивости Бухарина: любое промедление играет на руку классовому врагу, ведь «поток событий в будущем будет еще более ускоряться… Если работа пойдет, мы примем окончательную программу. По крайней мере я за это»[1284]. На самом конгрессе с содокладом о будущей программе вновь выступил Тальгеймер, призвавший не спешить с принятием этого документа. Он признал, что «последний вопрос — тактические принципы, стратегия — комиссией еще не обсуждался» и его решение будет зависеть от постановлений конгресса по другим пунктам повестки дня. В гораздо большей мере данное решение зависело от соотношения сил в руководстве РКП(б) и Коминтерна. После того, как Радек и Тальгеймер, обвиненные в «правых ошибках», потеряли свое влияние в Коминтерне, Бухарин вернулся на круги своя: «Дальнейшее развитие тактики единого фронта, как и лозунг рабоче-крестьянского правительства, мы вычеркнули» из проекта программы, заявил он на пленарном заседании конгресса[1285]. При финальном голосовании немецкие представители вновь попытались отсрочить принятие проекта, но безуспешно. В этот момент на руках у делегатов не было даже текста нового проекта программы. Бухаринские оппоненты, которых можно назвать «прагматиками», отдавали должное радикальной фразеологии и революционному пафосу этого документа, но подчеркивали наличие длительной переходной эпохи и необходимость выработки для нее особой тактики. Было бы упрощением предполагать, что позиция «фундаменталистов» во главе с Бухариным определялась только инерцией героических лет и его личными амбициями. Программе Коминтерна предстояло стать одним из центральных инструментов «большевизации» иностранных компартий, и вполне естественно, что общим знаменателем для них оказывались не переходные требования, а конечные цели. Теоретический догматизм в данном вопросе был явлением того же порядка, что и насаждение «ленинизма» в государственной идеологии Советского Союза.
 Эрнст Мейер
Художник И. И. Бродский
1920
[РГАСПИ. Ф. 489. Оп. 1. Д. 68. Л. 30]
Эрнст Мейер
Художник И. И. Бродский
1920
[РГАСПИ. Ф. 489. Оп. 1. Д. 68. Л. 30]
Решение по программному вопросу предусматривало, что программа в обязательном порядке будет принята следующим конгрессом Коминтерна (согласно уставу они должны были проходить ежегодно). На этом настаивали прежде всего лидеры зарубежных компартий, так как наличие общей программы того или иного движения являлось характерной чертой политического процесса в Европе нового времени. После того, как программный вопрос был снят с повестки дня Седьмого пленума, представитель «спартаковского крыла» в КПГ Эрнст Мейер заявил, что отсутствие объединяющего документа снижает эффективность работы коммунистов в массах. В его выступлении поднимались актуальные проблемы, требовавшие выработки твердой позиции: речь шла об отношении к национально-революционным войнам (имелась в виду возможная агрессия Антанты против Германии), к рационализации капиталистического производства, которая приводила к росту уровня благосостояния рабочих в развитых индустриальных странах[1286]. Бухарин, захваченный азартом внутрипартийной борьбы, отмахивался от подобных вопросов, которые поставила перед коммунистами новая фаза европейского развития. Для него, как и для большинства лидеров Коминтерна, стабилизация являлась синонимом «передышки» в историческом противостоянии пролетариата и буржуазии. Само слово «передышка» прозвучало из уст Ленина во время дискуссий о Брестском мире, и после этого стало сакральным. Используя вслед за Зиновьевым «ленинизм» как общий знаменатель, к которому следует привести иностранные компартии, Бухарин терял качества самостоятельного теоретика, пусть даже в тех нешироких рамках, которые предоставляло ему нахождение на большевистском Олимпе. Он активно включился в обсуждение вопроса о том, должны ли немецкие коммунисты защищать свою страну, если против нее выступят, как это было в период оккупации Рура, державы Антанты. Догматики ссылались на лозунг «пораженчества», выдвинутый большевиками в годы Первой мировой войны, и отказывались от его ревизии. Бухарин был настроен иначе: «Некоторые товарищи, говорившие здесь, стояли на той точке зрения, что в случае, если у власти стоит буржуазное правительство, вопрос о защите отечества решается отрицательно. Я думаю, что это неверно. Ленин совершенно правильно дифференцировал этот вопрос в зависимости от того, является ли данное государство империалистическим или национально-буржуазным». В последнем случае «пролетариат может и должен при определенных условиях поддерживать государство, ведущее эту войну. Отечество есть псевдоним государства. Разумеется, это не будет защита государства как такового, но это борьба имеет для пролетариата фактический смысл». Бухарин рассматривал реальный кризис, в котором Германия оказалась с начала 1923 го-да — гипотетически она могла опереться на поддержку Советской России. Но к концу 1926 года эта страна уже интегрировалась в Версальскую систему международных отношений, став частью империалистического лагеря, и лозунг «защиты отечества» должен быть снят с повестки дня. Представителей КПГ вряд ли могли удовлетворить подобные экспромты, однако они не решались перечить новому лидеру Коминтерна.
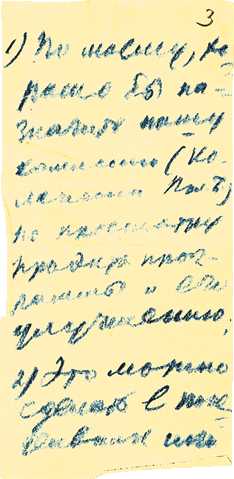

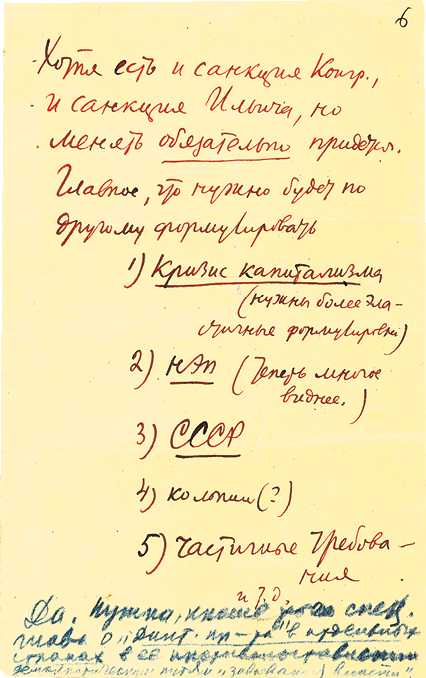 Записка Н. И. Бухарина о работе над программой Коминтерна с ответом Сталина
1928
[РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 137. Л. 3–6]
Записка Н. И. Бухарина о работе над программой Коминтерна с ответом Сталина
1928
[РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 137. Л. 3–6]
К моменту созыва его Шестого конгресса серьезно изменились взаимоотношения большевистской партии с другими секциями Коммунистического Интернационала. В первые годы его существования было трудно себе представить, что подготовка главного документа международной организации коммунистов будет вестись келейно, без привлечения иностранных товарищей. Однако времена равенства и братства закончились, от политического механизма Коминтерна требовалась железная дисциплина, бездумное подчинение спускавшимся сверху директивам и беспрекословное встраивание в иерархию кремлевской власти. При этом последняя не жалела усилий для поддержания иллюзии равноправия «братских партий» — все вопросы, предрешенные в делегации ВКП(б) в ИККИ, после этого проходили формальные процедуры обсуждения в уставных структурах Коминтерна. Не стал исключением из подобной «игры по понятиям» и программный вопрос. В начале 1928 года Сталин предложил Бухарину вплотную заняться подготовкой окончательного варианта программы Коминтерна, отметив, что желательно внести ряд существенных изменений по сравнению с имеющимся проектом. В частности, он посчитал необходимым противопоставить требование диктатуры пролетариата «демократическим путям завоевания власти», т. е. усилить ориентацию западных компартий на советскую модель. Сам Бухарин рассчитывал по-новому изложить «1) кризис капитализма (нужны более эластичные формулировки), 2) НЭП (теперь многое виднее)», а также включить в программу раздел об СССР и частичных требованиях коммунистов[1287]. 5 января 1928 года он проинформировал членов Политсекретариата о модусе работы над окончательным вариантом программы Коминтерна — проект должна была разработать «русская делегация», и лишь затем его следовало отправить на обсуждение компартиям. Возражений не последовало. Лишь через месяц было принято специальное решение сеньорен-конвента Девятого пленума ИККИ, поручавшее членам делегации ВКП(б) представить окончательный вариант проекта программы.
 Сопроводительная записка Н. И. Бухарина к проекту программы Коминтерна
3 апреля 1928
[РГАСПИ. Ф. 493. Оп. 1 Д. 42. Л. 9]
Сопроводительная записка Н. И. Бухарина к проекту программы Коминтерна
3 апреля 1928
[РГАСПИ. Ф. 493. Оп. 1 Д. 42. Л. 9]
Предстоявший конгресс, который уже больше нельзя было откладывать без того, чтобы не превратиться в посмешище для антикоммунистов, был и для Бухарина, и для Сталина слишком большим событием, чтобы не попытаться набрать на нем очки в свою пользу. Первый пытался упрочить свой авторитет как ведущего теоретика коммунизма, прежде всего за счет форсированной подготовки программы Коминтерна, второй провел через Политбюро решение, согласно которому это почетная обязанность возлагалась на членов «дуумвирата»[1288]. Хотя «по линии ВКП(б)» в программную комиссию вошли Сталин, Рыков, Молотов, Варга и Бухарин, вся подготовительная работа сосредоточилась в секретариате последнего[1289]. Сталин, единственный из членов образованной Политбюро комиссии по окончательной доработке программы, представил свои критические замечания на бухаринский проект — «хозяин партии» ревниво следил за успехами «любимца партии» на коминтерновском фронте. Позже Бухарин бросит в сердцах: «Программу во многих местах мне испортил Сталин… его съедает жажда стать признанным теоретиком. Он считает, что ему только этого не хватает»[1290]. 3 апреля он направил Сталину, Молотову и Рыкову новый проект программы, подчеркнув, что он отразил новые явления и тенденции общественного развития последних лет. «Общий характер изменений — в сторону подчеркивания мировых проблем и конкретизации вопросов и задач»[1291]. 7 мая 1928 года доработанный проект программы был утвержден Политбюро и направлен в ИККИ за подписями «дуумвирата»[1292]. Из него исчезло европоцентристское расписание маршрута мировой революции, содержавшееся в первоначальном бухаринском варианте: «Раздробление Европы, ее относительный упадок по сравнению с мощным и вооруженным до зубов американским империализмом, назревание пролетарского кризиса именно в Европе, все это делает необходимым лозунг Социалистических Советских Соединенных Штатов Европы, как переход к европейско-азиатскому, а затем и мировому Союзу пролетарских государств»[1293]. Вместо этого появилась более эластичная формулировка о федеративной связи советских республик мира, к которым должны были присоединиться колониальные народы. Однако не следует преувеличивать различия апрельского и майского проектов, как это делал автор этих строк в своих ранних работах[1294]. И все же на них стоит обратить внимание. Так, в первом из них уже присутствовали такие левацкие утверждения, как фраза о том что «социал-демократия иногда играет фашистскую роль», хотя в дальнейшем этот тезис был усилен[1295]. Там же содержался призыв к осторожности в обращении с техническими специалистами: захвативший власть пролетариат «должен тщательно избегать всяких действий, ведущих к экономическому разорению интеллигенции, в особенности тех слоев, которые уже пострадали за время войны»[1296].

 Проект доклада Бухарина на Шестом конгрессе по программе Коминтерна
1928
[РГАСПИ. Ф. 493. Оп. 1 Д. 35. Л. 1–2]
Проект доклада Бухарина на Шестом конгрессе по программе Коминтерна
1928
[РГАСПИ. Ф. 493. Оп. 1 Д. 35. Л. 1–2]
Заметные различия двух проектов касались только изложения «основ экономической политики пролетарской диктатуры» — фактически речь шла о том или ином толковании советского опыта и конкретно нэпа. Формулировки Бухарина не только повторяли, но и развивали высказанные им на Пятом конгрессе мысли о рыночных рычагах движения к социализму. «Победоносный пролетариат должен взять правильную пропорцию между теми производственными сферами, которые поддаются централизованному и планомерному руководству, и теми сферами, которые могли бы оказаться лишь балластом в его руках. Последние должны быть предоставлены частной инициативе»[1297], — утверждалось в апрельском проекте программы Коминтерна, и было вычеркнуто из майского. Список отличий можно было бы продолжать, хотя мы не можем определить, какие мотивы лежали в основе тех или иных изменений данного документа. Сталин больше не возвращался к вопросу о программе мировой революции, зато для Бухарина горячая пора продолжалась. После передачи документа в ИККИ начала свою работу соответствующая комиссия, в которую вошли именитые деятели мирового коммунистического движения, в том числе Пальмиро Тольятти, Сен Катаяма, Отто Куусинен, Богумир Шмераль, Клара Цеткин и Евгений Варга. Секретарем комиссии был избран близкий Бухарину Эмбер-Дро, с конца 1926 года входивший в Президиум ИККИ. Состав комиссии был определен только 9 мая, поэтому о сколько-нибудь серьезной проработке документа речи идти не могло[1298]. В лучшем случае ее члены могли внести отдельные поправки, но самое главное — они должны были освятить своим авторитетом будущую «программу мировой революции». Подобная штурмовщина была на руку Бухарину, который отдавал себе отчет в том, что в условиях нараставшего конфликта внутри «дуумвирата» непринятие программы на конгрессе стало бы еще одним пунктом обвинения в его адрес со стороны сталинского большинства. На первом заседании комиссии ИККИ, состоявшемся 16 мая, Бухарин изложил новые акценты программы, особо подчеркнув, что наряду с общей характеристикой мировой экономики и политики в ней разработана новая тактика иностранных компартий по отношению к социал-демократии. «Это находится в известной связи с нашим нынешним политическим курсом, и я думаю, что это выделение социал-демократической опасности ни в коей мере не конъюнктурно, ибо, что касается перспективы, ситуация в наших отношениях с социал-демократией будет обостряться»[1299]. Предложив осенью 1927 года прекратить любые формы сотрудничества с мощным течением рабочего движения, Бухарин уже не мог отречься от своего детища, вошедшего в историю как политика «класс против класса». В то же время он ухватился за предложения иностранных коммунистов, принятие которых позволило бы ему укрепить собственные позиции. Так, применительно к аграрной программе он согласился с Евгением Варгой в том, что не следует копировать русский опыт, ставя задачу национализации земли (венгерский экономист мотивировал это тем, что у западноевропейских крестьян гораздо более развиты собственнические настроения)[1300]. В то же время, настаивая на заострении борьбы против социал-демократических партий Европы, Бухарин выступил против их обозначения как «социал-реформистских», т. е. ориентированных на постепенное преобразование капиталистической системы путем демократически легитимированных реформ. Типичным методом аппаратной работы стало выделение «малой комиссии», которая и внесла в проект конкретные поправки. 25 мая 1928 года работа программной комиссии ИККИ была завершена, Бухарин поблагодарил ее членов за внесенные замечания — всего в проект было внесено 45 поправок, хотя ни одна из них не имела принципиального значения[1301]. 16 июля «русская делегация» признала необходимым принятие программы на предстоящем конгрессе в окончательной форме[1302]. Внешне это было решением в пользу Бухарина, своего рода компенсацией за уступки группы «правых» в экономической сфере на июльском пленуме ЦК ВКП(б)[1303]. Предпоследним этапом в подготовке программы Коминтерна стала работа программной комиссии самого конгресса. Открывая 31 июля ее первое заседание, Бухарин подчеркнул «необходимость достаточно широкой свободы дискуссий, чтобы обеспечить всестороннюю проработку программы»[1304]. Это пожелание являлось лишь расхожей формулой — первым делом комиссия отказалась принимать во внимание критические материалы оппозиции, чтобы, как сказала Клара Цеткин, «не показывать сочувствия к исключенным». Узость поля программной дискуссии была задана опытом большевизации Коминтерна, в ходе которой не последнюю роль играло напоминание о судьбе оппозиций в ВКП(б). Любые попытки отойти от заданных канонов немедленно пресекались. Коминтерновская трибуна изначально не была местом для принципиальных дискуссий, хотя и среди левых радикалов действовало железное правило: чем более закрытым и узким было то или иное сообщество, тем острее и конкретнее шло обсуждение в его рамках. Подготавливаемый документ становился все более пухлым, к началу конгресса его объем перевалил за две сотни машинописных страниц. В ходе обсуждения проекта раздавались и здравые голоса, предлагавшие отказаться от пафосных фраз и пустых лозунгов, обратить внимание на специфику политической борьбы в западных странах. Так, заместитель наркома иностранных дел М. М. Литвинов писал в своем отзыве: «Проект отдает злободневностью, местами он скорее напоминает передовицу „Правды“, чем проект программы мировой коммунистической партии. В проекте слишком малое место занимает опыт революций других стран, кроме СССР»[1305]. Настаивая на все большей конкретизации программы, Бухарин мотивировал это ростом национальных секций и усложнением стоявших перед ними задач. Иной подход — предоставление каждой из партий свободы рук в определении своей тактической линии — даже не обсуждался. Стремление к максимальной детализации являлось следствием упрощенных представлений о возможности управлять обществом как огромным механизмом, от которого требовалась максимальная слаженность всех составных частей. Во многом эти представления выражали дух эпохи, проникнутой верой в безграничные возможности науки и техники. Бухарин предлагал рассматривать пролетарские революции, восстания в колониях, национально-освободительную борьбу «не как механические раздельные части, но в их взаимосвязи, во взаимном воздействии всех этих процессов, которые в целом, в общем образуют мировой революционный процесс»[1306]. Составной частью этого баланса сил выступало приближение второй эпохи империалистических войн, в которой теоретики Коминтерна видели шанс дальнейшего революционного переустройства мира, не исключая при этом даже временное военное поражение Советского Союза. Далеко зашедший догматизм коммунистического движения в полной мере отразили оценки фашизма, дававшиеся в ходе программной дискуссии. Ретроспектива бухаринских взглядов на новую тенденцию общественно-политической жизни в западных странах показывает, что в них были и озарения, и просчеты. Абстрактная социология марксизма тут мало чем могла помочь, поскольку фашизм не укладывался в прокрустово ложе классового анализа. Гораздо большее значение имели наблюдения, которыми делились итальянские и немецкие коммунисты и которые становились предметом обсуждения на заседаниях Президиума ИККИ. Суммируя их итоги, Бухарин подчеркивал необходимость «поставить рост фашистских организаций в зависимость с определенной милитаризацией общественной жизни, в том числе и в Германии… подобные организации заменяют законы и открывают перспективу подготовки войны»[1307]. Рассматривая только его итальянскую разновидность, участники заключительного этапа программной дискуссии в 1928 году противопоставляли фашизм социал-демократическим методам влияния на массы, но не демократии в целом. Утверждение о банкротстве парламентаризма в современную эпоху являлось одной из непререкаемых догм Коминтерна, хотя и сопровождалось различными оговорками. На одном из заседаний комиссии Бухарин даже обмолвился, что «именно поэтому в ряде партий, пусть необоснованно, пусть с ошибками, обсуждается вопрос, не должны ли мы в этих условиях [наступления фашизма] объективно защищать буржуазные свободы»[1308]. Стенографические протоколы заседаний программной комиссии конгресса содержат в себе немало интересных предложений и теоретических новаций. Пусть даже в узких рамках, но здесь еще пульсировала марксистская мысль, сталкивались мнения, а не амбиции, Бухарин блистал остротами (вся дискуссия велась на немецком языке), казалось бы, позабыв о недавних унижениях. Издатели материалов Шестого конгресса обещали издать стенограмму работы комиссии отдельным томом, однако устранение «правых» из Коминтерна поставило крест на этом начинании[1309]. Бухаринские оговорки не позволяют верить в то, что он разделял левацкий тезис о неизбежности фашистского перерождения политической надстройки капитализма. Называя фашизм «открытой диктатурой буржуазии», он относил его появление только к современной ему империалистической эпохе, выступив против оппонентов, которые сводили фашизм к крайнему национализму — так мы и Ивана Грозного, и Петра Первого запишем в фашисты, иронизировал Бухарин. Он выступил против двух крайностей в оценке фашизма: с одной стороны, включения в него любого наступления на интересы рабочего класса, а с другой — ограничения его исключительно странами «второго эшелона», не имеющими собственных колоний. Фашизм, по мнению Бухарина, есть специфическая форма буржуазной реакции, отличающаяся особым механизмом, опорой на массы мелкой буржуазии. «Но здесь надо решительно выступать против теории о ее самостоятельной роли, нужно подчеркивать крупнокапиталистический характер фашистского правительства и фашистского движения»[1310]. Суть бухаринского определения фашизма сохранится в коминтерновских документах, которые будут приняты Седьмым конгрессом уже после прихода Гитлера к власти.
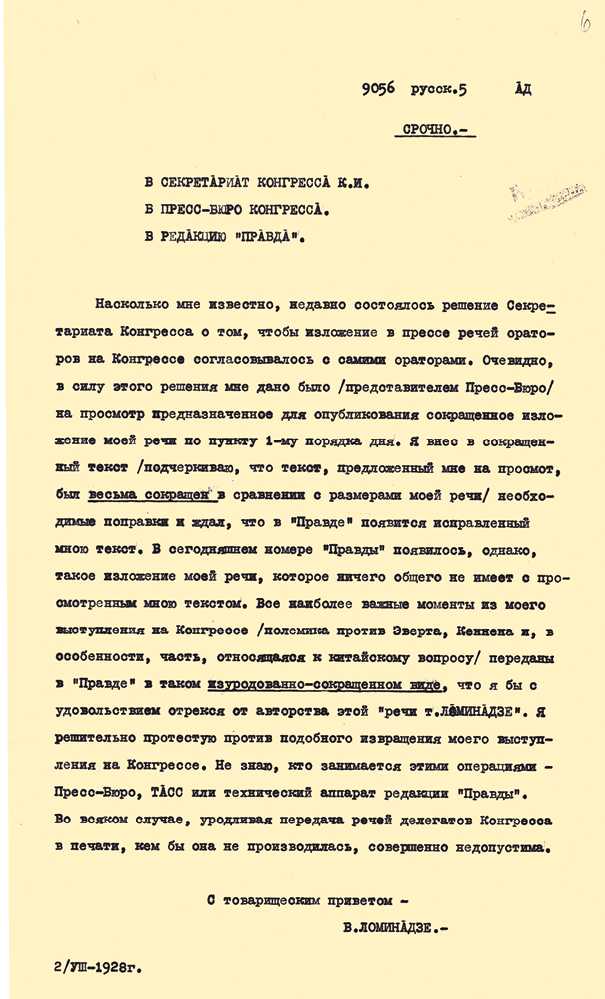 Заявление Ломинадзе в секретариат Шестого конгресса Коминтерна о недопустимости искажения в печати речей делегатов конгресса
2 августа 1928
[РГАСПИ. Ф. 493. Оп. 1. Д. 394. Л. 6]
Заявление Ломинадзе в секретариат Шестого конгресса Коминтерна о недопустимости искажения в печати речей делегатов конгресса
2 августа 1928
[РГАСПИ. Ф. 493. Оп. 1. Д. 394. Л. 6]
Два дня, 10 и 11 августа 1928 года, в программной комиссии продолжалась полемика Бухарина и его «заклятого друга» вокруг главы, посвященной социалистическому строительству в СССР. Ломинадзе, ссылаясь на решения июльского пленума ЦК ВКП(б), призвал дополнить программу указанием на то, что «после завоевания власти пролетариатом классовая борьба невероятно обостряется и что это обострение необходимо и в дальнейшем ходе социалистического строительства»[1311]. Развивая эту мысль, он вообще отрицал обязательность нэпа в переходном периоде для высокоразвитых стран — там возможен иной путь построения социализма. Бухарин принял вызов, резко выступив против тезиса об обострении классовой борьбы в процессе строительства социализма: «…эта опасность может стать актуальной, если мы наделаем каких-либо ошибок, но в целом я полагаю, что чем больше мы будем продвигаться вперед, тем более широкие слои мелкой буржуазии и крестьянства будут становиться на нашу сторону, а не наоборот». Политику «военного коммунизма», на которую ссылались его противники слева, Бухарин назвал вынужденной и ошибочной, порожденной чрезвычайными условиями Гражданской войны и интервенции. Он продолжал настаивать, что «основная тенденция переходного периода — не усиление, а ослабление классовых противоречий. И поэтому в конце этого процесса будет у нас не третья революция, а коммунистическое общество»[1312]. При обсуждении проекта программы на пленарном заседании конгресса Бухарин вновь вернулся к теме, занимавшей его в тот период больше всего, — судьбам нэпа. Признав под давлением своих оппонентов вероятность насильственных мер после установления диктатуры пролетариата в других странах, он отказывался объявить об их обязательности. На Западе «силы пролетариата будут гигантскими, и он будет обладать широкой возможностью организации экономической периферии. Этим самым устанавливается возможность принципиально иной политики. Какой, мы еще не знаем точно. Будем надеяться, что не политики военного коммунизма»[1313]. Накануне в комиссии он даже позволил себе легкую иронию на этот счет: «Зачем же нам экспортировать наши трудности и недостатки в Англию, — может быть, потому, что наш экспорт зерна чрезвычайно мал, упал до нуля?»[1314] Этот пассаж был прямым отзвуком дискуссии о хлебном саботаже кулачества, который занимал Политбюро ЦК ВКП(б) осень — зиму 1927 года и привел в конечном счете к формированию «правой оппозиции». Одновременно Бухарин отдавал должное своим левацким увлечениям при обсуждении международных аспектов программы. В его видении новый всплеск революционного движения должен был стать результатом столкновения империалистических держав на колониальной периферии, что выглядело бы простым повторением предыстории событий лета 1914 года. Крайне неконструктивной оставалось отношение коммунистов к социал-демократическим партиям. Выступая на заседании «русской делегации», Бухарин настоял на пересмотре решения программной комиссии конгресса. Делегация постановила, что в программу следует вернуть «перечисление всех преступлений социал-демократии, которые были выпущены по постановлению большинства суб-комиссии — но представить членам ВКП(б) в программной комиссии право высказываться и голосовать по своему усмотрению»[1315]. 14 августа 1928 года конгресс одобрил проект программы в целом и постановил немедленно приступить к завершению ее окончательной редакции. Для этого была выделена очередная «малая комиссия», которая на несколько дней уединилась в подмосковном имении Архангельское. Последний этап работы над программой проходил в большой спешке — ее неготовность ставила под вопрос своевременное завершение конгресса[1316]. Наводя последний лоск и отказавшись от заключительных пленарных дебатов, на которых настаивали делегаты, Бухарин выполнил поручение Политбюро. В день закрытия Шестого конгресса Коминтерна 1 сентября 1928 года он выступил с краткой заключительной речью, обосновав последнюю порцию добавлений. Вслед за этим программа была единогласно принята делегатами под пение «Интернационала». Теоретический уровень программы Коминтерна был принесен в жертву интересам момента, преходящей расстановке сил в руководстве ВКП(б). Без свободной дискуссии, участия в ней неортодоксальныхмарксистов процесс подготовки этого документа стал еще одним олицетворением «руки Москвы». Выведи Сталин Бухарина из партийного руководства несколько раньше, агитаторам и пропагандистам предвоенной эпохи пришлось бы иметь дело не только со сталинской конституцией, но и со сталинской программой Коминтерна. При этом содержание последней вряд ли претерпело бы сколько-нибудь серьезные изменения. Но Бухарину недолго оставалось руководить международной организацией коммунистов. И выстраданная им программа рухнула в небытие, едва появившись на свет.
5.9. Шестой конгресс
Учитывая настроения аппарата и рядовых членов партии, Сталин в первые месяцы после разгрома «объединенной оппозиции» на Пятнадцатом съезде ВКП(б) постоянно подчеркивал, что за периодом ожесточенной внутрипартийной борьбы пришла пора единства, сплочения сил и конструктивной работы. В эпоху острых столкновений между политическими наследниками Ленина уставное положение о ежегодном созыве конгрессов Коминтерна не выполнялось, что вызывало понятное злорадство со стороны оппонентов, прежде всего из рядов социал-демократии. Сказывалось и то, что западные страны переживали период «просперити», и в этих условиях коммунистам нечем было похвастаться. Заслуживает внимания и предположение Троцкого, что «одним из побудительных мотивов для повторных отсрочек Шестого конгресса было желание дождаться какой-либо большой международной победы. В таких случаях люди легче забывают о недавних поражениях»[1317]. Здание Колонного зала Дома союзов в дни работы Шестого конгресса Коминтерна
Не ранее 17 июля 1928
[РГАСПИ. Ф. 493. Оп. 3. Д. 2. Л. 1]
Здание Колонного зала Дома союзов в дни работы Шестого конгресса Коминтерна
Не ранее 17 июля 1928
[РГАСПИ. Ф. 493. Оп. 3. Д. 2. Л. 1]
Однако и после устранения из партийного руководства лидеров оппозиции так и не наступило политического равновесия, которое позволило бы спокойно провести многократно откладывавшийся конгресс Коминтерна. Уже весной 1928 го-да начался новый виток внутрипартийной борьбы, на сей раз сталинское большинство в Политбюро выступило против группы Бухарина, Рыкова и Томского, навесив на них ярлык «правые». Естественно, что этот конфликт не мог не отразиться на деятельности Коминтерна, тем более что последний наряду с «Правдой» рассматривался как «хозяйство» Бухарина, где была сосредоточена значительная часть верных ему соратников.
 Президиум первого заседания Шестого конгресса Коминтерна в Колонном зале Дома союзов
Не ранее 17 июля 1928
[РГАСПИ. Ф. 493. Оп. 3. Д. 4. Л. 1]
Президиум первого заседания Шестого конгресса Коминтерна в Колонном зале Дома союзов
Не ранее 17 июля 1928
[РГАСПИ. Ф. 493. Оп. 3. Д. 4. Л. 1]
Мы знаем из первых рук, какого накала достиг конфликт внутри «дуумвирата». 2 июня 1928 года Бухарин писал Сталину: «Я тебе заявил, что драться не буду и не хочу. Я слишком хорошо знаю, что может означать драка, да еще в таких тяжких условиях, в каких находится вся наша страна и наша партия. Я тебя прошу обдумать сейчас одно: дай возможность спокойно провести конгресс, не делай лишних трещин здесь; не создавай атмосферы шушуканий… Кончим конгресс (и кит.), и я буду готов уйти куда угодно, без всяких драк, без всякого шума и без всякой борьбы»[1318].
 Заявление членов Политбюро ЦК ВКП(б) Шестому конгрессу Коминтерна об отсутствии разногласий. На оборотной стороне документа — заметки Н. И. Бухарина с обоснованием путей преодоления левых и правых «уклонов»
30 июля 1928
[РГАСПИ. Ф. 329. Оп. 2. Д. 6. Л. 123–123 об.]
Заявление членов Политбюро ЦК ВКП(б) Шестому конгрессу Коминтерна об отсутствии разногласий. На оборотной стороне документа — заметки Н. И. Бухарина с обоснованием путей преодоления левых и правых «уклонов»
30 июля 1928
[РГАСПИ. Ф. 329. Оп. 2. Д. 6. Л. 123–123 об.]
В таких условиях возвращение к временам конструктивной работы было уже невозможно — каждая из сторон делала все для дискредитации противника. Сталин до поры до времени оставался в тени, основную работу принял на себя Молотов. Он нашел политические ошибки в статье бухаринца А. Н. Слепкова, посвященной развертыванию партийной кампании самокритики. Бухарин заступился за своего ученика, которого он считал одним из самых одаренных теоретиков, его письмо в ЦКК ВКП(б) было датировано 16 июля 1928 года — кануном открытия конгресса. В нем содержалось достаточно точное определение того, в каком направлении будет развиваться кампания, призванная оживить внутрипартийную демократию: если использовать ее материалы для передачи дел в партийный суд, «то от самокритики останется одно пустое место, а она выродится в расправу и науськивание на любого, неугодного начальству. Это — опасный прецедент»[1319].
 В первые дни работы Шестого конгресса Коминтерна, заседавшего уже не в Кремле, а в Доме союзов, Бухарин столкнулся с тот самой «атмосферой шушуканий», о которой писал генсеку раньше. В ответ на его протесты партийное руководство приняло решение поддержать авторитет неформального лидера Коминтерна: «Ввиду вздорных слухов, распространяемых среди делегатов VI конгресса КИ о разногласиях среди членов Политбюро ЦК ВКП — огласить на сеньорен-конвенте за подписями членов Политбюро заявление о вздорности этих слухов и вредности их распространения»[1320].
На апрельском (1929 года) пленуме ЦК ВКП(б) Бухарин вспоминал: «Если бы этого заявления не было, то я не мог бы довести до конца конгресс… Что же вы хотите, чтобы я из-за каких-нибудь личных соображений просто не кончил бы конгресса? Бросил бы конгресс и, в конце концов, устроил бы мировой скандал? Этого надо было добиваться? У меня был единственный выход, тот, который я и сделал»[1321].
Согласившись на такой внешне примирительный шаг, Сталин одновременно сумел добиться фактического дезавуирования тезисов ИККИ о международном положении, подготовленных Бухариным и уже одобренных ранее. Это произошло 25 июля на заседании делегации ВКП(б) на конгрессе, в котором приняло участие более 40 человек. Солировал все тот же Ломинадзе, за которым и на сей раз стоял Сталин. Наряду с аргументами по Китаю Ломинадзе обвинил Бухарина в пессимизме по отношению к темпам мировой революции на Западе, предложив выдвинуть перед компартиями боевую задачу: «подготовка в связи с приближением нового революционного подъема в большинстве стран Европы к борьбе за диктатуру пролетариата»[1322].
В архиве Коминтерна сохранился неправленый текст ответа Бухарина на замечания своих оппонентов, которые реализовывали заготовленный ими заранее сценарий под условным названием «Что такое правый уклон и как с ним бороться». Избегая называть конкретные факты и фамилии, он обратился к китайскому опыту: «Есть ли правая опасность? Есть. Если сказать китайским товарищам, что вы напрасно чинили огнестрельную расправу с некоторыми, то отсюда они сделают вывод, что вообще никогда не надо этого делать. Это можно сказать в речи, это можно подчеркнуть в докладе, но нужно ли это вставлять в тезисы — не знаю. Это может быть использовано несколько не так. Центр тяжести лежит в массовой работе, в массовых организациях. Без этого вы никакого подъема не получите, если не будете готовиться к массовым восстаниям»[1323].
Несмотря на почти эзопов язык, к которому пришлось прибегнуть Бухарину, говоря о путче в Кантоне, он указал на главное отличие позиций в разгоравшемся конфликте. Железная дисциплина партии профессиональных революционеров или революционное творчество масс — так выглядел стержень довоенного спора Владимира Ленина и Розы Люксембург, двух лидеров леворадикального крыла Второго Интернационала. Этот спор получил новое звучание на исходе 1920-х годов, однако был разрешен в том же практическом ключе, что и двадцать лет назад. Только теперь появился новый образ «ордена меченосцев», в который должна была превратиться партия, способная возглавить революционную борьбу мирового пролетариата.
В связи с этим закономерным и символичным было постановление Бюро делегации, принятое днем раньше по проекту отчета ИККИ: «…внести в тезисы пункт о необходимости строгой железной дисциплины в секциях Коммунистического Интернационала, о необходимости подчинения меньшинства большинству, о взаимоотношениях между комфракциями и парторганизациями. Считать необходимым, чтобы т. Бухарин также остановился на этом в заключительном слове». Здесь же содержалось требование, которое обостряло и без того нараставшее противостояние Сталина и «правых», хотя пока речь шла только о германской компартии: «Внести в подходящий параграф общий пункт о борьбе с правой опасностью и о преодолении примиренчества»[1324].
Перекройка тезисов о международном положении уже после того, как они получили одобрение «русской делегации», стала только первым актом драмы, которая разворачивалась на сцене Дома союзов, где заседал конгресс. В его кулуарах поговаривали о том, что дни Бухарина в руководстве Коминтерна сочтены и он-де первый кандидат в Алма-Ату, место ссылки Троцкого[1325]. Письмо в сеньорен-конвент об отсутствии разногласий в руководстве ВКП(б), позже оглашенное по отдельным делегациям, не стало для Бухарина надежной индульгенцией, но в то же время удержало его от открытого выступления против фракции большинства на высшем форуме международного движения коммунистов, чего в конце июля нельзя было исключать.
Американский историк С. Коэн, выпустивший в 1973 года лучшую биографию Бухарина, справедливо говорил о двух конгрессах, которые проходили в Доме союзов. Его герой «властвовал на официальном открытом конгрессе… Внешне это выглядело как вершина его карьеры в международном движении. За кулисами, однако, происходил „коридорный конгресс“, направленный против его власти и политической линии и отдававшийся слабым эхом в различных публичных выступлениях. Он… охватил крупнейшие зарубежные делегации, которые раскололись (по принципиальным или карьеристским соображениям, либо из привычки подражать русской партии) на бухаринские и сталинские фракции»[1326].
В первые дни работы Шестого конгресса Коминтерна, заседавшего уже не в Кремле, а в Доме союзов, Бухарин столкнулся с тот самой «атмосферой шушуканий», о которой писал генсеку раньше. В ответ на его протесты партийное руководство приняло решение поддержать авторитет неформального лидера Коминтерна: «Ввиду вздорных слухов, распространяемых среди делегатов VI конгресса КИ о разногласиях среди членов Политбюро ЦК ВКП — огласить на сеньорен-конвенте за подписями членов Политбюро заявление о вздорности этих слухов и вредности их распространения»[1320].
На апрельском (1929 года) пленуме ЦК ВКП(б) Бухарин вспоминал: «Если бы этого заявления не было, то я не мог бы довести до конца конгресс… Что же вы хотите, чтобы я из-за каких-нибудь личных соображений просто не кончил бы конгресса? Бросил бы конгресс и, в конце концов, устроил бы мировой скандал? Этого надо было добиваться? У меня был единственный выход, тот, который я и сделал»[1321].
Согласившись на такой внешне примирительный шаг, Сталин одновременно сумел добиться фактического дезавуирования тезисов ИККИ о международном положении, подготовленных Бухариным и уже одобренных ранее. Это произошло 25 июля на заседании делегации ВКП(б) на конгрессе, в котором приняло участие более 40 человек. Солировал все тот же Ломинадзе, за которым и на сей раз стоял Сталин. Наряду с аргументами по Китаю Ломинадзе обвинил Бухарина в пессимизме по отношению к темпам мировой революции на Западе, предложив выдвинуть перед компартиями боевую задачу: «подготовка в связи с приближением нового революционного подъема в большинстве стран Европы к борьбе за диктатуру пролетариата»[1322].
В архиве Коминтерна сохранился неправленый текст ответа Бухарина на замечания своих оппонентов, которые реализовывали заготовленный ими заранее сценарий под условным названием «Что такое правый уклон и как с ним бороться». Избегая называть конкретные факты и фамилии, он обратился к китайскому опыту: «Есть ли правая опасность? Есть. Если сказать китайским товарищам, что вы напрасно чинили огнестрельную расправу с некоторыми, то отсюда они сделают вывод, что вообще никогда не надо этого делать. Это можно сказать в речи, это можно подчеркнуть в докладе, но нужно ли это вставлять в тезисы — не знаю. Это может быть использовано несколько не так. Центр тяжести лежит в массовой работе, в массовых организациях. Без этого вы никакого подъема не получите, если не будете готовиться к массовым восстаниям»[1323].
Несмотря на почти эзопов язык, к которому пришлось прибегнуть Бухарину, говоря о путче в Кантоне, он указал на главное отличие позиций в разгоравшемся конфликте. Железная дисциплина партии профессиональных революционеров или революционное творчество масс — так выглядел стержень довоенного спора Владимира Ленина и Розы Люксембург, двух лидеров леворадикального крыла Второго Интернационала. Этот спор получил новое звучание на исходе 1920-х годов, однако был разрешен в том же практическом ключе, что и двадцать лет назад. Только теперь появился новый образ «ордена меченосцев», в который должна была превратиться партия, способная возглавить революционную борьбу мирового пролетариата.
В связи с этим закономерным и символичным было постановление Бюро делегации, принятое днем раньше по проекту отчета ИККИ: «…внести в тезисы пункт о необходимости строгой железной дисциплины в секциях Коммунистического Интернационала, о необходимости подчинения меньшинства большинству, о взаимоотношениях между комфракциями и парторганизациями. Считать необходимым, чтобы т. Бухарин также остановился на этом в заключительном слове». Здесь же содержалось требование, которое обостряло и без того нараставшее противостояние Сталина и «правых», хотя пока речь шла только о германской компартии: «Внести в подходящий параграф общий пункт о борьбе с правой опасностью и о преодолении примиренчества»[1324].
Перекройка тезисов о международном положении уже после того, как они получили одобрение «русской делегации», стала только первым актом драмы, которая разворачивалась на сцене Дома союзов, где заседал конгресс. В его кулуарах поговаривали о том, что дни Бухарина в руководстве Коминтерна сочтены и он-де первый кандидат в Алма-Ату, место ссылки Троцкого[1325]. Письмо в сеньорен-конвент об отсутствии разногласий в руководстве ВКП(б), позже оглашенное по отдельным делегациям, не стало для Бухарина надежной индульгенцией, но в то же время удержало его от открытого выступления против фракции большинства на высшем форуме международного движения коммунистов, чего в конце июля нельзя было исключать.
Американский историк С. Коэн, выпустивший в 1973 года лучшую биографию Бухарина, справедливо говорил о двух конгрессах, которые проходили в Доме союзов. Его герой «властвовал на официальном открытом конгрессе… Внешне это выглядело как вершина его карьеры в международном движении. За кулисами, однако, происходил „коридорный конгресс“, направленный против его власти и политической линии и отдававшийся слабым эхом в различных публичных выступлениях. Он… охватил крупнейшие зарубежные делегации, которые раскололись (по принципиальным или карьеристским соображениям, либо из привычки подражать русской партии) на бухаринские и сталинские фракции»[1326].
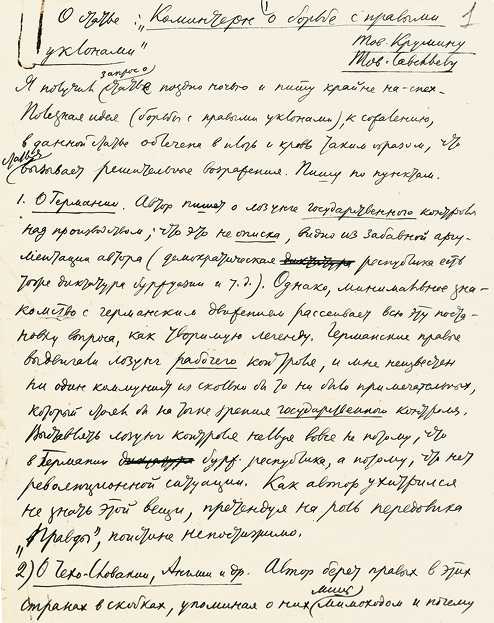
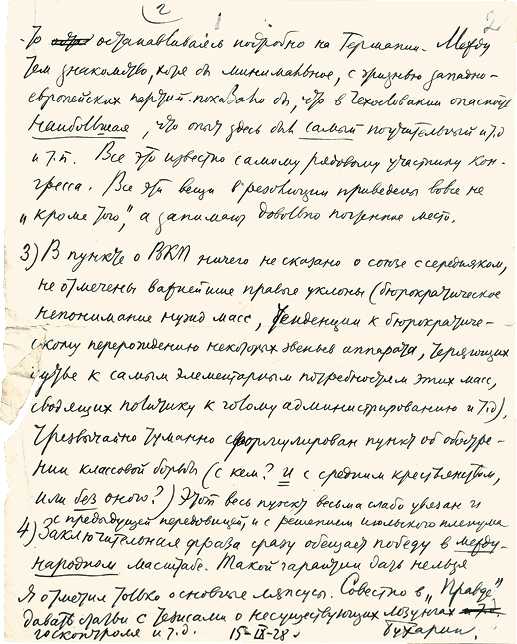 Отзыв Н. И. Бухарина на статью «Коминтерн в борьбе с правыми уклонами»
15 сентября 1928
[РГАСПИ. Ф. 329. Оп. 1. Д. 18. Л. 1–2]
Отзыв Н. И. Бухарина на статью «Коминтерн в борьбе с правыми уклонами»
15 сентября 1928
[РГАСПИ. Ф. 329. Оп. 1. Д. 18. Л. 1–2]
Шестой конгресс Коминтерна закончился безусловной победой Сталина. Ему удалось включить в политическую резолюцию тезис о «правом уклоне» как главной опасности именно в той редакции, которая позволяла незамедлительно начать изгнание сторонников Бухарина из аппарата Коминтерна. Есть немалая доля истины в той жесткой характеристике, которую Троцкий дал расстановке сил внутри «дуумвирата». «Насквозь цинический эмпиризм Сталина и бухаринская страсть к игре в обобщения не случайно шли в течение довольно длительного времени рядом. Сталин орудовал под действием непосредственных социальных толчков, Бухарин приводил мизинцем в движение небо и преисподнюю, чтобы оправдать очередной зигзаг… Обслуживая Сталина, Бухарин стал теоретически питать правую группировку, тогда как Сталин оставался практиком центристских зигзагов. Здесь причина их расхождения. На VI конгрессе расхождение проявилось тем более скандально, чем более его маскировали»[1327]. После конгресса столкновение двух партийных лидеров рано или поздно должно было выбраться из-под ковра, куда оно было на время помещено по тактическим соображениям. 18 сентября 1928 года в «Правде» появилась передовица «Коминтерн о борьбе с правыми уклонами», по сути дела, разъяснявшая партийной массе направление главного удара. Просмотрев статью, Бухарин отметил: «Полезная идея (борьбы с правыми уклонами), к сожалению, в данной статье облечена в плоть и кровь таким образом, что статья вызывает решительные возражения»[1328]. Он даже попытался предпринять обходной маневр, предложив интерпретацию «правого уклона» как тенденции к бюрократическому перерождению некоторых звеньев партийного аппарата, сводящих политику к голому администрированию. Это не помогло — статья появилась в центральном печатном органе ВКП(б) в первоначальной редакции. И наш герой, на тот момент все еще являвшийся главным редактором «Правды», в очередной раз промолчал… Следующим шагом сталинской дискредитации «правых» стала резолюция Московского партийного и профсоюзного актива, появившаяся сразу после завершения конгресса. На первых порах генсек, все еще находившийся в Сочи, сосредоточил огонь на столичной организации ВКП(б), но затем перенес его и на Бухарина, который «не понимает, что борьба с правым уклоном без борьбы с примиренчеством есть пустая и лживая фраза». Обращаясь в лице Молотова ко всем членам Политбюро, он предлагал превратить ошибку в преступление: «А как вы собираетесь наказать Бухарина, который сознательно отклонился от линии ЦК и ввел в заблуждение Мосактив?»[1329] Намек вождя, который в своих письмах уже не стеснялся в выражениях по адресу своего недавнего партнера («„теоретик партии“ ха-ха…»[1330]) был понят. Искоренение «правого уклона» в партии и Коминтерне вступило в свою решающую фазу.
5.10. «Правый уклон» в Коминтерне
Первый день осени 1928 года стал последним днем работы Шестого конгресса Коммунистического Интернационала. Закрывая его, Бухарин подчеркнул возросшее единство международного коммунистического движения, его готовность к революционному обновлению мира. «Наши партии закаляются под ударами исторического молота, наши партии становятся все более и более сплоченными. Наши партии становятся все более и более могучими факторами политической жизни… Мы никогда, ни на одну секунду не боимся никаких атак против нас, ибо мы знаем: мы окрепли гигантски за этот период, наше дело есть исторически прогрессивное, наш класс есть носитель величайшей исторической миссии, наш класс есть класс, которому суждено завоевать власть во всем мире»[1331]. Завершение конгресса как будто снизило накал противоборства в Политбюро ЦК ВКП(б). В очередной раз уклонившись от открытого столкновения со Сталиным, Бухарин упустил один из последних шансов поставить на коминтерновском форуме вопрос об угрозах, возникших перед его собственной партией. Хотя силы были явно неравны, на его стороне могли выступить не только выпестованные им ученые-обществоведы и идеологические работники («бухаринская школа»), но и определенная часть иностранных членов Исполкома Коминтерна. Как правило, это были люди, вышедшие из социал-демократического движения и пытавшиеся сохранить тот живой дух, который характеризовал первые годы деятельности международной организации коммунистов. Проведя в начале сентября избрание руководящих органов Коминтерна, Бухарин отправился в отпуск. Предпоследнее заседание Политсекретариата, в котором он участвовал, состоялось 7 сентября. На первый взгляд обсуждались частные вопросы — положение в австрийской и французской компартиях. Однако в предложенных резолюциях соседствовали утверждения, которые в ближайшие месяцы предопределят разрыв между группой Бухарина — Рыкова и сталинским большинством Политбюро. Речь шла об успехе тактики «класс против класса»[1332] и нарастающей опасности «правого уклона». Последний характеризовался следующим образом: «…это недооценка военной угрозы и серьезности репрессий против компартии… стремление сосредоточить работу партии на защите парламентской демократии, с целью найти союзников среди рабочего класса». И далее давалась характеристика партийного руководителя, который, по мнению авторов резолюции, олицетворял собой подобные настроения: «Правая опасность существует не только в открытом выражении этих идей, она отражается и в том факте, что влиятельные члены партруководства не выражают открыто и ясно своих мнений по этим вопросам, избегают ставить их на дискуссию, что они молчали в момент, когда партия нуждалась во всех своих силах, чтобы увлечь рабочий класс на новую линию; получается впечатление, что они осторожно и сдержанно выжидают, чтобы курс изменился в сторону их ошибочной политики»[1333]. Расплывчатость такого определения позволяла подвести под этот уклон практически любое высказывание и обвинить в нем любого лидера любой компартии. Что касается превознесения успехов «левого поворота», то он успел набрать такую инерцию, что грозил похоронить в сектантстве все коммунистическое движение. В ходе Шестого конгресса Бухарин и его сторонники попытались удержать вожжи, но было уже поздно. Если пользоваться иносказаниями тех лет, то «тельмановские тенденции» одержали верх над «шмералевскими», о недопущении которых Сталин писал Молотову в ответ на его вопрос о том, как должен выглядеть новый состав ИККИ. Оставив поле еще не объявленной битвы, Бухарин уехал штурмовать вершины Кавказа. Напротив, неутомимый Молотов начал активно осваивать коминтерновскую стезю, отправившись вместе с иностранными делегатами в Ленинград, а по возвращении информировал Сталина о своих впечатлениях: «Иностранцев с конгресса, особенно Тельмана, там встречали всюду с необыкновенным энтузиазмом и прямо местами на руках носили»[1334]. А дальше случилось то, что отличает историю от всех остальных наук, в дело вступил его величество случай. Одна из важнейших секций Коминтерна — германская — стала ареной острой конфронтации «верхов». Речь идет о так называемой афере Витторфа, которую сам Бухарин называл «делом Тельмана». Иоганн Витторф, руководитель гамбургской организации КПГ и приятель председателя партии Эрнста Тельмана, в мае 1928 года был уличен в растрате партийных средств. Это стало известно Тельману. Но он не довел информацию о случившемся до членов ЦК КПГ, а будучи на Шестом конгрессе, и до руководства Коминтерна. Мотивируя свое молчание стремлением оградить партию от нападок буржуазной и социал-демократической прессы, Тельман оказал ей медвежью услугу. Сведения, просочившиеся в германскую печать уже в августе, в первую очередь ударили по нему самому. Э. Тельман во главе демонстрации «Союза красных фронтовиков»
Конец 1920-х
[Из открытых источников]
Э. Тельман во главе демонстрации «Союза красных фронтовиков»
Конец 1920-х
[Из открытых источников]
«Афера Витторфа» не только вскрыла единичный случай коррупции в партийном руководстве, но и показала его глубокие причины: отсутствие внутрипартийной демократии, кумовство, «назначенчество» и доминирование административных методов в партийном строительстве. Это был серьезный сигнал не только для руководства КПГ, но и для всего Коминтерна. Начал размываться образ коммуниста как кристально честного человека, беззаветно преданного идее и чуждого всем «буржуазным ценностям». Поскольку главную ответственность за сокрытие факта коррупции нес Тельман, пленум ЦК КПГ 26 сентября 1928 года постановил лишить его полномочий председателя партии до выяснения обстоятельств дела в руководстве Коминтерна. Данное решение, опубликованное в партийной прессе, по сути дела явилось пощечиной Сталину, несколько лет назад сделавшему ставку на Тельмана. Президиум ИККИ постановил прекратить обсуждение вопросов, связанных с «аферой Витторфа», в местных организациях германской компартии, а днем позже создал собственную следственную комиссию. Ни для кого не было секретом, что за конкретным случаем растраты партийных средств стоял принципиальный вопрос о политическом курсе КПГ и всего Коминтерна. Сообщая Сталину 1 октября об отставке Тельмана, Молотов назвал ее «гнуснейшей политической спекуляцией» его оппонентов. В своем ответе Сталин был не менее категоричен: «…опубликование постановления, сделанное к тому же без ведома КИ, есть враждебный акт против партии и Коминтерна, выгодный лишь капиталистам и социал-демократам»[1335]. 2 октября Бухарин направил в Москву телеграмму, предложив до перенесения вопроса в Коминтерн обсудить ситуацию в Политбюро. Признав ошибкой публикацию решения ЦК КПГ от 26 сентября, он выступил против его дезавуирования, равно как и против снятия Тельмана с партийных постов, потребовав лишь послать ему в помощь «русского, абсолютно парализовав вредное влияние Неймана — деморализующего начала верхушки КПГ»[1336]. Все еще находясь под впечатлением развернутой против него кампании дискредитации на конгрессе, в которой Нейман играл далеко не последнюю роль, Бухарин не счел нужным лично вмешиваться в ход событий, и вопрос о положении в КПГ рассматривался в Политбюро без него. Итоги обсуждения были вынесены Куусиненом на заседание Президиума ИККИ 6 октября 1928 года[1337]. «Дело Тельмана» было фактически вывернуто наизнанку: теперь уже его суть заключалась не в сокрытии очевидного факта коррупции, а в отстранении от дел партийного руководителя, которое имело все черты дворцового переворота. Президиум восстановил Тельмана в правах председателя КПГ и потребовал произвести «известные изменения в составе руководящих органов ЦК… чтобы создать гарантии против принятия решений, наносящих вред партии»[1338]. По существу это означало карт-бланш для реванша тех сил, которые ориентировались на Тельмана. То, что кампания исключений разворачивалась под флагом идейной борьбы, являлось лишь попыткой сохранить хорошую мину при плохой игре. Уже 6 октября 25 членов ЦК КПГ раскаялись в содеянном и на страницах газеты «Роте Фане» признали свою ошибку. Остальные были фактически поставлены перед выбором: подчиниться или уйти. Германские события четко обозначили водораздел и в руководстве ВКП(б). Сталин пока еще оставался за кулисами, хотя никто не сомневался, что позиция ИККИ была продиктована именно им. Бухарин, фактический руководитель Коминтерна, оказался не у дел, его даже не проинформировали о принятых постановлениях. 7 октября терпение его лопнуло, и он направил Пятницкому и Молотову телеграмму: «Не получаю дальнейших материалов по делу Тельмана… Прошу дополнительно сообщить, почему Тельман скрыл это дело от руководства ИККИ во время конгресса. Правда ли, что это были русские деньги, правда ли, что Тельман знал о невинном кассире, исключенном из партии, и отрицал вначале свою осведомленность». Ответ Пятницкого был лапидарен: о решении Вы завтра узнаете из газет. Вспоминая об этом эпизоде на апрельском (1929 года) пленуме ЦК ВКП(б) и цитируя переписку с Москвой, Бухарин справедливо расценил его как очередную попытку собственной дискредитации[1339]. Объявив после возвращения из отпуска бойкот и устранившись от работы как в ИККИ, так и в «Правде», он фактически оставил своих соратников в этих структурах один на один со сталинским аппаратом. Им пришлось самостоятельно определять свою линию поведения. Секретарь ИККИ Эмбер-Дро 12 октября заявил о своем несогласии с решением Президиума по германскому вопросу. В его телеграмме подчеркивалось, что оно означает отход от линии Шестого конгресса Коминтерна и «полную дискредитацию и уничтожение всякого авторитета партийного руководства перед рабочими массами в угоду весьма сомнительному восстановлению личного авторитета тов. Тельмана»[1340]. В знак протеста Эмбер-Дро обратился в «русскую делегацию» с просьбой вернуть его на партийную работу в Швейцарию[1341]. Московская реабилитация Тельмана стала катализатором внутрипартийного размежевания в германской компартии. Если сам Тельман воспринял ее как охранную грамоту при проведении кадровой чистки, то «правые», увидев в ней отказ от курса на консолидацию различных течений в партии, активизировали свою фракционную деятельность. Возвращение в Германию Брандлера и Тальгеймера, до того пребывавших в почетной ссылке на задворках Исполкома Коминтерна, дало им лидеров, сохранивших авторитет среди рядовых членов КПГ[1342]. Хотя и тот, и другой для того, чтобы получить разрешение на возвращение в Германию, дали обещание не вмешиваться во внутрипартийную борьбу, в Берлине они занялись сплочением своих сторонников, чему способствовал их образ «почетных ссыльных», которых насильно удерживали в Москве на протяжении почти пяти лет. Тальгеймер жестко критиковал тех лидеров КПГ, которые всячески этому содействовали: «Попытка заткнуть мне рот во внутрипартийной дискуссии… никоим образом не свидетельствует о внутренней силе вашей позиции, поскольку вы вынуждены прибегать к мерам ничем не прикрытого произвола»[1343]. В региональных организациях партии «правые» обладали серьезной поддержкой массовой базы. Так, в Саксонии приказ о снятии местного лидера Хаузена (одобренный самим Политбюро российской партии[1344]) вызвал не только отдельные протесты, но и фронду всей партийной организации. В Москву сообщали о том, что решение о реабилитации Тельмана вызвало такой всплеск эмоций, что «не оставляло никаких сомнений в настроении присутствующих». Попытавшегося выступить члена ЦК КПГ Франца Далема освистали, позже он заявил, что среди участников заседания окружного комитета партии «находятся даже такие, которые позволяют себе критиковать тов. Сталина»[1345]. В местных организациях набирала силу цепная реакция, которая неизбежно должна была привести к расколу партии. Решающим толчком к ее началу стало личное письмо Сталина Тельману от 15 октября, вполне определенно показавшее германской компартии, кто стоит за спиной ее лидера. Только слепой мог бы не замечать того урона, который наносила кампания борьбы с «правыми и примиренцами» одной из крупнейших секций Коминтерна. Соратники Тельмана не только занимали крайне жесткие позиции во внутрипартийных вопросах, настаивая на «отсечении голов», но и давали левацкие оценки политической ситуации в Германии, которые сыграют роковую роль в последующий период, когда главной станет фашистская опасность. Можно сказать, что внутрипартийное размежевание в КПГ копировало аналогичные процессы в ВКП(б), причем в борьбе с «правыми» немецкие руководители даже оказались впереди. Неожиданно на фронду сталинской линии в германском вопросе решились иностранные члены Исполкома Коминтерна, которые пользовались бесспорным авторитетом в своих партиях. К Эмбер-Дро и Кларе Цеткин присоединились Эрнст Мейер и Анжело Таска. На заседании Политсекретариата против ставки на отсечение «правых» в КПГ выступили не только они. Такие авторитетные деятели Коминтерна, как Куусинен и Лозовский, признали правоту «примиренцев», пытавшихся не доводить дело до раскола партии. Они предложили сделать ставку на внутрипартийную консолидацию и разъяснительную работу, отказавшись от административного искоренения всех и всяческих уклонов. Куусинен заявил в ходе заседания: «Когда читаешь резолюцию ЦК КПГ, приходишь к выводу, что она специально так написана, чтобы никто из примиренцев не смог за нее голосовать. Вместо того, чтобы обеспечить примиренцам переход на сторону большинства, его затрудняют»[1346]. Председатель Профинтерна Лозовский даже подготовил собственный вариант письма в ЦК КПГ, подчеркнув, что его главной задачей должно быть недопущение раскола партии по линии, оставляющей за ее бортом и «правых», и «примиренцев». «Если правые берут установку на создание вместе с левыми социал-демократами промежуточной партии, то этого нельзя сказать относительно примиренцев. Не надо бросать и тех и других в один мешок. Нельзя называть примиренцев ренегатами и предателями, ибо это ничего не разъясняет, а только затрудняет работу»[1347]. Эмбер-Дро в своих позитивных предложениях шел еще дальше — он требовал проведения внутрипартийной дискуссии и созыва чрезвычайного съезда КПГ, а до него — борьбы с ревизией решений Шестого конгресса «как справа, так и слева»[1348]. Позиция руководства Коминтерна по германскому вопросу отнюдь не выглядела предрешенной, и здесь многое зависело от того, проявит ли Бухарин свои бойцовские качества, решится ли на открытую конфронтацию с большинством, которое ориентировалось на сталинские указания. Однако тот, хотя и порвал в ноябре свое заявление об отставке со всех постов, продолжал игнорировать работу Исполкома Коминтерна. По воспоминаниям его соратников, дело ограничилось лишь несколькими частными встречами с ними[1349]. Лишь под давлением Рыкова Бухарин согласился встретиться с оппонентами из Политбюро для обсуждения судьбы германской компартии. Встреча носила неформальный характер и состоялась 7 декабря в ложе Большого театра[1350]. Сохранились воспоминания Эмбер-Дро об этом неординарном событии: «Бухарин провел меня в салон ложи. Я весьма удивился, встретив там Молотова, Сталина и других членов Политбюро. Они пригласили меня в ложу и закрыли дверь салона. За все время представления я один находился в ложе и смотрел балет, а за моей спиной разыгрывалась трагедия, отголоски которой достигали меня; я понимал, что в салоне происходит бурное заседание Политбюро, обсуждавшее политику Коммунистической партии Германии. Бухарин привез меня, чтобы я мог ответить на вопросы, если бы возникло обвинение в мой адрес»[1351]. Добившись на встрече в Большом театре ряда тактических уступок, в частности, указания на то, что следует стараться удержать «примиренцев» в партии, Бухарин проиграл главное: Политбюро подтвердило генеральную линию на борьбу с правым уклоном — пока только в КПГ. Примирения сторон не состоялось и на этот раз. На встрече было достигнуто соглашение, что проект открытого письма немецким коммунистам совместно подготовят Бухарин и Молотов, однако он так и не увидел свет. Вместо него делегация ВКП(б) одобрила документ, подготовленный сотрудником аппарата ИККИ С. И. Гусевым и выдержанный в духе отсечения «правых»[1352]. Финальным аккордом кампании борьбы с ними стало заседание Президиума, состоявшееся 19 декабря 1928 года. Все было предрешено заранее — накануне ЦК КПГ получил разъяснения Москвы о «немедленном исключении руководящих элементов правых» сразу после получения соответствующих решений[1353]. Впервые в работе Президиума после своего избрания в его состав на Шестом конгрессе приняли участие Сталин и Молотов. Несмотря на мужественные выступления соратников Бухарина, в его отсутствие у них не было шанса быть услышанными. Их предсказания стали сбываться уже спустя несколько дней после вынесенного приговора. Исключенные из КПГ «правые» на рубеже 1928–1929 годов образовали собственную партию, дав ей то же самое название с довеском «(о)» — «оппозиционная». Реакция Бухарина на осеннее наступление своего противника в Коминтерне явно запоздала. Лишь в конце января 1929 года он выступил с заявлением, в котором, не бросая прямых обвинений Сталину, подверг критике сложившееся единовластие в партии и Коминтерне. «Я против вдвойне нелепой для Запада политики и методов руководства, когда окриком заменяют аргументы, когда главное видят в так называемых „своих“ людях, хотя бы эти „свои“ были плохими политиками и имели еще некоторые другие весьма сомнительные качества. Борьба против правых решена конгрессом, как и борьба против примиренчества. Но конгресс говорил и о концентрации сил. Где она? Можно ли ее достигнуть при такой фактической линии руководства, когда убеждение заменяется одним криком, плюс принуждение? Разве так вел Коминтерн Ленин?»[1354] Стилистика данного заявления выглядит скорее как крик души, нежели как выверенный политический шаг. Фактически Бухарин приговорил себя сам уже в феврале 1928 года, когда согласился с признанием угрозы «правого уклона» в КПГ, да еще и не воспротивился вводу в лексикон термина «примиренчество», который мог подразумевать что угодно. В отличие от лидеров «объединенной оппозиции» он не решился поставить вопрос о причинах деградации революционной диктатуры в авторитарный режим, типичный для российской истории, хотя и признал, что «элементы бюрократизации у нас в партии возросли». Финал заявления начинался как расписка в собственном бессилии: «…я не могу предложить каких-либо требований, рецептов и т. д.», а за ней следовала просьба об отставке со всех постов[1355]. «Никто не загонит меня на путь фракционной борьбы, какие бы усилия не прилагались к этому», — завершил свою исповедь Бухарин. Это было обещание, в котором не было необходимости — «правых» не надо было никуда загонять, потому что в партию и Коминтерн пришла эпоха надуманных проступков и преступлений, которые фабриковались без всякого участия будущих жертв. После того как заседание Политбюро и Президиума ЦКК от 30 января 1929 года осудило «правых», а затем сталинское большинство подготовило разгромную для них резолюцию, Бухарин, Рыков и Томский заговорили открытым текстом, назвав Сталина инициатором «войны на истребление». Следуя устоявшейся логике внутрипартийной борьбы, они, как и их предшественники, апеллировали к авторитету Ленина, урокам его работы в Коминтерне. «Ленин неоднократно предупреждал против механических рецептов, против неучета своеобразия движения в отдельных странах и т. д. и т. п. Ленин умел аргументировать и убеждать, а не отвечать иностранному товарищу (как Сталин — Эмбер-Дро на заседании президиума ИККИ): „Пошел он к черту“»[1356]. «Правые» заявили о невозможности дальнейшей работы на руководящих постах: «Если бы тов. Бухарин пошел в Коминтерн, он был бы там только физически, а не политически. Но на такую роль можно приискать и манекен»[1357]. Увы, времена политических баталий, после которых единомышленники еще теснее сплачивались вокруг партийного руководства, канули в Лету. Спросом пользовались уж если не бездушные манекены, то в лучшем случае беспрекословные унтер-офицеры. Шанса быть услышанными у Бухарина и его соратников на рубеже 1920–1930-х годов уже не было.
5.11. Уроки недожитой жизни
Сталин не спешил снимать Бухарина со всех руководящих постов, очевидно, выжидая, какой будет реакция партийного аппарата на местах на кампанию борьбы с «правым уклоном». На протяжении всего 1929 года Бухарина и остальных «правых» прорабатывали, где только можно и как только можно: два пленума ЦК, десятки заседаний ЦКК. Коминтерн занимался изгнанием собственных «правых», которые как по заказу находились в каждой из компартий. Его структуры могли бы оказаться важным политическим ресурсом, решись Бухарин летом 1928 года на фронтальную атаку против фракции сталинского большинства в Политбюро. Однако фетиш восстановления единства партии после пяти лет борьбы с оппозиционерами всех мастей буквально парализовал его, и он разорвал все связи со своими бывшими коллегами по Коминтерну как среди лидеров иностранных компартий, так и ответственных работников аппарата ИККИ[1358]. Одним из тех, кто «вовремя ушел», был Рихард Зорге, получивший партийное взыскание за то, что он прибыл на Шестой конгресс Коминтерна вместе с датской делегаций, не имея на это специального разрешения[1359]. Тем не менее его включили в работу над итоговыми документами конгресса. Уже после своего ареста в Японии он признавал, что в его ходе «выступал как бы в роли личного секретаря влиятельного политика Бухарина». На второй день после закрытия конгресса он вновь был отправлен в Скандинавию, сообщив своим соратникам, что устал от подковерных интриг: «Мне не доставляет никакой радости совать свой нос в тайны лендерсекретариата или „больших политиков“. Пускай они спокойно забавляются своими скорее малыми, нежели большими делами. Если понадобится, я поеду хоть на Северный полюс, может быть, там тоже понадобится основать какую-нибудь компартию»[1360]. В ходе нескольких последующих месяцев Зорге постоянно находился в зарубежных командировках — его биограф считает, что таким образом высокие покровители в Коминтерне старались на время вывести талантливого молодого человека из игры, чтобы сохранить его в коминтерновской орбите. Это не помогло, и 29 августа 1929 года он был переведен в «резерв ЦК ВКП(б)» — партии, членом которой он являлся на протяжении почти пяти лет. Став сотрудником советской разведки, Зорге (под прикрытием должности корреспондента одной из германских газет) смог создать мощную сеть осведомителей в Шанхае и других городах Китая[1361]. Сменивший его резидент Я. К. Бронин признавал, что «недостатки созданного Рихардом Зорге разведывательного механизма не могут умалить того, что им было сделано», причем «буквально на голом месте»[1362]. Тот факт, что в досье разведслужбы была зафиксирована близость Зорге к Бухарину, предопределил недоверие к поставляемой им информации, в том числе и из Японии, где ему удалось добыть информацию о точной дате нападения нацистской Германии на Советский Союз. Отказавшись выехать в 1937 году в Москву, он продолжил свою резведывательную деятельность, и ему «судьба позволила погибнуть как бойцу, от рук своих противников»[1363]. Другие сторонники Бухарина, разбросанные по всему свету, даже в отсутствие своего лидера продолжали держаться вместе, рассчитывая, что их патрон и наставник рано или поздно вернется на большевистский Олимп. Уникальным документом является письмо сотрудника секретариата ИККИ М. Г. Грольмана, которое Пятницкий 7 июня 1929 года переправил Сталину и Молотову, раскрыв все использованные в нем псевдонимы. Согласно его объяснению, письмо «случайно попало в аппарат ИККИ» и было написано еще в феврале 1929 года, когда его автор покидал Европу, отправляясь в длительную командировку в Мексику. Грольман подробно рассказывал о своих контактах с бухаринцами, разбросанными по многим странам Европы, которые он проезжал, пробираясь на запад. Во Франции он встретился с Эмбер-Дро, обсудив с ним «нашу оценку Шестого конгресса». В Германии его собеседником стал Эверт, которого Грольман побуждал продолжать борьбу и даже сформировать в КПГ особую платформу. «Ее несоставление будет означать ни что иное, как отступление от своей линии, как желание сбоку и с припеку „сработаться“, как жест к примирению. В перспективе — идейно-принципиальная капитуляция вместо борьбы до конца»[1364]. Иностранные коммунисты, стоявшие у истоков Коминтерна. Пауль Леви, Джачинто Серрати, Жюль Эмбер-Дро, Анжелика Балабанова в президиуме Второго конгресса. Все они рано или поздно будут исключены из ИККИ
1920
[РГАСПИ. Ф. 489. Оп. 2. Д. 106. Л. 1]
Иностранные коммунисты, стоявшие у истоков Коминтерна. Пауль Леви, Джачинто Серрати, Жюль Эмбер-Дро, Анжелика Балабанова в президиуме Второго конгресса. Все они рано или поздно будут исключены из ИККИ
1920
[РГАСПИ. Ф. 489. Оп. 2. Д. 106. Л. 1]
Очевидно, со слов Эверта приводилась информация о катастрофическом положении в германской партии: «Идет драчка всех против всех. Кучер [Тельман] опять не появлялся две недели… Здесь в Берлине вундеркинд [Нейман] строит против него козни. Картина ужасная. Ясно, что в этой обстановке шатания, пустая болтовня и прочее бездельничанье неизбежно и что всякое слово, немного разумное и толковое, производит сильнейшее действие». Грольман так и не смог убедить Эверта включиться в борьбу за влияние на Тельмана, да и сам видел, насколько мизерны шансы тех, кого он называл своими идейными друзьями. «Мы останемся в ближайшем будущем кучкой в буквальном смысле слова. Члены партии будут аполитично голосовать за все, что предложит Правление. Поэтому нужно иметь терпение, выявлять себя, не смазывать своей линии, не примазываться критически к другой»[1365]. Здравые мысли коминтерновского эмиссара, пришедшего в Коминтерн из аппарата разведки и прошедшего горнило московских интриг, так и не привели к реальным оппозиционным действиям даже в зарубежных компартиях, где возможности выразить свое мнение были несравненно больше, чем в Советском Союзе. Зато на его политической биографии был поставлен жирный крест. Вначале Грольмана перевели на должность простого курьера ОМС, откуда он, не проработав и месяца, был отчислен. В ходе партийной чистки, пришедшейся на этот месяц, ему пришлось оправдываться о происхождении злосчастного послания, адресат которого так и остался неизвестным. Стандартное признание ошибок и заблуждений не помогло — собравшиеся требовали, чтобы Грольман покаялся во всех смертных грехах. Их нападки венчало утверждение, что во время Шестого конгресса тот стал одним из создателей «правоуклонистской организации в Коминтерне» и ее члены, представлявшие около десятка европейских стран, «вели самую энергичную обработку делегации ВКП»[1366]. Как бы комично не звучали такие обвинения, они стоили карьеры, а впоследствии свободы всем, кто так или иначе соприкасался с Бухариным. Документы, подобные письму Грольмана, десятками ложились на стол генсека и заставляли того верить в заговоры, которые плетутся вокруг него самого всегда и повсюду. Письмо было лишь капелькой в том потоке доносов на Бухарина и его соратников, которые летом 1929 года добирались до сталинского секретариата. Оно не было пущено в ход, однако именно генсек задавал тон кампании травли своего недавнего партнера. Любая попытка последнего оправдаться вызывала приступ гнева и ругань, как будто речь шла о закоренелом враге: «Оба письма Бухарина считаю жульническими. Этот кадетский приват-доцент, видимо, не понимает, что мошенническими письмами не проведешь большевиков. Типичный кадетский адвокат»[1367]. Отказ самого Бухарина от активного сопротивления вынудил Сталина не только растянуть процедуру его изгнания из высшего эшелона ВКП(б) и Коминтерна, но и сделать это, не прибегая к жестким и заметным внешнему миру репрессиям. Лишь 30 мая 1929 года «русская делегация» согласовала вопрос о том, как подать зарубежным компартиям его снятие с коминтерновской работы, утвержденное апрельским пленумом ЦК ВКП(б). Это решение следовалоогласить на ближайшем заседании Президиума ИККИ, а на ближайшем пленуме ИККИ вывести Бухарина из состава Президиума[1368]. В соответствии с уставными нормами он оставался членом самого Исполкома до следующего конгресса Коминтерна, который состоится лишь в 1935 году. Нашему герою предстояло не только унизительное покаяние за защиту устоев нэпа и покушение на сталинский авторитет, но и роль главного обвиняемого на третьем показательном процессе эпохи Большого террора. После ареста он сам столкнулся с той же «достоевщиной», о которой говорил после очной ставки с Радеком. Бухарин находился под следствием больше года, его тщательно готовили к судебному процессу, разрешая работать над литературными и философскими произведениями[1369]. Он неоднократно обращался к Сталину с покаянными письмами, прося о пощаде, предлагая использовать свои знания где-нибудь на краю света, где он будет жить под другим именем. В этих письмах, которые отражали духовные метания растерзанного ложью человека, можно встретить и трезвые размышления о происходящем, и признание того, что сам он является соучастником преступного действа, невиданного в мировой истории: «…у меня сердце обливается горячей струёю крови, когда я подумаю, что ты можешь верить в мои преступления и в глубине души сам думаешь, что я во всех ужасах действительно виновен. Тогда что же выходит? Что я сам помогаю лишаться ряда людей (начиная с себя самого!), то есть делаю заведомое зло! Тогда это ничем не оправдано. И всё путается у меня в голове, и хочется на крик кричать и биться головою о стенку: ведь я же становлюсь причиной гибели других. Что же делать?»[1370] Ни обращение к «суду истории» в последнем слове, ни дисциплинированное поведение в ходе судебных заседаний не смягчили приговор главному обвиняемому по делу «Антисоветского правотроцкистского блока» — 13 марта 1938 года в зале Дома союзов, где проходил процесс, прозвучал приговор, и через день Бухарин был расстрелян. Он не дожил до своего пятидесятилетия ровно полгода. И еще ровно пятьдесят лет после этого его родным (жене, сыну и дочери) пришлось ждать его полной реабилитации, которая стала знаком того, что советское общество способно к критической переоценке своей истории. Увы, одни иллюзии сменились другими… На какой-то миг Бухарин стал символом «ленинского пути к социализму» в далеком прошлом и гарантией успеха перестройки в ближайшем будущем. Не отрицая того, что наш герой был если не «любимцем партии», то как минимум самым симпатичным из большевиков ленинского призыва, его соучастие в процессе деградации партийной диктатуры в сталинское самодержавие не вызывает сомнений. В полемической дуэли на Восьмом пленуме ИККИ в мае 1927 года он высокомерно поучал Троцкого: «Все искусство марксистско-ленинского анализа заключается не в том, чтобы констатировать: буржуазия — одно, а рабочий класс — другое, и между ними пропасть, — это искусство заключается в умении анализировать конкретную ситуацию»[1371]. К этому стоило бы добавить — и в умении взять все ценное из доводов противоположной стороны. Впрочем, к тому моменту оппоненты уже разучились слушать и понимать друг друга, ценился любой довод, если он наотмашь бил по противнику.
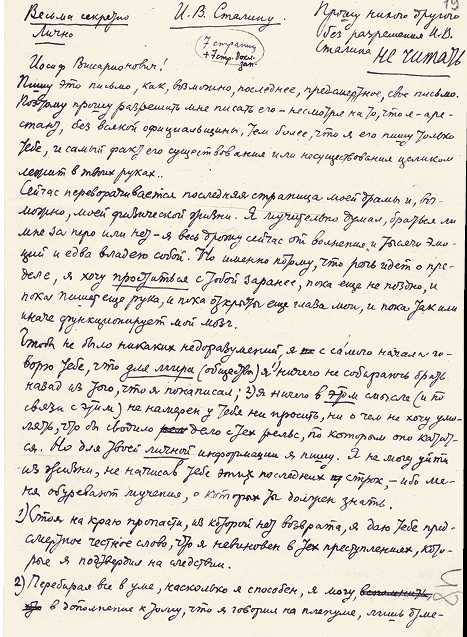
 В своих обращениях к Сталину из лубянской тюрьмы Бухарин безуспешно пытался доказать абсурдность выдвигаемых против него обвинений
Письмо Н. И. Бухарина И. В. Сталину
10 декабря 1937
[РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 171. Д. 427. Л. 19–22]
В своих обращениях к Сталину из лубянской тюрьмы Бухарин безуспешно пытался доказать абсурдность выдвигаемых против него обвинений
Письмо Н. И. Бухарина И. В. Сталину
10 декабря 1937
[РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 171. Д. 427. Л. 19–22]
Троцкий не остался в долгу, вспомнив о том, как они вместе с Бухариным участвовали в профсоюзной дискуссии 1921 года, считая ее «нормальным методом воспитания партии». Для его оппонента это были не самые приятные воспоминания, и он пустился в пространные рассуждения из серии «время было такое»: «Тогда за нами шли более широкие слои партии. Ленин технически и политически не мог допустить такого положения. Это была одна из трагедий партии. А с нашей стороны это была одна из совершенных нами глупостей. А теперь вы хотите предложить нам эту глупость и эту трагедию в качестве подготовки к великим событиям»[1372].
 Номер газеты «Правда» о суде над участниками «право-троцкистского блока»
13 марта 1938
[РГАСПИ]
Номер газеты «Правда» о суде над участниками «право-троцкистского блока»
13 марта 1938
[РГАСПИ]
За шесть лет нэпа изменилась не столько идеология старых большевиков, сколько их психология. Если до революции и в годы Гражданской войны ценились самопожертвование и бескомпромиссное противостояние силам, олицетворявшим классового противника, то теперь главной чертой большевика становилось беспрекословное подчинение вышестоящим инстанциям, не допускавшее никаких размышлений. Оказавшись менее чем через два года после полемики с Троцким в числе «отверженных», Бухарин будет призывать к тому, чтобы «не заменять мыслей и раздумывания голой политикой физического кулака»[1373]. Это был не просто крик души отчаявшегося человека, но и осмысление опыта всех предшествующих оппозиций, поражения которых прокладывали дорогу сталинскому единовластию.
Часть 6. Сталинский Коминтерн
6.1. Большевизация или сталинизация?
Тезис о «сталинизации» Коминтерна пришел в отечественную историографию вместе с перестройкой. Зарубежные историки обосновали его на основе доступных им материалов, сопоставляя официальные документы и воспоминания вышедших из коммунистического движения коминтерновцев, которых в советской исторической науке называли «ренегатами» (и естественно, книги их авторства держали за семью замками в библиотечных «спецхранах»). Наиболее известно исследование Германа Вебера о сталинизации германской компартии, основанное в том числе и на интервью с ее функционерами в годы Веймарской республики, которым удалось пережить годы «третьего рейха»[1374]. В фарватере этого исследования идут и современные историки, применяя веберовскую методологию как к другим отрезкам исторического пути КПГ, так и к истории иных компартий[1375]. В самом Коминтерне применительно ко второй половине 1920-х годов предпочитали говорить о «большевизации» коммунистического движения, что было как минимум странно — как можно большевизировать то, что изначально развивалось по образу и подобию российской компартии. Наполнение этого термина менялось в зависимости от политической конъюнктуры: первоначально большевизация означала избавление зарубежных коммунистов от «родимых пятен» Второго Интернационала, затем акцент был перенесен на их дисциплинарную муштру. Последняя подразумевала, с одной стороны, безоговорочное принятие большевистской версии марксизма, в кодификации которой под именем «ленинизм» наиболее преуспел Зиновьев. С другой — деятельное осуждение любых отклонений от «генеральной линии» коммунистического движения, которые отождествлялись с разного рода уклонами и оппозициями прежде всего в той же РКП(б) — ВКП(б). Иосиф Виссарионович Сталин
1920-е
[РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 1650. Л. 13 об.]
Иосиф Виссарионович Сталин
1920-е
[РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 1650. Л. 13 об.]
Советские историки приняли в свой лексикон понятие «большевизация», хотя в послевоенные годы о большевистском стержне Коминтерна предпочитали не говорить, а упоминание имени Зиновьева вообще находилось под строгим запретом. После ХХ съезда КПСС к тем, «кого нельзя называть», присоединился и сам Сталин, хотя в достаточно мягкой форме. Естественно, западный тезис о «сталинизации» не имел никаких шансов на то, чтобы укорениться на враждебной для себя почве. Тем более пышно расцвел он в исторической науке СССР эпохи перестройки — коминтерноведов в стране хватало, и каждому из них пришлось определять собственную позицию в эпоху невиданных перемен. Знание иностранных языков (на протяжении первого десятилетия в делопроизводстве Коминтерна доминировал немецкий язык) позволяло в оригинале знакомиться как с воспоминаниями «ренегатов», так и с классическими работами западных коллег (как по мановению волшебной палочки они превратились из «идеологических противников» в классиков жанра). Историки Коминтерна органично влились в общий поток отечественных исследователей, сосредоточившихся на ключевых сюжетах сталинской эпохи[1376]. Мало кто решался спорить с тем, что единовластие Сталина явилось «извращением ленинской модели социализма», споры больше велись о том, как называть сложившуюся систему — «сталинизмом» или «сталинщиной»[1377]. Еще меньше ученых в то бурное время обращали внимание на очевидный факт — тезис о том, что Сталин предал и извратил идеалы пролетарской революции, был сформулирован еще в 1920-е годы, причем сформулирован человеком, прекрасно разбиравшимся во внутренней кухне Кремля, — Львом Троцким. Применительно к Коминтерну речь шла о том, что из братского союза равноправных партий, каким он был при Ленине, после его смерти он стал игрушкой в руках Сталина и его ближайшего окружения. Излишне говорить о том, что пером «обезоруженного пророка» водили не в последнюю очередь личные амбиции. «Людям, стоящим в стороне, трудно себе даже представить, на каком первобытном уровне находятся научные познания и теоретические ресурсы Сталина. При жизни Ленина никому из нас никогда не приходило в голову привлекать его к обсуждению теоретических проблем или стратегических вопросов Коминтерна»[1378]. Троцкий как минимум преувеличивал. Герой этого очерка отнюдь не замыкался на работе в Наркомате национальностей, а потом и на посту секретаря ЦК. Приведем лишь один пример. В январе 1918 года в ходе дискуссии вокруг заключения мира с Германией, Сталин высказывал достаточно самостоятельную и осторожную точку зрения: «Позиция тов. Троцкого не есть позиция. Революционного движения на Западе нет, нет фактов, а есть только потенция, а с потенцией мы не можем считаться. Если немцы начнут наступать, то это усилит у нас контрреволюцию»[1379]. Хотя такая пессимистическая позиция была подвергнута критике Лениным[1380], оба партийных деятеля вместе выступали против левых оппонентов, добившись заключения Брестского мира. Конфликты же с Троцким продолжались у Сталина до конца Гражданской войны, возобновились в последние месяцы жизни Ленина и стали стержнем истории большевистской партии в середине 1920-х годов.
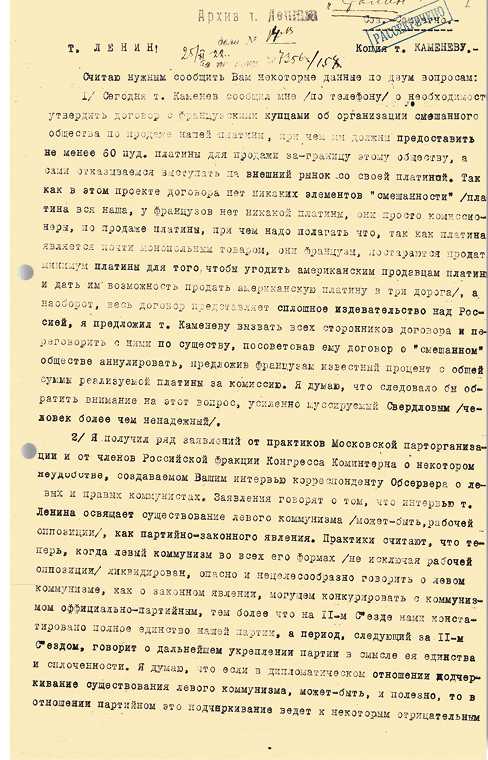
 «Опасно и нецелесообразно говорить о левом коммунизме как о законном явлении, могущем конкурировать с коммунизмом официально-партийным»
Письмо И. В. Сталина с критикой интервью, данного В. И. Лениным корреспонденту английской газеты «Обсервер»
13 ноября 1922
[РГАСПИ. Ф. 5. Оп. 2. Д. 272. Л. 1–1 об.]
«Опасно и нецелесообразно говорить о левом коммунизме как о законном явлении, могущем конкурировать с коммунизмом официально-партийным»
Письмо И. В. Сталина с критикой интервью, данного В. И. Лениным корреспонденту английской газеты «Обсервер»
13 ноября 1922
[РГАСПИ. Ф. 5. Оп. 2. Д. 272. Л. 1–1 об.]
Среди прочего Троцкий писал в те годы: «Действительный, а не показной интерес к Коминтерну определяется у Сталина заботой о том, чтобы иметь со стороны руководящих кадров Коминтерна надлежащую поддержку очередному зигзагу внутренней политики. Другими словами, от Коминтерна требуется внутренняя покорность»[1381]. Уничижительные и явно упрощенные оценки генсека, дававшиеся в пылу внутрипартийной полемики, скорректированы научными трудами, опирающимися на материалы сталинского архива[1382]. Известный американский историк Шейла Фицпатрик признает, что герой ее последней книги «имел огромный авторитет, и его можно было бы назвать „играющим тренером“, в прерогативы которого входило право принимать и исключать остальных игроков команды». «Хотя Сталин и был вожаком стаи, в отличие от своих современников Муссолини и Гитлера, он предпочитал работать с группой, состоящей из сильных фигур… это не были политические ничтожества или простой антураж, состоящий из секретарей и тайных агентов»[1383]. Исследования первых постсоветских лет, опиравшиеся на материалы ранее практически недоступного архива Коминтерна, постепенно засыпали ров между ленинским и сталинским периодами в истории этой организации, первоначально казавшийся непреодолимым. В качестве более значимого водораздела стал вырисовываться не 1923 или 1924, а 1929-й — год «великого перелома», подразумевавшего окончательное утверждение сталинского единовластия как в Советском Союзе, так и в Коммунистическом Интернационале. Акцент с различий между отдельными периодами был перенесен на интегрирующий образ этой международной организации, в котором в единое целое сплавлялись ее идейная база, кадровый потенциал и механизм принятия политических решений. Автор согласен со взглядом на Сталина как «отсутствующего режиссера», которому не нужно было ежедневно направлять членов Исполкома или руководителей отдельных компартий — они прекрасно выучили отведенные им роли и действовали в рамках допустимой импровизации. В этом, пожалуй, и заключалось главное отличие начального этапа от последующих в истории Коминтерна. Ленин не мог позволить себе даже на короткое время ослабить внимание к созданной им организации, что предопределило динамичный характер первых лет ее истории. Во многом на такой инерции «отеческой заботы» держалось стабильное существование зарубежных компартий в крайне неблагоприятных для них условиях второй половины 1920-х годов, когда Европа распрощалась с романтикой мировой революции и догмами классового подхода. Для того чтобы «закрыть» коминтерновский проект в эти годы, нужна была четко выраженная воля его создателей, но в этот период никто из них не приобрел еще потенциала бесспорного доминирования. Одержав победу во внутрипартийной борьбе, Сталин не стал принимать радикальных решений — произошла в известном смысле «мумификация» Коминтерна, он был отложен в сторону до лучших времен, точнее переведен в стратегический резерв советского внешнеполитического планирования.
 Мандат, выписанный Сталиным самому себе для участия в Учредительном конгрессе Коминтерна
2 марта 1919
[РГАСПИ. Ф. 488. Оп. 1. Д. 13. Л. 13]
Мандат, выписанный Сталиным самому себе для участия в Учредительном конгрессе Коминтерна
2 марта 1919
[РГАСПИ. Ф. 488. Оп. 1. Д. 13. Л. 13]
Однако вернемся к моменту его рождения. Именно Сталин как секретарь ЦК РКП(б) подписал мандаты на участие в Учредительном конгресс руководителям партии большевиков (в том числе и себе самому). Одновременно в Наркомате национальностей, который он возглавлял, были отобраны представители «угнетенных народов», которые также были включены в число делегатов конгресса[1384]. Это повторяло логику оформления Великой Французской революции, когда разряженные в экзотические наряды «туземцы» должны были подчеркнуть всемирно-историческое значение первого заседания Конвента, на которое они были приглашены[1385]. Не случайно о «ленинско-сталинской школе постановки национального вопроса» заговорили на Пятом конгрессе Коминтерна спустя всего полгода после смерти Ленина, что стало начальной точкой в процессе отождествления гениальности двух вождей большевизма[1386]. Именно Сталин на рубеже 1920–1930-х годов отвечал за наполнение коминтерновского аппарата компетентными кадрами из рядов российских большевиков. Здесь ему пришлось столкнуться с Председателем ИККИ Зиновьевым, который ревниво охранял свою вотчину от посягательств извне. Вероятно, это во многом предопределило будущий конфликт между ними. Отдавая себе отчет в кадровом дефиците, Сталин не гнушался принимать на работу бывших оппонентов, если они соглашались перейти в большевистский лагерь. По его инициативе Радек обратился к меньшевику Александру Мартынову, предложив тому приличный гонорар за литературный труд, но сделал этот так, чтобы не затронуть его самолюбия[1387]. Впоследствии Мартынов вплоть до своей смерти проработал в аппарате ИККИ, дослужившись до должности ответственного редактора журнала «Коммунистический Интернационал».

 «Теперь, когда мы имеем Коминтерн… было бы грешно не поощрять революцию в Италии»
Телеграмма И. В. Сталина В. И. Ленину о положении на Западном фронте и о поддержке выступлений пролетариата стран Центральной и Южной Европы
24 июля 1920
[РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 1. Д. 5521. Л. 1–2]
«Теперь, когда мы имеем Коминтерн… было бы грешно не поощрять революцию в Италии»
Телеграмма И. В. Сталина В. И. Ленину о положении на Западном фронте и о поддержке выступлений пролетариата стран Центральной и Южной Европы
24 июля 1920
[РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 1. Д. 5521. Л. 1–2]
Находясь на военной работе, Сталин не забывал о ее коминтерновской составляющей. В период работы Второго конгресса он обменивался с Лениным бодрыми реляциями об успешном наступлении на Запад, которое выдвигало в повестку дня «советизацию» стран Центральной Европы. «Теперь, когда мы имеем Коминтерн, побежденную Польшу и более или менее сносную Красную армию… в такой момент и при таких перспективах было бы грешно не поощрять революцию в Италии… На очередь дня Коминтерна нужно поставить вопрос об организации восстания в Италии и в таких еще не окрепших государствах, как Венгрия, Чехия (Румынию придется разбить). Короче: нужно сняться с якоря и пуститься в путь, пока империализм не успел еще мало-мальски наладить свою разлаженную телегу, а он может еще наладить ее кое-как на известный период, и сам не перешел в решительное наступление»[1388].
6.2. Как без Ленина?
Авторитет Ленина играл решающую роль в формировании единой воли его соратников после прихода к власти, помог большевикам выстоять в годы Гражданской войны и обеспечить упорядоченное отступление нэпа. Прогрессировавшая болезнь вождя, отошедшего от активной деятельности, сняла последние «скрепы», и начало открытой схватки за право называться его преемником стало только вопросом времени. Коминтерн в планах каждого из конкурентов (даже Зиновьева) играл подчиненную роль, но все же мнение иностранных компартий, которые на страницах советской прессы выступали в роли голоса прогрессивной мировой общественности, принималось ими в расчет. Если Троцкий «открыл» для себя международное коммунистическое движение в 1922 году, то Сталин сделал это годом позже. Весной 1923 года он уже достаточно резко высказывался по его проблематике: «Нужно вдолбить лидерам компартий Запада, что эти компартии должны решительно стать на точку зрения руководящей национальной политической силы своей страны, что иначе нечего болтать о „завоевании“ политической власти, что стать такой силой они могут лишь завоевав поддержку революционных элементов деревни, что для этого необходимо между прочим выкинуть новый лозунг рабоче-крестьянского правительства, или, если хотите — лозунг рабочего правительства, опирающегося на сочувствие революционно-демократических слоев крестьянства. Такая постановка дела сразу поставила бы компартии Запада на новые рельсы, вывела бы их на широкую дорогу политической борьбы за большинство в стране»[1389]. В этой короткой записке, процитированной полностью, немало мест, которые заслуживают комментария. Во-первых, требование от компартий безоговорочной поддержки любого поворота «генеральной линии» в Москве, которое своей тональностью («вдолбить») отличалось от подхода других лидеров РКП(б). Во-вторых, понимание рабочего правительства как полностью подконтрольного коммунистам, своего рода последней ступеньки к завоеванию власти. Здесь Сталин был близок Зиновьеву, который рассматривал такое правительство как синоним диктатуры пролетариата вопреки изначальным установкам на единый фронт как средство защиты интересов рабочего класса в целом. В-третьих, подчеркивание роли крестьянства в западных странах (а не в Китае, например) явно навеяно стремлением перенести в них логику Российской революции, где аграрный вопрос играл центральную роль. И наконец, обращает на себя внимание словесная эквилибристика («революционно-демократические слои крестьянства»), выстраивавшая картину мира под априорно заданный набор идеологических постулатов. В. И. Ленин и И. В. Сталин в Горках Фотограф М. И. Ульянова Август — сентябрь 1922 [РГАСПИ. Ф. 393. Оп. 1. Д. 324. Л. 1] В делах, а не в словах Сталин оставался прагматиком и после 1920 года не демонстрировал ура-революционных настроений, занимаясь исключительно партийной и хозяйственной работой. Ситуация изменилась летом 1923 года, когда в Болгарии и Германии — странах, проигравших Первую мировую войну, внутриполитический кризис достиг невиданной остроты, и для его разрешения правящие круги прибегли к авторитарным методам. Нежелание болгарских коммунистов противодействовать военному перевороту в стране вызвало острое недовольство Зиновьева, который намеревался серьезно проучить их, подстегнув их революционную энергию[1390]. Прочитав проект его статьи, который должен был выйти в «Правде», Сталин предложил додумать ситуацию до конца: «…ограничиться дискуссией нельзя, если быть последовательным — принятие репрессивных мер в отношении ЦК компартии после такого выступления напрашивается само собой».
В делах, а не в словах Сталин оставался прагматиком и после 1920 года не демонстрировал ура-революционных настроений, занимаясь исключительно партийной и хозяйственной работой. Ситуация изменилась летом 1923 года, когда в Болгарии и Германии — странах, проигравших Первую мировую войну, внутриполитический кризис достиг невиданной остроты, и для его разрешения правящие круги прибегли к авторитарным методам. Нежелание болгарских коммунистов противодействовать военному перевороту в стране вызвало острое недовольство Зиновьева, который намеревался серьезно проучить их, подстегнув их революционную энергию[1390]. Прочитав проект его статьи, который должен был выйти в «Правде», Сталин предложил додумать ситуацию до конца: «…ограничиться дискуссией нельзя, если быть последовательным — принятие репрессивных мер в отношении ЦК компартии после такого выступления напрашивается само собой».

 После ухода Ленина из политической жизни Сталин обретает вкус к коминтерновской работе
Письмо И. В. Сталина Г. Е. Зиновьеву
4 мая 1923
[РГАСПИ. Ф. 588. Оп. 11. Д. 734. Л. 14–14 об.]
После ухода Ленина из политической жизни Сталин обретает вкус к коминтерновской работе
Письмо И. В. Сталина Г. Е. Зиновьеву
4 мая 1923
[РГАСПИ. Ф. 588. Оп. 11. Д. 734. Л. 14–14 об.]
Таким образом генсек сформулировал свой собственный подход к внутрипартийной борьбе, которая вскоре развернется и в партии большевиков: репрессии предпочтительнее дискуссии. Поучая Зиновьева, он в характерном для себя стиле повторил высказанную мысль дважды: «Когда такие действия выносятся на открытый суд, ограничиваться критикой и дискуссией уже недостаточно, надо идти дальше, т. е. на действия ответить контрдействиями в виде репрессий. В противном случае болгарский инцидент может послужить своего рода прецедентом, расширяющим рамки партийно-дозволенного в пределах Коминтерна до беспредельности, что несовместимо с духом Коминтерна. Я уже не говорю о том, что ограничение дела рамками дискуссий при наличии такого падения ЦК компартии Болгарии может и будет расценено как слабость Коминтерна, что невыгодно для престижа последнего»[1391]. Хотя Сталин и поддержал линию Зиновьева на осуждение линии болгарских коммунистов, главным было другое — он начал выстраивать новую систему отношений внутри Политбюро, заменяя кодекс уважительного отношения к соратникам по борьбе своими директивами подчиненным. Генсек не только устроил выговор за мягкотелость Зиновьеву, который считал Коминтерн своей вотчиной, но и призвал к перестройке отношений его руководства и национальных секций на основе директив, невыполнение которых влечет за собой репрессии. Нетрудно предположить, что это и станет причиной «прозрения» Председателя ИККИ, когда он, находясь в конце июля 1923 года на лечении в Кисловодске, заговорит о «единоличной диктатуре» Сталина. Не лучше обстояли дела и в Германии. Оккупация Рура поставила перед большевистским руководством вопрос не только о поддержке германских коммунистов, но и об угрозе новой советско-польской войны, к которой страна не была готова[1392]. Сталин, опять же из прагматических соображений, вступил на неизведанную для себя стезю. Его подвигнул на это конфликт между Зиновьевым и Радеком, освещенный в предыдущих очерках, речь шла о разных оценках готовности немецких коммунистов к борьбе за власть после того, как в Германии разразился национальный кризис.
 Внимательно следя за событиями в Германии, Сталин поддерживает осторожную линию Радека
Письмо И. В. Сталина Г. Е. Зиновьеву
27 июля 1923
[РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 734. Л. 27]
Внимательно следя за событиями в Германии, Сталин поддерживает осторожную линию Радека
Письмо И. В. Сталина Г. Е. Зиновьеву
27 июля 1923
[РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 734. Л. 27]
Еще не прочувствовав личный подтекст конфликта двух лидеров Коминтерна, генсек поддержал Радека, высказавшись за более осторожную линию поведения КПГ при проведении «антифашистского дня». Как это было принято в руководстве РКП(б), он мотивировал ее революционным опытом большевиков (в данном случае — их первой попыткой взять власть в начале июля 1917 года): «Сегодня узнал, что германские товарищи отменили свое старое решение о демонстрации, ограничившись устройством закрытых митингов. Думаю, что это правильное решение. Чудаки, хотели пройти с демонстрацией за Берлин, к казармам. Лезли в хайло с белогвардейскими офицерами. Аналогия с июльскими днями не выдерживает критики. В июльские дни у нас были Советы, были целые полки, гарнизон был деморализован в Питере. У немцев же ничего такого не имеется»[1393]. Отпускники в Кисловодске настаивали на дезавуировании Радека, который взял на себя право давать единоличные установки германской компартии. Сталин парировал, стараясь не обострять, а сгладить конфликт: «Что касается Германии, дело, конечно, не в Радеке. Должны ли коммунисты стремиться (на данной стадии) к захвату власти без социал-демократов, созрели они уже для этого — в этом, по-моему, вопрос». Отрицая отождествление ситуации в Германии с болгарской и, напротив, проводя параллели с Российской революцией, генсек утверждал, что у КПГ еще нет ни сочувствия крестьянства, ни поддержки большинства рабочих. Наличие по соседству с Германией такого потенциального союзника, как Советская Россия, особой роли не играло из тех же прагматических соображений — «что мы можем дать им в данный момент?» «Если сейчас в Германии власть, так сказать, упадет, а коммунисты ее подхватят, они провалятся с треском. Это в лучшем случае. А в худшем — их разобьют вдребезги и отбросят назад»[1394]. Однако в последующие дни, под влиянием эмоционального подъема в Политбюро, связанного с ожиданием скорой германской революции, Сталин взял более радикальный тон. Его поправки к зиновьевским тезисам от 15 августа 1923 года делали акцент на трудностях удержания власти в Германии и масштабах военно-политической помощи со стороны СССР. Но в главном генсек ЦК РКП(б) был согласен с Председателем ИККИ: «Если мы хотим помочь немцам — а мы этого хотим и должны помочь, — нужно нам готовиться к войне, серьезно и всесторонне, ибо дело будет идти в конце концов о существовании Советской Федерации и о судьбах мировой революции на ближайший период»[1395].
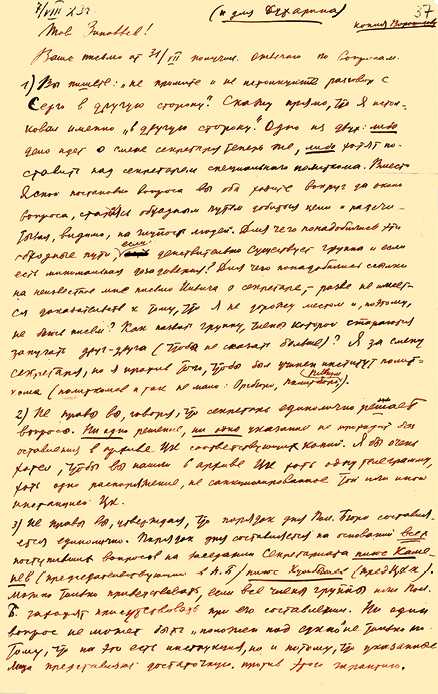
 В обширной переписке генсека со своими соратниками, находившимися в Кисловодске, внутрипартийные дела соседствуют с перспективами германской революции
Письмо И. В. Сталина Г. Е. Зиновьеву
7 августа 1923
[РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 734. Л. 37–37 об.]
В обширной переписке генсека со своими соратниками, находившимися в Кисловодске, внутрипартийные дела соседствуют с перспективами германской революции
Письмо И. В. Сталина Г. Е. Зиновьеву
7 августа 1923
[РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 734. Л. 37–37 об.]
20 сентября в газете немецких коммунистов «Роте Фане» появилось письмо Сталина Тальгеймеру, в котором говорилось: «Грядущая революция в Германии является самым важным событием наших дней… Победа германского пролетариата несомненно переместит центр мировой революции из Москвы в Берлин». Соответствующие директивы немецким коммунистам были переданы и устно. Брандлер так описывал итог неофициальной встречи лидеров КПГ и РКП(б), состоявшейся 23 или 24 сентября 1923 года: «Переговоры, которые мы провели со всеми [русскими] товарищами, включая самого Сталина, привели к следующему результату: они в полной мере отдают себе отчет в том, что [в Германии] речь пойдет о борьбе не на жизнь, а на смерть, и готовы пойти на все»[1396]. Пленум ЦК РКП(б), завершившийся на следующий день после встречи, первым пунктом повестки дня обсудил доклад Зиновьева о международном положении. Ни для кого из его участников не было секретом то, что страна находится на пороге новых испытаний. Речь шла не только о судьбах недавно созданного Советского Союза. Каждый из соратников Ленина связывал с успехом европейской революции свои личные шансы в борьбе за ленинское наследство. Люди, закаленные в огне Гражданской войны, мечтали о скорейшем завершении нэповского отступления и были готовы поддержать самые радикальные решения. Название принятой резолюции говорило само за себя: «Грядущая германская революция и задачи РКП(б)». При обсуждении ее проекта Сталин предложил подчеркнуть, что вопрос стоит ребром: власть коммунистов или фашистов. После победы КПГ возможно вторжение в страну войск Франции и Польши. Буквально повторив слова Троцкого, он подчеркнул, что если революционная Германия потерпит поражение, следующей жертвой мирового империализма окажется Советская Россия[1397]. В ходе дискуссий на пленуме стали вырисовываться контуры будущих конфликтов в высшем руководстве партии большевиков. Наиболее отчетливо это было заметно в вопросе о том, нужно ли создавать рабочие Советы накануне захвата власти немецкими коммунистами. Ленин в своей публицистике, посвященной перспективам мировой революции, не оставлял никаких сомнений в том, что последняя имеет шансы на победу только в том случае, если создаст органы пролетарской власти по российскому образцу. Однако такой подход, абсолютизировавший опыт большевиков, натолкнулся на сопротивление Правления КПГ. Его представители считали, что санкцию на захват власти должны дать не абстрактные Советы, а реально существующие в стране фабрично-заводские комитеты, переживавшие в условиях острого внутриполитического кризиса второе рождение. Планировалось, что на своем съезде представители фабзавкомов провозгласят всеобщую стачку, которая перерастет в вооруженное восстание под руководством компартии. Точку зрения немцев поддержали Радек и Троцкий, в то время как Бухарин и Зиновьев продолжали выступать за лозунг рабочих Советов. Сталин также считал, что фабзавкомы отжили свой век: «По-моему, нужно начать не только пропаганду идеи Советов, но и постройку Советов на первых порах в Саксонии и других благоприятных местах. Сотни и Контрольные комиссии исполняют некоторые функции Советов, но в целом они являются ухудшенными Советами, ибо они не могут служить ни центрами восстания, ни зачатками новой власти»[1398].
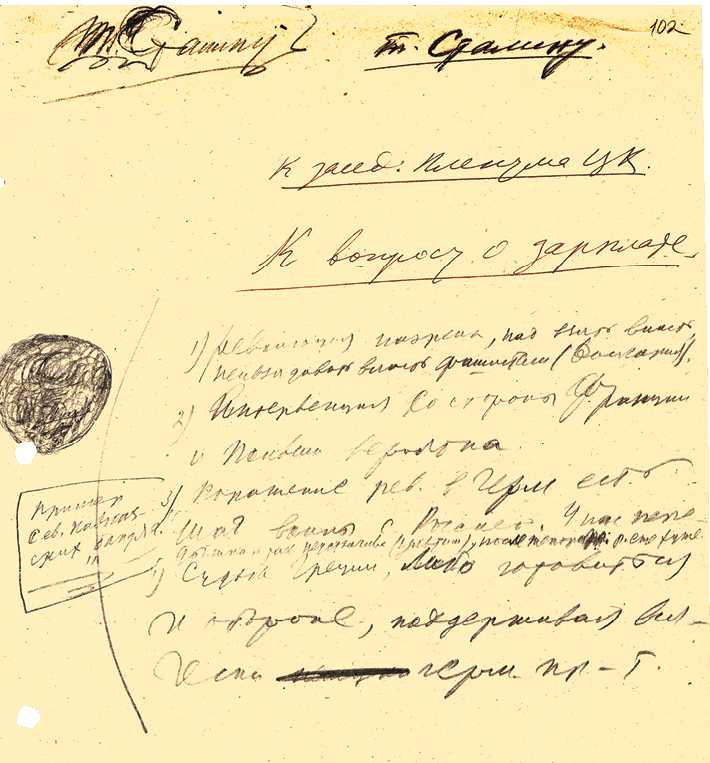 «Революция назрела, надо взять власть, нельзя давать власть фашистам»
Заметки И. В. Сталина о революционной обстановке в Германии
Сентябрь 1923
[РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 25. Л. 102]
«Революция назрела, надо взять власть, нельзя давать власть фашистам»
Заметки И. В. Сталина о революционной обстановке в Германии
Сентябрь 1923
[РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 25. Л. 102]
Эйфория в Москве после завершения работы совещания пяти партий достигла своего апогея. 9 октября «Правда» сообщала, что накануне доллар поднялся до отметки в 900 млн марок, представители КПГ вот-вот войдут в правительство Тюрингии, в Баварии победила диктатура комиссара Кара, издавшего исключительные законы против коммунистов. Стала говорить открытым текстом и коммунистическая пресса в Германии. 10 октября 1923 года в «Роте Фане» появилось напутствие Сталина, написанное еще в сентябре: «Грядущая германская революция является самым важным мировым событием наших дней… Победа германского пролетариата несомненно переместит центр мировой революции из Москвы в Берлин». В историографии и по сей день обсуждается вопрос, действительно ли генсек хотел такого развития событий, насколько искренней была его готовность поделиться завоеванной властью, если речь зайдет о «мировом масштабе»[1399]. Как уже отмечалось в предыдущих очерках, германский Октябрь так и не состоялся. На первых порах Сталин (в отличие от Троцкого и Зиновьева) признавал обоснованность отказа Брандлера от сигнала к вооруженной борьбе — он писал, что власть в Германии отнюдь не лежит на лопатках, она достаточно боеспособна, чтобы надавать тумаков коммунистам. В то же время Сталин разделял точку зрения своего партнера по «тройке», что в новых условиях следует отказаться от продолжения тактики единого рабочего фронта и сосредоточить главный удар на левых социалистах. Подчиняясь фракционной дисциплине, генсек постепенно принимал позицию Зиновьева по отношению к берлинской оппозиции: «…получается, что левые во многом правы. Я думаю даже, что стоило бы пустить в ход Маслова». И наконец, Сталин разделял общее мнение о том, что тезис о победе фашизма является «литературным выкрутасом» Радека, который отвлекает партию от продолжения подготовки вооруженного восстания[1400].

 Письмо И. В. Сталина А. Тальгеймеру, предназначенное для опубликования в газете немецких коммунистов «Роте Фане»
20 сентября 1923
[РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 139. Л. 20–20а]
Письмо И. В. Сталина А. Тальгеймеру, предназначенное для опубликования в газете немецких коммунистов «Роте Фане»
20 сентября 1923
[РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 139. Л. 20–20а]
Несколько забегая вперед, скажем, что в ходе последовавшей фракционной борьбы и Троцкий, и Сталин называли друг друга «брандлерианцами». Каждый из них старался таким образом дискредитировать своего оппонента, «запачкать» его близостью к лидеру КПГ, который в угоду интересам фракционной борьбы в российской компартии был вначале объявлен «правым капитулянтом», а потом и вообще принудительно оставлен в Москве. Следует отдать должное точности формулировок Троцкого, которые в целом подтверждаются другими источниками: «Сталин руководствовался только своим выжидательным инстинктом, который меньше всего годится в больших делах. В ноябре, когда обстановка круто изменилась и когда я внес в Политбюро предложение отозвать русских товарищей из Германии, Сталин сказал: „Опять спешите. Раньше вы считали, что революция близка, а теперь думаете, что оказия уже пропала. Еще рано отзывать“. Но мы решили все же отозвать»[1401]. Троцкий недоговаривал — вызов Радека и Пятакова в Москву был необходим ему для того, чтобы собрать в кулак своих сторонников и нанести превентивный удар по Сталину на коминтерновском фронте. На фоне приведенных им фактов достаточно жалко выглядел вывод, который был целиком и полностью продиктован горечью поражения в борьбе за личную власть: «Тов. Сталин не понял, когда революция надвинулась, и не заметил, когда она повернулась спиной. В оценке больших событий тов. Сталин всегда обнаруживал полную беспомощность, так как никакая осторожность, никакая хитрость не могут заменить теоретической подготовки, широкого политического охвата и творческого воображения, т. е. тех качеств, которых Сталин лишен совершенно»[1402]. Переписка между Москвой и Берлином на протяжении ноября 1923 года сохраняла регулярность, однако радикально поменяла свою тональность. Советы и предложения уступили место обидам и требованиям. Сталин упрекал Радека в том, что тот уехал, «наделав известный документ»[1403], не без умысла сообщал Пятакову об осуждении Троцкого на октябрьском пленуме ЦК РКП(б). Берлинцы не оставались в долгу, предупреждая своих московских адресатов о том, что их благоволение левацкой группе Фишер — Маслова несет в себе угрозу раскола партии. В конце ноября 1923 года основное содержание переписки между Сталиным и Зиновьевым, с одной стороны, и Радеком и Пятаковым — с другой, свелось к условиям возвращения двух последних в Москву. Обе стороны понимали, что отъезд будет означать признание очевидного: цель пребывания «четверки» в Германии не была достигнута, предстоит поиск виновных, и на них будет возложена вся ответственность за поражение. Берлинские невозвращенцы требовали для себя не новых должностей или дипломатического иммунитета. Речь шла о сохранении сложившегося соотношения сил в руководстве КПГ: «…нужен ясный приказ — запрещение травли ЦК… Если Вы этого приказа срочно не пришлете — то можете доиграться до раскола прежде, чем мы соберемся на совещание»[1404]. Своими резкими заявлениями Радек окончательно вывел из себя Сталина, который еще летом получил заочную взбучку от Зиновьева[1405] и предпочел не лезть на рожон, подчинив свои соображения фракционным интересам. Он не забыл и радековский ультиматум, и то незаслуженное влияние, которым этот «чужак» пользовался у Ленина. От Троцкого тянулась ниточка к Радеку, от Радека — к Брандлеру. Генсек исходил из простого принципа: друг моего врага — мой враг, и это предопределило расстановку сил в Политбюро при обсуждении итогов несостоявшейся революции в Германии. Дождавшись подходящего момента, Сталин раскрыл собственные карты. Выступая 4 декабря перед слушателями Свердловского университета, он поддержал зиновьевское видение событий. Немецкий сотрудник ИККИ Йозеф Айзенбергер, присутствовавший на собрании, сообщил в Берлин, что «в высказываниях русских товарищей господствует разочарование после саксонских событий». «При всем заслуженном уважении, которым пользуются русские товарищи, они — за исключением Радека, имеющего достаточные представления о Германии, стали жертвой своего окружения. Иными словами, собственные достижения последних шести лет приучили их к тому, что благодаря захвату власти они играючи преодолевают любые трудности. Это неизбежно накладывает отпечаток на их оценки германских событий»[1406]. Следует лишь добавить, что подобное «головокружение от успехов» характеризовало не только Сталина, хотя в его политической биографии повторится еще не раз. Члены Правления КПГ, принимавшие участие в заседаниях Политбюро на рубеже 1923–1924 годов, единодушно отметили возросшую роль Сталина, которого раньше никто не принимал в расчет. Тот жестко отстаивал позицию своей группы: «Сделав ставку на Брандлера и поддержав его линию, мы оказались в тупике. На этой линии следует поставить крест»[1407]. 2 января немецкие коммунисты выступили против «формулировок, сваливавших всю вину на КПГ», и отказались от насильственного примирения с берлинскими левыми на условиях последних. Согласно закону обратного действия Сталин в комиссии по делу Аркадия Маслова (речь шла о его недостойном поведении во время допросов в полиции в 1921 года) добился его полной реабилитации и разрешения на выезд в Германию. Первая часть постановления была принята единогласно, за второй пункт проголосовали четверо членов комиссии, трое были против, потребовав продолжения разбирательств[1408]. Позже, когда лидеры ВКП(б) открестились от своего подопечного, Троцкий так реконструировал ход событий: «По инициативе т. Сталина, внесенной им в моем присутствии в Политбюро, Маслов был отправлен в Германию для фактического руководства германской компартией. Тов. Сталин был с Масловым в переписке, уговаривал его стать на позицию т. Сталина»[1409]. Последний вместе с Зиновьевым разделял мнение, что человек, поднаторевший во внутрипартийных склоках и к тому же прекрасно владеющий русским языком, является идеальным кандидатом на место нового лидера германской компартии[1410].

 При обсуждении итогов неудавшегося германского Октября Сталин высказался за передачу руководства КПГ левой фракции
Обмен записками И. В. Сталина и Г. Е. Зиновьева о приглашении «левых» на заседание Политбюро
Январь 1924
[РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 22. Л. 38–38 об.]
При обсуждении итогов неудавшегося германского Октября Сталин высказался за передачу руководства КПГ левой фракции
Обмен записками И. В. Сталина и Г. Е. Зиновьева о приглашении «левых» на заседание Политбюро
Январь 1924
[РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 22. Л. 38–38 об.]
За этим решением, которое диктовалось логикой фракционной борьбы в верхушке РКП(б), последовали полтора года диктатуры берлинских «левых» в германской компартии, которые привели к катастрофическому падению ее влияния. Коминтерну пришлось в приказном порядке удалить Рут Фишер и Маслова из руководства КПГ, однако дело уже было сделано — партия достигла дна своего влияния, теряя голоса как на парламентских выборах, проходивших в то время в Германии несколько раз каждый год, так и среди организованных в профсоюзы рабочих. Очевидно, что события осени — зимы 1923 года укрепили пошатнувшийся блок Сталина и Зиновьева. Одним из его идеологических фундаментов стало указание на социал-демократию как буржуазную и даже фашистскую партию. Зиновьев рассуждал о том, что социалистические партии являются «левым крылом фашизма», его близнецом. Сталин называл их «основной опорой политики соглашения с империализмом»[1411]. В результате в лексиконе Коминтерна появился термин «социал-фашизм».
6.3. Кто после Ленина?
В каждом из предшествующих биографических очерков автору приходилось указывать на ту роль, которую сыграло в жизни каждого из героев участие в борьбе за политическое наследство Ленина. И Сталин не являлся здесь исключением. Складывание к лету 1923 года в Политбюро коалиции «все против одного»[1412] отнюдь не означало, что внутри «семерки» доминировали гармоничные отношения. В пользу генсека играло то, что он являлся «темной лошадкой» и до поры до времени умело скрывал свои амбиции. Некоторые представители партийного руководства считали тройкой будущих вождей Троцкого, Зиновьева и Каменева, вообще не принимая его в расчет. Однако Сталин внимательно следил за соотношением сил в политическом руководстве, и в этом отношении он оказался самым последовательным учеником Ленина. Уже весной 1924 го-да генсек отдавал себе отчет в том, что его нынешние соратники могут ему изменить: «Дело идет к тому, что Каменев и Зиновьев налаживают блок с Троцким на платформе: признание ошибочной борьбы против троцкизма в 23–24 гг., расширение демократии в партии (свобода фракционных группировок), борьба против Секретариата и проч.»[1413]. Обсуждение причин поражения германских коммунистов в конце 1923 — начале 1924 года показало Сталину, насколько хрупкой является зиновьевская гегемония в международном коммунистическом движении. После смерти ЛенинаПредседатель ИККИ потерял возможность прикрываться (пусть даже формально) авторитетом вождя. Чтобы укрепить свои позиции в московском «штабе мировой революции», Сталин и Зиновьев провели решение о переводе на работу в его руководство своих безусловных сторонников[1414]. Михаил Маркович Бородин
1920-е
[Из открытых источников]
Михаил Маркович Бородин
1920-е
[Из открытых источников]
Именно они, а не иностранные члены Исполкома, делегировались на съезды зарубежных компартий, получая детальные инструкции, которые уже на месте трансформировались в политические резолюции и кадровые назначения[1415]. Это касалось также военных и политических советников. Им предписывалась то или иное соотношение государственных и коминтерновских интересов. Так, при отправке в Китай М. М. Бородина Сталин внес предложение дать ему среди прочего следующую директиву: «Поручить т. Бородину в своей работе с Сунь Ятсеном руководствоваться интересами национально-освободительного движения в Китае, отнюдь не увлекаясь целями насаждения коммунизма в Китае»[1416]. Генсек ЦК РКП(б) все более ревниво следил за коминтерновским хозяйством своего соперника-союзника. Хотя мировая революция оставалась делом неопределенного будущего, акцент на «всемирный масштаб», сохранявшийся в государственной пропаганде, давал Зиновьеву неоспоримое конкурентное преимущество. «Чем яснее перед Сталиным открывалась перспектива укрепления собственного положения руководителя правящей компартии, тем больше он стремился расширить сферу своего контроля, укрепиться на тех политических позициях, которые отвечали этой цели. Роль признанного лидера международного коммунистического движения с идейно-политической стороны являлась существенным фактором в этом деле»[1417]. Сталин возглавлял польскую комиссию Пятого конгресса, которая провела жесткую чистку КПП, завершившуюся произвольным переформатированием ее руководящих органов без созыва партийного съезда. Он не забыл письмо пленума КПП от 23 декабря 1923 года, критиковавшее позицию руководящих органов Коминтерна при подготовке германского Октября[1418]. В ходе работы комиссии Сталин лично отредактировал письмо польским коммунистам, дискредитировавшее политику ее вождей, названную антибольшевистской. При обсуждении в Коминтерне германских событий они якобы «попытались ударить в тыл большевистскому ЦК в тяжелый момент ухода Ленина и оппортунистических попыток поколебать устои Российской компартии»[1419]. Хотя в документе не называлось имя Троцкого, всем было ясно, что речь шла именно о нем. Клеймо «троцкистской партии», навешенное на КПП уже в 1924 году, через полтора десятилетия приведет к роспуску партии и тотальным арестам польских коммунистов, оказавшихся в конце 1930-х годов в СССР.
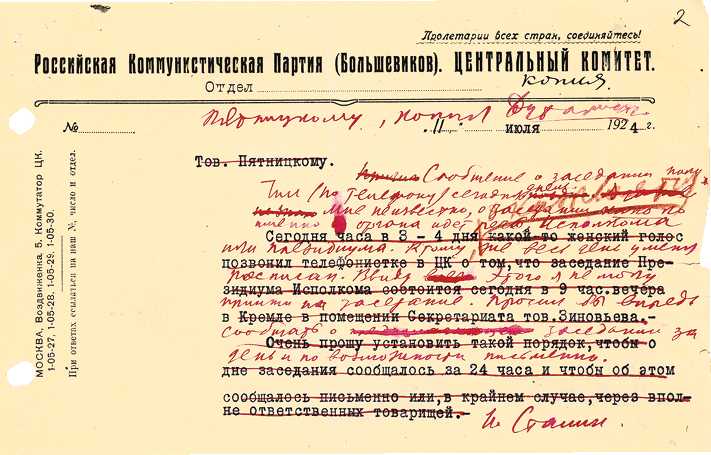 Сталин сообщает о невозможности прийти на заседание Президиума ИККИ и просит извещать его о таких мероприятиях заранее
Записка И. В. Сталина О. А. Пятницкому и Н. И. Бухарину
11 июля 1924
[РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 138. Л. 2]
Сталин сообщает о невозможности прийти на заседание Президиума ИККИ и просит извещать его о таких мероприятиях заранее
Записка И. В. Сталина О. А. Пятницкому и Н. И. Бухарину
11 июля 1924
[РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 138. Л. 2]
Сталин был намечен, а потом впервые проведен в Исполком Коминтерна, при том что Троцкий так и остался кандидатом в члены этого органа[1420]. Он был в числе назначенных докладчиков на Пятый конгресс Коминтерна, но не стал выступать на пленарном заседании по национальному вопросу. Причиной отказа была скорее перегруженность текущими делами и нежелание утруждать себя голым теоретизированием, нежели политические соображения. Сохранилось его письмо Мануильскому, который в конечном счете и сделал этот доклад на конгрессе (хотя после Сталина его поручили Троцкому). По разделу проекта резолюции, посвященному национальному вопросу на европейском континенте, у генсека не было особых замечаний. Он лишь подчеркнул, что не следует говорить «о присоединении украинских и белорусских территорий к СССР. Лучше было бы исправить это в том смысле, что речь идет о воссоединении разорванных империалистическими державами на части Украины и Белоруссии. Так будет скромнее и осторожнее. Иначе могут обвинить конгресс, что он заботится не об освобождении национальностей, а о приращении территорий России»[1421]. Гораздо больше замечаний у генсека вызвала восточная часть проекта. Он высказался против установки на образование рабоче-крестьянских партий в колониальных странах, заявив, что «этот вопрос не обсуждался в ЦК, и я не знаю, как мог он получить право гражданства в такой важной резолюции». К середине 1920-х годов уже подразумевалось само собой, что все программные новации в Коминтерне должны пройти утверждение в руководстве РКП(б), и Сталин попросту транслировал общепринятое мнение.

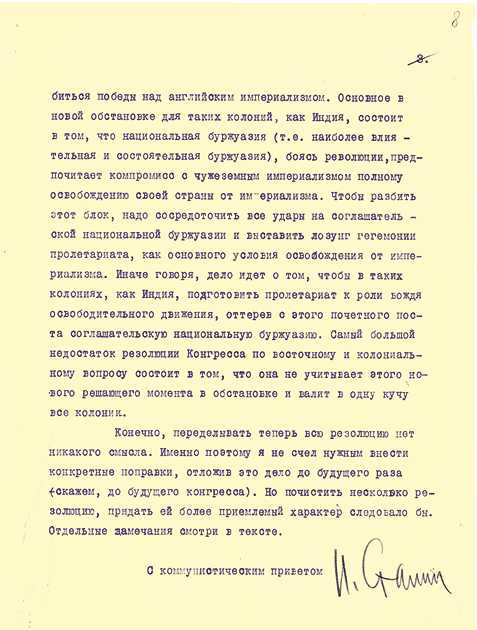 В своих замечаниях на проект резолюции Пятого конгресса Коминтерна по национальному вопросу генсек требует быть максимально точным в выражениях — «иначе могут обвинить конгресс, что он заботится не об освобождении национальностей, а о приращении территорий России»
Письмо И. В. Сталина Д. З. Мануильскому
31 июля 1924
[РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 763. Л. 6–8]
В своих замечаниях на проект резолюции Пятого конгресса Коминтерна по национальному вопросу генсек требует быть максимально точным в выражениях — «иначе могут обвинить конгресс, что он заботится не об освобождении национальностей, а о приращении территорий России»
Письмо И. В. Сталина Д. З. Мануильскому
31 июля 1924
[РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 763. Л. 6–8]
Для наиболее развитых из зависимых стран вроде Индии или Египта он считал более перспективной не политику общего национального фронта против колонизаторов, а их разделение по социальному признаку. «Надо разбить соглашательскую национальную буржуазию, т. е. надо вырвать из-под ее влияния рабоче-крестьянские массы для того, чтобы осуществить действительное освобождение от империализма»[1422]. Возглавить его должен пролетариат, каким бы слабым он не был в той или иной стране. В данном случае генсек разделял левацкие взгляды ортодоксальных марксистов, нашедшие свое отражение в соответствующей резолюции Второго конгресса Коминтерна и освященные ленинским авторитетом. Ход китайской революции вскоре заставит его изменить свой подход к перспективе блока национальных сил в борьбе против засилья иностранных держав. В германском вопросе Сталин достаточно долго находился под влиянием левацких установок Зиновьева. 3 февраля 1925 года в «Правде» была опубликована его беседа с немецким коммунистом Якобом Герцогом, посвященная необходимости ускоренной большевизации КПГ. Среди прочего речь шла и о внимании к повседневным нуждам рабочих, необходимости отказаться от ненужной политической трескотни. Маслов увидел в этом поворот Коминтерна вправо и обратился с личным письмом к Сталину, расписывая успехи немецких коммунистов, достигнутые под своим собственным руководством. Тот в своем ответе решил сыграть роль «доброго следователя» в отношении к германским «левым», которые в своей нелояльности Москве уже подошли к последней черте. Сталин писал Маслову, которого считал своим выдвиженцем, что выступает против «вышибательной политики в отношении всех инакомыслящих товарищей. Я против такой политики, потому что такая политика родит в партии режим запугивания, режим застращивания, режим, убивающий дух самокритики и инициативы»[1423]. Однако на деле речь шла отнюдь не о либерализации внутрипартийного режима КПГ, а о сохранении в ее руководстве ультралевого крыла во главе с самим Масловым, против чего выступали партийные лидеры со «спартаковским» прошлым.
 И. В. Сталин, А. И. Рыков, Л. Б. Каменев, Г. Е. Зиновьев идут по территории Кремля
Фотограф Н. М. Петров
1925
[РГАСПИ. Ф. 422. Оп. 1. Д. 90. Л. 1]
И. В. Сталин, А. И. Рыков, Л. Б. Каменев, Г. Е. Зиновьев идут по территории Кремля
Фотограф Н. М. Петров
1925
[РГАСПИ. Ф. 422. Оп. 1. Д. 90. Л. 1]
Получив информацию об итогах Берлинского съезда КПГ 1925 года, Сталин также пытался смягчить жесткие оценки, который давались группе Фишер — Маслова членами делегации ИККИ, и призывал избегать скоропалительных решений. «Теперь трудно поправить дело, партейтаг [т. е. съезд. — А. В.] кончился, состав нового ЦК санкционирован партейтагом. Рут Фишер имеет за собой вотум партейтага, ее позиция формально неуязвима»[1424]. Генсек, поднаторевший в аппаратных играх, выступил против разгрома «левых» на новой партийной конференции, предложил исподволь готовить смену руководства, сделав ставку на «рабочую группу» Тельмана. Еще через три дня он наконец сдал своего протеже, признавшись Бухарину: «Ты должен знать, что каверзы Рут исходят в конце концов от Маслова. Он, Маслов, может стать язвой КПГ, если он уже не стал ею»[1425]. Уступив настояниям из Москвы, находившийся на отдыхе Сталин согласился вынести сор из избы, проинформировав Президиум ИККИ о кризисе германской компартии. Удивительно, но до сего момента этот факт держался в тайне от иностранных коммунистов, работавших в Исполкоме Коминтерна! Вторым из международных сюжетов, занимавших внимание Сталина во время его отпуска летом 1925 года, был скандал, связанный с появлением книги американского журналиста Макса Истмена «После смерти Ленина»[1426]. Выжав из него максимум возможного, генсек, являвшийся мастером подбора оптимальной в тот или иной момент дозы дискредитации, осадил своих соратников, которые в его отсутствие попытались подготовить вытеснение Троцкого из партийного руководства. Речь шла о передаче документов по делу Истмена в Коминтерн для того, чтобы информировать его национальные секции. Сталин увидел в этом интригу своих партнеров по «тройке», которые вскоре перейдут на сторону оппозиции: «Нельзя закрыть путь Центральным комитетам компартий к документам об Истмене. Каменев и Зиновьев хотят создать предпосылки, делающие необходимым вывод Троцкого из ЦК, но это им не удастся, ибо нет у них к этому данных»[1427]. Дату и план генерального наступления должен был определить «хозяин» партии, и никто другой. Приняв бухаринский курс по отношению к КПГ, Сталин следовал ему вплоть до разрыва со своим последним партнером, объявленным в 1928 году носителем «правого уклона». Во время заседаний Президиума ИККИ, состоявшихся накануне его Шестого пленума, он настаивал на том, что в период стабилизации капитализма в европейских странах немецким коммунистам следует избегать фронтальной атаки на него. Напротив, «требуется переход к методу обходных движений, имеющих целью овладение большинством рабочего класса в Германии»[1428].

 Летом 1925 года Сталин, используя в качестве повода книгу Истмена, ведет войну на два фронта — против Зиновьева и против Троцкого
Письмо И. В. Сталина В. М. Молотову
18 августа 1925
[РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 1. Д. 5388. Л. 14–15]
Летом 1925 года Сталин, используя в качестве повода книгу Истмена, ведет войну на два фронта — против Зиновьева и против Троцкого
Письмо И. В. Сталина В. М. Молотову
18 августа 1925
[РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 1. Д. 5388. Л. 14–15]
В этой связи Сталин выступил за реабилитацию и возвращение в Германию партийных лидеров, отстраненных от руководства в начале 1924 года якобы за «капитулянтские ошибки» при подготовке германского Октября. Брандлер, Тальгеймер и Радек пытались добиться реабилитации по партийной линии и возвращения к немецкой работе, однако весной 1925 года благодаря интригам Зиновьева были подвергнуты новым наказаниям за фракционную работу[1429]. Генсек проявлял настойчивость, в решении Политбюро от 13 марта 1926 года особо отмечалось, что «двукратная попытка т. Сталина убедить германскую делегацию в необходимости отмены решения расширенного пленума ИККИ о тт. Радеке, Брандлере и Тальгеймере… не привела к положительным результатам»[1430]. Курс на «концентрацию сил», привлечение к партийной работе умеренных деятелей профсоюзного и молодежного движения стал новым трендом в работе коминтерновского руководства с начала 1926 года. Не вызывает никаких сомнений как то, что он являлся результатом отстранения от рычагов власти Зиновьева, так и то, что Сталин в тот момент являлся одним из сторонников такого поворота к «нормальности»[1431]. Характерным подтверждением данного вывода служат размышления Сталина о задачах коммунистов Индии, где он резко высказался против тактики индивидуального террора и сектантских поползновений, за вхождение КПИ в состав национально-освободительного движения страны. «Уступки мусульманам, ликвидация межнациональных столкновений на основе интернационализма, объединение усилий мусульманских и индусских трудящихся масс против главного врага, против английского империализма»[1432], — в этом генсек видел главную задачу индийских коммунистов. Она в полной мере соответствовала коминтерновской тактике 1926 года в Китае, где перед компартией ставилась задача стать локомотивом движения Гоминьдан, ни в коем случае не покидая его ряды.
6.4. «Русская делегация», Англия и Польша
Неудачное заигрывание с «левыми» не отбило у Сталина интереса к коминтерновским делам. Впрочем, речь шла не столько о делах, сколько о людях — «ленинградскую оппозицию» 1925 го-да возглавил не кто иной, как председатель Исполкома Коминтерна Зиновьев. Тезис о возможности или невозможности построения социализма в одной стране, положенный им в основу дискуссии, был на самом деле сформулирован Сталиным иначе, без «окончательности». Тем более в нем не было отказа от интернациональных задач большевиков, «предательства интересов Коминтерна». Прагматичный подход Сталина проявился уже при обсуждении Брестского мира, когда он говорил: «…вопрос стоит так: либо поражение нашей революции и связывание революции в Европе, либо же мы получаем передышку и укрепляемся. Этим не задерживается революция на Западе»[1433]. Троцкий встал в позицию «третьего радующегося», предпочитая не высказываться по внутрипартийным вопросам накануне и в ходе Четырнадцатого съезда ВКП(б). Основную тяжесть борьбы с ленинградцами приняли на себя Сталин и его ближайшее окружение. Первым логический шаг из своего поражения сделал Зиновьев, сложив с себя полномочия Председателя ИККИ. Опубликование этого решения означало бы скандал международного масштаба, который был совершенно ни к чему торжествующему важную победу Сталину. В результате долгих дискуссий членам Политбюро удалось достичь компромисса: ради сохранения коллективного руководства было решено все стратегические вопросы коминтерновской политики предварительно обсуждать на заседаниях делегации членов ВКП(б), откомандированных на работу в ИККИ, чтобы затем выходить на заседания Президиума и Исполкома с единым мнением. Зиновьев сохранил пост Председателя, но отныне попадал под пристальное наблюдение фракции большинства. Сталин детально вникал в перипетии деятельности отдельных компартий, лишь в редких случаях пропуская заседания «русской делегации»
Записка И. В. Сталина О. А. Пятницкому
3 мая 1926
[РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 787. Л. 88]
Сталин детально вникал в перипетии деятельности отдельных компартий, лишь в редких случаях пропуская заседания «русской делегации»
Записка И. В. Сталина О. А. Пятницкому
3 мая 1926
[РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 787. Л. 88]
Особые заседания лидеров российской партии проходили уже во время первых конгрессов Коммунистического Интернационала, что отвечало практике фракционного обсуждения тех или иных политических проблем до вынесения их на пленарные заседания советских органов, принятой в первые годы большевистской диктатуры. Эти заседания не протоколировались, они лишь изредка упоминаются в сохранившихся источниках. Затем принятые в их ходе решения выносились на пленарные заседания конгрессов и пленумов ИККИ, двусторонние вопросы разбирались на встречах лидеров российской и зарубежных компартий во время работы коминтерновских форумов. Власть и влияние представительства ВКП(б) в Коминтерне, вошедшего в историю и личные документы той эпохи как «русская делегация», базировались не только на авторитете находившейся у власти партии большевиков, но и на материальных ресурсах советского государства. На ее заседаниях обсуждалась смета Коминтерна, субсидии отдельным партиям и зарубежным печатным органам. Секретарь делегации Пятницкий являлся одновременно председателем бюджетной комиссии Исполкома Коминтерна, наладив в нем должную финансовую дисциплину. Времена коминтерновской вольницы, когда Зиновьев через своих доверенных лиц бесконтрольно распределял миллионы марок, фунтов и долларов, безвозвратно ушли в прошлое. 16 марта 1926 года Пятницкий получил запрос от помощника генсека И. П. Товстухи: «Тов. Сталин просит Вас сообщить: Как распределены деньги по партиям? Кому сколько дается? Он просит этот вопрос не решать без русских членов Президиума ИККИ». В своем ответе главный администратор Коминтерна поручился за то, что все регулярные субсидии проходят через специальную комиссию Политбюро, и впредь «крупные ассигнования отдельным партиям будут выдавать только по решению делегации»[1434].
 Аппарат генсека ЦК ВКП(б) направлял в Коминтерн его запросы, среди которых важное место занимали кадровые и финансовые дела
Письмо И. П. Товстухи О. А. Пятницкому
16 марта 1926
[РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 787. Л. 85]
Аппарат генсека ЦК ВКП(б) направлял в Коминтерн его запросы, среди которых важное место занимали кадровые и финансовые дела
Письмо И. П. Товстухи О. А. Пятницкому
16 марта 1926
[РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 787. Л. 85]
Сразу же после Четырнадцатого съезда ВКП(б) Политбюро информировало иностранные компартии о нежелательности обсуждения итогов прошедшей на съезде дискуссии[1435]. Однако подковерная борьба продолжалась. Проигравшие планировали отправить Гертруду Гесслер, работавшую машинисткой в аппарате ИККИ, во Францию и Германию, чтобы ознакомить местные компартии с платформой оппозиции[1436]. Сталин, в свою очередь, отправил в Германию своего молодого выдвиженца Бессо Ломинадзе, чтобы тот в нужном ключе проинструктировал руководство КПГ. Выступления Ломинадзе попали в прессу, Сталин тянул до последнего, но 6 февраля 1926 года все же был вынужден телеграммой попросить горячего грузина «прекратить доклады, выступления в печати и немедленно выехать в Москву»[1437]. Через неделю из Берлина пришел ответ: «Ваша депеша для Ломинадзе от Сталина уже адресата не застала — как раз накануне [он] отбыл к вам»[1438]. Очевидно, это было простой уловкой, ибо то же решение уже в более жесткой форме (с указанием Ломинадзе на недопустимость подобной кампании) было продублировано 11 марта 1926 года[1439]. Подобные всплески подковерной борьбы все более отравляли внутрипартийную атмосферу и подталкивали оппозиционеров к крайним формам борьбы со сталинским большинством.
 Отвечая на запрос Сталина, Пятницкий раскрыл детали финансирования зарубежных компартий и подчеркнул, что все назначения в аппарат Коминтерна проходят через делегацию ВКП(б)
Письмо О. А. Пятницкого И. В. Сталину
20 марта 1926
[РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 787. Л. 87]
Отвечая на запрос Сталина, Пятницкий раскрыл детали финансирования зарубежных компартий и подчеркнул, что все назначения в аппарат Коминтерна проходят через делегацию ВКП(б)
Письмо О. А. Пятницкого И. В. Сталину
20 марта 1926
[РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 787. Л. 87]
В критические моменты перехода лидерства в Коминтерне Сталин лично появлялся в стенах его Исполкома в здании на Моховой. По мнению генсека, в начале 1926 года главная опасность исходила от сторонников Зиновьева в левацком руководстве КПГ, которое хотя и было снято со своих постов после Берлинского съезда, но сохранило серьезное влияние в партийном базисе. На внеочередном заседании Президиума ИККИ Сталин пустился в пространные рассуждения о том, что «точка зрения справедливости и равномерности удара против правых и „ультралевых“ при всяких условиях и всякой обстановке — является ребяческой точкой зрения»[1440]. В Германии, еще не оправившейся от революционных потрясений, следует отказаться от «метода прямого натиска», а значит — избавиться от левацких настроений, которые «мешают партии приспособиться к новым условиям борьбы и открыть себе дорогу к широким массам германского пролетариата». В связи с этим Сталин предложил вычеркнуть из проекта резолюции по германскому вопросу фразу о борьбе против «правых», которая, как он признал, может стать актуальной при изменении внутриполитической ситуации в той или иной стране. Не пройдет и трех лет, и жупел «правого уклона» будет использован Сталиным для того, чтобы расправиться с оппозицией Бухарина — Рыкова — Томского.
 А. С. Енукидзе, Ш. З. Элиава, М. И. Калинин, Г. Е. Зиновьев и Л. Б. Каменев
1920-е
[РГАСПИ. Ф. 667. Оп. 1. Д. 41. Л. 21]
А. С. Енукидзе, Ш. З. Элиава, М. И. Калинин, Г. Е. Зиновьев и Л. Б. Каменев
1920-е
[РГАСПИ. Ф. 667. Оп. 1. Д. 41. Л. 21]
На Шестом пленуме Исполкома Зиновьев, оказавшись в Коминтерне в роли «зиц-председателя», неожиданно выступил за расширение самостоятельности отдельных партий, которым следует принимать политические решения и подбирать кадры без оглядки на Москву. Это не укрылось от внимательного взгляда Сталина: тот парировал, что зиновьевские слова могут создать «впечатление, что исполнительные органы ИККИ тут ни при чем, но что дело тут, собственно говоря, в ВКП(б), против которой и следует провести привлечение секций к активному руководству Коминтерном. Таким образом, вместо правильной постановки вопроса получается впечатление выпада против ВКП(б), все равно — хотел этого т. Зиновьев или нет»[1441]. В начале 1926 года Сталин попытался перетянуть на свою сторону Радека, который, приняв сторону Троцкого, был изолирован и от международной, и от коминтерновской работы. Узнав об этом, остававшийся еще на своем посту Председатель ИККИ выступил с резким протестом, чем вызвал следующую тираду генсека: «Видимо, тов. Зиновьев думает, что я сделал покушение на его прерогативы единоличного вершителя судеб Коминтерна. Видимо, тов. Зиновьев забывает, что мы все против единоличного руководства и единоличных поползновений кого бы то ни было…»[1442] Приведенная цитата выдает не только характерный стиль сталинской речи, но и внутреннюю логику его поведения, где дела с точностью до наоборот соответствовали словам. Поддевая на тот момент своего главного оппонента везде, где только можно, Сталин старался не выпячивать собственную роль, исподволь готовясь к будущим фракционным сражениям. Так, после речи Зиновьева на Шестом пленуме он доверительно сообщил членам «русской делегации», что немецкие товарищи остались недовольны тем, что в ней отсутствовало осуждение ультралевого уклона в КПГ. Внешне решение было принято не в пользу немцев — разрешения на критику Зиновьева они так и не получили, но и последнему было рекомендовано внести соответствующие коррективы в свое заключительное слово[1443]. Это било по самолюбию Председателя ИККИ, но не давало ему достаточного повода для того, чтобы перейти в контрнаступление. Дело ограничилось очередной просьбой об отставке со своего поста в Коминтерне, которую Зиновьев адресовал в бюро «русской делегации». Хотя отставка была отклонена, регулярные проработки продолжались. Генсек ЦК ВКП(б) не упускал ни малейшего повода для дискредитации своего недавнего товарища по «тройке». В делегации обсуждалось сообщение нового лидера КПГ Тельмана о том, что зиновьевцы хотят добиться его отставки. Хотя оно не нашло своего подтверждения, «осадочек остался». Зиновьеву пришлось оправдываться в ответ на обвинения, что он якобы распространял среди иностранных делегатов письмо Сталина Радеку, в котором первый сообщал второму о том, что с него снят запрет на работу в Коминтерне[1444]. Этот список можно было бы продолжать до бесконечности. Противникам Сталина пришлось соблюдать все правила конспирации, чтобы сохранить связь со своими единомышленниками за рубежом. Воспользовавшись отсутствием генсека на заседании делегации 16 апреля, Зиновьев провел решение, осуждающее выпуск на немецком языке брошюры о внутрипартийных разногласиях, которая была подготовлена ЦК КПГ. Но даже такой малозначительный эпизод вывел Сталина из себя и заставил поднять вопрос на принципиальную высоту. Спустя три дня он писал Пятницкому: «Я не мог голосовать за такое решение ввиду незнакомства с указанным сборником. Теперь, когда я успел ознакомиться с этим сборником, должен сказать, что нет решительно никаких оснований возражать против издания сборника. Обо всем этом прошу довести до сведения Бюро делегации ВКП(б)» в Коминтерне[1445].
 Контроль над коминтерновской прессой был важным рычагом борьбы за политическое наследство Ленина
Письмо И. В. Сталина О. А. Пятницкому
20 мая 1926
[РГАСПИ. Ф. 508. Оп. 1. Д. 21. Л. 16]
Контроль над коминтерновской прессой был важным рычагом борьбы за политическое наследство Ленина
Письмо И. В. Сталина О. А. Пятницкому
20 мая 1926
[РГАСПИ. Ф. 508. Оп. 1. Д. 21. Л. 16]
Зиновьевский аппарат и после этого инцидента продолжал щепетильно выискивать в прессе зарубежных компартий любые упоминания споров на прошлогоднем съезде российской партии, все еще надеясь, что данное поражение можно будет стереть со скрижалей истории или как минимум представить малозначительным эпизодом, заминкой в движении от победы к победе[1446]. Политические разработки самого Зиновьева, на тот момент все еще Председателя ИККИ, посвященные различным аспектам коминтерновской деятельности, без обсуждения откладывались в архиве «русской делегации». Переписка оппонентов изобиловала взаимными нападками. Так, отвечая Зиновьеву 15 мая 1926 года Сталин заявил, что в его письме «наткнулся на целых восемь сплетен и одно смехотворное заявление», и не преминул перечислить все его уклоны и шатания. В ход пошли даже аргументы от истории: «За период с 1898 года мы, старые нелегалы, успели побывать и поработать во всех районах России, но не встречали т. Зиновьева ни в подполье, ни в тюрьмах, ни в ссылках, если не считать нескольких месяцев работы тов. Зиновьева в Ленинграде. Наши старые нелегалы не могут не знать, что в партии имеется целая плеяда старых работников, вступивших в партию много раньше т. Зиновьева и строивших партию без шума, без бахвальства»[1447]. Его оппонент расценил такой тон письма как попытку сделать совместную работу невозможной, подчеркнув «нищету аргументов» и заявив, что «отвечать по существу на письмо не буду»[1448]. В мае 1926 года именно в «русской делегации», иногда именуемой в протоколах как «заседание членов Президиума ИККИ от ВКП(б)», произошли первые столкновения сталинского большинства и оппозиционеров вокруг оценок всеобщей стачки в Великобритании[1449]. Последние создали блок, который войдет в историю как «объединенная оппозиция». Зиновьев и Троцкий обвинили своих оппонентов в капитуляции перед руководством тред-юнионов в Англо-русском комитете профсоюзного единства (АРК). Этот орган изначально задумывался как верхушечный инструмент, призванный способствовать выходу советских профсоюзов из изоляции и налаживанию их контактов с Амстердамским Интернационалом. Инициатива его создания в мае 1925 года исходила от Москвы (формально — от руководства ВЦСПС), партнером стал Генеральный совет британских тред-юнионов. Соглашение подразумевало как минимум отказ от взаимных нападок, и этот факт, несомненно, имел позитивное значение, уменьшая трещину в европейском рабочем движении. Лидеры ВКП(б) приспосабливали линию Коминтерна к реалиям укреплявшейся стабилизации в западном мире, пытаясь все-таки достучаться до зарубежного рабочего класса. В условиях экономического подъема теряли свой смысл многие идейные конфликты периода «бури и натиска» — и социал-демократам, и коммунистам, работавшим в профсоюзах, приходилось биться за «копейку на рубль». Первый год существования АРК не дал заметных результатов, представители Генсовета умело лавировали между левыми настроениями рабочих масс и умеренными рекомендациями из Амстердама. В свою очередь, ВЦСПС так и не получил разрешения Политбюро на уступки британским профсоюзным боссам из-за сохранявшихся надежд на то, что ситуация в Европе рано или поздно обернется новыми революционными потрясениями. Всеобщая стачка британских рабочих укрепила эти надежды. Казалось, сбывались предсказания Троцкого, сделанные им в книге «Куда идет Англия?», дряхлевший британский империализм становился главным плацдармом нового приступа мировой революции. В духе этого революционного утопизма и разворачивалось обсуждение английской стачки в руководстве ВКП(б). Ее результатом стал компромисс, в достижении которого немалую роль сыграло британское правительство. В советской прессе видели итоги стачки совершенно иначе: классовый конфликт был бесславно закончен из-за очередного предательства социал-реформистов, которые отказались даже принять материальную помощь от советских профсоюзов[1450]. Такое толкование открывало широкое поле для критики курса сталинского большинства слева. Зиновьев разорвал достигнутое после съезда перемирие (подразумевавшее сохранение за ним поста председателя Коминтерна) и перешел в контрнаступление. 7 мая 1926 года на заседание Президиума ИККИ пришел сам Сталин (это случалось не часто), чтобы своим авторитетом освятить позицию, согласованную в Политбюро: «вопрос о стабилизации капитализма уже не существует, он решен ходом событий». Применительно к Великобритании речь шла даже о «зачатках двоевластия» и выдвигался лозунг создания в Лондоне «подлинно рабочего правительства»[1451]. Следует отметить, что это была консолидированная точка зрения всех членов Политбюро, хотя позже Молотов пытался присвоить лавры политической дальнозоркости одному только Сталину. В спорах с оппозиционерами ближайший соратник вождя доказывал, что именно последний «указал тогда на „гвоздь“ событий, а именно на задачу перевода стачки на политические рельсы и на необходимость выдвинуть лозунг: долой правительство консерваторов, да здравствует рабочее правительство. Им была намечена эта линия, которую все мы и в том числе Вы, т. Зиновьев, приняли полностью»[1452]. Сразу же после этой общепризнанной констатации начинались разногласия. Троцкий, занявший позицию «третьего радующегося» в ходе борьбы с «ленинградской оппозицией», в условиях новой расстановки сил вернул себе былую активность, заговорив о правых ошибках и капитулянтских настроениях сталинского большинства в Политбюро. Взгляды, сблизившие Троцкого и Зиновьева, касались не только английской стачки, но и других коминтерновских вопросов. Первый представил в «русскую делегацию» развернутый документ, подвергавший критике практически все аспекты деятельности международной организации коммунистов[1453]. Зиновьев, крайне неудачно стимулировавший «полевение» немецкой компартии в предшествовавшие годы, был вынужден уступить Троцкому лидерство в оппозиционном блоке[1454]. Оба не без оснований рассчитывали на то, что их шансы на успех серьезно увеличит отсутствие в Москве Сталина — в конце мая тот отправился в отпуск на Кавказ. В шифропереписке Молотов сообщал Сталину, что оппозиционеры пытаются «произвести коренной, хотя и трусливый, пересмотр проводившейся линии», и выражал горячее желание отложить рассмотрение вопроса на Политбюро до возвращения генсека в Москву. Сталин, едва доехавший до места назначения, посчитал, что его соратники справятся и без него. Он согласился с их оценкой зиновьевских тезисов, добавив в нее грубый колорит. Его критические заметки на их полях говорят сами за себя: «дурак!» (неоднократно), «слишком ретиво», «грубо сказано», «к Троцкому!».
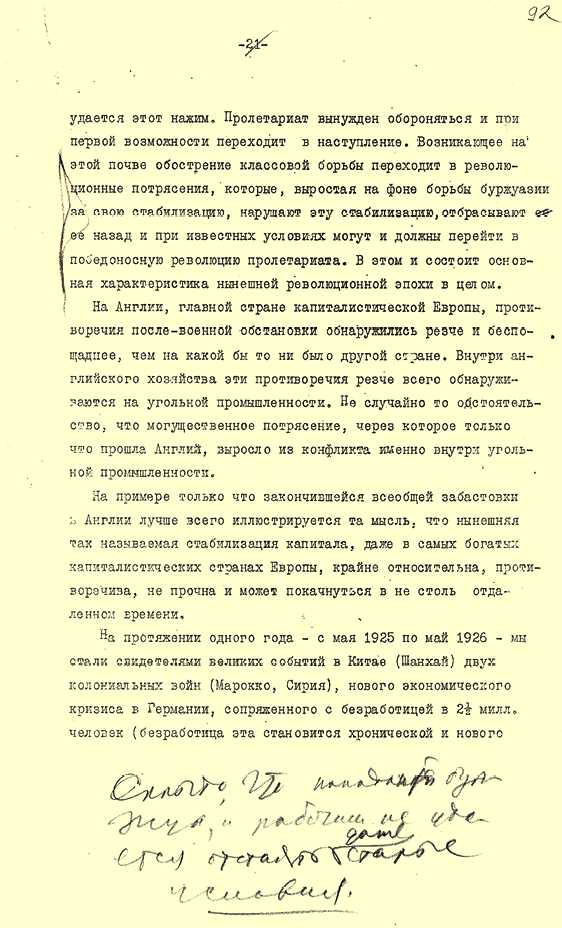 При обсуждении итогов всеобщей стачки в Великобритании Сталину приходится остужать пыл оппозиционеров, считавших, что это событие покончило со стабилизацией европейского капитализма
Замечание И. В. Сталина на тезисах Г. Е. Зиновьева
Май 1926
[РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 197. Л. 92]
При обсуждении итогов всеобщей стачки в Великобритании Сталину приходится остужать пыл оппозиционеров, считавших, что это событие покончило со стабилизацией европейского капитализма
Замечание И. В. Сталина на тезисах Г. Е. Зиновьева
Май 1926
[РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 197. Л. 92]
Недовольство генсека вызвало и желание Зиновьева расправиться с АРК, и его тезис о крахе стабилизации европейского капитализма. Применительно к урокам английской стачки Сталин резонно заметил: «Считаю, что нападают буржуа, и рабочим не удается отстоять даже старые условия»[1455]. Для него как для опытного тактика была ясна подоплека активности Зиновьева и Троцкого: «…видимо, они хотят на английском вопросе отыграться и вернуть все проигранное раньше». Нельзя не согласиться с издателями переписки двух вождей, которые сделали вывод, что любое международное или внутриполитическое решение принималось Сталиным исходя из курса на собственное единовластие. Чувствуя накаленную атмосферу в Москве, он советовал попросту не реагировать на требования оппозиционеров: «…отложите вопрос еще на неделю и пошлите их к черту». Однако традиции коллективного руководства были еще слишком сильны, чтобы игнорировать мнение двух членов Политбюро, выраженное в почти ультимативной форме[1456]. Сталинской фракции пришлось принять бой в отсутствие своего лидера. В аппарате Бухарина лихорадочно готовились контртезисы, которые среди прочего должны были «разоблачить авантюристический отзовизм в вопросе о разрыве с Генсоветом»[1457]. Генсек продолжал держать ситуацию под личным контролем, ежедневно отправляя в столицу письма и шифровки. Его соратники, остававшиеся на хозяйстве, приложили максимум усилий для дискредитации Зиновьева. В день заседания они получили развернутое напутствие Сталина с перечислением всех ошибок Председателя ИККИ в вопросах об английской стачке, перевороте Пилсудского и китайской революции. В нем без каких-либо оснований был сделан прозрачный намек на то, что взгляды Зиновьева олицетворяют собой правый уклон («эти ошибки носятся в воздухе и находят поддержку в правых течениях Коминтерна»)[1458]. Надолго отложить решающее столкновение по вопросу об английской стачке не удалось — слишком «горячим» был накопившийся материал. Заседание Политбюро 3 июня 1926 года велось под стенограмму, продолжалось около шести часов и завершилось вполне предсказуемо. Троцкий, поддержанный Зиновьевым, обрушился с критикой на нерешительность и капитулянтство своих оппонентов, которые не использовали потенциал АРК для реальной поддержки бастующих. Но взяв однажды Англо-русский комитет под защиту, Сталин и Бухарин уже не могли критически пересмотреть его задачи и возможности после поражения всеобщей стачки. Споры о ее уроках и дальнейшей судьбе комитета не затихали и после 3 июня. Сталин умело повышал ставки, заставляя своих сторонников сплотиться вокруг собственной линии. Спустя две недели он писал Молотову и Бухарину, что Зиновьев, Троцкий и их соратники «задумали взорвать партию через ИККИ. Я не очень верю в возможность взрыва, но большая тряска вполне возможна». В этом письме генсек набрасывал план действий по нейтрализации оппозиционеров, отказываясь от дипломатических выражений: «Я думаю, что в скором времени партия набьет морду и Троцкому, и Грише с Каменевым, и сделает из них отщепенцев вроде Шляпникова»[1459]. Нарастание остроты дискуссий в «русской делегации» шло рука об руку с оттачиванием аппаратной техники дискредитации оппозиционеров. По мнению Сталина, «группа Зиновьева стала вдохновителем всего раскольничьего в оппозиционных течениях, фактическим лидером раскольничьих течений в партии». Имея серьезное влияние в Исполкоме Коминтерна, она ведет себя «наглее всякой другой группы, давая образцы „смелости“ и „решительности“ другим течениям»[1460]. Следовательно, на предстоящем пленуме ЦК ВКП(б) нужно было сосредоточить удар именно на этой группе, а Зиновьева попросту убрать из Коминтерна. В переписке с соратниками Сталин набрасывал примерный план действий: если Зиновьев прилюдно подаст в отставку с поста Председателя ИККИ, «мы должны ее принять. Во всяком случае после вывода из Политбюро Зиновьев не может быть уже предом, — это поймут все секции и сделают сами необходимый вывод. Мы перейдем тогда от системы преда к системе секретариата ИККИ»[1461]. Сталин предлагал перенести на Коминтерн систему «коллективного руководства», которая формально существовала в российской партии после смерти Ленина, но не помешала ее генеральному секретарю добиться полного единовластия. Неожиданно второй фронт открыли британские коммунисты, назвавшие АРК «дипломатическим инструментом Советской России»[1462]. Зиновьев не замедлил воспользоваться этим фактом, чтобы заострить вопрос о «правых уклонистах» в компартии Великобритании и их покровителях в ВКП(б). Сталин ответил асимметрично. Едва вернувшись в Москву, он принял участие в заседании «русской делегации» 7 июля 1926 года, где поднял вопрос об ошибках Зиновьева в оценке майского государственного переворота, совершенного Пилсудским в Польше. Стенограммы данного заседания не сохранилось, но можно быть уверенным в том, что генсек повторил аргументы, сформулированные в письмах Молотову: сразу после переворота Зиновьев представил проект указаний польским коммунистам, где «Пилсудский рассматривался как антифашист, где движение Пилсудского рассматривалось как революционное». Отсюда делался легко предсказуемый вывод: «Я уверен, что ошибки польских коммунистов, о которых так сладострастно пишет теперь Зиновьев, целиком навеяны им глубоко оппортунистической позицией Зиновьева о якобы революционном характере авантюры Пилсудского»[1463]. В условиях бурно развивавшегося конфликта с лидерами «объединенной оппозиции» фракции большинства в Политбюро не оставалось ничего иного, как использовать административный ресурс. На июльском пленуме ЦК ВКП(б) 1926 года доклад об английской стачке делал уже не Зиновьев, а Бухарин. Левые оппоненты, на пленуме выступившие с развернутой декларацией, были обвинены им в «забегании вперед» и необоснованных ожиданиях революционного взрыва в самом сердце Британской империи. Если выступления оппозиционеров были щедро пересыпаны ленинскими цитатами, то Сталин в своем докладе не менее усердно цитировал самого Зиновьева, являвшегося в свое время горячим сторонником АРК. Он сконструировал «теорию перепрыгивания» оппозиционеров через закономерные этапы в развитии рабочего движения[1464], хотя этим грешило все большевистское руководство.
6.5. Финальные битвы с оппозицией
Вернувшись после июльского пленума ЦК ВКП(б) 1926 года к прерванному отпуску, Сталин продолжал обдумывать механизм снятия Зиновьева с поста Председателя ИККИ. При его участии были «организованы» соответствующие инициативы снизу: с предложением о смене руководства выступили компартии Великобритании и Германии. «Было бы непонятно и неестественно, если бы мы (ВКП) „увильнули“ от вопроса о снятии в то время, как вопрос поставлен всей обстановкой, а две западные партии определенно предлагают снятие». Загвоздка заключалась в том, что для такого шага нужно было созывать конгресс, но и тут поднаторевший в аппаратных играх генсек нашел лазейку: «Если все партии [Коминтерна. — А. В.] или громадное их большинство выскажутся за снятие Григория, то такое высказывание можно будет смело считать как подлинную волю всех партий, т. е. всего конгресса»[1465]. Не прошло и трех месяцев, как данный сценарий был реализован с точностью до мелочей. Октябрьский пленум ЦК ВКП(б) в связи с тем, что Зиновьев «лишился доверия со стороны ряда коммунистических партий», признал невозможной его дальнейшую работу в Коминтерне, а Седьмой расширенный пленум ИККИ 22 ноября 1926 года продублировал это решение. В последующем борьба сталинского большинства и оппозиции в коминтерновских вопросах напоминала перетягивание каната: стороны уперлись на своих позициях, пытаясь рывками вывести противника из состояния равновесия. Чем больше Зиновьев и Троцкий настаивали на немедленном разрыве с предателями из Генсовета, тем сильнее их оппоненты подчеркивали позитивное значение АРК. В пользу последних сработало резкое обострение советско-британских отношений в мае 1927 го-да, так называемая военная тревога. Еще 1 марта 1927 го-да Сталин в одной из бесед с рабочими обещал: войны у нас не будет ни весной, ни осенью этого года[1466]. Однако майские события — налет на советское торговое представительство в Лондоне, враждебная кампания в прессе и, наконец, разрыв дипломатических отношений — заставили руководство ВКП(б) признать реальную опасность военной интервенции со стороны Великобритании. Международные события в очередной раз активизировали оппозицию. Троцкий заговорил о том, что руководство страны, прикрываясь угрозой новой войны, отошло от принципов революционной политики. «Тем с большей непримиримостью на этом оселке надо проверять основные направления [деятельности] Коммунистического Интернационала»[1467]. Продолжая защищать АРК в пику оппозиционерам, «дуумвират» дал новое обоснование его существования: теперь он рассматривался как средство «дипломатической защиты» СССР. Средство достаточно странное, поскольку в переписке со своими соратниками Сталин признавал, что лидеры Генсовета тред-юнионов «помогают своим хозяевам начать и провести войну» против Советского Союза[1468]. Решающий удар по лидерам «объединенной оппозиции» готовился долго и основательно
Постановление Пленума ЦК и ЦКК ВКП(б) о снятии Г. Е. Зиновьева с поста председателя Коминтерна, о выводе Л. Д. Троцкого из членов, а Л. Б. Каменева — из кандидатов в члены Политбюро
23 октября 1926
[РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 171. Д. 79. Л. 98]
Решающий удар по лидерам «объединенной оппозиции» готовился долго и основательно
Постановление Пленума ЦК и ЦКК ВКП(б) о снятии Г. Е. Зиновьева с поста председателя Коминтерна, о выводе Л. Д. Троцкого из членов, а Л. Б. Каменева — из кандидатов в члены Политбюро
23 октября 1926
[РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 171. Д. 79. Л. 98]
«Военная тревога» пришлась фракции большинства как нельзя более кстати, поскольку позволила ей ужесточить борьбу против «объединенной оппозиции», аргументировав ее необходимостью обеспечения единства советскогогосударства в критический период. «Идя на подготовку обороны, мы должны создать железную дисциплину в нашей партии… Мы должны обуздать всех тех, кто раскалывает наши братские партии на Западе и на Востоке». И далее генсек формулировал позитивную программу: «Интернационалист тот, что безоговорочно, без колебаний, без условий готов защищать СССР, потому что СССР есть база мирового революционного движения»[1469]. Для руководителей Коминтерна не оставалось никаких сомнений в том, что подобный призыв означал выкорчевывание остатков внутрипартийной демократии в зарубежных партиях, формирование нового поколения функционеров, для которых решающим качеством движения наверх будет беспрекословное подчинение голосу Москвы. Попытка привести международную политику СССР в соответствие с реалиями стабилизации в западных странах, перевести ее на рельсы сосуществования двух общественных систем из-за давления оппозиции завершилась полным провалом, став дополнительным катализатором внутрипартийного конфликта. Выдвижение реальной альтернативы «героическому прошлому» большевизма было чревато идейным поражением прежде всего потому, что партийная масса продолжала жить этим прошлым, оно не только сплачивало ВКП(б) изнутри, но и оправдывало ее абсолютную власть над Россией. Поэтому Сталин и Бухарин ограничивались идейной обороной на коминтерновском фронте, ведя активное наступление на оппозицию вначале в кадровой сфере, а затем и используя аппарат полицейских репрессий.
 На пике конфликта в партийном руководстве Сталин, находившийся на Кавказе, призывал своих сторонников к решительным действиям против объединившихся оппозиционеров
Письмо И. В. Сталина В. М. Молотову
23 июня 1927
[РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 1. Д. 5388. Л. 48]
На пике конфликта в партийном руководстве Сталин, находившийся на Кавказе, призывал своих сторонников к решительным действиям против объединившихся оппозиционеров
Письмо И. В. Сталина В. М. Молотову
23 июня 1927
[РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 1. Д. 5388. Л. 48]
Следует отметить, что оппозиционная активность Троцкого и Зиновьева не прошла бесследно ни для социально-экономического курса российской партии, ни для ее международной политики. Отказ тред-юнионов от дальнейшего поддержания едва теплившейся жизни АРК (сентябрь 1927 года) совпал с переходом Коминтерна к тактике «класс против класса». Хотя в качестве ее синонима ИККИ усиленно насаждал формулу «единый рабочий фронт снизу», на самом деле для западных компартий это был путь в тупик внутриполитической изоляции. Увязав новую тактику с именем Бухарина и устранившись на целый год от работы в Коминтерне, Сталин подготовил себе почву для нового шага в направлении «великого перелома». 24 сентября 1927 года «дуумвират» вел переговоры с Тальгеймером, который настаивал на возвращении в Германию, но отказывался давать обязательство о неучастии в партийной работе. В то время как Бухарин пытался разрешить ситуацию в пользу бывшего лидера КПГ, который против своей воли удерживался в Москве (тем более что это вполне соответствовало курсу на «концентрацию партийных сил», принятому Эссенским съездом), Сталина волновало прежде всего недопущение какой бы то ни было фронды в рядах немецких коммунистов. Позже Тальгеймер ссылался на заявление генсека о необходимости отсрочить его отъезд в Германию на полгода, если он не даст требуемого обязательства: «…это равноценно фактической отмене единогласного решения пленума ЦК КПГ, по которому мое возвращение не ставится в зависимость ни от каких условий»[1470]. Пленум 9 сентября 1927 года действительно принял такое решение вопреки мнению Тельмана, и тот обратился к «русским товарищам», которые не смогли отказать ему в дружеской услуге. В результате Тальгеймер еще в течение целого года не мог получить разрешения на выезд из СССР. Подобные конфликты между Сталиным и Бухариным на первых порах выглядели досадными мелочами, однако неуклонно вели к тому, что в их отношениях росла напряженность и накапливалось взаимное недоверие. Рано или поздно такая динамика должна была достичь точки кипения и взорвать существовавшее соотношение сил в Политбюро ЦК ВКП(б), которое к концу 1927 года добилось административной победы над сторонниками «объединенной оппозиции».
6.6. Китайская революция на фоне конфликта в партийном руководстве
Сюжеты, связанные с ролью Сталина при определении внешнеполитического курса СССР в межвоенные годы, не обойдены вниманием отечественных и зарубежных исследователей. К сожалению, их коминтерновская составляющая отходит на второй план, что связано с желанием показать советского лидера представителем твердой «реальполитик», для которого вопросы идеологии — всего лишь яркая упаковка прозаического параллелограмма сил. Кстати, в этом Сталина обвиняли уже соперники в борьбе за ленинское наследство[1471]. Китайская линия советской внешней политики в 1920-е годы в меньшей степени страдает преувеличенным вниманием к силовой составляющей, хотя и здесь немало историков предпочитали видеть в генсеке прежде всего «национал-большевика», ставившего стратегическую безопасность СССР выше интересов мировой революции[1472]. На самом деле Сталину приходилось принимать в расчет сложный параллелограмм сил, оказывавших воздействие на состояние дел в Китае. Лагерь империалистов был представлен западными державами и Японией, с советской стороны действовал Коминтерн и военные эксперты, с китайской — Гоминьдан и китайские коммунисты. Китайская комиссия ЦК ВКП(б) в известной мере осуществляла координацию революционного лагеря, координировала военную и финансовую помощь. Для максимального приближения командного пункта Коминтерна к революционным событиям в Шанхае было создано Дальневосточное бюро ИККИ[1473]. В 1925 году начинается новый период в китайской политике Коминтерна, в ходе которого она попадает под влияние сталинских установок. На первых порах они выглядели ультралевыми, большое влияние на их генезис оказала позиция индуса М. Роя, который работал в Коминтерне и считался одним из главных экспертов по колониальным и зависимым странам[1474]. В феврале 1926 года генсек запросил руководителя Дальневосточного отдела ИККИ Г. Н. Войтинского о состоянии дел в Китае и ответ последнего разослал членам Политбюро. В нем ничего не говорилось о революционной составляющей китайской внутренней политики, за исключением того, что в последнее время выросла популярность левого крыла Гоминьдана, базой которого выступало Кантонское правительство[1475]. В тот момент Сталин удерживал китайских революционеров от крупномасштабных военных операций, настаивая на «внутреннем укреплении власти» и формировании новых армейских соединений[1476]. Григорий Наумович Войтинский
[Из открытых источников]
Григорий Наумович Войтинский
[Из открытых источников]
В дни работы Шестого пленума Политбюро приняло решение о нецелесообразности немедленного приема в Коминтерн Гоминьдана[1477], ибо он должен сохранить свое «национальное лицо», не отталкивая от себя буржуазию и крестьянство коммунистическими формулировками. Отказ Чан Кайши от блока с китайскими коммунистами, так называемый переворот в Гуанчжоу, совершенный 20 марта 1926 года, вызвал в Москве настоящий шок, хотя советники по военной и дипломатической линии неоднократно предупреждали о реальности такого варианта развития событий[1478]. Тем не менее сталинское Политбюро продолжало настаивать на недопустимости разрыва между КПК и Гоминьданом, во всяком случае до обсуждения этого вопроса на конгрессе Коминтерна[1479] (пройдет более двух лет, прежде чем будет созван очередной форум мировой организации коммунистов). Успешный Северный поход Чан Кайши воспринимался в Москве как катализатор развертывания в Китае аграрного движения. На протяжении 1926 года Сталин являлся одним из главных докладчиков на заседаниях Политбюро ЦК ВКП(б) при обсуждении китайского вопроса, отстаивая линию на концентрацию сил в районах, уже находившихся под контролем революционных сил. При этом местная компартия должна была оставаться лояльным союзником Гоминьдана, сохраняя и укрепляя свое влияние внутри национально-освободительного движения[1480]. 23 сентября 1926 года он выступил в китайской комиссии ИККИ, дав завышенную оценку успехов китайских коммунистов (вероятно, в ее основу были положены успешные действия революционной армии в Северном походе). Речь шла о том, что они должны бороться за лидерство в Гоминьдане подобно тому, как большевики завоевали на свою сторону Советы рабочих и крестьянских депутатов в России. «Роль инициатора и руководителя китайской революции, роль вождя китайского крестьянства должна неминуемо попасть в руки китайского пролетариата и его партии»[1481]. На первых порах они должны решить задачи буржуазно-демократического этапа революции (конфискация помещичьих земель, устранение господства удельных феодалов-милитаристов), но затем перейти к «национализации наиболее важных фабрик и заводов».
 Цай Хэсэнь был одним из основателей компартии Китая и в середине 1920-х годов являлся представителем КПК в Исполкоме Коминтерна
1920-е
[Из открытых источников]
Цай Хэсэнь был одним из основателей компартии Китая и в середине 1920-х годов являлся представителем КПК в Исполкоме Коминтерна
1920-е
[Из открытых источников]
Выступление генсека на китайской комиссии Седьмого пленума ИККИ 30 ноября 1926 года было опубликовано отдельной статьей «О перспективах китайской революции». Он призывал КПК овладеть командными постами в революционной армии и ставить перед собой задачу перехода «к некапиталистическому или, точнее, к социалистическому развитию Китая», не раскрывая детально, что под этим подразумевается[1482]. Вопрос о создании крестьянских Советов, который ставили отдельные эксперты по китайскому вопросу, был снят с повестки дня как преждевременный. Докладчик остудил горячие головы в экспертном сообществе Коминтерна, для которых ортодоксальный марксизм сводился к перенесению в Китай опыта Российской революции: нет никаких оснований исходить из того, что «у китайцев должно повториться точь-в-точь то же самое, что имело место у нас в России в 1905 году». Выступая в унисон с Бухариным, Сталин сделал ставку на постепенность преобразований, логика которых сама по себе приведет массы к постановке социальных задач. «Из его выступления становилось ясно, что тот идеал, который сложился у него в предшествующий период, лишь временно отодвинулся в будущее». Однако путь к нему, нацеленный на вытеснение из национально-освободительного движения потенциальных союзников коммунистов, «резко контрастировал с ленинской теорией антиколониальных революций»[1483]. Сталин участвовал в редактировании текста резолюции пленума по китайскому вопросу, которая была принята на заседании 16 декабря. В ней был провозглашен подразумевавшийся и ранее стратегический курс на социалистическую перспективу, т. е. установление диктатуры пролетариата и крестьянства. Однако без открытого разрыва с Гоминьданом это была иллюзорная перспектива — последний «не мог и не собирался отказаться от суньятсеновской доктрины национальной революции в пользу революции рабоче-крестьянской, так же как коммунисты не могли отказаться от идей классовой борьбы в пользу классового мира»[1484]. Но Коминтерн, следуя указаниям Москвы, продолжал настаивать на участии коммунистов как в национальной, так и в рабоче-крестьянской революции в Китае. По инициативе Сталина Политбюро 3 марта 1927 года вновь подчеркнуло необходимость всемерно маскировать финансовую и политическую помощь Москвы китайским коммунистам, вплоть до цензуры центральных газет и создания особой коммерческой структуры, которой поручалось заняться отправкой в Китай оружия[1485]. К этому моменту Национально-революционная армия установила свой контроль над центральными провинциями страны, что привело к заметному подъему массовых крестьянских выступлений в долине реки Янцзы. Однако эти успехи привели к поляризации сил внутри Гоминьдана и даже заявлению Чан Кайши, что он готов подчиниться новому составу Уханьского правительства. Как выяснилось вскоре, это была лишь временная уступка левому крылу и искусный обманный ход, незаметный из далекой Москвы.
 Лев Михайлович Карахан
1920-е
[Из открытых источников]
Лев Михайлович Карахан
1920-е
[Из открытых источников]
Генсек с удвоенной силой обратился к анализу китайской революции. Вместе с Бухариным и Л. М. Караханом он подготовил телеграмму для ЦК КПК, в которой партии предлагалось воздерживаться от любых действий, способных спровоцировать репрессии со стороны Гоминьдана[1486]. Выступая на московском партактиве 5 апреля 1927 года, он провел интересные параллели между российской и китайской революциями. Во втором случае мы имеем дело не только с буржуазно-демократической, но и национально-освободительной революцией, а посему сравнение Чан Кайши с Керенским или Церетели неуместно. Если в Октябре большевики свергли Временное правительство, то в Китае «выкидывать министров-капиталистов скоро нельзя. Поэтому горячие речи Радека загубят революцию. Против Китая империалисты стеной, и кто этого не понимает, тот ошибается». Генсек уверял собравшихся в том, что у ВКП(б) «каналов воздействия на Гоминьдан достаточно. Мы не будем подчеркивать своей руководящей роли. Кричать нечего»[1487]. После «кровавой бани» в Шанхае, устроенной верными Чан Кайши войсками неделей позже, Сталин вынужден был отказаться от иллюзий в отношении его «приручения», но продолжал настаивать на том, что следует вести дело к внутреннему расколу Гоминьдана, противопоставляя военной верхушке его левое крыло. Оно контролировало значительную территорию Китая и располагалось в Ухане, где коммунисты все еще могли действовать легально. В таком духе были выдержаны тезисы Сталина для пропагандистов, одобренные Политбюро и сразу же опубликованные «Правдой»[1488]. Переворот Чан Кайши поставил под вопрос всю китайскую политику ВКП(б) и Коминтерна, не оставив места для громких заявлений о единстве антиимпериалистических сил в стране. Вместо тезисов Зиновьева, посвященных апрельским событиям в Китае, партии был представлен ответ Политбюро на них, подготовленный Сталиным в мае. В нем перечислялись ошибочные положения тезисов, а также подчеркивался тот факт, что на Седьмом пленуме ИККИ оппозиция вообще не представила своей платформы по китайскому вопросу. Генсек продолжал настаивать на том, что «антиимпериалистический характер китайской революции является базой существования Гоминьдана», а «наличие в данный момент единого фронта империалистов в Китае создает громадные трудности для китайской революции, замедляет темп ее развития». Переворот Чан Кайши означает не поражение революции как таковой, а «поворот от революции общенационального объединенного фронта к революции аграрной» с центром в Ухане, т. е. символизирует отход национальной буржуазии от революционного процесса[1489]. Сталинский тезис о «двух Гоминьданах» — буржуазном и крестьянском — отдавал должное марксистской ортодоксии, однако в гораздо большей степени выглядел схоластикой, характерной для левых радикалов вообще. Споры о том, чья позиция в китайском вопросе была «левее», являются беспредметными, потому что и сталинское большинство, и объединенная оппозиция не предлагали китайским коммунистам перспективы борьбы, опирающейся на реальную расстановку сил в лагере национальной революции.
 Ответ Политбюро на зиновьевские тезисы был дополнен специальным письмом, адресованным в Исполком Коминтерна, в котором шла речь о письмах и статьях оппозиционеров, направленных руководящим инстанциям разного профиля за последний месяц. В письме подчеркивалось, что все эти документы носят ярко фракционный характер, а заявления о гибели китайской революции призваны прикрыть «гибель одной маленькой фракции, фракции Зиновьева и Троцкого, обанкротившейся на глазах у всех»[1490]. Сохраняя внешнюю лояльность международному центру коммунистического движения, письмо не столько информировало ИККИ о реальном положении дел в партийном руководстве, сколько навязывало Коминтерну ту точку зрения на оппозицию, которую продвигало сталинское большинство.
Речь И. В. Сталина на заседании Восьмого пленума ИККИ по китайскому вопросу была полна выпадов против Л. Д. Троцкого: «Он напоминает больше актера, чем героя»
24 мая 1927
[РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 1006. Л. 98]
Ответ Политбюро на зиновьевские тезисы был дополнен специальным письмом, адресованным в Исполком Коминтерна, в котором шла речь о письмах и статьях оппозиционеров, направленных руководящим инстанциям разного профиля за последний месяц. В письме подчеркивалось, что все эти документы носят ярко фракционный характер, а заявления о гибели китайской революции призваны прикрыть «гибель одной маленькой фракции, фракции Зиновьева и Троцкого, обанкротившейся на глазах у всех»[1490]. Сохраняя внешнюю лояльность международному центру коммунистического движения, письмо не столько информировало ИККИ о реальном положении дел в партийном руководстве, сколько навязывало Коминтерну ту точку зрения на оппозицию, которую продвигало сталинское большинство.
Речь И. В. Сталина на заседании Восьмого пленума ИККИ по китайскому вопросу была полна выпадов против Л. Д. Троцкого: «Он напоминает больше актера, чем героя»
24 мая 1927
[РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 1006. Л. 98]
Во время пребывания в летнем отпуске на Кавказе Сталин вел активную переписку с «друзьями в Политбюро», его письма являются уникальным источником для реконструкции его взглядов по китайскому вопросу. «В этих письмах, по сути дела, была уже сформулирована общая концепция нового этапа китайского революционного процесса. Сталин охарактеризовал его как этап, носящий по-прежнему буржуазный характер, согласившись признать только частичное поражение революции»[1491]. Он шаг за шагом сдвигался влево, перенимая установки оппозиции, которая в конце июня выставила требование немедленного ухода КПК из Гоминьдана и выдвижения лозунга рабочих, крестьянских и солдатских Советов[1492]. Хотя этот процесс сопровождался зубодробительными обвинениями в адрес Зиновьева и Троцкого (последнего генсек собирался отправить в Японию — пока еще полпредом[1493]), верные генеральной линии партийцы все меньше понимали, в чем же состоит различие между линией большинства и оппозицией. Генсек до последнего держался за идею раскола Гоминьдана, хотя и признавал серьезную угрозу того, что его левое крыло, базировавшееся в Ухане и продолжавшее сотрудничать с коммунистами, подчинится требованиям из ставки Чан Кайши, находившейся в Нанкине, и это будет равнозначно контрреволюционному перевороту. «Нужно всемерно настаивать на неподчинении Уханя Нанкину, пока есть возможность настаивать… Уверяю, что стоит из-за этого отдать Уханю лишних 3–5 миллионов, лишь бы иметь заручку, что Ухань не сдается на милость Нанкину и деньги не пропадут даром»[1494]. Когда писались эти строки, судьба уханьских коммунистов уже была предрешена — Национальное правительство пошло на союз с Чан Кайши, что было оформлено соглашением 15 июля 1927 года. Вопрос о сотрудничестве КПК и Гоминьдана тем самым был снят с повестки дня. Финансовые субсидии и поставки оружия давно уже стали одним из главных рычагов продвижения вперед мировой пролетарской революции даже в отсталых странах, где пролетариат (как и в России 1917 года) не составлял большинства населения. Коминтерн в данном случае выступал лишь посредником и передатчиком, не имея в своем распоряжении серьезных материальных ресурсов. В своих письмах, адресованных Молотову и Бухарину, Сталин готовил почву для того, чтобы возложить всю ответственность за очередное поражение на уханьское правительство и лидеров КПК, отведя удар от себя и своей группы в руководстве ВКП(б). Досталось только советникам, работавшим в Китае: Бородина, якобы проспавшего предательство Чан Кайши, сменил Ломинадзе, которого многие в тот момент считали любимчиком вождя[1495]. При этом генсек по-прежнему настаивал на продолжении работы КПК «на периферии», т. е. в местных организациях Гоминьдана[1496]. Вскоре, получив новые материалы о китайских событиях, он признал нереалистичность такой перспективы: компартии придется пройти ту же полосу испытаний, что и большевикам в период между революциями 1905 и 1917 годов — «подполье, аресты, избиения, расстрелы, измены в своей среде, провокации». Сталин выражал сомнения в том, что нынешнее руководство КПК сможет пережить этот период, поскольку оно до сих пор не приучено к «железной дисциплине» большевистского типа. Кроме того, «в ЦК нет ни одной марксистской головы, способной понять подоплеку (социальную подоплеку) происходящих событий». При этом генсек сохранял коминтерновскую логику взаимоотношений центра и национальных секций, предлагая отправить в Китай новую группу советников, которые станут своего рода чрезвычайными комиссарами во всех структурах партийного аппарата. «Эти „няньки“ необходимы на данной стадии ввиду слабости, бесформенности, политической аморфности и неквалифицированности нынешнего ЦК. ЦК будет учиться у партсоветников. Партсоветники будут восполнять громадные недочеты ЦК КПК и его областных верхушек. Они же послужат (пока что) гвоздями, скрепляющими нынешний конгломерат в партию»[1497]. В этих словах слышны отзвуки Гражданской войны, выигранной большевиками, именно таким образом насаждалась советская власть на национальных окраинах огромной страны, именно по такой логике действовал Наркомат по делам национальностей, который в то время возглавлял сам Сталин. Он так и не смог решить задачу, казавшуюся неразрешимой: самому заниматься вопросами китайской революции, неизбежно продвигаясь «от поражения к поражению», или предоставить эту неблагодарную работу другим, что тоже грозило потерей авторитета и влияния. Летом 1927 года «китайская политика оставалась самым большим источником беспокойства для Сталина… Коминтерн дал разрешение на проведение в Китае ряда вооруженных выступлений, которые в дальнейшем были названы „восстаниями осенней жатвы“. Троцкий критиковал Сталина за то, что тот полагал, будто китайская буржуазия способна встать во главе революции, в то время как та замышляла контрреволюцию»[1498]. И вся эта неразбериха усугублялась волюнтаристскими лозунгами вроде курса на образование в стране рабоче-крестьянских Советов. По возвращении из отпуска в Москву Сталин разъяснял своему эмиссару, что призыв к образованию Советов и агитация за них — не одно и то же. «Вы не поняли директиву. Мы не предлагали создание советов, мы говорили лишь о пропаганде идеи советов. Наш практический лозунг состоит в воссоздании революционного Гоминьдана вместе с коммунистами и организации надежной армии вокруг такого Гоминьдана»[1499]. Под подобной интерпретацией советских лозунгов мог бы подписаться и Троцкий, хотя она и в таком виде не соответствовала реальному соотношению сил в революционном Китае. Ввиду отсутствия общепризнанной центральной власти в стране следовало устраивать попытки вооруженного захвата власти в крупных городах, превращая их в «советские районы». В целях конспирации и для личной подстраховки Сталин предпочел не проводить данную линию через Политбюро, а давать устные инструкции доверенным лицам, главным из которых осенью 1927 года стал Ломинадзе. Через него китайские коммунисты получили явно запоздавшее распоряжение о выходе из Гоминьдана. Революция, начавшаяся в стране еще в 1912 году и стоившая китайскому народу огромных жертв, закончилась.
6.7. Сталин и Бухарин — вместе или порознь?
Первые искры непонимания внутри «дуумвирата» пришлись на рубеж 1927–1928 годов и были связаны с очевидными провалами китайской политики Коминтерна. Бухарин почувствовал, что его партнер все более активно вмешивается в сферу деятельности международной организации коммунистов, в которой он сам начинал чувствовать себя хозяином. Без его участия эмиссары Сталина в дни работы Пятнадцатого съезда ВКП(б) устроили в китайском Кантоне вооруженное выступление. Фактически это была первая попытка реализовать на практике установку на переход к советскому этапу революции, которую сталинское большинство перехватило у оппозиционеров. Социал-демократическая печать западных стран писала о том, что кантонское восстание было задумано как «подарок съезду»[1500]. Оно было дилетантски подготовлено и началось стихийно, не имея ни осмысленного плана, ни достаточной материальной базы. Спустя пару дней вооруженные бои, стоившие жизни нескольким тысячам революционеров, закончились. Кантонское восстание было жестоко подавлено, вызвав новую волну антикоммунистических репрессий по всему Китаю. Пришло время поиска виновных в разгроме кантонских рабочих. Ломинадзе, чувствуя расположение Сталина, руководствовался известным принципом: лучшая оборона — это наступление. Вместо покаяния он начал критиковать некий «правый уклон» руководителей Коминтерна в китайском вопросе, имена пока не назывались, но всем посвященным было очевидно, что речь идет о бухаринской оценке кантонского восстания как путча. Бухарин не остался в долгу и в ходе Девятого пленума ИККИ выступил с критикой левацких настроений во вверенном ему ведомстве, так же не называя имен. Ситуация накалилась настолько, что Ломинадзе подал заявление с просьбой освободить его от работы в Коминтерне, поскольку он не согласен с проектом резолюции, но выступать против решений собственной партии считает для себя невозможным[1501]. Заявление В. В. Ломинадзе в китайскую комиссию Девятого пленума ИККИ с правками И. В. Сталина
24 февраля 1928
[РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 2. Д. 71. Л. 1]
Заявление В. В. Ломинадзе в китайскую комиссию Девятого пленума ИККИ с правками И. В. Сталина
24 февраля 1928
[РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 2. Д. 71. Л. 1]
Сталин оказался в выгодном положении «третьего радующегося». Нападки левацки настроенной молодежи (в дискуссию включился и представитель КИМ Шацкин) на Бухарина возвышали его над схваткой, позволяли выступить в роли верховного арбитра, как когда-то поступал Ленин. Не давая в обиду своего выдвиженца, генсек лично поправил формулировки заявления Ломинадзе в сторону смягчения: «Ввиду этого отказываюсь от своего права защищать свои взгляды как в комиссии, так и на пленуме. Само собой понятно, что я обязуюсь без оговорок поддерживать решения ЦК ВКП(б) и ИККИ по китайскому вопросу и проводить их в жизнь»[1502]. Проект резолюции пленума по китайскому вопросу готовился в секретариатах Бухарина и Сталина, хотя при внесении документа на обсуждение в «русскую делегацию» их подписи были сняты. Согласно записке своего секретаря И. П. Товстухи, Сталин особо очертил военный аспект работы КПК: «ИККИ считает, что главной задачей партии в советизированных крестьянских районах является проведение аграрной революции и организация частей Красной Армии в расчете, что эти части будут постепенно объединяться потом в одну общую всекитайскую Красную Армию»[1503]. После одобрения Политбюро резолюция была практически слово в слово принята пленумом, породив еще один гнилой компромисс. В ней не содержалось ни свежих политических оценок, ни серьезного разбора кантонских событий[1504]. «В сравнении с обычными в таких случаях наказаниями, пленум Коминтерна поступил с Ломинадзе и Нейманом довольно мягко, что можно объяснить покровительством Сталина. Главная вина за поражение в Китае на этом заседании, само собой разумеется, была возложена на руководство КПК. Однако в Москве хорошо понимали слабость подобных объяснений, становившихся богатой почвой для контраргументов партийной оппозиции»[1505]. Вторым спорным пунктом в ходе пленума стали проблемы германской компартии. К ней у большевиков было особое отношение — Германия считалась образцовой страной организованного рабочего движения, а после поражения в Первой мировой войне — к тому же и «полигоном мировой революции»[1506]. Традицией, заложенной еще при Ленине, являлись встречи делегаций двух партий на конгрессах и пленумах Коминтерна, в ходе которых обсуждались не только внутренние проблемы КПГ, но и общее видение международных перспектив. Со второй половины 1920-х годов. Сталин неизменно участвовал в этих встречах[1507], а во время Девятого пленума собственноручно написал ее резолюцию. Поддерживая группу Тельмана в руководстве КПГ и размышляя о перспективах борьбы за лидерство в собственной партии, генсек в первый пункт этого документа внес «правую опасность», равно как и примиренческое отношение к ней. «Только на основе этой линии могут и должны быть созданы действительное единство руководства и действительная концентрация революционных сил в партии»[1508]. Несмотря на то, что в резолюции было употреблено слово «концентрация», на самом деле его толкование было совершенно иным, нежели то, что было дано Эссенским съездом КПГ в марте 1927 года. В Эссене под «концентрацией» подразумевалось объединение в партийном руководстве всех фракций и течений, признающих коммунистическую платформу, поиск компромиссов и недопущение претензий на единоличную власть. Особых успехов эта тактика не принесла, и под давлением Тельмана (а также стоявшего за ним Неймана) Сталин предложил вернуться к опробованному в последние годы внутрипартийной борьбы методу «отсечений». Понятие «правая опасность» в зарубежных компартиях было настолько размытым, что под него можно было подвести любое инакомыслие, бросавшее вызов поддерживаемому Москвой лидеру. Проблема заключалась в том, что эссенская тактика подразумевала сохранение в руководстве КПГ старых кадров со «спартаковским» прошлым, которых пытались отодвинуть на второй план вожди нового поколения. Так, в ходе встречи двух делегаций было решено, что ни Брандлер, ни Тальгеймер не будут выдвинуты в качестве партийных кандидатов на предстоявших выборах в рейхстаг.
 Схема программы Коминтерна, предложенная И. В. Сталиным
Март 1928
[РГАСПИ. Ф. 493. Оп. 1. Д. 42. Л. 87]
Схема программы Коминтерна, предложенная И. В. Сталиным
Март 1928
[РГАСПИ. Ф. 493. Оп. 1. Д. 42. Л. 87]
Однако именно «спартаковцы» являлись идейно и лично близкими Бухарину, который видел в них гарантию сохранения связи КПГ не только с радикально настроенными рабочими, но и с левой интеллектуальной элитой Германии. Артур Эверт, Эрнст Мейер, Клара Цеткин оставались к 1928 году в орбите КПГ, несмотря на все предшествовавшие чистки и гонения. Кстати, последняя была единственным участником встречи, который воздержался при голосовании сталинской резолюции. Мы не знаем, о чем думал Бухарин, голосуя за нее, но эта резолюция сыграет в его политической биографии роковую роль.
6.8. Сталинские акценты программы Коминтерна
Пауза, последовавшая за столкновением членов «дуумвирата» по китайскому и немецкому вопросам в ходе Девятого пленума ИККИ, была связана с тем, что Бухарин в середине марта решением Политбюро был освобожден от текущих дел для того, чтобы он мог сосредоточиться на подготовке нового проекта программы Коминтерна и как можно скорее завершить эту работу. Стремясь сохранить лояльность и устранить возможные недоразумения, он сразу же обратился к Сталину: «Я должен поговорить с тобой на днях относительно Программы КИ, твоих замечаний, желаний, требований и т. д. и т. п.»[1509]. Очевидно, такая встреча не состоялась, поскольку генсек направил членам Политбюро, отвечающим за подготовку программы, развернутый комментарий, датированный 24 марта 1928 го-да[1510]. «Я думаю, что придется заново написать программу», — писал он, подразумевая, что ее проект, подготовленный четыре года назад, уже не соответствует ни трендам мирового развития, ни потребностям самого Коминтерна. Сталин соглашался с тезисом о неизбежности военных конфликтов как ключевого показателя обострения мирового кризиса капитализма, что впоследствии будет поставлено Бухарину в вину. В его комментарии на первый план выдвигалось установление советской власти и социалистическое строительство в России. Сталинская схема построения программы прочно привязывала международное коммунистическое движение к Советскому Союзу. Даже во вводной части, где предполагалось дать анализ современного империализма, кульминацией выступала формулировка «наличие СССР — органический кризис мировой капиталистической системы»[1511]. Если у Бухарина еще оставались надежды на мировую пролетарскую революцию в ее классическом понимании, то Сталину был нужен документ для внутреннего пользования, призванный лишний раз подчеркнуть уникальность социалистического эксперимента в Советском Союзе. В аппарате последнего была составлена схема будущей программы мирового коммунизма, в котором центральное место занимал следующий пункт: «Политика и экономика СССР, его революционное значение; обязанности пролетариата СССР в революционной борьбе других стран и наоборот»[1512]. Вторая и третья часть программы, по его мысли, должны были содержать характеристику «мировой коммунистической системы хозяйства» и периода после победы пролетарской революции. И вновь на первом месте оказался Советский Союз: при характеристике «переходного периода в тех или иных странах следует говорить не о переходе от капитализма к социализму вообще, а о переходе при наличии диктатуры пролетариата в одной из стран, т. е. в нашей стране». У такого подхода нашлись и противники, которые имели возможность познакомиться со сталинским письмом: «Принимая специальный раздел об СССР в программе, мы с одной стороны, слишком суживаем его значение и, с другой — ограничиваем программу во времени, так как значение СССР изменится немедленно после захвата власти в двух-трех решающих странах, когда все остальные разделы программы еще останутся в полной силе. Помимо этого, на программу будет наложен сугубо „русский“ отпечаток. Этого нужно избежать»[1513]. Мартовские предложения генсека Бухарин интегрировал в свой проект, который был датирован 3 апреля 1928 года. На него Сталин уже не дал развернутых замечаний, ограничившись пометками на полях. Так, он просил разъяснить в тексте «причины живучести» социал-демократии и вновь предложил подчеркнуть, что «СССР — как зародыш и прообраз будущего объединения (политического) народов в Мировом Союзе Советских Социалистических Республик», так и основа будущего «единого мирового коммунистического хозяйства»[1514].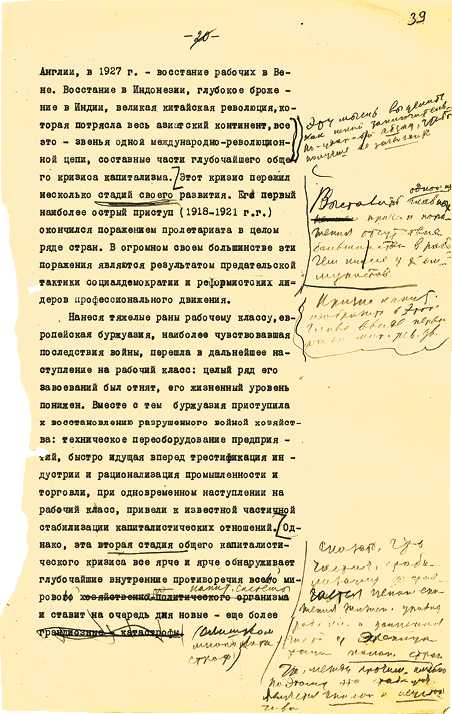
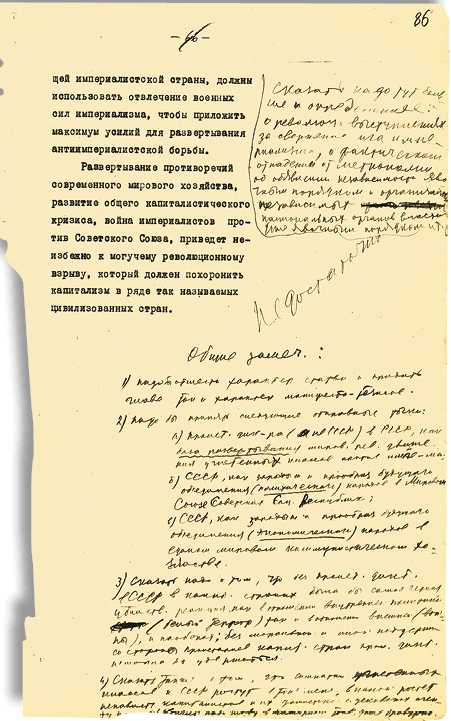 И. В. Сталин тщательно правил проект программы Коминтерна, подготовленный Н. И. Бухариным
Апрель 1928
[РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 136. Л. 39, 86]
И. В. Сталин тщательно правил проект программы Коминтерна, подготовленный Н. И. Бухариным
Апрель 1928
[РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 136. Л. 39, 86]
Дальнейшее обсуждение проекта должно было вестись в узком кругу лидеров ВКП(б), включенных в программную комиссию. В нее не вошел Ломинадзе, но именно ему Сталин направил проект с просьбой срочно дать свои критические замечания. В тот момент Ломинадзе все еще находился в Берлине, но не отреагировать на просьбу своего покровителя, конечно, не мог. Его пространные комментарии корректировали проект программы слева, подчеркивая в противовес бухаринской теории «врастания в социализм» конфликтный характер этого процесса. Тезис о том, что «система военного коммунизма для важнейших стран Европы ввиду существования СССР становится менее вероятной», был полностью отвергнут. Напротив, подчеркнул Ломинадзе, «правильным будет как раз обратный вывод: и гражданская война, и интервенция со стороны всего капиталистического мира будут носить для первых советских республик в Западной Европе гораздо более ожесточенный характер, чем это было в СССР»[1515]. Сталин возвел своего выдвиженца едва ли не в ранг придворного теоретика, заявив в ответном письме Ломинадзе, что «был приятно поражен» его замечаниями, хотя и поспорил с явно левацким тезисом о том, что в наиболее развитых странах рыночные отношения безболезненно отомрут сразу после победы пролетариата. В сопроводительном письме берлинский адресат просил генсека ознакомиться с его критическим комментарием «лично и не показывать его никому». Очевидно, что в устах Ломинадзе речь могла идти только о соавторе программы — Бухарине. И здесь Сталин предпочел усилить давление на последнего, предоставив тому копию замечаний. Одновременно он сообщил Ломинадзе, что сделал это «во-1) потому, что скрывать тут нечего, и во-2) потому, что Бухарин знал о том, что Вы пишете замечания». Закрутив таким образом типичную для себя интригу, генсек одновременно подсластил пилюлю, которую пришлось проглотить его выдвиженцу, подчеркнув, что «Ваши замечания, 9/10 из них, учтены как правильные по существу и вполне уместные с точки зрения архитектоники»[1516]. Все это запрограммировало дальнейшее обострение конфликта между Ломинадзе и Бухариным, которое достигло своего апогея в кулуарах Шестого конгресса Коминтерна. Генсек же продолжал оставаться в комфортном положении «третьего радующегося».
 Опубликованный проект программы Коминтерна с пометками И. В. Сталина
25 мая 1928
[РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 173. Л. 153]
Опубликованный проект программы Коминтерна с пометками И. В. Сталина
25 мая 1928
[РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 173. Л. 153]

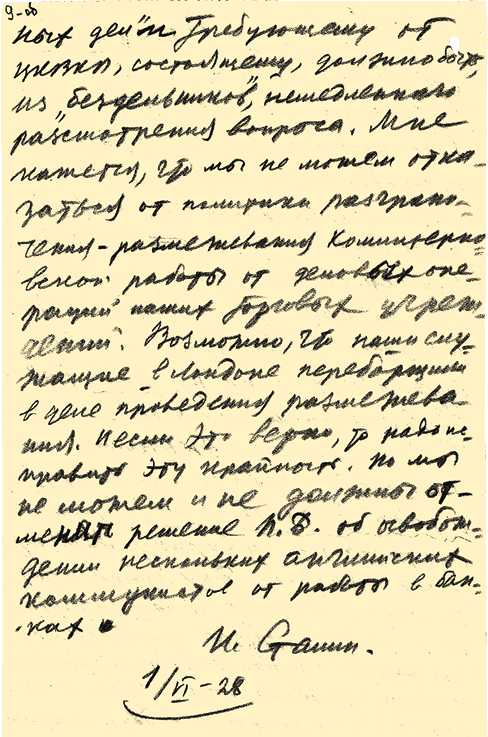 «Записку Поллита считаю недопустимой»
Письмо И. В. Сталина членам Политбюро ЦК ВКП(б)
1 июня 1928
[РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 290. Л. 9–9 об.]
«Записку Поллита считаю недопустимой»
Письмо И. В. Сталина членам Политбюро ЦК ВКП(б)
1 июня 1928
[РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 290. Л. 9–9 об.]
Так или иначе, разница в подходах и оценках соавторов программы Коминтерна не была столь значительной, чтобы стать главным катализатором раскола в «дуумвирате». Весной 1928 года таковым являлся вопрос о сохранении нэповских принципов во взаимоотношениях государства и крестьянства[1517]. Впрочем, для Сталина не существовало мелочей. В мае 1928 года разгорелся очередной советско-английский конфликт вокруг нелегального финансирования компартии Великобритании через представительство Московского народного банка в Лондоне. Лидер партии Гарри Поллит попытался заступиться за нескольких своих товарищей, работавших в советских загранучреждениях и спешно уволенных, чтобы затушить скандал. О его письме стало известно генсеку, и он в неожиданно жестком тоне высказался по этому не слишком значительному поводу. Подобные выговоры в отношении иностранных коммунистов были нередки, но здесь Сталин обрушился на своих ближайших соратников: «Меня поражает поведение Бухарина и Пятницкого, которые не нашли нужным дать отповедь зарвавшемуся хулителю СССР и нашей партии, не имеющему, оказывается, возможности подождать с вопросом ввиду „неотложных дел“ и требующему от ЦК ВКП, состоящему, должно быть, из „бездельников“, немедленного рассмотрения вопроса»[1518]. Вопрос о том, что здесь доминировало — сталинская природная раздражительность или хладнокровный расчет прожженного политика — остается открытым. Но вернемся к проекту программы Коминтерна. 7 мая 1928 го-да этот документ за подписями Бухарина и Сталина был опросом одобрен членами Политбюро, а затем внесен на рассмотрение Исполкома Коминтерна. Хотя документ такого масштаба до принятия на конгрессе требовал предварительного обсуждения на съездах «национальных секций» (одной из которых являлась и сама партия большевиков), времени для этого уже не было. Не было и готовности вести открытые дискуссии по принципиальным вопросам, которая отличала атмосферу первых конгрессов Коминтерна. Срочно созванная Президиумом ИККИ программная комиссия уже не имела ни времени, ни политической смелости для серьезной проработки проекта. Сталин не появился ни на одном из трех ее заседаний. Вызванные из-за границы члены комиссии не получили возможности внимательно прочесть представленный им объемистый документ, еще не переведенный на иностранные языки, и были вынуждены довериться авторитету лидеров российского большевизма. Их поправки носили редакционно-дополняющий характер, не затрагивая ни структуры, ни основных положений проекта, подписанного Сталиным и Бухариным[1519]. 25 мая он был одобрен и вскоре опубликован в журнале «Коммунистический Интернационал». Собранные в архиве ИККИ материалы последующей общественной дискуссии, развернутой в Советском Союзе, показывают, что она также носила формальный характер. Ее участники, в большинстве своем преподаватели общественных дисциплин или ученые-марксисты, четко представляли себе рамки допустимого: «Проект отдает злободневностью, местами он скорее напоминает передовицу „Правды“, чем проект программы мировой коммунистической партии. В проекте слишком малое место занимает опыт революций других стран, кроме СССР»[1520]. Содержательная дискуссия по программе Коминтерна состоялась только на июльском пленуме ЦК ВКП(б). В центре внимания его участников стоял вопрос об оценках нэпа, данных в документе, а также о месте «русского примера» в стратегии современного коммунистического движения. К этому моменту Сталин сознательно пошел на раздувание классовой борьбы в деревне, пытаясь силовыми методами преодолеть кризис хлебозаготовок. Для их оправдания ему нужен был тезис о неизбежном обострении социальных конфликтов в процессе социалистического строительства. У Бухарина можно было прочитать нечто прямо противоположное: «…в период пролетарской диктатуры классовая борьба принимает в значительной мере характер экономической борьбы конкурирующих между собой хозяйственных форм, которые в известный период могут расти параллельно». Фактически речь шла о превентивных аргументах против сталинского курса на насильственную коллективизацию, апробация которого началась уже зимой 1927/1928 года. Проект подчеркивал: «Особое внимание и крайнюю осторожность должен проявлять пролетариат в области, касающейся отношений между городом и деревней, отнюдь не подрывая индивидуалистического мотива деятельности у крестьян и постепенно — путем примера и поддержки коллективных форм сельского хозяйства — заменяя эти мотивы мотивами товарищеского хозяйствования»[1521]. Обецитаты содержались в первоначальном варианте программы, подготовленном в секретариате Бухарина, но исчезли из проекта, одобренного Политбюро и направленного в ИККИ. Сталин чувствовал силу своего аппарата и был готов пойти на открытый конфликт в Политбюро, в то время как Бухарин шаг за шагом отступал, загипнотизированный фетишем единства партии.
 М. И. Калинин, В. М. Молотов и Н. А. Угланов
Декабрь 1927
[РГАСПИ. Ф. 56. Оп. 2. Д. 58. Л. 93]
М. И. Калинин, В. М. Молотов и Н. А. Угланов
Декабрь 1927
[РГАСПИ. Ф. 56. Оп. 2. Д. 58. Л. 93]
В коминтерновской прессе против взгляда на Советский Союз как на «важнейшую составную часть международной социалистической революции» выступила Клара Цеткин, справедливо заметившая, что ее главный потенциал сосредоточен в странах, где эта революция еще не произошла[1522]. Венгр Евгений Варга на заседании программной комиссии ИККИ говорил о том же самом: «Нам следует формулировать так, чтобы на первом плане оказался не Советский Союз, а страна пролетарской диктатуры»[1523]. Среди участников июльского пленума ЦК ВКП(б) нашлись люди, готовые поддержать иностранных коммунистов. В. В. Осинский, принимавший активное участие в доработке проекта, попытался дать более мягкое толкование проблемы: «Если говорят о русском характере программы, то я скажу — политически „русской“ она не является, но она, может быть, является „московской“ с точки зрения того, что мы не видим отсюда некоторых новых явлений, развивающихся далеко отсюда»[1524].
 А. И. Рыков, М. П. Томский и М. И. Калинин
Декабрь 1927
[РГАСПИ. Ф. 56. Оп. 2. Д. 58. Л. 93]
А. И. Рыков, М. П. Томский и М. И. Калинин
Декабрь 1927
[РГАСПИ. Ф. 56. Оп. 2. Д. 58. Л. 93]
В своей речи на пленуме Сталин поставил все точки над «i». В кулуарах говорят о слишком русском характере программы Коминтерна. «А что может быть в этом плохого? Разве наша революция является по своему характеру национальной и только национальной революцией, а не революцией интернациональной по преимуществу? Почему же мы называем ее в таком случае базой мировой революции, рычагом революционного развития всех стран, отечеством мирового пролетариата? У нас были люди, например, наши оппозиционеры, которые считали революцию в СССР исключительно, или главным образом, национальной революцией. Они сломали себе шею на этом. Странно, что имеются, оказывается, около Коминтерна люди, готовые идти по стопам оппозиционеров»[1525]. Фактически это означало административный запрет дальнейшей дискуссии накануне Шестого конгресса Коминтерна — вряд ли кто-то из членов ЦК ВКП(б) рискнул бы навлечь на себя подозрения в связях с троцкистами. В последние недели перед его открытием Бухарин находился на грани нервного срыва, но все же удержался от того, чтобы бросить открытый вызов сталинской фракции. Июльский пленум показал, что группа партийных лидеров, к которой вместе с ним принадлежали А. И. Рыков, М. П. Томский и Н. А. Угланов, не разделяет курс на насильственную экспроприацию крестьянства, хотя и не решается идти на открытый конфликт с большинством Политбюро. Сталин, напротив, использовал любую возможность для того, чтобы дискредитировать своих потенциальных противников, исподволь готовя для них ярлык «правого уклона».
6.9. Шестой конгресс
16 июля 1928 года, накануне открытия шестого по счету конгресса Коминтерна, делегация ВКП(б) приняла за основу тезисы о международном положении и тактике коммунистов, подготовленные Бухариным. Однако уже на следующий день было решено еще раз обсудить этот документ и внести в него необходимые поправки. Началась игра в кошки-мышки. Сопоставление изначального и пересмотренного проектов показывает, что утверждения Сталина о «довольно серьезных разногласиях по коренным вопросам политики Коминтерна»[1526] не соответствовали действительности. В этом и не было особой необходимости — любую мелочь можно было раздуть до гигантских размеров, снабдив ее ярлыком уклона или оппозиции.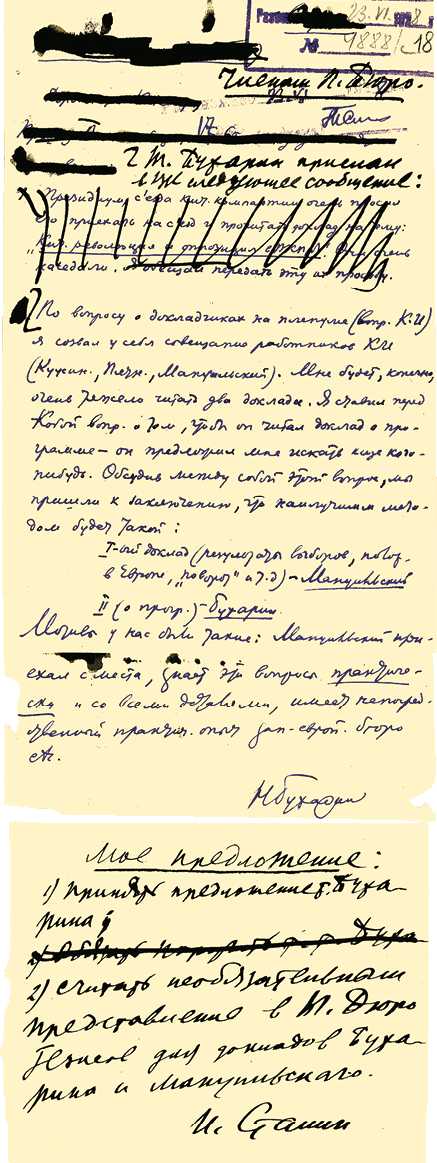 Накануне Шестого конгресса Сталин согласился с предложениями Бухарина о его главных докладчиках, особо подчеркнув, что им необязательно представлять свои тексты на утверждение Политбюро
Записка Н. И. Бухарина с предложениями И. В. Сталина
23 июня 1928
[РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 138. Л. 18]
Накануне Шестого конгресса Сталин согласился с предложениями Бухарина о его главных докладчиках, особо подчеркнув, что им необязательно представлять свои тексты на утверждение Политбюро
Записка Н. И. Бухарина с предложениями И. В. Сталина
23 июня 1928
[РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 138. Л. 18]
Уже после завершения конгресса генсек внимательно прочитал постановление столичных общественных организаций в поддержку коминтерновских решений: «В резолюцию Мосактива о VI конгрессе вкралась „ошибка“: там имеется фраза о „реконструктивном“ периоде капитализма в данный момент, фраза, вычеркнутая делегацией ВКП(б) из первоначальных тезисов Бухарина (с согласия Бухарина), а теперь воскресшая в резолюции Мосактива. Для чего это понадобилось? Разве так исполняют решения конгресса и делегации ВКП?»[1527] Сталин продолжал размышления вслух: тот, кто считает, что капитализм переживает полную стабилизацию, фактически возвращаясь в довоенные годы, сближается с реформистами, а значит, его можно обвинить в социал-демократическом уклоне — худшем из всех возможных коммунистических прегрешений. Не было осуждено Мосактивом и «примиренчество с правыми уклонистами как отрицательное явление», что также выглядело как скрытые козни врагов. Молотов умел читать директивы, написанные вождем между строк. Руководитель столичной партийной организации Угланов, считавшийся одним из самых надежных сторонников Бухарина, будет снят со своего поста через несколько недель.
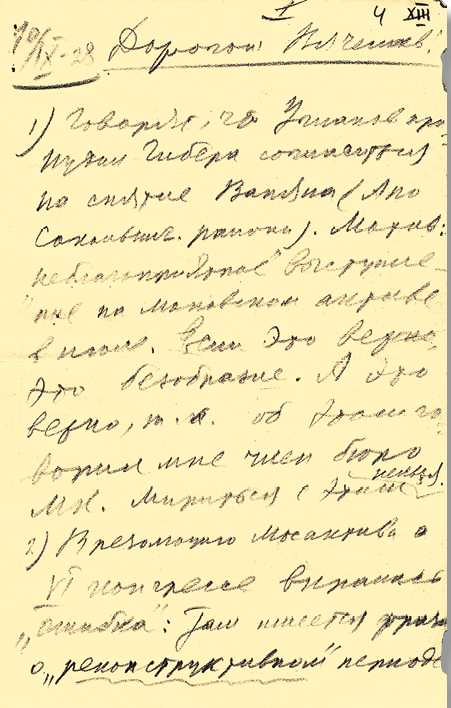
 Начав охоту на «правых», Сталин не упускал мелочей, заметив в резолюции Московского актива бухаринскую тональность
Письмо И. В. Сталина В. М. Молотову
10 сентября 1928
[РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 1421. Л. 4–9]
Начав охоту на «правых», Сталин не упускал мелочей, заметив в резолюции Московского актива бухаринскую тональность
Письмо И. В. Сталина В. М. Молотову
10 сентября 1928
[РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 1421. Л. 4–9]
Вновь, как и ранее в конфликте с Зиновьевым, генсек не упускал ни малейшего шанса для точечной дискредитации своего оппонента. Его рупором выступал председатель КПГ Тельман, с которым Сталин обстоятельно побеседовал 31 июля, одобрив его кадровую политику[1528]. Ввиду внутренних трений среди немецких участников конгресса было признано «считать необходимым, чтобы тов. Сталин повидался с тов. Эвертом»[1529], т. е. выслушал точку зрения противников группы Тельмана. Можно не сомневаться, что за этим решением «русской делегации» стоял Бухарин. Однако уже на следующем ее заседании данное решение было пересмотрено, в поправках к тезисам о международном положении шла речь о том, что Эверт не должен вмешиваться в дела руководства КПГ. Напротив, ради сохранения позиций Тельмана в германской партии Сталин высказался даже за то, чтобы не переводить на работу в Москву его сторонников в Политбюро ЦК КПГ[1530]. Среди иностранных делегатов множились слухи о новом расколе в стане большевиков: лидеры ВКП(б) почти не принимали участия в пленарных заседаниях конгресса. Бухарин выглядел чрезвычайно нервным, усталым и подавленным. На заседании делегации 25 июля, когда вновь была поднята история с тезисами о международном положении, он оправдывался уже почти как ответчик в суде. В роли прокурора выступал все тот же Ломинадзе, чувствовавший за собой поддержку сталинской фракции. Он потребовал внести в тезисы требование, никак не вытекавшее из реального положения дел на Западе, но позволявшее обвинить их автора в правом уклоне: начать «подготовку в связи с приближением нового революционного подъема в большинстве стран Европы к борьбе за диктатуру пролетариата». Дополнение, внесенное Сталиным, касалась Востока, но говорило о том же самом: «Полное освобождение Китая не может быть достигнуто без победы диктатуры пролетариата и крестьянства»[1531]. Новый вариант тезисов был роздан делегатам конгресса, чтобы они могли сличить его с первоначальной редакцией и увидеть, что же «пропустил» Бухарин. Стремясь раньше времени не выносить сор из избы, Сталин пошел на важную уступку — в сеньорен-конвент конгресса за подписями всех членов Политбюро было направлено заявление, в котором выражался решительный протест против инсинуаций о разногласиях в их среде. Подписавшиеся подчеркнули, что «считают своим долгом особенно предупредить против всякой спекуляции на этих слухах в вопросах Коминтерна, считая такую спекуляцию политически вредной и недостойной коммунистов»[1532]. Однако это не остановило интриги «коридорного конгресса». Ломинадзе, посвященный в сценарий вождя, не унимался. Он обвинил газету «Правда» (Бухарин являлся ее главным редактором) в том, что она полностью извратила его речь на пленарном заседании: «Все наиболее важные моменты из моего выступления на конгрессе переданы в таком изуродовано-сокращенном виде, что я бы с удовольствием отрекся от ее авторства»[1533]. В речи самого Бухарина он узрел нападки на себя лично («завтра весь конгресс будет знать, что носителем правой опасности являюсь я»), тщательно перечислив их в жалобе, направленной делегации ВКП(б) на конгрессе[1534].
 Иосиф Виссарионович Сталин
1927
[РГАСПИ. Ф. 56. Оп. 2. Д. 58. Л. 96]
Иосиф Виссарионович Сталин
1927
[РГАСПИ. Ф. 56. Оп. 2. Д. 58. Л. 96]
Чтобы погасить конфликт, выходивший из-под его контроля, генсек был вынужден пожертвовать своим выдвиженцем, отправив его на низовую работу в Нижегородскую область[1535]. Так закончилась коминтерновская карьера своевольного грузина, принявшего на себя роль легкой кавалерии и ставшего ненужным, когда на этом фронте в дело вступили политические тяжеловесы. «Мавр сделал свое дело, мавр может уйти». Он по инерции еще писал Сталину личные письма, демонстрируя свою революционную бдительность, так и не поняв, что она в новых условиях не востребована. В конце концов вождю это надоело, вместе с Молотовым он написал резкий отзыв на очередное разоблачение Ломинадзе — речь шла о партийной организации Института красной профессуры, который считался родовым гнездом бухаринской школы, а следовательно — «правого уклона». Авторы отзыва сочли неуместными ссылки на былые заслуги Ломинадзе, равно как и его претензии на идеологическую непогрешимость, а тон его письма расценили как «заносчиво-высокомерный». Сталин не выносил, когда кто бы то ни было, пусть даже косвенно, ставил себя рядом с ним. Далее бывший любимец вождя, не оправдавший его доверия, покатился по наклонной плоскости вниз. В 1935 году, накануне своего ареста Ломинадзе, работавший на тот момент в Магнитогорске, застрелился.


 Даже находясь в отпуске, Сталин внимательно следил за ходом конгресса Коминтерна, давая установки своим соратникам, остававшимся в Москве
Письмо И. В. Сталина В. М. Молотову
5 августа 1928
[РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 1420. Д. 200–201 об.]
Даже находясь в отпуске, Сталин внимательно следил за ходом конгресса Коминтерна, давая установки своим соратникам, остававшимся в Москве
Письмо И. В. Сталина В. М. Молотову
5 августа 1928
[РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 1420. Д. 200–201 об.]
Посетив первые заседания Шестого конгресса, Сталин отправился в отпуск на Кавказ, оставив своим заместителем Молотова[1536]. Чувствуя себя хозяином положения, генсек сам выбирал, чем и как ему заниматься. Но даже находясь вдали от Москвы, он держал руку на пульсе политических и кадровых решений в Коминтерне. Уже в первом письме из Сочи его соратник получил детальные инструкции по дальнейшему ведению конгресса, причем зарубежные делегаты выглядели в них замаскировавшимися врагами: «Обрати внимание на происходящее на VI конгрессе. Нельзя допускать, чтобы ускользнула от контроля бюро делегации ВКП хотя бы одна резолюция, хотя бы одно решение. Особая бдительность нужна в вопросах германской и польской партий: Эверты, Капсукасы и другие колеблющиеся, плюс поддерживающие их беспринципные „деятели“ могут испортить все дело, если не будешь глядеть в оба»[1537]. В этом же письме Сталин проявлял заботу о собственных кадрах: справлялся о настроении преданного ему Тельмана, с которым накануне отъезда провел обстоятельный разговор («Как дела с Тельманом? Доволен ли он?»), просил Молотова не отдавать на заклание «шибзикам» из аппарата ИККИ финна Куусинена, не отличавшегося большой способностью к теоретической работе. Но уже через несколько дней генсек написал Куусинену развернутую рецензию на подготовленный им проект тезисов по национально-колониальному вопросу, разгромив его в пух и прах. Документ был слишком длинен, перегружен деталями и не соответствовал тому повороту влево, который еще только вызревал (кое-кто из приближенных генсека уже почувствовал новое направление ветра, но большинство смиренно ждало руководящих указаний). Памятуя о поражении в дискуссии о перспективах китайской революции, Сталин вернулся к ортодоксальным требованиям, которые отстаивала оппозиция: «Неверно, что освобождение страны от империалистического порабощения осуществимо, вообще говоря, при буржуазно-демократической революции, скажем, в Китае или Индии… Вернее было бы сказать, что такое освобождение возможно лишь при диктатуре пролетариата»[1538]. Начальственное нетерпение, граничившее со скрытой угрозой, чувствовалось и в телеграмме, написанной Сталиным несколькими днями спустя: «Больше месяца заседает конгресс, обсуждены уже четыре вопроса, и до сих пор нет еще ни одной резолюции. Это может создать ложное впечатление о том, что конгресс запутался и не способен вынести ни одной конкретной резолюции. Опубликуйте хотя бы резолюцию по отчету [ИККИ]»[1539]. Обращает на себя внимание то, что адресатом зашифрованной телеграммы были не только Бухарин и Пятницкий, но и оставленный приглядывать за ними Молотов, до того никак не проявивший себя в коминтерновской сфере. Последний сообщал Сталину о заключительном этапе работы над программой Коминтерна (приняты сотни поправок к этому документу, «Бухарин уступил местами излишне, по мягкости своей»), о возможных назначениях иностранных членов ИККИ и внутреннем разладе в германской компартии (оставленный в «почетной ссылке» в Москве бывший лидер КПГ Брандлер просится в Германию, Клара Цеткин «будирует», настаивая на совместном заседании германской и русской делегаций — мероприятии, практиковавшемся на прошлых форумах Коминтерна). Молотов, как член Политбюро формально равный по рангу Сталину, принимал на себя роль услужливого царедворца, давая понять, что без решающего голоса сверху не будет принято ни одного политического или кадрового решения. Это в полной мере касалось и «русской делегации» в целом. Работа конгресса затягивалась, решение представителей ВКП(б) о том, что она должна быть завершена к 20-м числам августа, не было выполнено[1540]. 25 августа 1928 года Бюро делегации вновь поставило под вопрос авторитет Бухарина. На сей раз его оппонентом выступил не Ломинадзе, а украинский делегат Н. А. Скрыпник. В результате дискуссии было решено продемонстрировать демократизм коллективного руководства Коминтерна: «Считать желательным восстановление в тексте программы перечня революционных событий и перечисления всех преступлений социал-демократии, которые были выпущены по постановлению большинства суб-комиссии — но предоставить членам ВКП(б) в программной комиссии право высказываться и голосовать по своему усмотрению»[1541]. На этом же заседании русские коминтерновцы в очередной раз не решились в отсутствие Сталина определить, кто же будет избран в новые Исполком, Президиум и Политсекретариат Коминтерна. Вождю была направлена телеграмма с просьбой дать руководящие указания[1542]. В последний день лета из Сочи пришел ответ: «…предлагаю составить его [Политсекретариат. — А. В.] таким образом, чтобы обеспечить в нем преобладающий противовес шмералевским тенденциям. Для лучшей связи с ЦК предлагаю ввести Молотова в Политсекретариат ИККИ в качестве члена»[1543]. Посвященным было ясно, что под «шмералевскими тенденциями» понималась умеренность и осторожность ряда лидеров европейских компартий, действовавших в демократических странах. Вскоре большинство из них волей Сталина и его подручных будут занесены в ряды «правых». Введение Молотова в высшие сферы Коминтерна показывало, кому собирался Сталин доверить бразды правления этой организацией после запланированного им устранения Бухарина. Последнему удалось провести в члены Исполкома «не от партий» своих сторонников — Клару Цеткин и Жюля Эмбер-Дро, которые вскоре открыто выступят против сталинского диктата и будут отстранены от работы в Коминтерне. До поры до времени кадровые решения конгресса выглядели как сохранение сложившегося отношения сил, однако ничьей не получилось, Сталин перешел в наступление по всем фронтам. Он имел все основания подвести итог в свою пользу: «Несмотря на характер „долгого парламента“ (слишком долго заседал) конгресс дал серьезные результаты»[1544]. Главным из них генсек назвал принятие программы Коминтерна. Однако вряд ли в данном вопросе он был искренним.

 Высоко оценив результаты Шестого конгресса Коминтерна, Сталин не преминул справиться о том, были ли проведены в Политсекретариат ИККИ предложенные им кандидаты
Письмо И. В. Сталина В. М. Молотову
4 сентября 1928
[РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 1421. Д. 1–3]
Высоко оценив результаты Шестого конгресса Коминтерна, Сталин не преминул справиться о том, были ли проведены в Политсекретариат ИККИ предложенные им кандидаты
Письмо И. В. Сталина В. М. Молотову
4 сентября 1928
[РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 1421. Д. 1–3]
6.10. Горячая осень 1928 года
Автору книги неоднократно приходилось писать о событиях «горячей осени двадцать восьмого»[1545]. Они подробно изложены в настоящей книге в биографическом очерке, посвященном деятельности Бухарина в Коминтерне. Лишь на первый взгляд тот столкнулся с анонимным аппаратом Исполкома, следовавшим букве решений конгресса о борьбе с «правым уклоном» в зарубежных компартиях. На самом деле речь шла о тщательно спланированной операции, результатом которой должна была стать изоляция фракции «правых» в руководстве ВКП(б) от их потенциальных союзников за рубежом — после завершения конгресса они уже назывались поименно. При этом «русская делегация» была отстранена от участия в этих событиях, она не собиралась с 18 сентября по 14 декабря 1928 года[1546]. Зато крайне активен был Молотов, писавший Сталину о том, что готов взяться за чистку «авгиевых конюшен» Коминтерна: «Надо будет выделить для этого известное время. Но должен сказать, что из аппарата Исполкома иной раз так и прет запахом кислой капусты оппортунизма»[1547].
 Ставший членом Политсекретариата ИККИ Молотов детально отвечал на вопросы вождя о настроениях коминтерновского руководства
Письмо В. М. Молотова И. В. Сталину
10 сентября 1928
[РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 767. Л. 128–131]
Ставший членом Политсекретариата ИККИ Молотов детально отвечал на вопросы вождя о настроениях коминтерновского руководства
Письмо В. М. Молотова И. В. Сталину
10 сентября 1928
[РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 767. Л. 128–131]
Верный соратник предложил вождю собственные кандидатуры для расправы, однако жизнь распорядилась иначе. Вместо английских и американских коммунистов, о которых шла речь в письме[1548], главный удар приняла на себя германская компартия. «Горячая осень» началась со вскрывшейся в конце сентября аферы с растратой партийных денег секретарем гамбургской партийной организации, информация о которой просочилась в немецкую печать и привела к решению ЦК КПГ об отставке Тельмана. Пикантность ситуации заключалась среди прочего в том, что в Исполкоме узнали об этом решении из телеграммы ТАСС. Верный Молотов, как обычно, предпочел ничего не предпринимать, не посоветовавшись с вождем. «Конечно, с принятием решения в ИККИ подождем тебя. Если сможешь, телеграфируй предварительное мнение»[1549]. Решением Москвы внутрипартийный конфликт был «заморожен», хотя это шло вразрез с уставными нормами Коминтерна: «Президиум ИККИ, соглашаясь с исключением из партии Витторфа за растрату партийных средств, предлагает обсуждение вопросов, связанных с этим делом, не ставить ни на партактиве Гамбурга, ни в остальных организациях до рассмотрения этого вопроса в ИККИ»[1550]. Все еще находившийся на Кавказе генсек не заставил себя ждать с ответом. Не ставя под вопрос вину Тельмана (она «смягчается тем, что его ошибка бескорыстна и продиктована желанием дать возможность гамбургскому секретарю исправиться без скандала»), он перевернул ситуацию с ног на голову: теперь уже само решение ЦК КПГ, а тем более его публикация выглядели как «враждебный акт против партии и Коммунистического Интернационала, выгодный лишь капиталистам и социал-демократам»[1551]. В такой интерпретации событий все сводилось к фракционной деятельности «правых» в КПГ, «поставивших интересы своей фракции выше интересов партии». Логика внутрипартийной борьбы в верхушке ВКП(б) один к одному переносилась в Коминтерн, где троцкистов в качестве главной жертвы сменили «правые уклонисты», якобы пытавшиеся вернуть компартии в лоно предательской социал-демократии. Как правило, эти люди входили в руководство компартий, которые работали в наиболее благополучных странах западного мира — США, Великобритании, Швейцарии, Чехословакии, Австрии. Их обвиняли в превознесении норм и правил буржуазной демократии, пропаганде мирного «врастания» своих стран в социализм, от них требовали публичных покаяний и исключения нераскаявшихся. Трудно себе представить, что столь масштабная кампания, растянувшаяся на полтора года, могла быть результатом инициативы снизу. Сталину, которого вполне устраивала роль «отсутствующего режиссера», на крутых поворотах партийной и коминтерновской истории приходилось показывать свое лицо. Ситуацию в КПГ обостряло то, что бывшие лидеры партии Брандлер и Тальгеймер смогли улизнуть из Москвы и возвратились к политической деятельности в Германии, несмотря на грозные требования Исполкома немедленно вернуться обратно, поскольку они были переведены в ряды ВКП(б)[1552]. В отсутствие Бухарина, решившего не прерывать свой отпуск, Президиум ИККИ оформил сталинские «рекомендации» в форму постановления. Очевидно, Молотов недооценил остроту вопроса и поэтому не появился на заседании. Первую скрипку сыграл Куусинен, заявивший, что Тельман совершил не преступление, а ошибку, он не пытался скрыть скандал, а просто выжидал удобного момента для того, чтобы познакомить с состоянием дел в гамбургской организации все партийное руководство. Такое объяснение выглядело достаточно комично, что наложило свой отпечаток на результаты голосования. Трое из срочно прибывших из Берлина членов партийного руководства проголосовали против дезавуирования решения об отставке (Эверт, Пик и Эберлейн), трое поддержали Исполком (Геккерт, Ульбрихт и Реммеле)[1553]. Такой раскол уже никак нельзя было списать на «происки фракционных групп» — в дело пришлось вмешаться самому Сталину. Личное письмо вождя ВКП(б) только что вернувшемуся на свой пост вождю КПГ выглядело как отеческое внушение или индульгенция, выданная после имевшего место недоразумения. Оно содержало лишь легкие упреки: «Я думаю, что из этого обстоятельства нужно извлечь урок. Во избежание могущих произойти в будущем недоразумений, необходимо изменить метод работы в руководящих органах так, чтобы не было впредь жалоб на отсутствие коллегиальности»[1554]. Можно не сомневаться, что отныне Тельман понимал, чьей милостью ему удалось сохранить свое место в руководстве германской компартии. В то время как сталинские кадры в Коминтерне вели активную организационную работу, ориентируя не только КПГ, но и другие легальные компартии на исключение «правых уклонистов», Бухарин, все еще признанный лидер международного коммунистического движения, выбрал тактику бойкота. Вернувшись из отпуска, он перестал работать в «Правде» и ИККИ, будучи уверенным в том, что его рано или поздно позовут обратно. Примерно так же несколькими годами ранее рассуждали и Троцкий, и Зиновьев. Своим соратникам Бухарин оказал медвежью услугу, оставив их один на один с мощным аппаратом, который к концу 1928 года провел всю подготовительную работу для появления на авансцене первых лиц. Сталин демонстрировал совершенно иное отношение к кадрам, в том числе и коминтерновским, нежели Бухарин. Об это свидетельствует его письмо Мануильскому, появившееся в разгар борьбы с «правыми». Генсек действовал согласно правилу «бей своих, чтобы чужие боялись». Его адресат выразил озабоченность в связи со слухами об отзыве с работы Неймана, который отличался беспринципным интриганством, нес ответственность за поражение кантонского восстания в Китае, а по возвращении в Берлин стал серым кардиналом при Тельмане, используя аппаратную неопытность партийного вождя[1555]. Сталин мог бы ограничиться опровержением слухов, т. е. успокоить своего верного последователя. Вместо этого он набросился на Мануильского с упреками: «Откуда ты взял это несуществующее „предложение“, какие кумушки снабдили тебя информацией? Не странно ли, что при полной возможности информировать друг друга из первых рук, ты предпочитаешь пользоваться самыми невероятными слухами насчет „поворота назад“, „изменения курса“ и т. д. Была попытка (только попытка) со стороны одного члена делегации ВКП поставить вопрос о снятии Неймана. Мы потребовали материалов, и так как материалов не оказалось, попытка была похоронена. Вот и все»[1556]. Но эта тирада отнюдь не заключала в себе «вот и все». Речь шла о Бухарине, попытка которого добиться изгнания Неймана взамен на очередные уступки со своей стороны провалилась[1557]. Разматывая клубок домыслов, Сталин посчитал их источником близкого друга Неймана Ломинадзе, который тоже получил нелицеприятную характеристику: «Ломинадзе принадлежит к числу тех товарищей, которые слышат звон, да не знают, откуда он». И далее автор письма переходил к скрытым угрозам: «Или, может быть, ты взял эту „информацию“ у германских примиренцев? Поздравляю тебя с хорошей компанией, в которую ты, так сказать, попал. Старайся больше не попадать в такую компанию…»[1558] Очевидно, настроение у Мануильского после прочтения этих строк явно испортилось, и он, получив наглядный урок в вопросах иерархии, дисциплины и подчинения, больше никогда не решался «информироваться» у вождя в таком панибратском ключе. Впрочем, самому вождю было позволено все. В ходе чистки коминтерновского аппарата в конце 1929 года Б. А. Васильев, заведовавший кадровой работой в ИККИ, привел любопытный факт: год назад, во время ноябрьского пленума ЦК ВКП(б), он свел двух членов Президиума ИККИ, считавшихся «бухаринцами» (это были Серра и Эмбер-Дро) со Сталиным. В ходе краткой встречи была предпринята попытка добиться примирения сторон. Ввиду того, что кампания против «правого уклона» в ВКП(б) только набирала обороты, иностранцы выразили желание, чтобы такая же осторожность была проявлена и по отношению к остальным партиям Коминтерна. В ответ их собеседник «рассмеялся и сказал, что это — чистейшая чепуха, что они не понимают разницы между ВКП(б) и европейскими коммунистическими партиями»[1559]. Очевидно, иностранцы не заметили злых ноток в этом смехе, поскольку сочли его признанием того, что Сталин бессилен справиться с правыми элементами в рядах собственной партии. Однако вскоре им был преподан совершенно иной урок. На заседании Президиума ИККИ, состоявшемся 19 декабря 1928 года, Сталин появился лично, сопровождаемый Молотовым. Хотя на повестке дня стоял вопрос о «правом уклоне» в КПГ, ни для кого не было секретом, что дисциплинарные меры коснутся и «примиренцев» — тех функционеров немецкой партии, которые высказывались за ее консолидацию, против расколов и отсечений [вспомним, что еще во время Шестого конгресса Молотов писал вождю, что «Клара будирует», требуя разрешения германского вопроса на заседании делегаций ВКП(б) и КПГ]. Вопрос о новой фазе внутрипартийных чисток в Коминтерне приобрел международное звучание. Ссылаясь на этот факт, Клара Цеткин высказалась за созыв чрезвычайного пленума ИККИ. Но ее поддержал лишь швейцарец Эмбер-Дро.
 Соломон Абрамович Лозовский
1927
[РГАСПИ. Ф. 56. Оп. 2. Д. 58. Л. 101]
Соломон Абрамович Лозовский
1927
[РГАСПИ. Ф. 56. Оп. 2. Д. 58. Л. 101]
Выступления участников заседания, заранее согласных с усилением гонений на инакомыслящих в КПГ, не отличались разнообразием. «Примиренцы» получили ярлык пособников правых, стремящихся развалить партию и Коминтерн. Лозовский и Куусинен выступили с самокритикой, осудив свое недавнее отношение к ним как слишком мягкое. И все же заседание Президиума не пошло по заранее подготовленному сценарию. Вначале Анжело Таска, а затем и Эмбер-Дро высказались против представленных проектов документов. «Я хочу обращения грешника, а не его смерти, — заявил итальянец, — и в этом суть моего „примиренчества“ по отношению как к правому, так и левому крылу»[1560]. Цеткин подвергла критике левацкие оценки ситуации в Германии, равно как и дисциплинарные методы воздействия по отношению ко всем инакомыслящим в партии. Вместо «идеологического преодоления взглядов, характеризуемых как уклоны», идет приклеивание политических ярлыков, подчеркнула она, предложив отказаться от исключений до предстоявшего съезда КПГ.
 Жюль Эмбер-Дро
23 июня — 12 июля 1921
[РГАСПИ. Ф 490. Оп. 2. Д. 321. Л. 1]
Жюль Эмбер-Дро
23 июня — 12 июля 1921
[РГАСПИ. Ф 490. Оп. 2. Д. 321. Л. 1]
Вслед за Цеткин слово взял Сталин, и это имело символическое значение. Речь шла не просто о политических антиподах, а о столкновении противоположных человеческих качеств. Он в очередной раз сосредоточил внимание на обостряющемся и углубляющемся кризисе мирового капитализма, ведя скрытую полемику с политэкономическими оценками Бухарина. За откровенно грубыми формулировками по отношению к «правым и примиренцам» в КПГ просматривалась плохо скрытая боязнь того, что развитие событий в ВКП(б) может пойти по германскому сценарию, завершившемуся снятием Тельмана с поста председателя КПГ. Генсек недвусмысленно дал понятьбудущим «правым» в собственной партии, какая судьба ждет их в случае неподчинения линии большинства. «Речь идет о том, — говорил он, — что терпеть дальше такие „порядки“, когда правые отравляют атмосферу социал-демократическим идейным хламом и ломают систематически элементарные основы партийной дисциплины, а примиренцы льют воду на мельницу правых, — это значит идти против Коминтерна и нарушать элементарные требования ленинизма»[1561]. Главный удар был нанесен по Эмбер-Дро. После того как тот вновь подчеркнул, что представленные проекты только разожгут фракционную борьбу во всем Интернационале, Сталин собственноручно написал резолюцию, которая в полной мере характеризовала использовавшиеся им методы дискредитации своих оппонентов. «Это [заявление Эмбер-Дро. — А. В.] есть трусливо-оппортунистическая декларация зарвавшегося журналиста, готового оболгать Коминтерн ради адвокатской защиты правых. Не лишне будет вспомнить, что господин Троцкий свой отход от ленинизма начал с таких именно деклараций против Коминтерна»[1562]. Ярость Сталина объяснялась достаточно просто: швейцарец в своем выступлении дал понять, что принимаемыми документами руководство КПГ поощряется за дискредитацию Бухарина на Шестом конгрессе. А генсек очень не любил, когда кто-то проникал в тайны его аппаратной механики. Решения Президиума ИККИ от 19 декабря, принятые против голосов Эмбер-Дро, Таски и Цеткин, более походили на обвинительный акт, чем на политический документ. Поддерживая исключение «правых» из КПГ, Президиум одновременно заявлял, что и «примиренчеству нет места в германской компартии». Позже Сталин не без довольства писал своему соратнику об одержанной победе на заседании Президиума ИККИ: «Мне и Молотову пришлось там выступать довольно круто и распять на кресте Эмбер-Дро, как представителя „трусливого оппортунизма“ (примиренчество есть трусливый оппортунизм). Мы решили стенограмму речей раздать центральным комитетам всех крупных секций»[1563]. Несомненно, что по этому лекалу в них самих должны были пройти аналогичные процедуры распятия политических грешников. При этом крайне важным для генсека оставался завет ленинской эпохи о том, что безусловное доминирование в Коминтерне партии большевиков должно быть скрыто за железным занавесом внешнего демократизма и равноправия партий. Сталин заканчивал свое письмо Мануильскому, рисуя положение дел, которое никак не соотносилось с произошедшими событиями: «…мы хотели, чтобы сам ЦК КПГ по своей инициативе предпринял что-нибудь серьезное по линии борьбы с фракцией правых и группой примиренцев. Позицию, когда ИККИ одобряет известные шаги ЦК КПГ, я считаю более целесообразной и для компартии Германии, и для ИККИ, чем позицию, когда ИККИ приходится понукать ЦК КПГ к тем или иным шагам»[1564]. Излишне говорить о том, что и сам Исполком являлся простой проекцией большевистского руководства. Этот механизм, сформированный изначально и утвердившийся в 1920-е годы, будет сопровождать и Коминтерн, и наследовавшее ему послевоенное коммунистическое движение вплоть до завершения их жизненного пути.
6.11. Сталин и аппарат Коминтерна на рубеже 1920–1930-х годов
Историки, занимающиеся Коммунистическим Интернационалом в начале 1930-х годов, сходятся в одном: ультралевая тактика и организационное сектантство оказали губительное влияние на международное коммунистическое движение. Продолжалась чистка аппарата ИККИ и отдельных компартий от истинных и мнимых приверженцев «правого уклона», насаждение жесткого догматизма сверху дополнял растущий идейный конформизм снизу. Свидетельством падения роли Коминтерна для советского руководства стало то, что его конгрессы не собирались с 1928 по 1935 год, хотя по уставу должны были созываться ежегодно. Революционная риторика коммунистов оказалась мешающим фактором в условиях, когда Советскому Союзу нужны были стабильные отношения с западным миром для получения оттуда передовых технологий. Прагматическая линия НКИД одержала верх над теорией мировой революции, которую исповедовал Коминтерн, акции последнего упали до своего исторического минимума[1565]. Лидеры коммунистического движения искали свое место в изменившемся мире, все теснее привязывая себя к внешнеполитическим целям СССР. «Защита Советского Союза против угрозы нападения на него империалистов является больше, чем когда бы то ни было, важнейшей задачей всех секций Коммунистического Интернационала», — говорилось в резолюции расширенного Президиума ИККИ, состоявшегося в июне 1930 года[1566]. Несмотря на весь пафос подобных клятв, которые тиражировались советской пропагандой в годы «великого перелома», деятельность иностранных коммунистов уже не вызывала былого интереса и внимания внутри страны. Советские люди устали ждать, когда на Западе или на Востоке займется зарево мировой революции, для идеологического обоснования сталинской модели построения социализма в одной стране нужны были иные аргументы. Мы справляемся сами и без победы коммунистов в далеких странах, рассуждали рабочие, нам помогают зарубежные специалисты, оказывающие содействие в освоении передовых технологий, и даже крупные капиталисты, продающие нам целые заводы. Подготовка военных кадров для будущих революций на Западе и Востоке была сокращена из-за перераспределения ресурсов на индустриализацию, но не прекратилась полностью. Она проходила по разным линиям, включая и Ленинскую школу Коминтерна, учащиеся которой получали на время обучения вымышленную идентичность и военное обмундирование. Если их политическим воспитанием в духе марксизма-ленинизма занимались сами коминтерновские структуры, то военно-разведывательные аспекты курировало Разведуправление Генштаба РККА во главе с Яном Берзиным. В документе, датированном 17 января 1928 года, он подчеркивал, что «все усилия IV Управления в области подготовки диверсионной работы на случай войны не приведут к желательным результатам, если нам не будет оказано соответствующее содействие со стороны соседних с нами компартий»[1567]. В докладе говорилось о совещаниях с их представителями, посвященных мерам по разложению армий противника, которые привели к формированию специальных пятимесячных курсов, где иностранцев обучали подрывной и диверсионной работе. Среди их участников доминировали представители компартий соседних с Советским Союзом государств, прежде всего поляки и латыши. К 1932 году через эти курсы прошло около 200 иностранных коммунистов, обучение проходило на так называемых пунктах связи Коминтерна, располагавшихся в ближнем Подмосковье (Баковка, Кунцево, Пушкино)[1568]. Вячеслав Михайлович Молотов
1930-е
[РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 1599. Л. 13]
Вячеслав Михайлович Молотов
1930-е
[РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 1599. Л. 13]
В конце 1920-х годов в СССР было покончено с фрондой среди большевистских вождей, которые считали себя соратниками и даже преемниками Ленина. Утверждение в ВКП(б) сталинского единовластия закрепило методы управления и механизмы, которые критиковала оппозиция. Центральный аппарат Коминтерна — его Исполком, Контрольная комиссия, Интернационал молодежи и секретариаты массовых организаций, сформированных по профессиональному признаку, копировали методы работы, утвердившиеся в ЦК ВКП(б) и советском комсомоле. Высшие органы Коминтерна продолжали эволюционировать по принципу матрешки, порождая внутри себя все новые и новые структуры. Избранный Исполкомом Президиум передал в 1927 году бразды правления Политсекретариату, который сформировал еще более узкие и закрытые комиссии, обраставшие собственными референтами и техническим аппаратом[1569]. «Если Коминтерн и был бюрократическим учреждением, то крайне хаотичным»[1570], — признают современные ученые. Одновременно снижался номенклатурный вес представителей ЦК ВКП(б), работавших в его Исполкоме на постоянной основе. Бойкот Бухарина, продолжавшийся и после формального примирения 7 декабря 1928 года, привел к периоду «разброда и шатаний» в коминтерновском аппарате. Выстраивание новой вертикали власти требовало времени, равно как и смещение акцентов политической работы. Левый поворот, который получил новую энергию после осуждения «правого уклона», грозил превратить компартии в секты радикальных догматиков. Пятницкий, оставшийся на коминтерновском хозяйстве в это переходное время, первым почувствовал неладное. На заседании Политсекретариата 4 января 1929 года сторонники тактики «класс против класса» при обсуждении директив съезду КПА высказались за то, чтобы английские коммунисты выдвинули требование выхода профсоюзов из лейбористской партии. За это высказались Лозовский и Бела Кун — известные недруги Бухарина. Пятницкий был вынужден письменно обратиться к лидерам ВКП(б), предложив решить вопрос в «русской делегации» и подчеркнув его политическое значение: «Выставление этих лозунгов приведет к еще большей изоляции коммунистов»[1571]. И здесь он нашел поддержку Сталина (в первой половине 1929 года тот вместе с Молотовым регулярно посещал заседания делегации): требование выхода из тред-юнионов было признано «несвоевременным в настоящий момент». Но это отнюдь не означало учета национальной специфики, в директивы для англичан был включен тезис, который на несколько лет станет священной мантрой для всего коммунистического движения: «Ввиду того, что в резолюции ЦК КП Англии отсутствует указание на правую опасность и борьбу с ней — в инструкции указать, что главной опасностью в КП Англии, как и в других секциях Коммунистического Интернационала, является правая опасность»[1572]. В таком же духе «русская делегация» во главе со Сталиным на своем следующем заседании поправила первоначальный проект открытого письма ИККИ съезду КП США[1573], а затем решилась на почти святотатство — из проекта программы КИМ были вычеркнуты слова Ленина об организационной самостоятельности комсомола как «относящиеся к специфическим условиям» первых лет Советской России[1574]. Руководители Коминтерна и ответственные сотрудники его аппарата на подобных примерах избавлялись от «идейных шатаний» и любых попыток проявить инициативу и самостоятельность. Политические инструкции дополнялись кадровой чисткой. В конце 1928 — начале 1929 года из центрального аппарата ИККИ под тем или иным предлогом были устранены все явные и скрытые бухаринцы. 9 апреля делегация ВКП(б) (вновь при участии Сталина) занималась вопросом укрепления кадрового состава ИККИ. В решении было предложено укрепить различные отделы русскими работниками, а Молотову два дня целиком посвятить коминтерновской работе[1575]. Последний ненадолго занял место неформального руководителя Коминтерна, освобожденное Бухариным. Копируя начальственный тон генсека, он сосредоточился на искоренении любых уклонов от генеральной линии в зарубежных компартиях: «Кто не будет подчиняться Центральному Комитету и проводить в жизнь железную большевистскую дисциплину, тот против линии Коминтерна, потому что без дисциплины говорить о проведении линии — пустяки, пустаяболтовня, разговоры»[1576]. В дальнейшем Молотов, загруженный совнаркомовскими делами, передал бразды правления Пятницкому и Мануильскому, которым направлялись выписки решений Политбюро по коминтерновским вопросам для исполнения. Сталин, регулярно получавший проекты ключевых резолюций ИККИ, лишь изредка удостаивал их своими лапидарными резолюциями. Классическое определение сталинской роли в Коминтерне 1930-х годов дал британский историк Эдвард Карр, назвав его «отсутствующим режиссером, который время от времени внезапно возвращается и требует то смены реквизита, то замены… неподходящего актера, а затем исчезает, предоставив другим решать поставленную задачу»[1577]. С весны 1929 года «левый поворот» Коминтерна окончательно превратился в мероприятие, проводимое в жизнь административными методами. Речь шла об искоренении «правого уклона» в тех партиях, которые еще не избавились от демократических традиций. Группу Джея Ловстона в компартии США, фракцию Богумила Илека в компартии Чехословакии и ЦК компартии Швейцарии в полном составе объявили сторонниками Бухарина и его порочных методов руководства Коминтерном, требовали от них публичных покаяний и немедленного исключения нераскаявшихся. Кадровая работа делегации ВКП(б) в ИККИ опускалась на нижние этажи коминтерновской иерархии. Теперь она стала обсуждать даже кандидатуры в центральные комитеты отдельных партий. По решению делегации из руководящего ядра КП США были выведены Ловстон и Биттельман, за которыми стояло большинство членов партии. Бразды правления — руководство партийным секретариатом — были переданы резко полевевшему Уильяму Фостеру, который в своих донесениях в полном соответствии с установками Шестого конгресса подчеркивал близость революционных потрясений в Соединенных Штатах Америки[1578]. Левое меньшинство в ряде компартий выискивало «правый уклон» в любом решении руководства, подчеркивая, что оно ведет себя a la Bucharine[1579]. Сталин не просто вдохновлял и контролировал этот процесс, но и выступал с разгромными речами против «правых уклонистов» на заседаниях руководящих органов ИККИ, обращаясь к ним с прямыми угрозами: «Сегодня у вас есть еще формальное большинство. Но завтра не будет никакого большинства, и вы окажетесь полностью изолированными… Примут наши предложения товарищи из американской делегации — хорошо, не примут — тем хуже для них, Коминтерн возьмет свое при всяких условиях»[1580]. В состав Секретариата ЦК компартии США был введен его представитель с чрезвычайными полномочиями — он получил право вето на любые решения партийного руководства, если они будут расходиться с директивами Москвы[1581]. «Русская делегация» последовательно очищала аппарат ИККИ от сторонников Бухарина: Грольман и Эмбер-Дро были направлены в Латинскую Америку (последний все-таки остался сотрудником Латиноамериканского секретариата), Эверт — в Индию, ряд германских «примиренцев» остался в почетной ссылке в Москве, получив незначительные должности в отделах Исполкома Коминтерна. Цеткин больше не привлекалась к работе его руководящих структур. Заявление об уходе с коминтерновской работы подал Таска, который вскоре порвал с коммунистическим движением[1582]. Гарантией лояльности Исполкома для Сталина оставалось его «укрепление русскими работниками», причем теми, кто принял самое активное участие в событиях «горячей осени двадцать восьмого»: в Политсекретариате Бухарина заменил Мануильский, в Президиуме — Гусев.
 Безработный на улицах Вены
Начало 1930-х
[Из открытых источников]
Безработный на улицах Вены
Начало 1930-х
[Из открытых источников]
Порой даже административный механизм Коминтерна оказывался недостаточным для окончательной «большевизации» отдельных компартий. В мае 1929 года делегация потребовала «принять все меры, необходимые для обезвреживания ЦК КПП от разъедающей партию провокации. Просить коллегию ГПУ принять меры для выявления провокаторов в компартии Польши»[1583]. ГПУ, а позже НКВД восприняли это поручение столь серьезно, что к концу 1938 года было физически уничтожено более двух третей ведущих функционеров КПП, а сама партия объявлена засоренной шпионами и распущена[1584]. Финальную черту, символизировавшую установление полного сталинского контроля над Коминтерном, подвел его Десятый пленум, проходивший с 3 по 19 июля 1929 года. Хотя в западных странах еще даже не пахло беспримерным экономическим кризисом, который разразится через три месяца, в резолюции о международном положении говорилось о том, что стабилизация «расшатывается»[1585]. Это можно было бы расценить как теоретически обоснованное предвидение, но о «расшатывании» капиталистических устоев и начале третьего периода общего кризиса капитализма говорилось и на Шестом конгрессе, который закончился годом ранее. Сталин, внимательно читавший проекты всех заключительных документов пленума, сохранил бухаринскую новацию и после политического уничтожения ее автора. Таким же заимствованием, на сей раз у поверженного тремя годами ранее Зиновьева, явился и тезис о социал-демократии как «особой форме фашизма», которая в критические для капитализма моменты станет его последней опорой. Анализируя политическое положение в Веймарской республике, соответствующая резолюция приходила к выводу, что социал-демократия «расстреливает рабочих во время первомайской демонстрации. Она запрещает рабочую печать („Роте Фане“), закрывает революционные массовые организации, подготовляет запрещение коммунистической партии Германии и организует подавление рабочего класса фашистскими методами. Таков путь германской коалиционной социал-демократии к социал-фашизму»[1586]. Подобные утверждения выдавали желаемое за действительное и скрывали действительное за желаемым. Хотя фашистские движения до начала мирового экономического кризиса и находились на обочине политической сцены (за исключением Италии, где режим Муссолини захватил власть еще в 1922 году), попытка бросить их в одну корзину с социалистами, которые отстаивали демократические принципы, была отнюдь не безобидным пропагандистским приемом. Пройдет всего два года, и тезис о «социал-фашизме» закроет для коммунистов путь к участию в широком антифашистском блоке только из-за того, что в него входила СДПГ. В оценках потенциала фашистских и социалистических партий менялись местами не только желаемое с действительным, но и правое с левым (в кавычках и без). Сталин лично дописал в проект резолюции тезис о необходимости «обратить особое внимание на усиление борьбы против „левого“ крыла социал-демократии, задерживающего процесс распада социал-демократии путем сеяния иллюзий об оппозиционности этого крыла к политике руководящих социал-демократических инстанций, а на деле всемерно поддерживающего политику социал-фашизма»[1587]. Конъюнктурная девальвация понятия «фашизм», прилагавшегося к любому политическому движению антикоммунистической направленности, бумерангом ударила по доверию к самому Коминтерну. Это не могли не заметить проницательные наблюдатели даже в высшем эшелоне большевистской партии. Наркоминдел Чичерин в том же 1929 году писал об этом Молотову: «Если же почему-либо всякая реакция и всякое полицейское государство будут названы фашизмом, в таком случае надо придумать другой термин для настоящего специфического фашизма Муссолини, Пилсудского и Стального шлема. Настоящему специфическому фашизму присущи организованные банды, применяющие насилие в интересах господствующего класса, и в форме партии, захватившей государственную власть; им необходимы герои, вожди. Между германской социал-демократией и настоящим специфическим фашизмом нет абсолютно ничего общего. Очень просто кричать везде, где налицо реакционная мера: „фашизм, фашизм“. Но это только путаница понятий. Умственная смазь. Специфический фашизм резко отличается от старого полицейского государства. Он у нас очень слабо проанализирован в результате господства у нас шаблонов и малого знания западноевропейской жизни. Тут требуется настоящий марксизм, а не простое повторение плохо понятых формул»[1588]. Нога в ногу с идеологическими новациями шли и организационно-кадровые решения Десятого пленума Исполкома Коминтерна. Продолжал действовать принцип матрешки — из состава Политсекретариата был выделена Политкомиссия, в которую вошли Мануильский и Куусинен, еще одно место было забронировано за представителем КПГ. По инициативе делегации ВКП(б) сеньорен-конвент пленума принял решение о создании постоянной комиссии «для проверки состава сотрудников в целях освобождения аппарата ИККИ от негодных элементов в деловом отношении и от политически невыдержанных товарищей»[1589]. Процесс превращения делегации ВКП(б) в придаток всемогущего сталинского секретариата олицетворял и тот факт, что ее заседания проходили обычно в кремлевском кабинете вождя. Для представителей иностранных компартий она оставалась центральной пружиной коминтерновского механизма. Это подтверждает обширный поток просьб, донесений и доносов, отлагавшихся в документах делегации ВКП(б) в Коминтерне, вплоть до ее тихой смерти летом 1930 года. Выполнив свою миссию, она была уже больше не нужна. Сталин предпочитал определять свою политику в узком кругу функционеров, который подбирался каждый раз заново в соответствии с предполагавшимися поручениями.
6.12. «Кадры решают все»
Известный сталинский лозунг начал претворяться в жизнь Коминтерном задолго до его официального провозглашения. Фактически вся «большевизация» компартий была подчинена оставлению в их руководстве только тех кадров, которые беспрекословно исполняли любое поручение Москвы. Изгнание из Исполкома сторонников Бухарина было использовано его новым составом для чистки не только в руководстве компартий, но и в их среднем звене. 15 мая 1930 года в ИККИ был подготовлен обширный материал с характерным названием «Кризис старых кадров». В нем констатировалось запаздывание секций Коминтерна с доведением чистки до низовых звеньев: «Еще рано говорить о том, что в ЦК компартий капиталистических стран выкристаллизовалось вполне твердое большевистское ядро, как в ЦК ВКП(б). Однако сейчас КИ уже может твердо опираться на ЦК важнейших компартий при проведении новой линии. Но этого еще не могут сказать ЦК по отношению к нижестоящим партийным комитетам… Таким образом, сейчас в отношении подбора кадров центральным вопросом является вопрос укрепления и обновления средних звеньев руководящих кадров»[1590]. Подобная постановка вопроса означала стремление самого Исполкома Коминтерна контролировать кадровые перемещения в среднем звене иностранных компартий, дабы не допустить даже минимальной опасности расколов или оформленных оппозиций. Тяга к тотальному контролю и в этой специфической сфере отражало не только общую тенденцию сталинской системы, но и вполне конкретный страх коминтерновских функционеров не справиться с порученным участком работы, что могло повлечь за собой исключение из номенклатурных списков. В этих условиях предпочтение отдавалось аппаратным партиям, державшим в порядке отчетность, дисциплинированно участвовавшим во всех политических кампаниях и не претендовавшим на отстаивание каких-либо собственных интересов. Естественно, такой тип партии оказывался во все большей изоляции на национальной политической сцене. Параллельно оформлению московского центра кадровой работы шло построение вертикали кадровых комиссий в компартиях[1591]. Им предстояло снабжать аппарат ИККИ биографическими материалами на партийных работников, обращая особое внимание на то, «какой образ жизни ведет данный товарищ, его семейные и другие связи, какие слабые стороны характера у него имеются». Подобная информация, на аппаратном жаргоне называемая «компромат», превращалась в действенное средство контроля, своего рода дамоклов меч, висевший над каждым из партийных лидеров и функционеров среднего звена. В новой редакции инструкции по кадровой работе, появившейся в октябре 1932 года, речь шла уже об отделе кадров ИККИ, начавшем свою работу в июне в условиях особой секретности. Ужесточение режима в этой сфере требовало своего идеологического обоснования. Его примеры с избытком поставляла внутриполитическая ситуация в СССР, пропаганда которого объясняла «временные трудности» на пути социалистического строительства происками враждебных элементов, саботажем вредителей и шпионов иностранных разведок. В октябре 1931 года состоялось рабочее совещание руководителей ИККИ и его аппарата, посвященное мерам борьбы с провокациями в коммунистических партиях. В то время как выступавшие в дискуссии придерживались традиционного понимания этой темы, главный докладчик Мануильский поставил вопрос гораздо шире. В его выступлении речь шла не столько о подрывной работе буржуазного государства, сколько об агентах классового врага среди самих коммунистов. Обвинив западные компартии в мещанской успокоенности, он заявил: «Одним из главных каналов провокации являются обычно оппозиционные группы внутри коммунистического движения, как правого, так и левого толка. Это нужно усвоить, что главнейшим каналом провокации являются вот эти группы, поставляющие определенный контингент осведомителей, людей, выполняющих задачи политической провокации, политического разложения компартий»[1592]. Призывы к бдительности и немедленному разоблачению врагов, количественный рост аппарата (одновременно в ИККИ работало до 500 политических сотрудников) так и не привели к практической реализации модели «всемирной партии». Этому мешали очевидные различия между странами и культурами, в которых действовали те или иные компартии, включая языковой барьер. Попытки внедрить эсперанто в качестве средства международной коммуникации коммунистов потерпели фиаско уже в начале 1920-х годов. В первом десятилетии Коминтерна в делопроизводстве ИККИ доминировал немецкий язык, во втором его вытеснил русский. Эффективной работе аппарата препятствовал культ секретности и конспирации, доведенный до абсурда. В результате одни подразделения ИККИ не знали, чем занимаются другие, любой уточняющий вопрос мог вызвать подозрение в шпионаже. Наряду с отделом кадров на особом счету находился отдел международной связи, работа которого проходила в тесном контакте с советскими спецслужбами, действовавшими за рубежом. Герман Реммеле
[Из открытых источников]
Герман Реммеле
[Из открытых источников]
Основным инструментом формирования «новых кадров» стали партийные чистки, ритуал которых был выработан в ЦК ВКП(б). Каждый из иностранных коммунистов, находившихся на учебе или работе в СССР, должен был представить партийной ячейке собственную биографию, сосредоточив внимание на своих ошибках, колебаниях и оппозиционных настроениях. В Москве понимали, что люди, обладающие иной политической культурой, «не могут не ставить перед собой вопрос: не слишком ли много Коминтерну приходится вести борьбу внутри своих рядов против уклонов, против извращений, против оппортунизма»[1593]. Молотов, задавший этот вопрос от имени иностранцев на торжественном заседании в честь десятилетия Коминтерна, дал на него жесткий ответ — только решительное освобождение от прошлого открывает настоящим большевикам путь к победе. Мануильский пошел еще дальше, заявив, что любые оппозиционные настроения рано или поздно ведут к переходу на сторону классового врага, к «политическому разложению компартий» изнутри[1594]. Несмотря на явные изъяны политики «класс против класса», лежавший в ее основе идеологический догматизм позволял московскому центру жестко контролировать каждую из компартий. Однако в их руководстве продолжалась борьба за лидерство, имевшая политическую составляющую. В КПГ, которую в ИККИ продолжали считать образцовой, во второй раз после 1928 года был брошен вызов Эрнсту Тельману. Молодые функционеры Гейнц Нейман и Герман Реммеле осуждали председателя партии за пассивность и неспособность принимать политические решения без оглядки на кураторов из Москвы. Не ставя под вопрос выработанную Коминтерном общую линию, Нейман и Реммеле предлагали перенести борьбу на улицы германских городов под лозунгом «бейте нацистов, где их только встретите». Амбициозность и энергия партийных лидеров нового поколения на первых порах находили понимание не только в аппарате ИККИ, но и у самого Сталина. Получая от него лишь туманные сигналы, они были вынуждены прибегать к их самостоятельной интерпретации, работать на опережение. «Поскольку члены руководства КПГ пользовались покровительством Сталина, их самоуверенность в отношениях с ведущими функционерами Коминтерна возрастала»[1595]. Из-за мнимого расположения со стороны генсека ЦК ВКП(б) (в своей переписке они называли его «шефом») Нейман и Реммеле чувствовали себя неприкасаемыми. 28 октября 1931 года, подводя в письме Сталину и Молотову итоги своих усилий по корректировке курса КПГ, руководители Коминтерна рассматривали Тельмана и Неймана как равнозначные фигуры. Однако их призыв поскорее преодолеть «некоторые разногласия» между ними не нашел понимания в Берлине[1596]. Затем последовали неоднократные переговоры в Москве, но примирения не получилось. Даже после осуждения молодых функционеров КПГ, бросивших вызов председателю партии, Сталин продолжал присматриваться к Нейману. Сразу после приезда того в Москву последний был вызван в Кремль, и генсек окружил его поистине отеческой заботой, зафиксированной в мемуарах жены Неймана, также сотрудницы аппарата Коминтерна: «После дружеского приветствия Сталин спросил его, был ли он в этом году в отпуске, и на возражение Неймана, что у него нет времени, сказал, что сейчас не так много работы и поездка для отдыха на Кавказ была бы для него очень кстати. Не ожидая одобрения Неймана, Сталин добавил, что он тоже в ближайшее время едет в Мацесту, где они смогут встретиться и обсудить все проблемы»[1597]. Хотя генсек несколько раз встречался на Кавказе с Нейманом, благоприятного впечатления о немецком коммунисте у него не сложилось. Тот мужественно держался во время долгих застолий и дегустации отменных грузинских вин, живописуемых сталинскими биографами, но явно переигрывал в своих обещаниях все исправить в далекой Германии. Играя в городки, немецкий гость попытался «придать игре политический характер. Он называл фигуры именами нацистских вождей, и если одна из них падала, он кричал, что теперь упал Геббельс, теперь — Геринг, а теперь сам Гитлер. Это так сильно раздражало Сталина, что тот вдруг крикнул: „Прекратите, Нейман! По-моему, этот Гитлер чертовски шустрый парень!“»[1598] Вождь по своему обыкновению внимательно присматривался к тому или иному кандидату на высокий пост, делая ему заманчивые предложения и следя за его реакцией. Нейман не чувствовал этого и был на седьмом небе от сталинского гостеприимства. После нескольких дней, проведенных в Мацесте, он настолько уверовал в благосклонность вождя (в целях конспирации называя его в своих письмах «татарином Хильде»), что открыто сообщил об этом своим политическим соратникам, не подозревая, что вся его переписка (отправленная через аппарат ОГПУ) вскрывается и изучается в Москве. 26 июля 1932 года он писал: «Я вчера опять был 4 часа у Хильде, говорил с ним чисто политически (внутрипартийно) без ограничений. Абсолютно ясная линия. Нет никакого сомнения, что [принят] курс „Вся власть большевикам“ без всяких компромиссов и прочей каши»[1599].
 Спектр врагов Коминтерна в начале 1930-х годов был максимально широк: от католических прелатов до японских милитаристов
1933
[Из открытых источников]
Спектр врагов Коминтерна в начале 1930-х годов был максимально широк: от католических прелатов до японских милитаристов
1933
[Из открытых источников]
Нейману, достаточно искушенному в аппаратных интригах, все же не пришло в голову, что Сталин попросту играл с ним в кошки-мышки. В конце концов генсек решил не рисковать и сохранил ставку на Тельмана, вынужденная отставка которого осенью 1928 года сыграла немалую роль в устранении Бухарина из руководства Коминтерна. После приезда председателя КПГ в Москву и беседы со Сталиным судьба бросившей ему вызов «молодежи» была предрешена. Ее лидеры были переведены из Берлина на работу в ИККИ — такая ссылка являлась постоянной практикой кадровой работы Коминтерна. Мало кто из причисленных к группе Реммеле — Неймана немецких коммунистов, лишенных после прихода Гитлера к власти возможности вернуться на родину, пережил годы «большого террора» в СССР.
6.13. К антифашистскому народному фронту
Мировой экономический кризис, разразившийся осенью 1929 года, вызвал резкое падение производства и цен в западных странах, дав новые аргументы сторонникам неминуемого и близкого краха капитализма. Одним из последствий кризиса стал растущий приток в СССР квалифицированной рабочей силы из-за рубежа. Коминтерн должен был взять на себя вербовку рабочих-коммунистов для помощи социалистическому строительству в стране. Проект решения Политбюро от 5 апреля 1930 года предлагал «поставить перед ИККИ вопрос о проведении вербовки специалистов и квалифицированных рабочих — членов зарубежных компартий для поездки в СССР, в целях помощи осуществлению пятилетки»[1600]. Правя документ, Сталин убрал из него всякое упоминание Коминтерна. В основе такого решения лежало не только стремление вождя избежать внешнеполитических осложнений, но и нежелание делиться с иностранными компартиями достигнутыми успехами. Потрясения мировой экономики начала 1930-х годов не привели к перелому настроений в европейском рабочем движении в пользу коммунистов, однако они радикально усилили противоположный фланг политического спектра. Фашизм, который на первых порах рассматривался в качестве итальянской специфики, стал поднимать голову и в других странах континента. Коминтерновское руководство, сжатое тисками догматизма и не способное к принятию самостоятельных решений, видело в подъеме фашистского движения лишь конвульсии гибнущего капитализма. И Гитлер, и Муссолини выступали в карикатурной роли марионеток, которыми из-за кулис руководили магнаты финансового капитала и тяжелой индустрии. «Период между 1929 и 1933 годами можно назвать самой непродуктивной фазой в развитии дискуссии о фашизме внутри Коминтерна… Наиболее чреватым последствиями было схематическое обобщение понятия „фашизм“ и распространение его на всех противников коммунистов»[1601]. Ван Мин (Чэнь Шаоюй)
[Из открытых источников]
Ван Мин (Чэнь Шаоюй)
[Из открытых источников]
Такой подход оставлял без внимания новые методы воздействия на массы и их политической мобилизации, которые использовались итальянскими и немецкими фашистами. Пропаганда коммунистов представляла Гитлера в качестве простого подручного воротил большого бизнеса, что по сути дела являлось зеркальным отражением нацистской теории «мирового еврейского заговора». Прорыв НСДАП на политическую авансцену перевел вопрос о фашистской угрозе в Германии в практическую плоскость. Вместо того, чтобы искать союзников для противостояния угрозе со стороны праворадикальных сил, коммунисты усилили борьбу против своих потенциальных союзников как в лагере либеральной буржуазии, так и в среде рабочего движения. Неоспоримой догмой для коммунистов всех стран оставалась теория «социал-фашизма», истоки которой берут свое начало в первой половине 1920-х годов[1602]. Согласно этой теории, социал-демократические партии, раньше верно прислуживавшие либеральной буржуазии, в условиях революционных потрясений меняли свою ориентацию, становясь пособниками фашистских движений. 18 июля 1930 года, в день роспуска германского рейхстага и назначения новых выборов, «русская делегация» (в заседании участвовали Сталин и Молотов) поручила разработать специальное постановление ИККИ о борьбе с национал-социализмом в Германии. Однако установки, в рамках которых следовало разрабатывать этот документ, не содержали ничего, кроме старых постулатов и бюрократических пустот: «В проекте директив должно быть указано на необходимость энергичной и постоянной борьбы с национал-социалистами, наравне с борьбой КПГ с социал-демократией, разоблачив их как элементы, способные продаваться творцам Версаля, хотя на словах они выступают против них, и подчеркнуть, что освобождение Германии от Версальского договора и плана Юнга возможно лишь при свержении буржуазии»[1603]. Получалось, что буквально все немецкие партии выстраивались в очередь для того, чтобы «продаться» воротилам западного мира. При таком подходе различия в их программах и политической практике оказывались для Коминтерна не столь уж и существенными. Редактируя в апреле 1931 года проект тезисов Одиннадцатого пленума ИККИ, Сталин вписал в него фразу о том, что центристское правительство Генриха Брюнинга, не имевшее поддержки в рейхстаге и управлявшее Германией через президентские указы, «все решительнее осуществляет при непосредственной поддержке социал-демократии линию проведения фашистской диктатуры»[1604]. Двигаясь в русле сталинских указаний, пленум дал характеристику социал-демократии как «активного фактора и проводника фашизации капиталистического государства»[1605]. Коминтерн оставался безвольным объектом трансляции решений сталинского руководства ВКП(б), даже на словах не претендуя на самостоятельную роль в антифашистской борьбе.

 Накануне выборов в фашистский рейхстаг в ноябре 1933 года И. В. Сталин поддержал не руководство Коминтерна, а немецких коммунистов, работавших в подполье. «Бойкот большевистского толка» в условиях полного господства нацистов неприемлем. «Надо принять участие в выборах в смысле перечеркивания фашистских списков и голосования „нет“ по референдуму»
26 октября 1933
[РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 82. Л. 56–56 об.]
Накануне выборов в фашистский рейхстаг в ноябре 1933 года И. В. Сталин поддержал не руководство Коминтерна, а немецких коммунистов, работавших в подполье. «Бойкот большевистского толка» в условиях полного господства нацистов неприемлем. «Надо принять участие в выборах в смысле перечеркивания фашистских списков и голосования „нет“ по референдуму»
26 октября 1933
[РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 82. Л. 56–56 об.]
Не лучше обстояли дела и на китайском фронте — захват осенью 1931 года Маньчжурии означал начало японской агрессии на материке. Сталин давал установку своим соратникам: «…интервенция проводится по уговору со всеми или некоторыми великими державами на базе расширения и закрепления сфер влияния в Китае»[1606]. СССР не имеет возможностей для военного или дипломатического вмешательства, хотя нам выгодно, чтобы империалисты рассорились. Поэтому нужно сосредоточиться на осуждении интервенции в прессе, для чего «следовало бы особо навострить коминтерновскую печать и вообще Коминтерн». Однако последний исправно опровергал любые сообщения о переговорах между Чан Кайши и коммунистами. По линии советской внешней политики Сталин отказался реагировать на предложение пакта о ненападении с правительством Чан Кайши до восстановления в полном объеме дипломатических отношений между странами[1607]. Следуя указаниям Сталина[1608], КПК держалась за политику создания «советских районов» в отдаленных областях Китая, хотя части китайской Красной армии терпели поражения от войск Гоминьдана. До конца 1932 года ВКП(б) и Коминтерн не внесли сколько-нибудь принципиальных изменений в этот курс, который еще более изолировал местную компартию в ширившемся движении антияпонского сопротивления. Ван Мин, представлявший КПК в Коминтерне, обращался с принципиальными вопросами о дальнейшей тактике КПК напрямую в «русскую делегацию», особо подчеркивая необходимость «как можно скорее поставить на обсуждение эти вопросы и привлечь т. Сталина к их разрешению»[1609].
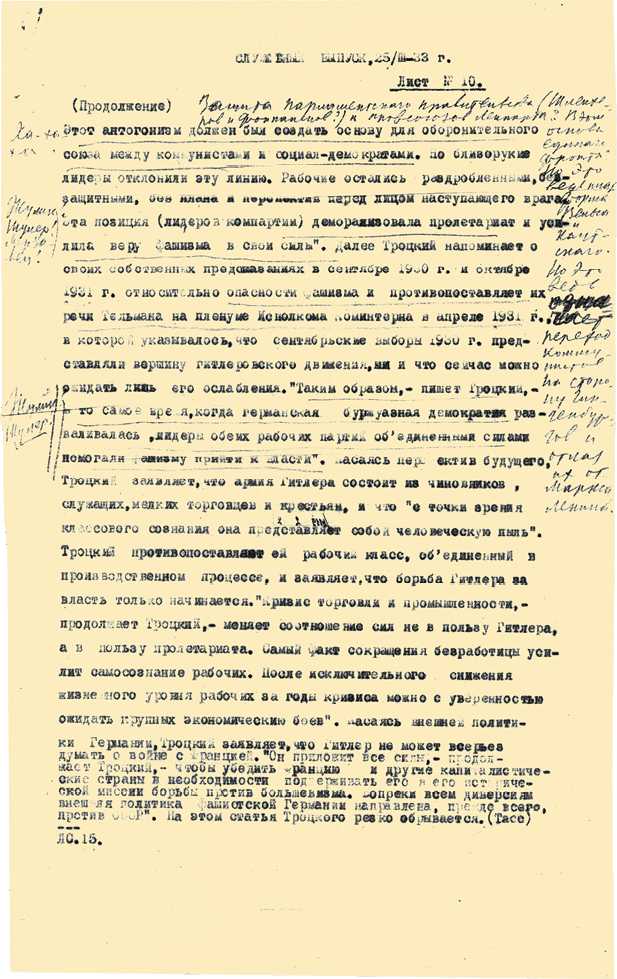 Статья Л. Д. Троцкого о положении в Германии с пометками И. В. Сталина
22 марта 1933
[РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 1. Д. 5236. Л. 2]
Статья Л. Д. Троцкого о положении в Германии с пометками И. В. Сталина
22 марта 1933
[РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 1. Д. 5236. Л. 2]
1933 год стал особым годом для Коминтерна. Даже историки придерживающиеся традиционных оценок советской эпохи признают, что на этот год пришелся «кульминационный момент левого радикализма и сектантства в коммунистическом движении»[1610]. Приход к власти Гитлера и переход на нелегальное положение образцовой компартии, да еще и в стране, считавшейся стартовой площадкой для нового приступа мировой революции, вызвало шок в руководстве ВКП(б) и Коминтерна. «Разгром КПГ означал провал „левой“ стратегии борьбы с социал-демократией, которую пришлось принять Сталину»[1611].
 Георгий Михайлович Димитров
1934
[РГАСПИ. Ф. 421. Оп. 1. Д. 274. Л. 1]
Георгий Михайлович Димитров
1934
[РГАСПИ. Ф. 421. Оп. 1. Д. 274. Л. 1]
Для того чтобы признать этот очевидный факт, потребовалось время. Уже после того, как по всей Германии развернулись репрессии против коммунистов, вождь настаивал на том, что защита парламентского правительства в этой стране была бы тождественна принятию программы социал-демократической партии, «но это ведь означает переход коммунистов на сторону Гинденбургов и отказ их от Маркса, Ленина». Этот вывод генсек сделал после прочтения интервью Троцкого в газете «Манчестер Гардиан», где тот давал нелицеприятные оценки тактике немецких коммунистов («когда германская буржуазная демократия разваливалась, лидеры обеих рабочих партий объединенными силами помогали фашизму прийти к власти»). Его пометки на полях тассовского изложения интервью, обращенные к Троцкому, говорят сами за себя: «Жулик! Шулер! Мерзавец!»[1612] Важную роль в процессе переосмысления фашистской угрозы сыграл Лейпцигский судебный процесс против коммунистов, якобы виновных в поджоге рейхстага. Главным из обвиняемых являлся член ИККИ Георгий Димитров, координировавший из Берлина деятельность западноевропейских компартий. Его мужественное поведение широко освещалось в советской прессе, а сам болгарин стал едва ли не национальным героем в СССР. Значительным было и воздействие судебных речей Димитрова на западную общественность. Лейпцигский процесс, на котором в роли обвинителя выступил сам Геринг, стал катализатором сплочения антифашистских сил различной идейной направленности и завершился оправдательным приговором. Получив советское гражданство, Димитров прибыл в Москву. Болгарский коммунист сразу же стал членом Политсекретариата и Президиума ИККИ, что не оставляло сомнений в том, кто протежировал его стремительный политический взлет. Беседы с Димитровым убедили Сталина в том, что он имеет дело с самостоятельно мыслящим человеком, знакомым с реалиями европейского политического процесса. После долгого перерыва в пантеон национальных героев, в котором доминировали стахановцы, летчики и полярники, был введен иностранный коммунист. В ходе встречи 7 апреля 1934 года Димитров затронул вопрос о сохранении влияния социал-демократии на рабочий класс передовых стран Запада. Сталин ответил, что главная причина такого положения заключается в «исторических связях европейских масс с буржуазной демократией», хотя в современном мире «парламентарная демократия уже не может иметь ценности для рабочего класса»[1613]. Ответ был выдержан в духе линии Коминтерна, хотя советский вождь прекрасно понимал даже малейшие намеки своих собеседников. Для смены политического курса их было явно недостаточно. Решающие стимулы к нему могли прийти только снизу, из стран, где разворачивалась реальная антифашистская борьба. Такой страной стала Франция, где период политической нестабильности достиг своего пика в попытке антиреспубликанского путча 6 февраля 1934 года, когда несколько тысяч фашиствующих молодчиков двинулись на штурм парламента. После этого Париж и крупнейшие французские города на несколько дней охватила волна забастовок и политические демонстрации, в которых плечом к плечу шли коммунисты, социалисты и либералы. Число участвовавших в них перевалило за 4 млн человек[1614].
 Февральское восстание австрийских рабочих было жестоко подавлено правительственными войсками
Вена. Февраль 1934
[Из открытых источников]
Февральское восстание австрийских рабочих было жестоко подавлено правительственными войсками
Вена. Февраль 1934
[Из открытых источников]
Практически одновременно с мирным контрнаступлением французских левых произошло вооруженное восстание в Вене, поводом к которому послужила попытка властей разоружить шуцбунд — боевые отряды австрийской социал-демократии. 12 февраля 1934 года во время такого обыска в городе Линц произошла перестрелка рабочих и полицейских. Волнения вскоре перекинулись в столицу Австрии. Бои в Вене продолжались несколько дней и привели к сотням погибших с обеих сторон. Небольшая компартия Австрии, отбросив теорию «социал-фашизма», поддержала решение социалистов о вооруженном сопротивлении. Около тысячи шуцбундовцев и членов их семей добрались до Москвы, где им был оказан восторженный прием[1615]. 6 мая 1934 года Димитров встретился с первой партией австрийцев, прибывших в СССР. Символическое значение этой встречи было очевидно: герой Лейпцигского процесса беседовал с героями венских баррикад. При этом они являлись членами левой социалистической партии, которая до тех пор считалась злейшим врагом коммунистов. Димитров своими словами передал шуцбундовцам послание Сталина: Коминтерну «не нужны скороспелые коммунисты, ему нужны убежденные солдаты»[1616]. Победа левых партий в Париже и баррикадные бои венских рабочих наглядно показали, что теория «класс против класса», служившая основой для тактики европейских компартий после Шестого конгресса Коминтерна, не имеет под собой никаких оснований. Предпочитая оставаться в тени и не давая никаких директив, Сталин согласился с ее ревизией, на которой настаивал не только герой Лейпцигского процесса, но и сама жизнь. 1 июля 1934 года Димитров отправил генсеку ЦК ВКП(б) список своих вопросов, первым из них поставив следующий: «…правильной ли является огульная квалификация социал-демократии как социал-фашизма?» Многочисленные пометки Сталина на обращении болгарского коммуниста свидетельствовали о том, что он серьезно задумался над перспективой тактического поворота. Но процесс освобождения от старых догм шел крайне медленно, ведь на протяжении предшествовавших лет «линия на обострение борьбы с социал-демократией пронизывала сталинскую правку документов Коминтерна»[1617]. Дополнительным фактором, подталкивавшим вождя к принятию назревших решений, являлся внутренний кризис в ИККИ, где фракция «новаторов» во главе с Димитровым вошла в конфликт с «фундаменталистами», настаивавшими на незыблемости тактической линии предшествующего периода[1618].

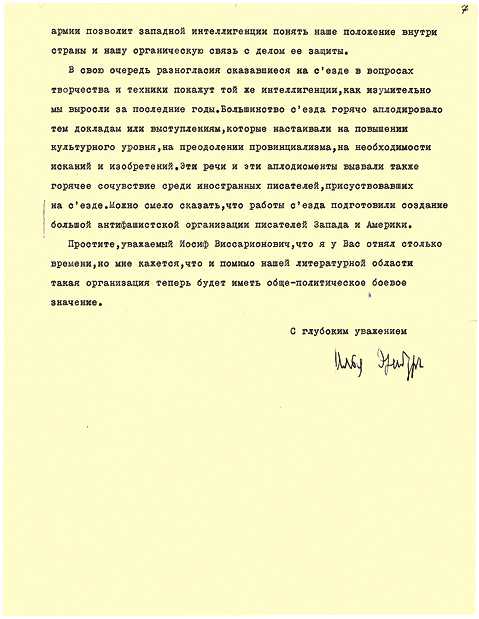 Письмо И. Г. Эренбурга И. В. Сталину о необходимости привлечения либерально настроенных писателей Запада к антифашистской пропаганде
13 сентября 1934
[РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 1. Д. 4591. Л. 4–7]
Письмо И. Г. Эренбурга И. В. Сталину о необходимости привлечения либерально настроенных писателей Запада к антифашистской пропаганде
13 сентября 1934
[РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 1. Д. 4591. Л. 4–7]
Сталину пришлось признать, что либеральные партии и даже «предательская» социал-демократия являются потенциальными союзниками компартий в борьбе против наступления реакции и фашизма. Об этом ему говорил не только Димитров, но и другие наиболее дальновидные люди из окружения генсека, знакомые с реальным положением дел за рубежом. Так, Илья Эренбург в письме от 13 сентября 1934 года отмечал, что политэмигранты, стоящие во главе Международного объединения революционных писателей в Москве, «окончательно оторвались от жизни Запада и не видят тех глубоких перемен, которые произошли в толще западной интеллигенции после фашистского наступления… Положение на Западе сейчас чрезвычайно благоприятно: большинство наиболее крупных, талантливых, да и наиболее известных писателей искренне пойдет за нами против фашизма»[1619]. Признав правоту Эренбурга, Сталин распорядился расширить рамки МОРП, включив в него известных писателей, выступавших против фашизма и в защиту СССР, несмотря на то, что их можно было отнести к числу «буржуазных». Опытные функционеры Исполкома Коминтерна, Димитров и Мануильский почувствовали настроение вождя: не спешить с пересмотром ключевых догм, прощупать шансы нового курса в отдельных странах и прежде всего во Франции. Внимание на нее было обращено потому, что французские лидеры, испуганные приходом к власти Гитлера и его реваншистскими планами, стали проводить курс на сближение с СССР. В ответ на приглашение Франции Политбюро ЦК ВКП(б) 19 декабря 1933 года приняло решение взять курс на вступление СССР в Лигу наций, чтобы в ее рамках «заключить региональное соглашение о взаимной защите от агрессии со стороны Германии»[1620]. Новый внешнеполитический курс Москвы ускорил подготовку Седьмого конгресса Коминтерна, дата открытия которого неоднократно откладывалась. Выступая в комиссии по подготовке конгресса, Димитров требовал от своих соратников не бояться свежих оценок, соизмерять их с радикально изменившимся положением после победы фашизма в Германии. «Пересмотр… наших методов работы на основе опыта последних событий надо совершить смело и безболезненно и, я бы сказал, не считаясь со связывающими нас по рукам и ногам уже существующими тактическими установками»[1621].
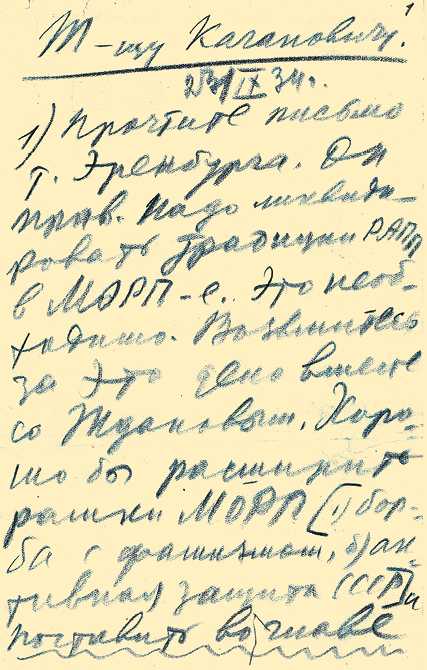
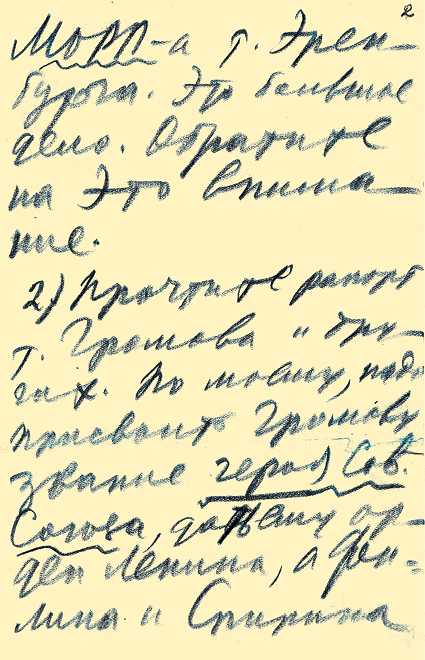 Письмо И. В. Сталина Л. М. Кагановичу о письме И. Г. Эренбурга
23 сентября 1934
[РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 1. Д. 4591. Л. 1–3]
Письмо И. В. Сталина Л. М. Кагановичу о письме И. Г. Эренбурга
23 сентября 1934
[РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 1. Д. 4591. Л. 1–3]
 Колонный зал Дома союзов в день открытия Седьмого конгресса Коминтерна
25 июля 1935
[РГАСПИ. Ф. 494. Оп. 2. Д. 1. Л. 1]
Колонный зал Дома союзов в день открытия Седьмого конгресса Коминтерна
25 июля 1935
[РГАСПИ. Ф. 494. Оп. 2. Д. 1. Л. 1]
Сталин присутствовал на открытии конгресса и первых пленарных заседаниях, которые проходили в обстановке безмерного восхваления «вождя мирового пролетариата». Сам он не выступал на конгрессе, сохраняя за собой функции «отсутствующего режиссера». Однако его образ зримо присутствовал в зале Колонного зала Дома союзов — за сценой, на которой размещался президиум, висели огромные портреты четырех классиков марксизма-ленинизма, последним из которых было изображение самого Сталина.
 И. В. Сталин и Г. М. Димитров в Президиуме первого заседания конгресса
25 июля 1935
[РГАСПИ. Ф. 494. Оп. 2. Д. 13. Л. 1]
И. В. Сталин и Г. М. Димитров в Президиуме первого заседания конгресса
25 июля 1935
[РГАСПИ. Ф. 494. Оп. 2. Д. 13. Л. 1]
Исследователи самой различной идейной ориентации едины в том, что Седьмой конгресс Коминтерна, начавший работу в Москве 25 июля 1935 года, явился важным рубежом в истории коммунистического движения, свидетельством того, что у него открылось второе дыхание. Димитров в своем докладе, посвященном тактике компартий в новых условиях, подчеркнул, что ныне «трудящимся массам в ряде капиталистических стран приходится выбирать… не между пролетарской диктатурой и буржуазной демократией, а между буржуазной демократией и фашизмом». Чтобы не оказаться на обочине политической жизни, Коминтерну следует покончить с «остатками схоластической суетни вокруг серьезных политических вопросов»[1622]. Докладчик признал, что за демократические ценности готовы сражаться не только коммунисты, но и социалисты, либералы, а в социальном разрезе — средние слои общества. Возможность их сотрудничества освящалась ленинскими традициями единого рабочего фронта, причем, как и ранее, вопрос о вхождении коммунистов в органы власти предполагалось ставить только в условиях революционной ситуации. В традициях Коминтерна новая тактика, предусматривавшая сплочение всех антифашистских сил, получила название «народный фронт». В последующие годы она с разным успехом применялась коммунистами во многих странах мира, приведя их к поддержке социал-либеральных кабинетов в таких странах, как Франция, Испания, Чили, и некоторых других.
 Георгий Димитров выступает на Седьмом конгрессе с докладом о задачах компартий в борьбе с фашизмом
25 июля — 20 августа 1935
[РГАСПИ. Ф. 494. Оп. 2. Д. 64. Л. 1]
Георгий Димитров выступает на Седьмом конгрессе с докладом о задачах компартий в борьбе с фашизмом
25 июля — 20 августа 1935
[РГАСПИ. Ф. 494. Оп. 2. Д. 64. Л. 1]
Подготовка Седьмого конгресса поставила вопрос об организационных перспективах международного коммунистического движения. Ключевые идеи в этой области были изложены в письме Димитрова Сталину от 6 октября 1934 года (он единственный из работавших в Москве иностранных коммунистов вел постоянную переписку с советским вождем[1623]).

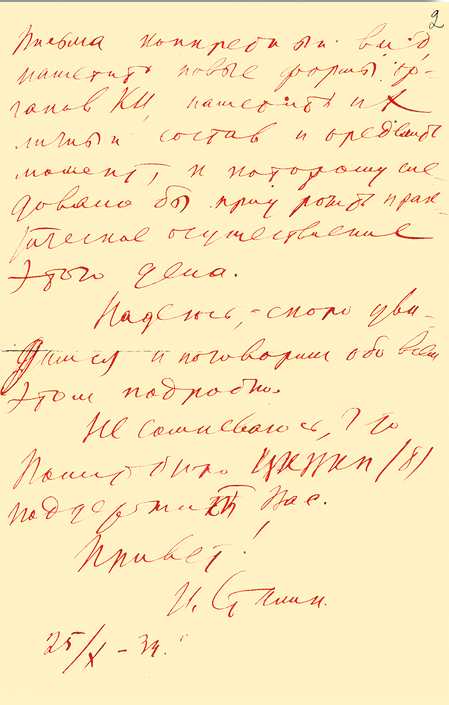 И. В. Сталин согласился с предложениями Г. М. Димитрова о пересмотре методов работы и структуры Коммунистического интернационала
25 октября 1934
[РГАСПИ. Ф 558. Оп. 1. Д. 3162. Л. 1–2]
И. В. Сталин согласился с предложениями Г. М. Димитрова о пересмотре методов работы и структуры Коммунистического интернационала
25 октября 1934
[РГАСПИ. Ф 558. Оп. 1. Д. 3162. Л. 1–2]
 Члены Президиума и Секретариата ИККИ, избранные на Седьмом конгрессе Коминтерна
Стоят слева направо: финский делегат О. В. Куусинен, чехословацкий делегат К. Готвальд, германский делегат В. Пик, делегат от СССР Д. З. Мануильский; сидят слева направо: генеральный секретарь ИККИ Г. М. Димитров, итальянский делегат П. Тольятти, германский делегат В. Флорин, китайский делегат Ван Мин
20 августа 1935
[РГАСПИ. Ф. 494. Оп. 2. Д. 55]
Члены Президиума и Секретариата ИККИ, избранные на Седьмом конгрессе Коминтерна
Стоят слева направо: финский делегат О. В. Куусинен, чехословацкий делегат К. Готвальд, германский делегат В. Пик, делегат от СССР Д. З. Мануильский; сидят слева направо: генеральный секретарь ИККИ Г. М. Димитров, итальянский делегат П. Тольятти, германский делегат В. Флорин, китайский делегат Ван Мин
20 августа 1935
[РГАСПИ. Ф. 494. Оп. 2. Д. 55]
Недостаткиполитической работы ИККИ объяснялись «невозможностью оперативно руководить из Москвы всеми секциями Коминтерна, находящимися в самых разнообразных условиях… Основная наша слабость как раз и состоит в отсутствии на местах твердого, уверенного, самостоятельного руководства»[1624]. Димитров предложил доверить компартиям решение широкого спектра вопросов, а при их несогласии с принятыми Исполкомом решениями задействовать механизм вторичного обсуждения.
 Пальмиро Тольятти (Эрколи)
1930-е
[Из открытых источников]
Пальмиро Тольятти (Эрколи)
1930-е
[Из открытых источников]
Сталин, отдыхавший осенью 1934 года в Сочи, в своем кратком ответе согласился с планом Димитрова, предоставив тому известную свободу действий: «Теперь дело в том, чтобы придать положениям Вашего письма конкретный вид, наметить новые формы органов КИ, наметить их личный состав и определить момент, к которому следовало бы приурочить практическое осуществление этого дела»[1625]. Вскоре делегация ВКП(б) в Коминтерне получила следующую директиву Политбюро: «Свое руководство отдельными секциями Коммунистический Интернационал должен осуществлять на основе тщательного и всестороннего изучения и учета конкретных условий и особенностей коммунистического движения данной страны, избегая всяких элементов командования и применяя методы разъяснения, убеждения и товарищеского совета»[1626]. 5 августа находившийся на Кавказе Сталин пришел к выводу, что «конгресс КИ вышел неплохой. Он будет еще более интересным после докладов Димитрова и Эрколи», с которыми генсек, очевидно, был ознакомлен заранее. В том же письме Молотову давались советы о реорганизации Исполкома: «Думаю, пора создать в системе Коминтерна институт первого секретаря (генсека). Полагаю, что можно было бы первым секретарем наметить Димитрова»[1627]. Через пять дней Политбюро опросом приняло решение о ликвидации Политсекретариата ИККИ и создании семи секретариатов, каждый из которых имел четко очерченную сферу компетенций. Коминтерн вернулся к формальному единоначалию, пост генерального секретаря ожидаемо достался Димитрову. Конфликт между его сторонниками и старым поколением руководителей Коминтерна был разрешен следующим образом: «ввиду заявления тт. Димитрова и Мануильского, поддержанного т. Сталиным, о невозможности совместной работы в руководящих органах ИККИ» Пятницкий, отдавший пятнадцать лет работе в Коминтерне, был переведен «на другую работу» и ровно через два года арестован[1628]. Из данного решения следует, что куратором от российской партии в Коминтерне стал Мануильский, добившийся ухода из этой организации своего главного оппонента. Отношения между ним и Пятницким всегда были непростыми, хотя до поворота к народному фронту их конфликт не имел политической подоплеки[1629]. Решающую роль в его исходе сыграло то, что Мануильский, не обладавший таким же авторитетом, как старый большевик Пятницкий, сумел добиться расположения Сталина, согласовывая с ним каждый свой шаг. Так, уже 19 декабря 1934 года он жаловался генсеку на то, что «разногласия, связанные с новой обстановкой, сложившейся в мировом рабочем движении, крайне осложняют нормальные отношения в нашей руководящей верхушке. И из этого мы не выберемся без Вашего решающего слова. Говоря так, я имею в виду не разбор каких-нибудь личных конфликтов, имеющих самое маловажное значение в существе дела, а Вашу помощь в решении тех крупнейших политических вопросов, которые стоят перед Коминтерном»[1630]. Просьбы подобного рода импонировали вождю, и по итогам Седьмого конгресса Мануильский сохранил свое место в Секретариате Коминтерна. После завершения конгресса работа его Исполкома сосредоточилась на претворении в жизнь тактики антифашистского народного фронта. Во Франции правительство Леона Блюма, поддержанное коммунистами, начало претворять в жизнь широкий спектр реформ, включавших в себя резкое повышение зарплаты, введение 40-часовой рабочей недели, рост социальных гарантий для работающих по найму, запрет фашистских организаций. В Испании левые партии, одержавшие победу на парламентских выборах в феврале 1936 года, все силы бросили на подавление военного мятежа, который возглавил генерал Франко. В стране началась кровопролитная гражданская война. По инициативе Коминтерна, одобренной Сталиным и Ворошиловым, в помощь республиканскому правительству из всех уголков Европы стали направляться добровольцы, формировавшие интернациональные бригады[1631]. Свою специфику новая линия Коминтерна приобрела в Китае, где национально-освободительные силы вели войну против японских оккупантов. Лидеры местной компартии, контролировавшие значительные воинские соединения, никак не могли определить свою позицию по отношению к Гоминьдану. Период колебаний закончился только в июле 1936 года, когда по согласованию со Сталиным Димитров направил руководству КПК директиву, осуждавшую левацкие ошибки предшествующего периода («Мы думаем, что неправильно ставить Чан Кайши на одну доску с японскими захватчиками»)[1632].
 Иосиф Виссарионович Сталин
1937
[РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 1650. Л. 18 об.]
Иосиф Виссарионович Сталин
1937
[РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 1650. Л. 18 об.]
Перед партией была поставлена задача «объединения всех антияпонских сил для защиты территориальной целостности Китая и предохранения китайского народа от полного колониального порабощения»[1633]. При этом Секретариат ИККИ разъяснял китайским коммунистам, что «курс на создание единого антияпонского национального фронта вовсе не предполагает ослабления Советов, растворения Красной армии в общей антияпонской армии и коммунистической партии в какой-то общей политической лиге Китая»[1634]. Это дезориентировало местных коммунистов, которые на свой страх и риск налаживали утраченные контакты с руководителями Гоминьдана высшего и среднего уровня. Сталин внимательно следил за новыми кадрами в китайской компартии, выделяя практиков и не особенно жалуя теоретиков, погрязших в догматических спорах. Проявив не только личное мужество, но и тактическую гибкость, на первые роли в КПК выдвинулся герой «великого северного похода» Мао Цзэдун. Хотя Сталин не встречался с ним до 1949 года, именно он сделал ставку на молодого амбициозного лидера, который выглядел скорее вожаком крестьянского бунта, нежели теоретически подкованным марксистом[1635].
6.14. Последние годы Коминтерна
В годы перестройки в распоряжении историков оказался уникальный документ, до того скрытый в архиве болгарской компартии. Речь идет о дневнике Димитрова, в котором тот скрупулезно фиксировал замечания, советы и директивы, полученные во время личных встреч со Сталиным. Если в 1936 году среди обсуждавшихся тем доминировало положение в Китае, то со следующего года генсек главное внимание уделял отставанию коминтерновских структур в разоблачении «врагов народа». Не щадя авторитета Димитрова, Сталин заявил 11 февраля 1937 года, что подготовленное в связи со вторым показательным процессом постановление ИККИ является «чепуховым. Вы все там в Коминтерне работаете на руку противника»[1636]. Нетрудно себе представить, как заерзал болгарский коммунист в своем кресле, расположенном в ложе Большого театра, где состоялся этот разговор — как и любой другой человек в Советском Союзе, он не чувствовал себя в безопасности. Правда, известной страховкой для Димитрова было то, что ему, тогда рядовому сотруднику аппарата Исполкома, не пришлось принимать участия во внутрипартийном конфликте середины 1920-х годов. В упреках Сталина была своя логика — в середине 1930-х годов резко вырос поток политэмигрантов, прибывавших в Советский Союз из европейских стран, где установились авторитарные или фашистские режимы. В условиях набиравшей силу шпиономании именно они, проходившие проверку в отделе кадров ИККИ, выступали связующим звеном между иностранными разведками и Троцким, с одной стороны, и диверсантами и вредителями в СССР. Нельзя сказать, что аппарат Коминтерна не был затронут подобными настроениями. Уже в начале 1936 го-да по инициативе Мануильского было подготовлено решение, предусматривавшее персональную ответственность представителя той или иной компартии за политических эмигрантов и других лиц, направляемых на территорию СССР[1637]. Вильгельм Георгиевич Кнорин
Июль 1924
[РГАСПИ. Ф. 492. Оп. 2. Д. 205. Л. 1]
Вильгельм Георгиевич Кнорин
Июль 1924
[РГАСПИ. Ф. 492. Оп. 2. Д. 205. Л. 1]
В те же дни Секретариат ИККИ решил «поставить в Президиуме вопрос о повышении бдительности во всех секциях Коминтерна и о мероприятиях против проникновения в их ряды провокаторов и агентов классового врага»[1638]. Чуть позже было принято еще одно решение, которое впоследствии сыграет важную роль в развертывании репрессий по отношению к иностранным коммунистам: отделу кадров ИККИ было поручено принять на себя контроль за их переводом в ВКП(б). На него возлагалась ответственность за любые случаи проникновения на территорию СССР лиц, подозрительных по шпионажу. «Исключения возможны только по требованию соответствующих инстанций», т. е. органов НКВД[1639]. В период массовых репрессий коминтерновский аппарат находился под двойным подозрением не только в силу пропагандистской ксенофобии, но и из-за сохранявшихся у него особых связей с внешним миром. Его руководителям приходилось балансировать между участием в репрессиях, охвативших весь Советский Союз, и сохранением дееспособности собственных структур. Тот факт, что в ходе первого показательного процесса в августе 1936 года на скамье подсудимых оказались члены КПГ и сотрудники Исполкома Коминтерна, заставил их удвоить свою энергию. Сразу же после завершения процесса Секретариат ИККИ развернул широкую кампанию по пропаганде его итогов. В ответ на «антисоветский вой международной реакции» зарубежные компартии в срочном порядке должны были организовать «выступления ЦК партии, партийных организаций, массовых собраний, в частности социал-демократических рабочих, с выражением братской солидарности с трудящимися СССР, руководством ВКП и вождем международного пролетариата тов. Сталиным»[1640]. Это не остановило маховика репрессий в центральном аппарате ИККИ[1641]. 10 октября 1937 года оттуда в ЦК ВКП(б) был направлен запрос об укреплении кадрового состава в связи с тем, что многие сотрудники после многочисленных проверок и чисток были уволены или «переданы» органам НКВД[1642]. На конец 1937 года пришлись самые жесткие указания Сталина о необходимости продолжать репрессии, зафиксированные в дневнике Димитрова. Во время парада и демонстрации на Красной площади Сталин разъяснил тому, что руководившие Коминтерном Кнорин и Бела Кун являются шпионами, а Пятницкий — изобличенный троцкист. Три дня спустя из уст вождя вновь прозвучал упрек в том, что ИККИ лишь формально участвует в пропагандистской кампании, оправдывающей необходимость Большого террора: «…это недостаточно. Троцкистов надо гнать, расстреливать, уничтожать. Это всемирные провокаторы, злейшие агенты фашизма»[1643]. По мнению ряда историков, масштабные репрессии среди высшего эшелона сотрудников ИККИ, отстраненных от работы по тем или иным причинам, свидетельствовали о том, что органы НКВД в 1936–1937 годах готовили еще один показательный процесс, призванный доказать, что штаб-квартира Коминтерна в Москве превратилась в шпионское гнездо[1644]. Знакомство с десятью томами «антикоминтерновского» дела показывает, что следователи НКВД не выдумали все свои обвинения от первого до последнего слова[1645]. Они лишь препарировали в нужном смысле ту реальную борьбу, которая шла в верхушке Коминтерна накануне его Седьмого конгресса. В августе 1939 года компартии ожидало новое испытание. Заключив пакт о ненападении с нацистской Германией, Советский Союз радикально изменил свой внешнеполитический курс. Сталин сделал ставку на позицию третьего радующегося в разгоравшемся военном конфликте. В течение недели, прошедшей между подписанием пакта и началом Второй мировой войны, компартии получали от руководящих органов Коминтерна противоречивые директивы. Одобрение внешнеполитического поворота СССР сочеталось в них с сохранением антифашистских установок. После настоятельных просьб Димитрова 7 сентября 1939 года состоялась его встреча со Сталиным, Молотовым и Ждановым. Генсек ИККИ тщательно записал в своем дневнике позицию советского вождя: «Война идет между двумя группами капиталистических стран… за передел мира, за господство над миром! Мы не прочь, чтобы они подрались хорошенько и ослабили друг друга». Сталин признал, что «пакт о ненападении в некоторой степени помогает Германии», а следовательно, «нужно подталкивать другую сторону», чтобы ни одна из воюющих коалиций не получила решающего преимущества. Это означало, что коммунисты в странах, объявивших войну Гитлеру, не должны поддерживать линию своих правительств. «До войны противопоставление фашизму демократического режима было совершенно правильно. Во время войны… деление капиталистических государств на фашистские и демократические потеряло прежний смысл»[1646]. Уже на следующий день Исполком Коминтерна разослал компартиям краткую директиву, в основу которой были положены указания Сталина. В ней война расценивалась как империалистическая и несправедливая с обеих сторон. Коммунистов призывали поддержать Советский Союз, в интересах которого было не скорейшее прекращение, а расширение и дальнейшая радикализация военного конфликта империалистических держав, причем не делалось никакой разницы между Германией и ее противниками. «Война ведется между двумя группами капиталистических стран за мировое господство. Международный пролетариат не может ни в коем случае защищать фашистскую Польшу, отвергнувшую помощь Советского Союза, угнетающую другие национальности»[1647]. Такая установка, продиктованная Сталиным, способствовала тому, что антигитлеровский стержень политики Коминтерна и его национальных секций был уничтожен. Это привело к их изоляции и даже объявлению вне закона в странах, которые объявили войну нацистской Германии. «Удар в пропаганде направлялся против империализма в целом, с акцентированием особой опасности англо-французского империализма. Был выдвинут лозунг единого народного фронта снизу, то есть, по существу, вновь повторялись сектантские лозунги конца 20-х — начала 30-х годов»[1648]. В таких условиях Коминтерн скорее мешал, чем помогал реализации внешнеполитического курса СССР на первом этапе Второй мировой войны. С этим была связана идея Сталина, озвученная в апреле 1941 года, о его роспуске и предоставлении самостоятельности компартиям, поскольку «теперь на первый план выступают национальные задачи для каждой страны». Согласно записи Димитрова, генсеком «резко и ясно поставлен вопрос о дальнейшем существовании Коммунистического Интернационала на ближайший период и новых формах интернациональных связей и интернациональной работы в условиях мировой войны»[1649]. Уже на следующий день эта идея была обсуждена в Секретариате ИККИ и, что являлось само собой разумеющимся, нашла полную поддержку Эрколи и Мориса Тореза. Вероятно, идея роспуска Коминтерна была пробным шаром, использованным Сталиным для того, чтобы прощупать реакцию своего окружения. Речь шла не только о продолжении курса на «национализацию» официальной идеологии, но и о поиске адекватных уступок Гитлеру, чтобы продлить нейтралитет Советского Союза. Как и в 1918 году, руководство страны пыталось лавировать между двумя воюющими державами, извлекая выгоды из обеспеченной усилиями дипломатов «передышки». Отличие заключалось в том, что за Брестский мир с Германией большевистское руководство заплатило огромными территориальными потерями, а пакт о ненападении, подписанный Молотовым и Риббентропом, позволил возвратить их (за некоторыми исключениями) в состав Советского Союза. Но главное было в другом. В 1918 году Ленин и его соратники, выдержав острую борьбу против «левых коммунистов», настаивавших на продолжении войны, превратившейся, по их мнению, в революционную, сделали правильную ставку на то, что Германия находится на грани военной и политической катастрофы. Вероятно, такую ставку делал и Сталин, не веривший в то, что «шустрому парню» Гитлеру удастся завоевать всю континентальную Европу. Тем большей трагедией обернулось нападение нацистской Германии и ее союзников на Советский Союз, повлекшее за собой оккупацию значительной части страны вплоть до Москвы и Волги. Исполком Коминтерна сразу же после 22 июня 1941 года призвал коммунистические партии к решительному повороту в своей политике: отныне следовало всеми силами защищать СССР от нацистской агрессии. Димитров «поправил» английскую компартию, которая догматически изобразила «вероломное нападение германского фашизма на СССР как войну между двумя системами — капитализмом и социализмом. Так характеризовать германо-советскую войну — это значит помогать Гитлеру в деле сплочения вокруг себя антисоветских элементов в капиталистических странах»[1650]. Стало ясно, что для Советского Союза она приобретает национально-освободительный характер, становится отечественной, и коминтерновская идеология здесь оказалась совершенно неуместной. Исполком давал руководящие указания компартиям открытым текстом: «Болтовня о мировой революции оказывает услугу Гитлеру и мешает международному объединению антигитлеровских сил»[1651].
 Постановление ЦК ВКП(б) с разъяснением причин роспуска Коммунистического Интернационала
21 мая 1943
[РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 163. Д. 1368. Л. 213]
Постановление ЦК ВКП(б) с разъяснением причин роспуска Коммунистического Интернационала
21 мая 1943
[РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 163. Д. 1368. Л. 213]
На сей раз соответствующие директивы были продиктованы Коминтерну Молотовым — Димитров смог встретиться с ним только 30 июня 1941 года. В начале июля были согласованы участие компартий в радиопропаганде на территории европейских стран, оккупированных Германией, а также заброска за линию фронта кадровых коммунистов из числа эмигрантов[1652]. ЦК болгарской компартии поставил перед ИККИ вопрос об организации восстания в стране против прогерманского курса царя Бориса. Сталин охладил пыл БКП, лидеры которой хотели любой ценой облегчить положение Советского Союза в первые недели Великой Отечественной войны: «Никакого восстания сейчас. Разобьют рабочих. Пока мы не можем оказать никакой помощи. Попытка к восстанию будет провокацией»[1653]. Как государственный деятель Сталин прекрасно понимал, что подобная авантюра еще больше привяжет Болгарию к странам гитлеровской коалиции. Просьбы Димитрова Сталину «дайте нам Ваши советы и указания» продолжались на протяжении всех военных лет. Лидер Коминтерна вводил советское руководство в курс дел относительно антифашистской радиопропаганды и партизанского движения на территории оккупированных нацистами стран Европы. Димитров требовал от Иосипа Броз Тито, чтобы его подпольная армия в своей деятельности избегала любых намеков на то, что «партизанское движение приобретает коммунистический характер и направлено на советизацию Югославии»[1654]. В свою очередь, к Сталину была обращена настоятельная просьба повлиять по дипломатическим каналам на югославское правительство в изгнании, чтобы не допустить распыления сил антифашистского сопротивления на Балканах. Разговор о роспуске Коминтерна вновь возник весной 1943 года. Хотя вопрос был поднят в беседе Димитрова с Молотовым и Мануильским, очевидно, что его инициатором был сам Сталин. Исследователи едины в том, что в основе такой инициативы лежало стремление укрепить антигитлеровскую коалиции и подтолкнуть западные державы к открытию второго фронта. Споры идут о том, был ли роспуск единого центра управления компартиями «окончательным доказательством банкротства идеи мировой революции в глазах СССР» или простой модернизацией «аппарата и механизмов» советского контроля[1655]. Проект постановления о роспуске Коминтерна, одобренный Сталиным, обсуждался на заседании Президиума ИККИ 13 мая 1943 года. Даже сухой протокол выдает растерянность коминтерновцев, тщательно подбиравших слова обоснования и поддержки уже принятого решения. Венгр Матьяш Ракоши привел исторические параллели: «Ленину было тоже трудно заменять продразверстку продналогом, но он пошел на это, исходя из интересов революции». Француз Морис Торез ссылался на довоенные успехи своей партии: «Старая форма международного объединения рабочих себя изжила. Уже до войны французская партия росла благодаря применению политики „народного фронта“». Вильгельм Пик, один из основателей компартии Германии, признал, что еще вчера сомневался в необходимости роспуска Коминтерна именно в тот момент, когда коренной перелом в войне с фашизмом стал необратимым. «Трудно ответить, зрелы ли все партии настолько, чтобы могли самостоятельно решать свои задачи». Старейший член ИККИ болгарин Васил Коларов указал на то, что Коминтерн «давно перестал быть на деле руководящим органом. Перестал потому, что изменилась обстановка. Существует СССР, это новый фактор такой огромной силы, что Коминтерн кажется архаизмом». Его поддержали испанка Долорес Ибаррури и француз Андре Марти: «Не нужно хвататься за изжившие себя организационные формы… Роспуск Коминтерна диктуется тем обстоятельством, что существование Коминтерна создает много невыгод, а выгоды от него мало»[1656]. Практически каждый из высказавшихся на этом заседании возглавит послевоенные компартии, а представители стран Центральной Европы, которые после завершения Второй мировой войны попадут в сферу влияния СССР, займут ключевые государственные посты в государствах «народной демократии». Сталин не оставил сомнений в том, что никто из питомцев Коминтерна не будет брошен на произвол судьбы после роспуска этой организации. Он просил Димитрова «не оставлять такого впечатления, что просто выгоняем руководящих иностранных товарищей»[1657]. 19 мая 1943 года в Президиуме ИККИ обсуждалась судьба центрального аппарата и структур Коминтерна. Хотя все иностранные представители высказались за передачу вещания на свои страны национальным радиостанциям, прошла точка зрения Мануильского, согласно которой этот канал антифашистской пропаганды не должен заменить собой передачи советского Инорадио[1658]. Архив, библиотека, журналы и издательства Коминтерна передавались в ведение ЦК ВКП(б), его руководящие кадры составили Отдел международной информации в структуре центрального аппарата большевистской партии. Сталин торопил Димитрова с публикацией постановления Коминтерна, которое должно было быть одобрено руководством национальных компартий. Об этом шла речь на заседании Политбюро 21 мая, в котором приняли участие Димитров и Мануильский. Оно состоялось в кремлевском кабинете Сталина, и тот в своей речи сделал важные дополнения к имевшим место аргументам в пользу роспуска Коминтерна. Первый из них не раскрывался, однако выглядел как упрек в адрес отцов-основателей этой организации: «Мы переоценили свои силы, когда создавали К. И. и думали, что сможем руководить движением во всех странах. Это была наша ошибка. Дальнейшее существование КИ — это будет дискредитация идеи Интернационала, чего мы не хотим»[1659]. Уместно заметить, что Сталин в устах даже самых подобострастных соратников не являлся творцом Коминтерна, поэтому данный упрек нельзя было рассматривать как критику в адрес единственного оставшегося в живых «отца-основателя». Второй аргумент представляется более важным признанием: «…компартии, входящие в КИ, лживо обвиняются, что они являются якобы агентами иностранного государства, и это мешает их работе среди широких стран. С роспуском КИ выбивается из рук врагов этот козырь». Современный уровень исследований по истории Коминтерна показывает, что подобные обвинения отнюдь не были «лживыми», да и последующая история коммунистического движения демонстрирует то, что упомянутый Сталиным «козырь» продолжал оставаться в руках западной пропаганды[1660]. В эти дни лидер ВКП(б) встречался с эмиссаром правительства США Джозефом Дэвисом и попытался использовать данный аргумент против своего оппонента. Автору уже приходилось высказывать мнение о том, что форсированный роспуск Коминтерна невозможно понимать вне контекста Второй мировой войны. Война вынудила советское руководство пойти на уступки во внутриполитической жизни, а на международной арене подтолкнула сталинский режим к пусть даже частичному, но все же высвобождению коммунистического движения из-под своего контроля. В условиях нацистской оккупации многие компартии и так были предоставлены сами себе, искали свои пути участия в национальном Сопротивлении. Нельзя сбрасывать со счетов и то, что для Сталина, с его стремлением к территориальной экспансии, идеология панславизма могла показаться более привлекательной, чем пролетарский интернационализм. Поэтому тот факт, что именно в мае 1943 года в Москве открылся Конгресс славянских народов, вряд ли был простым совпадением[1661]. Так или иначе, роспуск Коминтерна был единоличным решением Сталина (оформленным позже как выражение воли самих компартий), которое он вынашивал на протяжении как минимум военного периода. «Главной заботой Сталина была безопасность СССР, и здесь Коминтерн пережил свое предназначение. Он оказался явной помехой для успешного ведения войны и послевоенных перспектив Советского Союза»[1662]. Не дотянув нескольких месяцев до своего четвертьвекового юбилея, Коммунистический Интернационал тихо скончался. При этом он пережил почти всех своих основателей и кураторов из рядов российской компартии, которые служили продвижению вперед идей и практики «мирового большевизма».

Последние комментарии
30 минут 55 секунд назад
36 минут 28 секунд назад
40 минут 6 секунд назад
40 минут 40 секунд назад
46 минут 18 секунд назад
1 час 3 минут назад