Ненависть к музыке. Короткие трактаты [Паскаль Киньяр] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
Киньяр Паскаль. Ненависть к музыке: короткие трактаты
Pascal Quignard LA HAINE DE LA MUSIQUE PETITS TRAÎTÉS
Трактат I СЛЕЗЫ СВЯТОГО ПЕТРА
Наготу беспощадно израненного незрелого звука, что таится, никак себя не проявляя, на самой глубокой нашей глубине, мы облекаем в пелены. Пелены трех видов — кантаты, сонаты, поэмы. То, что поется. То, что звучит. То, что декламируется. Под этими покровами мы силимся скрыть от чужих ушей шумы нашего тела — так же, как скрываем от собственного слуха иные звуки, иные весьма древние стенания.*
Mousikè, гласит один из стихов Гесиода[1], орошает печаль несколькими каплями забвения. А печаль для души то же, что винный осадок для амфоры, в которой хранится вино. Максимум, чего можно желать, это не взболтать его. В Древней Греции муза того, что мы называем mousikè, звалась Эрато[2]. Она была прорицательницей Пана, бога паники, шествующего в трансе от возлияний и съеденной человеческой плоти. Шаманам передавалось вдохновение от зверей, жрецам — от человеческих жертв, аэдам[3] — от муз.*
Это всегда жертвы. Творения, как бы ни хотелось им казаться современными, всегда несвоевременны для времени, которое их принимает или отвергает. Они всегда навеяны паникеями[4]. Паникеи, с их языческими тирсами, флейтами Пана и исступленными миметическими песнопениями (на латыни bacchatio[5]) — это церемонии, на коих полагалось растерзать юношу и съесть его плоть сырой тут же, на месте. Так был растерзан и съеден Орфей. Муза Эвтерпа[6] подносит к губам флейту. Аристотель пишет в «Политике»[7], что у музы заняты руки и рот, — так же, как у проститутки, которая взбадривает губами и пальцами physis[8] клиента, чтобы тот встал дыбом в низу живота и изверг семя. Произведения (les opéra) не могут создаваться людьми, свободными от дела. Все, что действует, занято. В этом заключена «озабоченность» печали. Французское слово le souci[9] означает «забота». Это тот самый осадок в амфоре: труп, мертвец, без коего вино — не вино. Флейту изобрела Афина[10]. Именно она смастерила первую флейту (на греческом aulos, на латыни tibia — полая кость, взятая из голени), дабы подражать крикам, которые испускали, как она слышала, птицы-змеи с золотыми крыльями и кабаньими клыками. Их пение завораживало, повергало людей в ступор и позволяло убивать их в этот миг цепеня-щего ужаса. Цепенящий ужас — это первое мгновение гомофагической[11] паники. Tibia сапеге — заставить петь кость, взятую из голени. Силен Марсий сказал Афине, что, когда она дует в свои tibia, подражая пению Горгоны, рот у нее раззявлен, щеки раздуты, а глаза выпучены. Марсий крикнул: «Брось флейту. Расстанься с этой гримасой, что уродует твой рот, и этой песнью, что наводит страх!» Но Афина не вняла. Однажды во Фригии, играя на флейте у реки, богиня увидела в воде свое отражение, и вид собственного перекошенного рта ужаснул ее. Она тотчас отбросила флейту подальше, в заросли прибрежного тростника. И обратилась в бегство. Тогда Марсий подобрал флейту, брошенную богиней.*
Я размышляю над тем, что связывает музыку с озвученным страданием.*
Ужас и музыка. Mousikè и pavor. Эти два слова объединяет, кажется мне, какая-то необъяснимая связь — какими бы инородными по отношению друг к другу и анахроническими они ни были. Словно член и повязка, которая его скрывает. Повязка — это то, что стягивает кровоточащую рану; что скрывает стыдную наготу; что пеленает тельце младенца, когда он, выскользнув из мрака материнского чрева и обретя голос, издает свой первый крик, устанавливающий ритм его «животного» дыхания, которое не покинет его до самой смерти. Старинный римский глагол solor[12] означает отвращать то, что навязчиво преследует человека. Облегчать тяжесть, лежащую на сердце, смягчать горечь, разъедающую душу. Унимать то, что причиняет жгучую боль, беспрестанно грозя встрепенуться, вскочить в паническом, лихорадочном порыве. Вот отчего французы говорят, что муза «утишает» душевную боль. Из этого понятия родилось латинское слово consolatio — утешение. Когда Римская империя распалась на провинции, когда социальные связи и religio[13], объединявшие территории, порвались или претерпели изменения по воле христианской партии и варваров — во всяком случае, ариев, которые и сами были христианами в первые годы VI века, — некий римский просвещенный патриций был заключен в темницу по приказу короля остготов Теодориха, сперва в Кальвенцано, потом в башне Павии. Там этот молодой эрудит, неоплатоник, порфирианец[14], аммонианец[15] Аниций Манлий Торкват Северин Боэций[16], супруг пра-правнучки Симмаха[17], навсегда разлученный с телом своей супруги, написал труд, озаглавленный De consolatione philosophiae[18]. Было ли что-нибудь для philosophia важнее, нежели утешение (solor) души? Увы, настал осенний день, когда написание книги было прервано ударом топора. Произошло это 23 октября 524 года. Но перед тем, как узника обезглавили в темнице башни Павии, дух мира усопших — imago, «утешительный образ», явился ему в виде некой женщины. Я цитирую отрывок из Prosa I — первого тома Consolatio: «Пока я молча размышлял в тишине, пока запечатлевал свой безмолвный стон стилусом на табличке, мне вдруг почудилось, будто над моею головой реет гигантская женщина, то молодая, то старая, прямая, как статуя. Глаза ее извергали пламя, точно два факела…». Консерватория. Консолатория[19]. Йозеф Гайдн[20] описывал в дорожной книжке для учета расходов, которую возил с собой в путешествия, как он пытался умерить застарелую звуковую муку, начавшую его терзать примерно в 1730-е годы, — воспоминания о деревне Рорау на австрийско-венгерской границе: журчание Лайты; мастерская каретника, неграмотный отец, доски для повозок, изучение свойств ясеня, вяза, дуба, граба; оглобли, колёса и дышла; наковальня кузнеца, грохот киянок, визг зубастой пилы, — короче сказать, все душераздирающие детские впечатления, что неудержимо рвались в его ритмы. Он защищался от них, сочиняя музыку. Вплоть до нескольких месяцев, предшествовавших его смерти, месяцев, когда эти ритмы поглощали его со скоростью, не дававшей ему не только преображать их в мелодии, но даже записывать. На него нахлынуло разом всё, что невозможно воплотить в речи и запомнить, — иными словами, то, что невозможно произнести вслух и тем самым предать смерти. Неизъяснимое. Гайдн говорил, что в нем звучат те самые удары молотка, которые услышал Бог, — молотка, вбивавшего гвозди в Его живые руки и дробившего Его связанные[21] живые ноги в тот грозовой день, когда Он висел на кресте, воздвигнутом на вершине холма. Мы садимся в кресло. Осушаем старые слезы, очень старые, куда древнее, чем идентичность, которую мы себе придумываем. Эти слезы подобны женщине, стоящей возле ложа Боэция, — они «поочередно то молоды, то стары». Если выбирать из двух выражений — «Мы слушаем музыку» или «Мы осушаем слезы, подобные тем, что проливал святой Петр», — я нахожу более точной вторую формулировку. Отдаленное кукареканье на птичьем дворе внезапно повергает в рыдания человека, который стоит в подворотне дома в первые дни апреля, за несколько минут до того, как заря рассеет ночной мрак. Это пение того самого петуха, которого с тех пор водружают[22]на колокольнях церквей христианского мира (без сомнения, для того чтобы закрепить воспоминание о бурных чувствах, которые эти звуки вызывают или только предваряют, давая им выход). Остатки прошлого указывают погоду предстоящего дня. А иные звуки, иные рулады неслышно подсказывают нам, какая «древняя погода»[23] царит нынче у нас в душе.*
Около тысячного года, находясь во дворце императрицы в Киото, Сэй-Сёнагон[24] много раз записывала в своем дневнике, какие шумы и звуки ее волновали; этот дневник она сворачивала в трубку и прятала внутри деревянного подголовника перед тем как улечься на ложе. Сильнее всего ее трогал звук колес прогулочных экипажей, едущих по сухой дороге летом, в конце дня, когда вечерний сумрак уже окутывает все обозримое пространство земли. (Хотя, похоже, она не воспринимала его во всей полноте или же не понимала причин своего волнения, поскольку одиночество и целомудренная жизнь подавляли ее чувства. Эти звуки приносили с собой ощущение радости, или жажду радости, или, быть может, приятную иллюзию, характерную для тяги к радости.)*
Эта придворная дама, особо приближенная к императрице Садако, добавляла: «Услышать, как постукивают за перегородкой палочки для еды, сталкиваясь между собой. Услышать звяканье ручки сосуда, в который наливают рисовое вино. И слабые отзвуки голосов за перегородкой».*
Музыка естественным образом связана с темой звука из-за перегородки. В самых древних сказаниях можно найти эту тему настороженного подслушивания, признания, нечаянно услышанного сквозь ткань драпировки в датских замках[25], или через стену в Риме, в Лидии, или через тростниковую ширму в Египте. Можно допустить, что слушание музыки заключается не столько в том, чтобы отвлечь человеческий дух от звукового страдания, сколько в том, чтобы попытаться воссоздать врожденную, животную чуткость. Характерная черта гармонии состоит в возрождении звукового любопытства, исчезающего, как только мы получаем в дар от природы связную, четкую речь.*
Первые годы V века, Рим. Апронения Авиция[26] пишет письмо, которое начинается словами «Раепе evenerat ut tecum…»[27], и говорит в одном месте о том, как глубоко потряс ее «волнующий звук рожка с игральными костями, когда его встряхивают». Затем она переходит к другим темам. Бывают шумы, которые «взыгрывают» в каждом из нас. И хотя Апронения принадлежала к партии язычников, ее связывали с Пробой (патрицианкой, исповедующей христианство, которая отворила ворота Рима воинам-готам Алариха[28]) и с Паулой (святой Паулой[29]) чисто человеческие и клиентские[30] отношения. Одно из полотен Клода Лоррена, находящееся в мадридском музее Прадо и названное «Отплытие святой Паулы из Остии»[31], дает представление о внешности Апронении, которая стояла в 385 году на пирсе Остии рядом с Евстохией[32], сопровождавшей святую Паулу в море. Море безбурно. Небосвод изливает на землю потоки дневного света, и тот размывает, попутно увеличивая, формы, на которые ложится. Всё безмолвствует перед островом, где путников подстерегают сирены[33].*
Сирены — это Апронения, Евстохия, святая Паула.*
В каждой любимой музыке есть толика ее прошлого, добавленная к самой музыке. Такая mousikè, в чисто греческом смысле, добавляется к самой музыке. Это подобие «добавленной музыки» сбивает землю с пути, заставляя ее изойти криками, от которых мы страдали, даже не умея их назвать, даже не в силах определить их источник. Эти звуки — невидимые, никогда не знавшие видимости, — блуждают в нас. Древние звуки, которые нас преследовали, когда мы еще были незрячими. Когда еще не умели дышать. Не умели кричать. Но уже слышали.*
В редчайшие мгновения музыку можно определить как нечто менее звучное, чем звук. Нечто, связывающее всё, что шумит. (Иначе говоря: обрывок связанного звучания. Обрывок звука, в котором ностальгия стремится замереть в настигнутом и постигнутом. Или еще более простой monstrum[34]: это отрывок семантического звучания, лишенный смысла.)*
То, что подразумевают понятия pavor, terror[35] в воспоминаниях, свидетельствует, что детства не исправишь и что эта его неисправимость стала расширяющей, яростной и созидательной. Мы можем только ворошить эти «семантические, неопределимые» залежи, эти асемические семы[36]. Мы можем только заставить их стонать, как стонем, ощупывая рану, чтобы понять, насколько она опасна. Как стонем, вытаскивая из багровых краев раны нити швов, которые гниют и заражают кровь. Шрам детства, как и то, что предшествовало ему, как и то, что изливается в ночном звуке, станет его плоской энцефалограммой[37].*
Гораций нигде ни разу, ни единым словом не помянул свою мать. Из свидетельств Бария[38], Мессалы[39], Мецената[40], Вергилия известно, как трудно было заставить его говорить. Речь его была сбивчивой, он то и дело запинался. В своем «Послании к Пизонам»[41] Гораций писал: Segnius irritant animos demissa per aures Quam quae sunt oculis subjecta fidelibus. Отец Санадон[42] предпочел перевести это двустишие философски-спокойной сентенцией в прозе: «То, что поражает наш слух, воздействует куда меньше, чем то, что поражает зрение». Феофраст[43], напротив, утверждал, что самый широкий путь страстям открывает именно акустическое восприятие. Он говорил, что зрение, осязание, обоняние и вкус доставляют человеческой душе куда менее сильные потрясения, нежели те, коими нас волнует слух, — «громы и стенания». Видимые сцены повергают меня в оцепенение и обрекают на молчание, которое само по себе есть песнь беззвучия. Я страдал от немоты: это песнь безмолвия. Это танец, где люди мерно качаются взад-вперед. Или где голова вращается из стороны в сторону. Безмолвие — ритмично. Но среди большинства пронзительных криков некоторые, самые резкие, безмерно потрясают меня, доводя до аритмии. Звуки тонут в молчании слуха, куда более мучительном, нежели молчание зрения, о коем Гораций писал, однако, что оно являет собою первое эстетическое страдание[44].*
Одна лишь музыка потрясает до боли.*
Гораций утверждал также, что безмолвие не может полностью распадаться само по себе. Звуковая аннигиляция не способна достичь конца своего распада — абсолютной тишины. Он писал, что тишина даже в полдень, даже в момент самого сильного летнего зноя «жужжит» на застывших речных берегах[45].*
Познание света, познание атмосферного воздуха — все эти знания имеют тот же возраст, что и мы сами. В наших обществах возраст указывается не с момента зачатия, но с момента рождения, в следующем порядке: семейном, символическом, лингвистическом, социальном, историческом. Знакомство с миром звуков, без способности выразить его словами, без способности понимания или вербального отражения и даже без уха для языка, в котором нам еще предстоит родиться, — это знакомство предваряет наше появление на свет. На несколько месяцев. На два или три времени года. Звуки предшествуют нашему рождению. Предваряют наш возраст. Предваряют даже звук имени, которого мы еще не носим, которое будем носить лишь через долгое время после того, как оно прозвучит вокруг нашего отсутствия в воздухе и в свете, ибо и тому и другому еще незнакомо наше лицо, еще неведом наш пол.*
Mousikè et pavor — музыка и страх. Ночной страх (pavor nocturnus). Шорохи, возня крыс и муравьев, капанье воды из крана или из водосточной трубы, дыхание в полумраке, невнятные стоны, приглушенные крики, безмолвие, которое внезапно перестает казаться естественным, присущим этому месту, звон будильника, стук ветвей в окно, стук дождя по крыше, петух. Дневной страх (pavor diurnus). В святилище. В коридоре на улице Себастьен-Боттен[46], в течение двадцати пяти лет: вокруг никого, а мы все же говорим вполголоса. Шепчем, как монахи. Лишь изредка звучат робкие смешки. Мы похожи на ивовые манекены — римляне называли их larva, — а еще более древние мертвецы управляли ими, дергая за ниточки.*
Живые гораздо чаще пребывают в мире еще-не-живших или уже-умерших, чем это им кажется. Было у колдунов тайное знание, на нем зиждилось их умение врачевать тела: мания кого-то из предков подстерегает тебя, избавляя от проклятия. Ибо за семь поколений до твоего рождения было произнесено некое заклятье.*
Тайное признание в лесу, тридцать два года тому назад. Мы были одни в лесу, в гуще желтеющей листвы, среди дрожащих сполохов света; поверяя мне каждое свое желание, она понижала голос до неслышного шепота, до полной невозможности что-либо понять. Я не разбирал, что она говорила. Ошибался через раз. Кого она боялась, кто мог ее услышать? Олень? Древесный лист? Бог? Ее губы тянулись к моему уху.*
Pavor, который непередаваем. Pavor, свойственный детишкам, играющим в «земляные» шарики. Они упираются коленкой в землю. И целятся в шарик, подстерегая при этом что-то другое.*
Постоянное настороженное ожидание вторжения, пертурбации, войны, восстания — угрозы смерти. Пассивность перед вражеским набегом, от которого ничто не защитит. Ночной мрак, менее кромешный, чем перед рождением, — это состояние можно назвать третьим вторжением в жизнь. Кто из людей избежал смерти, подстерегающей, готовой поглотить, услышать твой предсмертный хрип?! Есть ли место, где земля не разверзается внезапно под ногами живущих?*
Читать в саду, разомлев от жары, от истомы, в сонном оцепенении, в неге, во всем, что свойственно лету… Лапка молодой ящерки, когда она задевает сухой лист, производит шум, от которого испуганно вздрагивает сердце. И вот ты уже на ногах в раскаленной траве, и дрожишь от страха.*
В лоне природы человеческие языки — единственные звуки, которые можно назвать притязающими. То есть единственные звуки в природе, которые притязают на право придавать смысл этому миру. Единственные звуки, которые имеют смелость претендовать на право придавать смысл, в ответ на те, что их порождают. Топот ног, от которого звенит земля; звук, производимый людьми, бледными от испуга (expavescentia, expavantatio[47]'), непрестанно топчущими землю при бегстве, при паническом бегстве к близкому, знакомому месту. Близко к месту до начала неолита была пропасть.*
Вот один из первых фрагментов Principia Historiae Фронтона[48]: Vagi palantes nullo itineris destinato fine non ad lo-cum sed ad vesperum contenditur. (Бродячие, неприкаянные, не знающие цели своих скитаний, они идут — не для того, чтобы прийти в какое-то место, но просто идут в ночь.) Non ad locum: не в определенное место. Логово людей — их запад. Мир усопших — таково их жилье, куда каждый вечер ведет людей солнце, умирающее у них на глазах.*
У Пакувия[49] есть фрагмент, повествующий о том, что может прервать четкий марш многотысячного войска. В 1823 году Ж.-Б. Лёве[50] перевел этот текст следующим образом: «Тот холм, чей остроконечный мыс возвышается над морем». Promontorium cujus lingua in altum projicit — буквально: «возвышенность, чей язык стремится ввысь». Любой язык (lingua) — это путь, по которому общество идет вперед в природе. Язык не продолжает, в собственном смысле, то, что уже существует. Он «экстериоризирует», то есть распространяет вовне, сообщает «внешнему» необходимую полноту. Вводит задержку в непосредственно наступающее. Это музыка (или память), вот почему mnèmosynè [51]и musica[52] — равны. Logos объединяет то и другое. В 520 году после Рождества Христова греческий философ Дамаский[53] в Афинах — перед тем как был изгнан из империи и сослан в Персию христианскими эдиктами — писал, что всякий logos приводит к воцарению отколовшегося в некогда цельной вселенной[54].*
Язык (lingua) вырастает из «внешнего», из «постфак-тума», из отсутствия, из разрыва, из смерти, из бинарного деления, из пары, из интервала, из дуэли, из секса, из борьбы. Точно так же отрицание, в глазах лингвиста, ничего не отсекает, оно только добавляет к утвердительной фразе признаки того, что делает ее отрицательной.*
Все рождающиеся языки произошли от звуков, служащих для изъятия — служащих для выделения того, что было сказано, и что необходимо выделить, дабы отсечь. Таким образом, lingua (язык) напоминает Тарпейскую скалу[55], а поток слов — густую толпу, сбрасывающую с ее вершины человека, который падает в отвесную пустоту, отделяющую его от моря. На языке древних греков слово problèma[56] означает именно это — утес, нависающий над волнами, что плещутся там, внизу, с высоты которого город сбрасывает жертву в пучину вод. Любопытно — почти fescennin[57] — что слова «возвышенность, язык, проблема и смерть» означают одно и то же.*
Promontorium, lingua, problèma — возвышенность, язык, проблема… «Звуки, служащие для выделения» (как принято говорить в школе), определяют музыку. Звуки музыки, обособленные от человеческой речи, как от естественного Звучания. Звуки смерти. Гермес потрошит черепаху, крадет и варит корову, сдирает с туши кожу, очищает и прикрепляет ее к черепашьему панцирю, а затем натягивает на него семь овечьих жил. Так он изобретает кифару. А потом уступает свою черепаху-корову-овцу Аполлону. Сирдон, как написано в «Книге Героев» [58], обнаруживает, что в котле варятся тела его детей, и натягивает жилы, взятые из двенадцати сердец мертвых сыновей, на кости правой руки старшего сына. Именно так Сирдон изобрел первый foendyr. В «Илиаде» кифара — еще не кифара, пока это просто лук. И музыкант — пока еще просто Ночь, иными словами, ночное паническое выслушивание. Это вступление, песнь I, стих 43:.. Аполлон сребролукий Быстро с Олимпа вершин устремился, пышущий гневом, Лук за плечами неся и колчан со стрелйми закрытый; Громко крылатые стрелы, биясь за плечами, звучали В шествии гневного бога: он шествовал, ночи подобный (Nukti eoikôs). Сев наконец пред судами, пернатую быструю мечет; Страшный звон (deinè klaggè) издает среброблещущий лук Аполлонов. В самом начале на месков напал он и псов празднобродных; После постиг и народ, смертоносными прыща стрелами; Частые трупов костры непрестанно пылали по стану. Девять дней на воинство Божие стрелы летали [59].
В другой части поэмы, в заключительных главах «Одиссеи», Улисс торжественно вступает в залу своего дворца. Он натягивает лук. Он готовится выпустить первую стрелу, дав сигнал к убийству женихов — новому жертвоприношению, при котором опять-таки присутствует Аполлон-Стреловержец. Это песнь XXI:
Как певец, приобыкший Цитрою звонкой владеть, начинать песнопенье готовясь, Строит ее и упругие струны на ней, из овечьих Свитые тонко-тягучих кишек, без труда напрягает — Так без труда во мгновение лук непокорный напряг он. Крепкую правой рукой тетиву потянувши, он ею Щелкнул: она провизжала, как ласточка звонкая в небе[60].И снова на первом месте — лира. Лук лишь на втором. Лук Улисса подобен кифаре. А лучник равен кифареду. Вибрирующая тетива лука поет песню смерти. Если Аполлон искусный лучник, то его лук — прекрасный музыкальный инструмент.
*
Лук — это смерть на расстоянии: необъяснимая смерть. Выражаясь точнее, эта смерть так же невидима, как голос. Голосовая связка, струна лиры, тетива лука — все они ведут свое происхождение от жилы, жилы или кишки мертвого животного, которая издает невидимый звук и убивает на расстоянии. Тетива лука — это первая в мире песнь, песнь, о которой Гомер сказал, что она «голосом своим уподобляется ласточке»[61]. Струны струнных инструментов — это струны лиры-смерти. Лира или кифара — это древние луки, посылающие свои мелодии к богу, как мечут стрелы в зверя. Эта метафора, которую Гомер использует в «Одиссее», еще более непонятна, чем та, к которой он прибегает в «Илиаде», но она, возможно, более многозначна, ибо указывает на происхождение лука от лиры. Аполлон ведь еще и герой-лучник. И вовсе не факт, что лук был изобретен до струнной музыки. Звук и речь сочетаются, хотя не соприкасаются и не видят друг друга. Когда пение трогает, оно 1) пронзает, 2) убивает. Боги не видят, но слышат друг друга: в громе небесном, в реве водопада, в туче, в море. Они подобны голосам. Лук наделен свойствами слова: он действует на расстоянии, путь его стрелы невидим в воздухе. Голос — это прежде всего звучание связки, которая вибрировала задолго до того, как инструмент разделил свои функции между музыкой, охотой и войной.*
Добыча, которая падает наземь, относится к звуку тетивы лука, как молния к звуку грома. «Ригведа» повествует о том, что лук несет смерть своей взрывной струной, которая поёт, как мать, прижимая сына к груди[62].*
Язык. Сначала возвышенность. Затем — проблема.*
Десятый гимн «Ригведы» определяет людей так: это существа, которые, не остерегаясь, считают слушание своей родной стихией. Язык человеческих сообществ служит им приютом. Не моря, не пещеры, не горные вершины и не дремучие леса, где можно укрыться, но голос, которым они обмениваются между собой. Любые ремесла и ритуалы скрываются в недрах этого звукового чуда, невидимого и необъятного, коему все подчиняются. То, что позволяет людям услышать друг друга, само способно услышать. Так лучники становятся тем, что зовется Vac, Logos, Verbum[63].*
Когда греческие слова становились римскими, когда латинские слова превращались во французские, их смысл изменялся больше, чем лица моряков и купцов, которые их привозили, лица легионеров, которые их выкрикивали. Это лица двора Августа, лица двора Карла Великого, лица, что окружали госпожу де Ментенон, забившуюся в портшез, обитый дамасским полотном[64], лица, что видела мадам Ре-камье[65], принимая гостей у себя в салоне на улице Басс-де-Рампар. Слова менялись. Чуточку менялись бородки и брыжи. Но нетрудно вообразить себе те же лица. И вечные, неизменные сексуальные желания. Все тот же взгляд, устремленный в пустоту, в глубине которого горит все тот же огонек хищного вожделения, омраченный страхом неотвратимых бедствий — наступления старости, жалкой беспомощности перед болью, перед страданием, и рокового прихода смерти, встречаемой стоном, или криком, или последним вздохом. Я различаю одни и те же лица. Угадываю одинаковые беспомощные, напуганные, нелепые нагие тела под облекающей их тканью. Но в то же время слышу интонации и слова, которые мне трудно понять. Я непрестанно отдаю все свое внимание звукам, которые мне трудно понять.*
Tréô и terrere. Trémô и tremere [66]. Губы дрожат от зимнего холода. Trementia labra — дрожащие губы консула Марка Туллия Цицерона[67]. Сами слова трепещут, когда трепещут произносящие их губы. Куколка жара человеческого дыхания дрожит в зимней стуже. Губы, слова и смыслы. Члены и лица. Дыхания и души. Губы, которые что-то несвязно лепечут, дрожа от рыданий. Губы, которые вздрагивают, когда человек сдерживает рыдания — или когда только что открыл книгу. Землетрясения и руины, которые их оберегают, скрывая под собой, чтобы, подобно свидетелям, прождать девятнадцать тысячелетий, пока взорам живущих не откроется вход в пещеру. Глагол tremulare на латыни еще не имеет сексуально окрашенного значения «содрогаться в оргазме», — пока это только колебание огонька масляного светильника. Яйца всмятку. Tremula ova.*
Копье Катилла в поэме Вергилия[68] вибрирует, как струна на деке. Герминий погибает. Этот соратник Горация Коклеса[69] никогда не носил ни шлема, ни панциря. Он сражается обнаженным. Его рыжая «львиная» грива ниспадает с головы на плечи. Полученные раны не пугают его. Он бесстрашно подставляет тело ударам, которые градом сыплются на него, пронзая насквозь. Копье Катилла вонзается, вибрируя (tremit), между его могучими плечами. Он сгибает его вдвое, превозмогая боль (dolor). Повсюду, куда ни глянь, струится черная кровь (ater cruor). Каждый из воинов уже празднует погребение. Каждый ищет в своих разверстых ранах прекрасную смерть (pulchram mortem). Прекрасный звук неотделим от прекрасной смерти. Hasta per armos acta tremit[70] — Копье вонзается, вибрируя, в спину, между плечами.*
Каждый звук — это крошечная частица ужаса. Tremit — вибрирует.*
В Тунисе, в начале IV века, подле Сук-Акраса, в месте, называемом Тубурсик Нумидийский[71], римский грамматик и лексикограф Нонний Марцелл собрал в двенадцати книгах римские слова. Он озаглавил этот увраж «Compendiosa doctrina per litteras»[72]и посвятил своему сыну. В один из столбцов пятого тома (Volumen V) Нонний вписал слово terrificatio. Нонний Марцелл — единственный, кто знал это слово. Оно не фигурирует ни в одном из сохранившихся древних текстов. И Нонний объяснил его смысл: это пугало, отгоняющее птиц.*
Музыка — это звучащее пугало. Для птиц таковым является пение птиц.*
Пугало (terrificatio) в Риме или в Тубурсике — это второе изобретение после лука, грубо сработанный манекен в виде человеческой фигуры ярко-красного цвета, который водружают на хлебном поле. Оно представляет собой страшное чучело — притом звучащее, звенящее. На классической латыни «пугало» звучит как formido. Отсюда французское слово formidable, означающее «ужасный, пугающий». Formido изготовлялось из обыкновенной веревки (Zinea), к которой прикреплялись пучки перьев (pinnae'), окрашенных кровью. Таков старинный способ римской охоты: загонщики несли перед собой эти «пугала», покрытые красными перьями; рабы размахивали факелами; бегущие рядом псы лаяли, наводя страх на преследуемых зверей (monstrum), загоняя кабанов в лесную чащу, где их ждали охотники в коротких туниках, с обнаженными лицами и руками, с рогатинами наготове, — они стояли перед сетями, твердо упираясь в землю правой ногой. Римляне красочно описывают адский шум охоты, шуршание на ветру веревок с перьями (linea pennies), ограждавших узкий проход, по которому зверей гнали к ловушке. Слово terrificatio (устрашение) постепенно утрачивает смысл formido (страх, ужас, страшилище, пугало). С виду пугало в перьях, размалеванное красной краской, отдаленно напоминает человека и позволяет надеяться, что может внушить страх. Ведь речь уже не идет о кабанах и оленях. Теперь люди хотят избавиться от тех любопытных маленьких существ, любителей зерна, которым удается перемещаться по воздуху с помощью своих бывших плавников, ныне обросших перьями. Теперь их именуют птицами. В подземном ходе, ведущем в тесную темную пещеру, расположенную близ Монтиньяка, рядом с останками древнего мертвеца нашли палку, вкопанную в землю и увенчанную птичьей головой. Пугало. По-гречески — inao. На латыни — terrificatio.*
В 524 году Боэций, заключенный в темницу в Павии [73], помещает в самом начале первой части своей книги «Утешение» (consolatio) список сенаторов, обрекших его на горе и смерть. Философ описывает свой terror (ужас), свое уныние, рассказывает о цепи с ошейником, сдавившим его шею, сетует на таегог (скорбь), которая мешает ему ясно мыслить, искажая его представление о самом себе и о том, чего он стоит.*
В двух потрясающих строках Боэций описывает необъяснимое парализующее состояние, в которое боль повергает жертву, — и рабское подчинение, к коему тирания принуждает людей. Он сравнивает две эти летаргии, загадочные и далекие от того, чтобы называться человеческими свойствами, поскольку они рождаются из чисто животного гипнотического подчинения… — Но тебя (Sed te…), — прерывает его внезапно огромная прекрасная женщина, которую он назвал Философией, склоняясь над его ложем, — продолжает угнетать страх (.. .stupor oppressit…). — Однако и тебя он (stupor) также гнетет![74] И тогда Боэций, не имея под рукой ни одного из своих трудов (yolumeri), пытается проанализировать неумолимое наступление тиранического режима Теодориха и создает для всего Средневековья нечто вроде модели тирана. Воображаемые угнетатели и жертвы становятся диалектическими парами, которые впоследствии превратятся в парные символы эпохи: Зенон и Неарх, Кассий и Калигула, Сенека и Нерон, Папиний и Каракалла. А в заключение он сам — Аниций Манлий Торкват Северин Боэций, восставший против императора Флавия Теодориха Августа.*
Пугала — terrificatio.*
La venette — боязнь, тревога. Внушать страх. Испарина от испуга, мурашки, гусиная кожа, бледность, скованность, недержание. Трястись, дрожать, трепетать, съеживаться. Испугу я предпочитаю ужас (terror). Это слово не точнее предыдущего, но, мне кажется, оно выражает отвращение и свидетельствует о ненависти. Что имеют в виду люди, когда изображают удивление от того, что называется terror, сопровождающий жажду власти? Можно ли отделить любовь от того, что зовется terror, принимая во внимание средства, способы выражения и исход? (Ужас, дрожь, недержание, бледность, диарея, аритмия, хрип.) Можно ли отделить красоту от ужаса? (Наводить ужас, принуждать к молчанию, держать в повиновении.) Знает ли кто-нибудь бога ужаса, не наводящего ужас? Когда отец семейства — самый что ни на есть благодушный, точно с картин Грёза или со страниц Дидро[75], с ладонью более массивной, чем головка его сына, — встает с места, ребенок видит одни только его колени. А где же руки, которые бог даровал нам, как белоснежные крылья ангелам? Вероятно, у Эржебет Батори[76] из Эчеда, в снегах, на отроге Малых Карпат, в ноябре 1609 года. Когда отец Мюло спросил, сколько месс требуется отслужить, дабы ВЫЗВОЛИТЬ душу ИЗ чистилища кардинал Ришелье ответил: «Столько же, сколько понадобится снежков, чтобы истопить печь». Ужас (terror) живет в потайной глубине моего сердца. Он и есть глубина моего сердца. И я доверяю ограничить его лишь тем, кто признаёт себя полностью оскверненным хотя бы звуком, который его предварил. Этот звук предшествовал моему рождению, первому вдоху и контакту с дневным светом. Мы испуганно прислушиваемся к неразборчивым звукам, доносящимся извне, в нашем убежище — материнском чреве, — еще до того, как наши легкие расправятся и позволят нам издать первый крик.*
Люди, взяв за образец женское чрево, натягивали на барабан выскобленную кожу, снятую с животного, которое приманили звуком рога его же собрата…*
Всеобщее согласие, мир, божество, доброта, целомудрие, довольство, цивилизация, братство, бессмертие, правосудие… — и шумно хлопали себя по ляжкам.*
Все залито кровью, связанной со звуком.*
Война, государство, искусство, культы, землетрясения, эпидемии, животные, матери, отцы, партии, принуждение, страдание, болезнь, речь, услышать звуки, подчиниться… Я делаю вид, что подчиняюсь. Остерегаться бандитов; высматривать одним глазком, нет ли ведер холодной воды, таких коварных и неожиданных, над всеми дверями, которые отворяешь, а другим — диких зверей с разверстой пастью, готовых тебя растерзать; бежать со всех ног, едва завидев тела, проникнутые какой угодно верой в любую институцию или в любое существо; бежать от вредоносного, ужасного веяния этого времени; сотворить себе хотя бы крошечное убежище в тесных рамках формул вежливости, согласований грамматических времен и музыкальных инструментов, крошечных-крошечных, самых нежных местечек на теле, некоторых ягод, некоторых цветов, комнат, книг и друзей — вот какой задаче моя голова и мое тело посвящают основную часть совместного времяпрепровождения, не всегда совпадая, но в конечном счете почти ритмично. Именно в этом императоры и министры внутренних дел два тысячелетия назад укоряли учеников Эпикура и Лукреция. Печаль Вергилия[77]. Печаль Вергилиуса на дороге в Пьетоле, на берегах Мунчо, в Мантуе, в Кремоне и даже в Милане; печаль автора «Буколик», ученика Сирона[78], Вергилия — приверженца дружбы и любителя дуэтов на флейтах, что раздвигают губы и надувают щеки музыкантов. Менальк, обернувшись к Мопсу[79], сказал ему: «Прочтем себе то, что мы пишем». Вергилий из Рима, освобожденный от налогов, честолюбец, домосед, зажав в белых пальцах stylos, вычеркивает имя Корнелия Галла[80]; он читает вслух за ужином у Октавиев[81], читает вслух за ужином у Мецената. Вергилия обуревает стыд; молчание слушателей внезапно замыкает ему уста. Наконец, 21 сентября 19 года до нашей эры Публий Вергилий Марон, заболевший малярией, прикованный к постели, исходящий пбтом в своей спальне в Бриндизи, сотрясаемый ознобом, несмотря на зной конца лета и угли, пылающие в жаровне посреди комнаты, на пороге смерти умоляет присутствующих разыскать в сундуках и забрать у ближайших его друзей буксовые таблички и уже переписанные песни «Энеиды», ибо он хочет своими руками бросить их в огонь и сжечь. Его рука дрожала. И губы, молившие об этом, дрожали. И дрожали капли пота на его лице, когда он умолял вернуть все его сочинения. А те, кто окружал умирающего, — бесстрастные приверженцы Октавиана Августа, уставшие от его криков, — не двигались с места, отказываясь вернуть ему таблички и свитки. Стареющий Квинт Гораций Флакк размышляет о течении своей жизни. И внезапно находит ей оправдание, ибо он был «дорог своим друзьям» — Cams amicis [82]. Именно такие слова записывает Гораций дрожащей рукой, едва справляясь со стилем[83]. Конфуций умер в пятом веке до рождества Христова. Он учительствовал в небольшом городском уезде Цюйфу, там, где родился. И там же умер, и был погребен в святилище Кун-Ли, где хранятся как драгоценные реликвии его личные вещи. Этих реликвий всего три — его шляпа, его цитра («цинь»)[84], его повозка. «Конфуций определял жизнь как постоянное культурное усилие, которое делали возможным дружба и искренняя учтивость, находившие свое продолжение в близости, такой же ценной, как молитва, но молитва бескорыстная» (Марсель Гране. «Китайская философия», Париж, 1950, стр. 492).*
Так авгуры[85] в Риме рисовали в воздухе кончиком своего жезла (lituus) воображаемое пространство храма. Маленький утешительный квадратик. Дабы исследовать направление полета птиц, когда они взмахивают крыльями или оглашают своим пением квадрат этого иллюзорного пространства. Моя жизнь являет собой скромный кухонный рецепт, который я стараюсь воплотить в реальность. Но какое-то смутное ощущение подсказывает мне, что, будь в моем распоряжении даже пять или шесть тысячелетий, я побоялся бы результата.*
Магнит мгновенно притягивает к себе крошечные частички железа, кобальта или хрома. Магнит подобен улыбке матери. И ребенок тотчас тоже растягивает губы, подражая улыбке матери. Материнская улыбка подобна страху: в страхе подражание зовется паникой. С момента появления на свет и даже до появления на свет, когда мы еще только зреем, как плод, перед собственно рождением, все мы — полностью миметические существа, такие же, какими были наши матери в тот момент, когда зачинали нас. Все мы полностью объяты паникой. Музыка подобна панической улыбке. Всякая вибрация, сближающая биение сердца с ритмом дыхания, влечет за собой то же сокращение мускулов лица, такое же невольное, такое же неодолимое, такое же паническое. Улыбка, обнажающая клыки тигров и гиен и зубы людей, есть мимическое отражение паники. Все мы — беспомощные жертвы паники (панический камень, магнетическая улыбка матери, панический полюс, мысленный компас. Все мы подобны этим мелким частичкам «никелевой ржавчины»[86]. Все мы лишь фрагменты, судорожные гримасы, вызванные «голубоватым камнем»[87], вызванные вожделением, вызванные смертельным испугом, вызванные мыслью о смерти).*
Как можно относиться к смерти свысока? С желанием осудить ее? Я осуждаю Ахерон[88]. Осуждаю тени усопших. Можно ли объявить, что это слишком несправедливо? Что это незаконно? Как можно осуждать господство? Или болезнь? Или сексуализацию? Можно ли сказать «нет» ужасу (terror)? Можно ли порицать то, что существует? Недавно возникший «культ счастья» внушает мне отвращение. Люди, если хотите уберечься от ужаса, знайте: я изо всех сил стараюсь, чтобы мои губы не вздрагивали и не раздвигались, я щипаю себя до крови, чтобы не рассмеяться.*
Рождающиеся напевы. Слова порождают цепочку в человеческом дыхании. Образы порождают сон в ночной тьме. Звуки порождают цепочку в череде дней. Мы являемся также объективной целью «звукового повествования», которое не получило на нашем языке определения «сон» (мечта, грёза). Здесь я назову их рождающимися напевами. Напевами, возникающими непроизвольно, в такт ходьбе. Старые песни. Гимны. Детские припевки и страшилки. Колыбельные и считалочки. Польки и вальсы. Светские романсы и народные песни. Отрывки из Габриэля Форе и Люлли[89]. Ивовые короба в пыли на чердаке дома в Ансени, в едком запахе мелкой сухой пыли, влучах света, который скупо пропускали внутрь узкие слуховые оконца. Впрочем, даже не пыли, а чего-то вроде гипсовой пудры, оседавшей на партитурах предков, написанных поочередно многими поколениями Киньяров; все они были органными мастерами или органистами в Баварии, в Вюртемберге, в Эльзасе, во Франции — в XVIII веке, в XIX веке, в XX веке. Бблыпая часть их сочинений была записана на плотной голубоватой бумаге. Золотой свет, падавший из единственного окна, позволял прочесть ноты, побуждал стереть с них пыль, напеть то, что написано. Первый ритм стал ритмом сердцебиения. Второй сравнялся с ритмом дыхания и с криком, рожденным легкими. Третий ритм подсказал темп ходьбы. Четвертый напомнил мерные, повторяющиеся вздохи волн, набегающих на берег. Пятый ритм сохраняет кожу, снятую со съеденного мяса, расправляет ее, натягивает и возвращает к жизни животное — любимое, мертвое, проглоченное и вожделенное. Шестой ритм звучит под ударами пестика в ступке для зерна и т. д. Напев (le fredon), непроизвольно сопровождающий эти моменты, тотчас укажет, в каком состоянии находится человек, в каком настроении он проведет этот день, за какой добычей намерен охотиться. Все это преподавали на уроках сольфеджио маленьким детям, объясняя ключевые знаки. Напев указывает, в каком тоне находится состояние тела. Он распределяет количество диезов и бемолей, о которых надлежит помнить, исполняя пьесу дня до самого наступления ночи, а ночь окутает тенью лицо и тело, но никоим образом не омрачит мир.*
Нетерпение и раздражение от невозможности узнать имя, название, слова, которые помогли бы освоить этот возрожденный напев. Незнание имени того, что мучит и преследует в звуке. Незнание, чем все это должно внезапно опечалить (tistré), внезапно объединить (coaléscer). Боязливое любопытство к этой неуловимой звуковой регургитации — к этому переполнению, которое, однако, очень напоминает отрыжку от материнского молока, рвоту. Приступ уныния, начавшись с головы и распространяясь в ритме дыхания, вторгается в сердце, мало-помалу скручивает живот, колет спину, — точь-в-точь как коровье молоко, которое сворачивается на жаре, ему противопоказанной. Мучительное ощущение нехватки слов, которые отсутствуют под «подобием» звуков; отсутствуют, не достигая «кончика» языка. На «возвышенности», на проблеме (problèma) языка. На lingua[90] языка.*
Я как тот вор из старинной индийской сказки, который затыкал уши, едва речь заходила о воровстве колокольчиков.*
Мне известны только четыре произведения, в которых радость считается самым благородным человеческим качеством. Их авторы — Эпикур, Кретьен де Труа, Спиноза и Стендаль. Герои Кретьена де Труа в конце своих приключений получают в награду Радость. Правда, не очень понятно, в чем она выражается. Радость (the Joy) была волшебным рогом, который либо опьянял, либо заставлял танцевать, либо даровал наслаждение. Jocus это игра радости. Насладиться радостью до последнего предела речи, до самого конца приключения, отдавшись молчанию или звукам этого рога, принуждающего душу к безмолвию, — такова цель романиста, такова добыча героя.*
Кретьен де Труа написал роман «Вильгельм Английский»[91]. Король Вильгельм Английский, вернувшись домой после многолетнего отсутствия, на праздничном пиру не обращает никакого внимания на свою супругу: его посещает «видение». Он видит оленя с шестнадцатью отростками на рогах, преследует этого царственного оленя. И внезапно испускает клич: «Хо-хо! Блио!»[92]. Его возглас лишен смысла, но звонок; настолько звонок, что вырывает короля из завладевшего им морока. Лишь после того как Вильгельм этим криком натравил своего пса на оленя, он смог обратиться к супруге и расспросить ее о том, как она жила со дня их расставания, а было это двадцать лет назад. Такие явления называются otium[93] — это пустые приманки, сформированные архаическим, древним воздействием охот. Экстазы чисто светского характера. Их можно назвать «мертвым пространством». Такие явления встречаются во всех романах Кретьена де Труа; автор глубокомысленно называет их «видениями». Видения — это не идеологические секвенции. Это «затмения». Забытье Эрека[94] — это затмение. Беспамятство Ивэйна[95] — затмение. Ланселота, внезапно забывшего свое имя[96], настигает затмение. Персеваль, опираясь на копье, созерцает три капли крови, упавшие на снег: белизна холодного снега медленно впитывает их. Кретьен пишет: «Так глубоко задумывается, что впадает в забытье».*
Этот средневековый stupor подхватил Марсель Пруст. Рассказчик из романа «В поисках утраченного времени», наклонившись над своим ботинком в Гранд-отеле Бальбека, восклицает в слезах: «Олени! Олени! Франсис Жамм! Вилка!»[97]*
Стук ложки по фаянсовой тарелке, и, под легким облачком пара от супа, который она зачерпывает, в густой массе мало-помалу проступает рисунок на фаянсе, пока еще неразличимый. Звякает ложка, выгребая содержимое тарелки. Под ложкой, скребущей дно, поднимается олень из древнего предания. Музыкальный лук поднимается. Напев входит в резонанс со звучащей индивидуальной молекулой, более древней, чем дневной свет. Старая асемическая струна начинает мало-помалу вибрировать, сообразуясь с семантической; с абсурдной на первый взгляд гармонией семантического пения. Возбуждение мгновенно охватывает нас, приводит тело в движение, но их ритм никак нельзя назвать осмысленным.*
Ступор. Упасть в обморок. Иными словами, лишиться чувств. Это Святой Петр во дворе Анны[98] в Иерусалиме. Это Августин в саду Милана, уподобляющий карканье ворона старой детской считалочке, услышанной в Карфагене, слова которой он никак не может вспомнить[99]. Бессонные ночи Святого Августина в Кассициакуме[100]. Неумолчное журчание ручья, не дающее ему покоя. Возня мышей (и Лицентий, который спит подле Августина и временами стучит деревяшкой о ножку кровати, чтобы разогнать их). Шум ветра в листве каштанов Кассициакума.*
Есть один старый французский глагол, который обозначает это неотвязное наваждение. Он обозначает ту группу асемических звуков, которые будоражат рациональную мысль в мозгу и тем самым пробуждают не-лингвистическую память. Может быть, вместо слова fredon (напев) следует подставить другое — tarabust (докука, назойливые, раздражающие звуки). Существительное tarabustis вошло в словарь уже после Кретьена де Труа, в XIV веке. «Меня что-то раздражает» (.tarabuste). Я изыскиваю звуковой раздражитель, появившийся прежде речи.*
Tarabust — нестабильное слово. Два разных мира сталкиваются в нем и тянут каждый к себе, а уходя, делят в зависимости от происхождения (оба варианта слишком правдоподобны, чтобы филологи могли отдать предпочтение только одному). Само слово tarabust противоречиво, оно колеблется между двумя группами — того, что повторяет одно и то же, и того, что барабанит. То есть между группой rabasta (шум ссоры, назойливо повторяющихся звуков) и группой tabustar (ударять, поскольку глагол tabustar относится к семье резонаторов, барабанов). А может быть, это звуки шумных человеческих соитий. Или звон столкнувшихся полых предметов. Звуковое наваждение не способно отделить в услышанном то, что оно непрерывно хочет слышать, от того, что невозможно услышать. Непонятный шум, мерный и повторяющийся. Шум, чью природу трудно определить: что это — ссора или барабанный бой, дыхание или удары? Он очень ритмичен. Мы происходим от этого шума. Мы — посев этого шума.*
Любая женщина, любой мужчина, любой ребенок тотчас распознаёт этот назойливый звук — tarabust. Лосось поднимается вверх против течения реки и своей жизни, чтобы умереть на нерестилище, там, где и сам был зачат. И, оплодотворив икру, умирает. Клочья красных шкурок падают в глубину, на ложе реки.*
Вернер Йегер[101] («Пайдейя», Берлин, 1936, том 1, стр. 174) утверждает, что самый древний след слова «ритм» на греческом языке является пространственным. Йегер, как Марсий, подобравший флейту Афины на фригийском берегу, подбирает оставшиеся следы в отрывке из Архилоха[102]: «Постарайся угадать, какой ритм (rhythmos) держит людей в своих сетях». Ритм «держит» людей, как реальное вместилище. У ритма нет ничего общего с жидкостью. Он — не море, не привольная песня волн, которые набегают, отступают, вновь возвращаются, вздымаются, обрушиваясь на берег. Ритм цепко держит людей, не давая им освободиться, — так барабан держит туго натянутой свою кожу. Эсхил говорил, что Прометею суждено вечно оставаться на своей скале в «ритме» неразрывных оков.*
Бывают вещи, которые мы не смеем поверить самим себе, даже мысленно, даже во снах, которые нам снятся. Фантазмы суть подобия манекенов, стоящих за образами и воспоминаниями, — благодаря им эти последние держатся прямо. Мы полностью покоряемся им, хотя и боимся замечать эти древние, довольно-таки непристойные остовы, на которых концентрируется наше видение и которые его преформируют. Существуют звуковые структуры более древние, чем эти визуальные terrificatio[103]. Те явления, что мы именуем словом tarabusts, суть фантазмы для всего, что касается ритмов и звуков. Как слушание предшествует видению, как ночь предшествует дню, так и феномены под названием tarabusts предшествуют фантазмам. Именно поэтому самые странные идеи имеют цель, самые причудливые вкусы имеют источник, самые неожиданные эротические мании — неизбежную линию горизонта, а паника — неизменный путь к бегству. Именно поэтому самые сметливые животные могут замереть на месте, как зачарованные, и покорно ждать смерти, которой боятся и которая приходит к ним под видом разверстой, сладко поющей пасти.*
То, что является мне в мыслях, принадлежит лишь мне одному. Однако мое «я» не принадлежит даже ему самому как таковому. Фантазм — это незваное и неотступное видёние. Le tarabust — это незваный, назойливый, мучительный, неотступно терзающий звук.*
В XII песни «Одиссеи» это стихи 160–200. Сирены поют на цветущем лугу, среди истлевших костей растерзанных ими мореходов. Когда мы находимся во чреве матери, мы не можем размять воск, взятый из пчелиных ульев, чтобы заткнуть им уши[104]. (Пчелы, вьющиеся вокруг цветов в саду, осы перед грозой, жужжащие, мечущиеся мухи в комнатах с раздвинутыми шторами, все они — tarabusts — первые назойливые раздражители слуха младенцев в момент ритуальной полуденной сиесты). В такие минуты мы не можем не слышать их. Мы словно стоим на палубе, у мачты, связанные по рукам и ногам, — эдакие крошечные Улиссы, затерянные в океане чрева матери. Вот что сказал Улисс, когда услышал пение сирен, вот что он кричал, умоляя освободить, во имя богов, от пут, державших его у мачты корабля, чтобы он мог сойти на берег и насладиться этой волшебной, чарующей музыкой: — Autaremon kèr ètheV akouemenai! — Я всем сердцем жажду их слушать. Улисс никогда не называл песню сирен прекрасной. Улисс — единственный смертный, услышавший эту песнь, влекущую за собой гибель, но не погубившую его, — сказал о пении сирен, что оно «пробуждает в сердце желание слушать».*
Звуки голоса забирают часть воздуха, накопленного и выпущенного в процессе дыхания. Вся внутренняя «аудитория» и даже будущий дыхательный «театр» явственно отражают эмоции, которые испытывает тело, усилия, которые оно прилагает, чтобы их удалить, или ощущения, которые его одушевляют. Звуки составляют, вместе с необходимостью воздуха и вентиляции легких, тот инструмент, полый и покрытый кожей, который мы собой представляем. Речь сообразуется с животным телом, которое непрерывно вдыхает и выдыхает воздух. Непрерывно «агонизирует». Тот, кто издает звуки, разделяет свое дыхание на две части, никогда четко не различаемые. Он отдается на волю этого непрерывного легочного процесса, который подчиняет его себе. И если вспомнить, что греческое слово psyché означает не только дыхание, то можно сказать, что человек строит из собственных криков, тона, тембра и голоса свой ритм, свое молчание и свое пение. Эти функциональные метаморфозы и разделение, в свой черед, подкреплены еще более необычной характеристикой: тот, кто издает звук, слышит звук, который издает. (По крайней мере, после своего рождения и появления на свет, после первого вдоха. Хотя и не может его слышать таким, каким слышат другие. И тот, кто его слышит, не может услышать его именно таким, каким другой его издает.) Подобное «зеркальное отражение» происходит непрерывно, и именно эта неостановимая игра позволяет создавать высоту, интенсивность, ритм, напевность, убедительность и прочие различные риторические, иными словами, персональные формы — «душераздирающие крики», «стенания», «вопли», «тяжкие» вздохи, «глухое» молчание. И ухо без конца сравнивает всё, что извергают рот и горло. Сравнивающий подобен лёгочной (дыхательной) psyché. Такова связь души с ветром. А затем и с воздушной стихией, иначе говоря, с чем-то невидимым: со звуками, с небесными телами, с птицами. С ласточкой Гомера[105]. Таким образом, раздавшийся звук есть результат настоящего звукового соревнования. Каждое живое существо, способное летать, наделено своим особым голосом — назовем его щебетом или клёкотом, — помогающим ему обособляться от других видов, участвовать в общей звуковой системе, где оно исполняет партию, которую от него ждут, не для того, чтобы ассоциироваться со своей «звуковой семьей», а лишь для того, чтобы заглушить или проигнорировать иные партии, которые способно услышать. Мы имитируем самих себя, подражая самим себе. И это относится не только к детству. Такие формы звукового общения, перекличек, неразрывного «состязания» непрерывно поддерживают и совершенствуют каждый язык, каждый звук в этой голосовой чаще.*
Брачный призыв оленя — укор пению людей. Даже голосовая ломка мальчиков не может превзойти его по глубине и потрясающей силе. Для человека этот олений призыв — песнь, которой невозможно подражать. Он стал для животного отличительной, неповторимой песней, поверенной невидимой тайне леса.*
Септима может быть сыграна на струнах — на луках — на ветрах — на кончиках флейт. Но ее никто никогда не слышал на клавесине или фортепиано. Разве что те, кто умеет беззвучно читать партитуры, написанные для клавира. И, однако, слушателю чудится, что он слышит эту несыгранную ноту. Таким образом, «услышать» нижние вводные тоны можно только зрительно. Для «глазного уха» слегка повышают то, что не способна озвучить клавиша. Даже создавая струнную музыку, Иоганн Себастьян Бах любил писать на партитуре кружочки — черные для четвертей, белые для половинок и целых, связанные с двумя воображаемыми[106] струнами, которые могли быть «услышаны» только глазом.*
Неисполняемые ноты, незвуковые звуки — знаки, которые пишутся просто ради красоты партитуры… Я предлагаю называть «неслышными нотами» эти написанные, но неисполнимые звуки, подобные тем французским согласным, которые наши грамматисты называют «непроизносимыми», — например, “р” в слове sept (семь), которое произносится как «сэт». Наряду с мелодиями, возбраняемыми юношам в период ломки голоса, существуют также непроизносимые гласные. Правда, это не касается богов, которые властвуют над мрачными тучами и Синаем и чье консонантное название — dieu — еле слышно звучит в голосе ветерка у входа[107] в доисторические пещеры. А еще в лесах (как “а” в слове daine — лань).*
Всю историю человечества, коей за долгие тысячелетия стали свидетелями берега Ганга, можно вместить в одно мгновение, равное полуденной вспышке молнии: «Всё, что ты услышал, подобно отрывку мелодии, который исполняет музыкант, когда слуга унес в починку его цитару, и после того, как мышь изгрызла его ноты».*
О дождях одни говорят, что они «барабанят». Другие называют это иначе — «стучат». А третьи утверждают, что они «потрескивают». Эти образные сравнения, независимо от степени их верности, выглядят, по правде говоря, необычно: звуки барабана, молота, огня, — и всё это о дожде? Подобные образы вызывают желание вывернуть это сравнение наизнанку. Это не дождь барабанил, а барабан вызывал дождь. Это не дождь стучал: стучал молот, который держал Тор[108].*
В Средние века призрак обычно трижды стучал в оконный ставень или в дверь, прежде чем войти. Эти звуки напоминали о троекратном стуке молотка, заколачивающего три гвоздя в крест. (И они же впоследствии превратились в три удара за сценой, которые в наши дни объявляют о начале спектакля и появлении его пестрых и болтливых призраков.) А мертвецы барабанят. В японском театре «Но» этот барабанный бой при каждой реплике достигает потрясающей, ни с чем не сравнимой мощи. То, что я называю le tarabust (звук, вселяющий страх, тревогу, раздражение), воплощается барабаном Дзеами[109] с натянутым на него шелком; этот барабан ждет барабанщика, чья любовь будет такой пылкой, что заставит звучать шелковую материю. Барабан Дзеами — это та самая неизреченная согласная в Киото середины XV столетия. В рассказе Цезария Гейстербахского[110], который датируется первой половиной XIII века, умерший отец взял привычку постоянно являться в дом своего сына и молотить в дверь такими мощными ударами (fortiterpulsans), что сын в итоге воззвал к призраку отца, сказавши, что не может спать даже тогда, когда тот не является.*
Первые письменные тексты в истории человечества (литературные произведения на шумерском, египетском, китайском языках, на санскрите и хетт-ском) весьма мрачны. Все эти песни, эти письма, эти диалоги и рассказы отмечены скорбной, трагической интонацией и тем, что зовется terror. «Трагическим» называли на греческом языке протяжный, хриплый голос козла, обреченного смерти[111]. Отчаяние, коим проникнуты самые древние из этих текстов, так же неизбежно, как смерть в развязке каждого из них, как крушение людских судеб. Почти все эти тексты пронизаны тоскливым страхом перед смертью и мертвецами. Иными словами, перед тем, что именуется словом le tarabust. А сколько авторов, коим приписывается это ощущение: взять хоть Иова… Свежесть, надежда, радость; нужно было дождаться появления религий откровения, идеологий национальных государств, чтобы завидеть на горизонте возникновение новых завораживающих явлений — смысла жизни, любви к земле, поднявшей голову войны, исторического прогресса, зари, депортации.*
Во времена правления императора Ци Яо[112] жил некий Сюй Ю. Император прислал к Сюй Ю лучших офицеров, дабы просить его взять в свои руки правление империей. При одной мысли о том, что император Поднебесной предлагает ему править миром, Сюя Ю сотряс жестокий позыв к рвоте на глазах посланников. Прижав руку ко рту, он не смог ответить ни слова. И удалился. А на следующий день, до рассвета, пока офицеры еще спали, сбежал. Пешком достиг он горы Шоуян и отыскал такое пустынное место, что ощутил желание остаться там. Он осмотрел скалы, окружавшие его, выбирая себе убежище, и спрятал под одну из них свой узелок с пожитками. Затем спустился к реке, дабы вымыть уши.*
Чао Фу превзошел Сюя Ю в презрении к занятиям политикой. Чао Фу жил в маленьком ските, так надежно скрытом в густой листве, что никто не мог увидеть его, у подножия горы Шоуян, в том месте, где она нависала над долиной. Он владел всего лишь одним полем и одним быком. Утром, в тот час, когда Чао Фу спустился с горы в долину, чтобы напоить в реке своего быка, он увидел Сюя Ю, который, сидя на корточках у воды, наклонял голову то вправо, то влево, чтобы как следует промыть уши. Чао Фу приблизился к Сюю и, отдав ему множество поклонов, спросил, чем объясняются эти мерные движения. На что Сюй Ю ответил: «Император Ци Яо предложил мне взять бразды правления империей. Вот почему я так старательно промываю уши». Услышав это, Чао Фу вздрогнул всем телом. И, залившись слезами, посмотрел на реку Инхэ. Чао Фу тотчас оттащил своего быка за узду и не позволил ему напиться из реки, где Сюй Ю вымыл уши, которые услышали такое предложение.*
В двух лондонских трио Гайдна есть чрезвычайно редкое явление — две музыкальные фразы, которые перекликаются между собой и притом звучат настолько осмысленно, что граничат с человеческой речью. Эдакие маленькие общества без завываний. Образовывать созвучия. Звуковое примирение.*
Латинское слово suavitas означает «сладость». Латинское suave означает то же, что французское doux — сладкий или приятный. Это тот, кто не гневается. Родители, которые не бранят детей. Мужчины, которые не поднимают голос, желая показать, кто в доме хозяин. Женщины, которые не жалуются на то, что они девушки, а не матери, и не сетуют на судьбу оттого, что стали матерями, перестав быть девушками. Это тот, кто ласков. Чей голос звучит любезно, мягко и весело, журчит, как ручеек из талого снега, стекающий с горы, стекающий со склона горы Шоуян. Тот, кто не оскорбляет.*
Suasio. Убежденность. А что же означает латинское suavis? На этот вопрос трижды отвечает необыкновенное начало второй книги Лукреция[113], где он трижды определяет, что такое suave: Suave mari magno turbandbus aequora vends et terra magnum alterius spectare laborem… (Сладостно наблюдать с берега, когда ветры вздымают бескрайнее море, как несчастье постигло других. Не потому что отрадно видеть страданья себе подобных: просто сладостно смотреть на несчастья, которые нас обошли. Сладостно также, ничем не рискуя, следить за кровавым военным сраженьем, глядя с вершины холма на войска, что бьются внизу, на равнине. Но самое сладостное (dulcius), но более всего тешит душу — это жить в надежных стенах крепостей, возведенных умением мудрых… [114]) Аргументы, приводимые Лукрецием, комментировались на протяжении веков — по традиции самым сухим, самым морализаторским тоном. Их считали либо циничными, либо неубедительными. Однако финал раскрывает тайну: разве вы не слышите «того, что лает природа»? А природа именно лает (latraré), а не «говорит» (dicere): реальность не лишена смысла, который лишь воображаемое, и символические или социальные институции людей, говорящих между собой, сводят к боязливому ожиданию звука. То, что выражает природа, есть, помимо стона или агрессивной злобы, звук на самом деле циничный, собачий: не-семантический звук, который нас опережает еще в горле. Latrant, non loquuntur: «Они лают, они не говорят». Зоологический звук предваряет все другие, заставляя дрогнуть прежде всего сердце. Крик оленя — это тоже лай. Лай лая. Принимая во внимание «лай», завершающий предыдущий пассаж, сладость (suavis) тотчас обретает гораздо более конкретный смысл, чем те аргументы (сами по себе в высшей степени идеологические) и функциональные трикраты[115], которые приводит Лукреций, а именно: то, что называется suavis, не столько удаление, описанное текстом, сколько звуковое последствие отдаленного. Текст повторяет трижды лишь одно: мы находимся слишком далеко, чтобы услышать. Тонущие в море люди издают крики, но мы их не слышим. Мы стоим на берегу. И только различаем крошечные барахтающиеся фигурки: эти люди, труженики моря и купцы, постепенно исчезают вдали с поверхности океана. Но вокруг себя мы слышим лишь грохот волн, которые обрушиваются на берег. Воины сражаются, но мы не слышим ни их криков, ни звона оружия и щитов, ни треска огня, пожирающего амбары и поля. Мы стоим в рощице, на вершине холма. И видим крошечные фигурки, падающие наземь. А вокруг звучит только птичье пение. С высоты акрополя или храма больше ничего не услышать. Даже ястреб — единственная из птиц — пожертвовал сородичами ради одиночества, а пением — ради взлета в небо. Не слышно вокруг ни собачьего лая, ни надрывного дыхания работника, ни урчания в брюхе, которое по-римски, как природа, «лает» о своем голоде (latrans stomachus). Не слышно ни топота стад, вернувшихся с пастбищ, ни треска огня в очаге, — одно лишь безмолвие атомов, что сыплются градом с ночного небосвода, да немые буквы алфавита, выстроенные рядами на страницах (paginae) фолиантов (volumen). Слушатель (auctor) или читатель (lector) не слышит, как кричат или лают буквы (litterae). Литература — это язык, чуждающийся лая. В этом ее сладость (suavitas). Suavitas — понятие не визуальное, но аудитивное. Отдаленность не позволяет достичь — посредством панорамного обзора — сладострастия (voluptas), свойственного Небесным обитателям: напротив, оно расширяет пропасть, отделяющую нас от звукового источника. Это suavitas безмолвия, строки, а не сроки, — suavitas лая, затихшего вдали в ужасе. Преграда, созданная из расстояния в пространстве. Страдание, которому уже нечем кричать. Детское воспоминание Тита Лукреция Кара.*
Фонтенбло. 1613 год. Мария Медичи любила одного из придворных кавалеров — Франсуа де Бассом-пьера. Господа де Сен-Люк и де Ларошфуко, влюбленные, что один, что другой, в мадемуазель де Нери, перестали разговаривать друг с другом. Бассомпьер заключил с Креки пари: он не только помирит Сен-Люка и Ларошфуко, но заставит их обняться. Под окнами королевы простирался сад Дианы. Кончини[116] и Мария Медичи стоят у открытого окна. Он показывает ей Бассомпьера в саду: указывает рукой в перчатке на четырех мужчин, которые что-то обсуждают, бурно жестикулируя, и вдруг обнимаются среди цветов. Кончини замечает королеве, что эти объятия и нежности между мужчинами, коих никак нельзя упрекнуть в предпочтении к атрибутам их пола, выглядят как-то ненормально. Однако это всего лишь маленькие силуэты, молча жестикулирующие в отдалении, в свежей прохладе, в свете нарождающегося дня. Кончини теребит кружевное жабо и бормочет, как бы про себя, что это весьма любопытно — смотреть, как Бассомпьер возбуждает Ларошфуко, словно этот тлеющий уголек нуждается в помощи, чтобы вспыхнуть ярким пламенем. И спрашивает — теперь уже вслух, громко: может, они затеяли какую-то интригу? Или даже строят козни? «Иначе, — добавляет он, — к чему эти поцелуи между людьми, которые видятся с утра до вечера?» В тот же вечер Мария Медичи приказывает закрыть двери своих апартаментов для господина де Бассомпьера, ибо утром он прикасался к плечу господина де Ларошфуко, а затем обнимал господина де Сен-Люка в саду под ее окнами. Дело решила интерпретация неслышных слов, которую дал Кончини. Добавлю, что сам он повторил судьбу Орфея: тело Кончини было растерзано парижанами и съедено сырым под громкий звон всех парижских колоколов. Меня просто чаруют подобные сцены, где всё «недопонято», а вернее сказать, «недослышано». Сей анекдот можно прочесть в дневнике Бассомпьера. Я лишь дополнил его с помощью письма Франсуа де Малерба[117]. И теперь размышляю о картинах Клода Лоррена. Ему было всего тринадцать лет в ту пору, когда в Фонтенбло, в саду Дианы произошла вышеописанная сцена. Его отец и мать умерли. Он приехал в Рим. Персонажи, затерянные в природе. Крошечные, ростом не больше пальца. Они расположены на первом плане, и они беседуют. Но все-таки на полотнах Лоррена фигуры слишком далеко, чтобы их можно было услышать. Они растворяются в свете. Они оживленно беседуют, однако мы ничего не слышим и видим только падающий на них свет.*
Он звался Симоном-рыбаком и был сыном и внуком рыбаков из Вифсаиды. Сам он рыбачил в Капернауме. Французское слово le capharnaüm означает беспорядок и хаос[118], но в те давние времена так называлось одно красивое селение. Некий особенно антропоморфный бог приблизился к лодке, окликнул рыбака и решил отнять у него имя, дабы заменить прозвищем собственного изобретения. Он приказал рыбаку покинуть Геннисаретское озеро. Приказал расстаться с рыболовной сетью. Нарек его именем Петр. Неожиданность и странность подобного крещения нарушили и исказили звуковую систему, в которой доселе пребывал Симон. Этот новый слог[119], составленный из звуков, на которые ему отныне приходилось откликаться, отрицал прежние слоги, из коих складывалось его имя. Порой его выдавали неосознанные поступки, продиктованные подавленными эмоциями и убогими воспоминаниями, с детства связанными с этими звуками. Собачий лай, треск разбитого горшка, журчание волн, пение дрозда или соловья, щебет ласточки теперь вызывали у него неожиданные рыдания. По свидетельству Гнея Маммия, Петр однажды признался Иуде Искариоту, что единственным сожалением о его прежнем ремесле были не лодка и сети, не бухта с ее водой, не острый запах рыбьей чешуи и солнечные блики на выловленных рыбах, что умирают в судорогах: святой Петр признался, что сожалеет лишь об одном достоинстве этих рыб — об их молчании. Молчание рыб в момент смерти. Молчание в течение дня. Молчание в сумерках. Молчание во время ночного лова. Молчание на заре, когда лодка возвращается к берегу, а ночная тьма мало-помалу тает в небе вместе с прохладой, звездами и страхом.*
Ночь в начале месяца апреля 30 года в Иерусалиме. Двор дома первосвященника Анны, тестя Каиафы. Холодно. Слуги и стражники сидят кружком и греют руки у огня. Петр садится рядом с ними, так же тянет руки к огню, чтобы согреть озябшее тело. Подходит служанка. Ей кажется, что она узнаёт черты его лица, озаренного огнем. В атриуме (in atrio) занимается хмурый день конца зимы, стоит влажный туман. Внезапно раздается пение петуха (gallus). Петр потрясен: этот звук тотчас объясняет ему фразу, произнесенную Иисусом из Назарета; во всяком случае, Петр вдруг вспоминает фразу, которую тот ему сказал. Он отходит от огня, от женщины, от стражников, подбегает к воротам двора первосвященника и там, стоя под аркой, разражается рыданиями. Это горькие слезы. Такими их назвал евангелист Матфей.*
«Я не понимаю, что ты говоришь», — сказал Петр женщине в атриуме. И повторил: «Nescio quid dicis» (Я не понимаю, что ты говоришь). Женщина накинула на голову покрывало, спасаясь от холодного конца этой апрельской ночи. И сказала: «Tua loquela manifestum te facit» («Твой говор выдает тебя»). Я не знаю, что означают слова. Вот что произошло с Петром. Я не знаю, что означает речь. Петр повторяет это. Это его слезы. Я это повторяю. Это моя жизнь. Nescio quid dicis. Я не понимаю, что ты говоришь. Я не понимаю, что я говорю. Я не знаю, что говорю, но это очевидно. Я не знаю, что ты говоришь, но заря уже близка. Я не знаю, что речь делает явным, но петух уже второй раз издает свой гортанный, ужасный крик, объявляя о наступлении дня. Природа возвещает зарю через петуха — через крик петуха (latrans gallus). Под сводами ворот, в последние минуты ночи, Петр flevit атаге — горько плачет. Латинское атаге означает «любить». Но от него произошло французское слово amèrement — «горько»[120]. Никому из говорящих неведомо, что именно он говорит.*
Хорхе Луис Борхес цитировал один «стих из Вергилия, который перевел Буало»: Тот миг, когда я говорю, уже далече от меня. На самом деле речь идет о стихе из Горация. Этот стих предшествует “Carpe diem”[121] из Оды XI Первой книги:Dum loquimurfugerit invidia aetas. Carpe diem quam minimum credula postero. (Пока мы говорим, ревнивое время всех вещей на свете ускользнуло от нас. Пользуйся этим днем, ибо нет никакой веры завтрашнему.)Так сорви же и крепко держи в пальцах день, как держат сорванный цветок. Не надейся, что настанет завтрашний день. Борхес вспоминает реку, которая отражается в глазах Гераклита, когда тот ее переплывает. Глаза людей изменились меньше, чем воды реки. Но и те, и другие одинаково обманывают. Никто не видит реку такой, в какую он бросился всего лишь миг назад. В Евангелии от святого Луки сцена отречения несомненно проникнута греческим духом больше, чем в описаниях других евангелистов: стражники и служанки сидят кружком в центре двора, вокруг огня. Петр пытается примкнуть к этому кругу равных, который напоминает сцену из «Илиады», чтобы согреться не столько возле жаровни, сколько в этой обстановке тесной мужской солидарности, на заре, в апреле 30 года, года смерти. Но святой Лука идет еще дальше: он соединяет сцену отречения со сценой слез. Смешивает их воедино, как два отложения в одном геологическом слое или как замыкание в электрическом приборе: на греческом — Kai parachrèma eti lalountos autou ephônèsen alektôr; на латыни — Et continuo adhuc illo loquente cantavit gallus. «И в тот же миг, пока он еще говорил, запел петух»[122]. Dum loquimur[123]… Крик петуха — это нечто вроде загадочного сигнала на чужом языке, таком же пугающе непривычном для Петра, как его новое имя. Хриплый этот крик, возвестивший рассвет, повергает его в совершенно иное состояние души, в иную реальность — реальность нового Иисуса и нового Петра, в реальность того, что было до Петра (то есть в реальность Симона и даже того, что было до Симона). Служанка же сказала: «Не только лицо твое, или черты лица твоего, или тело твое выдают тебя, но твой говор выдаёт тебя». По-гречески это слово — говор — звучит как Zalia. А по-латыни — loquela. Внутри звукового содержания, которое выдает Петра, за пределами того имени, которое он выдает (Иисус), и другого имени, которое он сам предал (Симон), есть еще некая звуковая малость, которая преображает язык, неожиданно отсылая нас к бескрай нему воплю природы и к более ограниченному голосу животного мира, из которого человеческий язык взял свою скромную долю специфических звуков Пение (крик) петуха — это, в некотором роде, крик маленьких неолитических селений, ставший «трагическим» и оседлым, когда язык перестал быть речью кочевников и охотников. В ушах служанки речь выдает Петра как минимум тремя признаками: акцентом, морфологическими галилейскими особенностями и, наконец, интонациями, объясняемыми страхом, который испытывает Петр перед потоком назойливых (tarabust) расспросов женщины. Этот страх (pavor) Петра, застигнутого врасплох пением петуха, вызывает внезапную осечку в голосе, которая и заманивает в сети более старую звуковую «рыбу», чем сам рыбак, чем его лицо, более старое, чем свет, и приговаривает его к слезам. Всякое детское лицо выглядит старше света, его озаряющего. Причиною тому — слезы новорожденных.
*
Добавляю поправку святого Иеронима. В рассказе святого Марка есть одна особенность: «Тогда петух запел во второй раз (греч.: ек deuterou). И тотчас вспомнил Петр (Petros) слова, сказанные ему Иисусом: “Прежде, нежели петух пропоет дважды (dis), трижды (tris) отречешься от Меня”. И он заплакал»[124]. Иероним истолковал текст Марка иначе. Он унифицировал его с остальными евангелиями. В конце IV века Иероним, который высоко ценил классическую римскую культуру (и который покаялся, точно в смертном грехе, что ему случается видеть сны, в коих он с удовольствием читает старинные светские книги), внес в тексты евангелий свою поправку, касающуюся двукратного крика петуха и трехкратного отречения. 1. Поправка Иеронима вполне оправдана: святой Марк пропустил в своем повествовании первый крик петуха, подготавливающий к трагедии. Музыкант или романист никогда не упустил бы случая произвести на аудиторию впечатление таким эпизодом, как первый крик петуха, даже если бы сам герой его не услышал. 2. Поправка Иеронима совсем не оправдана. В этом уже повторном пении — которое, тем не менее, впервые появляется в повествовании и приводит к тройному предательству, — таится глубина, которую я даже не могу достаточно ясно осмыслить. (Все, что я ощущаю, осмысливается мной с невероятным опозданием. Это единственный дар, коим меня наградили боги. Некоторые эмоции настигают меня с несколькими часами опоздания, а иногда и через год, два, семь лет, или двадцать лет, или тридцать. Взять хотя бы Улисса, который поранил колено, когда охотился на кабана вместе с сыновьями Автолика[125]: я начал страдать от этой боли только сейчас, при сырой погоде.) Не все тексты Евангелий датируются I веком после рождества Христова. Однако в тот же исторический период (хотя это было уже в царствование Нерона) всадник Петроний[126] написал другую сцену, посвященную пению петуха. Вполне возможно, что первые авторы Евангелий или те, кто их переписал и отредактировал, помнили об этом. Данная страница, написанная истинным литературным гением Гаем Петронием Арбитром за несколько недель до самоубийства, составляет отрывок из LXXIII главы «Сатирикона» [127]. Это пир Тримальхиона. Время близится к утру. Тримальхион приказывает слугам готовить новый пир, дабы в наслаждениях встретить новый день. И добавляет, что пир этот будет посвящен празднику «первой бороды» одного из его юных рабов-любовников. Наес dicente ео gallus gallinaceus cantavit. Qua voce confusus Trimalchio… «И когда он говорил эти слова, пропел петух. Тримальхиона смутило его пение…» Сцена разворачивается очень быстро: 1. Тримальхион отдает приказ совершить возлияние вина на стол. 2. Тримальхион велит полить вином масляный светильник, дабы избежать опасности пожара. 3. Тримальхион снимает перстень с левой руки и надевает на правую. 4. Тримальхион объявляет: Non sine causa hic bucinus signum dédit… («Эта труба не напрасно подала сигнал тревоги. Верно, где-то начался пожар. Или кто-нибудь отдает богу душу тут, по соседству. Нет, вдалеке от нас! Вдалеке от нас! Тот, кто раздобудет мне этого пророка несчастья, получит вознаграждение»). 5.Не успел он договорить (быстрее, чем он сказал — dicto citius), как доставляют ему петуха. 6. Тримальхион тотчас велит принести его в жертву (петуха бросают в котел). 7. Петух съеден, жертва принесена, знак беды проглочен, и судьба уже ничем не грозит (Тримальхион съел мрачный голос несчастья). Вышеприведенные сцены романа, соединившие действие с петушиным пением на птичьем дворе, напоминают странные зеркала. Эти зеркальные отражения, это эхо от Рима до Иерусалима, этот маленький диптих: Тримальхион в своем дворце и Петр во дворе Анны, словом, вся эта симметрия тем более замечательна, что любой мало-мальски эрудированный человек с воображением, перетащивший этот пир в эпоху правления Тиберия, смог бы исторически обосновать свою идею. Нетрудно убедить публику, что это тот же самый год. Можно даже утверждать, что это тот же самый день. Можно предположить, что и время то же самое. Более того, можно допустить, что это тот же самый петух.*
Райнер Мария Рильке писал, что воспоминания действительно становятся воспоминаниями лишь тогда, когда отрываются от своей образной и словесной оболочки, которая затрудняет их восприятие. Он утверждал, что начало воспоминания сопровождается старанием забыть его, запрятать поглубже. Лишь в этом случае воспоминание находит в себе силу вернуться к нам, еще влажным от вод реки забвения, без слов, без снов, без икон, но под видом жестов, маний, угрожающих движений, птичьего двора, приготовленного блюда, внезапных приступов рвоты, обмороков, необъяснимых страхов. Утратив имя и смысл, оно возникает, как слезы у Петра при третьем крике петуха в начале месяца апреля, на рассвете, когда он внезапно убежал из атриума, от жаровни, в подворотню дома тестя Каиафы[128]. Подлинное воспоминание Петра — это соленая влага рыданий, содрогающаяся спина, холод наступающего дня, сопение мокрого носа. Это раззявленная пасть рыбы, вытащенной из воды на воздух. «Тайная вечеря» этого «камня» (так звучало его второе имя)[129] — вода и соль. Трапеза святого Петра — если сравнить ее с пиром Тримальхиона, — это слезы. У Августина есть такое благочестивое изречение: «Я день и ночь питаюсь хлебом моих слез» (Толкование на Псалом 101). Петр навсегда соединил рассвет со слезами. Латур[130]показывает это любопытным образом: тлеющая в огне виноградная лоза, откормленный петух. Жорж де Латур ближе к Тримальхиону. На полотне Жоржа де Латура тело святого Петра выглядит странно: это не прямое тело зрелого мужчины, смотрящего сверху вниз на служанку, а тело старика — согбенное, скрюченное, тщедушное, как у ребенка; подбородок прижат к коленям, словно у мертвецов эпохи палеолита, когда труп связывали оленьими жилами, придавая ему позу зародыша, — может быть, в надежде на второе рождение в образе животного-тотема.*
Слезы святого Петра, как бы я ни силился сделать эту сцену более римской, мне удается представить только в барочном стиле, во временах Генриха IV или Людовика XIII. Это двор Луврского дворца серой слякотной зимой. Или залитый дождем двор в Руане. Или холодный, сырой двор Люневиля — места кончины Жоржа де Латура. В 1624 году Жорж де Латур продал слезы святого Петра за 650 франков. Сегодня картина «Отречение и раскаяние святого Петра», датирующаяся 1624 годом, находится в музее Кливленда. Петух с круглым глазом месопотамских божеств и сухая виноградная лоза рядом с мучеником-апостолом являют собой весьма редкостные символы природы, которые Латур решился изобразить на холсте (не будем причислять к множеству изображений природы человеческие существа; к рубрике «натюрморты» относятся только поющие петухи и горящие виноградные лозы). В конце предыдущего века, в «Слезах святого Петра» Малерба[131], ночное слово было утрачено. Если стыд рождается вместе с ночным сумраком, который и есть любая заря, то безмолвие рождается с наступлением дня:(Перевод А. В. Маркова)
*
Покинуть то, что покидает. Покинуть тех, кто покидает. Стыд стыдливый, стыд сумрачный; в страдании любви стыд, предшествующий объятию в ночи; стыд, предпочитающий тень и угрызения совести, реликвии, песнопения, слезы, креповую ткань, покрывало, черный цвет, — в старину все это называлось трауром. Французское слово «траур» (le deuil) происходит от латинского dolor — скорбь, боль. А латинское dolor идет от выражения «быть побитым». «Страдать мигренью» называлось у древних римлян сильным выражением caput mihi dolet (буквально: голова меня бьет). Это пульсация крови в сосудах головы, подобная темпу в музыке. Сильная пульсация близка к понятию le tarabust, она предвещает удушье. Мигрень — это назойливое мысленное повторение какого-то выражения или воспоминания, подобное барабанной дроби, которое постепенно пресекает дыхание (psyché); в результате человек начинает задыхаться. Приходится искать имя жертвы, чья кожа натянулась на этот маленький психический барабан, чтобы ослабить напряжение внутри черепа. Ибо причина этой болезни — образно выражаясь, осадок в этой амфоре, — кашель, надрывающий горло и грозящий асфиксией. Это смерть, смерть без траура, зловещие ночные голоса смерти, беспощадные к людям. То, что возвращается в виде мигреней, возвращается еще и в виде кошмаров. Мертвые предают нас, уходя навечно, а мы непрестанно предаем мертвых, живя. Мы упрекаем мертвых не только в их смерти, но и просто в смерти, доказательством которой они являются, вызывая боль в сосудах, где кровь теперь бьется за двоих. Deus meus, Deus meus, ut quid dereliquisti me? (Боже мой, Боже мой, зачем ты меня покинул?) Даже боги извергают этот крик, обращаясь к смерти. Слово dereliction (расставание, уход) означает «вопль, скорбь по умершим». И этот вопль куда более стар, нежели тот, что прозвучал в первом веке нашей эры, более стар, чем пятница, седьмой день месяца апреля 30 года. Таков он — этот крик, что издает святой Петр после того, как он выдал Иисуса и осознал свое отступничество в подворотне тестя Каиафы в Иерусалиме. Он вдруг осознаёт, что покинул того, кто его покинул. Песня птичьего двора, песня раннего детства, песня, которая приходит из дали, более дальней, чем знание того, что обрекает на смерть, — чем владение речью; старинная, древняя песнь, ставшая расстоянием во времени, отмеченным хриплым петушиным криком; заря, таящаяся в горле петуха, который и сам, как ни странно, стал анахронизмом:*
Любопытный парадокс: музыка защищает от звуков. Первые музыкальные произведения так называемой барочной музыки были проникнуты стремлением устраниться от назойливости звука, начиная с модуляции, свойственной человеческой речи и системе ее affetti[134]. Изобретение оперы явилось результатом этого стремления к чувственному возрождению, мутации (преобразованию) звуковой выборки, звукового жертвоприношения. Я считаю диатоническую, говорящую с нами на высоких тонах гамму, существовавшую в Европе с начала XVII века до первой половины XVIII века, одной из самых прекрасных вещей на свете, даром что ей выпало так мало времени. Это была абсолютная, безупречная красота, настолько хрупкая, что она очень скоро потеряла шанс на существование в будущем. Я ставлю ее в один ряд с римской satura[135] — изобретением исторического жанра в Греции и Риме, с красным вином из окрестностей Бордо и филе жареного солнечника [136], с буржуазным индивидуализмом и трагедиями Вильяма Шекспира.*
Рассказывают, что святой Петр в старости не переносил петухов. Не терпел он также ручных и диких дроздов, куропаток, голубей и уток-мандаринок — словом, тех птиц, которые не боялись людей и могли петь во дворе его базилики в Риме; всех их он обрекал на смерть. Гней Маммий рассказывает, что он приказывал Фусции Кереллии[137] душить их, завернув в тряпку, окрашенную соком черники (yaccinia). Это было до того, как его заключили в Мамертинскую тюрьму[138], то есть еще до того, как Нерон принудил Сенеку-Младшего к самоубийству. Святой Петр (Simo Petrus) жил тогда в Риме, в обширном, но довольно ветхом дворце, купленном в начале 60-х годов. Он уже начинал пользоваться известностью. Симон-Петр (Simo Petrus) ужинал с Лукианом, с Сенекой, с молодым испанцем Марциалом. Видели его также в гостях у Квинтилиана, у Валерия Флакка, у Плиния. Гней Маммий рассказывал, что в последние годы жизни он не переносил даже играющих детей и церковные песнопения. Однажды он приказал отхлестать кнутом и выгнать группу пожилых патрицианок, которые только что перешли в христианство, лишь за то, что они стояли и болтали во дворе, испуская громкие пронзительные возгласы. А дворец был погружен в тишину, и окна наглухо занавешены. На внутренних дверях его покоев висело на горизонтальных балках множество галльских плащей, сшитых вместе, дабы приглушать звуки. Фусция Кереллия вывязывала из шерсти маленькие затычки, которые днем и ночью свисали из ушей святого Петра.Трактат II ОБЩЕИЗВЕСТНО: УШИ НЕ ИМЕЮТ ВЕК
Любой звук невидим и, подобно игле для перлюстрации писем, всепроникающ. О чем бы ни шла речь — о телах, о комнатах или квартирах, о замках или укрепленных городах, — звук проходит сквозь все преграды. Звук нематериален и потому игнорирует любые барьеры, он не знает, что такое граница, что такое «внутри» и «снаружи». Он не признаёт никаких пределов и сам их не имеет. Его нельзя потрогать — он неуловим. Слушание — это не зрение. То, что видимо, можно игнорировать, сомкнув веки, остановить с помощью перегородки или драпировки, сделать недоступным, возведя стену. Но тому, что слышно, не страшны ни веки, ни перегородки, ни драпировки, ни стены. Звук не знает никаких пределов, от него никто не может защититься. Звуковой «точки зрения» просто не существует. Для звука не существует препятствий в виде террасы, окон, донжона, крепости, пункта панорамного обзора. Не существует сюжета или объекта слушания. Звук властно располагается всюду, где ему угодно. Он насильник. Слух — самое архаичное свойство восприятия в личной истории, возникшее даже раньше обоняния и зрения; он сродни ночи.*
Получается, что бесконечность пассивности (невольное, невидимое восприятие) зиждется на человеческом слушании. Я обобщаю это в формуле: уши не имеют век. Услышать — значит, быть застигнутым на расстоянии. Ритм связан с вибрацией. Вот чем музыка властно сближает сидящих бок о бок людей.*
Слушать — значит подчиняться. На латыни «слушать» — obaudire. Этот глагол obaudire — перешел во французский obéir — слушаться, подчиняться. А «слушанье» (audientia) стало obaudientia, то есть французским obéissance — подчинением, послушанием. Звуки, которые слышит ребенок, не рождаются в момент его зачатия. Задолго до того, как младенец становится источником звуков, он начинает подчиняться материнской мелодии, — или, по крайней мере, тому, что можно назвать непознаваемым, пред-существующим сопрано — приглушенным, теплым, обволакивающим. Генеалогически — на границе генеалогии каждого человека — это понятие obéissance (подчинение) продолжает то, что называется attacca sexuelle (сексуальная схватка, его породившая). Полиритмия — телесная, сердечная, затем плачущая и дыхательная, затем голодная и крикливая, затем подвижная и лепечущая, затем лингвистическая — так прочно усвоена, что кажется спонтанной. Эти ритмы тем более миметичны — иначе говоря, эти первые опыты тем более заразительны, — что они развивались бессознательно. Звук никогда не зависит полностью от тела, которое его издает и форсирует. Музыка никогда не освободится полностью от танца, который она ритмически организует. Таким же образом слушание звуков никогда не отделится полностью ни от соития, ни от формирования зародыша, ни от лингвистической связи ребенка с матерью. Человек не может стать недоступным для звука. Звук мгновенно достигает тела, словно оно предстает перед ним более чем обнаженным — лишенным кожи. Уши, где ваша крайняя плоть? Уши, где ваши веки? Уши, где дверь, где ставни, перегородка или крыша? Еще до рождения и вплоть до последнего, предсмертного вздоха все люди — и мужчины, и женщины — непрестанно слышат. Для слушания не существует сна. Вот почему музыкальные инструменты, пробуждающие людей, обращают свой призыв к уху. Для слуха невозможно укрыться от окружающего. Звукового пейзажа не существует, ибо пейзаж предполагает отступление перед видимым, но перед звучащим отступить невозможно. Звук это страна. Страна, которую нельзя созерцать. Страна без пейзажа.*
Слух во время засыпания человека — это последнее чувство, которое капитулирует перед бессознательной пассивностью подступающего сна.*
Музыка не существует для самой себя. Музыка тотчас вовлекает в физическое воплощение своей мелодии как того, кто ее исполняет, так и того, кто ее слушает.*
Слушающий чужую речь становится собеседником: эгофория[139] предоставляет в его распоряжение место-имение «я» и возможность открытого ответа в любой момент беседы. Но слушающий музыку — не собеседник. Он ее добыча, угодившая в ловушку.*
Звуковой опыт всегда отличается от личного: он одновременно пред-внутренний и пред-внешний, повергающий в транс, иными словами, вместе и панический и кинестезический, охватывающий все члены человеческого тела, завладевающий сердечным ритмом; он не пассивен и не активен — он изменчив, он всегда подражателен. Для него существует лишь одна-единственная, очень странная и специфическая человеческая метаморфоза — усвоение «родного» (материнского) языка. Это человеческое подчинение. Испытание музыкой глубоко недобровольно. Голос одновременно порожден и услышан.*
Музыку невозможно потрогать, вдохнуть, попробовать, увидеть — она асемична, она не существует физически. Музыка еще большее небытие, чем смерть, которую она сулит в паническом призыве сирен.*
Слух — единственное чувство, предмет которого невидим.*
В звуке нет ничего, что отсылает нам локализуемый образ нас самих, в отличие от зеркала, которое дарит нам четкое, симметричное, обратное отражение. На латыни «отражение» называется repercussio. Образ — это локализуемая кукла. Манекен или пугало — terrificatio. Эхо — это не звуковая кукла, не вещественное подобие. Эхо нельзя назвать объектом (objectus), это не видимое отражение, явленное человеку, это — звуковое отражение, к которому человек, услышавший его, не может приблизиться, не разрушив его эффект. У звука нет зеркала, в котором объект мог бы себя созерцать. Животное, предок, Бог, звуковой невидимка, голос матери накануне родов тотчас звучат в нем. Пещеры, затем города мертвых эпохи мегалита, затем храмы: все они звучат благодаря феномену эхо. Там, где звуковой источник никому не принадлежит. Там, где видимое и слышимое приходят в несоответствие. Как молния и гром. Первые профессионалы рассогласования между слухом и зрением составляют шаманическую пару. Как языковед и птицевидец.*
Умирая, Нарцисс погружается в собственное отражение, которое видит перед собой. Он разбивает дистанцию, отделяющую видимое от видения, и погружается в свой образ, настолько четкий, что может послужить ему могилой. Река — его мать, идущая ему навстречу. Умирающая Эхо разбивается, бросившись со скалы в пропасть. Ее тело падает с уступа на уступ. Эхо не воплощается в смерти: она становится всей горой, и вместе с тем ее нет нигде на горе.*
Невещественность и неограниченность — вот атрибуты богов. Природа звуков отличается невидимостью, отсутствием четких контуров, а боги обладают другим свойством — обращаться к тому, что невидимо, или служить посланниками неограниченного. Слушание — единственный ощутимый опыт вездесущности. Вот почему боги изменяются по лицам — я-ты-он, — как глаголы.*
Колдовство — это охота за душами, которые переселяются из одного живого существа в другое в необъятном двойственном пространстве миров, видимом и ночном, иначе говоря, реальном и онирическом. Эта охота — род путешествия, из которого нужно вернуться. Это палеолитическое чувство вины: быть способным принести добычу, которая превратилась в хищника против другого, добывшего ее хищника. Опытный колдун владеет искусством чревовещания. Каждое животное вселяется в того, кто его зовет свойственным ему голосом. Бог вселяется в священника. Зверь вселяется в человека, и его дух повергает в транс того, кем он завладевает. Колдун борется с ним. Он становится добычей шамана. Шаман становится устами бога. Он не подражает кабану: это кабан подает голос из него; это горный баран прыгает в нем; это бизон роет землю копытами в его безумном танце. Опытный колдун — это чрево, которое насытилось и в котором говорит животное, виновное в том, что его убили и съели. Пещера также обладает свойством чревовещания: это эхо уст, которые поглотили посвященного-зверям, скрыв его в чреве земли. В Ионе[140].*
Подражание звериным голосам и брачным танцам предшествует одомашниванию: хозяин зверей — предтеча укротителей. Первым свойством охотника стало колдовство: он охотился за дыханиями, за голосами, за видениями, за духами. Эта «специализация» была бесконечно медленной и развивалась постепенно: сперва власть над языком животных, затем власть над посвящением молодых охотников в язык животных, затем власть над смертью и возрождением, затем власть над болезнью и исцелением. Шаман способен освоить в своих странствиях между мирами любой голос, чтобы заманить зверя и повергнуть его к ногам своего племени в конце музыкального транса.*
Интересно, что чревовещание, глоссолалия[141], сам факт владения языком животных или попросту говорения «на языках», характеризуют только одного из двух членов шаманической пары. Георгий Шара-шидзе[142] сообщает, что грузины называют того, кто говорит в трансе, «языковедом», а того, чье владение языком визуально, — «птицевидцем». «Языковед» в трансе повторяет, не понимая и не переводя, то, что духи животных, людей, стихий и растений произносят его устами. А «птицевидец» видит этих духов в образе птиц или иных существ, но не слышит их. Он словно сидит в сторонке и ведет безмолвную беседу с птицами, которые садятся на древко его знамени — хотя никто не видит, как они опускаются на него, — и которые описывают ему в образах все, что видели во время своих воздушных странствий. «Языковед» в шаманической паре противопоставлен «птицевидцу». Это парное взаимодействие, эдакое chassé-croisé[143], парновзаимодействие даже не пары, а, скорее, более чем одной пары, — обмен местами. Это русская сказка про зоркий глаз и чуткое ухо[144]. Это певец и ясновидец. Это оракул, противопоставленный вещуну. Это гром и молния. Это ухо и глаз. Одержимое ухо, которое передает губам, повторяющим услышанное, это вербальная схватка с чем-то, находящимся за пределами языка, или с другим аспектом данного языка, или с совокупностью языковых систем, которые предшествовали языку, типа: «В те времена, когда звери говорили…». Глаз, ослепленный молнией, — это путешествие в ночной мир видений — снов, наскальных рисунков, восставших мертвецов.*
Каждый раз встреча с грозой происходит словно впервые. Каждый раз при раскате грома тело вздрагивает, а сердце трепещет в кратком промежутке между молнией и громом. Десинхронизация глаза и уха. То, что привлекает дождь, двойственно. Вид молнии в тучной темноте тучи, чреватой дождем, и наводящие жуть раскаты грома независимы друг от друга и вызывают трепет ожидания, страх и смещение временнбго интервала между ними. И вот, наконец, ливень обрушивается на землю — буйный, как шаман.*
Душераздирающий вопль — таков абиссальный[145]призыв. У абиссального призыва есть два вида органов — звуковые и видимые, к коим нужно добавить рождение, спаривание и смерть. Мы живем в патетической временной срочности. «Временная» означает «постоянно изначальная». Постоянно послушная. Как утверждали древние греки, боги даруют людям органы чувств, дабы откликаться на призыв пропасти под горой или грота-источника. Пиндар пишет в XII Пифийской оде: «Афина даровала людям слух (autos), дабы распространять их стенания». Николай Кузанский[146] говорил нечто похожее: «Passio (эмоция) предшествует знанию. Слезы предшествуют онтологии: плач оплакивает незнаемое». Музыка… это инструмент чего? Какова первоначальная интонация музыки? Почему существуют музыкальные инструменты? И почему мифы так внимательны к истории их рождения? Как возникли человеческие слушания: 1) коллективные, 2) круговые или квази-круговые? На греческом языке магический круг называется passio. Слуховой или танцевальный круг очерчивает в пространстве то, что латинское in illo tempore (во время оно) вписывалось в порядок времени.*
Любопытный расчет, присутствующий в ведических текстах, показывает, что человеческая речь, прибавленная к речи богов, представляет собой всего лишь четверть общей речи. И в тех же «Ведах» утверждается, что в скрипе колеса повозки, перевозящей soma[147], куда больше мудрости в тот момент, когда она въезжает на место жертвоприношений, нежели в самом глубокомысленном изречении самого проницательного из мудрецов. Непроизнесенное слово куда более значительно и мудро, нежели слово изреченное. За исключением случая, когда это последнее, будучи сконцентрировано до предела, в конечном счете преображается в дуновение, — ибо тогда это означает, что жертвоприношение достигло вербальной формы как таковой, членораздельно расчленив ее, разделав, точно жертву.*
Музыка в шаманизме обладает совершенно определенной функцией, которая может быть истолкована только лингвистом: это крик, дающий выход трансу, так же как дыхание при рождении находит выход в крике. На Целебесе шамана называют Гонгом или Барабаном, поскольку именно гонг или барабан дают выход застывшим словам (животному рыку голосов духов, которые внезапно просыпаются в теле их пророка).*
Ни извне, ни изнутри никто не может ясно различить в явлении, называемом музыкой, что в ней субъективно, а что объективно; что относится к слушанию, а что — к извлечению звука. Беспокойное любопытство, свойственное любому детству, состоит в стремлении различить в звуках, издаваемых телом, — увлекательных, но с возрастом стыдливо скрываемых, — что именно рождается от себя, а что принадлежит другому. Звучание не сдерживает ничего, разве что выделяет из общей массы тех людей, которые наделены индивидуальным слухом. Это называется «вытащить за ухо». Национальные гимны, городские оркестры, церковные песнопения, семейные песни идентифицируют группы населения, объединяют земляков, подчиняют себе подданных. Послушных подданных. Неограниченная и невидимая, музыка кажется всеобъемлющим голосом. Возможно, на свете и нет такой музыки, которая не объединяла бы людей, ибо нет музыки, которая не будила бы, с первых же тактов, дыхание и кровь, душу (то есть легкие) и сердце. Почему современные люди все чаще и чаще слушают музыку в концертных залах, все более и более обширных, а не у себя дома, несмотря на появление частных, самых совершенных технических средств трансляции и восприятия музыки?*
Даже самая рафинированная музыка — китайская, неоспоримо одиночная, — выражает в своих наиболее «передовых» легендах идею группового общения или как минимум встречу двух родственных душ. То есть пары. Это сказание фигурирует в романе «Сон в красном тереме»[148]: просвещенный Цзя Баоюй был искусным музыкантом, игравшим на цинь (цитре), но оказалось, что лишь один бедный лесоруб Чжун Цзыци был способен понять чувства, которые выражали его сочинения и его игра. Лесоруб приходил в лес слушать Цзя Баоюя. И заслышав звук цитры своего друга, прятался в тени, среди ветвей. Когда лесоруб умер, Цзя Баоюй разбил свою цитру, ибо не осталось ушей, способных слушать его песнь.*
В романе Цао Чжаня «Сон в красном тереме» Сестрица Линь Дайюй признается Братцу Жадеиту[149], что когда-то она училась играть на горизонтальной цитре. Увы, ей пришлось с этим покончить. Пословица гласит: «Три дня не притронешься к струнам, на кончиках пальцев вырастут колючки». Она объясняет братцу Жадеиту, в чем глубинная суть природы музыки. Учитель музыки Куан, игравший на семиструнной горизонтальной цитре, вызывал ветры и громы, вызывал драконов и шестнадцать черных журавлей, из коих каждому было две тысячи лет. Но цель музыки состоит лишь в одном: привлечь другого. Это Цзя Баоюй, привлекающий Чжун Цзыци в лес. Музыка, направленная на то, чтобы привлечь другого, влечет за собой табу: «Название горизонтальной семиструнной цитры (цинь) произносится как одно из слов, извечно означавших табу. Согласно установлениям древних, этим инструментом неизменно пользовались, дабы поддерживать энергию, присущую жизни». Для игры на этом инструменте важно было выбрать уединенный покой на верхнем этаже дома, либо на высокой террасе, либо в глухом уголке леса, на вершине горы, на берегу широкого озера. И любую музыку надлежало исполнять ночью, улучив тот ночной час, когда небо и земля соединяются в идеальной гармонии, при чистом ветре и светлой луне. И играть, сидя со скрещенными ногами, с сердцем, свободным от всякого гнета, со спокойным и медленным пульсом. Вот почему древние китайцы утверждали, что очень редко удается встретить существо, которое и впрямь умеет понимать тончайшие нюансы музыки. За недостатком слушателей, обладавших таким умением, они говорили, что лучше уж доставлять себе удовольствие играть перед лесными обезьянами и старыми журавлями. Для этого надлежало причесываться по тайной моде и одеваться, следуя строгому ритуалу, дабы не оскорбить своим видом древний инструмент. Следовало дождаться такого момента, когда желание играть станет неодолимым. Едва наступал такой момент, музыкант очищал руки, зажигал благовонные палочки, брался за цитру, клал ее на прямоугольный стол и садился так, чтобы его сердце находилось точно перед пятой отметкой на деке инструмента. Перед началом игры исполнитель должен был молча, благоговейно собраться с мыслями. Он смотрел на луну. Затем обращал взгляд в ночную тьму. И тогда музыка могла подняться из сердца инструмента, а пальцы музыканта легко бегали, танцевали на струнах.*
Европейский струнный квартет. Четыре человека в черном, с бабочками на шеях, склоняются над своими смычками-луками с натянутым на них конским волосом, над струнами из бараньих жил.*
Музыка — это плата, которую человек обязан выдавать времени. А если точнее, тому мертвому интервалу, который создает ритмы. Концертные залы — это древние пещеры, чей бог зовется временем.*
Почему слух — это дверь, скрывающая то, что не от мира сего? Почему акустическая вселенная с самого начала заключалась в привилегированном доступе в иной мир? Неужто бытие более тесно связано со временем, нежели с пространством? Неужто оно более тесно связано с языком, с музыкой, с ночью, чем с видимыми, яркими вещами, какие солнце дарует нам каждодневно? Разве время — это свойственный бытию расцвет, а повиновение — его темный цветок? Разве время — мишень бытия? Разве музыка, речь, ночной мрак и безмолвие — его стрелы? А смерть — его цель? Для ушей именно значение речи (ноэмы[150], мысли, фантомы, порождаемые голосом), а не субстанция слова, делает возможным возврат смысла в душу. И, следовательно, этот возврат есть молчание, в котором слово сбрасывает свою звуковую оболочку. Лингвистическое слушание — это молчание, где слово разрушается, сохраняясь лишь в форме мысли. В процессе слушания речь, которая являет собой голос отсутствующей вещи, сама преображается в отсутствующую вещь, в неуловимый фантом, который возникает из слова с того момента, как исчезает сама его материальная оболочка. Это уже не языковой символ, но когнитивное ощущение. Таково жертвоприношение, свойственное ноэ-сису (noèsis)[151], что проистекает из жертвоприношения (во время которого зверя убивают и разрубают на части, чтобы он передал людям свою силу; одновременно разделка туши и распределение ее частей между членами племени является социальным актом). По крайней мере, при лингвистическом слушании речь растягивается, избавляясь от своей звуковой физической формы, ограниченной только социальной областью применения, и становится немой звуковой записью, скрытой во всякой душе, которую она «одушевляет». Ибо язык производит знаки через саму последовательность слушания. Значение, заключенное в асемической речи (музыке), — всего лишь факт ее существования, вещь в себе; иначе говоря, ее мгновенный призыв крови и дыхания к себе самой. В этом смысле лингвистическое подчинение может стать индивидуальным, а мысль, которая из него рождается, — это отрыв от звука. Мысль может стать немым размышлением.*
Молчать — значит, прежде всего, отрешиться от глухоты, в которой мы пребываем по отношению к речи в нас, и в которой говорящий полностью погружен в социальный circulus[152] — ритмический, ритуальный. Речь никогда не бывает слышимой при говорении; она функционирует, опережая свою услышанность. Говорящий стоит с открытым ртом в начале своей выдыхаемой утраты, перед тем как его речь воплотится в реальное звучание. Слушатель может сидеть, не раскрывая рта: он открыл уши. В речи говорящего язык воодушевляется сам по себе, говорит почти самостоятельно и во всех случаях жизни сам себя почти не слышит. Таково размышление Клейста, названное Monolog. Таков рассказ «Болтун» Луи-Рене де Форе. Язык в говорении — это его собственный мираж. Говорение есть неуловимое внешнепроявляемое смятение. Речь осмысливает говорящего и его мысль. А слушатель слушает. Не существует глубокого слушания без ущерба для говорящего: он сдает позиции перед тем, что сообщает, что перемещается, рождаясь в его устах в виде слова и в конечном счете достигая слушателя — с одной стороны, из-за стирания звукового источника в воздухе, а с другой — благодаря тому фасованно-тасованному употреблению сказанного, которое созревает в себе самом. И тогда тот, кто слушает, перестает быть прежним, в нем происходит мысленный переворот. Я имею в виду настоящее слушание. Иными словами, послушание (obaudientia), внимание настоящей, компетентной аудитории (d'une vraie audientia). Подлинное слушание… Мне кажется, что людям известны лишь два вида такового: 1) чтение романов — ибо чтение какого-нибудь эссе не отменяет ни самоидентичности, ни недоверия, и 2) искусная музыка, то есть, melos[153], сочиненные теми, кто прошел испытание неслышной идентичной речью. Это два вида слушания, чья беззвучная доступность неоспорима, но также индивидуально привлекательна. Манера выражения исчезает, восприятие колеблется, тает в источнике, и рождается смятение, о чем свидетельствует потеря идентичности.*
Когда читаешь отрывки из произведений монаха Кенко или «Жизнь Ранее» Шатобриана, желания полемизировать не возникает; душа захвачена и побеждена; все, что сказано о той или иной личности, или о каком-то эпизоде, или об эпохе, кажется атрибутами мифа или романа; мы читаем о красоте, забывая о логике, ищем лишь психическое опьянение, ноэтическую (понятийную) анестезию (от aisthèsis), а не семантическое, тематическое, ноэматическое, визуальное, созерцательное знание.*
Геродот писал, что женщины забывают о стыдливости в тот самый миг, когда снимают одежды[154]. Эрос овладевает ими еще до того, как супруг сделает первый шаг, который приведет к объятиям. Так и слушатели расстаются со своей идентичностью в тот самый миг, как расстаются с речью: они умолкают. Для того, кто читает роман, как и для того, кто слушает музыку, земля, по которой они ступают, превращается в область безмолвия. В погружение ныряльщика, сомкнувшего уста перед прыжком в море молчания.*
Однако раковины ушей не поворачиваются сами по себе, чтобы прервать слушание, — в этом их отличие от глазных век, которые опускаются, чтобы прервать процесс созерцания до того момента, когда поднимутся вновь, чтобы возобновить его. Плутарх писал: «Говорят, что physis (природа), наделив людей парой ушей и одним языком, задумала принудить нас меньше говорить и лучше слушать»[155]. Physis «вслушалась» в безмолвие, прежде чем сотворить из животных некоторых людей. Мы владеем двумя ушами, но только одним ртом и языком. И, наконец, Плутарх прибег к таинственному сравнению, уподобив уши выщербленным вазам.*
Тот, кто пишет, являет собой эту тайну: говорящий, который слушает.*
Писание, которое слушается. Оно послушно — ибо подчиняется непредсказуемому и неумолимому телу. Одержимый речью точно определяет колдуна как добычу добычи.*
Плутарх рассказывает, что Дионисия восхитила в театре виртуозная игра одного кифареда. Когда этот последний закончил исполнять свою мелодию, тиран Сиракуз подошел к нему и обещал вознаградить золотом, одеждами и роскошными гончарными изделиями. На следующий день кифаред явился во дворец Дионисия. Его приняли в зале аудиенций. Кифаред поклонился и стал ждать, когда тиран знаком велит ему приблизиться. Но Дионисий медлил. Когда кифаред решился заговорить, он скромно напомнил правителю о подарках, которые тот посулил ему накануне, выслушав его исполнение. Тиран встал с золотого трона и с усмешкой взглянул на музыканта. Потом прошептал, что уже рассчитался с ним. Затем Дионисий отвел взгляд от глаз кифареда. Остановился на помосте. И добавил, не оборачиваясь: «Ибо ты доставил мне столько же счастья своими песнями, сколько я тебе — своими посулами»[156].*
Вико[157] утверждал, что человек был животным, коего вырвала из неразумного состояния молния. Первый знак — визуальный, это вспышка. Первый звуковой — гром. Таково, по убеждению Вико, происхождение языка. Огненная вспышка молнии и ворчание грома суть первые теологии (theologia). Леса, скрывающие знаки и прячущие звуковые источники… Лесная поляна у римлян называется lucus — глаз. Пещера называется ухом. «Новая наука» (lа Science neuve) напоминает о человеческих поселениях, вновь становящихся лесами: веки леса (lucus) смыкаются.*
В момент наступления ночи все умолкает. Это момент, когда птицы уже смолкли, а лягушки еще не завели свою ночную песнь. Они любят полночь так же, как петухи и прочие птицы любят создавать свою звуковую территорию в рождающемся свете дня. Хотя свет не «рождается»: свет сам «рождает» все видимое на земле и окружает его небом. Миг самого большого звукового спада принадлежит не ночи, но сумеркам. Это звуковой minimum minimorum. Пан — странный звуковой взрыв полдневного безмолвия. Бог свирелей хранит молчание в зените дня, то есть в оптическом максимуме. Таковы данности этого мира. Сумерки — это «звуковой момент зеро» в утвержденном распорядке природы. По правде говоря, это вовсе не «момент зеро», вообще не безмолвие, но звуковой минимум, свойственный природе. Человечество не перестает ему подчиняться. В онтологии минимальный звук определяется границей между щебетом и кваканьем. Это момент тишины. Тишина ничем не определяет отсутствие звуков: она определяет состояние, в котором ухо максимально насторожено. Человечество никоим образом не причастно к преображениям звука и безмолвия, как не причастно к происхождению света и тьмы. Состояние, в котором ухо максимально насторожено — это порог ночи. Час, который мне ближе всего. Час, в который — наряду со всеми остальными часами, когда я люблю оставаться один, — я предпочитаю оставаться один. В этот час я хотел бы умереть.Трактат III О МОЕЙ СМЕРТИ
Никакой музыки — ни до, ни во время, ни после кремации. Ни одной цикады, заключенной в клетку. Если кто-нибудь из присутствующих начнет плакать или сморкаться, все почувствуют неловкость, и эта неловкость будет тем более явной, что музыка ее не рассеет. Заранее прошу прощения у тех, кого смутит моя просьба, но это смущение я предпочитаю музыке. Никаких тягостных процедур. Никакого похоронного ритуала. Никакого пения. Никакого последнего слова. Ни одной музыкальной записи, какова бы ни была мелодия и кто бы ни был ее автором. Ни объятий, ни жертвоприношений в виде зарезанных петухов, ни религиозных обрядов; не нужно даже общепринятых жестов. Пусть мне скажут «прощай» и на этом умолкнут.Трактат IV ПО ПОВОДУ СВЯЗЕЙ ЗВУКА И НОЧИ
Бывает так, что мы начинаем сомневаться в темном слушании. Бывает, что химеры амниотического, водного, приглушенного, далекого мира кажутся нам обманчивыми. Бывает также, что у нас возникает живое впечатление о том, что мы помним прошлое. Однако воскрешение в памяти — это рассказ, подобный пересказу или толкованию снов: это привносит столько всего, что мы начинаем сомневаться в самих себе. Мы всего лишь конфликт сюжетов, подкрепленных неким именем. Возможно ли найти в истории доказательство, способное засвидетельствовать эту пытку темнотой слушания — слушания, обходящегося без зрения, и одновременно свободного от всякой предрасположенности? Однако это доказательство существует. Оно лишено смысла; это самое странное из доказательств, самое непостижимое в своей протяженности; оно расположено именно во временном источнике определения вида в медленной десинхронизации, которая произошла в ходе первобытной истории.*
Двадцать тысячелетий тому назад люди, захватив с собой примитивные светильники, наполненные жиром зверей, убитых на охоте, — этот жир соскребали со шкур, прежде чем сшить из них одежду, — пробирались сквозь кромешный мрак в подземные ходы между скалами и в горные пещеры. Разгоняя тьму с помощью этих светильников, они украшали изображениями животных, монохромными или двухцветными, необъятные залы, где доселе царила вечная ночь.*
Почему же рождение искусства было связано с этими подземными экспедициями? Почему искусство стало — и остается доселе — темной авантюрой? Возможно, визуальное искусство (или, по крайней мере, искусство, видимое при свете дрожащего огонька жирового светильника) было связано со снами, которые также являются ночными видениями? Двадцать одно тысячелетие протекло с тех пор: и в конце XIX века человечество толпами ринулось в темные пещеры кинозалов.*
Почему в древних захоронениях, включая эпоху мезолита, обнаруживались многочисленные тела, погребенные скрюченными, связанными оленьими жилами в позе зародыша, с головами, уткнувшимися в колени, так что они напоминали яйца, покрытые красной краской? Почему они были зашиты в шкуры обезглавленных зверей? Почему представления первобытных людей были такими загадочными и почему в них смешивалось животное начало с человеческим? Откуда взялись эти люди-бизоны, эти поющие шаманы со звериными головами? Почему эти олени-самцы с раскидистыми рогами запечатлены в момент гона? Почему эти козлы представлены во время течки и брачных призывов? (Tragôdia на греческом языке означает, кроме первого смысла, то, что современный грек поймет и без словаря: козлиное пение.) И почему эти львы изображены ревущими, с разверстыми пастями? Может быть, через эти первые образы человек изображал музыку? Похоже, этих «визионеров», этих ночных пещерных мечтателей, этих шаманов — первых живописцев a fresca[158] — особо интересовал период линьки животных, сбрасывания рогов, а также мутация звериных голосов. А точнее, мутация подростков в период полового созревания и ломки голоса, период превращения мальчика в мужчину, иными словами, возраст его посвящения в тайны охотников (то есть в секреты мужчин-животных) и потаенный язык зверей, которых те преследовали, чтобы питаться их мясом и одеваться в их шкуры. Рог горного козла, или быка, или оленя — могут ли они распознать в себе инструмент, который позволяет пить кровь его владельца и разделять ее с другими после жертвенного убийства — эту кровь, превращенную в забродивший напиток, который вдохновляет на видения и танец, подражающий повадкам зверя, на имитацию его призыва? Интересно, пели ли эти люди, расписывая стены пещер, как это делают австралийские бушмены? (Легенды свидетельствуют о том, что великий греческий живописец Паррасий[159] тоже напевал за работой). Почему люди устраивают все известные святилища там, где дневной свет, как и свет звезд, перестает быть видимым, где безраздельно царят темнота и скрытая глубина земли? Зачем нужно было скрывать эти изображения, которые и не назовешь таковыми, ибо они поминутно превращались в видения, в фантазмы (phantasmata) и возникали в недрах земли лишь на короткие мгновения при дрожащем огоньке фитиля, воткнутого в жир убитого зверя? И зачем потом соскребать увиденное? И зачем пускать в эти изображения стрелы, как при игре в дартс или на традиционных ярмарочных состязаниях в стрельбе из лука? Как будто все они представляли святого Себастьяна[160]…*
Андре Леруа-Гуран[161] в своей «Предыстории искусства» свел все эти вопросы к одной-единственной формуле: почему творчество охотников на бизонов и лошадей угасло в период отступления ледников?*
Я представлю короткое объяснение, уместное для такого маленького трактата: эти пещеры не являются святилищами с изображениями.*
Я утверждаю, что палеолитические пещеры — это музыкальные инструменты с разукрашенными стенами. Эти ночные резонаторы были расписаны таким образом, который никак нельзя назвать панорамным: ведь их выполняли в темноте. Стены пещер выбирались для изображений по принципу звучания эхо. Эхо — это пространство двойного звучания: такие пещеры являлись эхо-камерами. (По такой же логике пространство двойной видимости — это маска: люди создавали маски бизонов, маски оленей, маски хищных птиц с крючковатыми клювами, чучела человека-бизона.) Человек-олень, изображенный в глубине тупика пещеры Трех Братьев, держит в руках лук. Я не стану отличать орудие охоты от первой лиры, так же, как не стану разделять Аполлона-лучника и Аполлона-кифареда.*
Наскальные изображения начинаются там, где человек перестает видеть собственную поднятую руку. Там, где виден только черный цвет. Эхо — единственный проводник и ориентир в безмолвном мраке, куда они проникают в поисках изображений.*
Эхо — голос невидимого. Живые не видят мертвых на свету. Однако видят их по ночам, во сне. Источник звука неуловим в эхо. Это прятки между видимым и слышимым.*
Первые люди запечатлели свои ночные видения (visiones nocturnd), пробравшись вслепую в нужные места благодаря акустическим свойствам некоторых стен. В пещерах Арьежа[162] художники-колдуны изобразили рычание диких зверей в виде пучка коротеньких черточек прямо перед пастью или носом своей добычи. Изобразили они также и колдунов, держащих в руках манки или луки. Резонанс в этом обширном гулком святилище был связан с их появлением из-за частокола сталагмитов. Мерцание жирового светильника, открывающего глазу, одно за другим, явление зверей из тьмы пещеры, перекликалось с музыкой кальцитовых литофонов.*
На Мальте есть вырубленный людьми подземный храм — Гипогей[163],пещера-резонатор. Частота звука тамошнего эха составляет девяносто герц, оно звучит с устрашающей силой, даже если люди говорят совсем тихо. Рэймонд Мюррей Шейфер[164] перечислил в своей книге все зиккураты, храмы, крипты и церкви с эхо, с отражением звука, с полифоническими лабиринтами. Эхо таит в себе тайну мира alter ego — второго «я». Лукреций выразился проще: любое место, где есть эхо, — храм[165].*
В 1775 году Виван Денон[166] посещает святилище Сивиллы, известное своим эхом, и записывает в дорожном дневнике: «Я не знаю более впечатляющего эха. Быть может, это самое прекрасное звуковое явление, какое существует на свете». В пещере Трех Братьев колдун с оленьими рогами, с оленьими ушами, с лошадиным хвостом, львиными лапами и совиными глазами: у него глаза хищников, которые охотятся «на слух». Глаза обитателей пещер.*
У индейцев племени аранда глагол «родиться» — alkneraka (стать-глазами).*
В прошлом жители Шумера называли место, куда уходят мертвые, «страной-без-возврата». Шумерские тексты описывают «страну-без-возврата» так: вздохи мертвецов едва различимы, и сами они двигаются еле-еле, как во сне, землистые, покрытые перьями, несчастные, словно «ночные птицы — обитатели пещер».*
Изида, научившая первых египтян скорбным песнопениям, сказала в своей песне-жалобе, что, когда глаза не видят, глаза желают. Песнопение уточняет, вопреки речи, что голос, который взывает к мертвым, не может быть услышан ими. Голос лишь называет их. Он может только взывать к скорби тех женщин, кто лишился любимого супруга. Миф гласит, что, когда Изида завела свою первую скорбную песнь — плач над останками Озириса, над его кастрированным телом, чей член был потерян, — в тот же миг умерло дитя царицы Библоса[167].*
Первое повествование в рисунках находилось в глубине колодца, вырубленного также в глубине абсолютно темной пещеры. Там были изображены: умирающий итифаллический[168] человек, распростертый на спине, нападающий на него бизон с брюхом, вспоротым рогатиной, и палица, увенчанная птичьей головой с крючковатым клювом. Последняя религия, оставшаяся в пространстве, где я живу, представляет изображение умирающего человека. В Новом Завете сказано, что Христос получил пощечину с завязанными глазами[169]. Любой Бог истекает кровью в полумраке. Бог истекает кровью только в слушании и в ночной тьме. Вне мрака и пещер он сияет. Исаак больше не видит. Он живет во мраке. Его сын Иаков говорит: «Я принес тебе не овцу, растерзанную дикими зверями». Иаков принес не овцу, растерзанную дикими зверями, но покрыл овечьей шерстью свои руки. Исаак ощупывает его и говорит: «Голос походит на голос Иакова, но руки косматы, как у Исава». И благословляет его. Он думает: «Голос его еще не устоялся, тело же покрыто шерстью».*
В детстве я пел. В подростковом возрасте у меня, как у всех мальчиков, началась ломка голоса. Но она прошла почти незаметно и мало что изменила. Я страстно увлекся инструментальной музыкой. Между музыкой и ломкой голоса существует прямая связь. Женщины рождаются и умирают с сопрано, которое кажется ненарушимым. Их голос — это их царство. Мужчины же лишаются своего детского голоса. В тринадцать лет он становится хриплым, петушиным, блеющим. Любопытно, что наш язык характеризует голос именно так — петушиный и блеющий. Мужчины входят в число животных, чей голос ломается. В этом роде они образуют род песен на два голоса. Исходя из пубертатности их можно определить так: человеческие существа, которых покинул голос, как животные лишаются шерсти при линьке. В мужском голосе детство, младенческая бессловесность, отношение к матери и ее темным водам, к амниону[170], затем послушная выработка первых эмоций и, наконец, детский голос, подражающий материнской речи, — все это подобно коже змеи, которую та сбрасывает. Тогда мужчины либо отсекают — как отсекают тестикулы, — ломку голоса, и он навсегда остается детским, а они сами становятся кастратами. Либо мужчины сочиняют музыку с помощью своего потерянного голоса. И тогда их зовут композиторами. Они восстанавливают, как могут, звуковую территорию, которая не должна обеззвучиться при ломке голоса. Есть и еще одна вероятность: люди компенсируют с помощью музыкальных инструментов телесное и голосовое несовершенство, в которое их повергла перемена голоса. Таким образом они снова обретают высокие, одновременно детские и материнские регистры рождающихся эмоций, звуковой родины. Таких называют виртуозами.*
Человеческую кастрацию можно определить как неолитическое приручение голоса, приручение ин-траспецифическое, которое имело место в период от эпохи неолита до конца европейского XVIII века. Оно отсылает нас к подземельям обрезания в колдовских пещерах, где умереть для детства и возродиться превращенным в человека-зверя, в охотника, было одной и той же метаморфозой. В пещере Гипогея голоса женщин и голоса детей не могут заставить звучать каменный инструмент, — частота их голосов недостаточно низка, чтобы вызвать резонанс скалы. Только лишь мальчики, достигшие половой зрелости, могут заставить звучать пещеру Гипогея. Пройти через ломку голоса, умереть и воскреснуть: погребальное или ночное путешествие и юношеская инициация неразделимы. Пропп[171] говорил, что все самые чудесные сказки в мире повествовали об этом путешествии-инициации, из которого возвращаются бородатыми и басовитыми мужчинами. Что такое «герой»? Ни живой, ни мертвец. Колдун, который проникает в иной мир и возвращается из него. Прошедший мутацию. Это означает вернуться из пещеры, из звериной пасти, которая заглатывает тебя, раздирает на куски, иными словами, делает обрезание и выбрасывает обратно, на солнечный свет.Три миллиона лет отделяют нас от орудий убийства и труда, вытесанных из камня. Затем наступили сорок тысяч лет предыстории. И, наконец, девять тысяч лет истории, которая вылилась в бесконечные войны. Люди, вышедшие из предыстории, в самом начале неолита разорвали время на части, вплоть до установления понятия «год», и начали рассматривать себя как хозяев земли, возделывая полезные растения и приручая полезных животных. Они стали приносить в жертву ростки с полей, новорожденных детенышей животных и своих собственных младенцев. Стали кастрировать. Озирис растерзан и лишен пениса. Это четырнадцатая часть его тела, так и оставшаяся ненайденной. Во время процессий, посвященных Озирису, женщины-музыкантши пели гимн, сложенный в его честь, размахивая подвешенными на веревочках непристойными марионетками-подобиями их бога. Атис[172] вырвал свой пенис, стоя под сосной, и обагрил землю своей кровью. Этот ритуал сопровождался игрой на тамбуринах, цимбалах, флейтах и рогах. Гимны коллегиумов священников-евнухов, служителей Атиса, пользовались величайшим почитанием по всему Востоку. Музыкант Марсий, подобравший флейту, брошенную Афиной, был привязан к сосне и оскоплен, после чего с него содрали кожу. В древности греки отправлялись посмотреть на эту кожу в Селену, в пещеру у подножия цитадели. Они утверждали, что кожа Марсия начинала подрагивать, стоило музыканту искусно заиграть на авлосе[173]. Орфей также оскоплен и растерзан. Музыка, волшебный, прирученный голос и кастрация — неразделимы.
*
Смерть голодна. Но смерть еще и слепа. Саеса пох. «Темная ночь» означает «слепую тьму» — ночь, которая не видит. Будучи тьмой, мертвые могут распознать живых лишь по голосу. В ночной тьме узнавание носит акустический характер. В недрах пещер, в абсолютном, ночном безмолвии пещерных недр, белые и золотистые кальцитовые завесы, проводящие звук, разбиты на высоте роста человека. В эпоху предыстории люди выносили разбитые сталагмиты и сталактиты из пещер. Это были фетиши.*
Греческий географ Страбон писал, что в глубине Ко-рицийской[174] пещеры, в двухстах саженях от входа, под журчание воды, стекающей со сталактитов там, где подземный источник возникает и тотчас же исчезает в расселине, благочестивые жители Греции слышали в кромешной темноте звуки цимбал, чьи струны перебирали пальцы Зевса. Страбон добавляет, что другие греки, в I веке до н. э., утверждали, будто звуки эти происходят от скрежета зубов Тифаона — похитителя медвежьих жил[175].*
В XVIII веке нашей эры Жан-Медведь (Jan de l’Ors) крепко обвязывает себя под мышками веревкой и спускается в колодец, уходящий так далеко в толщу земли, что и дна не видно. Стенки колодца склизки. Летучие мыши неслышно мечутся в темноте. Спуск длится три полных дня. На исходе третьего дня его посох весом в сорок квинталов упирается в дно колодца. Жан-Медведь развязывает и сбрасывает веревку. Делает несколько шагов в огромной пещере, куда он, наконец, добрался. Земля сплошь усыпана костями. Он блуждает среди черепов. Наконец, он видит посреди пещеры замок и входит в него. Он шагает вперед по мраморному полу, но не слышит звука своих шагов. Жан бросает свой посох весом в сорок квинталов на пол, но звук падения не громче, чем если бы птичье перышко упало на снег. И Жан-Медведь понимает, что замок этот — обитель, где звуки рождаться не могут. Он поднимает голову и видит гигантского кота, сделанного из кальцита, светящегося стекла и хрусталя. У кота-великана во лбу сияет карбункул. А вокруг стоят деревья, чьи ветви отягощены золотыми яблоками; в центре, между деревьями, мерцает немой фонтан, чьи струи беззвучно вздымаются и падают вниз. Юная девушка, прекрасная, как заря, сидит на бортике фонтана и расчесывает волосы гребнем-полумесяцем. Жан-Медведь подходит к ней, но она его не видит. Прекрасные глаза юной девушки неотрывно устремлены на сияющий карбункул, который сообщает этому месту волшебный свет. Жан хочет с ней заговорить, задает ей вопрос, но не слышит собственного голоса. «Значит, эта женщина заколдована, — думает Жан-Медведь, — и мне суждено стать безумцем в этой мертвой тишине». Тогда Жан поднимает свой посох, весящий сорок квинталов, и, размахнувшись, наносит мощный удар по голове гигантского хрустального кота. Сталактиты разбиваются вдребезги, издав самый прекрасный звон в мире. Плененные звуки в один миг освобождаются от заклятия. Фонтан журчит. Мраморные плиты отражают звук шагов. На деревьях шелестят листья. Звучат человеческие голоса.Трактат V ПЕСНЬ СИРЕН
В IX песни «Одиссеи» Улисс, обливаясь слезами, поверяет свое имя. Аэд откладывает кифару и замолкает. Тогда Улисс берет слово и повествует, говоря от первого лица, о продолжении своих приключений: сначала о пещере, затем об острове Цирцеи и под конец о путешествии в страну мертвых. Возвращаясь из страны мертвых, Улисс проплывает мимо острова сирен. Цирцея (по-гречески Kirkè) означает хищную птицу, самку ястреба. Цирцея поет на острове, называемом Aiaiè, то есть жалоба, сетование. Kirkè поет жалобную, томную песнь, которая превращает слушающих ее мужчин в свиней. Певица Цирцея предостерегла Улисса: песня (aoidè) сирен, проникновенная (ligurè), чарует, завлекает (thelgousin) мужчин, притягивает тех, кто ее слышит, и берет их в плен. Остров сирен представляет собою сырой луг (leimôni), усеянный человеческими костями с гниющими остатками плоти. Волшебница с ястребиным лицом учит Улисса двум хитростям, сколь простым, столь же и полезным. Каждый спутник Улисса должен заткнуть уши шариками, скатанными из воска, который нужно вырезать бронзовым ножом из медовых сот. Один лишь Улисс может оставить уши открытыми, но при условии, что он будет стоять на палубе, трижды связанный: по рукам, по ногам, а его тело прочно прикрутят веревками к мачте. И всякий раз, как Улисс будет умолять освободить его, Еврилоху и Перимеду надлежит еще туже стягивать его узы. Тогда он сможет услышать то, чего ни один смертный доселе не услышал, не заплатив смертью: песни-призывы (одновременно phthoggos[176]и aoidè[177]) сирен.*
Финал этой сцены у Гомера не вполне убедителен. Когда над морем вновь воцарилась тишина, вероятно, моряки с затычками в ушах должны были услышать удалявшееся пение сирен, поскольку Ев-рилох и Перимед должны были связать Улисса еще крепче, как только он начнет умолять освободить его. Итак, моряки, поняв, что вокруг тихо, спешат вынуть из ушей затычки, которые Улисс изготовил для них, вырезав бронзовым ножом из медовых сот кусочки воска и размяв их пальцами. Тогда-то Еврилох с Перимедом и развязали (апе-lysarï) Улисса. К слову сказать, именно тогда в греческом тексте впервые появляется слово «анализ».*
Простой факт реверсии данного эпизода кажется мне прекрасным способом придать ему большую достоверность. Птицы заманивают людей своим волшебным пением туда, где они живут и где земля усеяна человеческими костями, а люди заманивают птиц, подражая их пению, в место, усеянное костями, туда, где гнездятся они. Поддельное пение, имеющее целью привлечь птиц, называется приманкой. Сирены являют собой реванш птиц над приманками, которые делают их жертвами собственного пения. В археологических наслоениях самых древних пещер обнаруживаются свистки и манки. Люди эпохи палеолита приманивали путем звукоподражания животным, на которых охотились и от которых не очень отличались. На стенах темных пещер изображались оленьи и козьи рога. Сегодня мы видим их в книжных иллюстрациях при ярком свете; не исключено, что в рог можно трубить. На некоторых древних наскальных рисунках люди держат в руке рог. Для чего — чтобы пить из него кровь зверя? Чтобы символически вознести на копье зверя, которого он обозначает (и тогда это указание на то, что олень сбрасывает в лесу рога во время линьки) так достоверно, что это может стать звуком, на него указующим, как острие копья. В таком случае этот домысел можно истолковать следующим образом: текст Гомера возобновляет в данном инверсивном эпизоде сказание-прототип о происхождении музыки, согласно которому первая музыка родилась в охотничьих манках. Секреты охоты (речь зверей, то есть крики, которые они издают и которыми их призывают) передаются от человека к человеку путем звукоподражания. Цирцея — самка Ястреба. Если соколы и ястребы, орлы и совы начали постепенно «обожествляться» лкадь-ми как небесные создания, коим охотники оставляли часть добычи (лоскуты кожи, части внутренних органов, куски мяса) в момент ритуального жертвоприношения, то и манки, которыми их залучали в нужное место, начали мало-помалу «теологизиро-ваться». Таким образом, музыка, век за веком, все больше уподоблялась песнопению, привлекавшему богов к людям, как прежде она привлекала птиц к охотникам. Речь идет о новых временах, но функция осталась прежней.*
Уши ведут их в силки, в которых они запутаются: воск в ушах мешает им услышать того, кто зовет. В Риме олени считались трусливыми животными — недостойными сенаторов, которые предпочитали охотиться на кабанов, — ибо они спасались от нападения бегством и слыли любителями музыки. Охотились на оленей с помощью манка — это был род свирели, чей звук напоминал голос оленя во время линьки или крик живого оленя (приманки), привязанного к дереву, чей голос привлекал будущую жертву. Охота на оленя, считавшаяся плебейским занятием, даже не требовала копья: олень запутывался рогами в натянутой сети.*
Все сказки повествуют о юношах, которые во время инициации осваивали язык животных. И манок, и тот, кто в него дует, окликают своей песней того, кто этим языком владеет. Роль музыки вовсе не в том, чтобы ввести кого-то в человеческий круг: она вводит в воспроизводимый зоологический круговорот. Их имитации взаимопроникновенны. Птицы — единственные существа, наряду с людьми, которые умеют имитировать голоса представителей других видов. Звукоподражание — эта звуковая маска добычи — вводит пернатое существо, земноводное существо, морское существо, словом, всех хищных животных, включая человека, а также гром, огонь, море и ветер, в круг хищников. Музыка вовлекает в круг танца с помощью голосов зверей, с помощью изображений зверей и светил на стенах самых древних пещер. Этим она ускоряет их круговорот. Ибо мир вращается, как солнце и звезды, времена года и линьки, цветение и плодоношение, сезоны течки и воспроизведения животных. На втором месте после охоты музыка обеспечивает приручение. Тот, кто приманивает, уже приручатель. Тот, кого приманивают, уже приручен.*
В Улиссе есть что-то от афинянина. Ритуал Антесте-рий[178] в Афинах основан на веревках и смоле. Раз в год души умерших возвращались в город, и афиняне обвязывали храмы веревками и мазали смолой двери домов. Если блуждающие духи предков пытались проникнуть в жилища, где некогда обитали, то застывали снаружи, на пороге, как мухи, пойманные на мед. И весь этот день, до самого вечера, посреди улиц стояли глиняные горшки с едой, приготовленной для душ усопших. Эти души (psyché) потом стали называться призраками, фантомами (daimôri) или, иначе, колдуньями-вампирами (kères). Сэр Джеймс Джордж Фрэзер[179] сообщает, что болгары вплоть до начала XX века соблюдали следующий обычай: желая отогнать от своих домов злых духов, они рисовали смолой крест на внешней стороне двери, а на порог клали спутанный пучок веревок. Если призрак не успевал сосчитать все веревки до того, как пропоет петух, он должен был тотчас вернуться в свою могилу — до рассвета, чтобы не сгинуть бесследно.*
Улисс, прикрученный веревками к мачте корабля, напоминает также об одном древнем египетском обычае. Побывав в аду, Улисс познаёт смерть и воскресение через магическую песнь, в окружении мумий с ушами, залепленными содой и смолой. Фараон в солнечной ладье пересекает небесный океан. На стенках саркофагов в египетских пирамидах Озирис-итифаллический осеменяет птицу Изиду, восседающую у него на животе, дабы она зачала птицеголового человека — сокола Гора. Усопший (черная тень) изображен перед воротами в ад, идущим за своим Ъа (красочное изображение сирены, распростершей или сложившей крылья). Мумифицирование трупов сопровождалось песней бальзамировщиков. В счетах расходов на похороны первым пунктом указывались льняные повязки, вторым — маска, третьим — музыка. В «Песне арфиста», чей текст записан на каждом саркофаге, непрестанно повторяется один и тот же припев: Напевы живых еще никого не спасли от могилы. Так сделай счастливым свой день, но внемли похоронным напевам. Запомни: тебе не дано свой скарб унести в могилу. Запомни: еще никто не вернулся из смертной юдоли.*
Ба — это птица, обитающая в голове и руках человека, хранящая его дыхание. Она покидает тело, но возвращается в его мумию. Ба древних египтян подобна душе (psyché) древних греков. На самом деле, изображение Ба — птицы с человеческой головой — было тщательно скопировано греческими гончарами; они перенесли его на вазы, превратив в сирен, соблазняющих Улисса своим пением. То, что мы называем «Песнями Отчаявшегося», в древнем Египте носило другое, истинное имя — «Диалог человека и его ба». Ночная прохлада могилы, вода и пища должны были привлекать блуждающих в воздухе духов, измученных жарой, голодом и жаждой.*
Улисс скручен веревками, как пшеничный сноп. Связан, как карнавальный медведь, которого заставляют плясать под звуки дудок и трещоток перед тем, как столкнуть в реку. Это напоминает якутского шамана, который сочетается на верхушке дерева с орлом, а затем на берегу реки Смородины бродит по костям мертвецов, уходя в них по колено. Это Саргон перед птицей Ипггар[180].*
Любая сказка — прежде чем обзавестись особой интригой, перед тем как выйти на сцену, — сама по себе уже история-приманка (фикция, ловушка), способная умиротворить души обманутых животных. Любая охота на приманку таит в основе своей приношение, которое является всего лишь контрприманкой. Таким же образом нужно очищать, с помощью песен и постов, орудия убийства, оскверненные духами тел, которые они повергли наземь в крови и смерти. Признаваясь в хитрости, которую выдает за правду охотник, вернувшийся с острова Цирцеи, он заговаривает тем самым мстительных поющих птиц, упомянутых в его повествовании. В нем выдумано всё, вплоть до веревки от силков, которой привязали Улисса к мачте. Вплоть до вязкого воска с медом, которым пропитаны затычки для ушей спутников героя. Вплоть до грудной клетки (kithara), стянутой веревками, — в таком виде Улисс предстаёт перед птицей.*
Греческое слово harmonia означает способ крепко привязывать веревки, чтобы натянуть их. Первое «музыкальное» имя в древней Греции — Sophia — указывало на умение строить корабли[181].*
Когда скульптор Мирон захотел изобразить бога музыки, он изваял привязанного к древесному стволу Марсия, с которого заживо сдирают кожу.*
Сокол-сапсан пикирует на дикую утку. Пронзительный свист сокола, отвесно падающего на утку, приводит его жертву в оцепенение.*
Арфы, флейты и барабан соединяются во всех видах музыки. Струны и пальцы, духовые инструменты и губы, удары рук или топанье ног — все части тела пляшут, подвластные музыке. Музыкальные произведения древней Японии традиционно делились на три части: jo, ha, куои. Начало называлось «вступлением», середина называлась «разрывом», конец назывался «престо». Проникновение, разрыв, очень быстро. Такова форма японской сонаты.*
Ястреб-шаман перед духом-жаворонком. Шаман — хищник, охотник за душами: он ставит западни, силки, ловушки, приманки на корм и на клей. Он знает, как удержать непокорные души и принудить их к повиновению отрубленными головами и связанными волосами. Он досконально изучил все пути (песни), ведущие к душам. То, что шаман называет путями (odos[182] — ода), есть на самом деле повествования — полурассказанные, полуспетые.*
Это приманки. Вид рыбы, выброшенной за борт в море, приманивает целые косяки ее соплеменников. Музыка — такая же приманка, как образ — наживка. До того, как наживкой стал образ, ею был цвет. Намазать кровью стену означало окрасить ее убитым зверем. Первым цветом был черный (ночь, а затем еще более кромешная чернота, свойственная мраку пещер). Вторым стал красный.*
Гром — это приманка грозового ливня. Bull-roarer[183] — это приманка грома. Шаман не вызывает дождь, колотя в бубен: тот, кто колотит в бубен, вызывает звук грома, который, в свой черед, вызывает грозовой ливень.*
Музыка не является специфическим пением рода человеческого. Специфическое пение людских сообществ — это их язык. А музыка есть имитация языков, преподанных жертвами охотника в момент воспроизведения их песен в тот час, когда они спариваются. Концерты природы. Музыка заставляет мычать, блеять, рычать. Она ржёт. Она вызывает из чрева шамана отсутствующего зверя, которого тело изображает, а кожа и маска — имитируют. Танец — это и есть образ. Как живопись есть пение. Имитации имитируют. Ритуал повторяет то, что по-гречески называется métaphore (путешествие). Фургоны, перевозящие мебель в современной Греции, до сих пор носят на бортах слово METAPHORA[184]. Миф — это и есть сам танец-образ, который подобно бутону должен раскрыться, явив нам красоту мира.*
Шаман — большой мастер имитации звериных голосов. Повелитель духов умеет превращаться в любое существо, в любой предмет, будь это даже птица, которая летает стремительней всех других и может пересечь море или подняться выше гор. Птица — самое странствующее из всех странствующих созданий. А шаман — самый умелый мастер ускоренных путешествий по миру и по времени, иными словами — метафор, метаморфоз. И, наконец, он самый звучный из всех звучащих. Его территория — воздух, ограниченный песнями.*
1) Музыка созывает нас в то место, где для нее есть место, 2) она приспосабливает биологические ритмы к ритуальному танцу 3) и бросает шамана наземь, во власти транса, с воем, исходящим из его чрева. Если голос вибрирует, то тело корчится в судорогах. Прыгнуть не значит броситься, ползти не значит скользить. Прыжок карпа в воде, тарантелла, бал или маскарад обычно схожи. Откуда взялись глаголы «биться, трепетать, дергаться»? Списки слов в учебниках грамматики, обозначающих крики животных, неодолимо привлекают детей, побуждая их устраивать бесконечные соревнования в звукоподражании, умиляющие взрослых. Бушевать, вопить, блеять, лаять, мычать, мяукать, орать, улюлюкать… Этнологи зафиксировали у разных народов множество музыкальных приемов, долженствующих укротить торнадо, прервать ураган, унять пламя, усмирить порывы ветра, напугать ливни, дабы справиться с этими бедствиями, успокоить перепуганное стадо, заклясть появление хищника в теле колдуна, напугать и принудить к повиновению луну, души и погоду.*
В церкви Сен-Жену можно и сейчас увидеть фигуры так называемых demoiselles — Дам-Птичек[185]. Это журавлихи, сжимающие в когтях живые камни. Их шеи скручены так, что из горла не может вырваться ни один крик. Ибо крик этот настолько ужасен, что убивает любое живое существо, которое его услышит, но при этом так тонок, что растворяется в тишине, напоминая, что язык пения предшествовал языку речи, и никто живой не слышит его. Люди возвращаются из адской бездны и блуждают в море звуков. Всем живущим грозит несчастье быть поглощенными звуковым океаном. Музыка притягивает их. Музыка — это приманка, которая обрекает на смерть. И привлекает голоса, благодаря этому губительному сходству.*
Река, достигшая устья, не имеет ничего общего со своим крошечным истоком. Спасти исток — таково мое бредовое желание. Спасти исток самой реки, которую этот исток породил, и который река поглощает, расширившись и став могучей водной артерией. Археологи раскапывают Трою, и это все равно, что снимать с луковицы ее бесчисленные чешуи. Великие города былых времен не вернулись к состоянию лесов, срубленных для их постройки. И никогда к нему не вернутся. Цивилизации оставляют после себя — в лучшем случае — руины. А в худшем — необратимые пустыни. Я — часть того, что утратил.Трактат VI ЛЮДОВИК XI И СВИНЬИ-МУЗЫКАНТЫ
Аббат де Бенье был музыкантом. Король Людовик XI[186] ценил его кантаты и потому частенько приглашал в свой замок Плесси. Было это во времена министериума Гагена[187]. Король протягивал свой кубок и просил Робера Гагена добавить к вину немного крови, взятой у самых юных его подданных. Однажды Гаген стал свидетелем того, как аббат де Бенье рассуждал в беседе с королем о приятности, каковое свойство казалось ему неотъемлемым качеством музыки. В ответ суверен спросил аббата, способен ли тот добиться музыкальной гармонии от свиней. Аббат де Бенье поразмыслил. Потом сказал: — Сир, я полагаю, что мне под силу осуществить то, о чем вы просите. Однако для этого следует выполнить три условия. Король надменно спросил, какие же условия предъявляет ему аббат. — Первое условие таково, — ответил тот. — Ваше величество снабдит меня такой суммой денег, которую я попрошу. Что касается второго условия, оно состоит в том, чтобы вы мне дали по крайней мере месяц времени. И, наконец, я прошу, чтобы в назначенный день Ваше Величество дозволили мне дирижировать пением свиней. Король схватил аббата за руку и, хлопнув его по ладони, объявил, что в таком случае готов побиться об заклад на ту сумму, которая потребна аббату для благозвучного пения свиней. В ответ аббат де Бенье тоже хлопнул по ладони короля Людовика XI. И король Франции незамедлительно, пока аббат не опомнился и не взял свое слово обратно, велел своему казначею отсчитать ему все до одной золотые монеты, которые тот попросил. Весь двор веселился, потешаясь над аббатом. На следующий день придворные изменили свое мнение и начали шепотом говорить, что аббат де Бенье попросту свихнулся, коли принял вызов короля и тем самым обрек себя на разорение и всеобщие насмешки. Когда аббату де Бенье пересказывали сплетни придворных, он только пожимал плечами и отвечал, что им не хватает фантазии и что напрасно они торопятся предречь ему поражение. Сами ничего делать не умеют, вот и воображают, что это невозможно. Аббат де Бенье купил тридцать две свиньи и хорошенько откормил их. Затем отобрал восемь свиноматок для теноровых голосов, восемь кабанов для басовых партий, которых немедленно запер вместе с тенорами, чтобы они спаривались днем и ночью; восемь свиней для альтов и восемь последних — молодых кабанчиков — для партий сопрано; этих он собственноручно охолостил каменным ножом над корытом. Затем аббат де Бенье соорудил инструмент с тройной клавиатурой, походивший на opràH, и приделал к клавишам длинные медные струны, каждая с острым железным шипом на конце, который, стоило нажать на нужную клавишу, колол нужную свинью из числа отобранных, что создавало настоящую полифонию. Далее, он велел поместить кабанов, маток, свиней и холощеных кабанчиков в полотняном шатре, рассадив их в особом порядке по тесным клеткам из прочного тростника, где они не могли и двинуться, и сделал так, чтобы острый шип обязательно впивался, слегка или сильно, в спину животного, когда нажималась нужная клавиша. Испытав свой инструмент пять или шесть раз и сочтя, что он действует безотказно, аббат написал королю, что приглашает его в Мармонтье послушать концерт свиной музыки. Исполнение должно было состояться на свежем воздухе, во дворе аббатства, основанного святым Мартином. Было это за четыре дня до срока, назначенного королем.*
В это время король Людовик XI вместе со своими министрами и всем двором находился в Плесси-ле-гур. Поскольку он страстно желал услышать диковинный свиной хор, все они тотчас отправились в аббатство Мармутье, где аббат де Бенье уже поджидал их со своим инструментом. При виде большого шатра с королевскими гербами, воздвигнутого в центре двора, и подобия органа с ножным управлением и двойной клавиатурой для рук, стоявшего рядом, все пришли в удивление, не в силах разгадать, как устроен сей инструмент, как на нем играют и где же находятся свиньи. Придворные остановились в нескольких метрах от органа, там, где аббат де Бенье приготовил для публики трибуну, перед которой стояло позолоченное кресло для короля. Вот король знаком велел аббату начинать. Аббат встал перед своим инструментом и начал играть, нажимая на клавиши и ногами и пальцами, как играют на водяном органе, и свиньи тотчас же стали подавать голоса в том порядке, в каком их кололи железные шипы, а иногда и хором, если аббат нажимал сразу несколько клавиш. Присутствующие услышали незнакомую музыку, поистине гармоническую, то есть полифоническую, весьма приятную для уха и притом разнообразную, ибо аббат де Бенье, великолепный композитор, начал с канона, продолжил двумя прекрасными ричеркарами и завершил тремя мотетами, мастерскими сочиненными нарочно к этому случаю; все это весьма понравилось Его Величеству. Король Людовик XI не удовлетворился одним прослушиванием и пожелал, чтобы аббат де Бенье исполнил свое сочинение, с начала до конца, еще раз. После повторного исполнения, чья гармония, от вступительной до финальной ноты, не уступила первому, придворные и все остальные слушатели обратили взоры на короля, полагая, что аббат де Бенье выполнил свое обещание, и рассыпались в похвалах автору. Один шотландский вельможа, приехавший ко двору французского короля, в экстазе прошептал: «CauldAim!»[188] и сжал эфес своей шпаги. Однако король Людовик XI, с его подозрительным нравом, пожелал сперва проверить, не обманули ли его, вправду ли тут участвовали свиньи. Он велел приподнять полог шатра, чтобы убедиться в этом. Лишь когда он увидел серых свиней и кабанов в клетках и понял, как действуют медные струны с железными наконечниками, острыми, как шило сапожника, он признал, что аббат де Бенье — человек недюжинный, в высшей степени изобретательный и грозный противник в любых поединках и вызовах, которые отваживается принимать. Король объявил, что жалует аббату, как и поклялся, обещанную сумму, взятую из королевской казны для покупки свиней и постройки органа, шатра и трибуны для слушателей. Аббат де Бенье первым делом преклонил колени и поблагодарил, затем поднял голову и прошептал: «Сир, я обучил свиней произносить «А-Бэ»[189] за одни сутки. Но королей я не смог научить этому за тридцать четыре года». Тут король Людовик XI уразумел, что де Бенье желает не только именоваться аббатом, но хочет на самом деле получать доход с какого-нибудь аббатства, и даровал ему религиозное заведение, бывшее на тот момент вакантным, да еще и с бенефициями, к сему полагавшимися. Ответ аббата так понравился королю, что ему нередко случалось цитировать его, и не из-за смелости де Бенье, поскольку она объяснялась изобретением свиного органа, но попросту из-за его находчивости.*
Перед тем как покинуть аббатство Мармутье, Людовик XI принял городскую знать. Король, восседая в кресле, украшенном золотыми листьями, которое преподнес ему аббат де Бенье, сказал местным нотаблям, городским старшинам и народу: «Некогда царица Пасифая приказала изобретателю и скульптору Дедалу изваять огромного полого деревянного быка и обтянуть его настоящей кожей. Затем она сняла с себя одежды и проникла в чрево деревянного быка, дабы утолить свой любовный пыл и получить его семя. Троянцы построили — также из дерева — огромного коня. У иудеев было разом несколько изваяний — козел отпущения для песков пустыни и золотые тельцы для походных шатров. На берегу моря, в городе Карфагене, бронзовые руки бога Ваала сбрасывали в его чрево, где пылал огонь, до двухсот младенцев разом. Царь Фаларидс приказал выплавить из олова быка с искусно устроенными бронзовыми трубами, и когда в его чреве сжигали юношей, эти трубы превращали их вопли в мелодичное мычание. И лишь когда юноши превращались в пепел, бык умолкал. Его мычание прекращалось в тот миг, когда жертвы становились воспоминанием. Сам же я получил нынче этот свиной орган, где голоса кабанов так же мелодичны, как воспоминания о сгоревших детях. То, что Дедал сотворил для царя Миноса, господин аббат де Бенье сотворил для меня. В стране Гадаринской Учитель наш Иисус заставил нечистых духов вселиться в стадо свиней[190]. Я же приказом своим заставил вселиться в свиней музыку».Трактат VII НЕНАВИСТЬ К МУЗЫКЕ
Музыка — единственное из всех искусств, которое сопутствовало истреблению евреев, организованному немцами с 1933 по 1945 год. Это единственное искусство, одобренное как таковое администрацией концлагерей. Следует подчеркнуть, к стыду этого искусства, что только оно сумело встроиться в систему Konzentrationlager, с ее голодом, лишениями, рабским трудом, болью, унижениями и смертью.*
Симон Лакс родился 1 ноября 1901 года в Варшаве. Окончив варшавскую консерваторию, он уехал в 1926 году в Вену, где стал зарабатывать на жизнь работой тапёра в немом кино. Затем перебрался в Париж. Симон говорил по-польски, по-русски, по-немецки, по-французски и по-английски. Он был пианистом, скрипачом, композитором, дирижером. В 1941 году в Париже его арестовали. Он прошел концлагеря Бона, Драней, Аушвица, Кауферинга и Дахау. 9 мая 1945 года он был освобожден и 18 мая вернулся в Париж. Симон решил почтить память и страдания тех, кто был уничтожен в концлагерях, а также осмыслить роль, которую музыка сыграла в этом уничтожении. Он прибег к помощи Рене Куди и в 1948 году опубликовал в «Меркюр де Франс» книгу «Музыка с того света» (под редакцией Рене Куди); предисловие к ней написал Жорж Дюамель[191]. Книга не пользовалась успехом и вскоре была забыта.*
Со времен того, что историки называют Второй мировой войной, со времен лагерей смерти Третьего рейха мелодические секвенции стали вызывать у нас отторжение. На всем земном пространстве впервые с тех пор, как были изобретены первые музыкальные инструменты, роль музыки стала одновременно полной смысла и отталкивающей. Получившая неожиданно широкое распространение благодаря изобретению электричества и множества новых технологий, музыка стала неумолчной, агрессивной, настигающей нас и днем и ночью, на торговых улицах и центральных площадях, в галереях и пассажах, в универмагах и книжных магазинах, в банкоматах иностранных банков, где клиенты получают наличные, в бассейнах и на пляжах, в частных квартирах, ресторанах и такси, в метро и аэропортах. И даже в самолетах — во время взлета и посадки.*
И даже в лагерях смерти.*
Название «Ненависть к музыке» говорит о стремлении выразить, до какой степени музыка может стать ненавистной тому, кто любил ее больше всего на свете.*
Музыка привлекает к себе человеческие тела. А еще это сирена из сказания Гомера. Улисс, привязанный к мачте корабля, одержим мелодией, которая неодолимо притягивает его. Музыка — приманка, которая завладевает душами и ведет их к смерти. Пытка для депортированных: их тела невольно вздрагивали при звуках музыки.*
Нельзя слышать без содрогания: обнаженные тела входили в газовую камеру под музыку. Симон Лакс писал: «Музыка приближала конец». Примо Леви[192] писал: «В лагере музыка увлекала в бездну».*
В Аушвице Симон Лакс был скрипачом, затем штатным переписчиком нот (Notenschreiber) и, наконец, дирижером. Итальянский химик Примо Леви слушал оркестр под управлением польского дирижера Симона Лакса. Как и Симон Лакс, Примо Леви по возвращении из лагеря в 1945 году написал книгу. Она называлась “Se questo è un иото” («Человек ли это?»). Его книга, отвергнутая многими издателями, была опубликована только в 1947 году и принята так же холодно, как «Музыка с того света». Примо Леви писал в своей книге о том, что ни один обычный арестант, приписанный к обычной Kommando, не мог выжить: «Оставляли только врачей, портных, сапожников, музыкантов, поваров, гомосексуалистов (и то лишь молодых и привлекательных), друзей или соотечественников кого-то из лагерных офицеров да еще некоторых особенно безжалостных, сильных и бесчеловечных индивидов, назначенных командованием SS на должности надзирателей (Каро), старост бараков и тому подобное».*
Пьер Видаль-Наке[193] писал: «Менухин мог бы выжить в Аушвице, Пикассо — нет».*
Рассуждения Симона Лакса можно представить в виде вопросов: Почему музыка оказалась «замешана в уничтожении миллионов человеческих существ»? Почему она приняла в этом «более чем активное участие»? Музыка насилует человеческое тело. Она заставляет людей вставать. Музыкальные ритмы возбуждают ритмы телесные. Человеческое ухо не может закрыться при встрече с музыкой. Обладая такой властью, музыка приспосабливается к любой власти. Притом ее сущность — неравенство. Слух и повиновение неразрывно связаны. Начальник, исполнители, покорные жертвы — такова структура, при которой исполнение музыки всё тотчас расставляет по своим местам. Повсюду, где есть начальник и исполнители, есть и музыка. Платон в своих философских сочинениях не разделял дисциплину и музыку, войну и музыку, иерархию и музыку. Даже звезды, согласно Платону, являлись сиренами, звучащими светилами, порождавшими порядок и вселенную. Ритм и размер. Ходьба подчиняется ритму, удары палки ритмичны, приветствия ритмичны. Первейшая обязанность — или, по крайней мере, самая обыденная из всех обязанностей, вмененных музыке Lagerkapelle (лагерного хора), — ритмичное сопровождение ухода и возвращения Kommandos.*
Слушание и стыд — близнецы. В Библии, в повествовании о Бытии, одновременно возникают антропоморфная нагота и слушание «звука Его шагов». Поев от плода древа обнажающего, первый мужчина и первая женщина в тот же миг услышали звук шагов Яхве-Элохима, «ходящего в Раю во время прохлады дня», и «узнали они, что наги, и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая». Так появились в Эдеме одновременно чуткий слух и сексуальный стыд. Зрение и нагота, слух и стыд друг другу подобны. Свойство видеть и свойство слышать родились в один и тот же миг, и миг этот мгновенно стал концом Рая.*
Реальная жизнь концлагеря и миф об Эдеме рассказывают одну и ту же историю, ибо первый человек и последний человек являют собой одно и то же существо. Они открывают онтологию одного и того же мира. Они демонстрируют одну и ту же наготу. Они обращают слух к одной и той же команде, приводящей их к повиновению. Голос молнии — это ослепляющий мрак, который гроза приносит в своем громе.*
Шум собственных шагов — вот первый слой безмолвия.*
Что есть Бог? То, что мы родились. Что мы родились от других, не от нас. Что мы родились после акта, в котором не участвовали. Что мы родились во время объятия, когда два других тела — а не наши — были нагими: и нам хочется их увидеть. Мы знаем, что, сливаясь друг с другом, они стонут. Все мы — плод судорожного соединения двух обнаженных чресел, непохожих одно на другое, стыдящихся одно другого, чье слияние шумно, ритмично и оглашено стонами. Слышать и подчиняться. Когда Примо Леви впервые услышал звук трубы, игравшей «Прекрасную Розамунду»[194] у входа в лагерь, он с трудом сдержал нервный смех. И тут он увидел колонны людей, входивших в лагерь: они шагали по пять человек в ряд, какой-то странной походкой, деревянно выпрямившись, вытянувшеи и держа руки по швам; десятки тысяч деревянных сабо печатали шаг под эту музыку, все движения были скованы и одинаковы, как у роботов. Люди были настолько обессилены, что мускулы ног автоматически, помимо их воли, подчинялись ритмам лагерной музыки, которой дирижировал Симон Лакс.*
Примо Леви назвал эту музыку инфернальной. Не привыкший к образному мышлению, Примо Леви, однако, написал: «Их души мертвы, а эта музыка гонит их вперед, как ветер гонит сухие листья — она заменяет им волю». Он подчеркивает тот факт, что немцы испытывали чисто эстетическое удовольствие при виде этой ежедневной, утренней и вечерней, хореографии бедствий. Немецкие солдаты организовали музыку в лагерях смерти вовсе не для того, чтобы облегчить страдания своих жертв или наладить с ними отношения. У них было две цели: 1. Во-первых, ради укрепления дисциплины, ради того, чтобы превратить всех узников в покорное, безликое стадо, управляемое любой музыкой. 2. И во-вторых, ради удовольствия — эстетического и чисто садистского удовольствия слушать свои любимые мелодии и одновременно следить за тем, как их жертвы послушно исполняют под эту музыку свой рабский балет, под гнетом грехов тех, кто их топчет и унижает. Словом, это была ритуальная музыка. Примо Леви обнажил самую древнюю функцию, свойственную музыке. Музыка, писал он, воспринималась как заклятие. Она была «гипнозом повторяющегося ритма, который убивает мысль и унимает боль».*
Добавлю то, что мне, может быть, удалось доказать во втором и пятом трактатах: музыка, основанная на повиновении, имеет нечто общее со смертоносной приманкой.*
И вот уже музыка воплощается в свистке эсэсовца. Она обладает действенной силой, она вызывает незамедлительную реакцию. Так же, как удар лагерного колокола означает пробуждение, заставляя сменить сонный кошмар на вполне реальный. Каждый его удар приказывает: «Подъем!» Тайная функция музыки — это созыв. Это крик петуха, вызывающий слезы у святого Петра.*
В поэме Вергилия Алекто[195] взбирается на крышу хлева и трубит (canif) в кривой рог (cornu recurvo), подавая пастухам сигнал (signum) сбора. Вергилий пишет, что этот звук «напоминает «адский голос» (Tartaream vocern). Земледельцы сбегаются на сигнал с оружием в руках.*
Можно ли услышать музыку — любую музыку, — не подчинившись ей? Можно ли услышать музыку, находясь вне музыки? Можно ли услышать музыку, заткнув уши? Симон Лакс, который дирижировал лагерным оркестром, сам отнюдь не находился «вне» музыки под тем предлогом, что дирижировал ею. Примо Леви писал далее: «Нужно было слышать эту музыку, не подчиняясь ей, не проникаясь ею, чтобы понять, что она собой представляет, с какими коварными намерениями немцы создали этот чудовищный ритуал и отчего даже сегодня, стоит вспомнить одну из этих незатейливых песенок, кровь стынет у нас в жилах». Примо Леви продолжает, говоря, что эти марши и эти песни навсегда запечатлелись в телах жертв: «Вот они — атрибуты лагеря смерти (Loger), которые мы забудем в последнюю очередь, ибо это голос лагеря (Loger)». Это миг, когда возникший мотивчик (le Jtedon) превращается в орудие пытки (le tarabust). «Когда мелодия (melos) сбивает тело с привычного ритма, вторгается в его личную звуковую молекулу, — пишет Примо Леви, — музыка аннигилирует человека». Музыка становится «звуковым выражением» решимости, с которой одни люди стремятся уничтожить других людей.*
Связь между ребенком и матерью, узнавание, затем освоение материнского языка формируются внутриутробным развитием ритмизированного звука; возникнув до рождения младенца, после его появления на свет этот звук распознается в криках и «гульканье», затем в песенках и присказках, именах и ласковых прозвищах и мало-помалу переходит в повторяющиеся, повелительные фразы, становящиеся в конечном счете приказами. Внутриутробное слушание описывается натуралистами как отдаленное, поскольку плацента приглушает шумы сердца и кишечника, а жидкость уменьшает интенсивность звуков, делает их более низкими и разносит широкими волнами по всему телу, выполняя род массажа. В глубине матки царит некий постоянный низкий гул, который акустики сравнивают с так называемым «глухим дыханием». Даже шум внешнего мира воспринимается как «низкий, мягкий, приглушенный рокот», который перебивается голосом матери — melos, повторяющим тонические ударения, просодию и фразирование, окрашивающие язык, на котором говорит. Это индивидуальная основа того, что по-французски называется fredon — трель, рулада, веселый припев.*
Плотин, «Эннеады» V, 8,30.[196] Плотин утверждал, что «чувствительная музыка рождена от музыки, предшествующей всему чувствительному». Музыка связана с иным миром.*
Сердце эмбриона в чреве матери превращает шум биения материнского сердца в свой собственный сердечный ритм.*
Музыка неистово завладевает душой. Вот почему душа так неистово страдает.*
Неотвратимый звуковой напор предшествует самой жизни. Дыхание людей — это нечто нечеловеческое. Предбиологический ритм волн — до того, как возникла Пангея[197], — опередил сердечный ритм и ритм легочного дыхания человека. Ритм ли морских приливов, связанный с суточным ритмом, сделал нас двойственными существами? Нас всё делает двойственными.*
Предродовое слушание подготавливает пост-родовое узнавание матери. Привычные звуки помогают ребенку визуально открыть для себя доселе незнакомое тело матери, с которым новорожденный расстается, как животное со своей шкурой в период линьки. Материнские руки тотчас тянутся к кричащему младенцу, и тот замолкает, услышав нежный материнский напев. Эти руки безостановочно укачивают ребенка — так волны колышат плавающий на них предмет. С первого же часа появления на свет новорожденного пугают окружающие звуки, изменяя его лёгочный ритм (его дыхание, то есть его psyché, то есть его animatio, то есть его душу), преображая его сердечный ритм. Эти звуки заставляют его нервно мигать, беспорядочно махать ручками и дрыгать ножками. И с первого же часа звуки плача других новорожденных вызывают его смятение, заставляя проливать собственные слезы.*
Звук нас сплачивает, берет под свою эгиду, организует. Но мы открываем звук в самих себе. Если мы обратим внимание на идентичные звуки, которые повторяются через регулярные интервалы, то услышим их не как единое целое, а сразу же распределим по группам, по два или четыре звука в каждой. А иногда по три или — очень редко — по пять, но никогда не больше. И это не просто звуки, которые кажутся нам повторяющимися, но группы звуков, которые мы воспринимаем как череду идущих по кругу. Это само время, которое сливается и расслаивается таким образом.*
Анри Бергсон[198] приводит в пример механические часы. Но мы неизменно объединяем в группы по два звука сигналы секунд, словно электрические часы сохранили в себе призрак колебания маятника. Люди, живущие во Франции, называют эту звуковую группу «тик-так». И совершенно искренне полагают, что временной промежуток между «тик» и «так» гораздо короче, чем между «так», завершающим это двойное биение, и «тик», начинающим следующее. Ни ритмическое группирование, ни временнбе расслоение не являются физическими явлениями.*
Но почему такая спонтанность услышанного хода часов кажется нам отвечающей нашему внутреннему пульсу? Почему наша душа хочет работать как часы? Почему люди не могут просто существовать, но всегда хотят существовать в такт? Почему человеческое присутствие заглушает спонтанные подсказки языка? Люди тотчас слышат фразы. Для них череда звуков мгновенно складывается в некую мелодию. Люди — современники того, что несколько превосходит одно мгновение. Именно поэтому речь легко завладевает ими и так же легко превращает их в рабов музыки. Невольно чудится, что они идут к добыче другим путем, нежели обычным способом — переступая с ноги на ногу. И именно благодаря этому «другому способу» бегут, не падая, и успешно подражают мелодии, и акцентируют ее, и принуждают свою добычу к танцу.*
Человеку, если его об этом не просят специально, почти невозможно достичь аритмии. Ему недоступна сбивчивая серия звуков. Или, как минимум, невозможно ее слушание.*
В статье, опубликованной в 1903 году, Уильям МакДугалл[199] предложил называть «мёртвым интервалом» особую паузу, которая разделяет для человеческого уха две последовательные ритмические группы. Безмолвие, разделяющее эти группы, являет собой парадоксальную длительность, которая рождается, начинаясь с «конечного», и прерывается, начинаясь с «начального». Этого безмолвия, которое человечество слышит, не существует. Мак-Дугалл назвал его «мертвым».*
В музыке не существует двух сторон. Смерть соответствует процессу как исполнения, так и слушания музыки. В данном случае Симон Лакс солидарен с Примо Леви. Нет такого слушания звука, которое противоречило бы воспроизведению звука. Как нет заколдованного, противоречащего колдовству. Но в то же время эта сила оборачивается и против себя, поражая тех, кто ее порождает, принуждая их к тому же ритмическому, акустическому и телесному повиновению. Симон Лакс умер в Париже 11 декабря 1983 года. Примо Леви покончил с собой 11 апреля 1987. Симон Лакс высказался прямо: «Нет недостатка в публикациях, которые несколько напыщенно объясняют, что музыка поддерживала изможденных узников и придавала им силу выстоять. Другие, наоборот, утверждают, что музыка деморализовала этих несчастных и приближала их конец. Я, со своей стороны, поддерживаю это второе мнение».*
В книге «Музыка другого мира» Симон Лакс рассказывает следующую историю. В 1943 году, в Аушвице, в преддверии Нового года, комендант Шварцхубер приказал лагерным музыкантам играть немецкие и польские рождественские песни для больных женщин, лежавших в госпитале. Симон Лакс и его оркестранты отправились в женский госпиталь. В первый момент все женщины, особенно польки, расплакались так горько, что их плач заглушил музыку. Но скоро их слезы сменились криками. Больные кричали: «Прекратите! Прекратите! Убирайтесь отсюда! Вон! Дайте нам спокойно подохнуть!» Так случилось, что Симон Лакс был единственным, кто понимал смысл польских слов, которые выкрикивали женщины. Музыканты посмотрели на Симона Лакса, и тот знаком велел им уходить. Как говорил Симон Лакс, до той минуты даже представить себе не мог, что музыка может причинять такую боль.*
Музыка причиняет боль.*
Полибий писал: «Не следует верить Эфору[200], который утверждает, что музыка была дарована людям, как снадобье шарлатана»[201]. Но Эфор не прибегал к таким выражениям. На самом деле он писал: «Музыка была создана для того, чтобы пленять и околдовывать». То, что Полибий именует «шарлатанством музыки», отсылает нас к ее происхождению — инициированному, зооморфному, ритуальному, пещерному, шаманскому, одурманивающему, гомофаги-ческому, воодушевляющему.*
Габриель Форе[202] говорил о музыке, что ее запись, как и ее слушание, влечет за собой «желание чего-то несбыточного». Музыка — это царство «мертвого интервала». Это необратимое, которое возникает вновь. Это минувшее, которое возрождается. Это небытие, которое воскресло. Это возвращение безвозвратного. Это смерть в дневном свете. Это асемия в речи.*
У Платона в «Государстве», III, 401 d. Музыка проникает в тела людей и завладевает их душами. Флейта побуждает их члены к танцевальным движениям, вслед за коими следует непристойное виляние бедрами, которое трудно сдержать. Человеческое тело — добыча музыки. Она властно врывается в него, завладевает им. Она повергает в покорность того, кого тиранит, захватывая в плен своих напевов. Сирены сбивают с пути (odos) Одиссея (слово «ода» на греческом означает и путь, и пение). Орфей, родоначальник песен, размягчает камни и приручает львов, которых запрягает в свою колесницу. Музыка пленяет, захватывает в тех местах, где звучит, и человечество шагает, влекомое ее ритмом; она гипнотизирует и заставляет людей бежать от действительности. Мы — пленники слушания.*
Мне всегда казалось странным, что люди дивятся тем своим собратьям, которые любят самую изысканную, самую сложную музыку, способны плакать, слушая ее, и при этом готовы на самые страшные зверства. Искусство отнюдь не противоположно варварству. Разум вовсе не противоположен жестокости. Мы не можем противопоставить произвол — государству, мир — войне, пролитую кровь — высокому мышлению, ибо произвол, смерть, жестокость, кровь и мышление не свободны от логики, которая была и остается логикой, даже если она не поддается разуму. Людские сообщества не свободны от хаотической энтропии, которая была их источником: она будет править их судьбой. Оцепенение слушания подобно смерти.*
Песня-приманка позволяет выстрелить и убить. Эта функция свойственна даже самой изысканной музыке. В период истребления миллионов евреев руководство лагерей сознательно прибегло к этому свойству музыки. Вагнер, Брамс, Шуберт стали современными сиренами. Реакция Владимира Янкелёвича[203], запретившего себе слушать и анализировать немецкую музыку, носила чисто национальную окраску. Хотя, может быть, следует принимать во внимание не национальность композитора, а происхождение самой музыки. Самой изначальной музыки.*
Некогда философы утверждал и, что английское слово bell (колокол) происходит от латинского beflum (война) — что звонкий, зачаровывающий колокол ведет свое происхождение от войны. Рэймонд Мюррей Шейфер[204] свидетельствует, что за время Второй мировой войны немцы конфисковали по всей Европе тридцать три тысячи колоколов и перелили их в пушки. С наступлением мира храмы, соборы и церкви потребовали возврата своего достояния, и эти пушки — символ поражения врага — были им возвращены. Пасторы и кюре перелили их в колокола. Слово la cloche (колокол) связано с животными, с домашним скотом. Слово le cloche (било) связано с латинским bellam, с французским глаголом beugler — мычать, реветь (о скоте), орать (о людях). Может быть, «колокол» — это мычание людей?*
Гёте, в возрасте семидесяти пяти лет, написал: «Военная музыка заставляет меня распрямиться, точно пальцы разжатого кулака».*
В монастыре Святого Марка во Флоренции есть колокол-осквернитель. Это бронзовый колокол с треснувшей деревянной красно-черной ручкой, стоящий прямо на земле у дверей Капитула, в тихом монастырском саду. Его называют «Пьяньона» (плакса). Этот колокол созвал толпу, которая взяла приступом монастырь, чтобы захватить Савонаролу. Во искупление этого греха колокол сослали в монастырь Сан-Сальваторе-аль-Монте и всю дорогу хлестали бичами.*
Нюрнбергскому трибуналу следовало бы потребовать, чтобы такими же бичами раз в год на всех улицах немецких городов хлестали портрет Рихарда Вагнера[205].*
Патриотическая музыка носит на себе отпечаток инфантильности; она воодушевляет, как смелый прыжок, вызывает дрожь, наполняет душу радостным волнением, чувством нежданной причастности к великому событию. Выживший в лагере смерти Казимеж Гвиздка писал: «Когда узники Аушвица, измученные долгим рабочим днем, шатаясь, брели в колонне к лагерю, они еще издали слышали музыку оркестра, игравшего за лагерной решеткой, и это их воодушевляло. Музыка придавала им бодрости, вселяла в них мужество и наделяла сверхъестественной силой, чтобы выжить». Выжившая в лагере смерти Романа Дуразкова рассказывала: «Мы возвращаемся с работы. Лагерь уже близко. Оркестр лагеря Биркенау исполняет модный фокстрот. От его игры у нас все кипит внутри. Как же мы ненавидим эту музыку! И как нам ненавистны исполнительницы — эти куклы, сидящие на стульчиках, в небесно-голубых платьях с белыми воротничками. Они не просто сидят — им полагаются стулья! Эта музыка должна нас ободрить. Она призывает мобилизовать все силы — подобно трубе перед сражением. Звуки оркестра взбадривают даже таких жалких полудохлых кляч, как мы, и женщины начинают притоптывать разбитыми башмаками в такт музыке».*
Пиндар, «Пифийская ода» 1,1. «Златая лира, коей слушается поступь…»*
Симон Лакс писал о том, что музыка, по его убеждению, оказывала подавляющее действие на людей, обреченных на гибель. Когда он дирижировал оркестром, у него возникало чувство, что музыка только усугубляет их пассивность, способствуя умственной и физической прострации, в которую голод и запах смерти ввергали тела заключенных-слушателей. Он уточняет: «Разумеется, во время воскресных концертов некоторые из слушателей получали удовольствие от музыки. Но это удовольствие было чисто пассивным, без соучастия, без реакции. А были и такие, что проклинали и оскорбляли нас, смотрели искоса, считали выскочками, которым не суждено разделить их судьбу».*
Фукидид, восхищавшийся открытием первой Пифийской оды Пиндара, считал человеческую ходьбу функцией, свойственной музыке: «Музыка предназначена не для того, чтобы повергать людей в транс, но для того, чтобы заставить их маршировать, соблюдая строй. Без музыки боевой строй солдат обречен на беспорядок в тот момент, когда они бросаются в атаку»[206]. Элиас Канетти[207] часто повторял, что ритм ведет свое происхождение от людской поступи, — отсюда и метрика древних поэм. Ходьба людей, шаг за шагом, была подражанием бегу добычи и передвижению стад — сперва оленей, затем бизонов и, наконец, лошадей. Следы животных казались ему первым посланием, расшифрованным охотником, который их преследовал. След — это ритмическая запись шума. Топтать землю — это первый в мире танец, и он придуман не человеком. Это происходит и в наши дни: взять хотя бы проникновение топочущей человеческой массы в концертный зал или на балет. Усевшись, зрители стихают и замирают, не позволяя себе никаких движений, порождающих звуки. Потом все ритмично бьют в ладоши, крича, устраивая оглушительную ритуальную овацию, и, наконец, шумно Встают с мест и все вместе, громко топая, покидают зал, где слушали музыку. Музыка напоминает охотничью свору, несущую смерть. Гонится по пятам — вот что пришло на ум Примо Леви, когда он впервые услышал музыку, исполняемую в лагере смерти.*
Вот слова Толстого: «Там, где хотят иметь рабов, надо как можно больше сочинять музыки». Эти слова поразили Максима Горького. Они приведены в «Беседах в Ясной Поляне»[208].*
Единство смертоносной своры — в ее топоте. Танец не отличается от музыки. Повелительный окрик, свисток — потомок манка — сопровождают безжалостную гонку. Музыка мобилизует людские своры — так же, как приказ ставит их по стойке «смирно». Тишина же разобщает своры. Я предпочитаю музыке тишину. Речь и музыка принадлежат к той генеалогии, которая упорно держится своих принципов и может вызвать отвращение. Порядок есть самое древнее установление речи: собаки подчиняются приказам так же, как люди. Порядок — это смертный приговор, который держит жертву в беспрекословном повиновении. Приручить и приказать — это одно и то же. Человеческие детеныши — это прежде всего объекты приказов, иными словами, жертвы приукрашенных речью смертных приговоров.*
Раб никогда не считается объектом, но всегда — животным. Собака же считается не совсем животным, а скорее, слугой, поскольку она послушна: слышит хозяина, реагирует на его зов и, похоже, понимает смысл приказа, тогда как на самом деле подчиняется тому, что зовется тоном (mélos).*
Музыка приводит душу в оцепенение и диктует действия — как те сигналы, которые Павлов отдавал собакам. Палочка дирижера останавливает какофонию настройки инструментов и призывает к безмолвию, которое ждет музыки; затем, внезапно, вызывает из этой мертвой тишины первые такты. Группа людей, или животных, или даже собак — это всегда дикая стая. Ее можно назвать одомашненной лишь тогда, когда она реагирует на приказы, вскакивает по свистку и собирается в концертных залах.*
Дети и собаки прыгают на месте, когда оказываются у кромки воды. Они инстинктивно кричат и тявкают, заслышав шум и волнение моря.*
Собака поворачивает голову в ту сторону, откуда донесся непривычный звук. Она настораживается. И замирает, обратив нос, взгляд и уши к странному звуку.*
Дирижер устраивает целое представление из того, чему подчиняется слушатель. Слушатели объединяются, чтобы видеть человека, который стоит перед ними один, на возвышении, и заставляет, по своей воле, говорить или молчать это послушное стадо. А сам проделывает настоящие чудеса с помощью своей дирижерской палочки. Как будто у него в руке волшебный золотой жезл. Послушное стадо — это стая прирученных животных. А стая прирученных животных — это модель человеческого общества, иными словами, армии, которую оправдывает гибель другой армии. Они маршируют в такт дирижерской палочке. Человеческая стая сплачивается, чтобы увидеть прирученную свору. У индейцев бороро[209] вождем племени становится лучший из певцов. Порядок и действенное пение не различаются. Руководитель социальной группы — это по природе своей капельмейстер, дирижер (Kappelmeister). В любом дирижере есть что-то от укротителя, от вождя (Führer). Любой человек, аплодируя, простирает руки перед лицом, потом топает ногами, потом восторженно кричит. И, наконец, та же стая вызывает вождя на «бис» и беснуется от восторга, когда он благоволит вернуться на сцену.*
Ганс Гюнтер Адлер[210], заключенный лагеря в Терезиенштадте, не выносил, когда там исполняли оперные арии. В Терезиенштадте Гедда Граб-Кернмайр[211] сказала: «Не понимаю, как это Гедеон Кляйн[212] мог сочинить в лагере колыбельную (Wiegenlied)».*
Едва оказавшись в лагере Терезиенштадт[213], Гедда Граб-Кернмайр начала петь. 21 марта 1942 года она исполнила «Библейские песнопения» Дворжака[214]. 4 апреля участвовала в заключительной программе праздника Pürglitzer[215]. 3 мая она спела «Колыбельную гетто» Карло Таубе, которую повторила 5 июня, а затем 11 июня среди бараков. 8 ноября она участвовала в премьере «Проданной невесты» Бедржиха Сметаны. Затем, в 1943 году, пела в его же «Поцелуе», а в 1944-м — в «Кармен». 24 апреля 1945 года в лагере началась эпидемия тифа, 5 мая эсэсовцы убрались из него. 10 мая в лагерь вошла Красная армия и был объявлен карантин. Затем в течение июня и июля 1945 года все заключенные смогли покинуть Терезиенштадт. По выходе из лагеря Гедда Граб-Корнмайер больше никогда уже не пела. Она эмигрировала на запад Соединенных Штатов. И отказывалась говорить о музыке. Отказывалась говорить о музыке с Марианной Задиков-Мэй, с Евой Глейзер, с доктором Куртом Вейлем из Нью-Йорка, с доктором Адлером из Лондона, со скрипачом Йозефом Карашем[216].*
Одно из самых тяжелых, самых глубоких и самых неожиданных высказываний о музыке, которую сочинили и исполнили в лагерях смерти, принадлежит скрипачу Карелу Фрёлиху, выжившему в Аушвице; оно прозвучало в беседе, записанной в Нью-Йорке Йожей Карашем 2 декабря 1973 года. Карел Фрёлих неожиданно заявил, что в лагере-гетто Терезиен-штадта были созданы «идеальные условия» для сочинения и исполнения музыки. При абсолютно зыбком существовании, когда завтрашний день сулил лишь смерть, искусство было подобно выживанию, а испытание временем становилось нескончаемым и бессмысленным. Ко всему этому Карел Фрёлих добавлял «главный фактор», невозможный в нормальном обществе: «На самом деле мы играли не для публики, поскольку слушатели постоянно исчезали». Музыканты играли для слушателей, которым грозила скорая смерть и такая же скорая смерть грозила им самим. Карел Фрёлих говорил: «Именно эта ситуация, одновременно идеальная и ненормальная, была бессмысленной». Виктор Ульман думал так же, как Карел Фрёлих, добавляя от себя, что невозможность запечатлевать на бумаге звуки, обуревающие современного композитора, обрекает его на умопомешательство. Виктор Ульман погиб в Аушвице вскоре после приезда в лагерь, 17 октября 1944 года.*
Последнее произведение, созданное Виктором Ульманом в лагере, называется «Седьмая соната». Он посвятил ее своим детям Максу, Жану и Фелис. И указал дату — 22 августа 1944. Затем, продолжая мысль Карела Фрёлиха, Виктор Ульман поставил на первой странице, внизу, саркастический копирайт. Есть такой «юмор висельника» — последняя шутка тех, кто подошел к пределу своей жизни: «Все права на исполнение принадлежат композитору вплоть до его смерти».Трактат VIII РЕС, ЭОХАЙД И ЭКХАРТ
Рес был пастухом при коровьем стаде. В летние месяцы он поднимался со стадом в альпийские луга Балисальпа[217] и проводил ночи в горах. Каждый вечер он аккуратно задвигал деревянный засов на двери своей хижины. Однажды Рес погасил огонь в очаге, разгреб угли, присыпал их золой и заснул — и вдруг отчетливо увидел возле очага великана с могучими руками и багровыми щеками, бледного юношу-слугу, несущего ведра с молоком, и Зеленого охотника[218], который держал в пальцах ветку. Бледнолицый слуга подал великану три ведра с молоком. И пока великан с Зеленым охотником готовили сыр, бледный юноша подошел к открытой двери хижины, прислонился к левому косяку и заиграл на альпийском роге, к великому удовольствию Реса и его стада. Когда великан с багровыми щеками закончил разливать по ведрам обрат, тот вдруг окрасился в кроваво-красный цвет в первом ведре. Во втором ведре он стал зеленым, как лес. А в третьем ведре — белым, как снег. Тогда великан подозвал Реса и приказал ему выбирать между тремя ведрами, сказав громовым голосом: «Возьми красное, я тебе его дарю. Выпей обрат и станешь сильным, как я. Никто не сможет победить тебя. Ты будешь самым великим силачом в этих горах и получишь во владение стадо в сотню быков со всеми их коровами». Потом заговорил Зеленый охотник: «Что такое сила?! Что такое стадо, которое нужно пасти, обихаживать, доить, водить в горы, спаривать, принимать приплод и кормить по зиме?! Выпей из зеленого ведра, и твоя правая рука станет золотой, а всё, что ни схватит левая, обратится в серебро. Золото и серебро займут меньше места в кармане, чем стадо на горных лугах. Ты сможешь отправиться куда угодно, странствовать по всему свету. Ты будешь богат». И Зеленый охотник бросил к ногам Реса груду золота и серебра. Но Рес колебался, медля с ответом, и вопросительно посмотрел на юношу, который стоял, прислонившись к левому косяку, и пока не произнес ни слова. Юноша держал в руках длинный рог. Он обратил к Ресу бледное лицо. Поднял на него голубые глаза. Отошел от двери. И сказал: «То, что у меня есть, совсем ничтожно и никак не идет в сравнение с той силой и тем богатством, кои были тебе предложены. Я могу всего лишь научить тебя петь песни йодлем[219]. Еще могу научить играть мелодии на альпийском роге. И тогда все животные, все мужчины, и их жены, и их дети будут тебе повиноваться. Даже столы и скамьи в хижинах затанцуют под твою музыку. А быки встанут на дыбы и перепрыгнут через изгороди, стоит тебе затрубить в рог. И все это таится в ведре с белым обратом, таким, какой ты пьешь каждый божий день». И Рес, пастух из Балисальпа, выбрал белое ведро с даром, который в нем таился. Вот так музыка и пришла к людям, вместе с бледностью и покорством. Первый король, который царствовал в Ирландии, звался Эохайдом, по прозвищу Feidleach. Его подданные думали, что он был прозван Feidleach за свою мудрость, ибо слово feidil означает — мудрец. Однако прозвище это имело совсем другой смысл. Некогда было у Эохайда четыре сына. Когда он состарился, все четверо объединились против него. И завязали с ним битву в месте, называемом Druim Criach — Крайний Хребет. Поначалу Эохайд пытался достичь примирения со своими сыновьями. Но на это согласился лишь самый младший и покинул Крайний Хребет, не желая воевать вместе с братьями. Трое остальных отвергли предложение отца. Тогда Эохайд проклял всех троих, сказав так: — От них останется только имя. Потом Эохайд вступил с ними в бой и убил семь тысяч их воинов, хотя у него самого под командованием было только три тысячи человек. Все трое сыновей пали в этом сражении. Всех троих обезглавили, и эти три головы были доставлены королю еще до конца дня. Эохайд взглянул на них и не промолвил ни слова, пока не наступила ночь, окутавшая мраком всех четверых — трех сыновей и отца. Отсюда и происходит название — Feidleach, что означает fedil uch — тяжкий вздох, ибо после того как сыновья короля полегли в битве у Крайнего Хребта, скорбь о них уже никогда не покидала его сердца. Ни один воин не заподозрил, какое горе терзало короля при виде отсеченных голов его сыновей. Напротив, все восхищались им, хотя сам кораль так и не оправился от своей печали. Но поскольку он ни разу не издал даже легкого стона, его и прозвали Тяжким Вздохом.*
Ибо сказать вслух — значит утратить. Король же хотел сохранить детей в сердце своем. Ночная пещера, звериная пасть, человеческий рот — это одно и то же. Место с росписями, место-маска, место инициаций, место каннибалов, запретное место, потайное место — всё это одно и то же.*
Вплоть до самой смерти, включая и миг самой смерти, горе, которое постигло Эохайда в сумерках, наступивших после битвы у Крайнего Хребта, когда ночной мрак начал окутывать отсеченные головы троих его сыновей, так и не вырвалось стоном из его уст.*
Оно вылилось в тяжкий вздох, но король сдержал его даже в юдоли мертвых — там, где он с ними встретился.*
Тяжкий вздох, исходящий из уст, долгий, протяжный вздох, нескончаемое рыдание, ничего не скрывающее, выдающее всю сердечную боль, о которой хочется кричать, которую хочется лелеять, — такою выглядит (как антоним вздоха короля Эохайда) почти вся европейская музыка XIX века. Я называю романтической европейской музыкой всё, что было создано с 1874 по 1914 год. Эта музыка стала откровенно неприемлемой для слуха, сентиментальной, скандальной, а ныне общепланетарной, распространяемой с помощью электричества и, как правило, воинственной. Ностальгические слезы по земле отцов текут из глаз Фредерика Шопена, Рихарда Вагнера, Джузеппе Верди. Что нового изобрела романтическая Европа? Жуткую войну. Национализм стал великим возмездием романтиков, и они прибегли к нему как к неотъемлемому праву на войну, считающуюся feidil, то есть праведной. Легенда, пришедшая к нам из книги о королях древней Ирландии, говорит, что слово feidleach означало не «праведность», но fedil uch «тяжкий вздох». А романтики внезапно объявили, что война равнозначна освобождению.*
Мастер Экхарт[220] комментирует Блаженного Августина. Блаженный Августин писал в конце IV века, за двенадцать лет до завоевания Рима, в книге IV «Исповеди»[221], посвященной годам, когда он преподавал риторику в Карфагене: «Не суетись, душа моя: не дай оглохнуть уху сердца от грохота суеты твоей». Через десять веков после Августина Экхарт-Тюрингец[222] задает себе вопрос: «Как стать глухим in aure cordis (в ухе своего сердца)?» И добавляет: «Я сею тернии и шипы». Далее Экхарт пишет: «Я рекомендую уход в пустыню от всего, что звучит. Сказал же Исайя: “Глас, вопиющий в пустыне”. Нашел ли ты в себе печать пустыни?» И заключает: «Так, чтобы голос стал слышен и прокричал в ухе сердца твоего, сотвори в сердце своем пустыню, где он вопиет. Стань пустыней. И слушай пустыню звука». Это был первый аргумент, выдвинутый Экхартом. Но Экхарт выдвигает и второй аргумент: «Слышать — это требует времени. Но если слышать — значит требовать времени, тогда слышать Бога — значит не слышать ничего». «Не слышь ничего… …и расстанься с музыкой».*
Экхарт выдвигает и третий аргумент: «Есть люди, которые плывут по морю при малом ветре и переплывают море: так они делают, но не переплывают его. Ибо море — это не поверхность. Это сверху донизу бездна. И если хочешь пересечь море, готовься кануть в него».Трактат IX РАСКОЛДОВАТЬ
Обитель шумов и звуков ограничивает в пространстве тонкий круговой небесный слой, чья толщина неизмеримо меньше сотой доли луча земли. Эта оболочка включает в себя 1) поверхность суши, возникшей из океана, 2) некую долю морской глубины, 3) воздушный купол, накрывающий эти две стихии. Звуки и шумы, свойственные ветрам, вулканам, океанам и жизни, возникшей на землях, которые возвысились над водами, отличаются таким разнообразием, что принудили всех слушателей мира к специфическому пению. Обитель животных голосов в мире можно назвать крошечной. Обитель человеческих голосов в мире совсем ничтожна.*
В европейском мире вплоть до 1914 года петух возвещал рассвет, собака — чужака, рог — охоту, церковный колокол — время дня, труба — дилижанс, похоронный звон — смерть, шаривари — вторичный брак вдов, флейты и барабаны — сожжение карнавального чучела. Несколько бродячих музыкантов-скрипачей возвещали начало ежегодного праздника, играя вокруг ярмарочных павильонов, сооружаемых с незапамятных времен. Чтобы послушать музыку, исполняемую с нот, нужно было ждать воскресной мессы, когда мехи органов начинали шумно выдыхать аккорды. И по спинам слушателей пробегала дрожь. То, что было редкостью, стало более чем обыденным явлением. То, что было чудом, стало повседневностью, назойливо осаждающей что город, что деревню. Люди стали пленниками музыки, ее добычей. Голосовая и оркестровая музыка обернулась повсеместным фоном, куда более привычным, чем разговорная речь. Таким образом, в результате тотальной войны, развязанной немецким III Рейхом, и вследствие развития технологии вопроизведения мелодий (mélos) любовь или ненависть к музыке впервые отсылает нас к первобытной, неприкрытой жестокости, которая утверждает в мире господство звука.*
Фашизм нерасторжимо связан с репродуктором. Этот последний распространился благодаря «радиофонии», а позже был вытеснен «телевидением». В ходе XX века логика — псевдоисторическая, фашистская, индустриальная, электрическая (ей можно присвоить любой эпитет) — взяла на вооружение угрожающие звуки. Музыка, в силу распространенности — но не в смысле потребления (оно-то как раз стало значительно более редким), а в смысле воспроизведения, как и слушания, — отныне перешагнула границы, которые противопоставляли ее вульгарному шуму. В городах трансляция мелодий породила реакции фобий, победно дегенерируя и напоминая убийства из карабина. А в сельской местности сравнительно редкие случаи звуковой агрессии (самолеты, трактора, электропилы, ружейные выстрелы, мотоциклы-вездеходы, электродрели и гайковёрты, газонокосилки, му-соросборщики, телевизоры и проигрыватели, все эти механизмы, чьи звуки за километр доносятся с порывами ветра) иногда позволяют нам даже музыку относить к области безмолвия. Вот почему только там мне иногда случается хоть несколько минут услаждать себя той старозаветной, редкостной, зовущей, беззаботной, возбуждающей радостью, которая звалась Музыкой.*
После Второй мировой войны музыка стала нежеланным звуком, чем-то вроде шума или гама — если прибегнуть к старинному слову нашего языка noise.*
И даже те заповедники тишины, которые в западном мире являли собой место молитвы — христианские католические церкви и соборы, — ныне оборудованы звукозаписями, призванными завлекать посетителей и избавлять их от пытки безмолвием. И, как ни парадоксально, отрывать их от сосредоточенной молитвы.*
Исихий из Батоса[223] говорил: «Молитва есть размышление, которое безмолвствует». Этот монах-пустынник писал также: «Молитва подобна дикому зверю, который застывает на месте, будучи окружен собаками»[224]. И, наконец: «Молитва — это смерть, которая затаилась в своем молчании».*
Аскеты-пустынники называли «пением с тамбурином и арфой» сочетание дыхательного ритма с сердцебиением в момент молитвенного произнесения тайного имени Христова (Ichtys)[225]. И дабы оправдать непрерывный ритм молитвы, говорили: «Превыше смысла — звучание глагола». Тело языка превыше того, что зовется семантикой: это дефиниция музыки.*
Максим Исповедник писал: «Молитва есть дверь, в которую глагол входит, и обнажается, и умолкает»[226].*
Когда музыка еще была редкостью, ее призыв потрясал душу, соблазняя своей волшебной красотой. Но когда этот призыв звучит неумолчно, музыка становится невыносимой, и тут уже тишина взывает к сердцам и становится возвышенной. Тишина в наше время стала экстазом. А также чрезвычайно редкой роскошью в мегаполисах. Первым, кто это ощутил, был Веберн[227], погибший от выстрела американского солдата. Музыка, которая жертвует собой, отныне притягивает тишину, как приманка — птицу.*
Что означает глагол «расколдовать»? Это означает избавить от власти пения[228]. Оторвать заколдованную жертву от зловредного, рабского повиновения звуку. Изгнать злого духа, разрушить его смертоносные чары. Выбор, стоящий перед шаманом, прост: либо он сделает недоступным для злых духов тело, которое они облюбовали, чтобы поразить его болезнью. Либо он сможет их выманить, чтобы они изошли из этого тела. Расколдовать — значит причинить зло злу. Значит — изгнать злого духа. Зачаровать его, выманив наружу, направить его силу на что-то иное.*
В XVIII веке Антуан Галлан[229] все еще пользовался словом «околдованный», желая сказать «угнетенный, пребывающий в депрессии». Депрессия — это порча, которую наводят чарующие звуки, кто бы их ни издавал — коварная волшебница Цирцея или сирены. Нервная депрессия также является, по его мнению, колдовством, которое следует «расколдовать».*
Человек перестает быть рабом физического поклонения голосам природы. Поклоняясь назойливым электрифицированным европейским мелодиям, он внезапно оказался жертвой социального рабства.*
Древние китайцы справедливо говорили: «Музыка той или иной эпохи свидетельствует о состоянии государства»[230].*
Расколдовать наши общества, избавить их от этого рабства. Тяга к порядку и подчинению в современном мире обернулась всеобщей истерией. На наших глазах происходят жесточайшие войны. Они станут самой ужасной платой, будут чреваты все более и более тяжкими жертвами — платой за социальную, медицинскую, юридическую, моральную и полицейскую защиту мирного времени.*
Музыка, тиражируемая до бесконечности на дисках, живопись, воспроизводимая в книгах, глянцевых журналах, фильмах и на почтовых открытках, давно уже вырваны из своей ниши, утратили свою уникальность. Но музыка и живопись, переставшие быть уникальными, оторваны от своей идентичности. А без нее они утратили смысл. Бесконечное размножение оторвало их от источника, тем самым лишив изначальной одухотворенности и красоты. Эти древние искусства стали слепящими зеркальными бликами, шепотом отзвуков, не имеющих источника. Копии, бледные подобия — а не волшебные инструменты, фетиши, храмы, пещеры, острова… Король Людовик XIV всего один раз слушал сочинения, которые Куперен или Шарпантье[231] предлагали вниманию Его Величества в часовне или в опочивальне. На следующий день уже другим произведениям суждено было прозвучать там в первый и последний раз. Однако этот король высоко ценил нотную музыку, и потому ему случалось иногда прослушать вторично какое-либо сочинение, особо оцененное им. Двор всегда дивился этой прихоти и бурно обсуждал ее. А историки в своих мемуарах упоминали о таких случаях как о выдающихся событиях.*
Музыка, в ходе тысячелетий, была таким же особенным, непередаваемым, исключительным, торжественным, почти ритуальным явлением, какими могли быть шествия в масках, подземные пещеры, святилища, королевские или княжеские дворцы, похороны или бракосочетания.*
Высокоточная техника звукозаписи положила конец высокому искусству нотной записи музыки. Теперь слушают и оценивают материальную точность воспроизведения, а не цепенящие голоса мира смерти. Назойливое звукоподражание реальности вытеснило реальный звук, который рождается и тает в реальном воздухе. Условия прослушивания «живой» музыки в концертах, напрямую, все чаще и чаще шокируют слушателя, чью эрудицию можно теперь назвать сколь технологической, столь же и маниакальной. Это слушание не музыки, а акустики. Слушание того, чем управляют, чей звук можно прибавить или убавить, а то и вовсе выключить, нажав на кнопку, или, наоборот, включить на всю катушку. Вопреки обычаям нашего времени, Франсуа Куперен предлагал — за неимением лучшего, за невозможностью раздобыть какой-нибудь волшебный инструмент в стране мертвых, иными словами, в стране, где не светит солнце, иными словами, на краю света, в самом дальнем уголке (lingua!) земли, где меркнет видимое, — использовать клавесин. Он полагал, что любой инструмент, по сутисвоей, бесполезен, да притом еще и несовершенен.*
В античном мире статуя Мемнона[232] из розового кварцита, хотя и разбитая, все еще издавала звуки пения на восходе солнца. Все греки, все римляне переплывали море, дабы услышать голос каменного бога, почитаемого жителями Египта. Септимий Север[233] приказал восстановить статую. После этого она не издала ни звука.*
Длительность долгоиграющей пластинки из гуммилака (три минуты) навязала современной музыке свою удручающую краткость.*
Претензия музыки на аудиоанальгию[234], лишившая ее права на нотную запись, вернула ее к гипнозу. Как ни парадоксально, но колебания, исходящие от звуков низкой частоты — таких, например, как некогда у бамбарды (басовой трубы) органа, — свойственных симфоническому оркестру и музыке «техно» с усилителями, оказали болезненное воздействие на часть аудитории.*
Бас Альберти[235] исказил аккорд, заставив его размеренно вздыхать или рассыпать звуки подобно мерным вздохам океанских волн с их гипнотическим ритмом. Бас Альберти стал невыносимым.*
Спетое ранее очаровывает стариков. Это неудивительно: их песенка давно уже спета. Они не люди, а повторяющиеся припевы. Никогда еще ни один век не забалтывал до такой степени музыку, которая ему предшествует, как нынешний.*
Голос муэдзина угнетает евреев точно так же, как колокол обедни — мусульман. И только атеисты превозносят тишину, которую не могу навязать ни тем, ни другим.*
Я, конечно, не стал бы хвалить звук рога Роланда[236], но больше всего на свете ненавижу телефонные звонки.*
Вот что сказал Николай Кузанский: «Мы подобны зеленому лесу. Пожар, пылающий в нас, даёт больше дыма, чем света. Вместо пламени и жара он всего лишь издает треск. Человечество куда ближе к пытке слушанием, нежели к ангельскому видению»[237].*
Впервые с начала истории человечества, то есть ее повествовательного периода, люди стали избегать музыки.*
Я избегаю неизбежной музыки.*
Соната старинного дома, не знающего младших поколений, отличается неспешностью, превосходящей память череды его обитателей. Полы скрипят. Ставни хлопают. У каждой лестницы свой ключ — либо скрипичный, либо басовый. Дверца платяного шкафа стонет, ей вторят кряхтящие пружины ветхого кожаного дивана. Все деревянные части дома, когда их иссушит летний зной, составляют единый музыкальный инструмент, одновременно и точный и расстроенный, который исполняет печальную композицию, тронутую распадом, тем более угрожающим, что он неумолим, даже если его медлительность никогда не делает эти звуки полностью доступными слуху человеческих обитателей дома. Старинный дом исполняет melos — мелодию, которая, не будучи божественной, не считает себя достойной тех, кто в нем вырос, или тех, кто в нем умер, или тех, кого мы знали и кто добавлял ему свои собственные песни на заре или по вечерам. Эта монотонная, протяжная мелодия шлет многим поколениям семьи послание, которое никто не понимает по-настоящему, — в нем звучит нескончаемый плач по собственной гибели.*
Когда же эти слова, написанные на определеннную мелодию, отделились от слов, написанных по определенным правилам какого-то языка? Слово, пение, поэма и молитва всегда слишком медленны. Двадцать тысяч лет назад малочисленные людские стаи охотились, наряжаясь животными; они напевали короткие заклинания, исполняли примитивную музыку с помощью манков, бубнов и флейт, сделанных из мозговых костей, и ритуальные танцы, имитирующие погоню за своей будущей добычей, в масках зверей, таких же диких, как они сами.*
Вималакирти жил во времена Будды, а Будда жил во времена Кира Великого[238]. Тогда Афины еще не утвердили трагические дионисийские игры. Эсхил был еще младенцем. Вималакирти жил в Вайшали[239]. Он был богатым торговцем. Однажды, когда нищий монах упрекнул его в том, что он живет в довольстве, мудрый торговец ответил, что иллюзии безразлично, где обитать — в жалкой хижине или в роскошном дворце. Не будучи привержен религии, он, тем не менее, превосходил монахов в понимании ее смысла. Он говорил так: «Не видны ни белые одежды неверующего, ни монашеская kesa[240], ибо повсюду всё невидимо. Рядом с богом не должно быть никакой статуи, никакого поющего музыканта. Когда он настраивает три струны своей лютни, ни одна из них уже не подает голоса. Ибо вокруг всё безмолвно. Я не знаю статуи в храме, ибо нет и не может быть никакой видимости для вещи столь невидимой. Я не знаю голосов для проповеди, ибо нет и не может быть поучения для вещи столь неслышной. Нет никакого пути».*
Торговец Вималакирти говорил: «Слово “слушатель” не имеет смысла. Где видишь ты слушателя? Нет такого языка, который говорит с нами. Нет такого безмолвия, что замалчивает его».*
Торговец Вималакирти говорил: «Где потомство тройного сокровища? Оно — в красном мяче, за которым бежит этот мальчик. Где статуя Будды? Статуя подобна экскрементам, что выходят из этой женщины, присевшей на корточки у канавы; на ее лице написано усилие. Где музыка? Музыка подобна прощальному слову в устах старика».*
Торговец Вималакирти говорил также: «Что заставляет музыку созреть в сердце музыканта? Что заставляет набухать член мужчины, глядящего на женщину? Это не соски и не пышность ее грудей, которые он жадно разглядывает, подсматривая за нею. Это не запах, исходящий от ее подмышек и волос, что притягивает его, когда он стоит рядом. Это не слизь ее лона, что окружает точку (linga)[241], которую ищет этот мужчина, проникая в нее. Мужчина не знает, чего он ищет в объятиях женщин. Это иллюзия, вот что это такое. Вот чего он просит у них. Оттого-то влюбленные и простирают руки: они простирают друг к другу руки, ибо просят милостыни. Это едва видно, более того — неосязаемо. Это едва слышно, более того — неощутимо. Это нечто само собой разумеющееся, как согласование в роде слова и его определения. Неуловимое, как изменение тембра или регистра голоса. Это как высокий детский голос, который мальчики теряют, став юношами, а девочки — женщинами. Как если бы этот самый высокий голос из уст мальчиков, когда они стали юношами, перешел в звуки музыкальных инструментов. Такова иллюзия, свойственная музыке. Мираж в пустыне перед глазами заблудившихся, тех, кто все еще верит в мужчину и верит женщине. Сновидение под сомкнутыми веками тех, кто убежден, что есть разница между живым и мертвым; кто убежден, что под землей существует иной мир, где все ушедшие из нашего мира пьют, едят, поют, стенают и плачут, и что его предки именно там. Но нет иного мира, ибо нет мира».*
Они колют дрова ключом. Они отпирают дверь топором.*
У них мозолистые уши.*
Человеческая жизнь — шум и суматоха. Суматохой — или городами — называют гигантские скопления кубических строений и людей. Распря — вот их характерный запах. Неаполь, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Токио — таковы ужасающие мотивы нашего времени.*
Утробный рёв Пекина. Оглушительный, хриплый, скрежещущий, гнусавый, грохочущий, вязкий, дребезжащий шум центральной артерии, пересекающей город Пекин.*
Базар и бедлам — слова-синонимы. Персидское слово bazaar равнозначно слову wescar (бедлам). Французское слово vacarme (бедлам, грохот) в армянском языке превращается в waha-carana. И то и другое обозначает торговую улицу (буквально: место, где ходят, чтобы купить, или попросту — город). Шумерские тексты повествуют о том, что боги Аккада[242] не могли спать спокойно, таким оглушительным был шум, издаваемый людьми. Отчего боги с течением времени утрачивали свое могущество, а вместе и свое сияние в небесах. Вот почему они наслали на землю потоп, дабы истребить людей и заглушить их пение. Добыча, которую преследуют исполнители музыки, это молчание их аудитории. Исполнитсяи добиваются предельной глубины этого молчания. Они хотят погрузить тех, кто уделяет им все свое внимание, в благоговейный вакуум экстаза, предваряющий то, что называется «заставить слышать себя». Пробить предварительный звуковой фон, чтобы создать на его месте ад специфического безмолвия, человеческого безмолвия. Клара Хаскил[243], исполнив ми-минорную сонату Моцарта в театре Елисейских полей, призналась Жерару Бауэру[244]: «Я никогда еще не играла в такой абсолютной тишине. Не знаю, выпадет ли мне еще когда-нибудь такое же счастье». Шесть дней спустя Клара Хаскил погибла, упав с лестницы на вокзале Миди в Брюсселе, — она не успела схватиться за перила.*
Любой трудящийся человек — праведник. Как оправдывает ремесленника его мастерство? Человека, который трудится над своим еще не существующим творением, оправдывает нежданно осенившее его вдохновение, которое ему иногда случается испытать, и впоследствии — при взгляде на то, что он некогда создал. Изобретая что-либо, мы не испытываем удивления от результата, — ведь мы сами подготовили и осуществили свою идею. Но вот проходит какое-то время. И внезапно, когда мы уже забыли о своей прилежной работе, она неожиданно потрясает нас. Эта судьба, в которой смешиваются все источники вдохновения, приближает нас к его бурному истоку. Теперь нас судит близость к хаосу. Это наш единственный судия. Мы не можем по достоинству оценить радость, которой он нас вознаградил за наш труд. Во всем, что мы сделали, нас тешит не людская благодарность, не момент продажи нашего изделия, не прибыль, от нее полученная, не восхищение окружающих, но ожидание непредсказуемых моментов вдохновения. Нас воодушевляет не иной мир и не посмертная слава в веках, но забвение того, что мы сотворили и что возвращается к нам, осиянное каким-то новым светом, сулящим нашей краткой жизни продолжение в бессмертии наших творений. Это зовется экстазами. Мы сотворяем себе счастье растворения в собственных произведениях. И тогда дни пролетают со скоростью молнии. И тогда мы плачем слезами, которые нам уже не принадлежат, — они растворяются в первом Потопе, который послали нам оглохшие боги. Мы поглощаем самих себя.*
Произведения наводят страх на правила. Морской прилив наводит страх на чаек; вот так же крысы предпочитают водостоки густонаселенных городов. Те, кто выносит приговор, всегда стоят на берегу. И криками, которые именуют своими благими пожеланиями, вызывают кораблекрушения. Это пронзительный крик морских птиц, мечущихся над белопенными гребнями черных морских волн. Их крик полон скорби. Птицы ищут рыбьи останки, чтобы насытиться. И обломки затонувших кораблей, чтобы сесть на них.*
Отчего слово «сирена», обозначавшее в эпической поэме Гомера сказочных птиц, с XIX века стало означать крикливый, пугающий гудок заводов и фабрик, а затем и сигнал сбора на месте печальных происшествий машин «скорой помощи», пожарных и полицейских?*
Они ищут «обломки кораблей», на которые можно сесть. Это называется: «Смерть проголодалась». Вот он — бизнес неудачи.*
Хранители порядка — морального, эстетического, политического, религиозного, общественного — всегда правы: они обеспечивают символический надзор за группой.*
Недаром Анна Ахматова называла журнальных критиков и школьных учителей литературы «тюремными надзирателями».*
Я давно заметил, что все люди, которых я ненавидел, выглядели как солдаты, стоящие по стойке «смирно».*
Я, наверно, никогда не узнаю, в какой момент музыка отдалилась от меня. Всё, что звучало, внезапно, в одно прекрасное утро, оставило мое сердце пустым. Тщетно я подходил к инструментам — по привычке или из-за их внешней красоты; тщетно открывал ноты: мелодия — mélos — больше не звучала, или звучала еле слышно, или я принимал ее за другую, и в душе моей рождалось бесконечное утомление. Чтение книг все еще жило во мне, со всей его жадностью, его ритмом, его недостатками, ощущаемыми в глубине души, но и только; стремления к другим напевам уже не было. А музыка стала невыносимым развлечением, и это было для меня ужаснее конца света.*
Мы, люди, представляем собой курьезные ползучие загадки, которые пускают корни в будущее и тянутся кронами к небосводу прошлого. Похоже, мы больше озадачены происхождением жизни, чем смертью. Нас гораздо чаще тревожат видения пещеры, темной воды амниона[245] и пронзительный младенческий крик, нежели трупообразное тело и зловещее безмолвие конца.*
Мои пальцы пусты. Я не переношу ни порядка, ни смысла, ни покоя. Я собираю частички времени. И рву в клочья правила прошлого и настоящего, которых никогда не понимал. В старину слово logos означало «сбор». Я собираю обломки, прогалины неверного света, «мертвые интервалы», всё чужеродное и беспорядочное, всё, что называется sordidissima[246] домашнего очага: ночной мрак — клоака миров. Всё тяготеет к бессловесности. Я пытался вернуть на место вещи, лишенные кода, лишенные пения и языка, которые блуждали на пути к истокам мира. Нужно было обдумать всё, вплоть до отсутствия выхода из пустой хищнической функции. Как мне хотелось бы упразднить эпидемию анахореза у древних римлян, когда Октавиан Август учредил на крови империю, или варварскую расправу с одинокими[247], коих Рим, сенат и сам император преследовали, стремясь опорочить, искоренить, предать забвению их образы, созданные историками, — на их месте я, несомненно, взялся бы за это именно так. Мне хотелось бы вернуть прошлое в подобие мифической активности. Рождение ничему не служит и не знает конца, да и смерть, конечно, тоже. Конца нет, ибо смерть — не заканчивает. Смерть не завершает жизнь, а прерывает.*
Мертвый интервал — это рука, которую протягивает нам время. И пусть смерть всё прервёт: этот интервал заложен в нас, в нашем теле, имеющем пол, в нашем рождении, в нашем первом крике и в нашем сне. В нашем дыхании и в нашей мысли. В нашей ходьбе на двух ногах и в нашей человеческой речи. Мертвый интервал, чьими временными заложниками мы пребываем, являет себя во всем.*
У света есть свои песни. Я люблю огни за их крик. Горящие фитильки свечей потрескивают на протяжении многих веков; а электропровод — гудит.*
И никуда не деться от этого гудения, ибо электрический свет завоевал весь мир. Это уже «тональность» всего мира.*
Телевизионные передачи интересуются писателями так же, как электрические провода интересуются птицами. Иными словами, и случайно, и чтобы убить.*
Человеческая североевропейская музыка невидимо, но настойчиво озвучивает и оживляет все места, где собираются человеческие существа; так в старину люди верили, что стрекотание цикад вызывает наступление лета. Пение — приманка лета. Назойливая солнечная докука. Платон называл цикад музыкантшами[248]. Древние греки так любили стрекотание цикад, что сажали их в маленькие клетки, которые вешали в домах. Тифон, сын Лаомедона, старший брат троянского царя Приама, был красивейшим из всех мужчин, живущих на земле. Его увидела богиня Аврора. Она влюбилась в Тифона. И умолила Зевса даровать ее возлюбленному бессмертие. Зевс даровал бессмертие красивейшему из смертных. Но обращаясь к Зевсу с этой просьбой, Аврора в спешке забыла попросить повелителя богов сохранить ему молодость. И вот Тифон старел и дряхлел, а она сама оставалась вечно юной. В конце концов Авроре пришлось посадить его, как щебечущего птенца, в ивовую корзинку. Затем, когда тело ее старого любовника совсем съежилось и стало короче пальца, она превратила его в цикаду. И, подвесив клеточку с цикадой к ветке дерева, смотрела на своего крошечного супруга и слушала его неумолчное пение. По уграм богиня плакала от невозможности утолить свое желание с мужем, который превратился в крошечную куколку, и ее слезы превращались в капли росы.*
Леонид Тарентский[249], ученик Эпикура, написал: На кончике лески висит червячок, Он тянется к темной воде. Словно звук умирающий арфы, Истончается леска. Наживка иссохла сильней, Чем мумия мухи в руках паука. Ловец, от зари до зари, из какой же осоки ты флейта?*
Наши предки лягушки (на латыни зеленая лягушка — rana esculenta) обитали в стоячей воде или в реке с чрезвычайно медленным течением; в солнечные дни они восседали на листьях плавучих растений. Я хорошо помню, как это было приятно. Помню гортанное пение-кваканье лягушек-самцов, исходившее из широко разинутых ртов, помню, как раздувались при этом их голосовые мешки. И как шумно они спаривались под эти гортанные звуки. Теперь я понимаю, зачем аббат Спалланцани каждое утро облачал лягушек-самцов в крошечные штанишки из тафты перед тем, как приступить к своим жестоким опытам с электричеством. Это приманка дождя. Кто не любит полакомиться sperma ranarum[250], кушаньем, которое превосходит вкусом саму икру? Кабаны поедают лягушачью икру, точно самое изысканное лакомство, какое земля дарит одиночкам. А водяная птица-пастушок предпочитает самих лягушек. Овидий утверждал, что лягушки-самцы, тщетно кричавшие супругам о своем вожделении, в конце концов надорвали глотки, и их призывы перешли в кваканье. Овидий утверждал, что отсюда и произошла мутация голоса у самцов; а самки навсегда охрипли, криком отказывая им.*
Тримальхион[251] свидетельствует, что, будучи ребенком, побывал в Кумах[252]. Там увидел он иссохшие останки бессмертной Сивиллы[253], сохраняемые в урне, а урна эта висела в углу каменного храма Аполлона. По обычаю, дети проходили по сумрачному храму и, оказавшись под урной, внезапно кричали: «Сивилла, чего ты желаешь?» И из урны раздавался замогильный голос, разносившийся эхом по храму и неизменно отвечавший: «Я желаю умереть». Это песня. Apothanein thelô[254].*
Дороги безмолвия в ночи. Тименей Критский[255] в коротеньком стихотворении описывает птичку, растерзанную ястребом: Рулады и нежные, звонкие трели твои Ушли навсегда по тихим ночным дорогам (siôpèrai nyktos odoi).*
Тишина для ушей — то же, что ночь — для глаз.*
Через два года после того, как отшельник Сюй Ю отказался принять империю от императора Ци Яо, Сюй Ю выбросил тыквенную бутыль, которую дали ему, чтобы набирать воду. Когда его спросили, почему он ее выбросил, он ответил: «Мне нестерпима жалоба ветра, который забирается в бутыль, когда я подвешиваю ее к ветке дерева». Позже Сюй Ю объявил, что предпочитает любой музыке звук, исходящий от пальцев, когда он опускает их в реку, чтобы набрать воды. Он становился на колени. Склонялся над рекой. И опускал в нее кисть руки, изогнутую наподобие раковины.*
После того, как Русалочка Ганса-Христиана Андерсена отдала свой голос колдунье; после того, как она стала мертвой, стала пенной волной, она возвращает себе голос, чтобы спросить: «К кому я иду?»*
Иштар[256] взяла арфу и облокотилась на скалу, стоявшую у моря. Нахлынула большая морская волна, и застыла перед нею, и спросила ее: «Для кого поешь ты? Ведь человек глух».*
Я не помню, где прочел сказку о немом человеке, который, видя во сне свою мать, не мог излить ей свое горе.*
Я больше не подтягиваю ослабшие струны своей виолончели. Больше не поднимаюсь на хоры, к органу. Больше не привожу в действие его меха. Больше не сажусь перед пожелтевшими клавишами. Я отложил книгу, которую пишу, на пластмассовое кресло, куда обычно кладу ноги, поставив его перед собой на траву. Теперь под кроной можжевельника только моя голова. Тишина — это всего лишь разновидность оглушительного шума. Свет — белый, густой, медлительный, обжигающий — залил мои ноги. Он настолько горяч, что увлажняет их. Передвигаю пластмассовые кресла подальше. Жизнь все-таки изнуряющая штука. У меня кружится голова, но, по правде говоря, это я кручу головой. В саду стало меньше цветов. Лето кончается. Кусты шиповника вдоль старой садовой стены еще похваляются последними гроздьями ягод, но листья на ветках уже поблекли. Лохматый орешник на берегу реки совсем утратил свою яркую зелень, стал черным. Река у его подножия течет медленнее — непонятно, движется ли вообще. Ни течение, ни ветер уже не оскверняют ни одной морщинкой ее поверхность. Кто знает, может быть, море больше не притягивает к себе реку. Две долговязые белые яснотки[257] склонились над рекой и любуются отражениями своих венчиков в черной воде. Стрекоза присела на причальное кольцо для габар[258]. Слово «габара» давно уже не вызывает воспоминаний о переправке грузов, которые это старинное тихое судно волокло за собой по воде на цепи. Утки спят, рассевшись цепочкой на жухлой прибрежной траве вдоль реки. Кроме аромата жимолости под козырьком ворот (по правде говоря, его можно уловить, лишь подойдя к сторожке), в саду не осталось никаких запахов. Только и чувствуешь, что тепло собственного тела. Хотя временами, один-два раза в час, неизвестно откуда сюда доносится запах гнили, почти смерти. И ничто не движется, все замерло. Ничто, ничто больше не движется. Я даже не слышу собственного дыхания. И ветра больше нет. Бамбуковая роща не дрожит, а лишь временами встряхивается. Дрок, растущий перед нею, с треском раскрывает свои черные скорлупки и сыплет из них зернышки на сухую, желтую траву. Ничто человеческое никогда не вторгалось в этот растительный мир. Ничто человеческое никогда не вызывало интереса ни у реки, ни у цветов. Все меркнет в клубах этого зыбкого марева, которое солнечный огонь добавил к жаркому дневному свету. Полуденное солнце уже начинает клониться вниз. Река мертвых — и та крепко заснула. Ничто человеческое никогда не добавляло жизни этой стоячей воде и давно уже не освежало ее. Ничто человеческое никогда не вторгалось в сны, которые посещают мужчин. Ничто человеческое никогда ничего не добавляло к видениям, которые ослепляют мужчин под сомкнутыми веками, заставляя член напрягаться, пока они видят сны. Они не придают им значения и спят.Трактат X О КОНЦЕ СВЯЗЕЙ[259]
Виконт де Вальмон глядит на зеленую траву лужайки в Сен-Манде. Рукав его рубашки рассечен стальным лезвием: он только что был ранен в руку. Молча поворачивается он спиной к бездыханному телу шевалье Дансени. Садится в свою карету. Виконт рывком раздергивает занавеси алькова, где лежит президентша де Турвель. Ее лоб влажен от испарины, изо рта вырывается хрип, нарушающий тишину спальни. Виконт выкрикивает приказ, приподнимает больную, осторожно надрывает ворот атласного пеньюара, стягивающий шею президентши. Вид обнаженного бледного исхудавшего тела мадам де Турвель в слабом свете канделябра потрясает его. Он заставляет ее выпить большой стакан грушевой настойки из Кольмара. Она приходит в себя, узнаёт Вальмона, вцепляется в его руку, шепчет его имя, судорожно обнимает его. Он овладевает ею. Отдавшись ему, она оживает. На следующее утро они возвращаются в Париж; холод так силен, что густой предрассветный туман никак не может растаять. Вальмон становится грозным финансистом. Президентша де Турвель устраивает вечерние приемы. И утешает его по ночам.*
В мертвой тишине секунданты дуэли на лужайке Сен-Манде поднимают тело шевалье Дансени, укладывают его на носилки и с величайшими предосторожностями доставляют в Венсенн, к хирургу. Хирург спасает юношу. Полгода спустя Дансени принимают в ложу Девяти Сестер[260], где он заводит дружбу с герцогом де Роганом, американцем Бенджамином Франклином, художником Грёзом, врачом Гильоте-ном, Дантоном и Юбером Робером[261]. Во время революции Дансени голосует за казнь короля и добивается от Национальной ассамблеи решения лишить мужские статуи «всех срамных частей — постыдных свидетельств старого режима». На правом берегу Сены, в Опере, госпожа де Мер-тей с улыбкой кивает виконту и президентше, но проходит мимо, не сказав ни слова: очередной любовник любезно приподнимает перед ней дверную портьеру. Мадам де Мертей избежала оспы, ее лицо осталось невредимым. Она не только выиграла свой процесс, но суд постановил выдать ей немалую сумму — восемнадцать тысяч ливров. Она осталась жить в Париже, невзирая на впечатление, произведенное ее письмами. Подпорченная репутация маркизы способствует ее светским успехам. В обществе, в театре комедии мужчины так настойчиво осаждают ее, что вздохнуть некогда. И она решает совершить путешествие, притом в одиночку. Садится на корабль в порту Гавр де Грас, пересекает Ла-Манш и едет в берлине[262] через поля Гемпшира. Внезапно в облаках гремит гром, сверкает молния. Маркиза знаком приказывает кучеру остановиться и приобретает в предместье Дина миленький домик в двадцать комнат. К нему ведет длинная извилистая аллея, усыпанная серым гравием. За домом, посреди луга, виднеется большой пруд, окруженный молодым леском. Низкие холмы на горизонте сливаются с облаками. Лазурный воздух влажен. И всё безмолвствует.*
Госпожа де Мертей ежедневно после полудня посещает бедняков и беднячек. Среди них она замечает двух девушек — Кассандру и Джейн, которые живут на окраине городка, в маленьком приходе Сти-вентон; ей нравится распевать вместе с ними мелодии Джексона из Эксетера[263]. Маркиза научилась играть на басовой виоле у бывшего виолониста Королевского оркестра. Она приглашает к себе своих новых подружек, чтобы разыгрывать вместе с ними короткие трио Генделя или Ке д’Эрвелуа[264], прерывая исполнения приступами неудержимого хохота. Джейн дарит маркизе ноты старой пьесы Пёрселла[265], несколько иного жанра; ноты свернуты в трубку и перевязаны серой атласной ленточкой. Эта пьеса, несмотря на старомодный лад, приводит маркизу в полный восторг. Кассандра исполняет партию флейты, Джейн сидит за клавесином, а маркиза играет на бас-виоле, отстукивая ногой ритм; вместе они разбирают эту старинную пьесу целиком. Когда они заканчивают игру, на дворе уже стоит ночь. Женщины пьют вино, болтают всякие глупости, маркиза подзуживает их на большее, но обеим мисс Остин это не по нраву. Внезапно раздается крик петуха, и мисс Джейн вскакивает с дивана, побледнев от испуга. Она хватает сестру за руку, и девушки, подобрав юбки, опрометью бегут к своему дому. Маркиза, надеясь все-таки соблазнить Джейн, велит купить для помещения стивентонской школы (служившего сто лет назад свинарником) настоящее пианино стоимостью в сорок гиней. Сама маркиза не в восторге от неверного звучания этого инструмента, зато Джейн себя не помнит от счастья. Маркиза приобретает и пытается исполнить на своей виоле все произведения, подписанные Генри Пёрселлом, которые по ее поручению разыскали в Лондоне; она даже начинает заниматься пением, чтобы исполнять их с голоса, но обе девушки не хотят помогать ей, находя эту музыку чересчур манерной. Что ж, если так, маркиза увлекается крикетом. Отныне она носит платья-амазонки и проклинает пышные сборчатые юбки, входящие в моду. По совету Джейн она читает поэмы Крабба[266], и они приводят ее в восторг. Все чаше и чаще уходит она гулять в лес, который тянется вдоль ее владений; его пересекает речушка, чью воду направили по узенькому, хлипкому желобу в водоем, скрытый от посторонних глаз раскидистыми вязами. Среди ее крестьян есть трое-четверо молодых игроков в крикет, которых она вызывает к себе, когда ее тело внезапно требует плотских утех. Но при этом надевает на своих избранников маски зверей, чтобы видеть в них только жизнь или, по крайней мере, одну из ее сторон, кажущуюся ей самой искренней и самой возбуждающей. Постепенно она остывает к молодым любовникам. Да и беседы с девушками тоже наскучили ей, а их стойкое презрение к творчеству Пёрселла все чаще и чаще ввергает ее в расстройство, даром что они сами познакомили ее с его музыкой. Вопреки шпилькам Джейн, маркиза ни на минуту не чувствует, что стареет, потому что ее волнуют эти старинные звуки двухсотлетней давности. И она готовится покинуть Гемпшир. С возрастом у нее возникают странные причуды, которые в Дине никого не шокируют: например, ей хотелось бы превратиться в кенгуру. Она убеждена, что Гренландии не существует. Утверждает, что и Бога тоже не существует. Она твердо уверена, что люди могут летать. Говорит, что самые сильные запахи постепенно исчезают из этого мира. Признаётся, что по весне была бы счастлива превратиться в мошку, летающую над цветами. Объявляет, что ей нравится энергия во взглядах женщин, во взгляде младшей из двух ее подружек-музыкантш, во взгляде того или иного мужчины, которого она познала, во взгляде собаки, во взглядах белых сов, пожирающих рыжих белок, которыми кишит весь Гемпшир. Предпочитает всему, даже плотским утехам, тень под каштанами в июле. Теперь она любит расставлять на траве шезлонги. Любит также десерты из давленой земляники, гамму ми-мажор, звук своей басовой виолы, когда затворенное окно отделяет ее от источника шума, красоту воды, красоту журчания воды и красоту отражений природы в воде, которые разбивает упавший с дерева листок или камешек с аллеи, а летний покой бесстрастно восстанавливает миг спустя.*
В марте 1798 года маркиза де Мертей, наскучив своими юными подружками и игроками в крикет, вернулась во Францию. Она высадилась в Дьеппе и, не заезжая в Париж, отправилась в карете к себе в имение Жарго, на берегу Луары, недалеко от Орлеана.*
Там видит она разоренный замок. И приказывает восстановить его. Работы длятся уже три месяца. После долгих колебаний, оставив рабочих на стройке, среди камней, пыли и шума, маркиза, набравшись храбрости, решается ехать в Париж. В сентябре 1798 года маркиза де Мертей приезжает в Медон, где встречается с американцем Бенджамином Франклином и ужинает с ним. Он производит на нее впечатление круглого дурака. Она отталкивает его руки, которые дерзко гладят ее колени. У нее вызывает жгучий интерес открытие Промышленной выставки на Марсовом поле, которую нахваливает американец. Бенджамин Франклин говорит ей: «Тот, кто не слышал тост, произнесенный Жаком Дантоном в трапезной монастыря Якобинцев, не знает, как звучит подлинный мужской голос». На следующее утро, еще до рассвета, маркиза приказывает запрягать лошадей. Она покидает Медон. Проезжает по Севрскому мосту. Едет через поля, по набережным. Прибывает в старый город. Первое впечатление, испытанное маркизой при виде Парижа, — изумление и страх. На площадях снесены все статуи. Гражданская война изуродовала облик столицы. Множество знакомых особняков разрушено. Здания и сады религиозных общин разграблены и осквернены. Уцелевшие жилые дома из-за отсутствия ухода пребывают в состоянии полного упадка и тонут в грязи. Парки, некогда открытые на правом берегу Сены для гуляющей публики, запущены. Небо кажется белесым, а мелкий, бесшумный, тоже белесый дождик, почти нормандский, застит взгляд. Карета маркизы едет по мощеной набережной вдоль Сены. И внезапно она чувствует себя здесь почти иностранкой. Более того, ей кажется, что она превратилась в душу, открывающую для себя иной мир. Оба берега реки вызывают у нее гадливость унылым видом людей, толпящихся на набережных, и тощих, бледных, полуголых ребятишек, которые играют у воды. На каменном парапете набережной она видит три слова, выцарапанных ножом и натертых углем: «СВОБОДА ИЛИ СМЕРТЬ». И внезапно вспоминает, что знала человека, который сделал из этого лозунга тайну своей жизни. У нее больно сжимается сердце. Она просит кучера остановиться.*
Маркиза выходит из кареты под моросящий дождь. Она прижимает руку к сердцу. Осклизлые плиты набережной затрудняют ходьбу, но она все же кое-как добирается до надписи. Останавливается рядом с антикваром, который, невзирая на дождь, молча раскладывает книги на своем прилавке. Берет в руки томик, машинально вытирает его своей перчаткой и видит на обложке… герб Дансени. Маркиза вздрагивает. Поспешно берет другую книгу, — эта принадлежала мужчине, с которым она встречалась при Дворе и разделяла плотские услады. Антиквар торопит ее, прося назвать свою цену. Раздраженная его настойчивостью, она оставляет книги на прилавке. И отходит, думая: «Если я покопаюсь там еще, то наткнусь на книгу с гербом Вальмона». Она не произносит это имя вслух, но внезапно у нее подкашиваются ноги. Она хватается за каменный парапет набережной. Ее глаза заволакивает туман. Постепенно ее дыхание выравнивается. Маркиза открывает глаза. Внизу, у самой воды, человек с удочкой резким взмахом подсекает рыбу. Маркиза спешит отвернуться. По ее щеке катится слеза. Она машинально вытирает запачканную перчатку. Хочет подняться в карету, но ей мешает слабость. Кучер слезает с козел и подходит к ней. Маркиза задыхается. Шепчет ему: «Дайте мне руку. Помогите мне. Мы не поедем на Промышленную выставку. Мы вернемся в Жарго. Мы вернемся в Жарго…» И повторяет, почти неслышно: «В Жарго! В Жарго!», словно умоляя своего собственного слугу.*
А в Жарго стоит конец лета. Погода великолепная, хотя и душновато. Маркизу притягивает медлительная Луара. По вечерам она велит вынести на прибрежный песок — такой теплый и мягкий, тянущийся желтой полосой вдоль величественной реки, — шезлонг, графин холодной воды, ведерко и соломенную шляпу с желтой газовой вуалью из Голландии. Мадам де Мертей нравится лежать в своем шезлонге, держа в руках длинный шест с удочкой на конце. Она забрасывает в реку наживку. И звучит напев. Она напевает Joy Пёрселла[267]. Напевает его Ô Solitude[268]. И вытаскивает из воды окуньков, совсем крошечных, с палец.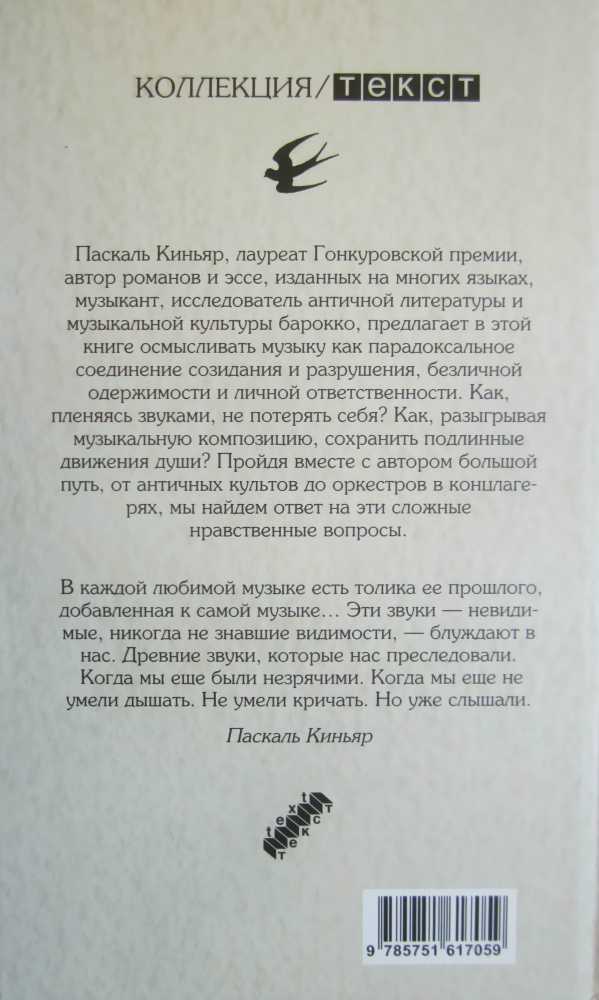

Последние комментарии
1 час 33 минут назад
1 час 38 минут назад
1 час 42 минут назад
1 час 43 минут назад
1 час 48 минут назад
2 часов 5 минут назад