Theatrum mundi. Подвижный лексикон (epub) читать онлайн
Книга в формате epub! Изображения и текст могут не отображаться!
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
Theatrum Mundi. Подвижный лексикон
Музей современного искусства «Гараж»
Москва
2021
УДК 792.072
ББК 85.33
П44
Издание осуществлено в рамках грантовой программы «ГАРАЖ.txt» Музея современного искусства «Гараж»

Под редакцией Юлии Лидерман и Валерия Золотухина
Theatrum Mundi. Подвижный лексикон. — М.: Музей современного искусства «Гараж», 2021.
Авторов этой книги — филологов, философов, театроведов, культурологов и историков — объединяет участие в разные годы в работе московской независимой исследовательской лаборатории Theatrum Mundi, которую в 2017 году основали Мария Неклюдова и Юлия Лидерман. В текстах этого сборника в широком контексте современной гуманитарной теории анализируются разные формы бытования современного театра — от перформанса до современного танца. Вошедшие в книгу статьи дают читателям возможность составить представление как об основополагающих понятиях современной теории перформативных искусств (политике зрительства, театральности, аффекте и др.), так и о разных возможностях их использования в гуманитарных исследованиях.
ISBN 978-5-9909717-7-6
Все права защищены
© Текст, авторы, 2021
© Музей современного искусства «Гараж», 2021
© Андрей Кондаков, макет, 2021
- От редакторов
- «В чем причина слез?»: Патос и катарсис в театре Ромео Кастеллуччи
- Катарсис: очищение, прочистка, прояснение, экстаз
- Идеал целостности и травма расколотости: отреагирование аффекта vs психоанализ
- Слезы Диониса
- Фунт плоти
- Театр объектов
- Una furtiva lagrima
- Абсолютный монарх
- В чем смысл танца?
- Танец и нарратив
- Движение, танец, жест
- Третий смысл
- Искусство создания миров
- Странные истории
- Женщина или лебедь?
- Право на (не)участие: дистанция, вовлеченность и доверие в театральной коммуникации
- Постановка индексальности, или Психо-инженеры на театре
- Экспозиция
- Рождение трагедии из духа материального дефицита (1917–1920)
- «Снова проиграть эту ситуацию»: эстетический штурм Зимнего или театр массового поражения (1920)
- Постановка индексальности, или Психо-инженеры на театре
- «Груды согласных рвут гортань»
- «Реально ощутимые» речевые сигналы
- Элементы «игры» в остром запахе газа
- Анатомический театр для «иллюзорного любовника»
- Политики производства знания в театре и перформансе в России: кейс-стади
- Время революции
- Вопросы аудитории
- Речь и революция. (набросок теории действия)
- От попугая Флобера до Упоротого Лиса: театрализация природы в таксидермических практиках
- Викторианская таксидермия: мода и меланхолия
- Мертвые и смешные: таксидермия постсовременности
- Заключение
- Призрачное пространство в спектаклях in situ: эффект междумирья
- Пространство — Призрак — Свидетель
- Призракологика
- Дом с привидениями
- Заключение
- Биографии авторов
От редакторов
Производство знания перформативными способами, таксидермия как театрализованная природа, призрачность пространства в сайт-специфичном театре, структурированные разными революционными событиями время и речь, — таков далеко не полный перечень тем, к которым обращаются авторы этой книги. Все статьи «Подвижного лексикона» связаны с современным театром и театральной теорией, но говорить о том, что книга посвящена им, было бы неверно. Cама метафора theatrum mundi («мир как театр») с незапамятных времен сопряжена с попытками объяснить окружающее через театральные категории «сцены», «игры» или «зрителя». Авторы этой книги исследуют понятия современной театральной (и шире — перформативной) теории, — в частности, политику зрительства, театральность, аффект и другие, — и продуктивность их использования в различных дисциплинах и сферах: культурологии, философии, психоанализе, искусствознании и т. д. «Театр как метафора» как эвристический метод, с одной стороны, и современный театр во всей его сложности и разнообразии, с другой, — два полюса, создающие особого рода «поле напряжения». Оно сыграло большую роль в истории независимой московской лаборатории Theatrum Mundi, более десяти лет работы которой подытоживает этот сборник.
Лаборатория, начавшая свое существование как образовательный проект, за время своей работы вышла за пределы академии. Изначально это был постоянно действующий общеуниверситетский научный семинар «Театр в пространстве культуры», созданный Марией Неклюдовой и Юлией Лидерман совместно с кафедрой Истории и теории культуры Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) в 2007 году. Семинар был адресован магистрантам и аспирантам разных специальностей. Вскоре к нему присоединились студенты-театроведы1, изучавшие уже знакомые для себя понятия и явления более объемно. Практически сразу сложилась группа постоянных участников семинара, в которую входили Оксана Гавришина, Ольга Астахова, Валерий Золотухин, Ольга Рогинская и их студенты. Цель семинара поначалу виделась участникам в том, чтобы наладить профессиональное общение между представителями разных дисциплин для обновления театроведческого образовательного канона, а заодно и укрепить позиции культурологии среди гуманитарных дисциплин. Эта установка семинара созвучна тому, что объединяет и авторов этой книги — филологов, историков, театроведов, культурологов, философов, участвовавших в работе семинара и лаборатории на разных этапах. Они не замыкаются в круге собственных проблем, а рассматривают историю и теорию театра, перформанса, современного танца и т. д. в широком контексте современной гуманитарной теории.

Семинар «Искусство непонимания» лаборатории «Theatrum Mundi» (совместно со «Школой современного зрителя и слушателя»). Электротеатр Станиславский. 2015. Фото: Олимпия Орлова
Евгений Марголит, Сергей Зенкин, Вадим Гаевский, Виолетта Гудкова, Ольга Купцова, Ирина Сироткина и другие исследователи, выступавшие с докладами по приглашению семинара, дали импульс для появления ключевых сюжетов и тем, с которыми мы работали в стенах РГГУ на протяжении 7 лет. За это время на кафедре истории и теории культуры были защищены несколько выпускных работ, связанных с тематикой семинара. С самого начала он также был связан с современным театром и развивался вместе с ним. Мы проводили презентации книг, опубликованных издательствами РГГУ и «Новое литературное обозрение», дискуссии совместно с журналом «Театр»2, мероприятия с премией «Золотая маска». При самом активном участии актеров и режиссеров «Театр.doc» провели презентацию-читку неизвестных советских пьес, собранных в сборнике «Забытые пьесы 1920–1930‐х годов»3. За семь лет работы семинар обрел электронный архив, но, пожалуй, самый важный результат — он постепенно трансформировался в лабораторию «Theatrum Mundi», объединенную коллективной работой. Рубежной встречей стал круглый стол в ноябре 2010 года с участием социолога и переводчика Бориса Дубина «Театральность в искусстве и за его пределами»4. Благодаря этой дискуссии исследователи увидели эффективность обращения к отдельным понятиям, — таким, как «театральность», — круг которых постепенно начинал складываться в те годы. Фокус на методологически продуктивных понятиях мы попытались сохранить и в этой книге, отдавая дань памяти Борису Владимировичу, предложившему лаборатории этот рабочий принцип.
Новый этап существования лаборатории начался в 2014 году, когда мы вышли в городское пространство, начав сотрудничество с «Центром авангарда на Шаболовке». C апреля 2015 года «Theatrum Mundi» совместно со Школой современного зрителя и слушателя проводит семинары в «Электротеатре Станиславский». Переход от университетского семинара к публичным дискуссиям повлиял на характер работы лаборатории: формат требовал от нас зрелищности, рефлексии актуального театрального процесса, а в практическом смысле — учета фронтальной рассадки в фойе, готовности к разговору с гораздо более разнообразной публикой (по сравнению с университетской), акцента на результатах исследований, а не на рабочих гипотезах.
Кроме изменений, связанных с новыми партнерами и новыми пространствами, лаборатория пережила и внутренние изменения, связанные с постепенным прояснением характера нашей деятельности. Стало понятно, что особую ценность лаборатории придавал сетевой, вне-институциональный характер связей между исследователями, принципиальная открытость для новых участников. Публичную речь, так же как и совместность в размышлениях и дискуссиях участников семинара, мы осознали не как инструменты, а как цель наших встреч. Название лаборатории, предложенное Марией Неклюдовой, было понято нами не только как метафора, но и как исследовательская программа. Теории перформативных искусств, также, как и практики live art (современного театра, танца, перформанса), экспонирования, театрализации — все это входит в круг наших интересов и служит источником новых идей в исторической и теоретической работе.
Выступления Олега Аронсона и Елены Петровской на семинарах «Theatrum Mundi» в «Электротеатре Станиславский» в 2019 году положены в основу их публикаций в этой книге. Но это исключение, а не правило: мы сознательно не хотели идти путем публикации материалов архива лаборатории5, а стремились к тому, чтобы статьи сборника отражали, с одной стороны, сегодняшние исследовательские интересы авторов, в разные годы участвовавших в семинарах лаборатории сначала в РГГУ, затем в «Центре авангарда», НИУ-ВШЭ, «Электротеатре Станиславский», а с другой — соотносились бы с темами, которые были выбраны для коллективной работы участниками лаборатории. Поэтому в начале работы над сборником мы выявили круг понятий, неоднократно обсуждавшихся на семинарах, — таких, например, как аффект, вещь в перформативных практиках, архив перформанса, политика зрительства, театр как метафора, театральность вне театра, (де)материальность спектакля и прочее — и предложили каждому автору выбрать одно или несколько понятий, ключевых для ее / его статьи. Таким образом, вошедшие в «Подвижный лексикон» статьи дают читателям возможность составить представление как об основополагающих понятиях современной теории перформативных искусств, так и о разных возможностях их использования в существующих гуманитарных исследованиях.
В составлении этого издания, как и в многолетней работе лаборатории, нашли отражение наши представления о научных и художественных сообществах, создающих новые знания при помощи процедур, которые преодолевают дисциплинарные границы и границы академии. Мы надеемся, что принципиально открытая форма лексикона, в котором статьи не разъясняют, а скорее иллюстрируют понятия, — упорядочивает, но не сводит к единому знаменателю уникальность представленных работ и подходов по теоретическому освоению современной культуры.
«В чем причина слез?»: Патос и катарсис в театре Ромео Кастеллуччи
[аффект]
Анастасия Архипова
Творчество Ромео Кастеллуччи отмечено родовыми чертами постдраматического театра, описанного в фундаментальном труде Ханса-Тиса Лемана. Центральная тема (и структурообразующий принцип) постановок Кастеллуччи, одного из ведущих современных мировых режиссеров, — своеобразно понимаемая им греческая трагедия. Со времен Аристотеля с трагедией связываются два понятия, вошедших в наш повседневный обиход и практически не подвергающихся рефлексии, но тем не менее неоднократно перетолковывавшихся интерпретаторами на протяжении веков, — пафос (патос) и катарсис. Под влиянием одного из таких толкований коллега Зигмунда Фрейда Йозеф Брейер в 1880‐х годах предлагает новую психотерапевтическую технику под названием «катартический метод»; отказавшись от нее, Фрейд движется к открытию основ психоанализа.
Художники, писал Фрейд, опережают психоаналитиков, прокладывая им путь. В этой статье на примере работ Кастеллуччи предпринимается попытка показать, что практика психоанализа и практика современного театра развиваются параллельно. Рассматривая сквозь призму психоанализа такие понятия, как аффект, Вещь, тело, зрительский опыт, мы постараемся продемонстрировать эффективность использования концептуального аппарата и логики психоанализа для осмысления происходящего в современном театре.
Катарсис: очищение, прочистка, прояснение, экстаз
Совершенно по‐иному, однако, поступили афиняне, которые, тяжко скорбя о взятии Милета6, выражали свою печаль по‐разному. Так, между прочим, Фриних сочинил драму «Взятие Милета», и когда он поставил ее на сцене, то все зрители залились слезами. Фриних же был присужден к уплате штрафа в 1000 драхм за то, что напомнил о несчастьях близких людей. Кроме того, афиняне постановили, чтобы никто не смел возобновлять постановку этой драмы (Геродот. История в 9 книгах. Кн. VI: 217).
Эту историю об одном из древнейших, доэсхиловских трагиков и его не дошедшей до нас трагедии, предположительно датирующейся 494–492 годами до н.э., нередко вспоминают, когда речь заходит о происхождении и устройстве греческой трагедии. Например, Дэвид Розенблум в своей статье «Кричать “пожар!” в переполненном театре» пишет: «…можно сказать, что, высвободив способность трагедии возбуждать страх, Фриних способствовал формированию в Афинах кодекса того, что должна транслировать трагедия. <…> после того как афиняне отвергли “Взятие Милета” и оштрафовали автора драмы, ни один трагик больше никогда не делал предметом драмы oikeion pathos (страдания близких / собственные страдания) на празднике Дионисий. <…> трагедия стала жанром, воспроизводящим, почти без исключений, всеэллинское мифологическое наследие»8.
У современного театрального зрителя рассказ Геродота, возможно, вызовет недоумение: разве не такой эффект, — сильного эмоционального переживания, сопровождающегося слезами, — должна производить трагедия? Разве не это подразумевает само слово «катарсис», использованное Аристотелем в отношении трагедии в первой, единственной сохранившейся, части его трактата «Поэтика»?
Понятие катарсиса на самом деле не столь очевидное и даже загадочное — на протяжении веков оно породило множество толкований. Самая известная теория, оказавшая влияние на наше обиходное понимание катарсиса как разрядки эмоций, была выдвинута в знаменитом труде Якоба Бернайса под названием «Zwei Abhandlungen über die Aristotelische Theorie des Drama» («Два эссе об аристотелевской теории драмы»), вышедшем в Берлине в 1857 году (переиздан в 1880 году) и совершившем переворот в научном мире.
Исследователи обычно называют теорию Бернайса медицинской. Так, Леон Голден, один из первых ее критиков, прослеживает истоки этой интерпретации в трактатах XVI века, где принципы гомеопатической медицины (подобное — подобным) объясняются в применении к душевным заболеваниям и страданиям, а также в мильтоновском «Самсоне-борце», в предисловии к которому сказано: «Трагедия <…> говорит Аристотель, обладает силой, возбуждая жалость и страх, или ужас, очищать разум от этих и подобных страстей. <…> ведь и в медицине средства, обладающие цветом и качествами черной желчи (melancholic hue and quality), используются, чтобы изгнать меланхолию, кислым изгоняются кислые, а соленым — соленые гуморы»9. Ошибка Бернайса, подчеркивает Голден, заключалась в том, что он утверждал, будто ключ к пониманию термина «катарсис» в «Поэтике» лежит в «Политике» Аристотеля, «где, по его мнению, описывается процесс прочищения (purgation) эмоционального возбуждения с помощью диких и страстных мелодий»10.
С этим согласна Елена Рабинович: «Описанный в “Политике” музыкальный катарсис был понят Бернайсом в медицинском смысле <…>, а затем результаты анализа “Политики” были без всяких поправок применены к “Поэтике”»11. Она доказывает, что трагический катарсис у Аристотеля не равен музыкальному, т. е. не подразумевает разрядки психического напряжения посредством оргиастических практик, и никакой катарсис не равен излечению. К тому же не стоит путать pathos с pathema. В «Поэтике» pathos — это исключительно страдание (страсть) трагического героя, а вот переживания зрителя, которые не должны отождествляться со сценическими страданиями, называются pathemata, и именно к ним относится пресловутый катарсис в главе VI «Поэтики»: «Трагедия есть подражание действию важному и завершенному услащенной речью и действом, достигающая через страх и жалость катарсиса таковых чувствований (pathematōn)»12. «Из контекста “Поэтики” вытекает, что pathos по меньшей мере опасен и часто губителен, a pathemata безопасны и даже приятны»13. Теперь понятнее становится ситуация с трагедией, поставленной Фринихом: здесь, по‐видимому, произошла путаница между патосом и патемой, слияние страданий героев и зрителей — что и привело к травмирующему эффекту. Катарсис же связан с удовольствием и облегчением — «безвредной радостью», как сказано в главе VIII «Политики».
Так что же такое, с точки зрения филологов-классиков, этот неуловимый катарсис? Некоторые исследователи (среди них — Голден и Рабинович) полагают, что катарсис прежде всего интеллектуальная операция: безвредная радость катарсиса — «результат мыслительного процесса (познания)»14, поэтому катарсис — это не очищение, а «прояснение», «разъяснение чего‐то запутанного»15. Более того, по мнению Рабинович, с точки зрения устройства трагического сюжета с началом, серединой и концом — «страх и жалость зритель испытывает в начале и в середине трагедии, к прояснению или решению приходит в конце»16 — катарсис следует попросту понимать как стремительную, «потрясающую душу развязку», дарящую радость «наконец сполна удовлетворенного любопытства»17.
В одной из сравнительно недавних работ идеи Бернайса оцениваются несколько иначе, чем принято. Джеймс Портер в статье «Якоб Бернайс и катарсис модерности»18 стремится показать, что Бернайс, отвергая моральные или педагогические интерпретации понятия катарсиса в духе Лессинга (очищение страха и жалости как установление правильной их меры, «превращение страстей в добродетельные наклонности»19), не ограничивается медицинским истолкованием (не очищение, а, скорее, прочистка, наподобие рвотного или слабительного), а развивает свою теорию возвышенного. Катарсис для него — это не столько лечение и нормализация, при которых устраняется нечто болезненное, сколько высвобождение «внутренних состояний, которые пока дремлют, но ждут, чтобы их выразили»20. Греки были склонны к экстатическому выходу за пределы своего «я». Подобные переживания приносят наслаждение, даже если они связаны со страданием; это «сама витальность жизни»21. Так человек приобщается к некоему первичному патосу — Urpathos, универсальному беспредметному аффекту чистого экстаза: это не элиминация переживаний, а их обострение и расширение. Трагический катарсис (один из видов катарсиса) — то, что дает зрителю доступ к Urpathos. Через содрогания страха и жалости зритель разделяет всеобщую судьбу рода человеческого, идентифицируясь со страданиями других людей, — но сам процесс приобщения приносит тем не менее удовольствие.
Отсюда недалеко до Ницше, который в своей знаменитой книге «Рождение трагедии из духа музыки» 1872 года пишет: «…ближайшее действие дионисической трагедии заключается именно в том, что <…> вообще все пропасти между человеком и человеком исчезают перед превозмогающим чувством единства, возвращающего нас в лоно природы. Метафизическое утешение, с которым <…> нас отпускает всякая истинная трагедия, <…> что жизнь в основе вещей, несмотря на всю смену явлений, несокрушимо могущественна и радостна <…>»22. Как полагает Джеймс Портер, Ницше, который в одном из своих писем называет Бернайса «самым блистательным филологом будущего»23, «вобрал теорию Бернайса, растворив в своей собственной», чем даже, по‐видимому, дал тому повод жаловаться, что Ницше использовал его идеи, сильно их преувеличив24.
Идеал целостности и травма расколотости: отреагирование аффекта vs психоанализ
Похоже, именно медицинский аспект интерпретации Бернайса оказался ценным для двух венских неврологов. В 1895 году в свет вышла книга «Исследования истерии» — эту работу, которую иногда называют допсихоаналитической, Зигмунд Фрейд написал в соавторстве со своим старшим коллегой и наставником Йозефом Брейером. Здесь, в частности, излагались основы катартического метода, который изобрел Брейер, лечивший вначале 1880‐х годов свою знаменитую пациентку Анну О. Брейер обнаружил, что, когда Анна, пребывавшая по большей части в состоянии помрачения сознания с галлюцинациями и грезившая наяву, выговаривалась, рассказывая доктору во время вечернего сеанса гипноза свои накопившиеся за день фантазии, ей становилось легче. Эту процедуру она называла chimney sweeping (прочисткой дымохода) или же talking cure (лечение разговором)25. Выяснилось, что как только Анне удавалось припомнить обстоятельства возникновения того или иного из ее многочисленных симптомов (контрактуры, парезы, кашель, косоглазие, тремор, водобоязнь и т. д.) и выразить сопутствующие этим травматическим воспоминаниям чувства, симптом исчезал.
Мы не можем в точности сказать, были ли Брейер и Фрейд знакомы с трудом Бернайса на момент работы с пациентами и написания книги, но известно, что Брейер интересовался древнегреческой драмой и в 1896 году обсуждал идеи Бернайса в письме к филологу-классику Теодору Гомперцу26. А жена Фрейда Марта Бернайс приходилась Якобу Бернайсу родной племянницей.
В теоретической части книги Брейер, опираясь на теорию диссоциации, или недостаточности психического синтеза, предложенную Пьером Жане, объясняет, что у истериков психика «расщепляется» на сознательные комплексы представлений и бессознательные (подсознательные), которые в сознание не допускаются. Не допущенное в сознание аффективное представление невозможно «отреагировать» с помощью «нормального психического рефлекса»; вызванное им возбуждение не получает правильной разрядки и преобразуется путем «конверсии» (термин Фрейда) в соматический симптом (а зачастую и галлюцинации)27. «У наших пациентов, — поэтически пишет Брейер, — отколовшаяся часть психики была в “беспросветной мгле”, словно титаны, низвергнутые в жерло Этны, которые могут лишь сотрясать землю, но никогда не выберутся на свет»28. Благодаря катартическому методу пациенту под гипнозом удается постепенно вспомнить «отколовшиеся» представления и отреагировать связанные с ними аффекты: так происходит восстановление первоначальной целостности психики, и больной избавляется от своих обременительных симптомов. Это и впрямь очень напоминает бернайсовские «внутренние состояния», которые только и ждут, чтобы их выразили: здесь мы видим тот же идеал целостности, только у Бернайса он проявляется в грандиозных масштабах приобщения ко всему роду человеческому и самой силе жизни.
Описывая историю болезни Анны О. в «Исследованиях истерии», Брейер благоразумно умалчивает о драматической, на грани скандала, развязке этого случая. Много позже Фрейд поведал об этом своему биографу Эрнесту Джонсу. Брейер до такой степени был увлечен случаем Анны, что жена начала его ревновать к пациентке, и тогда он объявил Анне о завершении лечения, в то время, как она, казалось, шла на поправку. Но в тот же вечер его снова к ней вызвали. «Пациентка, которая, по его словам, представляла собой внесексуальное существо <…>, находилась теперь в родовых муках истерического рождения ребенка <…> завершения ложной истерической беременности, которая незаметно развивалась в ответ на оказание помощи Брейером»29. Шокированный Брейер, сумевший все‐таки успокоить пациентку, «выбежал из [ее] дома в холодном поту» и на другой день уехал с женой в Венецию (где и была зачата его дочь).
Так катартический метод, восстанавливающий по кусочкам «целостность» «расщепленной» психики, внезапно натыкается на какое‐то иное, по‐видимому, куда более радикальное, расщепление, которое противится воле и врача, и самой пациентки: что‐то «незаметно развивалось» в ответ на все терапевтические усилия — и это что‐то явно не лежит в области «подсознания», темного чулана, не освещенного «лампочкой Я»30 (в соответствии с жанетианской идеей «сужения поля сознания»).
Открыв принципы психоанализа (инфантильная сексуальность, бессознательное, первичное вытеснение, эдипов комплекс, кастрация, влечения, перенос и т. д.), Фрейд отходит от жанетианской «парадигмы диссоциации», которая «делает ставку на функцию синтеза, на “осознание” <…>, т. е. на эмоциональный опыт и на понятие самости»31 (самость как «высшее Я», «истинное», «творческое Я»— похоже, что‐то подобное имеет в виду Бернайс, когда рассуждает об экстатически-катартическом опыте приобщения к Urpathos). Но Фрейд говорит не о целостности психики, не о синтезе и не об интеграции отколовшихся частей, а о принципиальной расколотости субъекта. У Жане и Брейера сознательные и подсознательные комплексы структурно идентичны и образуют единое поле; у Фрейда сознание и бессознательное — абсолютно гетерогенные, чуждые друг другу системы, конфликтующие между собой.
Фрейд не довольствуется конкретными случайными травматическими событиями: он идет гораздо дальше и открывает травму «универсальную» — «травматическое столкновение субъекта с его собственным влечением»32. Это и есть первичное вытеснение, приводящее к возникновению бессознательного, которое не имеет ничего общего с природой и «инстинктами»: Фрейд «утверждает радикальный разрыв человеческого бытия и природы»33. Человеческая сексуальность — не инстинкт, а ответ на эту фундаментальную травму, как показывает не только фантазия Анны О., но и зеркальная травматическая реакция Брейера на ее фантазию.
Идеал целостности разбивается о невыразимое первовытесненное — то, что в «Толковании сновидений» (1899 / 1900) Фрейд назовет «пуповиной», пределом, где останавливается любая дешифровка сновидения или симптома; провал, дыра, вокруг которой сплетаются причудливые симптомы Анны и на краю которой возникает ее скандальная бессознательная фантазия о ребенке от Брейера, целящая в его собственное бессознательное желание и потому обращающая доктора в паническое бегство.
Бессознательное Фрейда — это не «подавленные аффекты» в «темном подвале большого здания»34, а вытесненные репрезентации (французский психиатр и психоаналитик Жак Лакан позднее назовет их, на языке лингвистической науки, означающими и скажет, что бессознательное структурировано как язык): вытеснение — это всегда одновременно и «возвращение вытесненного», т. е. что‐то продолжает говорить, помимо воли Я, на зашифрованном языке сновидений, симптомов, оговорок, острот, ошибочных действий.
Слезы Диониса
В ноябре 2019 года в Москву на фестиваль «Сезон Станиславского» был привезен спектакль Ромео Кастеллуччи «Лебединая песня D744»35. В интервью «Новой газете» Кастеллуччи в довольно‐таки загадочных выражениях предлагает нам ключ к пониманию его творения: «Тема этого цикла — небытие. <…> Актриса [Валери Древиль] показывает нам пропасть, открытую музыкой. Пропасть, которая зовет заглянуть в нее. Что это за пропасть? Я не могу вам сказать, но она связана со словом “бытие”»36 (курсив мой. — А. А.). И там же упоминается еще одно важнейшее, сквозное для многих текстов или интервью режиссера, высказывание: «В чем причина слез? Не сентиментальных: сантименты я ненавижу».
Черный пластик обтягивает шероховатости остова, ребра арматуры сцены Дворца на Яузе, превращая ее в космический провал вечной ночи, как на «Черных триптихах» Френсиса Бэкона. Из мрака луч прожектора выхватывает фрагменты силуэта — руки, ноги, лицо — певицы (Керстин Авемо), исполняющей песни Шуберта под аккомпанемент рояля: хрупкая фигурка, рассыпающаяся под давлением тьмы, как неумолимо расплываются бэконовские фигуры под напором смерти. В черных пластиковых мусорных мешках у Кастеллуччи обычно уволакивают со сцены мертвые тела-отбросы, как в зальцбургской «Саломее», гамбургских «Страстях по Матфею» или многосоставной драме «Tragedia Endogonidia». В финале спектакля этот неподатливый, мертвый материал сдернет на себя, укутываясь, как в саван, неистовая Валери Древиль, темный двойник эфирной Авемо.
Керстин Авемо с ее вечно детским, почти кукольным, лицом в пушистом ореоле светлых кудряшек — идеально точный выбор режиссера. Дитя как жертвенный агнец — или герой как козел отпущения — излюбленная его тема. Она поет через мучительные усилия, содрогаясь, рыдая, поворачивается к нам спиной, пытаясь как‐то совладать с собой, продолжает петь, уходя вглубь сцены, чтобы окончательно истаять во тьме. Крохотное человеческое существо, затерявшееся в беспредельности космоса, отделяется от своего голоса, бесплотной, медитативной, невыносимой красотой звучания, наполняющего огромный зал. Голос-объект отслаивается от смысла.
Кастеллуччи спутывает все карты, разрушает основы жанра. Вроде бы это типичный вокальный рецитал, и зрители даже пытаются хлопать между номерами, но быстро сникают в растерянности, а на внезапные рыдания певицы реагируют нервным смешком. Мы выбиты из колеи и уже не можем безмятежно и безопасно наслаждаться Прекрасным, предаваясь «сантиментам». Вместо этого нас сталкивают с каким‐то иным — по ту сторону слов, смыслов, утонченных переживаний — опытом. В «Жанне на костре»37, «Тангейзере», «Парцифале» в постановке Кастеллуччи на заднике или на надгробиях персонажей писались реальные имена исполнителей; здесь Керстин Авемо присутствует в качестве самой себя. Защитный покров сценической идентичности прорван живым телесным присутствием, вызывающим неловкость и беспокойство у зрителя: это не смысл, а, скорее, травмирующий факт загадочного, неуместного в своей безутешности страдания, с которым все труднее эмпатически отождествиться.
Катарсис ни в одном из разобранных выше значений этого понятия явно не работает в театре Кастеллуччи. Не возникает эффекта ни возвышенного очищения (ближайшие аналоги — «омовение слезами», «слезный дар»), ни разрядки, «отреагирования» аффекта, ни прояснения смысла происходящего, ни экстатического восторга. Брехт, противопоставлявший концепцию очуждения в «неаристотелевской драме» «психическому акту вживания зрителя в судьбы и переживания лиц, воспроизводимых на сцене актером»38, полагал, что это вживание и составляет содержание катарсиса в традиционном, «аристотелевском», смысле. Спектакль Кастеллуччи такому вживанию, как видим, всячески сопротивляется — но не дает и возникнуть критической дистанции, столь важной для Брехта, поскольку зритель у Кастеллуччи застигнут каким‐то иным переживанием, безымянным, дискомфортным, невыразимым, равно удаленным и от аристотелевского удовольствия, «безвредной радости», и от брехтовского сугубо рационального очуждения. Это не очуждение — это радикальная чуждость, порождающая тревогу.
Ницшеанские мотивы в творчестве Кастеллуччи бесспорны: для того и другого трагедия центральный жанр, оба сопрягают музыку с трагедией (к тому же Вагнер — один из тех композиторов, которым отдает предпочтение Кастеллуччи — постановщик опер). Древнегреческую трагедию Кастеллуччи считает одним из основных источников западной культуры в целом, ее «Полярной звездой»39: «Нет ничего более пронзительного, глубокого, черного и жестокого, чем греческая трагедия. Несмотря на это, именно в трагедии можно лучше всего прочувствовать, что такое человеческая жизнь»40. Центральный эпизод трагедии, ее смысловой центр, по Кастеллуччи, — это катастрофа, тело погибшего насильственной смертью героя, сакральной жертвы. Он немало работал с музыкальным театром: нетрудно заметить, что тут он отбирает сюжеты, связанные с сакральным, мистериальным, а также искупительным, жертвенным.
Ницше рассуждает о диалектике дионисического и аполлонического начал в трагедии, рожденной из музыки: музыка — это «непластическое искусство»41 дионисического опьянения, диссонанс, мощный ужасающий исступленный дифирамб; аполлоническое начало — это пластическая гармония форм, мир грез и сновидений, красота иллюзии, покрывало, накинутое над дионисической «бездной бытия»42 и уничтожения (пропасть бытия / небытия у Кастеллуччи).
Но в своем спектакле Кастеллуччи совершает обратный ход: не накидывает покров иллюзии, а беспощадно срывает его. Валери Древиль вылепляется из тьмы — черной тенью, изнанкой светлокудрой Авемо. Она иронично проговаривает слова последней песни, вослед исчезнувшей певице, передразнивает возвышенные жесты и позы, а затем, неожиданно по‐русски, выкрикивает нам в лицо: «Что вы тут делаете? На что вы смотрите? Чего вы хотите?». Время аполлонических изящных форм закончилось, начинается время дионисийского хаоса, избытка бытия. Древиль корчится на полу, исступленно сквернословя по‐французски, в лучших традициях театра жестокости, голосом безумного Арто из знаменитой радиопередачи «Покончить с Божьим судом». Вот он, дух дионисийской музыки. Вот они, слезы — перед лицом Реального, невыразимого, слезы Диониса, из которых возникли люди43. И завеса Прекрасного разодралась надвое в лебедином аполлоническом храме смыслов и аффектов: чудовищный скрежет сотрясает зал (обращая в бегство некоторых зрителей), а в ослепляющих вспышках стробоскопа на долю секунды мелькает жуткое — рогатая голова Валери Древиль, голова Диониса Загрея, рогатого бога, бога растерзанного. Когда все стихает, рядом с обессилевшей менадой Древиль лежит очень натуральная бычья голова.
Автор одной из рецензий на московские показы спектакля в попытке понять загадочное поведение рыдающей певицы предполагает, что речь идет об утрате ребенка (что, как кажется, подразумевается в одной из песен) — этим объясняется ее черный траурный наряд. И все бы хорошо, добавим мы, — вот только наряд на певице был… светло-серый.
Стремление найти смысл, объяснение, вполне естественно, так работает наше сознание. Вспомним здесь проясняющий катарсис и доставляемое им удовольствие. Наше желание, говорит Фрейд, часто находит себе галлюцинаторное удовлетворение (увидеть черное вместо серого) — например, в сновидении. Первая психическая деятельность младенца направлена на то, чтобы, вспоминая о первоначальном «восприятии <…> еды», воспроизвести «ситуацию прежнего удовлетворения»44. Это психическое движение и есть желание: если происходит «полное восстановление восприятия об ощущении удовлетворения», желание «превращается в галлюцинирование»45. Младенец галлюцинирует об отсутствующей груди — оральном объекте, одной из разновидностей утраченного объекта. Отсутствующий, утраченный объект — вот что является причиной нашего желания.
Фунт плоти
Фрейд не говорит о «сексуальном инстинкте» — он говорит о частичных влечениях, оральном, анальном и генитальном, аутоэротичных (находящих свой объект на собственном теле), циркулирующих в эрогенных зонах (рот, анус, гениталии)46. Лакан, провозгласивший лозунг «Назад к Фрейду!», опираясь на фрейдовскую концепцию влечений, подчеркивает структуру и функцию разреза, края (края телесных отверстий), добавляя к фрейдовским объектам (таким как сосок или экскременты) объект-взгляд (скопическое влечение) и объект- голос (аудиальное). Символическая операция, осуществляющая надрез, — это, конечно же, кастрация, благодаря которой происходит рождение субъекта, вхождение в мир запрета, языка, закона, культуры, смысла — одним словом, в мир символического Другого (не существующей в природе сокровищницы означающих). Но за это вхождение в мир Другого нужно, как говорит Лакан в своем «Десятом семинаре», расплатиться «фунтом плоти»47. Самое интимное в субъекте становится одновременно ему самым чуждым; его желание ориентировано отныне этой нехваткой, утраченным объектом — который Лакан назовет «объектом маленькое а» (так он поименован по контрасту с большим А — Другим (фр. A(a)utre). У «маленького другого» много обличий: это наш зеркальный двойник (излюбленный мотив у Гофмана, чьей новелле «Песочный человек» Фрейд посвятил свою знаменитую статью «Жуткое», опубликованную в 1919 году, — жутким оказывается обнаружившее себя скрытое, бывшее всегда рядом; в психозе нередко собственное зеркальное отображение переживается как чуждое; в гофмановском «Песочном человеке» такой жуткий объект — это глаза, которые грозятся вырвать герою, и волшебные глаза куклы, в которую он влюблен); это и блистательный идеализированный объект, который Лакан, вслед за Платоном, называет агальмой — в платоновском «Пире», подробно разбираемом Лаканом в семинаре «Перенос (1960–1961)», Алкивиад сравнивает Сократа с неказистой шкатулкой, содержащей внутри драгоценные изваяния богов (агальма); это и омерзительный объект-отброс, падаль, мертвечина (вспомним отцов Церкви, рассуждавших об отвратительном содержимом тела прекрасной женщины).
Объекты а — это пограничные зоны наслаждения (фр. jouissance), которые субъект должен уступить по закону кастрации; они циркулируют по краям тела, скрытые завесой Прекрасного, смысла, идеала. Влечения — не «биологические» инстинкты, а точки встречи тела-организма с Другим (мать ухаживает за телом ребенка, кормит, он слышит ее голос, на него направлен ее взгляд). Кастрация — это не только кастрация субъекта, но и Другого: всемогущего материнского Другого, объектом наслаждения которого до поры до времени является ребенок. Отцовский закон («отцовская метафора», Имя-Отца, как еще называет его Лакан) кладет этой власти конец: метафорой называется то, что замещает материнское наслаждение, т. е. устанавливает закон желания на месте произвола, того, что вне языка.
Наслаждение у Лакана предстает не только фрагментированным, в виде частичных объектов, но и (в другой «парадигме», по определению Ж.‐А. Миллера, одного из основателей Школы Фрейдова дела, издателя лакановских семинаров48) в виде «монолитной», «абсолютной», «невозможной» Вещи (das Ding). Ей посвящен лакановский седьмой семинар «Этика психоанализа»49. «Что значит Вещь? Это значит, что <…> истинное, влеченческое <…> не обнаруживается ни в воображаемом, ни в символическом, вещь вне всего просимволизированного, она принадлежит регистру реального»50. Вещь — это кантовский абсолютный моральный закон (который у Лакана отождествляется с абсолютным законом, представленным в сочинениях маркиза де Сада51) по ту сторону удовольствия, это запретный инцестуальный материнский объект. Наслаждение (jouissance), повторим еще раз, к удовольствию никакого отношения не имеет. Доступ к Вещи, полностью находящейся вне означающих, возможен только посредством трансгрессии: не случайно героиней своего семинара по этике Лакан избирает софокловскую Антигону, которая, неуклонно следуя этике своего героического желания, противоречащего нормам полиса, совершает прорыв к Вещи-смерти. Тотальная Вещь — это дыра,ужасная бездна; фрагментированные объекты а — это впадины эрогенных зон живого тела52; бытие перекрещивается с небытием — и то, и другое субъекту недоступно.
Субъект в лакановской терминологии — это субъект бессознательного: он не равен иллюзорно целостному «я», «личности», «индивидууму». Расколотый, расщепленный субъект связан с запретным для него наслаждением особыми отношениями, которые носят у Лакана название фантазма (бессознательный сценарий, организующий отношения человека с миром). Фантазм Лакан уподобляет завесе, вуали (такой, как покрывало, скрывающее статую Изиды в «Саисском изваянии» Шиллера) — вуаль скрывает объект а. Тревога возникает не там, где объект недоступен, а там, где этот объект внезапно появляется, разрывая завесу. Образуется зияние, в котором обнаруживается нечто жуткое: сквозь распахнутое окно семеро волков, расположившихся на ветвях дерева, неподвижным взором глядят на сновидца в детском сновидении русского пациента Фрейда, Человека‐с-волками (объект-взгляд)53. Завеса, вуаль — но она же и театральный занавес, поднятию которого предшествует «краткое мгновение тревоги»: «…без этого краткого, предваряющего театральное действо мига тревоги, ни трагическое, ни комическое на сцене не состоится»54.
Театр объектов
Мари-Элен Брусс, французский лакановский психоаналитик, с давних пор изучающая театр Ромео Кастеллуччи (лаканисты с огромным интересом следят за творчеством режиссера, организуют коллоквиумы с его участием, берут у него интервью для психоаналитических журналов; Кастеллуччи, в свою очередь, охотно идет на диалог, осведомлен о работах Лакана и использует его понятия; в текстах его постоянного драматурга Пьерсандры Ди Маттео — например, к постановке моцартовского «Дон Жуана», запланированной на лето 2020 года на Зальцбургском фестивале55 и перенесенной теперь в связи с пандемией коронавируса на 2021 год, — легко просматриваются лакановские концепты), считает, что театр Кастеллуччи ознаменовывает разрыв с «театром субъекта» — персонажа, героя — в том числе и театра беккетовского, и предлагает называть его «театром объектов»56. В опыте психоанализа субъект обнаруживает свои объекты влечения, объект(ы) а. В случае Кастеллуччи театральный опыт воздействует на зрителя аналогично тому, как психоанализ воздействует на анализанта. «В обоих случаях речь идет о появлении особых объектов, которые смешиваются с другими, “обычными” объектами, являющимися предметом желания и соперничества. <…> Через уникальные особенности своей речи, через разветвления свободных ассоциаций, долгим путем высказываний, порождающих фантазматические сценарии, которые разворачиваются во время анализа, субъект постепенно, шаг за шагом, приближается к своим [влеченческим] объектам, в то время как в театре Кастеллуччи, напротив, зритель мгновенно обнаруживает себя в присутствии этих объектов, возникающих на сцене»57.
В отличие от желанных обычных объектов объекты а радикально чужды нам, о чем «сигнализируют тревога или отвращение»58. В спектакле «Юлий Цезарь» по шекспировской пьесе «тучные, дряхлые или аноректические тела — это сама плоть, а не образ <…>, реальный загадочный объект вне смысла»59; камера медицинского эндоскопа в горле одного из актеров проецирует на экран движения его голосовых связок — объект-голос, непостижимый, вне маскирующих его речи и смысла, во всей своей тревожной чуждости. Как пишет еще одна исследовательница творчества Кастеллуччи, «зрители видят не только внутреннее устройство горла актера, но еще и другой образ: женские гениталии, о которых напоминает форма голосовых связок»60, — запретную Вещь. В постановке «О концепции лика Сына Божьего» таким объектом являются экскременты: на фоне гигантского образа Христа работы Антонелло да Мессина — совершенного образа Сына — сын ухаживает за дряхлым, немощным, выжившим из ума, ходящим под себя (О)отцом, обращая к нему реплики, не получающие никакого отклика. Экскременты выходят из‐под контроля, пачкая все вокруг: в конце концов анальный объект атакует идеальный образ, божественный лик Сына. Завеса Идеала разорвана, наступает «конец царства смысла»61. Оральный объект — молоко — присутствует в марсельском эпизоде «Трагедии Эндогонидии», «Саломее» (молоком заполняется круглый бассейн, углубление в сцене); в постановке моцартовской «Волшебной флейты» несколько женщин (непрофессиональные актрисы, кормящие матери) на сцене сцеживают молоко из груди. Аудиальный объект, обладающий свойствами тотальной Вещи, обнаруживается в «Жанне на костре» (сама онеггеровская музыка приобретает абсолютный характер галлюцинаторных голосов, которые слышит психотический герой — школьный уборщик, превращающийся в Жанну, спасительницу Франции); в финале спектакля «Человеческое использование человеческих существ» мощный непрерывный звук горлового пения не прекращается до последнего зрителя, у одних вызывая тревогу, а других вводя в желанный транс; в «Лебединой песне» страшный скрежет разрывает ткань Прекрасного, сотканную из шубертовских Lieder. Объект-отброс — тела в черных мусорных мешках, запах разложения тела мертвого Лазаря (настоящий аммиак в «Человеческом использовании»), устранение кровавых луж, которое производят (часто настоящие) клининговые компании, — постоянный мотив спектаклей Кастеллуччи.
В психиатрии есть понятие, хорошо известное благодаря кино, которое часто на этой теме спекулирует: ПТСР, посттравматическое стрессовое расстройство. Фрейд в работе «По ту сторону принципа удовольствия» 1920 года писал о военном неврозе у солдат, прошедших Первую мировую. Для ПТСР характерны, например, флешбэки — постоянно возвращающиеся, в виде ярких травмирующих картинок, воспоминания. Пациент не может ассимилировать навязчивый травматический опыт — дыру в ткани его бытия, что‐то бессмысленное. Лакан, в присущей ему каламбурной манере, изобретает словечко troumatisme (фр. trou, дыра, и traumatisme, травма) — его можно было бы перевести как дырявма. Травма — чистый факт, которому невозможно придать никакого смысла: именно такими травматическими фактами оперирует Кастеллуччи в своей поэтике. Добивается он этого, упраздняя метафору (вспомним отцовскую метафору по Лакану, вносящую упорядоченность и смысл в хаотический мир всемогущего материнского наслаждения). Один из самых ярких примеров такой «неметафорической» техники — «Страсти по Матфею», поставленные в гамбургском центре современного искусства в 2016 году, где каждая деталь сакрального повествования сопровождается демонстрацией реального, не символического опыта. Так, крови Христовой соответствует реальный образец крови, взятый у певца в партии Христа и подвергающийся анализу в настоящей лаборатории прямо на сцене; Тайной вечере — последнее меню покойного пациента гамбургского хосписа, а самоубийству Иуды — череп человека, повесившегося в лесу под Гамбургом. На сцене демонстрируется череда настоящих научных опытов: научное объективное чудо приходит на место божественной метафоры — с помощью дискурса науки срываются покровы идеала и красоты и обнажается сухой бесстрастный факт.
Центральный эпизод в «Волшебной флейте» — 5 слепых женщин и 5 мужчин с ужасными ожогами: реальные люди с реальными биографиями, которых режиссер выводит на сцену. Это и есть травма, неассимилируемый факт, дыра в бытии, в символической ткани жизни: дыра, вспарывающая ткань моцартовской оперы — галантной, легкомысленной, изящной, маскарадной, мистериальной, — и из этого разрыва выпадает тревожный объект: 10 людей с инвалидностями. Основание истины для Ромео Кастеллуччи — боль, страдание тела, патос: страдание реальное — оно ничего не говорит нам о «внутреннем мире» того, кто его переживает. Нам рассказывают о настоящем страдающем человеке все, но в фактологической манере — мы не можем с ним отождествиться, но мы видим его живое изувеченное тело, прикасаемся к нему, как Фома, который вкладывает персты в раны Христа.
Дыру, зону травмы, зону катастрофы Кастеллуччи обычно выделяет композиционно и визуально: как центральный эпизод и как дыру в буквальном смысле. Жанна срывает покрытие со сцены и роет прямо посреди сцены яму, которая потом станет ее могилой. В «Саломее» дыра посреди сцены — темница Иоканаана; в «Моисее и Аароне» — русло черной реки: персонажи погружаются в нее и выходят, покрытые черной смолой. Яма, черный центр, может быть представлена не в горизонтальной, а в вертикальной плоскости — в виде излюбленного образа у Кастеллуччи, черного диска. О своих спектаклях Кастеллуччи часто говорит: сцена — черное зеркало, оно ничего не отражает (т. е. мы не можем отразиться, психологически идентифицироваться), спектакль глядит на зрителя. Этот нечеловеческий, обратный взгляд, порождающий тревогу, репрезентирован черным диском. Но дыра может подаваться и по‐другому: как агальма, как свечение — которое очень быстро становится невыносимым, потому что божественное у Кастеллуччи смертоносно. Например, Грааль в «Парсифале» представлен как невыносимое тотальное белое мерцание-свечение, режущее глаза.
Una furtiva lagrima
М.‐Э. Брусс в статье «Условия для одной слезинки» описывает свой опыт посещения спектакля Кастеллуччи «Le Metope del Parthenone» («Фризы Парфенона»), который, по совпадению, показывался в Париже в ноябре 2015 года спустя всего 10 дней после терактов и по своему содержанию оказывался как бы зеркалом страшных событий. Кастеллуччи отметил это скорбное обстоятельство в своем обращении к зрителям, сказав в заключение: «Я ничего не могу поделать с тем неисцелимым, что являет собой театр». Спектакль игрался в огромном зале, без зрительских кресел, события происходили прямо среди зрителей, как бы на улице. Все шесть сцен-«фризов» — несчастные случаи разного происхождения. С другого конца зала приезжает настоящая машина «скорой»; всякий раз попытки спасти человека оказываются бесплодными, и он умирает с криками, стонами, хрипами, в конвульсиях. Медики накрывают тело и, оставив его на земле, уезжают.
«Все, что здесь представлено, — это события тела <…>. Они не репрезентированы, а именно представлены во всей своей будничности и тривиальности. Речь не о гиперреализме, а о точности изображения. <…> В бессловесной агонии шесть говорящих существ внезапно застигнуты смертью и успевают только испугаться, почувствовать, как уходит жизнь, как содрогается тело. <…> Никакого контекста: мы не знаем обстоятельств произошедшего. <…> Никакой речи. <…>. Никакого античного хора. Никакой художественной реальности, кроме той, что обеспечивается взглядом зрителя. Смерть как феномен тела, без того, кто несет ответственность, без свидетелей, вне Другого, вне смысла. <…> Социальная связь сведена к функциональности технологий реанимирования, которые всякий раз не срабатывают. Клининговые службы устраняют со сцены кровь и прочие объекты (объекты а <…>)»62.
Свидетельство М.‐Э. Брусс любопытно еще и тем, что она, рассказывая о себе в третьем лице, описывает себя как человека, который практически никогда не плачет и для которого причина слез, тем самым, всегда загадочна. На спектакле Кастеллуччи она, к большому для себя удивлению, внезапно чувствует, как у нее по щеке катится слеза. Эта слеза не принадлежит к регистру «сантиментов», идентификации с героями и т. п. «Слезы возникают из‐за утраты смысла. <…> Этот спектакль производит разрыв между реальностью и Реальным. Реальность представлена в самом минимальном, обедненном виде, и потому происходит прорыв Реального: этот эффект достигается внутри зрителя, а не в образе на сцене»63. Слезы — это слезы живого говорящего тела в присутствии мертвых, смерти, Реального, бессмыслицы. Это слезы зрителя на спектакле по глюковскому «Орфею» (брюссельский оперный театр La Monnaie), где действие оперы разворачивается на фоне огромного экрана: на нем показывают полностью парализованную реальную девушку Элс — Эвридику, безнадежно заточенную в Аиде собственного тела, которая в одном с нами времени в своей больничной палате слушает в наушниках кастеллуччиевскую постановку.
Абсолютный монарх
Ханс-Тис Леман определяет катарсис в «театре драмы», «классическом театральном представлении» как «попытку создать или укрепить через театр некую социальную связь, то есть общность, которая ментально и эмоционально соединяла бы вместе сцену и зал. “Катарсис” <…> установление аффективного “припоминания” и ощущения взаимосвязи благодаря чувствам (аффектам), предлагаемым через драму <…> [и] передающимся зрителям»64. Как неоднократно подчеркивает Лакан, аффект не вытесняется (в этом он следует Фрейду, который говорит, что вытесняться могут только «представления» — означающие, в терминологии Лакана, «на которых [аффект] крепится»65) — аффект всегда смещается, иными словами, обманывает66. Единственный аффект, несущий в себе «страшную уверенность», — это тревога: «Суть ее <…> состоит в следующем: она — то, что не обманывает, она вне сомнения»67.
Тревога — центральный аффект в театре Кастеллуччи, не связанный с катартическим удовольствием, чем бы оно не было вызвано — облегчением от «отреагированных» эмоций, отождествлением с героями, интеллектуальным прояснением, экстатическим единением в Urpathos; и даже явно не связанное с удовольствием переживание афинян, смотревших трагедию Фриниха, представляло собой коллективный аффект, социальную связь. Реальное, с которым Кастеллуччи сталкивает зрителя, — не всеобщее, сплачивающее, а интимное; не погружающее в иллюзию целостности, а раскалывающее субъект, оставляя его наедине с его собственным уникальным наслаждением, jouissance, тревогой. В интервью психоаналитическому журналу «La Cause Du Désir» режиссер говорит: «Тело, выброшенное на сцену, функционирует как синекдоха тела зрителя. <…> Тебе наносит визит твое собственное тело, которое приходит к тебе в неузнаваемом обличии, в образе твоей кожи. Отверстия на этой коже — твои отверстия, чтобы ты мог принять <…> то, что готово войти. Кожа, которая заново тебе была явлена, — это костюм. <…> [Это] открытие ужасающей уникальности моего тела. [Это] невозможная встреча: с самим собой, но не с отражением в зеркале, а через мерцающий образ кого‐то еще, — актера, — который заполняет собой мою кожу, проникает в меня, как завоеватель. <…> [Тело] не говорит. Оно исполняет роль немого. <…> Что такое тело зрителя? Это очень простой вопрос. Тело зрителя — это абсолютный монарх»68.
В чем смысл танца?
[движение]
Ирина Сироткина
В статье аргументируется тезис о том, что смысл танца не может быть выражен исключительно вербально, с помощью описания или нарратива. Если мы говорим в терминах семиотики, то смысл танца не сводится ни к денотату, ни к коннотату. Тело танцовщика в движении способно продуцировать, пользуясь выражением Ролана Барта, некий третий, открытый смысл. И хотя его трудно выразить, этот смысл хорошо ощутим. И хореограф, и исполнитель, и зритель танца переживают, по словам Барта, желание смысла, осознавая, что присутствуют при рождении чего‐то нового. Именно открытый смысл танца делает его искусством, способным, согласно философу Нельсону Гудмену, к «созданию миров». Статья завершается цитатами из «металога» Грегори Бейтсона «Что еще за лебедь?» — о том, что смысл танца для зрителя заключается в непрерывном превращении танцовщицы в лебедя и обратно.
Танец и нарратив
Если мы имеем в виду танец на сцене, то ответить на вопрос, в чем смысл танца, кажется несложным: танцуя, люди что‐то изображают, кого‐то представляют, следуют определенному либретто. Хотя танцовщики, как правило, на сцене рта не открывают69, традиционно танцевальный спектакль выстроен вокруг какого‐то сюжета и его легко превратить в рассказ — например, сказку о Спящей Красавице или трогательную историю о юной девушке по имени Жизель. Так, по крайней мере, обстояло дело в «драмбалете», который потому так и назван, что в нем разыгрывается драматический сюжет, повествуется история-нарратив.
Проблема возникает тогда, когда мы сталкиваемся с отношением к сюжету или нарративу в современном танце. Современные танцовщики скептически относятся к идее того, чтобы что‐то рассказывать, создавать «образы» и вообще своим искусством нечто «выражать». В этом едины и танцовщики с хореографами, и критики. «Нар-р-ратив» — мурлыкал танцовщик Балета Москва Константин Челкаев в импровизации с партнершей70, в том числе вербально давая понять, что актуальному танцу нарратив не нужен. Чем же не угодило повествование представителям современного танца?
Прежде всего, надо признать, что критика повествовательности в танце, как и в искусстве в целом, не нова. Уже во второй половине XIX века французские символисты заявили: в стихах есть столько поэзии, сколько там есть музыки, самого отвлеченного из искусств. «Все прочее — литература», презрительно бросил стихоплетам Поль Верлен71. Символисты не терпели повествовательности, реалистических деталей, бытовых сюжетов и стремились к обобщенным мотивам и чистым формам. Этот их посыл поддержали авангардисты и беспредметники. По словам Казимира Малевича, искусство требовалось освободить от канонов реализма — «от всего того содержания, в котором его держали тысячелетиями»72. Примерно в то же время Любовь Дмитриевна Менделеева-Блок, дочь химика, жена поэта и балетовед, возмущалась «наклонностью олитературивать все искусство». «Если все можно рассказать, — риторически вопрошала она, — то зачем тогда другие виды искусства?» Если уж с чем и сравнивать язык танца, считала дочь создателя периодической таблицы, то не с литературой, а с математикой: «Танец говорит по‐своему, облекая в геометрические формулы явления жизни. Его язык — отвлеченный и в то же время во много раз более конкретный, чем всякий другой <…> [Oн] “извлекает” какие‐то “корни” из ситуации, доводит ее до простоты и ясности формулы, которую и кладет в основу геометрии своих линий»73.
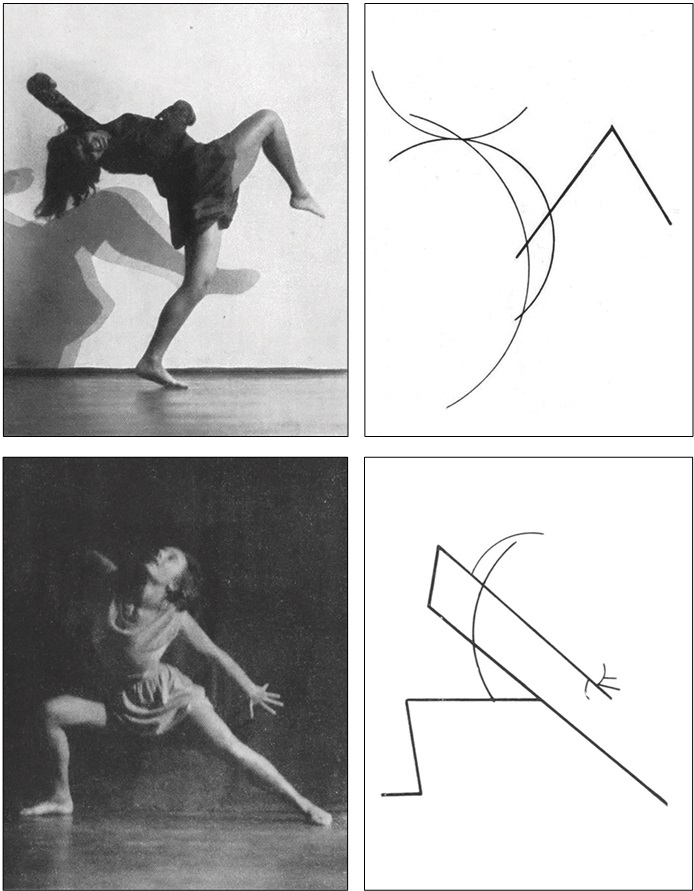
Аналитические рисунки В. В. Кандинского по фотографиям танцовщицы Грет Палукка. 1925. Фотограф Ш. Рудольф. Источник: Das Kunstblatt. 1926. März. S. 119–120
На смену литературности, драме и нарративу, в танец ХХ-го века пришла абстракция. Василий Кандинский в середине 1920‐х годов делал наброски с танцовщицы Греты Палукки, ученицы Рудольфа Лабана и Мэри Вигман. В одном из них ее фигурка в прыжке, с раскинутыми в стороны руками и ногами, образует висящую в воздухе геометрическую фигуру — пятиконечную звезду. «В танце все тело, а в новом танце — каждый палец очерчивает линии, вполне отчетливо выраженные… представляет собой линеарную композицию», — комментировал художник74.
В его собственной хореографии «Картинки с выставки» не было и намека на нарратив: в балете двигались абстрактные фигуры — одетые в геометрические костюмы исполнители. На этом принципе, утверждал Кандинский, будет построен новый танец, «единственное средство дать [движение] во времени и пространстве и использовать внутреннюю ценность движения»75.
Так оно и случилось: балеты одного из самых именитых хореографов ХХ века, Мистера Би (Джордж Баланчин), можно назвать «лирической геометрией», по аналогии с тем, как сказал когда‐то композитор Герберт Аймерт о додекафонной музыке Антона Веберна76. Впрочем, классический балетный экзерсис тоже можно воспринимать как «геометрию в движении». Как известно, Рудольф Лабан соорудил огромный икосаэдр-двадцатигранник, чтобы находящийся внутри танцовщик мог точно простраивать свои движения по линиям, углам и плоскостям. Алексей Сидоров в Хореологической лаборатории ГАХН вписывал движения пластического танца в геометрические фигуры — треугольник, круг, ромб77. Позже хореограф Уильям Форсайт положил геометрический подход (точки, линии, углы, поверхности) в основу своей системы движения и техники импровизации. Его «Технологии импровизации: инструмент для аналитического танцевального ума» используется для обучения профессиональных танцовщиков современного танца в Европе и США, а с некоторых пор — и у нас78.
Кроме геометрии, инструментом для освобождения танца от повествовательности стала музыка — искусство, тесно связанное с математикой и столь же абстрактное. Прежние балетмейстеры использовали дансантную музыку, которая, как и народная плясовая, предназначена для танца: в ней ясно, где делать шаг, где — прыжок, а где — поворот. Новые хореографы, напротив, брали музыку недансантную, для движения не предназначенную. Федор Лопухов, Бронислава Нижинская, Джордж Баланчин, — ставили балеты на симфонии Бетховена и Баха. Этот жанр получил название «танцсимфонии», или «симфобалета». Касьян Голейзовский, Лев Лукин и другие хореографы пластики создавали «этюды чистого танца» на музыку модернистов Александра Скрябина, Сергея Прокофьева, Николая Метнера. Новая музыка стала для многих хореографов моделью, лекалом, по которому возможно перекраивать танец. Она, по словам того же Аймерта, ликвидировала переживающее «я»: «Теперь нет ничего общего с афоризмами разочарованного вздыхателя, с очарованием мимозы, с придыханиями…». Музыка модернизма — это, прежде всего, форма, «не осадок экспрессионистических испарений, а скорее тонкость, играющая сила движущейся проволочной скульптуры»79. Все, что касается скульптурной формы, легко переводимо в танец.
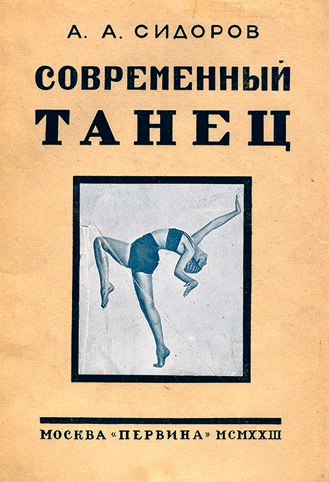
Обложка книги А. А. Сидорова «Современный танец» (1922). На фото — танцовщица и акробатка Александра Рудович
Как и предрекал Кандинский, танец в ХХ веке все больше превращался в абстрактное движение80. О том, что движение как таковое может стать художественным событием, говорили почти все современные хореографы. Мерс Каннингем и его партнер, композитор Джон Кейдж считали, что движение в музыке и танце организовано по другим, нежели описание последовательных событий, нелинейным законам. У Каннингема танцовщики симультанно исполняют самые разные движения, как бы копируя логику zapping — хаотичного переключения каналов телевидения (появившегося незадолго до этого). Если Марта Грэм, у которой Мерс начинал карьеру, была известна весьма экспрессивными, драматическими композициями, то сам он отказался от экспрессионизма и вообще от мысли в танце что‐либо «выражать». При наивной репрезентативности, попытке нечто «представить», считал он, танцу отводится второстепенная, служебная роль81. Вместо того, чтобы придумывать перипетии сюжета, хореограф придумывал новые, не существовавшие еще движения, связки и пространственные композиции.
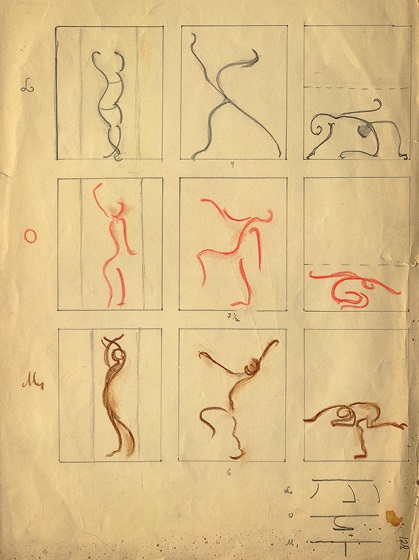
Зарисовки и нотация танца А. А. Сидоровым (конец 1920‐х гг.). Отдел рукописей Российской государственной библиотеки. Ф. 776 (Сидоров, Алексей Алексеевич), картон 4, ед. хран. 20
Лабан предложил анализировать танец вместе со всеми другими движениями человеческого тела, безотносительно к тому, что именно они выражают или репрезентируют. Оставив в стороне коммуникативную или репрезентативную сторону движения-жеста, он обратился к движению как феномену, описываемому с помощью самых общих категорий: время, пространство, вес. Движение становится художественным событием не из‐за причастности к повествованию, а в результате чисто физических характеристик — скорость, амплитуда, интенсивность, усилие… За этим, однако, стоял не материализм, а вера в единство макромира и микромира. Лабан разделял идеи теософии, представляя мир и тело человека как систему кристаллов. Его икосаэдр-двадцатигранник, внутри которого практиковал движения танцовщик, и был ничем иным, как масштабным кристаллом.

Зарисовки и нотация танца А. А. Сидоровым (конец 1920‐х гг.). Отдел рукописей Российской государственной библиотеки. Ф. 776 (Сидоров, Алексей Алексеевич), картон 4, ед. хран. 20
Ссылаясь на Лабана, философ Сьюзен Лангер назвала танец «игрой Сил, ставших благодаря ему зримыми» (слово «Силы» она писала с заглавной буквы, подчеркивая, что речь идет о чем‐то большем, чем мышечная работа)82. Иными словами, движение кажется порожденным чем‐то, находящимся вне самих исполнителей и за пределами обыденного зрения. Во всей своей полноте оно существует лишь для нашего творческого восприятия и воображения — как «чистая видимость силы», «виртуальная мощь». Когда мы смотрим танец, поясняла Лангер, то «видим не людей, бегающих по сцене, а сам танец — стремление в одну сторону, подтягивание к другой, сгущение здесь, рассеяние там; убегание, отдых, подъем, и так далее». Зрителю следует отказаться от стереотипов и штампов, оставшихся с эпохи классического балета, и научиться видеть в танце чистую динамику, воспринимать танец как «игру абстрактных сил, внеположных конкретным исполнителям»83.
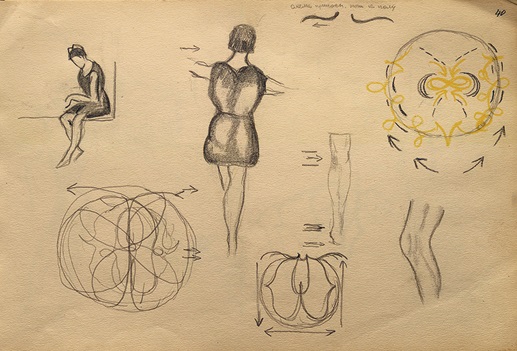
Зарисовки и нотация танца А. А. Сидоровым (конец 1920‐х гг.). Отдел рукописей Российской государственной библиотеки. Ф. 776 (Сидоров, Алексей Алексеевич), картон 4, ед. хран. 20
Возможно, это напомнит кому‐то нарратив — историю, происходящую не с реальными, а виртуальными персонажами, кинокадры или компьютерное изображение. Сами реформаторы танца пытались донести месседж о том, что танец не обязан ничего «выражать», «сообщать» или «представлять», ему достаточно быть «чистым движением», или даже просто «быть»84. Вспомним Маяковского, издевавшегося над реалистическими картинами передвижников — этими «верблюдами, вьючными животными для перевозки здравого смысла сюжета»85. В отличие от «здравого смысла» — значения клишированного, избитого — смысл поэзии самого Маяковского гораздо менее уловим и гораздо более рафинирован, захватывающ и свеж.
Движение, танец, жест
Но если не сюжет, не здравый смысл, не нарратив — то что? Заявив, что танец «просто есть», мы, как кажется, уходим от ответа на вопрос о смысле танца. Если танцевальное движение абстрактно, ничего не репрезентирует, не создает образов (в общепринятом значении этого слова) и не выражает эмоций, в чем же тогда его смысл?
Попробуем сначала определить, когда движение обладает значением и смыслом, и что такое вообще смысл.
В словаре художественных терминов, над которым трудился ГАХН86, статья о танце блистает своим отсутствием, зато имеются статьи «Движение» и «Жест». Правда, «движение» характеризуется как понятие изобразительного искусства (движение иллюзорное, изображаемое на картине, в скульптуре или архитектуре), а под «жестом» понимается движение человеческого тела, и именно такое, которое имеет «устойчивое смысловое значение»87. Иначе говоря, движение становится жестом тогда, когда обретает четкую форму и общепонятный смысл, который можно сообщить другим.
Вокруг понятия жеста во второй половине ХХ века сложилась целая научная дисциплина кинезика, или кинесика — семиотика невербального поведения, изучающая жесты как знаковую систему. В кинесике различаются (смысловое) сообщение и (невербальный, жестовый) код88. Минимальная единица жестового кода, соответствующая звуку и фонеме словесной речи, называется кине и кинемой соответственно. Кине — это мельчайший воспринимаемый элемент телодвижения, например поднимание и опускание бровей; это же движение, повторенное несколько раз как единый сигнал, за которым следует возвращение в (исходную) позицию 0, образует кинему. Так, кине «движение брови» и кине «покачивание головой» или «движение руки» могут объединяться в кинеморфему. Сочетания кинеморфем образуют сложные кинеморфические конструкции. Таким образом, структура жестового кода сравнима со структурой словесного дискурса, с его «звуками», «словами», «предложениями», «фразами» и даже «абзацами»89.
Среди жестов различают описательные, или иллюстративные (указывающие на определенное действие, предмет, содержание), экспрессивные, или выразительные (означающие внутреннее состояние, чувства, переживания и т. д.) и коммуникативные. Средневековые религиозные изображения и трактаты кодифицировали распространенные жесты и позы человека, выражающие целый набор аффектов — мольбу, созерцательное состояние, печаль, раскаяние, ликование, экстаз90. Эти и другие жесты, обладающие понятным для всех смыслом, вошли в театр и изобразительные искусства, чтобы окончательно превратиться в общепринятые выразительные жесты. На сцене, однако, коннотат жеста — его дополнительное значение — оказывается важнее денотата, т. е. его прямого значения91. Еще в XIX веке это понимал педагог сцендвижения Франсуа Дельсарт. «Не тот жест интересен, которым человек показывает, что хочет спать, — заметил он, — а тот, который выдает его сонливость»92. Даже такое обыденное, непроизвольное движение, как падение, может стать выразительным жестом, если совершается актером на сцене или в кино (в комедии «Бриллиантовая рука» герой подчеркнуто ловко поскальзывается на банановой кожуре и падает, с важными для себя последствиями: «Поскользнулся, упал, очнулся — гипс»). Из выразительных жестов формируется то, что называют пластическим текстом спектакля. Дени Дидро, например, считал, что в пьесах «есть целые сцены, где гораздо естественнее, чтобы персонажи двигались, а не говорили»93.
Танец тоже использует жесты: в классических балетах вроде «Жизели» или «Спящей красавицы» есть длинные сцены, когда артисты не танцуют, а изъясняются друг с другом жестами. В балетной пантомиме имеются жесты для выражения призыва, объяснения в любви, отказа… Но большинство танцевальных движений — не пантомимические, они не обязательно несут общепринятое значение и даже могут быть вообще еще не означенными. Эти движения могут быть мотивированы не только внешней формой, но и телесными ощущениями танцующего, мышечным чувством — кинестезией. Танцующий получает импульсы изнутри, ощущает схему тела, чувствует расположение его в пространстве, соотношение с другими партнерами, взаимодействует с музыкой и ритмом, укладываясь в точно отведенное время. Все эти умения приобретаются за долгие годы обучения: танцовщик постепенно вбирает самые разнообразные кинестетические ощущения в свое тело, и вместо «тела обыденного» у него формируется «тело танцевальное». А все его умения становятся материалом танцспектакля.
Спектакль современного танца не диктуется либретто и не может состоять исключительно из общепринятых жестов; как правило, это эксперимент по созданию новых движений и комбинаций, лаборатория новых приемов и форм. Балет тоже в свое время был такой лабораторией, но был рано кодифицирован, и все его па четко определены: позиции ног и рук, арабеск, аттитюд, пор‐де-бра… Внутри устойчивого репертуара движений балетные па приобрели устойчивое, легко считываемое значение, стали своего рода иероглифами. Тем, что балет столь систематизирован, он обязан частью своей популярности. Балетные па не только виртуозны, но и связаны между собой, образуя устойчивую сеть двигательных значений, подобно жестам.
Иное — современный танец (включая современный балет, поскольку граница между ними очень условна), отчасти возникший как экспериментальная площадка по исследованию движений и продолжающий оставаться таковой. Кстати, это одна из причин, почему внутри современного танца очень много различных направлений, ведь каждый крупный хореограф стремится создать собственный репертуар движений, свои технику и стиль. Понятно, что придумывать танец исключительно «в уме» невозможно, в этом процессе участвует все тренированное тело и не менее тренированный ум танцовщика. Танцующий проживает движения в непосредственном телесном опыте.
Более того, и зритель танца реагирует на движения не только как на визуальное представление для глаз, но и всем телом, кинестетически, вживаясь в движения танцующих. С помощью танцовщика-исполнителя, хореограф передает танец зрителю непосредственно, от тела к телу, минуя рацио. И потому смысл танца складывается не только на основе общепринятого языка движений, но и из внутренних, телесных ощущений и переживаний. Многие хореографы, танцовщики, критики считают, что танец — в глазах смотрящего (dance is in the eye of the beholder): современный танец возможен только как сотворчество со зрителем.
Третий смысл
Итак, смысл танца не предопределен заранее, искусство открыто для зрительского восприятия и переживания. Но вернемся к общим определениям. Слово — это означающее, и в его значении можно выделить означаемый объект (денотат) и дополнительный смысл (коннотат). Например, слово «лиса» имеет коннотации «хитрость», «коварство», «петух» — «задиристость», «ветер» — «непостоянство» (как «ветер в голове»). Коннотат иногда называют условным, переносным значением слова, в отличие от денотата, значения буквального. Но что будет означаемым — денотатом и коннотатом — в танце? Здесь все не столь однозначно. Возьмем дуэт «Sacred Monsters» («Священные чудовища»), который поставил хореограф и танцовщик Акрам Хан (и исполнил в паре с примой Сильви Гиллем). Дуэт танцовщиков с их красивыми, атлетическими телами и привлекательными лицами невозможно назвать «монстрами». Название работы — означающее — имеет коннотат, но не денотат (объект «монстры» в этой работе отсутствует). Еще сложнее определить денотат и коннотат в «абстрактных» балетах со столь же абстрактными названиями — например, «Кончерто барокко» Баланчина или «Chroma» Уэйна МакГрегора или же — в недавней хореографии Мехди Валерски (Нидерландский театр танца — NDT), которая хоть и называется «Garden», никакого «сада» не напоминает.
Здесь руку помощи нам протягивает французский семиотик Ролан Барт. Он ищет и находит, к примеру, в кинематографическом изображении некий открытый, или третий смысл. Этот смысл не может быть ни денотативным, ни коннотативным, поскольку эти опции уже заняты. «Открытый смысл, — пишет Барт, — это означающее без означаемого… [он] находится вне артикулированного языка»94. Таинственный и неуловимый, «третий смысл» Барта напоминает знаменитый послевоенный детектив «Третий человек» (The Third Man). Интрига в целом в том, что есть двое, и ни один из них не мог совершить преступление. Значит, должен быть третий человек, но их только двое, и т. д.
Барт предлагает несколько подходов к тому, что называет «третьим смыслом». Во-первых, этот смысл можно рассматривать «как некое ударение, форму самопроявления, подобие складки (ложной складки) на тяжелой скатерти информации и значений»95. Во-вторых, у третьего смысла есть нечто общее с «японским хокку, анафорическим жестом, который лишен значащего содержания, шрамом, рассекающим смысл (желание смысла)». Наконец, в «третьем смысле» больше желания осмысленности, чем чего‐то определенного. Он — сигнал личной заинтересованности смотрящего: складка на скатерти значений заломилась, потому что «мне это интересно». В «третьем смысле», отмечает Сергей Зенкин, легко распознать первую формулировку того, что Барт позднее назовет «punctum», — некая деталь или черточка, которая привлекает меня в хорошей фотографии, такое je ne sais quoi (я-не-знаю-что-именно). Чтобы точнее охарактеризовать этот странный смысл, Барт использует идею «бесполезной траты», которую до него высказал философ Жорж Батай: открытый смысл «принадлежит породе словесных игр, буффонад, бессмысленных трат», это «предмет роскоши, бессмысленная трата»96.
Все эти описания весьма подходят для танца. С утилитарной точки зрения, танец — бесполезная, нерациональная трата человеческой энергии и других ресурсов, не практическая необходимость, а роскошь существования. Даже в том случае, когда (как в абстрактном танце) ни денотат (общепринятое значение), ни коннотат (переносный смысл) не определены, танец, как правило, обладает смыслом как для танцующего, так и для смотрящего. Возможно, это только желание смысла, стремление придать предложенной ситуации смысл. Возможно также, что движущееся тело другого пробуждает в нашем собственном теле ощущения, которые осмысляются только впоследствии. Так, происходящий в танце выброс энергии может быть важен для нас как свидетельство интенсивности жизни, ее пробуждения.
Исполнение движения всегда производит особый опыт — внутреннее переживание движения, не сводящееся к тому, как это движение выглядит в зеркале или описывается словами. Кинестетический опыт, который производят движения, жесты, танец, интересен тем, что при этом могут возникать ощущения, которые еще не имеют маркировки97. В переживании нового движения, представляющем собой некое поле возможностей, и состоит наша открытость. Овладение новым движением в танце может вызвать совершенно новые ощущения и переживания, произвести в нас незапланированные изменения и создать новые смыслы или новые миры.
Искусство создания миров
В книге «Способы создания миров»98 американский философ Нельсон Гудмен задается вопросом, возможно ли произведение искусства, которое ничего не символизирует. Забегая вперед, скажем, что он считает такое невозможным, но для начала приводит тезис, который собирается критиковать. Тезис этот очень близок к тому, о чем говорили критики нарратива в танце. В применении к живописи тезис звучит так:
То, что картина символизирует, является внешним по отношению к ней, и чуждо картине как произведению искусства <…> Независимо от того, на что картина указывает или что представляет любым способом, откровенным или оккультным, это находится вне нее. Действительно имеет значение не отношение картины к чему‐либо еще, не то, что картина символизирует, а то,чем она является сама по себе, каковы ее собственные сущностные качества99.
И, уже в общем виде, про искусство в целом:
По-настоящему чистое искусство избегает всякой символизации, ни на что не указывает и должно приниматься только за то, чем оно является, в соответствии со своей собственной природой, а не за что‐нибудь, с чем оно связано таким отдаленным отношением как символизация100.
Вспомним, что про танец в начале тоже говорили, что он «ничего не означает, он просто есть». В 1960‐е годы эту мысль повторили постмодернисты, создатели концептуального танца. Хорошо известен «Нет-манифест» наиболее радикальной из них, Ивонн Райнер:
No to spectacle.
No to virtuosity.
No to transformations and magic and make-believe.
No to the glamour and transcendence of the star image.
No to the heroic.
No to the anti-heroic.
No to trash imagery.
No to involvement of performer or spectator.
No to style.
No to camp.
No to seduction of spectator by the wiles of the performer.
No to eccentricity.
No to moving or being moved101.
Идеи Райнер о том, что танец не является зрелищем вполне можно интерпретировать так, что он лишен символической функции, ничего не «означает», а просто «есть».
Однако возможно ли искусство без референции к чему‐то внешнему, без символической функции? Гудмен считает, что нет, и предлагает такой компромисс. Существует не один, а три способа символизации:
(1) произведение может нечто репрезентировать, или «представлять» (актер «представляет» Петрушку),
(2) оно может нечто «выражать» (сообщения, эмоции, символы и т. п.) и
(3) может «быть образцом чего‐то», нечто «экземплифицировать».
Так портновские образчики ткани, по которым клиент выбирает материю для костюма, представляют свойства всего отреза. Образец не представляет абсолютно всех свойств того, образцом чего является: маленький кусочек ткани с зазубренными краями экземплифицирует не все свойства материи, а лишь те, какие значимы для пошива костюма, — прежде всего, цвет и фактуру. Размер и форма (зубчатые края) самого образчика иррелевантны, значения не имеют.
Чтобы быть искусством, движения танцовщика не обязаны нечто «представлять» или «выражать». Абстрактная картина Кандинского или Мондриана ничего не говорит, ничего не обозначает, ничего не изображает и не является ни истинной, ни ложной, но многое показывает. Движения танцовщика, даже если они ничего не репрезентируют, все равно находятся в символическом поле. Поле это близко тому, что Барт назвал «третьим смыслом». Движения танцовщика могут находиться в ином, третьем отношении с искусством танца, — а именно, служить образцом, экземплифицировать. Например, быть образцом гибкого, легкого и ловкого тела. Нельзя сказать, что танец «представляет» легконогость, — он и есть легконогость. Как писала Сьюзен Зонтаг в эссе «Танцовщик и танец», посвященном выдающимся артистам балета, ее современникам: концентрация, с которой они танцуют, это — не условие перформанса, а его суть. «Великие танцовщики, превосходящие других, такие как Барышников (среди танцовщиц я бы упомянула Сюзанн Фарелл) проецируют состояние полного фокуса, тотальной концентрации, что — для актера, певца или музыканта — не просто необходимое условие для отличного перфоманса. Это и есть перформанс, самая его сердцевина»102. Но способно ли произведение, которое ничего не «представляет» и не «выражает», а только «экземплифицирует», выполнять главную функцию искусства — создавать новые миры? Гудмен делает предположение, что неописательные, ничего не репрезентирующие произведения служат образцами некоторых признаков, которые обычно остаются незамеченными или которыми пренебрегают. Картина может, например, выступить образцом не сразу замечаемых форм, цветов, или чувств. Таким путем произведения сосредотачивают на этих признаках наше внимание, стимулируют реорганизацию нашего обычного мира в соответствии с ними. Разные виды искусства могут вместе работать для достижения общего эффекта:
Поэма, картина и фортепьянная соната могут буквально и метафорически экземплифицировать одни и те же признаки, и любая из этих работ может таким образом иметь эффекты, выходящие за пределы ее собственной среды. После распространенного сегодня экспериментирования с комбинацией средств в исполнительских искусствах, совершенно ясно, что музыка воздействует на зрение, картины затрагивают слух, и оба влияют на движение танца и испытывают его воздействие. При создании мира все они глубоко проникают друг в друга103.
В неменьшей степени, чем науки, искусства способствуют открытию, созданию и расширению знания в широком смысле этого слова. Подобно тому, как науки вносят вклад в научную картину мира, искусства — это способы создания новых смысловых миров. И танец — один из таких способов.
Странные истории
Танцовщики и сами задумываются над тем, какую роль символизация, воображение и нарратив играют в их искусстве. В статье «Порождающая выдумка, или как танец может научить этике» Элис Шоша пишет об историях, которые могут рассказать танцовщики и их зрители. Эти истории — из чувственно-двигательной сферы и иногда для их создания и понимания приходится включать все возможности воображения исполнителя и зрителя. Они могут быть, например, такими:
биполярная вошь забирается на крокодила, возвращаясь с охоты с кружащейся головой
угол против этого, тебя охватывает отчаяние, но терпение, легкими стопами, делает тысячу приношений северо- востоку104.
Чтобы их воплотить, танцовщику требуется постоянно совершать усилие. Такие смыслы — внутренние и личные, обычно скрыты от получателя и предназначены для того, чтобы поддерживать у танцовщиков сознание автономии танца, а также его обращенности как вовне, к зрителям, так и вовнутрь, к самому танцующему.
Танец, считает автор статьи, всегда превосходит его понимание, и истории выдумываются таким образом, чтобы быть непонятными, трудно усвояемыми:
МАНИФЕСТ:
воздерживаться от того, чтобы выбирать форму или принцип
приостановить мораль
все хорошенько взболтать, но не настолько, чтобы спустить собак с цепи
ФУНКЦИЯ:
чувствовать свой твердый, важный шаг по направлению к «статуе/статусу красоты»105.
Намеренно неясные, темные истории призваны передать чувственный, невербализуемый опыт танца. Их цель — не «изображать» нечто, а трансформировать себя и свою способность восприятия. И если танцовщику удается убедить себя в истинности своей истории, превращение действительно происходит. «Странность» этих историй требует не понимания, а веры, или доверия к собственному телу и чувствам.
Танцовщикам, считает Шоша, следует принять, что они знают и контролируют далеко не все. В то же время, нужно сознавать: несмотря на крайнюю неоднозначность истории, в танце есть нечто, что может быть понято. Может, эта неоднозначность и есть его «открытость смысла», о которой говорит Барт? Или отказ от «представления» и «выражения», о котором пишет Гудмен?
Что останется от искусства, если мы откажемся «представлять» и «выражать»? — тайна, оставляющая место непризнанному, превращающая перформанс в чувственное умозрение. Для этого танцовщик должен предлагать другие решения, нежели контроль, рационализация и разделение на категории. Странные истории с открытым смыслом показывают: «танец — это симптом, эманация, превосходящая то, что мы можем познать: живое, динамичное и мотивированное вовлечение» 106.
Если бы Гудмен смог участвовать в этой виртуальной дискуссии, он бы сказал, что танец экземплифицирует, служит образцом всех этих прекрасных вещей. Танцовщик для нас — образец того, что такое «быть живым, сильным, полным энергии», «быть динамичным, вовлеченным, мотивированным». Танец, в особенности бессюжетный, абстрактный, — не выражение, не представление, а пример, прямой образчик «жизни», как многие из нас ее понимают. Говоря проще, танец и есть жизнь107.
Женщина или лебедь?
Один из самых популярных персонажей классического балета — лебедь. Когда мы видим балерину, исполняющую «Умирающего лебедя», у нас немедленно возникает щемящее чувство, ощущение чего‐то нежного, хрупкого, драгоценного. Этот номер на музыку Сен-Санса поставил для Анны Павловой Михаил Фокин, находившийся тогда под впечатлением от «импрессионистского» танца Дункан108. Возможно, импрессионизм в танце и заключается в том, что, глядя на танцовщицу, мы видим не женщину, а лебедя.
Однажды американский философ Грегори Бейтсон и его дочь сходили на балет, возможно «Лебединое озеро». Вернувшись домой, они стали обсуждать, кто же на самом деле танцовщица на сцене — женщина или лебедь? Не стану утверждать, что так все и было. Но Бейтсон оставил нам металог «Why a Swan»109. В нем беседуют Отец и Дочь, и обсуждают они вопрос о том, служит ли выражение «что‐то вроде лебедя» метафорой, или танцовщица на сцене в какой‐то мере становится лебедем. Возможно, Бейтсон спорит здесь с известным высказыванием Стефана Малларме: «танцовщица не есть танцующая женщина <…> она вообще не женщина, но метафора, воплощающая один из элементарных аспектов нашей формы — меч, чашу, цветок и т. д.»110.
Итак, Отец и Дочь обсуждают, можно ли назвать отношения понятий «танцовщица» и «лебедь» условными («лебедь» — метафора «танцовщицы», и наоборот) или же за ними стоит нечто большее?
О: Хорошо. Давай попробуем проанализировать, что значит «что‐то вроде». Давай возьмем отдельное высказывание и изучим его. Если я говорю: «Кукла Петрушка — это что‐то вроде человека», я формулирую отношения. <…>
Д: Хорошо, а что это за отношения?
О: Я не знаю. Может, метафорические отношения? <…>
А еще есть такие отношения, которые подчеркнуто не являются отношениями «что‐то вроде». Много людей пошло на казнь за утверждение, что хлеб и вино не являются «чем‐то вроде» плоти и крови Христа.
Д: Думаешь, это то же самое? Думаешь, балет о лебеде — это таинство (sacrament)? <…>
О: Думаю, что если бы мы смогли ясно сказать, чтó имеют в виду, когда утверждают: «хлеб и вино не являются “чем‐то вроде” плоти и крови Христа», то мы бы лучше поняли, что мы имеем в виду, когда говорим: «лебедь — это “что‐то вроде” человека или “балет — это таинство”»111.
Через некоторое время собеседники приходят к тому, что отношения между «танцовщицей» и «лебедем» в балете перерастают метафорические и переходят в субстанциональные. Бейтсону они напоминают римско-католическое понимание таинства Евхаристии как реального претворения, или пресуществления (Transsubstantiatio) ритуального вина и хлеба в кровь и плоть Христа. Таинств же еще никто в мире не смог объяснить и, тем более, не научился ими управлять, контролировать:
О: Предположим, я спрашиваю танцовщицу: «Скажите мне, мисс Z, танец, который вы исполняете, — это для вас таинство или просто метафора?» Предположим, что мне даже удастся сделать этот вопрос вразумительным. Вероятно, она отделается от меня, сказав: «Вы видели мой танец — вам и решать, таинство он для вас или нет». Или она может сказать: «Иногда да, а иногда нет». Или: «А вам самому как показалось?» Но в любом случае эта вещь ей не подконтрольна.
Я могу сказать только одно: таинство — это комбинация всех этих утверждений, а не какое‐то из них в отдельности. И «притворно быть чем‐то», и «притворно не быть чем‐то», и «быть чем‐то на самом деле» каким‐то образом сплавляются в единый смысл.
Д: Но нам следует держать их раздельно.
О: Да. Это и пытаются делать логики и ученые. Но балеты так не создаются. И таинства тоже112.
Балеты, как и таинства, не следуют рациональности, — по крайней мере, в том, что касается запрета логического противоречия: «нечто существует и не существует в одно и то же время».
Уже в нашем веке эту догадку Бейтсона поддержала теоретик театра Эрика Фишер-Лихте. В своих спектаклях, акциях, перформансах и инсталляциях, пишет она, художники создавали условия, позволявшие как актерам, так и зрителям осознать невозможность контролировать развитие событий. «В результате у них появлялось ощущение присутствия в мире чуда или, другими словами, осознание возможности собственного преображения»113. Одним их таких условий Фишер-Лихте считает отказ от мышления, основанного на принципе дихотомии «или — или» и замену его «системой понятий, допускающей многозначность»114. Иными словами, системой с открытым смыслом, какой и является танец.
Право на (не)участие: дистанция, вовлеченность и доверие в театральной коммуникации
[политика зрительства]
Галина Шматова
В современной театральной коммуникации зритель активен, как никогда прежде. Статью, проблематизирующую стратегии включения зрителя в спектакль как субъекта, разрушение границ между «действующими» и «наблюдающими» в театре, очень соблазнительно начать с такого тезиса. По мнению ряда исследователей, сценическое искусство после 70‐х годов XX века наиболее эффективно описывать через фигуру зрителя: зритель получил здесь новые права, место, статус.
После выхода на русском языке трудов немецких театроведов Х.‐Т. Лемана115 и Э. Фишер-Лихте116 подобное утверждение стало своего рода формулой российских дискуссий вокруг сценического искусства и перформативных практик. Чрезвычайно востребована концепция Х.‐Т. Лемана. Он анализирует состояние современного «постдраматического» театра, в первую очередь, как качественно новую коммуникативную ситуацию, акцентируя внимание на изменении в «работе» театральных знаков. Выделяя и фиксируя эти трансформации, Леман подробно описывает, как зритель спектакля, построенного по монтажному, коллажному принципу, наполненного недосказанностями, поливалентными элементами и «не-смыслами», настойчиво приглашается к интерпретационному сотрудничеству и оказывается со-творцом постановки.
Показательно, что новую активную роль зрителя маркирует в переводе работы Лемана часто повторяющиеся слова долженствования: зритель «должен», «необходимо», спектакль «требует». При этом тезис об ответственности зрителя соединяется с положениями о его свободе. Например: «В этом смысле, тревожащая нас стратегия (режиссерская — Г. Ш.) “отступления от тезиса смысла” означает по сути предложение создать общество разнородных уникальных (зрительских — Г. Ш.) воображений. Отдельные критики могут усмотреть в этом разве что социально опасную и художественно сомнительную тенденцию к волюнтаристскому и солипсистскому восприятию, однако вполне возможно, что такое временное “вытеснение” закономерностей формирования смысла предвещает собой вступление в куда более свободную сферу коммуникации и взаимообмена, которая окажется наследницей прежних утопий модернизма»117.
Далее (в описании такой важной для постдраматического театра категории, как одновременность разворачивающихся на сцене картин): «И если принцип единого драматического действия тут отброшен, то это сделано во имя попытки представить такой ряд событий, где есть место выбору и решению зрителей; зрители сами выбирают, в какие из одновременно представленных здесь событий они готовы быть вовлечены, хотя в то же время чувствуют явную фрустрацию, понимая весь куцый и ограниченный характер этой свободы… Решающим становится осознание того, что такой отказ от целостности — это не недостаток, но скорее освобождающая возможность постоянного переписывания, фантазирования и рекомбинации, которая сама отказывается от “ярости понимания” (по выражению Йохена Хериша)»118. В приведенном отрывке для меня значимо не только описание одного из самых мощных инструментов активизации зрителя — выбора, но и проблематизация «ограниченного характера» предоставляемой зрителю свободы: это один из центральных вопросов для моей статьи.
Важная идея другого авторитетного в европейском и российском пространстве немецкого теоретика театра Эрики Фишер-Лихте состоит в том, что на спектакль следует смотреть не как на произведение, а как на событие, встречу актеров и зрителей. Соответственно, исследовательница делает вывод, что именно к зрителям теперь приковано внимание, интерес — как режиссеров, задающих в своих проектах «правила игры», так и теоретиков, пытающихся эти новые «правила игры» концептуализировать и контекстуализировать.
Фишер-Лихте замечает: «Вместо произведения, существующего независимо от его создателя и реципиента, мы имеем дело с событием, в котором в различной степени, а также в разных функциях участвуют все присутствующие»119 (во втором случае курсив мой — Г. Ш.). И далее добавляет: «Вне зависимости от того, преобладает ли в спектакле игровой или экспериментальный момент, в центре внимания режиссеров снова и снова оказываются три фактора, тесно связанные между собой: 1) обмен ролями между актерами и зрителями; 2) создание между ними сообщества; 3) различные формы прикосновения друг к другу, то есть соотношение дистанции и близости, публичной и частной сферы, взгляда и телесного контакта»120.
Данная статья не оспаривает суть тезисов немецких теоретиков, получивших признание и применение, в том числе и в российском поле исследований театра, но все же написана с интенцией некоторого уточнения и переосмысления. Продуктивно ли поддерживать на уровне рефлексии о сценическом искусстве оппозицию между «пассивным» зрителем («традиционного» театра) и «активным» зрителем нового театра? Каковы преимущества и ограничения описанной оптики? Какими терминами мы можем определять в актуальных российских социокультурных условиях формы и градации вовлеченности зрителя? И как это связано с представлениями об иерархии в театральной коммуникации (и ее социальном контексте)? А также с представлениями о субъектности / объектности зрителя? Является ли предлагаемое зрителю (иногда — без предварительного объявления условий «договора») участие «роскошью», привилегией? И имеет ли зритель в современном театре право на отказ, не-участие, или интерактивность оказывается обязательной, отказ от нее несет за собой репутационные потери121? Если отказ от интеракций с актерами или другими участниками воспринимается и описывается в российском медийном контексте (включая социальные сети) как «отсталость», «замкнутость», «недостаточная продвинутость», то возможно ли описывать этот отказ в ином режиме?
Вывод об активизации зрителя в современном театре предполагает в качестве посылки тезис о том, что ранее зритель был пассивен. Или что параллельно существуют иные формы театра, в которых аудитория пассивна (коммерческий театр для «потребителей», «традиционный театр» как жесткое дисциплинарное пространство и т. д.). Однако подобная логика уже была поставлена под сомнение французским философом Жаком Рансьером. Рансьер в работе «Эмансипированный зритель»122 пишет о том, что пассивным зрителя «сделала» оптика режиссеров-авангардистов (здесь Рансьер вполне традиционно выделяет два главных полюса театрального авангарда: А. Арто и Б. Брехта).
Рансьер замечает: «Даже если драматург или режиссер-постановщик не знают, чего они хотят от зрителя, они знают, по крайней мере, что тот должен сделать одну вещь: преодолеть пропасть, отделяющую активность от пассивности. А что если мы поменяем местами условия задачи, спросив: разве не само желание устранить дистанцию создает ее? Что позволяет объявить бездеятельным сидящего на своем месте зрителя, как не заранее заданное коренное противопоставление между активным и пассивным? На каких основаниях отождествляют взгляд и пассивность…? На каких основаниях отождествляют вслушивание и пассивность, если не из предрассудка, что речь противоположна действию? Оппозиции смотреть / знать, видимость / реальность, активность / пассивность — нечто совсем иное, нежели логические оппозиции между четко определенными терминами»123.
Таким образом, сама идея о «пассивности» зрителя, наблюдающего за спектаклем со своего места в зрительном зале, представляется социокультурным конструктом, а не «объективной» реальностью театральной коммуникации. Важно, что в высказывании Рансьера не только отрицается тезис о пассивности зрителя, но и снимается четкость, однозначность ряда оппозиций. Этот ход мысли вписывается в рамки актуальной для поля теории современного театра тенденции к разрушению бинарных противопоставлений. Один из важных и показательных, на мой взгляд, примеров: Э. Фишер-Лихте в своей работе «Эстетика перформативности» выделяет несколько режимов (их, вероятно, можно было бы охарактеризовать как коммуникативные) существования актера на сцене: присутствие и репрезентация (означивание). Если сначала может показаться, что эти режимы представляются как антагонистические, то в ходе рассуждений Фишер-Лихте выстраивается более сложная система с переключением режимов, «мерцанием» и сомнением. Сама исследовательница выдвигает тезис о «дестабилизации бинарных оппозиций».
Развивая эту небинарную логику (и Рансьера, и Фишер-Лихте), ставящую под сомнение оппозиции, закономерно также задаться вопросом о том, что вкладывается в словосочетание «традиционный театр», когда он противопоставляется в теоретических конструкциях авангарду или новым формам сценического искусства («постдраматическому театру» или «театру после перфомативного поворота»). Для Фишер-Лихте «традиционный» европейский театр как комплексное явление, по всей видимости, складывается в эпоху классицизма. Она характеризует этот тип театра как «иллюзионистский»124 и, анализируя его, ссылается на европейские трактаты XVIII века (в первую очередь, Д. Дидро). Исследовательница выделяет значимые характеристики иллюзионистского театра как коммуникативной ситуации. Она предполагает обязательную дистанцию между актерами и зрителями (в том числе, пространственную), определенное отношение «феноменального» и «семиотического» тела актера (когда физическое присутствие актера скрыто за «телом» персонажа, созданного драматургом) и т. д. Таким образом, «традиционность» театра оказывается связана не с «объективной» исторической укорененностью, а скорее с определенным типом требований и ожиданий, которые сложились в пространстве взаимодействия актеров и зрителей и были в определенном роде «ратифицированы», приняты и признаны в европейской культуре, начиная с XVIII века.
При этом более древние и исторически устойчивые (длительные) формы театра, такие как представления в греческих полисах или средневековая мистерия, словом «традиционные» в текстах о театре, как правило, не определяются. В контексте нашей темы важно, что эти античные и средневековые театральные коммуникативные ситуации и пространства предполагали иные, по сравнению с иллюзионистским театром, стратегии взаимодействия со зрителем и включения его в действие. Например, зритель в греческом полисе, находясь в театре, не просто наблюдал пассивно за разыгрываемым представлением, но и пребывал одновременно в активной роли гражданина, участвующего в общественной жизни.
Как известно, в архаичных формах находили вдохновение и образцы деятели театрального авангарда начала XX века в борьбе с рутиной «традиции». Впрочем, значение этого слова весьма изменчиво. Не будет преувеличением сказать, что представления о «традиционном» театре, если мы рассмотрим такие коннотации этого эпитета, как «образцовый», «привычный» и даже «нормальный» / «правильный», быстро менялись в ХХ веке, особенно в советских социокультурных обстоятельствах. Так, «реалистический психологический театр», определяемый через К. С. Станиславского и его систему, из зоны поиска и эксперимента за несколько десятилетий начала XX века переходит в статус канонического и задающего рамки академической театральной «традиции».
Когда такие теоретики театра, как Леман и Фишер-Лихте, конструируют границы между разными типами театра (одной из важнейших таких границ оказывается разделение «традиционного» и современного театра), они представляют не «объективные» характеристики театра того или иного периода, но скорее работают с такими эфемерными и сложно уловимыми категориями, как система ожиданий и представлений о театре различных участников коммуникации. Если современные формы театра направлены на нарушение ожиданий зрителей, погружение их в ситуацию сомнения, выбора, неуверенности, то «традиционные», более комфортные для зрителя, вписываются в рамки зрительских представлений. Соответственно, эпитет «традиционный» в такой оптике можно заменить на «привычный», «ожидаемый», «соответствующий ожиданиям», «такой, о котором все мы негласно договорились». Ожидания и представления (как зрителей, так и создателей спектаклей) могут фиксироваться в разного рода трактатах (как в случае с упомянутыми ранее текстами XVIII века) и манифестах театральных деятелей. Однако зачастую они не артикулированы, но имплицитно включены в театральную коммуникацию. Описывать их — одна из интересных задач социологии театра, работающей с качественными методами исследований.
Таким образом, почти уже возведенный в статус априорного тезис о том, что зритель в современном театре активен и включен в коммуникацию как никогда ранее интенсивно, предполагает артикуляцию и прояснение ряда посылок. О том, чтó мы понимаем под современным и «традиционным» театром, какие вообще границы и противопоставления в этом поле для нас актуальны и на каких основаниях они построены? О том, действительно ли «пассивность» и «активность» — два противоположных состояния, и возможны ли какие‐либо состояния между ними или кроме них? О том, какие наши имплицитные ожидания и представления позволяют описывать театральную ситуацию именно так.
Важно фиксировать и анализировать тенденцию, в которой современный театр зачастую стремится не просто «показывать зрителю картинки» на сцене, но становится пространством отношений, в которых зрителю предлагается принять непосредственное участие. Без участия зрителя подобное событие не может полноценно состояться. Эта линия, связанная с разного рода активизацией зрителя и партиципацией, осмысляется не только в театре, но шире — в современном искусстве. Уместно вспомнить, какое большое влияние и поддержку (но также и критику) получила идея искусствоведа Николя Буррио о том, что современное искусство производит не объекты, а «отношения между людьми и миром через посредство эстетических объектов»125. Однако также важно рефлексивно проследить, как и почему вывод об активности и субъектности зрителя в современном театре (то, что доказывается в гуманитарных исследованиях) превратился на наших глазах в аргумент (то, к чему можно апеллировать как к «факту» актуальной театральной жизни).
Вернемся к приведенной выше цитате Ж. Рансьера. В контексте обозначенной проблематики статьи кажется плодотворным и перспективным обратить внимание на то, как Рансьер работает с представлением о «дистанции» в театральной коммуникации. Интересно, что это понятие Рансьер проблематизирует через яркую аналогию, казалось бы, далекую от театрального мира. Он вспоминает о концепции «невежественного учителя» французского педагога конца XVIII — начала XIX веков Жозефа Жакото.
Жакото обращает внимание на то, что в отношениях учителя и ученика ключевое значение имеет дистанция — между знанием первого и незнанием второго. И в этом заключается парадокс: учитель одновременно стремится преодолеть эту дистанцию — и воссоздать ее, иначе сама ситуация обучения будет разрушена. Рансьер пишет: «Это логика педагогического отношения: роль, возложенная на учителя, состоит в том, чтобы устранить дистанцию между своим знанием и незнанием невежды. Его уроки и упражнения нацелены на постепенное сокращение пропасти, разделяющей их. К сожалению, он может сократить расстояние лишь при условии его постоянного воссоздания. Чтобы заменить неведение знанием, он всегда должен идти на шаг впереди, снова помещать между собой и учеником новое незнание»126. Жакото предлагает пересмотреть описанную систему, вводя фигуру «невежественного учителя» и представление об ученике не как о невежде, но как о субъекте, способном к обучению и уже овладевшем многими навыками самостоятельно.
Однако не будем сейчас вдаваться в подробности педагогической идеи Жакото, для Рансьера она важна как параллель, позволяющая увидеть, как конструируется и поддерживается дистанция между создателями спектакля (они в данном случае ставятся в параллель с учителями) и зрителями (учениками). Аналогия позволяет увидеть двойственность и противоречивость ситуации, в которой театральные деятели авангарда стремятся устранить дистанцию между «активными» артистами и «пассивными» зрителями. Но само условие для такой активизации зрителя — в поддерживаемой базовой идее о существовании этой пропасти, отделяющей первых от вторых. Иначе говоря, проблематизировать и обострять проблему дистанции в каком‐то смысле выгодно деятелям театра, чтобы потом с ней яростно бороться.
Если несколько изменить угол оптики Раньсера, можно задаться вопросом о том, кто заинтересован в обозначении и снятии дистанции между актерами и зрителями: создатели спектакля или сама аудитория, которую не удовлетворяют прежние отношения с театром? И если принимать во внимание «интересы зрителя», для чего ему может быть нужно участие в спектакле? Как вопрос о дистанции выглядит из этой перспективы?
В рассуждениях о реконструируемых потребностях современного зрителя я хотела бы обратиться к двум актуальным концепциям, одна из которых (тезисы Нелли Боулз о роскоши) не затрагивает проблематику современного театра напрямую, а вторая (Клер Бишоп о партиципаторной культуре) не затрагивает именно в той своей части, которую я хотела бы использовать. Однако эти тексты, применяемые в анализе театральной коммуникации, позволяют актуализировать вопрос о театре в пространстве культуры — ключевой и заглавный вопрос лаборатории Theatrum Mundi.
На бытовом уровне, в интервью деятелей театра и высказываниях теоретиков сценического искусства циркулирует идея о том, что театр представляет возможность «живого» общения, контакта, в отличие от кино, например. В таком случае можно предположить, что возможность участия, взаимодействия и прямого контакта зрителей с артистами, включая физический, «прикосновение», о котором пишет Фишер-Лихте — это усиление «живости» театральной коммуникации. Феномен «живости», «liveness» в его эстетическом, социальном и политическом измерениях активно обсуждается в поле гуманитарных исследований, например, в диссертации М. О’Хары, обобщающей эти дискуссии на материале современного британского театра, в том числе иммерсивного127. В работе дается обзор подходов к пониманию «живости»: через темпоральность («здесь и сейчас»); через коллективное переживание, связанное с причастностью к сообществу, и через аффект, т. е. уровень вовлеченности отдельного зрителя, интенсивность индивидуального переживания.
Можно выдвинуть гипотезу о том, что в современном мире (который иногда характеризуется через тотальное медийное опосредование) «живость» театрального взаимодействия, связанная с физическим со-присутствием актеров и зрителей, оказывается и потребностью, и ценностью для последних. К таким выводам возможно прийти, в частности, если посмотреть на театр сквозь концепцию роскоши Нелли Боулз, журналистки и исследовательницы, занимающейся темой технологий и цифровой среды. Высказанные ею на страницах New York Times идеи вызвали большой медийный отклик, в том числе и в России. Боулз пишет: если когда‐то использование гаджетов было маркером богатства, то сегодня, в конце 2010‐х, ситуация ровно противоположна. Любые услуги (образовательные, медицинские и т. д.), на ее взгляд становятся дешевле, когда переводятся в цифровой формат. Соответственно, интернет-программы для изучения иностранного языка или онлайн-репетитор, консультация с врачом по Skype или покупка одежды в интернет-магазине — удел «бедных». Оффлайн общение и взаимодействия — роскошь, доступная не всем128.
Рассуждая о том, что «человеческие контакты — новый тип роскоши», Боулз делает акцент на экономической составляющей этого понятия, однако она также отмечает, что роскошь в данном случае — социокультурный конструкт, речь идет не только о цене, но и о ценности. Человеческие контакты — не просто показатель уровня дохода, это то, что определяется как «дорогое» в разных смыслах — важное. Театр как пространство «человеческого контакта», особенно театр, построенный на различных формах интерактивности, вовлеченности, может открывать доступ к этой «роскоши» для зрителя.
Не случайно в иммерсивных шоу (например, московское и петербургское шоу «Вернувшиеся» по мотивам пьесы Г. Ибсена «Привидения») есть несколько категорий билетов. Более дорогие предполагают гарантированную интеракцию с актерами: как сообщает сайт проекта, «Обладатель VIP-билета сможет увидеть расширенную версию шоу, получит гарантированный персональный театральный опыт с героями спектакля, ресторанное обслуживание в комфортной lounge-зоне и доступ к бару с напитками». Подобная ситуация заставляет задуматься о ряде сюжетов, в том числе, о том, как трансформируется субъектность актеров и зрителей при такого рода «покупке» («доступ» к актерам и физическому контакту с ними в каком‐то смысле приравнивается к доступу к бару).
Успешность этого маркетингового хода доказывает востребованность определенных форм включенности зрителя в театральное представление со стороны самой аудитории. Важно отметить, что противопоставление «живого» и медийно опосредованного в современном театре — не однозначная прямая оппозиция, здесь выстраиваются более сложные отношения (особенно если рассматривать понимание «живости» через понятия аффекта и вовлеченности). Однако для меня значимо, что концепция «человеческих контактов как роскоши» Боулз помогает штрихами наметить одну из линий, очерчивающих возможную потребность зрителя в усилении контакта в театральной коммуникации, то есть представить эту проблему из перспективы самого зрителя.
Вероятно, ни одно теоретическое исследование, посвященное участию зрителя в спектакле, не может обойтись без социально-политического контекста. Способы, стратегии построения контакта в театре в тот или иной период в различных регионах связаны с внетеатральным контекстом, с тем, в какие социальные отношения, горизонтальные и вертикальные, включены зрители вне рамок эстетической коммуникации.
Представляется значимым и перспективным, как об этом пишет историк искусства, художественный критик, профессор Городского университета Нью-Йорка Клер Бишоп в работе «Искусственный ад. Партиципаторное искусство и политика зрительства»129. Анализируя формы партиципации в искусстве (не только театральном и в первую очередь — не театральном) от авангарда до наших дней, Бишоп отдельно выделяет проблему «Социальное при социализме». Мне кажется очень важным рефлексивно относиться к тому, как актуальные театральные проекты, связанные с приглашением к участию или даже требованием участия, вписываются в контекст российского общества после социализма. Форматы этих спектаклей часто заимствованы или перенесены на российскую почву с той или иной степенью адаптированности. Но адаптировать, предсказать, заставить взаимодействовать по плану или схеме такой значимый элемент, как зрителя, с его культурной и социальной памятью, разумеется, невозможно: и в этом существенная проблема, которую хотелось бы обозначить в статье.
Бишоп выдвигает тезис о том, что если в обществе потребления партиципаторные художественные проекты второй половины XX века направлены на разрушение отчужденности и разобщенности, бунт против «общества спектакля»130, то в странах с социалистическим строем подключаются иные механизмы (при этом Бишоп упоминает, что, по мнению Ги Дебора, бюрократический коммунизм «не менее спектакулярен, чем его капиталистический вариант»131). Исследовательница анализирует творчество Ильи Кабакова, Андрея Монастырского и группы «Коллективные действия» («КД»), не затрагивая, собственно, позднесоветское театральное искусство. Однако представляется перспективным также взглянуть на партиципаторные практики в современном российском театре, в определенном смысле — постсоветском, сохраняющем память о советском.
Бишоп замечает о «неофициальном искусстве»: «…индивидуальные переживания, которые были целью партиципаторного искусства при коммунизме, оформлялись как разделенные личные переживания — как построение общего художественного пространства между доверяющими друг другу коллегами… Учитывая насыщенность повседневной жизни идеологией, художники рассматривали свои работы не как политические, а как экзистенциальные и аполитичные, связанные с идеями свободы и индивидуальной фантазии»132.
Таким образом, Бишоп акцентирует внимание на парадоксе: проекты, построенные на принципах соучастия, призваны удовлетворить потребность в автономии, индивидуальности и разделяемых, но личных переживаниях, в противоположность навязанной политическим строем коллективности. Необходимо уточнить: Бишоп говорит о потребностях художников, а не зрителей, однако в акциях «КД» само разделение на наблюдающих и организаторов, участие в акции устроено крайне сложно. Бишоп пишет о своего рода «инверсии»: «Монастырский позже объяснял, что на этом поле произошло не то, что они (организаторы) появились перед участниками, а то, что участники появились перед ними»133.
Важно, что Бишоп анализирует и описывает не только формы участия и разделения опыта у «КД», но и то, как в их акциях конструируется дистанция — по отношению к советской повседневности, вмешательству официального и государственного в частную жизнь, властным проявлениям в городском пространстве и т. д. Проблема дистанции, затронутая мной в связи с текстом «Эмансипированный зритель» Ж. Рансьера, снова оказывается актуальной в контексте партисипаторного искусства на советском и постсоветском пространствах.
Вероятно, в обществе принудительной коллективности потребность в дистанции является значимой, и искусство дает возможность ее реализовать — в том числе, и театр, который именно в части книги «Искусственный ад», посвященной странам соцлагеря, не оказывается в центре внимания Бишоп. Дистанция, режим не-включенности, традиционная позиция «зрителя-наблюдателя» здесь меняет коннотации — оказывается чем‐то искомым, редким, ценным (а не скомпрометированным, как у Ги Дебора). Дистанция связывается с пустым пространством свободы. Монастырский замечает (Бишоп приводит фрагмент неизданного интервью из архива ExitArt): «…в сталинскую и брежневскую эпоху рассмотрение художественного произведения подразумевало некоторое принуждение, своего рода ограниченность. На периферии ничего не было. Но когда человек выходит в поле, — более того, когда человек выходит туда без ощущения принуждения, по собственным частным причинам, — создается обширное гибкое пространство, где можно смотреть на что угодно»134.
Необходимо сделать пояснение: в данном случае в своих рассуждениях о «социальном при социализме» я в какой‐то мере уравниваю потребности, отрефлексированные и сформулированные художниками, с предполагаемыми имплицитными потребностями зрителя во включенности и дистанции в художественной коммуникации — на основании нахождения их в общем социальном контексте. Атакже принимая во внимание то, как сама позиция зрителя, наблюдателя была встроена в акции «КД». Однако подобный тезис может требовать в дальнейшем уточнения.
Приведенная выше цитата Монастырского с идеей свободного пространства, на первый взгляд, очень удачно рифмуется с тезисами некоторых современных европейских теоретиков и практиков театра. Например, вспомним тезис немецкого режиссера, композитора, художника, теоретика театра Хайнера Геббельса: «Мыслимая перспектива могла бы заключаться в том, чтобы в опере и драматическом театре открыть зрителям необходимое пространство и оставить его открытым, то есть не заполнять пространство зрительских ожиданий картинами однозначности, не занимать, не заклеивать. Последнее значит: недооценивать публику, опекать, учить — и редко чему‐то хорошему»135.
Однако мне представляется важным артикулировать различия в понимании свободного пространства между европейским — и советским и постсоветским контекстом. То, что звучит сходным образом, может проявлять нюансы, значимые для исследования вовлеченности зрителя в театральный спектакль и его право на участие и дистанцию. Вопрос о том, что является привилегией, — участие или не-участие, — таким образом, усложняется.
Авторы тех или иных радикальных перформативных проектов, намеренно помещающие зрителя в дискомфортную ситуацию, никак не ограничивают себя тем, насколько сконструированная ситуация, в которой зрителю предлагается стать участником, вступить в непосредственный контакт с перформерами, соответствует ожиданиям или потребностям зрителей. Скорее они решают некоторую общественную проблему, привлекают к ней внимание — даже осознанно идя на риск. Для современного российского театрального контекста острым оказывается вопрос о том, насколько эффективна стратегия привлечения внимания к теме насилия и бесправия в обществе путем конструирования ситуации насилия над зрителем, эмоционального и даже физического, в театральной коммуникации. Приводит ли повторение ситуации в художественном пространстве к тому остранению, обновлению взгляда, о котором писал Виктор Шкловский136 и которого, по‐видимому, добиваются создатели таких проектов?
Резонансным и показательным в этой связи оказался случай с «иммерсивным» спектаклем «Груз 300» (авторы проекта Саша Старость, Катрин Ненашева, Полина Андреевна, Олеся Гудкова, Артем Материнский и Стас Горевой). Во второй части спектакля зрителям вместе с перформерами предлагалось включиться в игру в «шавку»: одним по жребию выпадало отдавать приказания и командовать, другим — подчиняться. На одном из показов произошла драка зрителя с Катрин Ненашевой, после чего создатели проекта решили заключать со зрителями перед началом спектакля юридический договор. Как отмечает театровед Ильмира Болотян, совмещающая в своей статье позицию исследователя и зрителя, получившего персональный опыт: «После инцидента в Санкт-Петербурге создатели “Груза 300” решили ввести договоры или соглашения перед спектаклем, в которых зрители возьмут на себя ответственность за участие в спектакле. Теперь юридически. Такой шаг вряд ли вызван заботой о публике. Авторы не видят в зрительской травме что-то, о чем они должны думать, предупредить, оградить»137.
Современные художники не выдают зрителям гарантий и обязательств, и вряд ли возможно было бы их к этому призвать — они свободны выбирать свою эстетическую и этическую позицию. Равно как и зрители не обязаны участвовать в чем бы то ни было, хотя в обсуждении инцидента создатели спектакля «Груз 300» с некоторым авангардистским пафосом обязательного участия упрекали зрителей в невмешательстве. Однако важно, что необходимость формального юридического договора (пусть даже как эксцентрический художественный жест) заставляет проблематизировать категорию доверия. Обращением к ней я и хотела бы завершить свой теоретический очерк.
С понятием «доверия» в советском и постсоветском контексте сложно и интересно работают в поле социологии культуры Борис Дубин (один из важнейших гостей лаборатории Theatrum Mundi, выступивший с докладом о понятии театральность), Лев Гудков и Юрий Левада.
Лев Гудков посвятил проблеме доверия в современном российском обществе большую статью138. Опираясь на данные социологических опросов и интерпретируя их, он констатирует дефицит доверия: «…“неполное”, или частичное, доверие, точнее, смесь принудительного, вынужденного доверия с настороженностью и латентным недоверием является социальной доминантой практического поведения абсолютного большинства россиян в постсоветское время»139. При этом Гудков рассматривает разные типы доверия: «В России низкое межличностное доверие (“большинству людей доверять нельзя, к ним следует относиться с осторожностью”) коррелирует с низким уровнем признания индивидуальной ответственности, гражданской солидарности, недоверием к политике или общественной деятельности, отчуждением, дистанцированием от политики, негативным отношением к правительству и местной власти, депутатскому корпусу, сознанием собственной невозможности влиять на принятие решений властями разного уровня, а также неготовностью участвовать в общественных делах или в акциях, выходящих за рамки проблем повседневной жизни или партикуляристских связей (семья, родственники, друзья, коллеги, соседи)»140.
Подобная ситуация напряжения и недоверия, соединяющаяся с отчуждением и низкой социальной вовлеченностью, в значительной мере влияет и на театральную коммуникацию, и на тот негласный договор, который заключается в ней между перформерами и зрителями. Кажется, для российской ситуации это недоверие зрителей и создателей спектакля обоюдно, и оно предшествует встрече в пространстве театра. Подписание юридического договора перед показом в случае с проектом «Груз 300» возможно рассмотреть как признак такого недоверия, а не заботы о зрителе.
Важным кажется остановиться на том, как Гудков понимает доверие, какое определение он предлагает: «Исходя из сказанного, я определил бы “доверие” как социальное взаимодействие, ориентированное на высокую вероятность (шансы) того, что действия партнеров (а ими могут быть не только отдельные индивиды, но и социальные группы или институты) будут протекать в соответствии с ожидаемым субъектом действия порядком, основанным на взаимных моральных или ценностных обязательствах, принуждении, обычаях, традициях, социальных конвенциях, идейных убеждениях, материальных интересах, общепринятых или вменяемых всем членам сообщества антропологических представлениях»141. Таким образом, доверие предполагает разделение общих ценностей, не всегда артикулированных. Можно предположить, что в российских спектаклях, включающих элементы интерактивности, зритель не всегда рассматривается как партнер, а его ценности как будто нуждаются в корректировке: предполагается, например, как в случае с «Грузом 300», что зритель не разделяет абсолютной ценности прав человека, свободы и ненасильственных способов сосуществования в социуме — и его нужно «исправить». В таком случае описанная Гудковым ситуация дефицита доверия, а следом за ней — появление зон не разрешающихся, «немых» конфликтов, напряжения, реконструируется и в этой коммуникации, проявляясь в способах включенности, участия и дистанцирования зрителей и перформеров. Представляется, что именно категория доверия может быть наиболее продуктивна в анализе актуальной театральной российской коммуникации, потому что она позволяет проявить ее «слепые зоны», сбои коммуникации и невыраженные претензии ее участников.
Постановка индексальности, или Психо-инженеры на театре
[политика спектакля]
Павел Арсеньев
Экспозиция
Накануне и в первые годы революции театральная сцена представляет собой густо населенную и сложно устроенную композицию различных движений за реформирование театра142. Наиболее заметным общим стремлением дореволюционного театра является уход от языка, чреватого потенциалом различения и иерархии, и погружение в общинный мир музыки, из которой, как известно, родится трагедия. Попытка модернизма переориентировать театр с текста на жест, звук, пантомиму и танец станет, возможно, первым, почти рефлексорным движением к преодолению литературоцентризма и спецификации театрального медиума143.
Так, программа Всеволода Мейерхольда до революции примерно сводится к предпочтению темпа, импровизации, даже прихотливости на уровне телодвижения, которому должны подчиняться голосовые действия и, следовательно, текст. Если это можно считать победой над знаком144, то параллельно молодые авангардисты ставят «Победу над солнцем», которая осуществляется скорее под эгидой слова как такового. Говоря позже об искусстве как приеме, Шкловский будет называть определяющим мастерство трюков и импровизаций, а формализм в целом будет часто обращаться к театральной фразеологии. И наоборот: близкие к формализму режиссеры пользуются его лексиконом. Сергей Эйзенштейн говорит, что задача аттракциона — выводить из автоматизма145. Будь то для срывания всех и всяческих масок или просто ради перцептивного эффекта, пока всякая передозировка искусственностью может разворачиваться только на специально отведенной сцене. Революция же предоставит интеллигенции возможность значительного преодоления границ условности, из‐за чего ей в конечном счете придется отказаться и от собственных культурных привилегий.
Рождение трагедии из духа материального дефицита (1917–1920)
Кино может быть и станет главным из искусств, но несколько позже, а в эпоху военного коммунизма им оказывается уличный театр. В условиях материального дефицита приходится переориентироваться даже такой камерной практике как писательская: авторы чаще всего представляют свои произведения устно, то есть перформативно, что заставляет их все больше обращаться к малым и сценическим жанрам146. Часто, собственно, непонятно, выступают ли все новые возникающие театры на улице принципиально или из‐за разрухи и безработицы. Кроме прочего, оказываясь на улице, театр де факто становится бесплатным, чего, в свою очередь, добивалось движение за народный театр, в том числе чтобы разорить частные — они же буржуазные по репертуару.
В этой ситуации и начинает оформляться агитационный авангардный театр. Мейерхольд призывает к «театральному Октябрю», но уверен, что искусственностью поступаться агитационный момент не обязывает. Для этого часто берутся уже готовые пьесы и переписываются в более прямолинейном и менее многословном ключе, в них добавляются трюки и больше действия (как будет в одном из рассмотренных ниже примеров). Это позволяло театру еще оставаться экспериментальным и уже становиться народным. Этому противостоит разве что коммерческий театр — причем, не только своими буржуазными сюжетами, но и самой убаюкивающей формой147. Экспериментальный же театр не против буффонады и карикатуры (на буржуазию), но ему сложнее стать героическим и мистериальным, как того все чаще начинают требовать старые вагнерианцы Горький и Луначарский.
«Снова проиграть эту ситуацию»: эстетический штурм Зимнего или театр массового поражения (1920)
По мнению пролеткультовского активиста Керженцева, театр вырастает из самой преображенной революционной повседневности, и с этим согласились бы многие участники событий, включая Шкловского: «Главное отличие революционной жизни от обычной то, что теперь все ощущается. Жизнь стала искусством»148. Аналогичным образом как минимум эти двое сходились на том, что «становиться профессионалом окончательно не нужно»149, а будущий зритель должен будет говорить не «иду смотреть», а «иду участвовать в такой‐то пьесе»150.
Все эти витающие в воздухе интуиции сходятся в знаменитом «Взятии Зимнего дворца», поставленном Евреиновым на трехлетний юбилей революции151. Как и в случае уличного театра первых революционных лет, диалогов в таком театре быть слышно не могло, и интрига разворачивалась скорее пространственно, а не драматургически. Чтобы показать угнетенных реалистично, приглашались рабочие из драмкружков (собственно сами угнетенные), а для сатирического и гротескного изображения угнетателей уже требовались профессионалы (в чем также имелись некоторые биографические пересечения с играемыми ролями). Первые участвуют в массовых сценах без грима, а вторым достаются более выразительные и индивидуализированные роли (не лишенные элементов презираемой и обожаемой массовой культуры). Это позволяет сочетать симпатии любителей гротескного театра и мистериального, но иконоборческие тенденции первого вынуждены все больше уступать задачам утверждения нового статус-кво152. Чтобы «снова проиграть эту ситуацию» (как принято выражаться на театроведческих конференциях), революции приходилось сочетать два взаимоисключающих жанра — акт иконоборчества и миф об основании. К тому же трансгрессия импровизации никогда не обходилась без репетиции и иерархии. Массовый театр совпадает с годами Гражданской войны не из‐за напора энтузиазма, а из‐за технического обстоятельства: только в военных условиях можно мобилизовать необходимые человеческие и технические ресурсы153.
К 1921 начинается демобилизация больших военизированных коллективов, которые были условием возможности и причиной существования «театра массового поражения». Это заставляет уйти от гигантомании и соборности военного коммунизма, вернуться с улиц и площадей (которые еще недавно мыслились авангардистами как «наши кисти и палитры») — в аудитории и лаборатории, словом, специализироваться (а литературности — специфицироваться, как это назовут формалисты). Театр должен был теперь разворачиваться на заводских площадках (как в одном из анализируемых ниже случаев) и по возможности в закрытых помещениях, а театральные кружки — прикрепляться к месту работы или жительства.
Словом, с началом НЭПа культурная жизнь переживает нормализацию, многим начинает напоминать нормальную европейскую и даже приобретает деловые черты. Именно в этот момент на сцене и появляется Третьяков. В 1922 году он приезжает в Москву и начинает работать в Театре им. Мейерхольда, на сцене которого Всеволод Мейерхольд ставит его адаптации и пьесы собственного сочинения, а в Первом рабочем театре Пролеткульта его пьесы ставит С. М. Эйзенштейн.
Постановка индексальности, или Психо-инженеры на театре
В год своего последнего оригинального поэтического сборника154 и год спустя после подписания художниками ИНХУКа манифеста «производственного искусства»155, Третьяков оказывается в Москве и вскоре активно вовлекается в работу начавшего выходить ЛЕФа.
В его первом выпуске только что вернувшийся с Дальнего Востока поэт публикует наряду с финалом поэмы «17–19–21» статью «Откуда и куда? (перспективы футуризма)», в которой отмечает, что «в словесном искусстве производственная теория только намечена»156. Если свойства иконической изобразительности в искусстве были настолько потревожены резонансом политической и технической революций, что художники отказываются не только от репрезентации (через абстракцию), но и — что намного радикальнее — от холста (начиная с контррельефов) и идут к производству реальных вещей, то, вероятно, аналогичным образом должен быть снят и характер символического знака в литературе.
До сего же времени искусство, в частности словесное, развивалось в направлении показывания… Даже революцию художники ухитрились сделать только сюжетом для рассказывания, не задумываясь над тем, что должна революция реорганизовать в самом построении речи, в человеческих чувствованиях (197; курсив мой — П. А.).
Подразумеваемая Третьяковым трансформация литературного ремесла сдвигает внимание с «показывания» и «рассказывания» на «само построение речи», что уже было знакомо футуризму в особенности в формалистской его интерпретации157, но вот «реорганизация человеческих чувствований» отсылает скорее к пролетарскому монизму Богданова, усвоенному Арватовым, а через него и многими производственниками.
Еще одна конференция 1921 года была посвящена Научной организации труда и собрала людей искусства, инженеров и психофизиологов. Открывая ее, Александр Богданов ставит вопрос о стимулах, которые необходимо применять к русскому рабочему, не забывая не только о производительности, но и «максимальной радости от труда» (сравни слова Третьякова об искусстве, которое станет «радостным напряжением, пронизывающим производственные процессы» («Откуда и куда?», С. 199)). В этой ситуации, по выражению Третьякова, «рядом с человеком науки работник искусства должен стать психо-инженером, психо-конструктором» (202; курсив мой — П. А.).
«Груды согласных рвут гортань»
Собственные поэтические тексты Третьякова сочетают внимание к формальной стороне построения речи с утилитарной психо-инженерной задачей (ре)организации человеческих чувствований (тем самым, сочетая футуристическую с производственной программой). Как отмечает автор предисловия к поэтическому сборнику «Речевик»,
рыча и рявкая, груды согласных рвут гортань. Сплющенный словоряд они используют на все «сто процентов». Они бьют обухом не только по сознанию; они распирают голосовые связки; они превращают гортань в металлический рупор. <…> Мышцы гортани апеллируют непосредственно к мышцам рук, почти без участия сочетательных рефлексов158.
Это и можно назвать психо-инженерией: не столько значения слов бьют по сознанию, сколько согласные рвут гортань и превращают ее в техническое устройство усиления звука (рупор). Другими словами, человеческие чувствования перестраиваются не столько благодаря рефлексии, сколько — рефлексу и той артикуляционной задаче, которую получает гортань при чтении этой партитуры. Это все еще можно назвать «чистой физиологией», как определяет Винокур статус зауми на соседних страницах первого выпуска ЛЕФа159, однако помимо этого и в отличие от зауми, агитационная поэзия Третьякова задействует более широкую физиологию: теперь осуществляется прямая координация между мышцами гортани и мышцами рук160. Среди прочего это указывает на материальное бытование этих текстов:
Большинство строф из «Речевика» мы можем написать на плакатах, на знаменах, на фанерных досках. Взнесенные над толпой, колеблемые ветром — вот где их настоящее место. Поэтому так выпирают из книги эти энергичные речевые сигналы. Написанные аршинными буквами, они ждут только массового читателя, только коллективного декламатора161.
Плакаты, знамена и доски являются наиболее подходящими носителями этих букв, требующих аршинного шрифта и коллективного декламатора, вследствие этого получающих новый семиотический характер, о чем мы уже говорили выше. Как и индекс, сигнал является более непосредственным типом знака, чем лингвистический, и кроме того, о сигнале чаще говорят в случае технической коммуникации или биологических процессах (сигнал радио, сигнал сирены, сигнал тревоги).
Если для реализации производственной программы в литературе не годятся ни мимезис («показывание»), ни диегезис («рассказывание»), то для «построения речи и человеческих чувствований» остается драма162. Если дискредитированы икона и символ, то остается индекс163, которому сцена особенно располагает и который искали авангардные психотехники, отказавшиеся от «отражательства». Если визуальное искусство смогло отказаться от иконического миметизма и репрезентации в пользу утилитарности, нечто подобное должно было совершить и словесное искусство, откуда и получалось, что лучший выход для знака — на сцену, где среди других вещей, занесенных из реальной жизни, он и получал квази-индексальный характер164.
***
Чтобы заставить писателя отказаться от его обычной семиотической и жанро-родовой практики, его необходимо было лишить той материальной культуры, на которой эта практика основана. Его нужно оторвать от бумаги и письменного стола. Одной из первых попыток преодоления Третьяковым литературной автономии стал сдвиг от поэтического ремесленничества и выделки слова как такового в пользу действующего слова.
Начавший публиковаться как поэт-футурист в год «Воскрешения слова» (1913) Третьяков десять лет спустя находит в театральном диспозитиве возможность словесного воздействия на физически присутствующего и психически вовлекаемого зрителя (в отличие от читателя, который всегда может отложить книгу)165. Как и в случае поэтических речевых построений, которые сближались скорее с сигналами, или в случае будущей фактографии, которая будет отличаться от документализма, агит-театр Третьякова в отличие от обычных сценических эффектов опирается на научно рассчитанные психофизические параметры и, прежде всего, не ограничивается только письменным / акустическим означающим (которыми ограничиваются возможности поэзии, даже существующей на досках и распирающей гортань). С 1923 по 1926 год Третьяков испытывает возможности театра как практикующий психо-инженер, создавая четыре оригинальных пьесы и две адаптации, а также ставя их с Мейерхольдом и с Эйзенштейном166. Именно в ходе сотрудничества с Третьяковым и при постановке его пьес Сергей Эйзенштейн сформулирует свою программу «монтажа аттракционов», а Мейерхольд разовьет идеи «биомеханики»167.
«Реально ощутимые» речевые сигналы
Но прежде зрительных образов и телесных движений монтаж и механизацию переживает означающее. В театре Третьякова слово отрывается от страницы и перемещается в пространство театра не в абстрактном смысле, присущем любой драматической постановке, но в своей непосредственной материальности. Так, в начале каждого эпизода первого совместного проекта Третьякова и Мейерхольда «Земля дыбом»168 титры-заголовки появляются в качестве «световых агитплакатов» на экране над сценой. Там же в ходе представления появляются слоганы, взятые непосредственно из агитационных листовок, а также обширные цитаты из текущих политических выступлений. Уже здесь Третьяков наделяет документальный (текстовый) материал конструктивной функцией. Собственно, это не столько театральная пьеса, сколько «текстовый монтаж», как определяется жанр Третьяковым, то есть набор catchphrase, чей ритм появления определяется не интригой, а техническими медиа169.
Третьяков кладет в основу спектакля принцип агитплаката, что соответствует не только духу революционной фразеологии и медиалогии170, но и научному духу психофизиологических экспериментов, которые в Гарвардской лаборатории психотехники Мюнстерберг и Джеймс ставят над своей ассистенткой Гертрудой Стайн. Однако впервые в письменной культуре люди оказываются сведены к чистой функции распознавания знаков еще раньше — уже у Гельмгольца и Вундта, измерявших с помощью тахитоскопа минимальное время, необходимое для прочитывания фразы участниками эксперимента171. Формально-технические операции, проделываемые Третьяковым над оригинальным текстом, тоже примечательны — это сокращение его на 35 %, подчеркивание действия вместо характеров172 и замена диалогов «словами более близкими нам и реально ощутимыми173» (курсив мой — П. А.). Для усиления реальной ощутимости слов, этой научно переформулированной задачи их «воскрешения», применяются уже не внутренние и формальные восстановительные процедуры, а внешнее шоковое воздействие174: проецируемый текст дополняется «монтажом речи». Подобные эффекты основаны не на эмоциональном воздействии содержания или чисто фонетической выразительности формы, но на энергичных звуковых жестах, «речевой сигнализации» и «семафорической речи»:
4. В основу ритмической обработки фразы положены наиболее действенно-выразительные ритмические фигуры, кристаллизуемые из примеров обычного фразоупотребления.
5. В основу подачи текста положено не переживание, а учет изобразительно-агитационного эффекта.
6. Проработка артикуляционного эффекта выразительных по своему звукосоставу слов в качестве слов-жестов.
7. Подход к принципу «речевой маски», то есть нахождения для каждой речи некоторых устойчивых положений речеаппарата, дающих устойчивую тембральную и артикуляционную окраску речи175 (курсив мой — П. А.).
Это все еще слово как таковое, но уже на театральной сцене и на службе у революционной агитации. Поэтому и приемы непосредственного воздействия по‐прежнему подразумевают психофизиологическую основу, но к ним начинает примешиваться кое‐что новое.
Несомненно тезис о «трудоустройстве» «безработной негативности» зауми в агит-театре вызовет негодование поклонника дистиллированного авангарда, однако неизвестно, что в этом словосочетании — агит или театр — оказывалось более сильным преобразователем слова как такового в его прагматике и материальности. Как уже было сказано выше, Третьяков добивается психо-технических эффектов исключительно средствами «текстового и вербального монтажа». Однако некий добавочный эффект вероятно могли производить и сами тексты, будучи непосредственно заимствованы с агитационных плакатов и политических речей. Речь, впрочем, не об их «идейном содержании» (ко всякой идейности содержания176 и внутренним переживаниям психо-инженеры относятся снисходительно177), а о более косвенном эффекте институциональной рамки. Наряду с психофизиологией восприятия и биомеханикой движения, заимствование слоганов, приводившее к совмещению рамок театра и реальной политической жизни, тоже немало способствовало «реальной ощутимости». «Психику будоражило» не только точно рассчитанное экспрессивно-агитационное воздействие, но и прямое заимствование материала из повседневности178.
Мейерхольд призывает к тому, чтобы искусство больше брало от реальности без художественных искажений, и это можно счесть за абстрактный призыв к некому реализму, но в ответ на это Любовь Попова заполняет сцену объектами, взятыми из реальной повседневности — мотоциклами, машинами и даже краном. Другими словами, такой же, как и в случае документального текстового материала, характер получают целые фрагменты реальности, имплантируемые из жизни на сцену. Они не избавлены от семиотической рамки театра как такового, но при этом не нуждаются в дескрипции и избегают литературной идиоматизации, то есть являются чем‐то вроде индексальных знаков реальности179. Опять же по аналогии с заумью, которая схватывала сонорную реальность в обход понятийных автоматизмов, агитационный театр монтирует сцену из реальных повседневных объектов, «сбрасывающих с себя старые имена» (Шкловский), то есть подрывающих монополию литературного описания и символического типа знака. Для одной и той же задачи слову приходится стать как таковым, а предметам оставаться самими собой. Это восстание вещей, возглавленное футуристом, который рассчитывает, что индексальный материал сломит инерцию литературного жанра драмы.
Элементы «игры» в остром запахе газа
На инкрустации отдельных вещей дело не останавливается, и уже следующая пьеса Третьякова «Противогазы»180 не только основана на документальном материале, но и сама ставится Эйзенштейном на реальной газовой фабрике в Москве в феврале 1924181. Вместо вкрапления объектов на сцену здесь уже скорее сама сцена интегрируется в реальные производственные условия: их конечно можно все еще рассматривать как декорации, но только в случае, если считать, что диспозитив театра сильнее такого производственного сдвига. Впрочем, восприимчивость к рамке театра — субъективная переменная, поэтому мнения публики расходятся: по мнению искушенных театралов, «материальность обстановки завода особенно наглядно подчеркнула трудносовместимую с нею театральную природу пьесы»182, тогда как пролетарская аудитория высказывала неудовольствие не избыточной театральностью, но, напротив, тем, что спектакль приходится смотреть в окружении, болезненно напоминающем знакомую им рабочую обстановку. Тогда как рабочие хотели «волшебного фонаря для отдыха», поскольку им хватало индустриальной реальности в жизни, творческие специалисты даже в реальной среде промышленного предприятия подозревали слишком много «театральщины»183.
Однако в ситуации конкуренции фреймов театрального и индустриального производства184, — всегда в конечном счете субъективно-семиотической переменной, — на подмогу «реальной ощутимости» приходила материальность воздействия по ту сторону «свободы интерпретаций». Саунд-дизайном служили реальные шумы и сигналы фабрики185, а окончание постановки совпадало с началом следующей заводской смены, что и на уровне восприятия времени, а не только конвенции пространства, смещало ожидания зрителя: театр заканчивался не вешалкой, а гудком ночной смены. Как отмечает Эйзенштейн, соотношение между фикцией и фактом было не в пользу первой:
…Материальный факт заводского интерьера ни на какие соглашения с театральной фикцией не шел. <…> линия фактического материала реальности внутри театральной фикции возгорается новым увлечением. Забирает все целиком в свои руки <…> Нелепыми казались элементы «игры» среди реальности окружения и в остром запахе газа186.
Если чужеродные объекты материальной культуры театр еще может рассчитывать кооптировать, включить их в свою семиотическую рамку, то при столкновении элементов вымысла («игры») с материальностью запаха (газа), последняя явно оказывалась сильнее и выходила за пределы «художественного воздействия», а психо-инженерия уточняла свое значение как техника воздействия не столько на «эстетическое чувство», но и на чувства как таковые — в том числе и чувство самосохранения187. В общем, зрителям спектакля тоже не помешали бы противогазы188.
При желании можно условно разделить методы Мейерхольда и Эйзенштейна как основанные на эффекте включения индексального материала и скорее на (психо) физическом воздействии аттракционов соответственно, но в действительности оба эти способа «производства реальности» в драматургии Третьякова переплетались и взаимодействовали. Присутствие реальных материальных объектов зачастую и приводило к реальному (психо) физическому риску. Несмотря на то, что в этой пьесе Третьякова, поставленной Эйзенштейном, — в то время режиссером Рабочего театра Пролеткульта, — принято видеть отход от формальных экспериментов над психофизиологией восприятия в пользу «активации аудитории посредством манипуляции классовым сознанием»189, в действительности несложно заметить, что для манипуляции сознанием приходится прибегать к ольфакторной физиологии.
Этот «драматургический эксперимент» сдвигал театр к его пределам и заставил Эйзенштейна вскоре перейти к медиуму кино190. Поворотным он оказывается и для Третьякова, который, критически оценивая опыт своей работы над постановкой, называет «Противогазы» «опорным пунктом» в переходе от представления человеческих типов к «построению стандартов»191. Стандарты создаются не столько для театральной сцены, сколько для научно-технических предприятий и индустриальной культуры в целом. По мнению медиолога Р. Дебре, в этом даже состоит главное отличие технических объектов от культурных: первые стремятся к унификации и конвергенции стандартов, вторые — к уникализации и дивергенции кодов192. Однако в среде ЛЕФа именно понятие производственных стандартов оказывается одним из ключевых в переходе от фактуры к фактографии193.
Существенно также, что в данном случае будущий идеолог движения рабкоров оказывался не только автором пьесы, одним из «документальных персонажей» которой был типичный рабочий корреспондент (Дудин)194, но и адресатом критики реального рабкора, посетившего постановку195: в рецензии порицались слабо мотивированные сюжетом биомеханические движения и цирковые трюки196. Наконец, после нескольких представлений администрация фабрики сворачивает театральное производство, осознав насколько оно мешает главному. Искусство позднего футуризма и раннего ЛЕФа все еще скорее деавтоматизирует производство, чем создает стандарты.
Анатомический театр для «иллюзорного любовника»
В отличие от этой «экспериментальной мелодрамы в трех актах»197 последняя написанная Третьяковым «производственная пьеса в десяти сценах», вдохновившая на репетиции Брехта и Мейерхольда, но так и не поставленная ни в Германии (при жизни автора), ни в Советском союзе, — представляла собой уже работу не психо-инженерии, но био-инженерии. «Хочу ребенка!» не только в качестве своего сюжета имела рождение здорового советского ребенка, но и своей прагматической установкой имела «дать не столько какой‐то единый рецептурный исход, сколько <…> вызвать здоровую общественную дискуссию»198. Такое возвращение к медицинской фразеологии подсказывает, что театр, не забывая о самообращенности, перестает ограничиваться психо-физиологическими экспериментами над своей аудиторией и снова обращает стетоскоп вовне — к общественным фактам. Воздействие тогда уже оказывается не только на зрителя спектакля в ограниченное время представления и в пространстве театра, но затрагивает болезненные вопросы гражданской повседневности за его пределами.
Однако как и перенос текста со страницы на сцену (в «Земле дыбом») подразумевал собой буквальную транспозицию, так же и «общественная дискуссия» должна была осуществляться непосредственно во время спектакля, а ее участники из числа зрителей помещались на самой сцене. Именно о таком театре зритель должен был говорить не «иду смотреть, а иду участвовать в такой‐то пьесе», как мечтали многие до- и пореволюционные реформаторы театра. Другими словами, драматургия Третьякова наследовала формалистскому принципу «продления восприятия вещи» на новый лад и в новых социальных условиях:
Я продолжаю зрительный зал на сцену. Места на сцене мы будем продавать <…> Действие будет прерываться для дискуссии <…> Пусть Третьяков выходит иногда из партера, говорит актеру: «Вы не так произносите», — и сам произносит ту или иную реплику199.
Такое формальное изобретение, предлагавшееся еще Людвигом Тиком и по‐своему реализованное в будущем в «эпическом театре» Брехта, оказывалось одновременно и нетривиальным социальным событием, и потому требовало не только текстов, но и специальной материальной организации пространства. Для постановки «Хочу ребенка» Эль Лисицкий разрабатывает подробный проект вещественного оформления, исходя из задачи «спектакля-дискуссии»200.
Пьеса «Хочу ребенка!» представляет собой перелом еще и в том отношении, что в нем Третьяков больше не настаивает на агитации искусством отдельных чувств и целиком переходит к организации общественной дискуссии на театральной сцене, поскольку считает задачу «выковки нового советского человека» выполненной201. В этой новой ситуации производственник должен переключиться на предъявление действительных материалов для информирования публики (что несомненно предвосхищает переход к газетной фактографии).
Строительству нового мира нужны физически полноценные и идейно здоровые кадры. А потому в равной мере преступно и «затрачивать половую энергию впустую», и рожать детей от случайных, избранных по капризу любви, мужчин. <…> Любовь, согласно этой программе, в принципе не отменялась, но откладывалась до лучших времен. <…> Соответственно указанной программе и устраивала свою личную жизнь героиня пьесы, молодая коммунистка латышка Милда Григнау, <…> забеременев, решительно отказывалась от дальнейших услуг избранника: дело сделано, пустые затраты «сексуальной энергии» ни к чему202 (курсив мой — П. А.).
В искусстве, где было так важно «пережить делание вещи», а сделанное было не важно, теперь тоже «дело сделано» и нет повода для дальнейшей растраты творческой энергии и агитации аудитории. Советский человек если еще не рожден, то уже зачат, как и ребенок Милды.
Кроме того, строя эту пьесу, я ставил себе задачей — дискредитировать так называемую любовную интригу, обычную для нашего театрального искусства и литературы203.
Так же как по сюжету социалистическая евгеника должна истребить нездоровые буржуазные капризы любви, пьеса «Хочу ребенка» должна истребить интригу — уже не только любовную, но и литературную. Сюжетный вымысел становится аналогом, а то и пособником нездоровой социальности. Поэтому пьеса не только вновь основана на реальных общественных событиях204, но и размещает аудиторию на сцене так, чтобы она могла прерывать действие (все еще грозящее увлечь) и вступала в дебаты с работниками (перво) сцены.
Пьеса «Хочу ребенка» была задумана и построена с расчетом, чтобы сексуальные моменты, в ней имеющиеся, воспринимались не по линии сексуальной эстетики, а так, как воспринимается анатомический атлас <…> До сих пор в театре любовь была тонизирующей специей. Она держала зрителя в напряжении, превращая его в «иллюзорного любовника». В пьесе «Хочу ребенка» любовь положена на операционный стол и прослежена до ее социально значимых итогов205.
Анатомическую фантазию Третьякова разделяет и Мейерхольд:
Действующие лица будут показывать себя, как схемы, ораторам, — как в анатомическом театре студенты разрезают тела206.
Как когда‐то в своей медицинско-физиологической практике будетляне уже предпочитали «пользоваться частями тел, разрезами, а будетляне-речетворцы разрубленными словами»207, так анатомический театр Третьякова-Мейерхольда посвящает себя диссекции высшихнервных функций. Вместо роли «иллюзорного любовника», фактически вуайера традиционного «отображательного» искусства такой театр предлагает переход к акту, passage à l’acte.
Именно поэтому присутствие зрителей в этой перво-сцене подразумевает в том числе возможность прерывания драматического действия. В успешное исполнение постоянно вторгается дискуссия: как должны были отчетливо демонстрировать афиши, на месте «первого акта» оказывалась «первая дискуссия», на месте второго — вторая и так далее208. Несмотря на готовность полностью отказаться от доминирования режиссера и драматурга209 и поставить каждый из актов в зависимость от склонностей и желаний конкретной аудитории, эта фантазия так и осталась нереализованной.
Во второй половине 1920‐х советское публичное пространство (которым отчасти является всякий театр наряду с тем, что остается проекционной плоскостью) уже не позволяло такие действия «художников в повседневной жизни». Возможно, не столько тема «любви на сцене», сколько сам характер этого порно-анатомического театра заставляет Главрепертком регулярно отказывать Мейерхольду.
Получая сперва неформальное согласие в начале 1927 года, Мейерхольд начинает репетиции, ожидая скорого окончательно подтверждения разрешения постановки. Однако, как часто бывает в случае, когда желание одной из сторон сильнее, Главрепертком внезапно отказывает Мейерхольду, и ему приходится переключиться на другие проекты. Год спустя Мейерхольд снова обращается в Главрепертком, меняя стратегию и заменяя полностью импровизированную дискуссию с аудиторией «диалектически построенными репликами, которые дают верную установку»210, но пуританская инстанция все равно отказывает. Домогательства повторяются на протяжении четырех лет, но так и остаются безуспешными.
Зимой 1926–1927 года, когда как раз начинаются репетиции «Хочу ребенка!», оказывающийся в Москве Беньямин (тоже мечтающий о ребенке от латвийской коммунистки и театральной деятельницы211) замечает, что чем массовее искусство, тем сильнее оказывается цензура, от чего особенно страдает советское кино, — но намного менее строго контролируется театр и литература. Впрочем, в случае театра Третьякова-Мейерхольда, который, по аналогии с кино, организовывал воздействие посредством техники «речевого монтажа», а также рассчитывал продлить действие театрального аппарата в реальную общественную дискуссию, цензура оказывалась столь же неприступна и лишала авангардистов доступа к социальному телу.
В конце концов Третьяков порывает с театром и находит для «здоровой общественной дискуссии» другой медиум. Так, наиболее успешная пьеса Третьякова «Рычи, Китай!», поставленная в театре Мейерхольда и остающаяся в его репертуаре 6 лет, а также гастролирующая по миру, уже будет, по его мнению,
попыткой демонстрировать фактом <…> Только факт этот поставлен под увеличительное стекло товарищеского внимания и поднят на театральную сцену. Отсюда и недоумения критики: «Что это? Пьеса? Театр ужасов? Этнографический этюд?» Я отвечал — это статья. Силы этой постановки не в драматургичности, а в злободневной публицистичности212.
Как в начале театральных опытов Третьяков еще использовал изобретение «речевика» в области поэтического построения речи, так теперь статья еще «попадает в сознание аудитории не со страниц газеты, а с театральных подмостков» (там же). Но главное для будущей концепции литературы факта уже изобретено и прошло испытание на сцене — превращение зрителя в участника, которое на бумаге станет «врастанием в авторство», и в свою очередь позволит документальному материалу «взять слово».
Политики производства знания в театре и перформансе в России: кейс-стади
[политика спектакля]
Марина Исраилова
1
Идея этой статьи появилась у меня благодаря множеству микрособытий, свидетелем или участницей которых я была за последние 2–3 года.
Апрель 2019‐го, Лика Карева во время своего доклада «Эпистемология со дна» в рамках проекта «Институт на одну ночь» упоминает книгу с закладками и пометками, которую она увидела у одной из подруг, и рассказывает о своем желании узнать, о чем и когда были сделаны эти пометки, вуайеристском интеллектуальном беспокойстве и возбуждении. В том же докладе она говорит об истоках проекта эпистемологии со дна — о трудностях чтения философских «книжек», непонимании и его преодолении; о подружках, которые так же, как и она, сталкивались с этими проблемами познания; о том, как она нашла выход в удерживании непонимания как ничего не различающей позиции со дна, которая, тем не менее, вместе со светлой поверхностью, составляет слои одного [становящегося] океана213.
Лика читает свой доклад под бит от диджейки Helga Zinzyver в баре Ken Kesey в Петербурге, всего в «Институте на одну ночь» участвуют порядка 10 человек, включая придумавшую его режиссерку и перформерку Александру Абакшину, соосновательницу (вместе с драматургом Алиной Шклярской) театра Maailmanloppu.
За несколько месяцев до этого я беру у них интервью для журнала «Театр» (полная версия вышла в медиа К.Р.А.П.И.В.А.214), в котором Александра и Алина рассказывают, какие теории и концепты они выбирают для постановки и как формировался их информационный контекст:
…вот паблик Cyberfeminism и страничка Аллы Митрофановой215 — это и есть наша открытая библиотека. Ну реально, у меня очень скупое информационное поведение, я не знаю английского языка, мне нужно что‐то быстро и на поверхности. <…> Мы изучаем и практикуем феминистские тексты и… ну а что еще интереснее? Я не понимаю, я просто не вижу, что интереснее216
Александра Абакшина
Летом 2019‐го на «Ночи перформанса» в «СДВИГе», — большом событии, объединяющем танц-перформативные практики Петербурга и Москвы, — я вижу первый показ работы «Что вообще происходит?», где Аня Кравченко, Валя Луценко и Марина Шамова, которую я знаю как участни_цу коллективов «н и и ч е г о д е л а т ь» и «Техно-поэзия», проводят время, отмеряемое в ходе перформанса таймером, зачитывая цитаты из философских книжек (Делез, Деррида, Харман, Барад, Мамардашвили, Вудард и др.), запинаясь о текст, пропевая текст, переодеваясь, записывая слова на бумаге, приклеенной к стене, к полу, взаимодействуя с объектами и друг другом. Я совсем не понимаю эту работу и отдаю должное ее названию. Чуть позже я узнаю от Марины, что изначально они с Аней и Валей хотели сделать ридинг-группу: вместе читать философские тексты.
2
Теоретизация собственной работы, свойственная современному искусству после концептуализма, или «образовательный поворот» в сфере культуры, на мой взгляд, не объясняют ни один из этих случаев и не могут предложить обобщающую рамку. Как критик и куратор, наблюдающий за самоорганизованными инициативами в искусстве, независимым театром, перформансом и феминистским искусством, я вижу нарастание политизации в современном искусстве России, — политизации, для которой способы понимания и способы осуществления политики являются отличными от традиций московского акционизма, политического театра или артивизма.
Моя гипотеза состоит в том, что производство знания, теоретизирование средствами искусства и работа с политиками знания являются частными случаями усложнения политической картины, расширения территории политики и новой множественной разверткой фронтов в политической борьбе.
В этой статье я хотела бы сделать первые наброски описания и анализа структуры производства, перевода и распространения знания — и того принципиального значения, которое эта инфраструктура-медиатор играет в выстраивании связей и сетей, коммуникации, идентификации и распознавания. И ответить на вопрос о том, почему именно перформативные практики оказываются наиболее чуткими к процессам политизации — и что именно в них перформируется (исполняется).
3
Как отмечают в одном из докладов финские исследователи Йоуни Хякли (Jouni Häkli) и Кирси Паулиина Каллио (Kirsi Pauliina Kallio)217, с начала 1980‐х в гуманитарных и социальных науках, — и как я могу добавить, в критике и искусстве, — появляется все больше статей и книг, заявлений и дискуссий, включающих в название формулу «политика …» — политика аффектов, пространства, знания, тела, сексуальности, образа и т. д. В большинстве случаев эта формула остается без пояснений — в чем именно политичность, как она работает и к каким последствиям стремится, не объясняется. Это понимается интуитивно и теми, кто говорит, и теми, кто воспринимает; вокруг подобных терминов складывается консенсус, который, в свою очередь, является результатом работы определенной интеллектуальной, теоретической парадигмы, которая обеспечивает это понимание, угадывание и соглашение.
Находясь внутри такой ситуации, я хочу одновременно использовать тот же способ говорения о политике знания в художественной среде и в то же время посмотреть, в какую сеть значений, теорий и традиций мысли включает нас подобный разговор. Свою позицию в этом — только начинающемся — исследовании я определяю как внутреннюю и рефлексивную, сотканную из пересечений множества нитей-встреч, в которой дистанция невозможна: я говорю из позиции включенности.
Узелки моей заинтересованности завязываются, в первую очередь, вокруг таких понятий как политика, знание, перформативность — главный интерес в том, как они сплетены между собой.
В статье я хотела бы рассмотреть, как театр Maailmanloppu в своих работах делает видимыми структуры знания, исполняет теоретические тексты и изобретает этику совместности без соучастия, и описать перформанс «Что вообще происходит?» как пример длительной лабораторной работы, объединяющей различные типы знания (телесное и философское, рациональное и интуитивное). Мой интерес к этим художественным группам вызван тем же аффектом, о котором говорит Лика в «Эпистемологии со дна»: это влечение к чужому мышлению, возбуждающее собственное.
4
«Fashion / depression» и «Лучше, чем Dior» — две работы театра Maailmanloppu, устроенные сходным образом: это длительные — больше 12 часов в первом случае и около 6 часов во втором — перформативные исследования (моды и депрессии, индустрии подделок и понятия копии) с открытой структурой. В нее можно включиться, предложив собственную активность — доклад, перформанс, дискуссию и т. д. — или выбрать зрительскую позицию.
«Fashion / Depression» — трансжанровый ивент о распорядке дня человека, который не может выйти из квартиры, потому что у него депрессия / потому что ему нечего надеть. <…> Проект-autoresearch своего обычного дня, состояний настроения и внешнего вида.
Внешний вид и настроение, несомненно, зависят друг от друга, и в то же самое время от чего‐то другого зависят тоже.
В определенный час происходят различные события: перформативные акты, встречи, ничего не происходит, сон, чтение, питчинг, дискуссия, sale, стрижка, другое, что должно привести к изменению настроения и внешнего вида.
Из авторского описания218.
Время спектакля «Лучше, чем Диор» тоже превращено в расписание, и тоже предоставляет возможности заполнить это расписание по своему усмотрению.
Проект «Лучше, чем Dior» — это трансжанровый ивент про подделки / фейки / отношения копии-оригинал / искусственные растения / фотосинтез / жизнь пластика / 3D-принтеры. Гости могут использовать место и время этого проекта для выполнения своих задач (разослать письма, провести встречу, писать статью, копипастить, расслабляться).
Из авторского описания219.
В обеих работах эта временная структура открыта еще и для взгляда в формате гугл-дока-расписания / его скриншота в пабликах Maailmanloppu ВКонтакте и Фейсбуке. Вид таблицы, решетки, матрицы крайне важен для Maailmanloppu на нескольких уровнях. Он одновременно прагматичен и функционален: это расписание ивента для зрителя, где важны и соблюдение временных и содержательных ячеек, и их пустотность, и их смещения или выпадения, — и важен методологически и концептуально: это тип мышления и принцип построения, изоморфный внешней форме. Матрица, или пьеса-матрица, как пишет Александра Абакшина220, как метод — это создание потенциальностей, маленьких временных зон, где что‐то может случиться или длиться. Находясь в спектакле, я одновременно наблюдаю за исполнением этой структуры и за драматургией эпистемологии, стоящей за ней.
5
Метод работы становится частью спектакля, или даже метод работы становится спектаклем — исполняется. Внутреннее скрытое овнешняется и демистифицируется221. Одновременно и производство-приращение знания в этих работах становится содержанием спектакля и исполняется.
Это знание выходит за пределы академического, хотя может быть его частью или мимикрировать под него (как в докладе Йожи Столет «Пиджачок Джудит Батлер» в рамках проекта «Лучше, чем Диор», где Йожи анализирует статью Марты Нуссбаум, в которой она обвиняет Джудит Батлер в копировании мужской модели поведения для достижения статуса академической звезды; для Нуссбаум Батлер — фейк-философ и фейк-феминистка), но может и быть знанием, основанном на личном опыте: телесным, прожитым, интуитивным и спонтанным (как в сессии-примерке пластилиновых кроссовок, сделанных художницей Надеждой Ишкиняевой в период обсессивного желания иметь брендовые кроссовки и отсутствия финансовых возможностей их купить). Еще во время проекта можно приклеить фейковые логотипы брендовой одежды на свою, обсудить манифест 3D-адиттивизма222, поговорить о клонировании и симулякрах, пародии как удвоении, других формах копирования и проблеме оригинала.
Решетчатая, матричная структура спектакля, помимо собственно формального устройства (сессии), — это еще и эпистемологическая решетка, которая и являет зрителю определенную познавательную модель, и приглашает к ней подключиться. Этот уровень — эпистемологический — есть у любого художественного произведения, однако часто он либо не осознается, либо скрывается. В работах Maailmanloppu он становится видимым, тематизируется, объективируется — и через это политизируется.
Свободное обращение с теоретическими текстами, копилефт, коллаж из разнородных — дисциплинарно и жанрово — текстов, это тоже одна из постоянных практик Maailmanloppu. Как, например, в работе «7 предикатов Саломеи / OYAGG / о ты хорошая девочка»:
Вот Саша говорит: «у Пресьядо223 вышла новая статья, на английском» — и вот я сижу перевожу — и этот эпизод стал частью спектакля «Саломея». Мы там используем три его [Пресьядо] практики, вносим их в этот спектакль.
Алина Шклярская
Метод этих спектаклей, как и других работ театра Maailmanloppu («Невесомость. Документальные чтения тел», «Мама, ты долбишься в глаза») основан на работе с текстом, текст часто появляется в них как действующее лицо: транслируется на экран, распечатывается и прочитывается в ходе спектакля, предлагается к чтению или дополнению. Работа драматурга и режиссера осуществляется одновременно, в симбиозе, часто режиссура и драматургия неразличимы. Например, в «Саломее» задачей было написать текст как «код, растворяющий сексизм».
Вот проект «Саломея», у него второе название — «OYYAAGG»224, «о да, ты хорошая девочка» — самая частая фраза в порнографии. И у нас был такой посыл — изобрести некий вирус по растворению сексизма. И когда я кому‐то это говорила, особенно мужчинам, я заметила по их глазам, что им это представляется каким‐то… очень агрессивными какими‐то методиками. А мы придумали такой вирус кибернетический. Вот мы даже когда писали этот текст — он же выглядит как код. У нас была такая задача: написать код этого вируса. Который мы там меняем и в итоге вот получается совершенно другое. И для меня это реально — он растворяет сексизм225.
Алина Шклярская
В «Лакомом кусочке», исследующем беременность и другие репродуктивные практики, текст строится по принципу деления клеток в процессе: выбираются концепты-зиготы, реплики присоединяются к ним по принципу редупликации226.
В каком‐то смысле спектакли Maailmanloppu — это театр, в котором нечего смотреть: это незрелищные работы, в которых динамика и драматургия происходят на уровне, который невозможно увидеть, но можно понять. Формально они устроены минималистично, скупо, образы персонажей часто отсылают к определенной идее, не развиваются и остаются статичными. В самом радикально минималистичном с формальной точки зрения спектакле «Мама, ты долбишься в глаза» исполнение — это чтение персонажами текстов, распечатанных на фанерных досках и параллельная генерация/трансляция текста на экран. Сам процесс чтения показан во всей своей физиологичности: распечатанные реплики уменьшаются в масштабе, как буквы на таблице проверки зрения в кабинете окулиста, постепенно участни_цам становится все сложнее их читать. Тексты на экране и «текстогравюрах» не совпадают, два нарратива наслаиваются друг на друга. Задача зрителя — распределение внимания между чтением и слушанием текстов. Исполняются идеи и их (не) понимание.
6
Если попробовать проследить теоретические основания подобных практик на примере Maailmanloppu, обратиться к интеллектуальной истории этого театра, многие линии сойдутся на серии семинаров с названием «Как практиковать»: «Как практиковать Манифест киборгов Донны Харауэй», «Как практиковать Манифест ксенофеминизма»227, которые были организованы Йожи Столет в рамках «Семинара новой философской грамматики» при участии Александры Абакшиной и Алины Шклярской.
Это хороший кейс для попытки связать вместе искусство, теорию и логистику интеллектуальных потоков. Так, в течение последних трех лет Йожи организует регулярный Семинар философской грамматики и является одной из создательниц паблика «Cyberfeminism». Семинар базировался в помещении «ДК Розы» (проект группы художниц_ков и теоретик_есс «Что делать»). В последние несколько месяцев встречи семинара переместились в помещение книжного магазина «Порядок слов». Паблик Cyberfeminism ВКонтакте и одноименный телеграм-канал работают как агрегаторы информации по этой теме. В описании паблика используется цитата из статьи Аллы Митрофановой из сборника-документации Первого киберфеминистского интернационала: «Киберфеминизм — это идеологическая спекуляция, которая служит нам браузером для просмотра и навигации по текущим культурным изменениям и историческому наследию»228.
В 90‐е годы созданный Ириной Актугановой и Аллой Митрофановой «Кибер-фемин-клуб», базировавшийся в арт-центре «Пушкинская-10» (легендарном сквоте, захваченном художниками в 1989 году), занимался поисками возможностей совместить технологии, перекройку гендерных ролей и политизацию женских организаций в постсоветской России. «Философское кафе», организованное Аллой Митрофановой в той же «Пушкинской-10», в течение многих лет было (и продолжает быть) местом обсуждения актуальной теоретической мысли со свободным входом. Семинар новой философской грамматики объединяет обе эти линии при активном заинтересованном участии Аллы. Список тем семинара: «новый материализм, нестабильные онтологии, правый / левый акселерационизм, феминистские онтологии / эпистемологии, спекулятивный реализм, а также новые теоретические подходы к эстетике, политике и медиа»229.
Александра, Алина и Йожи организуют «Институты на одну ночь»: «альтернативу дневной форме обучения», где можно услышать «доклады, которые вы никогда не услышите днем»; прошло 3 сессии Институтов на площадках баров «Ken Kesey» (апрель 2019230), «Ионотека» (апрель 2018), «Holy water» (2018). «Институты» — это способ проведения времени, сочетающий в себе черты вечеринки и конференции.
Александра и Йожи входят в состав коллектива «н и и ч е г о д е л а т ь». Участни_цы «н и и ч е г о д е л а т ь» и их друзья и подруги выходят отдельной колонной на Первомайское шествие с требованиями введения безусловного базового дохода, охраны труда, признания заботы и репродуктивного труда — трудом. Собравшийся из участни_ц одного из наборов в Школу вовлеченного искусства «Что делать», «н и и ч е г о д е л а т ь» — это одновременно субверсия арт-группы и субверсия академического института. В «н и и ч е г о д е л а т ь» научно-исследовательский институт мимикрирует под микро-фракции арт-группы и наоборот: в нем есть отделы замедления, горения и гниения, разрабатывающие соответствующие темы в теории и практике. Одним из форматов работы «н и и ч е г о д е л а т ь» являются регулярные встречи ридинг-групп, другим — производство не-выставок и нерегулярных биеннале «Мир без труда», где доклады и лекции-перформансы участвуют наряду с музыкальными и визуальными работами. Школа вовлеченного искусства и «ДК Розы» — с конференциями, открытыми лекциями, отчетными выставками и постоянно действующими кружками — являются местом притяжения как для политизированных художниц_ков, активист_ок, так и для инициатив, которым по различным причинам нет места на других площадках города231.
Важными событиями-сгущениями интеллектуальной и художественной жизни стали за последние несколько лет Школа «Деколонизация воображения» (Москва) и платформа «Работай больше! Отдыхай больше!» (Минск)232.
«Деколонизация воображения» была организована студенческим журналом DOXA совместно с «Центром Подключения Интимных Коммуникаций (ЦПИК)»233. ЦПИК — это киберфеминистский сетевой центр, разрабатывающий воображаемое программное обеспечение с кодовым названием ИИ (Интимный Интерфейс):
Находясь внутри художественных институций, работая в литературных и философских журналах, а также принимая участие в самоорганизованных инициативах на пересечениях вышеназванных областей, сотрудницы Центра осуществляют выявление и построение интимных связей и переконфигурацию сборки сообществ на основаниях новой рациональности и интерконнективности234.
«Деколонизация воображения», инициированная «снизу», при этом поддержанная одним из крупнейших вузов страны, стала событием еще и как организационный прорыв — помимо того, что запустила в художественной и интеллектуальной среде виток размышлений о постколониальности и деколонизации. Платформа «Работай больше! Отдыхай больше!» на практике осуществляет работу по деколонизации постсоветского пространства, являясь крупнейшим самоорганизованным и независимым коллективным проектом, рефлексирующим труд художни_цы, в том числе — труд по производству знания.
Йожи участвует в работе переводческого коллектива, занятого работой над текстами современной философии — чтобы, по выражению Аллы Митрофановой, «подкачивать [ими] русскоязычное пространство».
Часто площадкой для публикаций этих переводов, а также огромного числа текстов, осмысляющих современность с позиций различных гуманитарных наук, становится Syg.ma — медиа со свободной публикацией и модерацией нескольких редакторов (редакционная политика Syg.ma, как и состав редакции, и ее представленность на различных медиа-платформах менялась с момента появления в 2014 году и по‐прежнему меняется). Зин и вебзин-культура, переживающие новый бум, сайты проектов, демонстрирующие уже на уровне интерфейса политическую и теоретическую направленность, сближают искусство и теорию в пространстве интернета, а обилие онлайн-выставок производит новую фигуру в цифровой среде — куратора, а за ней — и критика-теоретика.
Все это говорит о том, что за последние несколько лет сформировалась сетевая структура, которая включает в себя множество различных акторов: медиа, ридинг-группы и семинары, летние школы, дружеские и романтические связи, тексты, гугл-доки, чаты, конференции, журналы, театральные площадки и бары, университеты и базы отдыха, потоки информации, разговоры и паузы, воображение, тела, медленные танцы235 и нежная рефлексия236, аккаунты в социальных сетях, художественные группы, редакционные советы, треды комментариев, подкасты, издательства и книжные магазины, фотографии, видео и объекты.
Эта структура живет вне разделения на институциональное / самоорганизованное, локализуется в конкретных местах, но выходит за границы городов и стран, открыта для подключения, но предполагает определенные правила входа. Методы работы элементов этой сети также изоморфны ее внешним проявлениям, как и спектакли театра Maailmanloppu.
Это движение к смешению теории и практики является двунаправленным: все перечисленные выше авторы и теоретические направления настроены на деятельное изменение эпистемологических и онтологических установок. К примеру, документальный фильм о Донне Харауэй, показанный на школе «Деколонизация воображения» в переводе Сони Пигаловой и Нелли Шареевой, называется Donna Haraway: Story Telling for Earthly Survival («Донна Харауэй: Истории для выживания Земли»). В нем Харауэй рассказывает о важности самих принципов нашего мышления (и, следовательно, принципов создания нарративов) для решения глобальных проблем. Для нового мира нужен новый субъект, и этическая острота проектов Харауэй, авторок Манифеста ксенофеминизма или Поля Пресьядо обусловлена поисками оснований этой субъектности.
Матрица театра Maailmanloppu это частный случай практики схожих поисков: не зафиксированный исключительно в сфере эстетического, деятельный и незрелищный, этот научный театр (одно из его самоопределений) изобретает новых нас / вас / себя / будущее.
7
Если Maailmanloppu в своих работах предлагает зрителю подключиться к подготовленной эпистемологической среде («приглашает»237), то перформанс Ани Кравченко, Вали Луценко и Марины Шамовой «Что вообще происходит?» — это лаборатория, в которой подготовлены только внешние условия для опыта познания, который происходит у нас на глазах.
«Что вообще происходит?» — это вопрос, который будучи задан, не требует ответа. Это перформанс, в котором три танц-художни_цы соглашаются провести время друг с другом, объектами и философскими текстами. Читать, танцевать, говорить, петь и действовать с заботой и странной виртуозностью — без причин, кроме тех, которые возникают среди и между действующих лиц. <…> Здесь философия не объясняет танец, а танец не воплощает философию. Здесь эстетически программно поддерживается странное. Здесь с осознанностью и вовлеченностью улавливаются следы, оставленные бессознательным. Здесь практикуется беспомощность общего перед своими частями. Здесь объекты взаимодействуют со спектральной точностью чувствующего и мыслящего238.
Из авторского описания
Я видела три варианта этой работы вживую: первый показ летом 2019‐го на «Ночи перформанса», короткую версию — в декабре 2019‐го в рамках конференции «Дар и Труд в Искусстве и Культуре» в ДК Розы239 и предпоказ в феврале 2020‐го, — а также видеозапись показа без зрителей (ноябрь 2019‐го). В каждой из версий состав участвующих книг менялся: в начале работы над проектом их было несколько для каждой участни_цы, сейчас кажд_ая работает с одним текстом в ходе перформанса, например, в видеоверсии это «Силы ужаса» Юлии Кристевой, «Четвероякий объект» Грэма Хармана и «Половые различия и онтология» Аленки Зупанчич; в февральской версии — «Эссе об имени» Жака Деррида, «Четвероякий объект» Грэма Хармана и «Логика смысла» Жиля Делеза.
Студия «СДВИГ», в которой летом 2019‐го проходит «Ночь перформанса» (событие, которое с разной регулярностью проводится в студии с 2017 года) — важное для Петербурга место сборки практиков танц-перформанса, место, где проходят танцевальные классы, показы, ридинг-группы, перформативные лекции. Репетиции и показы «Что вообще происходит?» тоже проходят здесь, Аня Кравченко — участница команды студии (вместе с Антоном Вдовиченко, Машей Шешуковой, Камилем Мустафаевым).
По выражению Ани, появление «СДВИГа» стало возможно благодаря специфике локального контекста Санкт-Петербурга, где «вокруг куча самоучек, все вокруг самоучки — и все самоотверженные обладатели самоорганизованных институций».
8
В начале интервью с Аней, Мариной и Валей я задаю вопрос им о том, как давно они знакомы и как сложилась их работа в этом формате. Получается приблизительно восстановить картину знакомств и событий, мест и встреч.
Марина знакомится с Аней, когда приглашает ее поучаствовать в своем проекте «Беседы о современном танце» в ДК Розы (2017–2018). Новый виток знакомства случается, когда летом 2019‐го мы с Аней Козониной приглашаем Марину и перформер_ку и исследователь_ницу Дашу Че сделать лекцию о политике идентичности в перформансе в рамках курса для «Открытого лектория» Новой Голландии: Марина в рамках подготовки к лекции берет у Ани интервью. До этого в мае Валя, Марина и Даша по приглашению Ани участвуют в выставке-фестивале «ПоВСТанцы ХХ» в «СДВИГе», событии, объединяющем реэнактменты работ танцевальной компании «По.В.С.Танцы», петербургскую премьеру их нового спектакля «Секта» и архивную выставку.
Важной для Марины и Вали становится их встреча на лекции Джорджо Агамбена в Новой Голландии — как опознавательный знак сходных интересов (Валя: «Я еще подумала, что вот Марина, единственный чувак из танцевальной тусовки, кто пришел»).


Перформанс «Что вообще происходит?» Авторы: Аня Кравченко, Марина Шамова и Валя Луценко. Фото: Эви Пярн
В дальнейших репликах высвечивается и проясняется эта траектория сближения, распознавание, неровное, извилистое взаимное притяжение.
Валя знакомится с Аней на «Пространстве перформативных практик» в 2017 году в Москве, большом, но недолго просуществовавшем проекте, который курировала Дина Хусейн.
Я в тот день говорила о проекте мечты, о танце с философией, через интерсубъективность, и мы как‐то друг друга тоже заметили. И потом, когда мы еще с Аней встречались, тоже обсуждали снова эту тему <…> То есть через какие‐то короткие встречи, потом уже в СДВИГе, потому уже и с Мариной, и с Дашей — проскакивала все время эта тема, что мы что‐то читаем, в одиночестве, и это какая‐то сущностная часть нашей практики и вдохновения…
Валя Луценко
У меня как‐то это не проскакивало, я вообще не помню, я помню как я сижу читаю, недавно у нас была встреча с Аней у меня дома, и я как‐то импульсивно пишу Ане с предложением сделать ридинг-группу или что‐то вроде этого в СДВИГе. И Аня ответила, что они с Валей думают тоже про это и в тот же день, кстати, мы встретились с Валей на Ваське, случайно…
Марина Шамова
На самом деле в том интервью <…> ты уже тогда, Марина, сказала про ридинг-группы и тогда уже появилось название работы. Ты сказала, что “я типа вообще хочу понять, что вообще происходит!” То есть даже не то чтобы понять, ты просто говорила-говорила, и меня как‐то зацепило вот это… намерение… <…> И потом, когда уже возникла идея сделать это не в форме ридинг-группы, а в форме перформанса, это воспоминание осталось.
Аня Кравченко
9
«Что вообще происходит?» — это пример работы в лабораторном формате: временные рамки и некоторые предзаданные условия внутри перформанса, выработанные коллективно, при каждом исполнении (публичном и нет) становятся пространством создания и проживания опыта нахождения вместе — друг с другом, текстами, объектами, идеями, звуками, движением, чтением. Этих условий немного: временная структура с разделением на три временных блока (длительность каждой части отмеряется таймером), набор тел и объектов (книги, солнечные очки, пальто, бумага, скотч, маркеры, микрофон), способы взаимодействия.

Перформанс «Что вообще происходит?» Авторы: Аня Кравченко, Марина Шамова и Валя Луценко. Фото: Эви Пярн
Последние особенно изменчивы и являются частью продолжающегося исследования — тоже в лабораторном формате, но скрытом от зрителя: после показов и репетиций (как правило, и те и другие фиксируются на камеру / смартфон) происходит обсуждение (иногда ведется его «стенограмма»), вносятся и обсуждаются «предложения».
…мы предлагаем способ с чем‐то быть, быть в каких‐то задачах — друг для друга. Это хороший наверное формат, потому что мы друг друга не знаем, и мы не знаем как работать. <…> Вот это схватывание, с которым в какой‐то момент мы все согласны, вносится как предложение или изменение. Мы ведь что‐то другое сегодня не схватили, а схватили сегодня именно это.
Марина Шамова
Несмотря на то, что за видимой зрителю частью работы стоит скрытый длительный процесс, о котором нам ничего неизвестно, он угадывается в работе; по крайней мере, это усилие по попытке понять, что же, вообще, происходит, — важная драматургия зрительского взгляда в этой, в сущности, детективной истории, потому и интересной, что она обречена на провал. Это, конечно, не нарративная работа, — ее процесс: совмещение философии и танца, чтения и движения; буквализирующее выражение материально-дискурсивные практики240снимает противопоставление между одной формой познания (рациональной) и другой (телесной).
То, что я вижу в этой работе, — три сосредоточенные места сборки внимания, распределяющие его в пространстве перформанса между друг другом, объектами, текстами, внутрь собственных тел и вовне их, создание хрупких, часто кратковременных связей между прочитанными кусочками текстов, ускользающими и впитанными смыслами; чуткость. И неизбежную фрагментарность всего угаданного мной, неизбежность ошибок и искажения в процессе слежения за чужим познанием. Максимальное приближение к пониманию/ощущению чужой чуждости. Или три: стратегии чтения и понимания, способа мышления, процесса вхождения текста в тело, тела, пробующие тексты. Или три варианта преодоления разделения на субъект и объект в процессе познания / производства знания.
10
Создание новых способов быть вместе, принципов коллективной работы, сообщества и самоорганизации, — темы, обсуждение которых активно велось на протяжении всех 2010‐х, и продолжается сейчас, — странным образом упускало из виду уровень субъектности, сосредотачиваясь на межсубъектных отношениях. Но, как кажется, построение иных сообществ невозможно без становления иными, а оба эти уровня должны анализироваться вместе. Схемы субъективации, предлагаемые проектами, которые я описываю, уже закладывают в себя представление о субъекте как точке сборки, субъекте как результате пересечений, субъекте как коллективном проекте. Отвергая политику идентичности, они предлагают другие принципы солидаризации: чужой+чужой241 (в терминологии Йожи Столет), ситуативная солидарность242 (Донна Харауэй), номадизм243 (Рози Брайдотти).
Если в нулевые и до середины 2010‐х главным вопросом политически заряженного искусства был «как нам выстроить отношения с другими?» (властью, поколениями, «меньшинствами»: мигрантами, ЛГБТИК+, женщинами и т. д.), то сейчас в этом поле главным вопросом стал «как НАМ стать другими?» (киборгами, не-антропоцентричными, номадами, квирами, пост-женщинами, текучими субъектами и т. д.), — и каждая из частных постановок этих вопросов дает нам в итоге самый главный: «как быть самим становлением?»
Это и есть горизонт утопии, вполне при этом реализуемой и рационально понимаемой, утопии как необходимости: если мы не переизобретем себя, разве сможем мы переизобрести мир? Если не придумать сначала, каким может быть этот новый мир, как приблизить его?
Эта микрополитика является тем не менее радикальной: уровень ответственности, предполагаемый ею, невероятно высок и может ощущаться как бремя, если не помнить о том, что эта ответственность распределена между всеми — не только людьми, не только объектами, идеями и текстами, но между длинными и запутанными связями между нами. Как пишет Аннмари Мол, мы не делаем выбор, но являемся его частью, делаемся вместе с этим выбором: «Мы не управляем осуществляемыми там-вовне реальностями, а вовлечены в них. Следовательно, нет никаких независимых акторов, которые бы находились вне реальности и могли выбирать или не выбирать ее»244. Именно это и повышает удельный вес этики в этом проекте, фактически этика становится политикой и наоборот. Политическое мыслится в категориях заботы, общего блага, блага конкретного другого, находящегося рядом, возможности быть собой, управлять своим движением, распознавать вшитые в тела структуры управления — и менять их.
Так, отвечая на вопрос о политическом горизонте их работы, Аня, Марина и Валя говорят о перформативном и политическом как синонимах (Марина: «Перформативное как то, что приводит к изменениям, так же как и политическое»), политике (внутри) тела (Аня: «Горизонт политического — внутри человека, каждого, конкретного. Тихое действие, не открытое, не провокационное. У меня соединение с политическим было таким, интимным, всегда. Мне интересно как мое тело хореографируемо и кем»), этике (Валя: «Сам факт моего существования для меня является политическим жестом. Вот сейчас в условиях кризиса понятно, что сам факт выживания в виде художницы, с таким образом жизни, с такими установками это какое‐то политическое действие. Маячить таким ходячим лозунгом: а я вот так живу, я вот так продолжаю жить. Вторая тема — это тот этикет, которым мы коллективные проблемы решаем, как мы разговариваем, слушаем, уважаем время друг друга. Нигде такой бережности, кроме как в танцевальном сообществе, нет»).
Одновременно это объясняет, на очередном витке размышления о границах искусства и жизни, зыбкость этих границ. Искусство, занятое вопросом становления, не может быть отделено от политики и этики, с одной стороны, и от повседневности, с другой. Оно является только частью процесса, в который включается активизм, практики чтения, общения, дружбы, работы и отдыха, эмоциональной жизни, телесной включенности в мир. Фрагменты этих повседневных действий поэтому становятся частями спектаклей и перформансов.
Политическое искусство акционизма или политический театр, парадигматическим для которого является практика Театра.doc, ориентированы на действия в масштабе государства: это конфронтация с государственной властью или отдельными ее органами.
Театр и перформанс, о которых я пишу в этой статье (и многие другие проекты, о которых еще предстоит написать в этом ключе)245, политическое разворачивают в другие перспективы — и в плане масштаба, и в плане стратегий. Нацеленные на макроизменения, они практикуют микрополитики. Удерживая горизонт утопии, приближающей радикально другое будущее, будущее для всех, вне зависимости от страны проживания, языка, гендера и класса, будущее планетарного масштаба, они ищут основания для них в микро-изменениях структур субъективации — через движение, тело, вслушивание, чувствительность, новые эпистемологии, открытость, уязвимость, — и в выстраивании новых форм коллективности, включая не только интерсубъективные связи, но и отношения с объектами.
Такое понимание политического не отменяет, но расширяет предыдущее, точнее, предлагает новые схемы, где создание третьих вариантов заменяет противоборство, усложнение и микрофилия сменяют оппозиционность, основанную на бинаризме, а этос «нужды, труда и жертвы»246 сменяется этосом заботы, веселья и рациональности.
11
Возвращаясь к теме внутреннего и внешнего, переводя эти категории на язык разговора о политике, где им будет соответствовать пара приватное / публичное, я хотела бы проблематизировать представление о том, что политическим измерением искусство обладает в силу своей публичности. Это мнение, вероятно, наследует либерально-демократической модели, которая понимает сферу публичности как сферу политики. Эта традиция восходит к философии поступка Михаила Бахтина и наиболее полно выражается в концепции Ханны Арендт, особенно влиятельной в сфере искусства. Феминистскийлозунг «Личное — это политическое» был полемичен по отношению именно к этой линии восприятия политики как специально очерченной сферы публичной речи и действия и усиливающей незаметность, невидимость, незначительность сферы приватного (а значит, феминизированного).
Традиция феминистской мысли предлагает другое понимание политического — как пронизывающее все сферы жизни, вшитое в тела, мышление, поведение, внутрисубъектное, повседневное. Очевидно, что в первой схеме будет существовать одна — институционализированная — сфера политики, а во второй — множество взаимовлияющих политик. Соответственно, в первой схеме принципом взаимодействия являются конфронтация или создание альтернатив; во второй — способы перевода, построение многоступенчатых структур, делающих сосуществование возможным: вопрос не в том, как победить, а как упразднить логику войны247.
Одновременно с теоретизированным сосуществует интуитивное знание и понимание политического как не только интер-, но и внутрисубъективного. Эпистемологические структуры, структуры познания, связаны и с политикой, и с субъектностью напрямую: процессы познания есть одновременно процессы позиционирования себя относительно другого, что всегда является политическим процессом, — и рефлексия над способами такого позиционирования. Знание ситуативно, политически не нейтрально и онтологически не невинно. Различные типы знания и способы познания одновременно являются различными типами существования. Эта онто-эпистемология и есть то пространство, в котором осуществляется политика.
12
То, как написан этот текст, насколько я сама могу судить о нем, тоже может представлять собой «детективную» историю: используемые мной термины, заимствованные метафоры, осознанные и неосознанные цитаты из прочитанных и любимых мною автор_ок, упоминание подруг и коллег, — маркируют меня определенным образом. Во многом такой тип письма я предпринимаю из желания раздвоиться и проследить собственные основания, залегающие на разных глубинах моего знания и укорененности мыслительных привычек.
Традиция, в которой я пишу, сформирована в основном текстами феминисток четвертой волны / постфеминизма/ квир-, кибер- и ксенофеминизма, нового рационализма и феминистской эпистемологии, левого крыла акторно-сетевой теории, русскоязычной деколониальной теории, разговорами и встречами с питерскими и московскими художниц_ами и теоретик_ессами. Так, для этого текста крайне важны идеи Аннмари Мол и Марианны де Лаэт, Джона Ло, Сэди Плант, Рози Брайдотти, Карен Барад, Поля Пресьядо, Донны Харауэй, Дарьи Юрийчук, Анастасии Дмитриевской, Саши Шестаковой, Анны Энгельхардт, Саши Алексеевой, Виктории Кравцовой, Жанны Долговой, Аллы Митрофановой, Леси Прокопенко, Лики Каревой, Александры Абакшиной, Йожи Столет, Laboria Cuboniks.
Доступ к знанию в моем случае был открыт через ридинг-группы, дружеские семинары, паблики в соцсетях, пиратские программы бесплатного скачивания академических текстов, самоорганизованные конференции и (само) образовательные инициативы, постепенно профессионализирующуюся позицию в петербургской культурной среде, — в гораздо большей степени, чем через академию. В конечном счете, сам факт появления этого текста в этом сборнике — это результат работы цепочки связей, в которую я вплетена. Еще одного узора взаимного интереса, истоки которого — тема для отдельного текста.
Время революции
[революция]
Олег Аронсон
Выступление на семинаре независимой лаборатории Theatrum Mundi (совместно со Школой современного зрителя и слушателя) в Электротеатре Станиславский.
Юлия Лидерман: Тема, которую ты предложил, «Время революции», связана с несколькими нашими сюжетами, которые обсуждались с этой аудиторией. И я подумала, что сегодня, в рамках тех перформативных поворотов, которые мы здесь тоже обсуждали в связи с эстетикой перформативности Эрики Фишер-Лихте и другими теориями перформанса в театральной науке или в исследованиях театра, речь идет о том, что результатом художественного акта, действия, теперь считается не спектакль и не зрелище, а изменение культурного порядка. Предполагается, что перформанс от зрелища отличается тем, что мы находимся в становлении другого культурного порядка — перформанс этим и интересен. И вот в этом определении или в том, как определяется театральное событие уже после перформативного поворота, кажется, очень многое связано с революцией, временем революции. И вообще понятие «революция» по отношению, конечно, к искусству XX века употребляется метафорически очень часто. Особенно в истории модернизма — этот художник хорош тем, потому что он изобрел то‐то и то‐то, это произвело революцию… То есть понятие революции — такой естественный методологический взгляд на историю модернизма.
Олег Аронсон: Спасибо, Юля. Я начну с того, чем ты закончила, — с того, что революция зачастую используется как метафора. Так вот, я в своем выступлении хотел бы понять, где мы можем зафиксировать революцию не в качестве метафоры. Действительно, метафора революции используется часто, и самый характерный пример — это 1968‐й, год студенческих волнений во Франции, Германии, США и многих других странах. Его называют годом революции. Но революция ли это? Да, люди вышли на площади, вышли студенты, кричали лозунги, выдвигали требования. Было даже что‐то похожее на смену власти во Франции. Достаточно ли этого, чтобы признать эти и другие подобные волнения революцией? Единственное, с чем можно согласиться, так это то, что было большое зрелище, похожее на тот образ революции, который уже исторически сложился и в социальных науках, и в литературе, и в изобразительном искусстве. Тем не менее, для меня открытым остается вопрос, можем ли мы называть эти события 1968 года революцией. Или же это может быть частью более общего процесса, в который мы включены и в каком‐то смысле обречены в каких‐то событиях видеть (или желать видеть) именно революцию?
Кто‐то опознает революцию с надеждой, а кто‐то — со страхом. Кто‐то ее ждет, а кто‐то предупреждает о ее опасности. В нашем мире явно обозначились две тенденции. Одна называется «эволюционистской» и утверждает, что революции — это зло, то есть: они всегда приводят к жертвам (в худшем случае) или к нежелательным катаклизмам (в мягком варианте), что нужны какие‐то процессы более человекомерные, по отношению к которым люди могут быть более социально адаптивными. Другая тенденция — признание неизбежности революционных механизмов трансформации в современном мире, со всем их возможным антигуманизмом, и неминуемостью кризисов.
Первый мой тезис будет звучать примерно так: не важно, какое событие мы считаем революцией, а какое — нет, в любом случае мы живем в эпоху, когда наше мышление структурировано революцией. И с этим, например, связано появление таких ценностей как «новизна» и «оригинальность». Как мы оцениваем художника или, например, ученого? Мы сразу задаемся вопросом: что нового он внес в свою область (не важно, в искусство или в науку)? Также можно спросить: как изменилось общество, или какова перемена власти в том или ином социальном, общественном устройстве? Если мы сталкиваемся с новым, то это уже эффект того, что мы мыслим через призму революции. И надо сказать, что это мышление в терминах революции совсем недавнее. Если мы берем, например, эпоху буржуазных революций в Голландии, в Англии, то тогда этот термин не употреблялся. То есть то, что сегодня мы научились исторически мыслить как революцию, не понималось тогда как революция.
В принципе, слово «революция» мы встречаем в названии главного труда Коперника, где оно значит лишь «вращение» применительно к небесным телам. Интересно, что именно оно потом станет применяться к самой системе Коперника, чтобы отразить радикальность его отхода от птолемеевой системы. Кант назовет коперниканским свой (философский) поворот (Kopernikanische Wende) уже в отношении мышления, а не астрономической картины мира. И здесь мы имеем дело с особого типа поворотом, — не тем, что меняет наш взгляд на мир, но тем, который меняет сам наш способ мыслить, наше отношение к миру, богу и человеку. Сам Кант не называет еще это революцией, но годы, когда он пишет свои работы, — годы социального переустройства общества, которое вылилось, в конце концов, в событие Великой французской революции. То есть, когда «поворот» превращается (даже на уровне словоупотребления) в «революцию», то это значит, что мы уже и мыслим иначе. И научила нас так мыслить во многом (а я считаю — прежде всего) социальная практика.
Когда «революция» становится особой ценностью в искусстве, науке, политике, то невольно в любой мельчайшей трансформации, в любом сдвиге, повороте хочется видеть именно ее. Так она метафоризуется и, как следствие, банализируется.
В связи с этим хочется сказать, что французская революция вводит очень важное временнóе измерение (здесь я перехожу к своей теме «Время революции), когда время конструируется не через субъект, а через коллективные действия. Это пока слишком туманное высказывание. Что значит время конструируется через коллективные действия? Пусть пока смысл этих слов будет несколько мерцать, оставаясь не вполне ясным. Надеюсь, если мы рассмотрим, что происходит и что, собственно говоря, делает Великую французскую революцию (для меня, в моих размышлениях) революцией, мы увидим — это прежде всего то, что возникает иной способ изменений общественного порядка, нежели тот, который был до сих пор. С этим, конечно, могут поспорить историки, и это не случайно, потому что мы склонны путать историческое время с тем временем, в которое мы погружены сегодня. Мы все еще полагаем, что находимся во времени истории. Хотя сама идея исторического времени как раз тщательно формировалась на протяжении последних двух веков. В принципе же, историческое время — это то, что позволило выйти за рамки времени субъекта, которое формировалось христианством от Августина до Канта, и даже можно сказать до Гуссерля.
Историческое время — это время, где фигурируют эпохи, циклы и события, к которым индивидуальное сознание может быть не причастно. Это своеобразный выход за пределы опыта индивида и попытка соединиться с опытом мира за пределами твоей конечности. На самом деле, это не так просто, как кажется. Вот, знаете, иногда приводят такой смешной аргумент (на него вроде бы просто ответить, но на самом деле даже к самым глупым аргументам надо относиться серьезно): ты же там не был, как же ты можешь об этом судить, как ты можешь говорить о том, чего ты не видел? Это, на самом деле, вопрос к историку. Наивный, детский, но вопрос. Историк обычно начинает объяснять, что есть работа с документами, есть архивы и т. д. Я вот помню, как, будучи ребенком, ехал в троллейбусе со своим другом на шахматный турнир и обсуждал партию Ботвинник — Таль, какую‐то партию, сыгранную в 1961 году, а дело было в середине 1970‐х годов. Вот, мы обсуждали партию Ботвинник — Таль, и вдруг какой‐то пожилой человек встал, подошел и говорит: «Как вы смеете говорить о Тале, если вас тогда в проекте не было?» Это может выглядеть смешно, но в этом есть какой‐то вызов.
И вы знаете, формирование науки истории потеряло ощущение того, что говорить с точки зрения исторического времени — определенный вызов. Этот вызов для нас ушел в тень. А ведь, если задуматься, это на самом деле не такая простая вещь. Мой вопрос заключается в том, что именно научило нас быть такими бесстрашными, говорить об эпохах, когда мы не жили? А это на самом деле большое бесстрашие, богоборчество. Но мы не замечаем этого, поскольку живем в секуляризованном мире, где бог уже не гарантирует связь времен, устойчивость мира, а его место заняли наука и политика. Или, другими словами, «знание» и «власть». А точнее, их нерасторжимость. Эти механизмы формирования исторического знания исследовал Мишель Фуко. Я же говорю, что сегодня любой, кто угодно, готов производить историзирующие суждения даже без ссылки на авторитетных ученых. Так вот, я пытаюсь сказать, что это стало возможным благодаря опыту революции. Именно опыт множества революций последних двух веков научил нас этому. То есть, без такого опыта и, прежде всего, опыта французской революции, был невозможен определенный тип мыслительной деятельности и определенный тип высказываний. Почему, например, человек сословного общества мог говорить об этом свободно? Потому что аристократия, высшее сословие, была причастна к той традиции, которая была для них живая, и которую они ощущали как свою домашнюю историю, историю своего рода, своего дома, какого‐то особняка, участка земли. Это была их частная история. И одновременно она была историей, о которой можно говорить так, будто предки являются тем, что живо, и до сих пор от их имени можно говорить. Иногда мы этот аристократический способ мышления переносим на сегодняшнее историческое время. Это несправедливо. Потому что демократия, пришедшая с французской революцией, и вообще демократические устройства общества, вообще XIX век, который стал ориентироваться на массу, на публику и т. д., когда постепенно стала уходить сословная история, как раз дал речь тем, кто не имел истории, кто не мог сослаться на опыт предков248.
Поэтому, когда мы сегодня говорим о революции, то очень важно понимать, что историческое время, которое мы себе привили, так сказать, — оно очень странное. И оно не связано со временем субъективности, то есть временем сопричастности с Богом или со своим родом, или домом. Это как бы время общее, глобальное, универсальное. И это время, которого, в принципе, раньше не существовало. В каком‐то смысле, на мой взгляд, к этому времени очень ощутимо приближается Фернан Бродель, когда вводит категорию longue durée, времени большой длительности. Он уже говорит с той точки зрения, что история формирует время, формирует представление о времени. А это значит, что история множественна, но это не множественность субъективных взглядов и интерпретаций, а множественность разнообразных процессов, взаимосвязанных друг с другом, имеющих свои интенсивности и напряжения, которые не в силах схватить ни одна человекомерная научная дисциплина. Большая длительность (длительность исторических процессов, длительность эпох, формаций, эпистем) — способ зафиксировать саму материю изменчивости времени. Большая длительность Броделя при этом менее долгая, чем, допустим, время слишком большой длительности (la très longue durée), где проходят геологические процессы, процессы изменения климата, но оно тем не менее охватывает определенного рода экономические, антропологические измерения, которые связываются с процессами средней длительности. Наконец, частная событийность — это, можно сказать, то, что остается от субъективного времени, то, что мы переживаем в качестве опыта своей жизни249.
Вопрос: есть ли у нас возможность иметь опыт времени большой длительности, как его описывает Бродель? В связи с этим я хотел бы предложить рассмотреть особое время революции. Революция обычно рассматривается как момент радикального перелома, момент событийный, или, говоря в нашей терминологии, как ситуация столкновения времен большой длительности. Я бы даже сказал не времен, а процессов большой длительности, которые еще не стали историческим временем, поскольку историческое время, — уже время очеловеченное, — это помещение субъекта в разные уголки протекающей истории. Процессы же большой длительности могут быть очень разные: геологические, биологические, но не только. Например, я могу вполне считать процессом большой длительности все то, к чему не причастен опыт человеческого. Не просто индивида, а человеческого. Вот у нас есть человеческий опыт, опыт познания, опыт восприятия мира, а там, где мы выходим за пределы этого опыта, начинаются процессы большой длительности. Обычно мы, сталкиваясь с такого рода процессами, осваиваем их исторически.
Что я понимаю под столкновением процессов большой длительности? Это, например, столкновение разных типов изменчивости, которые существуют в мире. Хочу просто вам указать, что, во многом следуя стереотипам, мы стремимся к тому, чтобы мир был устойчивым. Устойчивость мира для нас является доминантой. Все науки, от гуманитарных до естественных, так или иначе ориентированы на устойчивое состояние мира, которое можно представить себе морфологически как некоторую организацию мира. Именно подобная устойчивость позволяет нам говорить в терминах «картины мира», в логике представления.
Так вот, следующий мой тезис будет связан с тем, что революция обучает нас, как иметь дело с трансформацией отношений, а не с морфологией объекта. То есть для революции вообще объекты не важны, важна трансформация отношений, причем не имеет значения — каких отношений. Это могут быть отношения земли и моря или конфликт производительных сил и производственных отношений, а могут быть отношения дискурсивные, которыми занимался Фуко, выделяя свои эпистемы. Так или иначе, столкновение процессов большой длительности порождает то, что мы можем назвать трансформацией. И в этом случае речь уже идет не о том, что такое революция, а речь идет о том, как нам мыслить революцию не в рамках категории событийности, но как определенную динамическую форму процессуальности мира. И, конечно, в такой процессуальности время и история несоединимы. Сама «история» (история как научная дисциплина) является эффектом того, что мы живем в другом времени, порожденном, в частности, Великой французской революцией.
Вообще XIX век чрезвычайно важен для понимания революции. Не только потому, что это был век социальных протестов, которые стали именоваться не иначе как революциями, но и потому, что теории, которые рождались в это время, так или иначе затрагивали то, что я называю динамической формой и что касается трансформации отношений и формированием логики процессуальности. И теория Маркса (его теория формаций), и теория эволюция Дарвина, — они порождены уже логикой процессуальности, логикой внеисторического ощущения процессов большой длительности. Перед нами иной тип времени, в котором эволюция и революция не являются антонимами. Дарвиновская теория эволюции, теория изменчивости, трансформации видов, живых форм, по сути, является порождением мышления в терминах революции. Это особенно заметно, когда мы видим внутри дарвиновской теории изменения, которые ученый вносит, потому что он находится на перекрестке различных способов осмысления процесса. С одной стороны, историческое описание изменений, а с другой стороны, совершенно иной тип изменчивости, который не предполагает истории в прежнем виде, хотя другого языка нет в XIX веке. И вот Дарвин в поздних изданиях своего труда «Происхождение видов» обращает внимание на такие вещи, которые, на мой взгляд, чрезвычайно важны, и которые можно заметить, только уже мысля в терминах революции. Он обращает внимание на преадаптивные моменты в эволюции живых существ. Что это значит? Эволюция у Дарвина очень связана с влиянием окружающей среды, с адаптивностью и т. д. А преадаптивность — это когда некоторые признаки организмов в процессе развития меняют свою функцию на совершенно иную. То есть они как бы, с нашей точки зрения, прерывают естественную историю развития организма и начинают другую. Получается, что живые организмы обладают признаками (например, особая форма черепа у земноводных, оперение у птиц, ноздри у рыб и т. п.), которые когда‐то имели одни свойства (хотя даже не вполне понятно, имели ли, но ученые так решили), а потом с их помощью начинают дышать или летать. Ноздри были у рыб, до того, как появилась потребность в дыхании; оперенье у птиц — до того, как с помощью перьев они стали летать. Объяснить это можно или божественным замыслом эволюции, или, глядя из точки сегодняшнего знания, — поиском новой функции, в которой организм испытывает потребность с изменением окружающей среды. При этом биологи наделяют все эти ноздри-до-дыхания и перья-до-полета какой‐то необходимостью. Разум словно не может смириться с тем, что в мире есть много не-необходимого, избыточного. Именно из этой сферы избыточности жизни и возникают новые функции. Преадаптивность — очень интересное явление, которое, я считаю, дает нам представление о том, как происходят революционные изменения, без которых эволюция невозможна. Сегодня предпочитают говорить уже не о преадаптивности, а об экзаптации (термин exaptation введен в обиход американскими биологом Стивом Гулдом в 1980‐е годы). В отличие от термина преадаптивность, который сформировался внутри эволюционной биологии, экзаптация имеет дело не только с анатомией, но и с поведением и с деятельностью мозга, а также уходит от той телеологической нагруженности, которая была неявно заложена в концепцию преадаптации. Фактически, это принцип понимания многофункциональности и сложности любого органа, любой особенности организма, готового развиваться в совершенно разных направлениях. Речь идет не столько о потенциальных возможностях, а о пересмотре самой идеи развития от простого к сложному. В экзаптации сложность реализует себя постоянно, а то, что мы называем эволюцией — лишь линия нашего теоретического упрощения. И такого рода процессы происходят не только в биологии, где Дарвин одним из первых обратил на это внимание, — нечто подобное происходит и в математике, а также, я склонен думать, и в социальной жизни250.
Интересно, что и математика начинает резко меняться и интенсивно развиваться именно в XIX веке. Возьмем, например, геометрию. Две тысячи лет господствует система постулатов и аксиом Евклида, формально описывающая наш опыт освоения двух- и трехмерных пространств, или, говоря менее формально, пространств земли и неба. Евклид своей геометрией задает форму устойчивости мира как человеческого опыта освоения пространства. Две тысячи лет эта система проявляла свою надежность, хотя и были подозрения в том, что аксиома о параллельных прямых, которые не пересекаются, либо избыточна (то есть не аксиома, а теорема, требующая доказательства), либо просто лишняя (то есть искусственно сужает возможности формальной системы для описания мира). Лобачевский, Бойяи, Риман в ХIХ веке отказываются от нее и строят свои нелинейные (неевклидовы) геометрии. История понимания пространства радикально меняется. Где здесь момент экзаптации, спросите вы? Он действительно почти незаметен. Проявляется он, на мой взгляд, в книге Давида Гильберта «Основания геометрии», написанной на рубеже ХIХ и ХХ веков. В чем заключается идея Гильберта? Он вводит новую формализацию в систему аксиом Евклида (ту самую, по которой мы в школе учили геометрию). Гильберт отказывается от идеи, что эти аксиомы — некоторые интуитивно данные нашему разуму истины. Гильберт делает следующий шаг после создателей нелинейных геометрий. Он предполагает возможность геометрий, где под вопросом могут оказаться постулаты и аксиомы, в которых мы не сомневались все эти два тысячелетия251. Отказ от постулата (или аксиомы) и замена его на иной, совсем неочевидный — это, на мой взгляд, и есть вариант математической экзаптации. Мы привыкли думать, что такого рода «замены» должны происходить по необходимости. Однако в математике это не так. Это просто особенность математического мышления — создавать формальные системы, порой не соответствующие никакому нашему человеческому опыту. Формальная математика (и формальная геометрия Гильберта в частности) есть способ освоения сложности мира, прикладная же математика — способ описать то, что уже освоено иными дисциплинами, что стало человекомерным, то есть способ сведения (упрощения) мира до конкретных формул.
Возможность построения непредставимых геометрий, уже не соотносящихся с человеческим опытом и воображением, возникающих в результате изменения аксиоматики, поначалу кажется чистой абстракцией, игрой ума. Однако позже с развитием ядерной физики вдруг появляется потребность в этих геометриях, они неожиданно находят свое практическое применение в электромагнетизме, в квантовой механике, в теории струн… Именно такую ситуацию Юджин Вигнер назвал «непостижимой эффективностью математики». Мы же можем предположить, что математика связана с преадаптивностью нашего понимания и познания мира. Я подозреваю, что не только физического или биологического, но и гуманитарного.
Что мы можем выявить как преадаптивность в социальном плане, в общественных науках? Здесь я подхожу к тому, о чем ты, Юля, просила, — связать все это хоть как‐то с театральностью.
Итак, французская революция 1789 года, которую мы называем Великой. Длится она достаточно долго, вплоть до Наполеона, и все тогда ощущают это как дление революции. В 1790‐е годы Кант пишет свой знаменитый текст «Спор факультетов», где во второй части затрагивает тему французской революции252. Что делает французскую революцию революцией по Канту? Он говорит, что революция только тогда является революцией (я не дословно передаю, но по смыслу), когда у нее есть зритель. То есть революция не происходит сама по себе. Очень важно, чтобы она была явлена для глобальной аудитории, чтобы я, Кант, сидящий в Кенигсберге, воспринимал ее так, будто нахожусь среди женщин, идущих на Версаль, или среди протестующих в Тюильри, или в момент взятия Бастилии. Она включает в себя зрелище революции как необходимый социальный фактор. Включенность в нее структуры зрелища делает ее универсальной для всех. Революция не происходит невидимо, она обязательно должна о себе заявить, и она должна заявить о себе сломом определенного рода представлений, связанных с индивидуальным опытом ее понимания. То есть революцию можно воспринимать только в качестве коллективного зрителя или публики. Возможно, Кант даже не употребляет это слово. Я не помню. Но фактически «публика» станет одним из ключевых слов в XIX веке. Публика является органичным продолжением той массы, которая производит революцию, которая не знает сословных и прочих границ. В социальном плане революция — это трансформация отношений, которая осуществляется массой. Не индивидами, не героями, не революционерами, а именно массой. И это важнейшая смена аксиоматики: индивидуальное еще действует, но уже сталкивается с опытом масс, требующим для себя иных форм (возможно, что это уже не формы чувственности или познания, но явно формы действия). Кант связывает это с идеей «общего чувства» (sensus communis), и таким общим чувством он считает революционный энтузиазм, веком позже нечто подобное Ленин назовет «живым творчеством масс».
И здесь возникает важный вопрос, которым, кстати, задаются многие теоретики на протяжении последних двух веков: что такое масса? Я не буду приводить здесь эту историю рефлексии толп и масс, скажу лишь, что для меня очевидно, что масса — это не собрание индивидов, и даже, рискну сказать, не новый субъект, который выходит на авансцену истории. Нам хочется наделить массу характером субъективности, но нет, масса в каком‐то смысле непредсказуема. Я бы сказал, что масса — оператор преадаптивных возможностей. Именно ею осуществляются те социальные трансформации, которые дают ощущение, что каждый момент слома (постулатов, аксиом, ценностей…), момент революции — это процесс исторический. Между тем, у самой массы нет никакой чувствительности к историческому времени. Она находится словно в другом времени, или даже в ином измерении, нежели человеческое.
Говоря несколько схематично, историческое (человекомерное) понимание революции обычно описывается как «событие», как разрыв в самом течении времени. «Событие» может описываться в терминах радикальной новизны, инновации, или же — катастрофы, как пришествие Христа или Апокалипсис. С новизной и конечностью каждого мгновения жизни связано изобретение субъективного времени от Августина до Гуссерля и Хайдеггера. Но это же самое время оказывается и временем истории.
У Алена Бадью идея революционного события трансформируется. В своей знаменитой книге 1982 года «Бытие и событие» он пытается соединить метафизику времени Хайдеггера и формальную математику, основанную на теории множеств. В результате «событие» у него оказывается не временным разрывом, а длительностью. Он пишет о том, что никакое «событие» не возможно без особой структуры, которую он называет «верность событию» (la fidélité à l’événement), способность к удержанию радикального конфликта и исторического разрыва во времени253. Следуя примерам самого Бадью, можно сказать: если Христос — событие, то оно становится возможным только в силу верности событию, которое олицетворяет деятельность апостола Павла; если Октябрьская революция — событие, связанное прежде всего с фигурой Ленина, то верность воплощена в Троцком и самой идее «перманентной революции»… Попытка синтеза у Бадью линейной (а лучше сказать дифференциальной) логики времени и логики бесконечной возможности конфигураций и трансформаций (ее можно назвать в духе Георга Кантора трансфинитной), которая вообще не подразумевает время, является, на мой взгляд, большой теоретической уступкой.
Если же радикализировать формальную сторону события, то следует говорить уже не о разрыве в движении времени и истории, а об ином характере времени, которое перестает быть временем субъекта и становится временем процессов большой длительности, где невозможно мыслить ни начало, ни конечность, ни рождение, ни смерть в качестве каких‐то особенных определяющих моментов.
Можно сказать, что концепция события у Бадью структурно повторяет идею преадаптивности у Дарвина, когда эволюция и революция мыслятся по‐разному, но диалектически примиряются друг с другом. Другими словами, в этой концепции сохраняется историчность и телеологичность, а процессуальность революции не достигает момента экзаптации. В этом смысле событие (и революция) у Бадью сохраняет момент трансценденции (или благодати), пусть и секуляризированной.
При этом возможности экзаптации в социальном плане многочисленны. Только потом, задним числом, рассматривая исторически, мы видим многие процессы как линейные, а, по сути, перед нами сменяющие друг друга конфигурации многообразий. И мы никогда не знаем, что выберет масса, потому что масса не имеет сознания. Она в каком‐то смысле такой организм, который внутри себя содержит функцию разрушения нормативности. То есть нам сегодня, в эпоху масс-медиа, кажется, что масса — это некое нормативное поле, над которым экспериментируют, над которым издеваются, которое зомбируют и т. д. Нет-нет, когда так говорят, то имеют в виду уже политически сформированный «народ». Масса не оформлена, она всегда революционна. Это такой несколько спинозистский тезис, если вспомнить о том, что Спиноза называет словом multitude254. И масса, фактически, выявляет в куче преадаптивных возможностей то, что вводит как новую аксиому. Эта новая аксиома для нее не является новым — новым она оказывается для сознающих (откуда и берется ценность «нового»). Но масса поставляет ее. И Кант называет эту энергию массы, с которой можно солидаризоваться в глобальной аудитории, словом «энтузиазм». Энтузиазм он понимает не психологически, а как коллективную солидарность, которая фактически является дополнением к нашей индивидуальной чувственности, как таким же дополнением является, например, этика255. Если мы подумаем, то нету никаких моральных законов, которые соответствовали бы нашему опыту, перцептивному — и даже интеллектуальному. Это как бы лишнее, но это то, что создает ситуацию солидарности, ситуацию отношений между людьми, а не опыт одного человека. Вот эти отношения между людьми и есть, собственно говоря, то, что актуализуется логикой революции.
Завершая, я хочу повторить некоторые свои тезисы, которые для меня существенны в понимании революции сегодня, и которые лишают революцию ее метафорического и романтического шлейфа. А он все тянется и тянется — именно потому, что мы живем в эпоху продолжающегося модернизма, или, как я бы сказал, в эпоху, когда ценность нового почему‐то все еще существует.
Итак, я хотел бы вернуться к тезису, что это отношения, а не морфология объекта, трансформация отношений, изменчивость отношений, которые происходят, прежде всего, в обществе. Отношения могут быть производственные, дискурсивные, какие угодно, но главное — как они трансформируются. Вот эта изменчивость очень важна. Какие отношения меняет французская революция? В первую очередь — сословные. Она вводит свободу и равенство как категории нового социального порядка. Это не индивидуальная свобода и не равенство между индивидами. Это то, что производится. Свобода — то, что производится действием масс, и без чего она невозможна. И с равенством та же история. Об этом даже Ханна Арендт писала в своей книге о революции: равенство — это не какой‐то закон, а то, что постоянно надо производить, потому что мы тысячелетиями, со времен Аристотеля, обучены, что мы живем в мире неравенства, ну или, грубо говоря, в мире рабства256. Вот, начиная с французской революции логика рабства заменена логикой равенства, и мы к этому до сих пор не привыкли. Ну, надо как‐то постепенно привыкать, потому что, например, если мы живем в логике равенства, то для нас нет, например, шедевров, героев, богов. Короче, жизнь скучна. В логике рабства жизнь более приятная. Особенно для тех, у кого есть рабы.
Далее, новые постулаты и аксиомы. Бадью считает, что революцию осуществляет Христос, вводящий новую аксиому, аксиому любви, вместо заповедей, которые тоже своего рода социальные аксиомы. Но здесь можно поспорить с Бадью, потому что не выполняются многие другие условия. Важно, что Христос вводит новый тип времени — очевидно, время мессианистическое — и потом эта категория времени становится именно сопутствующей европейской истории257. Бадью, кстати, в 1968 году, будучи еще молодым совсем человеком, участником парижских событий, написал книгу по математике «Понятие модели», где затрагивает некоторый возможный переход от математики к социальной сфере, возможность рассматривать революцию как модель. И там он предлагает вместо категории «свобода», которая кажется ему устаревшей со времен французской революции, ввести другую категорию, которую он называет «дисциплиной времени». То есть революция есть модель, следуя которой, ты находишься в ситуации фактически свободы своего существования, в дисциплине времени. Не есть ли эта «дисциплина времени» то, что делает нас сопричастными «большой длительности» и «верности событию»? Мне кажется, да. Именно действуя в потоке времени большой длительности, к которой ты не причастен как индивид, ты оказываешься причастным общности (массе), не знающей времени. Неслучайно апостол Павел идет путем общности, которая есть Церковь, понимаемая как организм, сообщество, а не социальный институт.
Отсюда вытекает следующий момент — коллективность, как я уже говорил, отменяет в каком‐то смысле претензии индивида, индивид остается в рамках мышления сословного общества, каким бы индивид ни был. Если он самосознающий, то это всегда определенная претензия к тем структурам, которые были порождены сословным обществом. Поскольку сословное общество сильно связано с религиозным характером общества, в этом смысле коллективность предполагает также и атеизм. И очень важно, что французская революция — это атеистическая революция. Ранее состоявшиеся английская ремонстрация Кромвеля и Американская революция не имеют этого атеистического измерения и потому не обладают достаточной полнотой революционной модели. Различие принципиально. Например, если в Американской революции свобода и равенство дарованы отцами-основателями государства, то есть это, в некотором роде, законные дары (во многом имеющие под собой религиозные основания), то французская революция — это революция беззакония. Она утверждает: не бывает революции по закону. Французская революция беззаконна, атеистична, она отрицает ту идею христианской свободы, которая была тесно связана с первородным грехом, когда утверждается, что мы свободны потому, что мы греховны, мы наделены свободой потому, что все находимся в ситуации первородного греха — изгнаны Богом из рая и, в силу этой изгнанности, свободны. Когда мы сегодня связываем воедино свободу и произвол, то в этом есть мощный отзвук христианства. Так вот, с этими догматами (или постулатами) французская революция порывает.
И наконец, еще раз повторю, революция для меня связана не с конкретной событийностью момента. Хотя я сейчас часто говорю о французской революции, потому что, на мой взгляд, наш мир — это продолжающееся затухание ветров французской революции, и 1968 год, и многие другие события, которые мы именуем революциями, имеют те же модели. И 1917 год имел моделью французскую революцию. Историки это хорошо знают. Я же говорю о столкновении процессов большой длительности, где участвуют такие вещи, в которых индивид не может себя обнаружить. Это процессы экологические — изменение климата, например, — но также и процессы изменения характера общества. Потому что общество — это общность, которая связана не только с жизнедеятельностью индивидов, она связана также с совершенно отличными от индивидов характеристиками, динамикой самых разнообразных отношений, создающих совершенно иной тип действия общности, нежели тип действия по принципу индивидуальной воли или разума. И такой тип действия-существования, на мой взгляд, является процессами большой длительности, которые не описываются исторически. Пример такой связности — революционный энтузиазм, который заражает людей посредством зрелища революции. Жан-Франсуа Лиотар интерпретирует этот энтузиазм через категорию возвышенного. Мне же кажется, что это момент аффективного равенства, открывающего глобальную аудиторию. Когда мы сегодня говорим о публике (в том числе театральной), то важно, что это не просто зрители, а носители общего чувства глобальной аудитории. Обращение к зрителю консервативно, к общему чувству — революционно. Практически все радикальные театральные эксперименты подспудно, интуитивно имеют дело с этой дилеммой258.
Вопросы аудитории
Как, на ваш взгляд, соотносится, если вообще соотносится, современная политика и множество (или коллективность)?
ОА: Я бы сказал, что политика, конкретные политические структуры всегда хотят лишить множество, multitude, вот эту массу, возможности действовать. И когда действие становится неконтролируемым, мы чувствуем, что это революция. Но эта коллективность, о которой я говорю, — неоформленная, беззаконная коллективность, — не обязательно должна проявляться только в социальном выплеске, протесте. Она существует не только в протесте, но и во многих других явлениях. Например, один из эффектов, с которым работает современное искусство, — то коллективное беспокойство, которое политиками не фиксируется. Вообще это большая проблема — коллективность. Так называемая масса, или толпа, всегда пугала людей, в том числе исследователей. И сегодня вы можете встретить очень много высказываний достойных интеллектуалов, которые презрительно относятся к толпе. На мой взгляд, ни один человек не может себя от нее отделить. Другое дело, что некоторые не хотят замечать, чем они обязаны этому новому образованию, я не хочу сказать субъекту, я бы сказал, этой новой стихии, в которой мы живем. Сегодня она еще и технологически подпитывает свои силы через социальные сети, через такие вещи, как big data или криптовалюты. Все это — факторы уже совершенно иного мира, в котором действуют силы общности в большей степени, чем то, что мы рассматриваем как силы субъекта. Вот, например, алгоритм для компьютера создается силой субъекта, а про нейросеть этого уже нельзя сказать.
Обо всем вообще, и о понятии революции вы говорили безоценочно…
ОА: Нет, видно же, что я ее люблю /смеется/…
Дело в том, что вы поставили в один ряд эволюцию (беспозвоночные эволюционируют революционно), христианство и французскую революцию (как образ любой революции). В общих терминах это понятно, но что их объединяет? Ведь революция — это же выбор. Если мы говорим все‐таки не о беспозвоночных, а о людях, и о христианстве как революции, и о французской революции — это выбор субъектов, там есть моральный аспект, религиозный и прочие. Вот, я не уловил вашего личного отношения ко всем трем революциям, мне оттенок хочется понять.
ОА: Я не человек оттенков, для меня нет различия между людьми с их выбором, животными, вещами и идеями. Это попытка мыслить равенством, понимаете? Мы можем попытаться мыслить равенством, а можем иерархиями. Выбор невелик. Я мыслю через категории, которые мне подарила революция, так что все, перечисленное вами, находятся для меня в режиме равенства. А те различия, которые мы между ними устанавливаем, — это не различия иерархий, вот что важно понимать. Революции, конечно, различны по многим параметрам, но логика революции заставляет нас остановиться на их совместности, общности. Так, сегодня нам уже понятно, что мы не можем себя отделить от окружающего мира, с которым находимся в режиме совместности. Для Дарвина животные и люди эволюционируют общим способом. Георг Кантор, математик,вводит базовое понятие множества, которое есть собрание объектов любой природы. Это своеобразные знаки революционной логики, в которой люди оказываются частью несобственного времени — времени большой длительности.
А что такое свобода в вашем понимании?
ОА: Я уже сказал, что свобода не является принадлежностью или атрибутом индивида, то есть каждый из нас никогда не может сказать: «Я свободен». Свобода даруется в общественном действии изменения социального порядка.
А если нет социального порядка?
ОА: Как это нет социального порядка? Всегда есть социальный порядок. Когда мы выступаем против закона, против нормативности — это есть какой‐то отзвук свободы, который мы можем обнаружить.
Но социальный порядок — он есть у мыслящих существ. Или у беспозвоночных тоже есть социальный порядок?
ОА: Ну, вы знаете, для мыслящих существ мы это называем социальным порядком, а у животных, например, есть отношения внутри ареала. Там тоже сложные структуры отношений.
ЮЛ: Есть еще вопросы? Может быть, пока вы думаете, я задам вопросы, хотя мне немножко совестно, потому что они маргинального порядка. Я услышала слово «обучение», и оно меня заинтересовало. Оно возникло в момент первого тезиса об изменении отношений. Может, я неправильно это услышала, и обучение там было лишним, непринципиальным. Ты сказал, что революция нас учит вот этому состоянию изменения отношений. И тут я немножко запуталась — вроде бы «учит» есть принадлежность к личному опыту…
ОА: Как горячая плита учит ребенка.
ЮЛ: Вот! И мне интересно, где тут место образованию в этой системе? Революция и образование — не мог бы ты немножко здесь порассуждать? Потому что тогда весь институт образования или образовательный процесс в связи с этим революционным мышлением переструктурируется. Как его тогда можно понять, как в нем можно быть?
ОА: На самом деле, это очень давний вопрос, и он связан с 1920‐ми годами в России, там были интересные опыты преобразования педагогических практик. Но я думаю, что так или иначе эти процессы идут самостоятельно, в том числе. Я не знаю, как напрямую революция влияет на образовательную практику, я могу лишь сказать, что, например, такая вещь как creative writing — это чистое порождение революции. Ну как может какой‐нибудь средневековый ученик заниматься креативным письмом, творчеством? Вообще все понимание творчества на этом построено. Я бы сказал, что это самостоятельное освоение мира, в котором каждому предоставлена возможность попробовать дать свою аксиому, — что очень непросто, — аксиому, с которой должны жить все, глобальное общество. Если мы подумаем об этом, то убедимся, насколько это трудно сделать, потому что все, что нам приходит в голову, это набор стереотипов: как лучше жить, как быть добрым, порядочным, как быть богатым, много разных вариантов. Но очень трудно дать такую аксиому, которая бы была принята всеми. И, собственно говоря, мне кажется, задача образования — это полигон вот такого глобального или универсалистского мышления, отвечающего не за какую‐то локальную ситуацию (как улучшить жизнь в своем подъезде). Революция всегда касается этой глобальной аудитории. В какой‐то момент может показаться, что результат — набор глупых тезисов, которые представляют неграмотные люди, но это и есть то, что является преадаптивным состоянием. Из этой «глупости» толпы рождаются настоящие процессы, а не из ума ученых, эти процессы исследующих.
ЮЛ: Есть еще вопросы, суждения?
Юля говорила о ваших книгах, которые мы иногда обсуждаем, но вот к одной статье мы в последнее время, по‐моему, чаще всего обращаемся. Это статья о Станиславском и Мейерхольде259. Мне кажется, идея, заявленная в этой статье, необычна для театроведения, и в контексте истории театра эта статья звучит революционно. А можно ли сказать, что систему Станиславского вы здесь рассматриваете как такую преадаптивную модель?
ОА: Да-да! Вы правильно уловили. То есть Станиславский, конечно, революционен. А Мейерхольд — человек, который находится в режиме существования модели революции. Мейерхольд создает пластику, изображение революционных изменений и в обществе и в театре. Это сопутствующее революции зрелище, тоже необходимое, но сопутствующее. Станиславский же для меня является революционером, переворачивающим постулат о театре как представлении. Кажется, этого Мейерхольд в нем не заметил.
Прошло довольно много времени с момента публикации статьи. Как вам кажется, предложенная вами возможная ситуация, в которой система актуализируется в иной совершенно конфигурации, сегодня получает какое‐то оправдание? Вы видите какие‐то новые способы существования системы, новые конфигурации? Или это осталось больше теоретическим конструктом?
ОА: Я должен вам честно признаться /смеется/, я не люблю театр и в него не хожу вообще (только если меня знакомые просят). Я не знаю, что происходит в театре сейчас. Вот Марина Давыдова иногда рассказывает, и я счастлив, что она погружает меня в мир интересного современного театра. Но как только я оказываюсь в нем, меня охватывает ужас от того, как все нелепо и архаично. То есть мое представление о современности театра мне кажется идиллическим. Хотя Лепаж мне понравился, это было достаточно интересно. Но вообще театр производит впечатление какого‐то, я бы сказал, контрреволюционного зрелища. Даже если он авангардный. Я поделюсь своими личными впечатлениями, надеюсь, вы не вынесете их за пределы этой аудитории /смеется/. Шутка, конечно. Меня как‐то пригласили на один театральный фестиваль в Варшаву, я там читал лекцию про Сулержицкого, который для меня является очень важным персонажем и героем, одним из основателей системы Станиславского, в большей степени даже, чем сам Станиславский, может быть. Меня тогда поразило, что в Польше почти никто не знает, кто такой Сулержицкий. Катажина Осинска написала чуть ли не единственную статью о Сулержицком в Польше. Ну и, поскольку я оказался на фестивале, заодно посетил несколько спектаклей… И был шокирован. Потому что это были модные спектакли наших модных современных режиссеров. Если вы вспомните три самых модных имени наших относительно молодых режиссеров, то вы легко поймете, какие это примерно могли быть спектакли, я не буду их называть. Cкажу так: я был в недоумении от каждого /смеется/. Но, говорят, что у них есть и успехи, что мне просто не повезло. Так что меня лучше про театр не спрашивать. Потому что мой способ, допустим, интерпретировать Станиславского связан именно с тем, чтобы преодолеть устоявшиеся в театроведении клише относительно системы Станиславского. То есть лишить того, что, собственно, ему как достоинство приписывалось: психологизм, русская школа… А на этот психологизм еще наложился сталинизм, как известно. Там много слоев, которые надо снимать. Когда я снимал слои и дошел до Сулержицкого, я понял, что Станиславский предлагает делать на сцене своеобразное кино без пленки с крупным планом и монтажом, с набором клише, в которых зритель опознает то, что происходит на сцене. Это такие структуры, которые потом становятся структурами переживания. И в этом смысле уже тут происходит преодоление границы сцены, — то, что потом Гротовский делал уже открыто. Гротовский — настоящий ученик Станиславского в этом смысле. Так что если я и говорю про театр, то только вот в таком теоретическом ключе. Хотя я смотрел на видео спектакли Гротовского. Но видеозапись — это уже колоссальная дистанция! Думаю, что даже эти ужасные спектакли, которые я посмотрел в Варшаве, на видео тоже были бы лучше. Я считаю, что вообще вот эта ситуация сцены драматична. Но ведь и я сам нахожусь сейчас с вами в такой ситуации.
ЮЛ.: Драматична. Я же с этого начала. Мы стараемся.
ОА: Я сижу в невозможной для себя аристократической позиции, понимаете, и вещаю вам о равенстве.
ЮЛ: Если можно, напоследок скажу. Очень увлекательным был твой тезис, что мы недооцениваем то, что нам позволяет масса. А чего мы недооцениваем, что нам позволяет масса?
ОА: Самое простое — это вернуться к тому, что я говорил. Благодаря массе мы сопричастны с процессами, которые выходят за рамки нашего опыта. Масса — это такой переходник между нами и миром. То есть именно как часть массы мы являемся частью стихии в таком почти древнегреческом смысле, как элемента мироздания. Масса ближе к ветру, горам, морям, чем мы. Неужели не прекрасно быть ветром в какой‐то момент?
ЮЛ: Это прекрасно для финала.
ОЛ: Даже поэтично.
ЮЛ: Большое спасибо, Олег, было очень интересно.
Речь и революция
(набросок теории действия)260
[речь]
Елена Петровская
Ни в коей мере не претендуя говорить от имени театра как вида искусства, постараюсь нащупать точки, где театральное или театр в узкожанровом смысле этого слова пересекаются с областью, которую можно назвать внетеатральной или нетеатральной. Поясню, о чем идет речь. Рассмотрим для начала ряд понятий, которые могут потребовать от нас дополнительного прояснения. Прежде всего, понятие «эстетика». Этот термин продолжает нас волновать, и он так или иначе заведомо ценностно окрашен. То есть под эстетикой мы понимаем нечто выделенное, по крайней мере нечто привилегированное в своем культурном статусе, нечто безусловно ценное. Однако, если мне доведется, я буду употреблять слово «эстетика» отнюдь не в указанном смысле. Я буду использовать его, пожалуй, в том остаточном смысле, который только и возможен сегодня, — а именно как чувственный опыт. Находясь в нашем времени, которое весьма разноречиво, и показывает нам различные образцы в сфере театральной, политической, да и просто повседневной жизни, мы должны использовать слово «эстетика» очень аккуратно. Я буду говорить об эстетике — или подразумевать эстетику — в смысле чувственного опыта.
Естественно, если мы редуцируем это понятие до чувственного опыта, у нас отпадет необходимость говорить о ценном и неценном, притом что такое различение проблематично уже само по себе, в том числе и в отношении современного театра, насколько я могу судить. Во всяком случае, это так в отношении современного искусства. Чтобы в этом убедиться, достаточно ознакомиться с работами Ильи Кабакова, который всем своим творчеством отстаивает «мусор» — то, что обречено на забвение или умирание в культуре.
А теперь сделаем еще один шаг навстречу театру. Нередко приходится слышать, что театр — это некие перформативные практики. Такое словосочетание звучит как плеоназм. В самом деле, что значит «перформативные практики»? Ведь перформанс — это исполнение, некоторое действие, представленное зрителю на сцене. Конечно, есть понятие перформанса как жанра художественной деятельности или современного искусства. Но можно говорить о перформансе как об исполнении. Собственно, если переводить это слово на русский язык, оно и означает «исполнение».
Однако я также хочу обратить внимание на то, что есть и понятие перформатива. В лингвистике это понятие связано с именами Дж. Серля и Дж. Остина, которые занимались перформативом напрямую261. «Перформатив», собственно, есть не что иное, как транслитерация: его не переводят никаким отдельным словом, и он означает определенный тип высказываний, которые меняют существующее положение вещей. Излюбленный пример из Остина таков: «Я беру эту женщину в жены». Имеется в виду клятва, которую дает каждый из супругов при вступлении в брак (в данном случае мы имеем мужскую версию брачного обета). Как бы то ни было, это такого рода высказывание, которое участвует в реальной трансформации. То есть это, если угодно, преобразующее высказывание или, проще, высказывание-действие. Перформатив и стóит воспринимать именно в таком ключе — как высказывание-действие. И вот тут мы подходим вплотную к тем высказываниям, которые звучат сегодня в мире в ходе многочисленных протестных выступлений. Эти движения происходят повсюду, и их новую волну мы зафиксировали в нашей стране в 2011 году. Но 2011 год — это и движение «Оккупай», охватившее по‐настоящему весь мир. А это приближает нас к нашей основной теме, которая обозначена как «революция».
Если говорить о перформативе очень коротко, не вдаваясь в специальные рассуждения лингвистического толка, то, наверное, можно вспомнить лозунги, которые были характерны для «настоящей» революции. Я имею в виду революцию 1917 года, которую теперь, правда, называют государственным переворотом. Но тогда произносимые лозунги действительно звучали как требования очень радикальных изменений, требования-изменения. Что имеется в виду? «Мир — народам!», «Хлеб — голодным!», «Земля — крестьянам!», «Фабрики — рабочим!». Эти требования были продиктованы реальной политической и экономической борьбой, и их заявление означало шаг — по крайней мере шаг — к реализации, достижению провозглашенных целей. Безусловно, это были лозунги перформативные.
А теперь посмотрим на те лозунги, которые звучат сегодня и которые звучали в 1968 году, тем более что совсем недавно мы отмечали пятидесятилетие майских событий. «Что было в 68‐м году?» — задаются вопросом современные исследователи и не могут дать однозначного ответа. Применительно к Франции речь может идти, конечно, о студенческих волнениях. Вслушаемся в эти лозунги. По сравнению с теми, что известны нам самим, они звучат совершенно по‐другому. Вот один из самых известных лозунгов (его следует воспроизвести по‐французски, поскольку всегда возникает известная неточность с переводом): «Défense d’interdire». Замечу, что эти лозунги неизменно принимали вид граффити. То есть их не столько произносили, сколько писали, — шаг в сторону современного искусства: лозунги в виде городских граффити, безымянных надписей на стенах. Итак, «Défense d’interdire» — «Запрещено запрещать». Но тут два разных слова, поэтому как это лучше перевести? Наверное, словами «Нельзя запрещать». Что, между прочим, вызывает в памяти ленинский призыв «Не сметь командовать!», произнесенный им в 1919 году по поводу более или менее зажиточных крестьян. Он тогда имел в виду союз пролетариата и крестьянства и требовал, чтобы к крестьянам относились со всей возможной осторожностью, вербуя их в союзники, а не отталкивая от себя.
Но вернемся во Францию 68‐го года. Знаменитый лозунг «Будьте реалистами, требуйте невозможного», звучавший той весной, принадлежит, как хорошо известно, Че Геваре. Но были и такие — их большинство, — чье авторство установить нельзя. Вот некоторые из этих лозунгов: «Изнасилуй Alma Mater!», «Мы никогда не придем к власти», «Долой абстрактное, да здравствует эфемерное!», «Алкоголь убивает. Прими ЛСД», «Отоприте двери психушек, тюрем и других факультетов!», «Поговорите с соседями», «Ненавижу писать на стенах», «Мы все — немецкие евреи». Последний лозунг, кстати говоря, насквозь контекстуален: он связан с одним из лидеров движения Даниэлем Кон-Бендитом, который учился не в самом Париже, а в университете Нантера. Кон-Бендит стал настоящим возмутителем спокойствия, спровоцировав студентов других университетов на активное сопротивление властям. Полиция попыталась призвать студентов к порядку, а противники Кон-Бендита стали «обзывать» его евреем, тем самым открыто демонстрируя свой антисемитизм и расизм. Возникший на этой волне лозунг — реакция студентов на противодействие, оказываемое со стороны властей и поддержавшей их консервативной части населения262.
И еще несколько лозунгов. «Профсоюзы — публичные дома». Или вот такой, коррелирующий с театром: «Искусство умерло. Освободите будни» (по‐другому — «Освободите повседневность»). Еще один: «Я люблю тебя! О, скажи это с помощью булыжников!». Лозунг весьма знаменательный, ведь французские студенты, парижские прежде всего, разбирали мостовые, и поэтому мотив булыжника, напоминающий нам самим о событиях 1905 года, очень актуален для французов. По-французски «булыжники» — «les pavés». И в связи с этим вспомним один из самых знаменитых лозунгов: «Под булыжниками — пляж!» (подразумевается спрятанный под ними песок), «Sous les pavés, la plage!». К этому можно добавить и довольно хулиганские высказывания. Например, такое: «Распахивай свой ум так же часто, как свою ширинку!». Таков примерный диапазон лозунгов, звучавших в мае 68‐го. При этом важно обратить внимание на то, что, какими бы приведенные лозунги ни были по тону, их вряд ли можно отнести к перформативам. Вряд ли это такие высказывания, которые меняют существующее положение вещей. Если по‐прежнему выражаться на языке лингвистической теории, то это скорее констативы — констатирующие высказывания. Таким способом можно описать нечто и даже, возможно, выразить к нему свое отношение. Но это явно не высказывания-действия.
Что же мы слышим в этих высказываниях? Впрочем, выясняется, что нам и не нужно идти так далеко. Действительно, зачем обращаться к 1968 году, когда мы можем вспомнить 2011 год и прежде всего Болотную площадь? Там вместо лозунгов в привычном понимании были таблички, изготовленные отдельными участниками, и одна из них врезалась мне в память. Она была удивительна по своей скромности и одновременно по какому‐то уникальному чувству времени и места. Надпись звучала так: «Я видел вброс». Ничего больше. Речь очевидным образом идет о злоупотреблениях на тогдашних выборах в Госдуму. Это высказывание можно отнести к констативам, причем, похоже, очень личного свойства. Полагаю, что в контексте местного протестного движения это может означать только одно — указание на пробуждение политического самосознания, если воспользоваться немного устаревшим языком. То есть указание на внезапное пробуждение к гражданской жизни ни больше ни меньше как целого поколения. Имеется в виду так называемое поколение нулевых, или путинское поколение, которое обвиняли в том, что оно насквозь аполитично.
Все эти примеры нам нужны для того, чтобы мы могли вслушаться в речь, — ведь так звучит наша тема. На этом этапе нам важно понять, каков, собственно, статус этой речи. Несмотря на то что это вроде бы высказывания, которые можно записать за кем‐то конкретно — по видимости индивидуальные высказывания, — я тем не менее исхожу из другого понимания. Это речь, которая не принадлежит никому по отдельности. Продлевая эту мысль, можно предположить, что это особый тип речи, который является речью-действием, если мы исходим из того, что именно массовое действие заявляет о себе через речь, становясь для нас видимым, доступным, осязаемым благодаря потенциально бесконечной серии высказываний — множественных, разнородных, разлетевшихся на мелкие осколки. Ведь не секрет, что сегодня действует масса. Это, по моему убеждению, ключевой тезис как для XX, так и для XXI века, хотя осознание появления и выхода на авансцену массы как движущей силы истории произошло еще в XIX столетии. И это понимали теоретики, внимательные к ходу экономических и политических процессов. Первым в их ряду стоит, конечно, Маркс263.
Массы — это уже не индивид. Мы должны отдавать себе в этом отчет, потому что мы привыкли обо всем — о себе, о театре, о любимом и нелюбимом — думать в сугубо индивидуальных терминах — я, мое, не мое. Однако в данном случае необходимо сменить ракурс и подумать о высказываниях как о проявлении того, что заведомо охватывается коллективом. Но коллективом не оформленным, не закрепленным институционально, а представляющим собой некоторую общность. Вообразим голос, не принадлежащий никому в отдельности, и одновременно голос всех. Поэтому такие высказывания невозможно и не нужно индивидуализировать.
Все это, бесспорно, очень важно для понимания того, куда смещаются современные протестные движения. А они, в свою очередь, наводят на мысль о том, как трансформируется понятие революции. Для нас революция в историческом смысле этого слова — прежде всего и главным образом насилие. У меня нет готовой теории революции, какой я могла бы с ходу поделиться. Однако речь массы, заявившей о себе на исторической арене относительно недавно, помогает нам поставить заново проблему революции. Как показывает практика, сегодня мы в основном имеем дело с революциями ненасильственными. Это те самые революции, которые у нас определяют как цветные, хотя приходится признать, что это не более чем пропагандистский штамп, поскольку речь идет о низовых движениях, о динамике совместно действующих сегодня масс.
Если немного углубиться в тему, то можно вспомнить, как ряд философов Нового времени, занимавшихся политической теорией, уже тогда высказывались о том, что такое «многие» — «многие», которые становятся активной силой на политической сцене при разных обстоятельствах. Страх перед этими «многими», перед тем, что иные называли «чернью», испытывал и Томас Гоббс. Он чурался народных масс, пренебрежительно именуя их «толпой». Это очень точный перевод с английского, но слово‐то одно, в каком бы смысле оно ни употреблялось. И слово это «multitude». У Гоббса оно действительно означает толпу, потому что он дает массе следующее хлесткое определение: «the dirt and dregs of men», «грязь и подонки людские»264. Как видим, Гоббс не скрывает своего резко отрицательного отношения. Спонтанному, стихийному движению толпы — а это то, что сегодня и есть наша политика, наша повседневность, сама наша политическая жизнь, — он противопоставляет понятие «народ». Народ — это некое единство, коррелирующее в его сознании с понятием «государство». Итак, мы видим, как на заре Нового времени возникает дихотомия «масса — народ»265.
Но есть другой мыслитель, вступающий в полемику с Гоббсом, правда, не прямую, а заочную. Мыслитель этот — Бенедикт Спиноза. Спиноза использует то же самое понятие. Однако пишет он по‐латыни, и в его сочинениях фигурирует «multitudo», которое у нас учтиво переводят как «массы», «народные массы». Это в принципе правильно, поскольку у Спинозы совершенно другой образ того, кто и как делает политику и на основании чего складывается общество. Стоит ли говорить, насколько важно обращаться к таким философским подсказкам? Это нужно делать с помощью комментаторов, конечно, потому что хотя такие тексты и трудно читать без подготовки, в них все‐таки можно найти ключ к пониманию того, что происходит сегодня. И связано это, в частности, с тем, что Спиноза — не психологический мыслитель. В XVII веке не было науки психологии. Конечно, существовало представление о философском субъекте. Однако субъект и «я» — вовсе не одно и то же. И если представление о философском субъекте уже сформировалось, то еще не было психологического «я», и за ним еще не было закреплено никакой ценности, что случится намного позднее.
Вместо этого было представление о физике вещей. И именно физику вещей, включая политическую жизнь, мы можем почерпнуть у Спинозы. Обратимся к его «Политическому трактату», который писался начиная с 1675 года, и постараемся проникнуться тем, как в XVII веке мыслил политику один из самых блестящих философов — тот, кого сегодня открывают заново. Перевод был опубликован еще в советское время (в конце 1950‐х), но он совсем не устарел:
…мысленно обращаясь к политике, я не имел в виду высказать что‐либо новое или неслыханное, но лишь доказать верными и неоспоримыми доводами или вывести из самого строя человеческой природы то, что наилучшим образом согласуется с практикой.
Тут стоит пояснить, что когда Спиноза говорит о верных и неоспоримых доводах, его интересуют доказательства, подобные математическим и геометрическим, ведь тогда эти науки играли очень важную роль, в том числе и в сфере философского и общегуманитарного знания. Продолжим:
И для того, чтобы относящееся к этой науке исследовать с тою же свободой духа, с какой мы относимся обыкновенно к предметам математики, я постоянно старался не осмеивать человеческих поступков, не огорчаться ими и не клясть их, а понимать. И потому я рассматривал человеческие аффекты, как‐то: любовь, ненависть, гнев, зависть, честолюбие, сострадание и прочие движения души — не как пороки человеческой природы, а как свойства, присущие ей так же, как природе воздуха свойственно тепло, холод, непогода, гром и все прочее в том же роде; все это, хотя и причиняет неудобства, однако же необходимо и имеет определенные причины, посредством которых мы пытаемся познать их природу, и истинное созерцание их столь же радостно для духа, как и познание тех вещей, которые приятны чувствам266.
Самое первое впечатление от приведенной цитаты — это простой и прозрачный язык. Но на нем высказана довольно сложная мысль. Не вдаваясь в подробности, обратим внимание на несколько моментов. Во-первых, политику можно исследовать с той же точностью, с какой исследуют предмет математических наук. Во-вторых, человеческие аффекты — это нечто подобное природным силам или природным стихиям, и для того чтобы в них разобраться, необходимо знать их причины. А это уже заявка на физическую интерпретацию политических явлений — это политическая физика. Далее звучит упоминание о человеческой природе, и это, безусловно, очень старое понятие, но следует иметь в виду, что в другом месте того же трактата Спиноза определяет человеческую природу в категориях общения. В слове «общение», впрочем, не следует улавливать что‐то повседневное и сиюминутное — для Спинозы оно имеет вполне определенный смысл. Он относит общение на счет того, что именует гражданским состоянием. Мы все, утверждает он, а именно варвары и не варвары, одинаковым образом находимся в состоянии общения267.
Что это значит? Мы уже все вместе. Мы все заранее связаны. И это совершенно четко соответствует философии права Спинозы. Она примечательна тем, что решительно противостоит гоббсовскому толкованию, и философия эта очень близка сегодняшнему дню. Сколько мощи, столько права: согласно Спинозе, двое, соединившие свои силы, будут иметь больше права, чем каждый из них по отдельности268. А мощь для него есть не что иное, как способность к действию, и аффект — это тоже показатель способности к действию. То, что мы сегодня называем человеческими эмоциями, Спиноза определяет с точки зрения того, что уменьшает или увеличивает способность тела к действию269. То есть перед нами философия действия, если правильно ее прочитать.
Мне кажется, что такой подход весьма актуален, ведь мы должны понять, чтó хотят сказать наши современники, которых много, которые образуют множество нерасчлененных голосов. Вот здесь мы и возвращаемся к понятию множества, и именно это слово используют сегодня. Это не математическое множество, тут не найти подобных коннотаций. В этом слове зафиксировано представление о массах — или народных массах, действующих по внутренне присущим им законам. Вот что сообщает нам Спиноза. Масса действует по собственным законам, и право, формирующееся в результате действия, в том числе и юридическое право, основано не на общественном договоре, а создается материальной силой этой массы. Главное — здесь нет ни делегирования, ни передачи права кому бы то ни было вообще270.
Мы живем в обществах, переживающих кризис представительной модели демократии. И это возвращает нас к театру. Представительство, представление — слова с одним и тем же корнем, и, по существу, в них отражена одна и та же проблема. Что такое кризис демократии? Это кризис политического представительства. Наши представители нас не представляют. Что мы узнали из опыта Болотной площади? «Вы нас даже не представляете» — гласил впоследствии ставший знаменитым лозунг. В этом суть проблемы. Данное высказывание легко расшифровать. При буквальном прочтении оно означает, что мы хотим действовать сами, хотим сами добиваться своих прав, конституировать свое право самостоятельно — право в юридическом, но и в гражданском смысле слова. Мы способны это сделать. И это делалось, пускай локально, в ограниченном масштабе; это имело место, несмотря на случившийся вскоре откат. В приведенной формуле выражена логика прямого действия.
Можно утверждать, что Спиноза фактически одним из первых — и это удивительное сообщение, пришедшее к нам из XVII века, — говорит о возможности политики без и помимо представительства. О возможности абсолютной демократии. На этом, собственно, и обрывается «Политический трактат»: он так и остался недописанным. Стало быть, как именно Спиноза мыслит себе абсолютную демократию, нам неизвестно. Об этом можно узнать только из его толкователей, из того, что пишет о нем сегодня Антонио Негри прежде всего271. Но сама по себе мысль очень радикальна. Итак, мы остаемся один на один не только с открытым вопросом о том, что такое абсолютная демократия, но и с практикой мировых движений, предъявляющих нам реальность, с которой мы не в силах справиться, ибо не знаем, что это такое. Наша способность к концептуализации и наш понятийный аппарат переживают откровенный кризис.
На этом этапе уместно вспомнить имя современного французского исследователя Мишеля де Серто. Это известный автор, писавший по поводу многих культурных явлений и отозвавшийся на события 1968 года во Франции годом спустя. Название его статьи может, наверное, по‐разному переводиться на русский, но дословный перевод таков: «Захват речи». Это калька французского выражения «prise de parole». Возможны и другие варианты, потому что речь идет о том, что человеку передают слово и он начинает говорить. «Prise de parole» означает в точности «взять слово». Но в данном случае подразумевается нечто большее, чем просто этот акт. Де Серто приравнивает захват или взятие речи к взятию Бастилии. Он утверждает, что в мае 68‐го слово взяли так же, как когда‐то — Бастилию. Приведу короткую цитату, в которой отмечается главная особенность данных событий: «Все наконец заговорили — о существенных вещах, об обществе, о счастье, о знании, об искусстве, о политике»272. Согласно де Серто, в это время все слышнее становился гул речи, который распространяется, как пламя, и превращает зрителей в деятелей, в действующих лиц.
Мне представляется, что в статье де Серто (хотя у него можно обнаружить и другие аргументы) событие захвата речи, или взятия слова, — это как раз выражение того, что на своем языке, но очень точно Спиноза называл общением. Общение не сводится к простой коммуникации; оно, напротив, проявляет то, что, действуя, мы всегда уже вместе. Действие и есть то, что наделяет нас в конечном счете речью, что придает нам логику, что сообщает этику. Ведь, как мы знаем еще из М. М. Бахтина, нет этики, точнее, нет таких моральных предписаний, которые предшествовали бы поступку273. Поступок имеет собственное измерение, и мир культуры не совпадает с миром жизни, где действие и совершается. Но поскольку эти два мира — мир культуры и мир жизни — не пересекаются друг с другом, то это очень печально для нас, желающих совершить поступок, или, как сказал бы Бахтин, повинующихся его (при) нудительной силе. Когда мы совершаем поступок, когда мы действуем, меняется мир. Но этого мало. Одновременно происходит и трансформация нас самих, а также тех оснований, по которым мы существуем внутри поступка — вернее, влекомые им.
Возвращаясь к театру, замечу, что упоминавшиеся выше процессы — их можно выражать по‐разному, с привлечением разных авторов — не могут пройти мимо театра и новейших театральных практик. Полагаю, что приход так называемого документального театра в любых его формах напрямую коррелирует с кризисом представления в широком смысле этого слова. Ведь помимо обсуждавшихся политических коннотаций у этого слова есть и еще одно значение, а именно «изображение». В языках латинского происхождения оговорки и уточнения здесь не нужны. «Изображение» и «представление» — это два разных значения, передающихся одним словом «representation» («репрезентация» существует и в русском языке, но я избегаю употреблять это слово). Кризис представления, бесспорно, влияет на театральную практику. Как сегодня, например, возможен натуралистический театр? Тот самый, который ложно связывают со школой Станиславского? Достаточно сказать, что все эти изображения психологических переживаний и страстей воспринимаются как фальшь сегодняшними зрителями.
И наконец, отмечу последний момент, имеющий непосредственное отношение к театру. Сошлюсь на лекцию Николая Евреинова «Театр и эшафот»274. Это известная публикация, причем отнюдь не только в театральной среде. Евреинов связывает интерес к зрелищу с насилием — истоки театра он выводит из эшафотных практик или практик наказания. Эти идеи, между прочим, в начале прошлого века очень волновали С. М. Эйзенштейна, который в это же время придумывал свой собственный кинематограф. Эйзенштейн, как известно, называл его монтажом аттракционов, под чем он понимал (хоть и выражал это совсем по‐другому) кинематограф, способный манипулировать массовым зрителем. Он изучал разные источники, и Евреинов, его современник, оказался в их числе275. Так вот, это была весьма оригинальная идея происхождения театра, как можно было бы сказать, из духа насилия. Или просто — из насилия. Действительно, ничто не завораживает так, как зрелище казни. Абсолютизм всегда устраивал из наказания зрелище. Вспомним детальные описания публичных казней, в частности четвертования Дамьена, приводимые в знаменитой книге Фуко276. Он показал, насколько тесно казнь в ту эпоху была связана с необходимостью превратить ее в театрализованное действо.
Однако если говорить о зрелище и его формах сегодня, то они насквозь медиатизированы. Можем ли мы применить идею соображения Евреинова к интерпретации нынешней культурной ситуации? Навряд ли. Скорее, мы должны исходить из того, что сегодняшнее зрелище всегда опосредовано средствами массовой коммуникации. Собственно, по‐другому оно и не явлено нам. Со всех сторон нас окружают бесчисленные камеры, которые фиксируют все, что только можно зафиксировать. Это удивительная ситуация, ситуация постоянного удваивания даже самых незначительных событий. Фиксируется все без исключения. И участвуют в этом городские камеры, камеры, стоящие на банкоматах, и т. д. и т. п. (список можно продолжить). Получается, что допустимо говорить о тотальном зрелище или о тотальной медиации. Но как это связано с театром? Мы знаем, что это влияет на современное искусство: художники обыгрывают ситуацию непрерывной слежки, которой мы подвергаемся со всех сторон. Но как в точности это влияет на театр, что поменяло в театре?
Недавно мне попалась на глаза рецензия на спектакль Константина Богомолова по пьесе «Слава», написанной поэтом сталинской эпохи Гусевым еще в довоенные годы. Богомолов вдруг решает поставить эту полузабытую пьесу. Если верить рецензенту, часть зала уверена в том, что это скрытое прославление сталинизма, а другая считает, что это, наоборот, постмодернизм, то есть критическое отношение к исходному материалу. Грань настолько тонка, что ее может различить любой — или никто вообще не различает. Наверное, этот театральный эксперимент требует обсуждения, хотя он, конечно, не иллюстрирует то, о чем мы говорили до сих пор. Правда, здесь можно отметить следующее обстоятельство. Меня заинтересовало то, что одни воспринимают спектакль апологетически, а другие — критически. Это заставляет задуматься над таким вопросом: как можно поставить спектакль так, что выявление грани является действием зрителя? На это и намекала рецензия в газете «Ведомости»277. Получается, что своим вмешательством, то есть фактически актом интерпретации, зритель и проводит эту грань, занимая либо одну сторону, либо другую. Иначе говоря, решение оставлено за зрителем.
***
Что можно сказать о речи в театре? Насколько мне известно, режиссер Някрошюс поставил спектакль по двум романам Светланы Алексиевич, который показали в Петербурге. Это тоже весьма примечательный факт. Ведь что это за литература, если разобраться? Вопрос отнюдь не праздный. Какой театр на своих подмостках создает режиссер — не менее важный вопрос. И все‐таки: что это за тип литературы, который нельзя считать авторским в привычном понимании? Алексиевич, как известно, — регистратор многих голосов, в буквальном смысле этого слова. Она ходит с диктофоном, записывая чужие истории и чужие признания. Понятно, что она потом их редактирует, работает с ними как с готовым материалом. И работает уже совсем не так, как писали и до сих пор пишут литературу так называемые авторы.
Вообще говоря, в разных областях параллельно происходят очень интересные процессы. Например, спокойно и без всякого сожаления мы можем констатировать кризис авторского кино — того самого, что называют «auteur cinéma». У нас такое кино известно под названием «артхаус». Конечно, и сейчас снимаются подобные фильмы, но они адресованы слишком узкой аудитории. И если раньше областью эксперимента было авторское кино — достаточно вспомнить имена крупнейших режиссеров XX века, — то сейчас эксперимент, правда, в основном технологический, ведется на территории массового кинематографа с его необычайными спецэффектами. То, что сегодня захватило весь мир, это жанр фэнтези. Возьмем «Игру престолов», например. В этом можно усмотреть своеобразную инфантилизацию сознания современного зрителя. Но одновременно здесь угадывается потребность в некоей новой мифологии — мифологии массового общества. А вот авторское кино переживает явный кризис.
С литературой дело обстоит сложнее, потому что литература — освященный институт: никто не хочет расставаться с фигурой автора, хотя мы и прекрасно знаем, что существует анонимная литература. Таковы, к примеру, предания, передававшиеся из поколения в поколение. Не будем забывать, что литература — это институт, возникший в прошлом, при определенных исторических условиях. Институт этот может и должен меняться. Возможно, мы сейчас стоим на пороге какого‐то изменения литературы. И может быть, как раз то, что Алексиевич получила Нобелевскую премию, символизирует отход или по крайней мере первый шаг в сторону от авторской модели, которая в литературе, наверное, будет держаться дольше всего.
Однако вернемся к театру. Что за речь в нем звучит и кому принадлежит эта речь? То, что актеры декламируют или произносят какие‐то лозунги, еще не значит, что речь приобретает индивидуальные черты. Она разыгрывается как партитура. Это напоминает игру музыкантов, когда каждый исполняет свою партию, но это только часть общей подвижной музыкальной ткани, которую они создают. И я допускаю, что в каких‐то случаях в театре звучит не индивидуализированная речь, а тот самый гул голосов, о котором говорит де Серто. Просто мы должны понимать — но это трудно сделать, потому что, несмотря на все изменения, которые произошли в мире в целом и в гуманитарном знании в частности, мы все равно настаиваем на своей ценности, на том, что в центре всего стоит «я», мое неповторимое восприятие, личность и т. д.; и когда нам предлагают отказаться от этого в пользу чего‐то другого, то это всего лишь иной взгляд на культурные процессы, и никакого драматизма тут, конечно, нет, — так вот, мы должны понимать, что всеобщее — то, что разделяется всеми, — является предпосылкой, от которой мы и должны отталкиваться в наших рассуждениях. Это не то, к чему мы движемся, пытаясь этого достичь, но нечто безусловно наличное, то, что во многих отношениях достигнуто278. Из этого мы и должны исходить. И это обстоятельство меняет всю картину.
Современный театр не может не реагировать на такие вещи — тот самый театр, который опирается на современное искусство. Факт остается фактом: то, что называют перформативными практиками или, проще говоря, перформансом, имело место сначала за пределами театра, а потом нашло свой путь и в театр, и теперь театр, экспериментальный театр прежде всего, как раз пребывает в содружестве с современным искусством. От такого театра не нужно ждать катарсиса. Это другой театр, где по‐другому строятся отношения между актерами и публикой. Может быть, потому Богомолов нам и интересен, что своим якобы бесстрастным прочтением пьесы он на самом деле открывает пространство для активного включения зрителей.
***
Вернемся еще раз к лозунгу «Вы нас даже не представляете». Между прочим, однажды выяснилась удивительная вещь: по‐испански игра слов в нем сохраняется. Оказывается, в Испании во время движения «Оккупай» был точно такой же лозунг. Но нарочитую двусмысленность, заложенную в нем, невозможно передать по‐английски. О чем же сообщает лозунг? С одной стороны, в нем содержится идея представительства, о чем немало говорилось выше. А с другой стороны, лозунг можно прочитать и так: «Вы даже не представляете, на что мы способны». Конечно, можно вспомнить, что его придумал поэт и активист Павел Арсеньев, но можно также утверждать, что его придумала масса, которая вышла на улицу, или что действие этой массы породило лозунг, ставшийузнаваемым везде — в Испании, России и т. д. Следовательно, не будет ошибкой утверждать, что авторство его случайно.
Хорошо, что группа российских антропологов собрала все эти лозунги, записала их в тетрадку, положила записи на полку. Это, бесспорно, важная работа, связанная с собиранием следов. Лозунги, которые собраны в тетрадку и лежат на полке, это следы того, что уже произошло. Это своего рода объективация действия, его остаточный след, остывшая корка горячей лавы, если угодно. Иными словами, это ценное свидетельство, позволяющее не забыть про определенный период времени, помнить о том, чтó тогда говорилось, а это может помочь человеку, изучающему это время, восстановить отдельные, например утраченные, связи. Но то, о чем мы говорили выше, относится к явлениям другого рода.
Тут есть и еще одна проблема, связанная с самой антропологией. Существуют разные виды антропологического анализа, в том числе и так называемое включенное наблюдение. Впрочем, как бы это ни называлось, включенным или исключенным наблюдением, все равно в антропологии остается фигура наблюдателя. И это принципиальный момент. То есть, хотим мы того или нет (а чаще всего мы этого хотим), по многим причинам мы находимся на дистанции по отношению к объекту изучения. Антропология в этом смысле — это обязательно дистанция. Иначе говоря, можно максимально сблизиться, войти в гущу отношений, нам неизвестных, произвести над собой нечто вроде культурного эпохэ. То есть освободиться, насколько это возможно, от своих предубеждений, привычек и т. д., чтобы приблизиться к экзотическому объекту, перестающему тем самым быть таковым. Но потом мы делаем шаг назад и снова смотрим на него со стороны, как бы обремененные этим новым опытом. Все равно мы остаемся наблюдателями. Меняем ли мы дистанцию или сохраняем ее неизменной, мы находимся на расстоянии от этого объекта, который нами так или иначе конструируется. Мы его создаем. Это не натуральный объект, а то, что получается в результате нашей научной работы, исследовательского и антропологического обобщения.
Но когда мы говорим о речи, не записывая ее за отдельными говорящими, мы в идеале исключаем позицию наблюдателя. А это очень трудно сделать. Мы должны найти такие аналитические инструменты, возможно, не столько антропологические, сколько философские, которые позволили бы нам рассуждать об этих явлениях, не устанавливая по отношению к ним дистанции, предполагаемой наблюдением. Задача, грубо говоря, — быть языком изучаемых явлений. Но при этом не говорить от их имени, не представлять эти явления, как это делает антрополог. Он же представитель, представитель иного племени в нашей культуре. Нужно научиться говорить на языке или языком самих этих явлений, давать им слово, тем самым проявляя события и процессы, то есть давая им возможность говорить самим за себя.
Полагаю, что лозунги, которые приводились ранее и местная разновидность которых собрана нашими социальными антропологами (можно также назвать исследования Александра Бикбова, изучавшего движение «Оккупай» в его московской версии279), — это следы столкновения физически понимаемых сил. Мы должны попытаться мыслить протестное движение физикалистски, и именно к этому нас подводит Спиноза, то есть в терминах действия неодинаковых сил. Можно вспомнить и о таком понятии, как вектор, имея в виду направление этого действия. В данном случае, однако, это некоторые почти незаметные смещения. Де Серто сообщает нам о том, что в языке все как будто неизбежно повторяется, поскольку в нашем распоряжении всегда один и тот же язык. Даже в случае французских лозунгов, звучавших в мае 68‐го, используются те же самые слова, но уже в другом значении. И в результате происходит незаметное смещение самого языка. Лингвистически это не опознается, но что‐то все равно уже случилось, что‐то все равно произошло. Ведь старыми словами выражаются новые требования — они лишь облекаются в знакомые слова. Например, в 1968 году рабочие французских заводов пользовались риторикой тред-юнионистской борьбы по образцу 1936 года: главным требованием было повышение зарплаты280.
Однако действительные требования выходили за рамки тех слов, которые произносились. Это, повторяю, было некое смещение. Смещение не языковое, а политическое, социальное, культурное, а оно, в свою очередь, не могло не влиять на язык. Поэтому, хотя язык оставался тем же самым, внутри него уже что‐то сдвинулось, как говорит де Серто. И поэтому возникают предпосылки для появления новой идиомы. Так как изменения уже происходили, дефицит языка, по выражению исследователя, одновременно выражал «позитивность» проживаемого опыта281. Итак, сдвиг или смещение. Действительно, мы можем говорить о протестах в терминах смещений. Но тогда нам нужно придумывать другую семиотику, позволяющую адекватно их описывать. Не обязательно придумывать, конечно, потому что такие возможности у нас уже есть, просто нужно немного встряхнуться и вспомнить о них. В самом общем виде это значит, что следует перестать мыслить в духе субъект-объектной оппозиции. Или, как подсказывает семиотика, такими парными категориями, как означаемое и означающее. Иными словами, изменение следует мыслить без противопоставлений, которые, безусловно, экономны и удобны, но наносят непоправимый ущерб тому явлению, чью динамику мы хотим уловить.
В связи с этим полезно вспомнить, например, семиотику Пирса, у которого она вся построена на трехчленных структурах и который размышляет над тем, что такое слабые знаки. Занимаясь сериалом «Шерлок», я обратилась к пирсовской абдукции282. Если говорить строго, абдукция — это и есть тот метод, которым пользуется Шерлок Холмс. Достаточно вспомнить известную формулировку «reasoning backwards», без конца цитируемую исследователями Конан Дойля. Что это значит? Движение от следствий к причинам. Мы привыкли мыслить в причинно-следственных категориях ровно наоборот, а именно от причины к следствию. У нас линейное мышление. Все в нашем мире, во многом сформированном Декартом, просто и благополучно. Но на самом деле все сложнее и, наверное, гораздо беспокойнее. В чем состоит идея абдукции? В дополнение к индукции и дедукции, двум основным способам логического умозаключения, это третий способ — за абдукцией можно закрепить статус достаточно строгой логической операции. Но сейчас я не буду в это вдаваться. Можно сказать, что это гипотеза, которая формируется по случаю, ad hoc, что это в некотором роде слабая гипотеза.
Дело в том, что есть определенные конфигурации знаков, которые нужно уметь прочитать. Возьмем детектива. Перед ним набор разрозненных свидетельств, или (на языке криминалистики) улик. И он никак не может сложить их в какую‐то стройную гипотезу, например назвав имя подозреваемого в убийстве. Ведь детектив решает вполне конкретную задачу — он дает ответ на конкретный вопрос. И вдруг в произвольный момент, почти каким‐то озарением, все эти элементы складываются в ясную картину, и мы сразу начинаем видеть связи, которые уже существовали283. Стало быть, абдукция — это способ проявления наличных, но неявных связей. Ключевым является, пожалуй, слово «связи». Мы все время говорим «индивид», однако на место индивида мы должны поставить отношения. Отношений бесчисленное множество. В свое время Спиноза отмечал, что мы не знаем действительных причин явлений, поскольку заменяем их ближайшими причинами. Так проще и удобнее мыслить. Но причина может быть и скрыта. Если брать ближайший к нам пример, то это психоанализ — психоанализ как раз имеет дело со скрытыми причинами наблюдаемых явлений.
Итак, речь идет об анализе некоторых отношений, или связей, существующих между вещами и индивидами. Мы, индивиды, имеем преимущество и одновременно недостаток — мы ощущаем. А ведь есть отношения, которые связывают нас с неодушевленной природой, например с камнями. Они ничего не ощущают, насколько нам известно. Но отношения все равно существуют, и их бесконечное число. И поэтому мы все‐таки должны постараться перенести фокус с индивидуального, личного — на соотносительное, на то, что находится в отношениях друг с другом, на сами эти отношения. Меняется только отношение, динамика существующих отношений. Если мы это поймем и будем следить за названной динамикой, для нас многое прояснится из того, что происходит в современном мире и, возможно, в современном театре.
***
Речь — это, конечно, не общий разговор и не записи, сделанные антропологами. Для нас интересна та речь, которая связана с происходящими событиями, а не ее запаздывающие отголоски. И это то, что мы в начале условно называли лозунгами. Однако, как уже отмечалось, приводившиеся лозунги, особенно 2011–2013 годов, больше похоже на обрывки речи, на приватные высказывания. Наверное, здесь уместно употребить слово «гул», которое в каком‐то виде применительно к речи использует и Мишель де Серто. Действительно, что можно вычленить из этого равномерного и плохо различимого звучания? Наш способ рассуждения всегда связан с замыканием и остановкой, поскольку нам удобно иметь дело с тем, что вписывается в представление. Представление в философском смысле — это всегда остановка. Абдукция же имеет дело с множественностью знаков, то есть с множественностью самих отношений. Абдукция гораздо более аккуратна в том смысле, что она не останавливает. Представление — это остановка изменения. А абдукция имеет дело с изменением как таковым. К сожалению, мы по‐прежнему пользуемся старыми аналитическими инструментами, которые не позволяют нам мыслить изменчивость. Причем мы сами меняемся каждую секунду, находясь в бесконечных отношениях и друг с другом, и с предметами, и в целом с окружающим нас миром. Но мы отчаянно, мучительно цепляемся за свою идентичность. Паспорта, фотографии и прочее, все эти призраки идентичности, преследующие нас днем и ночью, удобны потому, что они соразмерны человеческим скоростям.
А скорости мира другие. В мире есть разные существа, живущие на совершенно других скоростях и на иных основаниях. В первую очередь, это животные. Мы их одомашниваем, превращаем в то, что нам легко и сподручно понимать. И в результате уничтожаем скорости мира, совершаем над ним постоянное насилие. Но если задуматься или просто проследить за ритмами животного мира — это очень интересно, и не случайно Жиль Делез пишет о становлении-животным, — если научиться распознавать эти аффекты, входить в их ритм (а у людей и у зверей свой отличительный набор аффектов), тогда мы узнаем о мире нечто большее, чем опрокинутую на него проекцию самих себя.
***
Можно ли сравнивать гул речи с греческим хором? Хор — явление крайне необычное, и он имеет конкретные сценические функции в греческой трагедии. Это в том числе и комментарий к действию, которое разворачивается на сцене. Но у греческой трагедии есть и довольно жесткие драматургические рамки. Можно согласиться с тем, что хор — это, так сказать, коллективный орган на сцене и важнейший участник драматического действия. Однако проведение аналогии между хором и современными коллективами требует все‐таки известной осторожности. Если искать аналогии, то, наверное, имеет смысл обратить внимание на мистериальные действия у древних греков. Между прочим, об этом писал Вячеслав Иванов, выявляя дионисийское начало в разных культовых практиках того времени. Проще говоря, его интересовал экстаз как «совместность исступления»284. Как он показывает, все начинается с цифры три. Трое, согласно Иванову, — это минимальная единица множества. Или протомножество. То есть такой коллектив, который действует на своих собственных основаниях и не имеет отношения к единству285.
Как меняется соотношение слова и дела? Может быть, эту проблему отчасти поставил Фуко на примере слов и вещей, однако фокус у него явно познавательный. Не стоит недооценивать специфику нашей собственной культурной ситуации, о чем я и пыталась говорить. Когда мы сосредоточиваем свое внимание на каком‐то времени, мы выделяем некоторые доминанты, пытаясь найти способы объяснения происходящего, и в этом нам помогают тексты прежних эпох, требующие, конечно, перетолкования. И хотя я не возьмусь предложить широкий культурологический заход, отмечу, что соотношение слова и дела, или слова и действия, безусловно, разное в разные эпохи. Сегодня мы, по‐видимому, вступаем в такой период времени, когда очень многие вещи — вследствие кризиса представления, который был зафиксирован в философии еще в 1960‐е годы прошлого века, — нам как будто явлены наглядно. Без всяких опосредований, иначе говоря.
Со своей стороны, современное искусство тоже демонстрирует нам яркие примеры действия. Достаточно сослаться на акционизм и вспомнить разных представителей этого течения у нас (хотя они уже не здесь: Петр Павленский уехал во Францию, участницы Pussy Riot выступают в основном за границей). Если давать ему сжатую характеристику, то это такое действие, которое напрямую зондирует систему социальных отношений. Павленский, например, работал с нашей правовой системой и в какой‐то мере с пенитенциарной. Можно сказать, что это эксперименты, проводимые с самим социальным пространством. Для сегодняшнего дня это явление достаточно новое, и в то же время это новое измерение современного искусства.
Ведь Павленский не просто вел беседы со следователем, обратив его в конце концов в свою веру. Знаменательно то, что во время суда эксперимент, можно сказать, продолжался. Павленский приглашал свидетелей из разных социальных групп, которые должны были высказать свои соображения по поводу его акции (поджог двери у здания ФСБ на Лубянке), квалифицированной как вандализм. Известно, что высказывались девушки по вызову и другие люди, весьма далекие от современного искусства. И если можно было запланировать, какую социальную прослойку представлял тот или иной свидетель, то реакцию этого человека, слова, произнесенные им на суде, заранее знать было никак невозможно. В результате нельзя было предвидеть ни общественный резонанс, ни то, каким образом это повлияет на исход дела, ни прочие последствия. Это совершенно удивительный эксперимент, куда вовлекались самые разные люди.
Что нам показывает этот пример? Здесь мы имеем дело со случаем прямого вторжения. Это, конечно, отдельная тема, хотя и связанная с тем, о чем мы уже говорили: современный акционизм как искусство вторжения286. Так действует вирус. Он вторгается и прокладывает свои пути в нашем организме. Точно так же действуют художники-акционисты: они вторгаются в социальное тело, и что‐то с ним происходит. Вспомним знаменитый панк-молебен группы Pussy Riot. В итоге мы наблюдаем симптомы болезни или реакцию этого социального тела, притом что мы сами — его нераздельная часть. Все происходит прямо на наших глазах, и наглядность эта поражает. Думаю, что ее не было в таком виде в другие эпохи, поскольку заодно отпадают и все символические опосредования, отдаляющие нас от действия и его прямых эффектов.
***
Для соблюдения научной строгости нам следует различать эмоцию и аффект. Аффект, как было сказано, — это критерий нашей способности действовать, если иметь в виду спинозианское определение. В третьей книге «Этики» Спиноза пишет об аффектах именно этими словами: это такие «состояния тела (corporis affectiones), которые увеличивают или уменьшают способность самого тела к действию, благоприятствуют ей или ограничивают ее…»287. Вот как Спиноза пишет о телах. А говоря о людях, он пишет именно о телах. Конечно, тела наделены психической инстанцией, они, как упоминалось выше, могут горевать, негодовать, сострадать и испытывать другие состояния. Но это все‐таки тела, и такое понимание имеет первостепенное значение.
Вообще говоря, чем так примечательна философия Спинозы? Конечно, можно утверждать, что его сочинения несвободны от предрассудков, характерных для этого времени, и что философ полагается на уровень развития естественных наук, который давным-давно оставлен позади. Бесспорно, предрассудки у него встречаются. Например, Спиноза считает, что животных человек может использовать по своему усмотрению и что женщины должны быть лишены определенных прав, скажем, права голоса и поступления на государственную службу. Это действительно предубеждения. Но эти отдельные моменты не должны заслонять от нас главное, а именно: у Спинозы нет разделения души и тела, в отличие от Декарта. Для него это ложный дуализм. Сознание у Спинозы — это способ действия тела288. А раз так, то нельзя утверждать, что душа и тело образуют разные миры. Это одно и то же — одна и та же субстанция, которая проявляет себя разными способами (у Спинозы мышление и протяжение — два атрибута единой субстанции).
Но это очень глубокая и радикальная мысль. Если встать на такую позицию, то об эмоциях придется говорить по крайней мере осторожно. Аффект, как мы видим, — это то, что относится к физической философии (ее можно назвать и телесной) или к философии действия, как она определялась нами до сих пор. А эмоции — то, что имеет отношение к психологии, к тем преходящим состояниям, действительные причины которых нам чаще всего неизвестны. Однако свои эмоции мы очень бережем. Если у нас возникает какая‐то эмоция по поводу неких явлений, мы склонны придавать ей огромную ценность. Это побочный продукт науки психологии, отдающей приоритет психической жизни индивида. К сожалению, случилось так, что эта разновидность знания приобрела гипертрофированный вес. И в результате мы потеряли другие ориентиры, связанные с тем, что мы являемся частью мира, в котором есть не только люди, но и другие существа — чувствующие, не чувствующие, живущие, как я уже сказала, другими скоростями по сравнению с человеческими. И они, возможно, тоже испытывают эмоции, но по‐другому.
В конечном счете вышло так, что эмоции — это есть универсальная отмычка, которую мы применяем ко всему. Так мы начинаем судить о мире по себе. Ведь если кто‐то не смог восхититься каким‐то культурным объектом, как мы, — значит он недостаточно развит. А это очень опасное суждение. Поэтому если не в научных, то в гуманитарных целях попробуем все‐таки различать эмоцию и аффект.
***
Настало время сделать уточнение: я не называю протест революцией. Я говорила о протестном движении. Но есть и такое явление, которое называют бархатными или цветными революциями, и вот это, на мой взгляд, действительно разновидность революционных трансформаций. По моему глубокому убеждению, это и есть прямое наследие 1968 года. Речь идет о новом типе революций. Они в основном бескровны и не сопровождаются революционной ситуацией, если иметь в виду классический марксистский постулат289. На примере все того же 1968 года видно, что такие революции происходят в относительно благополучное время. В самом деле, 68‐й — это период послевоенного расцвета, гражданское становление первого поколения, не знавшего тягот войны (оно известно также под именем поколения так называемого бэби-бума). На политическую сцену вышли молодые люди: количество студентов, участвующих в протестах, неукоснительно росло. Именно студенты как самостоятельная сила и заявили в это время о себе.
Можно назвать и другие социальные факторы, которые, взятые по отдельности, не указывают на решительные перемены. И все равно такие перемены происходят. Более того, это первое, по сути дела, глобальное послевоенное явление, которым сразу захвачены очень многие страны. Если вспомнить, со всеми оговорками, культурную революцию в Китае, то можно утверждать, что социальные движения имеют мировую географию. Добавим к этому и мексиканские события (резня в столице Мексики за десять дней до летних Олимпийских игр), о чем говорят значительно реже. И даже если взять один лишь европейский континент, то и здесь диапазон стран, охваченных протестами, разнообразен и широк. Подчеркну, что это был первый по‐настоящему глобальный протест, случившийся в послевоенную эпоху.
Итак, наблюдается какой‐то новый тип социальных протестов. Этот новый культурный и политический опыт и задает, по‐видимому, некий новый шаблон, показывающий, что перемен можно добиваться массовыми ненасильственными действиями. Во Франции движение, может, и не дало мгновенных результатов, но там наблюдались долгосрочные последствия, которые не просто отразились на повседневных отношениях, но и существенно перестроили их. Некоторые исследователи утверждают, что произошла политизация повседневных отношений, и/или трактуют их трансформацию в терминах этического поворота290. Все это фактически означает новые возможности коллективного действия. И это можно назвать революцией без революции, что потом находит продолжение в событиях конца XX века, а именно в уже упоминавшихся бархатных революциях. Но я отнюдь не думаю, что массовые протесты 2011–2013 годов, которые действительно нам дороги, потому что больше не повторялись в этом виде (были другие протесты), являются революцией. Это, конечно, не революция.
Насколько лозунг адекватен для выражения перемен и коллективной речи? И исчерпывается ли выражение перемен самим лозунгом? На второй вопрос коротко отвечу: нет. Позволю себе снова сослаться на обсуждавшуюся выше статью де Серто. Для нас интересно следующее обстоятельство: из всего многообразия того, что происходило весной 68‐го во Франции, он выбирает речь, право на высказывание. Однако в это время разразились не одни студенческие бунты. Верно то, что волнения студентов начались в Нантерском университете и продолжились в Сорбонне, но тогда же имели место и крупнейшие послевоенные забастовки, в которых принимали участие миллионы рабочих. Причем это были стихийные, спонтанно возникающие, или дикие, забастовки. А официальные профсоюзы, коммунистическая и социалистическая партии от них отставали, можно сказать — плелись в их хвосте. То есть это было преимущественно спонтанное действие. Францию охватили колоссальные социальные волнения, крупнейшие за всю послевоенную историю. Студенты сыграли в этом огромную роль, выступив застрельщиками майских событий. Они повели за собой, например, рабочих завода Рено. Причем подчас вели в буквальном смысле слова, возглавляя колонны демонстрантов, шедших по парижским улицам, — удивительный момент с точки зрения соединения революционных сил, как сказал бы, наверное, Ленин.
И в события была вовлечена вся Франция, а не только Париж и не только студенты. Это был период политического кризиса, когда Шарль де Голль покинул страну, правда, всего на несколько часов, но он явно готовил себе пути отступления и даже летал в Баден-Баден для ведения секретных переговоров с находящимися там высшими военными чинами. Это был по‐настоящему драматический момент. Но, как мы знаем, власть не поменялась. Наоборот, майские события привели к тому, что в правительстве консолидировались консерваторы. То есть можно утверждать (и многие французы это говорят и повторяют), что май 68‐го — это неудавшаяся революция291. Неудавшаяся с точки зрения прямых политических итогов. И тем не менее ее последствия для французского общества очень серьезны. Все это мы оставили за скобками, потому что перенесли фокус на другие обстоятельства. Так вот, из всего происходившего тогда де Серто выделяет одну особенность, которая кажется ему наиважнейшей. Это наделение индивида главным человеческим правом, а именно правом на высказывание. Право говорить, согласно де Серто, — основополагающее право личности.
По моему убеждению, однако, это не столько право личности, сколько завоевание вовлеченных в действие масс. Иными словами, высказывание не является индивидуальным. Можно вспомнить все того же Кон-Бендита, беседующего с Сартром в разгар студенческих волнений. Сартр спрашивает, какой тактики он придерживается, и Кон-Бендит отвечает: «<…> наша сила как раз в опоре на <…> бесконтрольную стихийность, в порыве, который мы не стремимся на что‐нибудь направить <…> Единственная надежда для нашего движения — именно этот беспорядок <…> наверное, только из него и может вырасти какая‐то самоорганизация <…>»292. Есть еще одна, почти апокрифическая, история о том, как кто‐то обращается к лидеру студентов с деловым вопросом: «Куда пойдет демонстрация?» И Кон-Бендит отвечает: «Маршрут демонстрации будет зависеть от направления ветра»293. В этом, конечно, можно увидеть своеобразный поэтизм. Но одновременно это и выражение того «беспорядочного» действия, логика которого никогда не известна заранее. Получается, что Кон-Бендитом движет действие. Ветер в данном случае и есть обозначение силы, влекущей его за собой.
Майские события во Франции как раз и выявляют какие‐то новые и неожиданные вещи, например почти физическую достоверность действующих в социальном поле сил. Кон-Бендит верен вектору движения. Он ничего не придумывает, а просто дает выражение силам, действию которых подчиняется. Поэтому когда мы говорим о речи, этим не исчерпывается весь комплекс майских событий 1968 года, вся сложность этого периода. Но очень важно уловить момент, когда гул многих голосов выходит на поверхность. Тогда мы начинаем понимать, чтó за силы участвуют в этом движении и как они его проводят в жизнь.
***
Что дает нам сопоставление двух типов коллективной речи — во Франции 1968 года и в России в 2011 году? Очевидно, что разница здесь есть. Мы уже имели невольную возможность их сравнить, когда приводили выше некоторые из звучавших лозунгов. Если проводить своеобразный лингвистический анализ майских лозунгов во Франции, то помимо того, о чем мы уже говорили, рассматривая их выборочный перечень, исследователи отмечают присутствие в них утопических требований, например отголоски фурьеризма. Звучали тогда и троцкистские лозунги. Возможно, мы сосредоточились на менее политизированных высказываниях, но призывы были самые разные, конечно. И в этих призывах можно проследить определенные влияния, имеющие отношение ко времени, — хотя анархисты во все времена высказываются, наверное, более или менее одинаково.
В России у лозунгов была другая тональность. Это еще одно слово, которое употребляет де Серто, и оно вполне уместно. Вспомним еще раз Болотную площадь и лозунги, которые фигурировали там. Мы уже отмечали, что это не столько лозунги в обычном понимании, сколько номинативные высказывания, к тому же часто приватного свойства, как будто нам что‐то сообщают в личном разговоре. Это выглядело как простая констатация событий, и в этой констатации присутствовал личный оттенок. По крайней мере, так это воспринималось. По-видимому, главное отличие французских и российских лозунгов и состоит в их общей тональности. Но это важное отличие. Когда де Серто употребляет это слово, он приводит в пример органиста, который осуществляет транспозицию музыкальной пьесы, при условии что партитура не меняется. Изменение определяется в лучшем случае на слух. Этот пример позволяет ему провести параллель с языком, который, оставаясь тем же самым, вместе с тем подвергается оккупации, захвату: в какой‐то момент он становится проводником нового опыта294. В новом использовании слов, позаимствованных у других, и можно заметить изменение тональности.
Но это требует дальнейших разъяснений. В то время у нас выходила бумажная версия англоязычной газеты «The Moscow Times» (она теперь существует только онлайн), и в ней в самом начале 2012 года было опубликовано интервью с предпринимателем Михаилом Прохоровым, который, как мы знаем, баллотировался тогда в президенты. Стоит отметить, что интервью напечатали по‐английски в пересказе, поскольку Прохоров давал его агентству «Рейтер». В нем он пытается объяснить иностранцам, чтó, с его точки зрения, происходило в России в конце 2011 года, и он произносит такие слова: «Россию охватило чувство» («…feeling was sweeping Russia…»)295. Имеется в виду, что перед этим, еще полгода назад, страна благополучно дремала и продолжалось это целое десятилетие. И вот случается неожиданный сдвиг. Действительно, когда речь зазвучала, это был сдвиг, и сдвиг весьма примечательный. До этого ничего такого не было — Россия молчала. А тут внезапно мы услышали высказывания и смогли осознать, что что‐то переменилось в умонастроениях наших соотечественников, в наших собственных умах. В словах Прохорова фактически содержится констатация того, что изменились умонастроения.
А это, в свою очередь, и есть то, что в самом начале я назвала политизацией. Политизация в ту пору носила опережающий характер. И на это стоит обратить внимание. Помню хорошо, как в конце 2011 года события шли по нарастающей: сначала одна демонстрация, потом другая, а потом огромный митинг на проспекте Сахарова, объединивший более ста тысяч человек, — совершенно незабываемое зрелище. Тогда действительно можно было чего‐то добиться. Но наступили новогодние каникулы, и лидеры протеста разъехались по разным странам. Иначе как стратегической ошибкой их действия нельзя назвать: за это время была потеряна энергия протеста.
И все‐таки вернемся к опережающей политизации. Захваченные волной этих митингов люди выходили на улицы, часто не зная, куда они идут и зачем. Из социальных сетей они получали подсказки: время события, место, приглашение от кого‐то из френдленты. И они шли туда, потому что туда шли другие — знакомые, но чаще незнакомые. И получалось так, что молодой человек, выходивший на улицу, понимал, в чем и зачем он участвует, только попав в гущу других таких же, как он, то есть его политизация происходила прямо на месте, среди митингующих. Иными словами, он был движим общей волной, захвачен движением, которое разворачивалось у него на глазах и при его же непосредственном участии. Внутри этого движения, вливаясь в него, он и становился в полном смысле слова гражданином. Молодые люди политизировались самим фактом включения в это движение. И это было знаменательно. А в перспективе это выводит нас на разговор о роли социальных сетей, которые и действуют по логике случайного сверхскоростного заражения.
От попугая Флобера до Упоротого Лиса: театрализация природы в таксидермических практиках
[театральность вне театра]
Ксения Гусарова
«Полная школа таксидермии» А. А. Головина, увидевшая свет в Москве в 1898 году и впоследствии переизданная в расширенном варианте, — одно из множества подобных пособий, опубликованных на рубеже веков только на русском языке. Как явствует из введения к книге Головина, приобретение и развитие навыков таксидермиста могло не только служить удовлетворению научных, эстетических или статусных притязаний, но и обеспечивать потенциальным источником дохода: «Хорошо составленная коллекция ценится очень дорого, и тем дороже, чем естественнее позы чучел. Поэтому автором обращено особенное внимание как на техническую сторону этого дела, так и на то, чтобы позы и положения чучел были вполне естественны и соответствовали бы тому положению, которое свойственно этим животным или птицам при жизни»296. Как видно из этой цитаты, понятие «естественности» применительно к таксидермическим объектам является ключевым для наделения их ценностью, как символической, так и монетарной.
В данной статье мы рассмотрим, каким образом конструируется эта естественность, которая, конечно, не является некой данностью, а диктуется состоянием научного знания и, в еще большей степени, визуальными конвенциями эпохи. Ключевое значение «позы», очевидное из приведенной цитаты, и «мизансцены» (рудиментарного «ландшафта», взаимного расположения чучел и т. д.) для создания впечатления жизнеподобия позволяет говорить о таксидермическом «театре» природы, в котором чучела играют роли «настоящих» зверей и птиц.
Так или иначе, таксидермические объекты выступают своеобразным «экраном», на который проецируются зрительские ожидания и желания, от жажды идентификации до представлений о различии, от чувства комического до стремления к идеалу. Поэтому вовлечение аудитории играет ключевую роль в этом «театре»: чучела «оживают» лишь когда на них смотрят, и (не) естественность оказывается локализована во взгляде смотрящего. Мы начнем наш экскурс в культурную историю таксидермических практик с фигуры «наивного зрителя» — Фелисите, героини повести Флобера «Простая душа» (1877), — а закончим скептической публикой наших дней, эпохи, когда идея «хорошей» таксидермии оказывается все более проблематичной.
Викторианская таксидермия: мода и меланхолия
Повесть Флобера «Простая душа» рисует образ крестьянской девушки Фелисите, наделенной способностью к беззаветной любви и преданности, которую она вновь и вновь проявляет в отношении очевидно недостойных людей. Последним объектом нежной привязанности Фелисите на закате ее жизни становится попугай Лулу — сначала сам хозяйский питомец, а затем его чучело. Интересно, что в действительности чучело предшествовало «живому» попугаю: в период работы над повестью Флобер держал у себя на столе экспонат, позаимствованный из коллекции Руанского музея естественной истории, чтобы, по словам самого писателя, «наполнять свой мозг идеей попугая»297. Таким образом, писатель демонстрирует то же неразличение живого и мертвого, которое характеризует его наивную героиню: чучело здесь совершенно адекватно репрезентирует идею природы в целом и замещает конкретное живое существо.
По мнению Джулии Лонг, такое отношение типично для XIX века и свидетельствует об объективации животных в культуре этой эпохи, когда домашние питомцы выступали своего рода декоративными аксессуарами, а таксидермические объекты, используемые в моде и украшении интерьеров, призваны были демонстрировать любовь хозяев к природе298. В статье Лонг приводится множество примеров в подтверждение этого тезиса299, однако отождествление живых зверей и их чучел, конечно, не было абсолютным, и существуют также красноречивые описания, подчеркивающие различия зрительского опыта при наблюдении за природой и созерцании таксидермических объектов. Так, британский натуралист и предприниматель Уильям Буллок в очерке своих путешествий по Мексике в 1823 году писал о колибри: «Европейцы, видевшие в музеях лишь начиненные останки этих драгоценных маленьких пернатых, были очарованы их красотой; но те, кто наблюдал их живьем — их движущиеся хохолки, шейки и хвосты, переливающиеся на солнце не хуже павлиньих, — никогда уже не взглянут с удовольствием на их изуродованные формы»300.
Резко отрицательный отзыв Буллока о чучелах колибри, экспонировавшихся, в том числе, в его собственном Музее природных диковин, был обусловлен не только и не столько несовершенством таксидермических техник этого времени, сколько специфическим очарованием крошечных птичек, наилучшим образом раскрывавшимся в движении. При наблюдении за птицей в полете ее перемещения, а также изменение угла наклона перьев приводят к тому, что солнечные лучи по‐разному отражаются от оперения, заставляя его переливаться контрастными цветами. Таким образом, иллюзия жизни в данном случае требовала бы визуальных эффектов, которые невозможно было воспроизвести в рамках музейной экспозиции: традиционных таксидермистских приемов, таких как придание чучелу выразительной позы, было недостаточно для «оживления» колибри.
Интересно, что модная таксидермия добилась на этом поприще бóльших успехов, чем естественнонаучная: колибри пользовались огромной популярностью в качестве отделки модных аксессуаров, ношение которых позволяло увидеть птиц «в движении». Вот характерное описание модных головных уборов начала 1860‐х годов: «На некоторых шляпах прикалывают на самый перед цветы с сухою или свежею зеленью и фрукты с коками из белого или черного тюля; на многих же видны бабочки, крошечные птички и стрекозы, летающие по цветам и перьям»301. Примечательно, что в этом тексте птицы предстают «живыми»: металлическая проволока, на которой они, скорее всего, были закреплены, остается «невидимой», и внимание фокусируется на «реалистичности» сценки, в которой образ природы, произведенный научным познанием, ложится в основу декоративного мотива в духе шинуазри.
В Бразилии, где возможность наблюдать колибри в естественной среде обитания подразумевала более высокие требования к жизнеподобию их чучел, в 1870‐е годы производились веера, украшенные тушками птиц этого семейства. В отличие от шляпки, на которой птичка могла лишь слегка покачиваться на проволочной основе, веер предполагал мелкие, стремительные движения, заставлявшие колибри «порхать», подобно живым. Один из таких вееров, принадлежавший принцессе Уэльской (будущей королеве, супруге Эдуарда VII) Александре, сохранился в Британской королевской коллекции. Чучело колибри закреплено в центре круглого экрана, обшитого белыми перьями, которые здесь, наряду с созданием эффектного декора и впечатления чувственной роскоши (эти перья, куриные или индюшиные, выглядят очень мягкими и нежными, ничем не выдавая своего «низкого» происхождения), вероятно, призваны символизировать воздушную стихию. В самом деле, птица будто парит среди облаков: крылья и хвост расправлены, и из‐за их положения относительно ручки веера кажется, что колибри опускается в нисходящем потоке воздуха.
В точно такой же позе иной, но внешне близкий вид колибри изображен на цветной гравюре из книги Эрнста Геккеля «Красота форм в природе». Работа Геккеля, выходившая по частям в 1899–1904 годах, оказала существенное влияние на место и трактовку природы в искусстве рубежа веков. Бразильский веер принцессы Уэльской был создан намного раньше, однако сравнение этих двух форм репрезентации указывает на существование универсальной «иконографии», которой было подчинено «реалистическое» представление животных в различных медиа и контекстах: в науке и в искусстве, в музее и в моде, в графике и в таксидермии. Многие руководства по набивке чучел напрямую указывают на использование произведений живописи и графических иллюстраций в качестве образца: «Быстрота и чистота работы достигается путем практики. Придание же натуральной позы и жизненности требует еще, кроме этого, художественного вкуса и знания привычек. Не дурно руководиться хорошими рисунками»302.

Колибри. Цветная гравюра из книги Э. Геккеля «Красота форм в природе»
В позднейших пособиях значение подобных образцов приуменьшается — они описываются как неполноценная замена непосредственных наблюдений за живой природой: «Начинающему работнику можно рекомендовать пользоваться рисунками птиц, исполненными хорошими художниками, но самое главное все‐таки заключается в изучении птиц в природе»303. Однако «художественный вкус» неизменно называется в числе необходимых таксидермисту качеств, а значит и само «изучение птиц в природе», и особенно применение полученных таким образом знаний в таксидермической практике опосредовалось определенными эстетическими кодами. Менее очевидные в моделировке чучел, они выходили на первый план при построении мизансцены, как пояснял автор одного из пособий: «что касается художественного вкуса, то он необходим в тех случаях, когда приходится составлять группы из животных»304.
Флоберовская Фелисите, равно далекая от научных и художественных конвенций, позволяет представить, как выглядели таксидермические объекты для неискушенного зрителя. Едва ли можно говорить об аутентичности этого взгляда, который сам по себе является умозрительной конструкцией, облекаемой в жизнеподобные формы писателем — «таксидермистом». Однако важно, что отношение Фелисите к попугаю не может быть описано в категориях модного потребления и объективации, в отличие от множества примеров бытования животных и предметов животного происхождения в культуре XIX века, приводимых Джулией Лонг. Подобные статусные практики — действительно весьма распространенные — в повести Флобера присутствуют лишь в качестве рамки: идею сделать чучело из мертвого попугая безутешной Фелисите подсказывает ее хозяйка г-жа Обен, обедневшая дворянка, имеющая некое представление об элегантной жизни. Однако для Фелисите чучело попугая становится реликвией, объектом поклонения, выходя за рамки стандартных культурных функций таксидермии, в которой, по мнению Джованни Алои, кристаллизуются импульсы коммодификации как базовой модальности нашего отношения к миру305.
Образ Фелисите не только противостоит практикам элиты, но и позволяет разглядеть в них иные, «человеческие» грани — не очевидные из рекомендаций модных журналов по подбору шпицев под жеребковые шубки. Джулия Лонг проводит параллель между таксидермией и фотографией как инструментами подчинения природного мира: «И фотография, и таксидермия были способами вообразить животных в обстановке природы, контролируемой человеком»306. Однако та же аналогия уместна в контексте того, что Рейчел Поликуин называет «культурами желания несбыточного» (cultures of longing): по мнению этой исследовательницы, таксидермия пытается «заботливо сохранить то, чего уже нет, как если бы оно могло жить вечно»307. В этом таксидермическая практика подобна фотографической, где запечатление, увековечивание образа неизбежно заключает в себе момент утраты308. Еще одно ключевоесходство связано с индексальной природой обеих техник, их статусом физического следа чего‐то, бывшего прежде.
Джулия Лонг упоминает викторианские фотографии с чучелами питомцев309, однако рассматривает их исключительно в контексте создания образов «послушной», одомашненной природы, тогда как широко известно распространенное в это время обыкновение делать посмертные фотографические портреты, причем на многих из них умершие «позируют» подобно живым людям. Работа с позой и мизансценой, проблематизирующая границы между живым и неживым, сближает эти необычные фотографии с таксидермическим «театром», который, особенно когда речь идет о чучелах домашних питомцев, очевидно, следует рассматривать в контексте подобных коммеморативных практик310.
Описание мертвой дочери г-жи Обен в повести Флобера напоминает такого рода фотографическое tableau, причем писатель акцентирует признаки смерти, однако для Фелисите они не противопоставлены жизни однозначным образом: «Виргиния лежала на спине, руки у нее были сложены на груди, рот открыт, голова запрокинута, а над ней склонялся черный крест между неподвижных занавесей, не таких белых, как ее лицо. <…> После первой своей бессонной ночи она (Фелисите — К. Г.) заметила, что лицо покойницы пожелтело, губы посинели, нос заострился, глаза ввалились. Фелисите несколько раз поцеловала их; она была бы не так уж удивлена, если бы Виргиния их открыла — таким людям, как Фелисите, все сверхъестественное кажется простым»311. Размывание границ между живым и неживым представлено здесь в контексте народной религиозности и идеи «сверхъестественного», однако посмертные фотографии, маски и слепки рук, траурные украшения из волос умерших312 и другие подобные артефакты, распространенные в XIX веке, указывают на существование более светских и рафинированных модальностей символической «жизни» умерших, соприсутствия смерти и жизни. Более того, некоторые из этих практик пересекают социальные барьеры и оппозицию религиозно-мистического и секулярного: так, Фелисите срезает локон на память с головы умершей Виргинии — обыкновение, в котором традиция почитания святых мощей сливается с вещными формами сентиментальной культуры.
Попугай для Фелисите пополняет число дорогих ушедших: «Она была так одинока, что Лулу стал для нее чем‐то вроде сына, чем‐то вроде возлюбленного»313, — однако благодаря чудесам таксидермии его не нужно отдавать земле. Отсроченное на десятилетия разложение постигает уже чучело, а не тело, и, как и в случае с мертвой Виргинией, эти процессы для Фелисите не приобретают дистанцирующего значения: «Хотя это был не труп, но черви пожирали его: одно крыло у Лулу было сломано, из живота вылезала пакля. Но теперь Фелисите ничего этого уже не видела; она поцеловала Лулу в лоб и прижала к щеке»314.
Эмоциональные связи и мистический опыт ассоциируются в первую очередь со сферой невидимого, однако Флобер демонстрирует их зависимость от материальных объектов и визуальных эффектов. Так, Фелисите начинает отождествлять своего попугая (вернее, его чучело) со Святым Духом315, поскольку на лубочной картинке, изображающей Крещение Господне, эта ипостась Троицы была представлена как «живой портрет Лулу с его пурпурными крылышками и изумрудным тельцем»316. Флобер отдельно упоминает эффекты освещения, преображающие попугая и производящие определенные эмоциональные реакции. Созерцание Лулу при свете зари настраивает Фелисите на спокойный, ностальгический лад, а закатное солнце создает зрелище, способное вызвать мистический экстаз: «Порой солнце, проникавшее в окошко, било прямо в его стеклянный глаз, в нем вспыхивал яркий, блестящий луч, и это приводило Фелисите в восторг»317.
При изготовлении чучела, в силу невозможности сохранить собственные глаза животного, они всегда заменялись стеклянными, однако этот искусственный элемент играл важнейшую роль в создании впечатления естественности и жизнеподобия: «Глаза придают живость и красоту чучелу, поэтому надо стараться, чтобы цвет и величина их подходили к натуральному; глаз должен быть несколько больше глазного отверстия на шкурке»318. «Натурального» цвета нередко добивались при помощи красок: «Перед началом препаровки птицы, следует записать цвет радужной оболочки глаз ее, чтобы впоследствии, при вставлении искусственных глаз, иметь возможность окрасить их в натуральный цвет»319. Наряду с цветом и размером большое значение имело положение стеклянного глаза и «направление взгляда» птицы: «Изменение выражения глаза целиком зависит от положения век. У птиц, у которых глаза смотрят вперед (например, совы, филины), необходимым условием должна быть единая ось для обоих глаз. Иное положение уродует “физиономию” птицы, портя ее выражение»320.
Отчасти об успехе этих приемов, отчасти об уровне зрительского доверия свидетельствует тот факт, что за пределами таксидермических пособий глаза чучел крайне редко называются стеклянными. В модной периодике, напротив, они зачастую описываются как «собственные» глаза животного. Так, в ежемесячном «модном» приложении к журналу «Живописное обозрение» за ноябрь 1902 года можно прочитать восторженные похвалы меховым горжеткам из цельной шкуры зверя: «Но что положительно никогда не выйдет из моды — это те горжетки, которые у нас в России называются “боа-зверь” и которые сохраняют и хвосты, и головки зверьков, с их глазами, ушами и зубами»321 (курсив мой — К. Г.). Живописные портреты рубежа веков, подтверждающие популярность этого модного аксессуара в еще большей степени, чем фотографии, размывают границы между живым и неживым: например, на портрете музы польского художника Войцеха Коссака Софии Гезиковой (1909) боа из черно-бурой лисы выразительно «смотрит» на зрителя своими стеклянными глазами.

Круглая шляпа. Модный магазин, № 13, 1866
Исключением, которое лишь подтверждает правило, можно назвать упоминание в другом номере того же приложения к «Живописному обозрению» дамских охотничьих шляп, которые «украшаются совиной головой с желтыми стеклянными глазами»322. Остраняющий взгляд на эту шляпную отделку, позволяющий различить ее неестественность (наряду с прямой отсылкой к материалу изготовления, «стеклянный» также может здесь прочитываться как «лишенный выражения», неживой), связан с предвзятым отношением корреспондента к новой моде, характеризуемой как эксцентричная и «не особенно красивая». Таким образом, глаза чучела могут быть «живыми» и «мертвыми», «искусственными» и «натуральными» в зависимости от того, кто и с какой целью на них смотрит. Упоминание стеклянного глаза попугая в повести Флобера раскрывает механику «театрального» эффекта, наделяя читателя рациональным, искушенным взглядом в противоположность наивному восторгу Фелисите. Описываемое таким образом чучело теряет свойство «естественности», превращаясь в машину по созданию визуальных эффектов, однако примечательно, что естественному здесь оказывается противопоставлено не только и не столько неестественное, сколько сверхъестественное: в декорациях театра природы разыгрывается спектакль чуда и божественного откровения323.
Смежность религиозного, естественнонаучного и модного обнаруживается также в изначальном внешнем виде чучела Лулу, в отсутствие специфических эффектов освещения: «Наконец попугай прибыл, да еще в каком великолепном виде! Он сидел на ветке, прикрепленной к подставке из красного дерева, подняв одну лапку, склонив голову набок и кусая орех, который чучельник из любви к роскоши позолотил»324. Роскошь и «великолепие», акцентируемые в этом описании, являются неотъемлемой частью конструкции экзотического в европейском (имперском) культурном воображении. Однако в той же мере, как и к географическому ареалу обитания попугаев, этот ассамбляж отсылает к интерьеру богатого дома, в декоре которого преобладают красное дерево и позолота, а чучело попугая — к попугаю, скорее, как к еще одному украшению этого интерьера, чем к свободному жителю тропических лесов. Комната Фелисите, где чучело Лулу помещается «на выступе камина», во многом представляет собой противоположность модного интерьера: Флобер пишет о том, что она «напоминала и молельню, и базар», — однако характеризующие ее обстановку экзотика и чрезмерность парадоксальным образом перекликаются с модными стилями эпохи, в которой разворачивается действие, — поздним бидермейером и историзмом.
В то же время оформление чучела соответствует пышности католического ритуала, в котором Лулу предстоит принять участие в конце повести, когда умирающая Фелисите просит возложить попугая на один из престолов, воздвигаемых в честь праздника Тела Христова. Декор престола, состоящий из индивидуальных пожертвований, изобилен и эклектичен, с преобладанием редких, экзотических элементов: «Престол был увит гирляндами зелени, украшен английскими кружевами. Посредине стояла маленькая рака с мощами, по углам — два апельсинных деревца, а кругом — серебряные подсвечники и фарфоровые вазы, из которых тянулись подсолнечники, лилии, пионы, наперстянка, букеты гортензий. Эта покатая пестрая горка, достигавшая уровня второго этажа, спускалась на ковер, разостланный на мощеном дворе. Обращали на себя внимание редкие вещи: позолоченная сахарница с короной из фиалок, сверкавшие на мху подвески из алансонских камней, две китайские ширмы с пейзажами. Лулу был засыпан розами — виднелся лишь его голубой лобик, похожий на пластинку из ляпис-лазури»325. Чучело попугая, былое великолепие которого продолжает «видеть» верная Фелисите, органично вписывается в эту пеструю картину и растворяется в ней, пряча нанесенные временем увечья.
Подставку из красного дерева и позолоченный орех легко выделить как «внешние» по отношению к чучелу попугая декоративные элементы, однако хотелось бы подчеркнуть, что подобно рассматривавшимся выше стеклянным глазам все искусственные дополнения в таксидермических объектах XIX века являются частью определенной идеи естественности — которая, в свою очередь, предстает сложно организованной конструкцией. Так, орех служит «реквизитом», вокруг которого фактически выстраивается поза: раскрытый клюв, наклон головы, приподнятая лапка — экспрессивные приемы, способствующие «оживлению» чучела в соответствии с естественнонаучными знаниями и эстетическими конвенциями.
Имитируя «природный» объект, конечный результат работы таксидермиста ничем не выдает необходимых для его создания сложных операций, от замеров пропорций тела птицы или зверя до способов фиксации чучела и отдельных его элементов в заданном положении: «Придавая естественную позу, обращают особенное внимание на положение ног, крыльев и шеи. Чтобы к туловищу лучше прилегали крылья, их прикалывают булавками, чтобы перья при высыхании шкуры не взъерошивались, на время сушки чучело обматывают нитками, но как можно слабее, чтобы на перьях не оставить следа»326. Улучшить вид застывших в «неестественном» положении перьев было практически невозможно, поэтому «укладку перьев»327 необходимо было производить до наложения предохранительных бандажей из ниток или полосок бумаги. В отличие от этого мех животных подлежал «парикмахерской» обработке уже на заключительных этапах изготовления чучела: «Затем чучело совершенно приводится в порядок, и при помощи гребенки и щетки шерсть расчесывают и дают ей правильное направление»328. Продолжая театральную аналогию, можно говорить также о необходимом таксидермисту искусстве «гримера», так как не только глаза, но и многие другие части тела зверя и особенно птицы нуждались в замене, дополнении, «исправлении» и раскрашивании: «Ноги, восковица, окружность глаз и мясистые наросты на голове при высыхании теряют свой цвет, поэтому их окрашивают водяными красками»329.
Таким образом, не только дополнительная атрибутика и антураж, как, например, воссоздаваемый в музейной диораме рубежа XIX–XX вв. макет естественного местообитания вида, но само тело животного (а точнее, его видимая поверхность) становилось сценой, где разыгрывался спектакль «природы». В этом зрелище, как отмечают многие исследователи, важна идея контроля и познаваемости — примечательно, что живой попугай в повести Флобера предстает разноцветным пятном («У него было зеленое тельце, розовые кончики крыльев, голубой лобик и золотистая шейка»330), очертания которого неуловимы, в отличие от застывшего в неизменной позе чучела. С другой стороны, как показывают украшенные колибри модные веера 1870‐х годов, иногда контролируемая иллюзия движения оказывалась ценнее возможности рассмотреть объект во всех подробностях. В любом случае, паноптическое зрение естественнонаучной традиции331 и объективация животных в практиках модного потребления не исчерпывали модальностей отношения к таксидермическим объектам, которые, пропитанные меланхолическим желанием невозможного (longing), могли стоять в одном ряду с посмертными фотопортретами и другими материальными способами коммеморации дорогих ушедших, а порой служили источником почти мистического опыта.
Мертвые и смешные: таксидермия постсовременности
Повесть Флобера мерцает перед читателем противоположными гранями: это история об одиночестве и отверженности, но в то же время — о способности одушевлять косную материю, привносить смысл туда, где его нет: любовь — в неравные, эксплуататорские отношения, жизнь — в (полуразложившееся) чучело попугая, Бога — в пустые небеса. Попугай может выглядеть ложным кумиром, символом самообмана и побега от реальности, но, с другой стороны, в отношении Фелисите к нему акцентируется реальность воображения и чувства, а также истинность индивидуальной веры в противовес институционализированному ритуалу. Подобная амбивалентность придает чучелу Лулу уникальный статус в таксидермической культуре XIX века, однозначно ориентированной на переживание подлинности, будь то в познании (и покорении) природы, потреблении предметов роскоши или увековечивании памяти мертвого питомца.
Таким образом, своей приподнятой лапкой флоберовское чучело попугая будто бы приветствует культуру постмодерна, нашедшую в нем один из своих наиболее ярких символов. Роман «Попугай Флобера», вышедший в 1984 году, в одночасье сформировал литературную репутацию Джулиана Барнса и задал тон в прочтении «Простой души» на десятилетия вперед: попугай — это литература, механически воспроизводимые в произвольных комбинациях обрывки дискурса; чучело же символизирует тщету попыток воссоздать жизнь на бумаге, в особенности когда речь идет о «реальной» жизни — событиях прошлого, мыслях и чувствах давно ушедших людей, их способах видеть мир332.
Если у Барнса чучело превращается в универсальную метафору, то реальная таксидермическая практика к этому времени совершенно выходит из моды: закрываются престижные магазины и мастерские с вековой историей333, естественнонаучные музеи начинают избавляться от части своих коллекций334. Рейчел Поликуин резюмирует изменения, произошедшие в отношении к таксидермии с начала XX века: «Если раньше изделия таксидермии считались красивыми, а сама практика — приятным времяпрепровождением, подходящим для юных барышень, сейчас она вызывает у людей отвращение; многие видят в ней бессмысленное разграбление природы, выставку смерти»335. Существенно меняется понятие об охране окружающей среды: на рубеже XIX–XX веков важнейшим аспектом «сохранения» природного разнообразия выступала фиксация наблюдений за окружающей средой в виде заметок, рисунков и изготовления чучел, тогда как в наши дни на смену этим способам документации приходят фото- и видеосъемка, а идея умерщвления животного (особенно редкого вида) во имя естественной истории представляется дикой и кощунственной. Исторические идеи жизнеподобия не выдерживают конкуренции с гиперреальными цифровыми симулякрами, с которыми связан сегодня наш базовый опыт соприкосновения с «природой», и сама материальность таксидермических объектов прошлого (обусловливающая, среди прочего, их плохую сохранность) выступает скорее остраняющим фактором, чем проводником подлинности.
Еще в первой половине XX века таксидермические изделия, особенно те, что экспонировались в составе музейных диорам, для большинства зрителей, безусловно, представляли собой «выставку жизни», а не смерти, тогда как к концу столетия «взгляд Фелисите», одушевляющий чучело, остается доступен разве что ребенку. Все новые культурные тексты закрепляют прочтение таксидермических объектов в контексте жуткого, а также — парадоксальным образом — комического, в то же время подчеркивая отсутствие в них жизни и затрудняя возможность сентиментального отождествления. Ранним и весьма влиятельным примером обеих трактовок может служить творчество А. Хичкока. Исследователи кино не обошли вниманием таксидермическое хобби главного героя фильма «Психоз» (1960)336: объединяя коннотации хищника и жертвы, чучела птиц в фойе его мотеля ассоциируются с самим Норманом Бейтсом, смертоносной мумией его матери, убитыми женщинами (особенно воровкой Марион) — и даже с фильмом как продуктом режиссерской «таксидермии»337.
Своеобразную реинтерпретацию этих тем представляет фотография Ги Бурдена «Посвящение Хичкоку»338. На ней модель Симона Дайенкур позирует в роскошном меховом пальто рядом с огромной птицей (игра с масштабом, скорее всего, достигается здесь за счет совмещения двух изображений): живой или чучелом — разобрать невозможно. Их взаимное расположение (птица будто бы восседает на голове модели или свешивается с нее), с одной стороны, отсылает все к той же традиции использования чучел пернатых в качестве шляпных украшений. С другой стороны, размещение головы Дайенкур под гузкой курицы-переростка выглядит комично с оттенком скабрезности — в духе переворачивания знаменитого пассажа из Рабле про гусенка. В итоге общее впечатление от снимка балансирует между желанием и отвращением, между смешным и жутким. Но если здесь скорее побеждает первое, то более ранние фотографии Бурдена для французского Vogue, на которых модели сняты на фоне мясных лавок парижского Центрального продуктового рынка Ле-Аль, не случайно были опубликованы под заголовком «Шокирующие шляпы» — в самом деле шокированная аудитория обрушила на редакцию поток жалоб339.
Сопоставление этих снимков Бурдена с «Посвящением Хичкоку» наглядно показывает, до какой степени иллюзия жизни является «поверхностным» эффектом. Одним из первых значимость работы с поверхностью осознал британский натуралист Чарльз Уотертон (1782–1865) — пионер «современной», то есть жизнеподобной таксидермии. Новаторский метод Уотертона заключался в отказе от использования каркаса, на который прежде было принято натягивать шкуру животного при изготовлении чучела, что зачастую приводило к ее деформациям при высыхании. Вместо этого Уотертон продолжительно вымачивал шкуры в растворе сулемы, который защищал их от разложения и паразитов, а также позволял добиться одновременно высокой прочности и податливости материала. В результате таксидермист «вылепливал» из шкуры натуралистичный облик животного, который, по мнению Уотертона, должен был заставить зрителя воскликнуть: «Оно живое!» — хотя созерцаемый объект был не только лишенным жизни, но и совершенно полым внутри340.
Освежеванные кроличьи тушки на фотографии Бурдена являют неприкрытое, недвусмысленное зрелище смерти — и в то же время привлекают внимание к телу модели как к декоративной поверхности, к механизмам моды, маскирующим уязвимость и бренность плоти, бесконечно производя иллюзорные образы молодости, красоты и (символического) бессмертия. С другой стороны, подчиняясь логике модной геометрии, диктуемой взглядом фотографа и присутствием модели, продукция мясного ряда приобретает собственный визуальный ритм и обнаруживает абстрактно-декоративные качества. Тонкая грань между желанием и отвращением, определяемая способом подачи и условиями восприятия, оказывается в центре внимания в романе Эмиля Золя «Чрево Парижа», местом действия которого — как и фотосессии Бурдена — выступает Ле-Аль. Сначала главный герой наблюдает, как мясную продукцию рано утром доставляют на рынок: туши здесь названы «трупами», а везущие их подводы — «катафалками»; не только вид, но и запах свежего мяса отвратителен. Совсем другую картину являет колбасная лавка, в которой привлекательным образом аранжированные товары уподобляются модным изделиям: «с усаженной крючьями перекладины свешивались ожерелья сосисок, колбас, сарделек, — симметричные, напоминающие шнуры и кисти на роскошных драпировках; а за ними показывали свое кружево лоскутья бараньих сальников, образуя фон из белого мясистого гипюра»341. Аналогичным образом мертвые животные и птицы переставали быть таковыми, превращаясь в элементы модного костюма, интерьерного декора или музейной экспозиции: стеклянные глаза и «подставка из красного дерева», как у флоберовского Лулу, полностью меняли контекст восприятия тушки, способствуя ее коммодификации.
Если в романе Золя две эти контрастные картины: отвратительная выставка смерти и соблазнительная выставка товаров, — разведены во времени, то у Бурдена они совмещены в одной фотографии, что, как представляется, отражает новые характеристики взгляда во второй половине XX века. Одним из ключевых свойств этого взгляда, по мнению Бориса Гройса, является подозрение, направленное на знаковую поверхность, и стремление проникнуть в скрывающееся под ней «субмедиальное пространство». Искусство модернизма в значительной степени представляло собой упражнение в подобном способе смотреть, в переключении внимания с плана репрезентации на материальность объекта. В ситуации постмодерна такая перенастройка зрения из авангардного приема превращается в аспект массовой культуры, которую Гройс в этой связи именует «культурой радикального сомнения»342. Наибольший интерес в этой культуре вызывает невидимая, но угадываемая «изнанка» знака: «Каждый знак означает что‐то и на что‐то указывает. Но одновременно каждый знак что‐то скрывает — и не отсутствие обозначаемого объекта, как это иногда утверждается, а просто-напросто участок медиальной поверхности, на котором этот знак материально, медиально размещается. Тем самым знак преграждает взгляду доступ к своему медиальному носителю»343. Применительно к модному телу разоблачение сокрытого, обнаружение «медиальной истины знака» встраивается в многовековую традицию критики моды как обмана, маскировки телесных изъянов. Однако тот же взгляд, обращенный на таксидермические объекты, с неведомой XIX веку бесцеремонностью выявляет материальность смерти под знаками жизни.
Нелепость попыток выдать мертвого зверя за живого в «культуре радикального сомнения» становится темой многочисленных шуток. Наиболее известным примером является скетч «Мертвый попугай» (1969) комедийной труппы «Монти Пайтон», где абсурдный юмор подчеркивает радикальную трансформацию образа (домашнего) животного в западной культуре по сравнению с временами Флобера. В своей книге «Животное постмодерна» Стив Бейкер предлагает понятие «топорная таксидермия» (botched taxidermy) для обозначения широкого спектра художественных практик, не только таксидермических в узком смысле слова, проблематизирующих статус животного в современной культуре. Многие из этих работ поднимают вопросы экологии и прав животных, и все так или иначе подвергают сомнению «средства, которыми культура конструирует и классифицирует животных, чтобы сделать их понятными для человека»344. Частой мишенью для критики в подобных художественных практиках становятся научные классификации животного мира, а также конвенции естественности и жизнеподобия в «классической» таксидермии и других визуальных медиа.
Чучело лиса, созданное британкой Адель Морзе, отнюдь не задумывалось как критическое высказывание, однако получило больший медийный резонанс, чем произведения многих признанных художников, работающих с таксидермическими материалами. Из имиджбордов и социальных сетей фотографии Лиса и мемы с его участием перекочевали в российские и британские официальные СМИ, чей интерес к чучелу достиг апогея на фоне его «визита» в Россию в апреле 2013 года. Чучело, его создательницу и владельца в Санкт-Петербурге встречали толпы поклонников и десятки журналистов — но также лидер общественной организации «Коммунисты Петербурга и Ленинградской области» Сергей Малинкович в одиночном пикете с требованием «Привлечь к ответственности организаторов антироссийской выставки»345.
Пресловутая выставка, наряду с основным, таксидермическим, экспонатом включала в себя постеры с мемами, где Лис оказывался персонажем различных исторических, фикциональных и повседневных ситуаций. Появление чучела на картине В. А. Петухова «Ленин и дети» и на коленях у Сталина на знаменитой фотографии с Ялтинской конференции в особенности возмутило «Коммунистов Петербурга», которые увидели в этом глумление над отечественной историей. Кроме того, некоторые СМИ приписали Морзе высказывание о повальном пьянстве россиян, которые будто бы поэтому прониклись такой любовью к ее чучелу, из‐за специфического «выражения лица» получившему прозвище Упоротый Лис. В числе негодующих оказался также известный защитник животных и детей от пропаганды гомосексуализма Виталий Милонов346, тщетно призывавший закрыть чучелу въезд в северную столицу.
Версии того, почему Лис выглядит так, как он выглядит, варьируют от «художественного замысла» до ошибок таксидермиста, включая также сведения о плохом состоянии тушки, когда она попала к Морзе. Скорее всего, имело место сочетание этих обстоятельств: так, поза чучела настолько далека от визуально привычной пластики диких животных, что едва ли могла получиться случайно. Именно поза — человеческая, культурная техника тела, предполагающая сидение на возвышении347 — ключевой антропоморфный элемент облика Упоротого Лиса. В предыдущем разделе статьи мы видели, как поза используется для интегрирования таксидермических объектов в «природный» контекст или его условные имитации в интерьерном декоре и модном дизайне: колибри «летит» среди перистых (а вернее, перьевых) облаков, попугай сидит на ветке, «вырастающей» из декоративной подставки. Поза Упоротого Лиса, наоборот, противопоставляет его классической идее «природы», однако именно благодаря этому чучело органично встраивается в любые «человеческие» ситуации: «Говорят, что из‐за своей позы он подходит куда угодно»348, — цитирует Адель Морзе поклонников своего Лиса.
Примечательно, что антропоморфные черты чучела — поза, «мимика» — связываются в данном случае с идеей «плохой» таксидермии. Хотя большинство таксидермических образцов, как минимум с начала XIX века, стремились воссоздать животное, «каким оно было» в природе349, история таксидермии знает и фальсификации несуществующих видов, и чучела-карикатуры, и жанровые сценки с «актерами»-животными — контексты, в которых антропоморфизм воспринимался как свидетельство мастерства, а не неумелости таксидермиста. Так, на Всемирной выставке 1851 г. в Лондоне многофигурные таксидермические композиции, представленные Германским таможенным союзом, были в числе наиболее популярных экспонатов350. Среди них отдельного упоминания заслуживают сцены из поэмы И. В. Гете «Рейнеке-Лис», выполненные Германом Плокке, где чучелам лис были приданы человеческие позы и выражения. В путеводителе по выставке отмечалось, что господин Плокке «заставляет зверей исполнять человеческие роли с безграничным юмором, причем животные неизменно сохраняют и свои отличительные черты»351. «Натуралистические» композиции Плокке, например, сцены охоты, где свора собак затравливает оленя или дикого кабана, также удостоились высокой похвалы и даже были воспроизведены в каталоге выставки352, однако именно «иллюстрации» к «Рейнеке-Лису» считались наивысшим достижением штутгартского таксидермиста.
Столь различные оценки антропоморфных характеристик двух Лисов можно было бы вслед за Джоном Берджером объяснить исходя из ослабления связей и редукции взаимодействий между людьми и животными в реальной жизни: «За последние два столетия животные постепенно исчезли. Сегодня мы живем без них. И в этом новом одиночестве нам вдвойне не по себе от антропоморфных образов»353. Однако более убедительной представляется аргументация, основанная на понятии декорума (приличия, социальной и эстетической уместности) — ключевого принципа классицистического искусства, который Джованни Алои предложил распространить на репрезентацию природы в естественно-научных диорамах354. Вслед за Донной Харауэй в ее классическом эссе «Патриархат плюшевых мишек»355 Алои обращает внимание на то, что «естественность» в таксидермических композициях жестко отфильтрована: животные никогда не показываются спаривающимися356 или испражняющимися, больными или напуганными, крайне редко — умирающими (в этом случае имеет место героизация битвы и «воинского духа» противников: сражающихся самцов, хищника и его жертвы, охотничьих собак и загнанного ими зверя). «Классические» таксидермические образцы должны были воплощать ту же «благородную простоту и спокойное величие», которые, по мысли Иоганна Винкельмана357, отличали лучшие творения античных скульпторов. И в том, и в другом случае взгляду зрителя предстают идеализированные формы, в которых представления о гармонии и пропорциональности превалируют над анатомической точностью.
В противовес этой героической эстетике Упоротый Лис с его безвольно повисшими тощими лапками воплощает «декадентскую» телесность. Если Лис Плокке, по мысли авторов путеводителя по Всемирной выставке 1851 года, возлежал на кушетке «с комическим достоинством», а каталог экспозиции восхвалял «точно переданное выражение сметливости» на мордочках чучел, созданных немецким таксидермистом, то Лис Морзе не демонстрирует ни ума, ни благородства. «Человеческие» качества и состояния, которые он персонифицирует в глазах наблюдателей, сугубо негативны, от экзистенциального кризиса и отчаяния до наркотического ступора. Это образ, сходный с тем, что увидел Джон Берджер на картинах Фрэнсиса Бэкона, которые, по мысли критика, «демонстрируют, как отчуждение может вызвать стремление к собственной абсолютной форме — а именно бездумности»358.

Адель Морзе. Упоротый Лис. Ок. 2010. Фото: Amouse13, Архив Wikipedia.org
Можно спорить о справедливости берджеровской интерпретации творчества Бэкона, однако она представляется продуктивной теоретической рамкой для завершения разговора о таксидермии постсовременности. Исследователи последних десятилетий подчеркивают подрывной, критический потенциал «топорной таксидермии», деконструирующей представления о «естественности» и их идеологические основания, а также указывающей на проблемы экологии и прав животных и в целом на неоднозначный культурный статус «природы», которая становится все более симулированной и абстрактной. Особая роль при этом приписывается материальным свойствам таксидермических объектов, в первую очередь использованных для их создания останков животных, столкновение с которыми вне парадигмы жизнеподобия предположительно не может не затрагивать зрителя глубоким и сложным образом. Указывая, что в данном случае «материалы производят знание или по крайней мере способствуют открытому творческому мышлению», Стив Бейкер вводит понятие «абразивной видимости»359 — способности задерживать взгляд и сопротивляться комфортному визуальному потреблению.
Пример Упоротого Лиса, персонажа бесчисленных мемов, напрочь опровергает подобные построения. И дело здесь не только в сугубо развлекательном характере изображений с его участием, но и в принципах их производства и циркуляции, когда стихийное распространение «вирусного» контента становится самостоятельным феноменом, более значимым, чем содержание текстов и картинок. Успех мемов зачастую связан с мгновенным опознанием их ключевого элемента, что предполагает не пристальное всматривание, а беглый взгляд, беспрепятственно скользящий по поверхности — то есть полную противоположность «абразивным» визуальным характеристикам, приписываемым «топорной таксидермии».
Можно было бы противопоставить Упоротого Лиса произведениям современных художников, работающих с таксидермическими материалами, на основании формальных качеств этих объектов, стоящего за ними концептуального замысла (или отсутствия такового), а также профессионального статуса и репутации изготовителя. Однако это очевидным образом противоречит концепции Бейкера, который, вслед за Ж.‐Ф. Лиотаром360, акцентирует кризис экспертной парадигмы и отдает приоритет любительским знаниям и практикам (наряду с самим Лисом к этой категории, безусловно, относятся фотоколлажи с его участием). Кроме того, как показывает приведенная выше цитата, Бейкер настаивает на «агентности» материалов, которые способны «работать» определенным образом независимо от воли оперирующего ими индивида.
Таким образом, идеи «подлинности» и «присутствия», — пусть примененные уже не к идеализированным картинам природы, а к ее руинам, — продолжают вдохновлять теоретиков и практиков современного искусства, тогда как бытование образов в цифровом контексте радикально проблематизирует эти категории, рассеивая опирающиеся на них критические высказывания. Как и концептуальные произведения признанных художников, «наивная» таксидермия361 в ее бесчисленных виртуальных реинкарнациях остраняет и фрагментирует представления о «естественности». Если «классические» таксидермические объекты XIX — первой половины XX веков были прочно встроены в канонические мизансцены, размещавшиеся в «театральных коробках» диорам или сходным образом организованных пространств, то таксидермия постсовременности может быть охарактеризована как эмерджентный, сайт-специфичный «театр», свободно мигрирующий между реальными и онлайн-контекстами, в зависимости от которых меняется смысл «постановки». Однако в противовес «настоящему» современному театру, нередко нацеленному на производство «абразивного» зрительского опыта (также как правило укорененного в идее присутствия), цифровые изображения объектов «топорной таксидермии», по‐видимому, способны лишь миметически заражать зрителя той «абсолютной формой отчуждения», которую они воплощают: мы смотрим на Упоротого Лиса таким же взглядом, как и он на нас.
Заключение
Таксидермические объекты последних двух столетий наглядно показывают историческую изменчивость идеи живой природы и инструментарий, задействованный в процессах ее конструирования: от идеологических и визуальных конвенций до технических навыков таксидермиста. В качестве объекта человеческого познания и обладания природа всегда в том или ином смысле антропоморфна, но в то же время зачастую мыслится через категории различия, когда животное являет фигуру абсолютного Другого. Эта инаковость позволяет порой игнорировать границу между живым и неживым: многие источники XIX века указывают на полную или частичную «взаимозаменяемость» зверей и их чучел в научно-просветительских, модных, бытовых и сентиментальных контекстах.
Разумеется, эквивалентным живому существу могло считаться не любое чучело, а лишь мастерски выполненное и соответствующее актуальным представлениям о «естественности». Как отмечает автор дореволюционного пособия по таксидермии Л. Бонар,
В чучельном деле, как и в каждом другом, можно быть художником и ремесленником. Ремесленник поставит чучело, и оно будет казаться вполне сносным, но и мертвым в то же время. Художник же, наоборот, придаст чучелу такую посадку, такую позу, что птица кажется живой и что вот-вот сорвется она с места и полетит362.
Комментарий Бонара акцентирует значимость художественных канонов репрезентации для таксидермической практики, которая в других контекстах (в первую очередь, музейном) могла представляться «объективным» отражением естественнонаучного знания, не имеющим самостоятельного визуального языка и отсылающим непосредственно к «реальности». В действительности научный и художественный аспекты таксидермии были неразрывно связаны и обусловливали друг друга: традиция репрезентации животных в живописи и скульптуре предопределяла их визуализацию в узкоспециальных контекстах, например, в естественнонаучной иллюстрации, которая, в свою очередь, использовалась как пособие при создании чучел. Для каждого вида существовал набор «канонических» поз и мизансцен, составлявший его визуальную идентичность, которой должны были соответствовать чучела, предназначавшиеся как для отделки интерьеров и модных аксессуаров, так и для естественнонаучных экспозиций. При этом понятие декорума превалировало над анатомической достоверностью: чучела должны были выглядеть эстетично, выражая приписываемое животным «благородство» и «подлинность». В то же время очевидно, что эти категории мыслились в антропоморфном ключе, транслируя, в частности, специфические представления о гендерных ролях. Американский этнограф и естествоиспытатель Роберт Шуфельдт, описывая в 1917 году диораму, представлявшую семью оленей вапити, из Национального музея естественной истории в Вашингтоне, утверждал:
Во всех отношениях эти животные выглядят так, как если бы они были живые. Интересно рассматривать их своеобразные выражения: уверенность самца в своей силе, мольба встревоженной самки и полная беспечность ласкового олененка. Отметьте также, как безупречно воссоздан снег, используемый в качестве «реквизита»363.
Пространственная организация диорам и используемый в них «реквизит» могли заимствовать элементы религиозной иконографии и архитектуры: представления о «храме природы» получали визуальное и материальное воплощение в расположении групп животных, отсылающем к алтарю или рождественскому вертепу. Эти влияния свидетельствуют одновременно о секуляризации западных обществ, в которых наука постепенно становится новой «религией», и об огромном, сохранявшемся как минимум до начала XX века, авторитете, можно даже сказать — парадигмальном характере религиозной культуры, который в ретроспективе легко недооценить. Чучело попугая из «Простой души» Флобера находится на перекрестье научного знания (учитывая, что «прототип» Лулу был позаимствован писателем из музея естественной истории), статусной модной атрибутики и религиозных практик, проявляя их взаимосвязь в культуре XIX века. Еще одним важным аспектом этой культуры, выходящим на первый план во флоберовской повести, является повседневное присутствие смерти, закрепляемое сложными траурными и коммеморативными ритуалами. В этом контексте изготовление чучела может рассматриваться не как объективация домашнего питомца, а наоборот, как утверждение и увековечение его индивидуальности — подобно тому как локоны, состриженные с головы дорогих ушедших, посмертные фотографии, маски и слепки рук позволяли облечь память о людях в вещественную форму.
На протяжении XX века подобное отношение к смерти из центрального феномена западной культуры превратилось в маргинальное и патологизируемое явление. Вместе с тем ушли в прошлое или претерпели радикальную трансформацию многие другие значения, ассоциировавшиеся с таксидермией в более ранний период. Так, героизация природы как таковой и побед человека над ней сменилась тревогой по поводу сокращения биоразнообразия, разрушения экосистем и неотвратимости природных катастроф в качестве возмездия за бесчисленные злоупотребления природными ресурсами. Произведения современных художников, работающих стаксидермическими материалами, нередко затрагивают эту проблематику, а также переосмысливают статус животных как объектов научного познания. Однако критический потенциал подобных высказываний размывается в виртуальной среде, где, наряду с любительскими таксидермическими опытами, они могут подвергнуться дальнейшему «препарированию»: фрагментации, де- и реконтекстуализации в качестве цифровых изображений. Тем самым процесс конструирования «природы» и заведомая искусственность любых репрезентаций «естественного» выходят на первый план — но не проблематизируются и не связываются с идеей (зрительской) ответственности. Подобно персонажам флоберовского бестиария в постмодернистской интерпретации Джулиана Барнса, Упоротый Лис «оказывается не столько животным, сколько фигурой отсутствия»364, однако это отсутствие уже не подразумевает тех эмоций, которые связывались с ним раньше: тоска по несбыточному (longing) здесь оборачивается пародией на саму себя.
Призрачное пространство в спектаклях in situ: эффект междумирья
[in situ]
Елена Гордиенко
Одной из черт современного театра является уход от привычного разделения сцены и зала. Эксперименты со сценой-трансформером и выстраиванием зрительского маршрута внутри театрального здания соседствуют с выходом за пределы сценической коробки, игрой в не предназначенных для театра пространствах: театр выходит на улицу, осваивает ангары, парковки, супермаркеты, вокзалы и больницы. Часть подобных проектов называют иммерсивными (от англ. immersive — создающий эффект присутствия, погружения). Предполагается, что, оказываясь в окружении актеров и других зрителей, в числе которых иногда могут быть и случайные прохожие, будучи «вписаны» в декорации, специально сделанные или найденные, участники будут не просто отвлеченно взирать на происходящее — но чувствовать себя частью созданного мира; что мир этот будет представляться целостной средой, а не набором отдельных прерывных сцен. В то же время во многих спектаклях, отталкивающихся от нетеатрального пространства и происходящих в нем — такие спектакли обозначают английским словом site-specific365 или по‐латыни in situ — возникает эффект не погружения, а, скорее, состояния «между». Восприятие балансирует между погружением и дистанцией, между прошедшим (часто это проекты об истории места) и сегодняшним днем, между ушедшей функцией места и сегодняшним его предназначением. Субъективное зрительское ощущение, тем более ощущение от пространства, в котором разворачивается спектакль, на первый взгляд, может показаться чем‐то внележащим по отношению к самому представлению. Однако природа сайт-специфических проектов такова, что отношения с пространством являются для них не второстепенным, а сущностным вопросом, ведь режиссеры намеренно выбирают не просто новую сцену для показа или переноса задуманного, а уже существующее по своим законам место, со своими завсегдатаями, сложившимися практиками и ассоциациями. Очевидно, что помимо экономических причин, здесь есть и эстетическая мотивация. Театр, приходящий в бытующее не по сценическим законам пространство366, нарушает привычный ход событий, ставит под вопрос сложившиеся иерархии и правила поведения, причем как в этом месте, так и в самом театре. Такой театр в равной степени обнаруживает театральность «реального» места и достоверность театрального события (не фабулы, но самого перформативного акта). Выбранное пространство служит функциональным вместилищем, декорациями — но одновременно как будто само напрямую говорит с пришедшими в него людьми. Задачей режиссера и художника часто становится не только принести внутрь места некое действие, но и высветить, сделать явными уже содержащиеся в нем смысловые слои, так что фикция и реальность здесь не противостоят друг другу.
Излюбленный театральными обывателями вопрос — «театр это или не театр» — в отношении многих спектаклей in situ не будет иметь однозначного ответа, вернее, это одновременно и театр, и не театр, и именно это мерцание смыслов и режимов восприятия во многом делает такие проекты исключительным предметом эстетического анализа, учитывая, что современная эстетика видит эстетическое в трансформации восприятия объекта из обыденного в необыденное, в «явлении» (М. Зеель), или событии «обнаружения свойств вещи воспринимаемой вне прагматической <…> установки, в результате чего эти свойства, оставаясь частью внешнего мира, образуют новые конфигурации, доступные лишь в рамках этого типа восприятия, называемого эстетическим»367, а не — необязательно — в институционализированных мероприятиях и артефактах. Такой театр задействует отличные от «конвенционального» театра методы — как в создании, так и в восприятии — которые сложно описывать в исключительно искусствоведческой парадигме. С помощью каких же терминов и концепций можно передать механизм работы театра in situ? Посредством каких понятий, какого языка можно говорить об описанных эффектах восприятия, о тех изменениях, которые театр производит с тем реальным пространством, куда приходит для осуществления игры?
Не претендуя на исключительность или истинность, я бы хотела обратить внимание на одну метафору, которая стала уже классической для разговора о сайт-специфических проектах — метафору призрака. Метафора эта в разных обличиях используется критиками и философами для объяснения различных культурных феноменов, как собственно театра in situ, так и смежных процессов в искусстве и культуре в широком смысле слова. Кажется удобным через нее взглянуть на устройство спектаклей in situ, на те механизмы памяти и зрительской идентификации, которые они задействуют.
Для анализа были взяты московские спектакли и инсталляции in situ последних лет: «Радио Таганка» в Театре на Таганке (режиссер Семен Александровский, драматург Евгений Казачков, художник Шифра Каждан, 2014), «Вперед, Москвич!» в помещении Совета ветеранов района Текстильщики (режиссер Валерия и Георгий Сурковы, художники Ксения Перетрухина и Шифра Каждан, 2015), инсталляция Ксении Перетрухиной и Дмитрия Власика и проект «Другой музей» Семена Александровского для медиавыставки «Дом впечатлений» (2016) в Усадьбе Голицыных — здании, перешедшем от Института философии Российской академии наук к ГМИИ им. Пушкина, — а также спектакль-прогулка по улицам Ростова-на-Дону «Волшебная страна» (режиссер Всеволод Лисовский, художник Сергей Сапожников, театр «18+», 2017), получивший «Золотую Маску». Эти проекты создают «смычку» времен — линейно разорванных, но тематически и дискурсивно схожих. Хотя больше нет завода, нет СССР, нет позднесоветской богемной жизни, нет больше на Волхонке ИФ РАН, — они как призраки «витают» над этими местами.
Пространство — Призрак — Свидетель
В 1990‐х годах режиссер британской театральной компании Brith Gof Клиффорд МакЛукас предложил понятие призрака для объяснения взаимодействия сайт-специфического театра с выбранным для показа пространством:
Принимающее пространство (The Host) на короткий период захватывается Призраком (a Ghost), который создают театральные постановщики. Как все призраки, он прозрачен, и тело Пространства (Host) может быть видно сквозь Призрак. Добавьте к этому третий компонент — Свидетеля (the Witness) — т. е. аудиторию, и перед нами своего рода Троица, совершающая Творение. Важно мобилизовать всю триаду — а не только создать призрак. Все три компонента активно участвуют в создании сайт-специфической работы. Пространство, Призрак и Свидетель368.
Зритель смотрит постановку, но она не заслоняет пространство, а оставляет видимым тот реальный географически-социальный объект, о котором и внутри которого идет речь. Театральная игра преображает пространство, но творит не столько новый воображаемый мир, сколько палимпсест: сквозь перформанс всегда просвечивается первичный слой. Суть спектакля in situ — это встреча спектакля с пространством и со зрителем, которая закручивает процесс «переговоров» между правилами и порядками, свойственными каждому из компонентов триады МакЛукаса. Смысл постановки поэтому возникает на пересечении и оспаривании этих сеток правил.
Метафора спиритического сеанса, однако, подходит к документальным сайт-специфическим спектаклям лишь отчасти: мы, на чем настаивает МакЛукас, действительно видим (и/или слышим) и спектакль, и реальное пространство, но они не независимы друг от друга.
Парадокс спектаклей in situ состоит именно в том, что добавленное к пространству театральное сообщение выявляет уже заложенную в нем память места. «Стирая различия между виртуальным пространством действия и реальными пространствами, в которых оказывается наблюдатель, эти стратегии обнажают перформанс тех мест, в которые они вторгаются»369. Зритель здесь не пассивный свидетель, а активный припоминающий субъект.
В Совете ветеранов «Москвича» библиотечные стеллажи завалены двумя сортами литературы — книгами коммунистической направленности и любовными романами в тонкой обложке, признаками советской и постсоветской библиотеки. В кабинетах, куда зрители заходили во время спектакля-прогулки, стояли дисковые телефоны, карточные каталоги, на стене висел календарь с японками — один из тех, что были крайне популярны в поздние 80‐е. Время в этом подвале словно законсервировано, и спектакль сопровождался замечаниями зрителей о том, что эти детали они помнят у себя или у своих коллег. Можно было подумать, что это музей заводской жизни, но на момент проведения спектакля подвал еще таковым не являлся, зато был местом сбора ныне живущих бывших работников завода.
Историчность обстановки бросалась в глаза людям со стороны, прежде всего молодежи, и эффект усиливался от театрального действия, так как документальные свидетельства заводчан о той былой жизни произносились молодыми артистами, одетыми в ретро-стиле, так что можно было представить, как в подобном интерьере работали (и влюблялись, и мечтали, и жаловались друг другу…) герои, но прошедшее время при этом из интервью не убиралось, так что иллюзия с самого начала была неполной. Проекция персонажей оказывалась только памятью о молодости, но не всамделишным вселением душ, призраком прошлого в сегодняшнем дне, но не путешествием в историю.


«Радио Таганка». Реж. Семен Александровский. Театр на Таганке, 2014. Фото: Наташа Базова
В спектакле «Радио Таганка» зрители перемещались по Театру на Таганке, заходя как в привычные для зрителей места — зал, буфет, фойе, так и в закрытые для непосвященных пространства: репетиционные помещения, кабинет Ю. П. Любимова, сцену. Параллельно участники слушали записанную в этих стенах радиопьесу Е. Казачкова о постановке спектакля памяти Владимира Высоцкого и связанных с ним перипетий вокруг цензуры и отношений художника и власти. Реконструированные собрания и разговоры проходили когда‐то тут же, в этих самых местах. Слушая, зритель мог представить, как происходил описанный процесс и как вообще советские театры были вынуждены показывать свои спектакли чиновникам перед тем, как выпустить премьеру, реагировать на замечания и правки. Зритель мог прочувствовать напряжение момента с точки зрения актерской, директорской, режиссерской. В то же время все действие передавалось только голосом, «вживую» актеры задействованы не были, так что видели зрители вокруг только других зрителей и сами театральные помещения, стены, которые помнят историю — но не саму историю.
«Вперед, Москвич!» и «Радио Таганку» можно было воспринимать в какой‐то момент так, чтобы погружаться в прошлую историческую реальность, и в то же время современный слой не был спрятан, как‐то камуфлирован. Напротив, просвечивание сегодняшнего дня, будущего по отношению к рассказываемым историям на уровне не только когнитивном (зритель же знает, что было потом), но визуальном и тактильном (его взгляду открываются современные электрические приборы, фотографии, даже костюмы присутствующих других зрителей) — заостряло восприятие.
Другим ярким примером такой призрачности может служить спектакль-прогулка «Волшебная страна» театра «18+» из Ростова-на-Дону по одноименной книге Максима Белозора. Книга представляет собой сборник историй вокруг жизни ростовской богемы 1980–1990‐х годов. Главы названы по именам художников, и уже в книге можно увидеть черные рамки — многие герои умерли еще до публикации (и многие — от пьянства, о котором, как и о смерти вообще, идет речь здесь часто). Для спектакля Всеволод Лисовский — один из героев книги — выбирает главы исключительно о тех, кого уже нет, и с помощью Сергея Сапожникова, бывшего граффити-художника, старается не просто показать эти анекдотические истории в городе, но вписать их в городской ландшафт, нарисовав ключевую реплику из рассказа то на стене, то на простыне, то на асфальте. Ведомые обычно самим Лисовским зрители наталкиваются на эти надписи и другой реквизит, который настолько визуально соответствует окружающему пространству — бельевым веревкам, обшарпанным стенам, живописным углам во дворе, законопаченному окну, — что отличить привнесенное от уже присутствующего бывает очень сложно, и только актерские монологи помогают увидеть, что есть здесь элемент игры. При этом бывает, что зрители принимают городских жителей и зевак за таких же актеров. Хотя речь в книге и на самом деле шла о другом районе Ростова — нужный был уже слишком джентрифицирован и перестал быть похож на Ростов позднесоветской поры — у зрителей складывается ощущение аутентичности370, и многие радуются узнаванию ситуаций.


«Волшебная страна». Реж. Всеволод Лисовский. Театр «18+», 2017. Фото: Ксения Твердохлебова. Архив театра «18+»
Любопытно, как сам Лисовский поясняет выбранный художественный прием: «… есть эффект, знаешь, как в клубах ставят печать и она невидима, а потом светят фонариком; вот это какая‐то надпись на заборе, она также неприметна, и не понятно, о чем она, а вот подсветили фонариком действия — и она стала светиться» (из интервью автору статьи, июль 2019). Это описание подтверждает мысль о том, что спектакли in situ способны проявить те моменты в городском пространстве, которые уже в нем содержались, но при обыденном взгляде не были видимы. Стены облупливаются или не ремонтируются, мальчишки шатаются во дворах в тапочках или просто выходят поглазеть на чужаков не для того, чтобы быть живыми памятниками предыдущей эпохе или разбитному образу жизни, но художественное событие способно поставить акценты так, чтобы замечать именно определенные черты и при этом не замещать собой городскую среду — а как раз делать ее объектом зрительского взгляда. Лисовский намеренно выбирает те кварталы города, в которых дух прежних лет еще как бы сохранился — «исчезающую фактуру» — чтобы рассказать о самом по себе исчезновении, о тех людях и тех событиях, которых уже очевидно нет. Вспомнить о былом, посмеяться и поплакать — и пойти дальше. Как призрак не остается навечно в выбранном теле, так и «Волшебная страна» дает вспомнить или представить «тот» Ростов — чтобы он тут же растворился, чтобы актерские монологи были произнесены и смолкли, а надписи даже если остались, то были уже не ясны случайному прохожему, не прошедшему спектакль.
Призракологика
Интересно применить к спектаклям in situ метафору призрачности уже в понимании Жака Деррида, которое философ развивает в книге «Призраки Маркса». Деррида отталкивается от шекспировского «The time is out of joint», замечая c помощью переводов (ср. русские варианты: время вывихнуто / раздроблено / смещено / расшатано / не в себе / разлажено / сорвалось с петель; мир наизнанку; эпоха обесчещена / опозорена / порочна), что разлаженность, разъятость выставляется синонимом развращенности, словно ведет к несправедливости. Появление призрака воспринимается как угроза порядку. Их следует устранить. Вместо устранения Деррида предлагает, напротив, развивать призракологику.
Призрак, говорит Деррида, это не что‐то ненормальное, призраками наполнено наше бытие. Сегодняшний мир, полный виртуальности в научном, публичном и политическом пространстве, в принципе не сводится к оппозиции возможного и действительного. Чтобы его понять, необходимо мышление, «которое с необходимостью превосходит бинарную или диалектическую логику — логику, различающую или противопоставляющую присутствие (присутствующее, актуальное, эмпирическое, живое — или же неживое) идеальности (регулятивное или абсолютное не-присутствие)»371. Та самая «логика призрака».
Призрачность состоит в мерцании противоположностей. И прошлое, и настоящее. И живое, и мертвое. Принципиально невозможно определить до конца принадлежность по бинарной оппозиции. Коммунизм остается призрачным, потому что он всегда грядущий — несмотря на то, что нам кажется, что с коммунизмом покончено, если тоталитарные режимы его имени потерпели крах. «Призрак никогда не умирает, он всегда остается, чтобы приходить и возвращаться»372.
Такую призрачность и выявляют спектакли in situ. Ты ходишь по подвалу Совета ветеранов «Москвича», и тебе кажется, что ты попал в музей советской эпохи — так все предметы аутентичны, но это место существует сегодня. Ветераны завода здесь собираются, пьют чай, обсуждают новости и вспоминают молодость — сейчас. Драматург Марина Крапивина намеренно делает коллаж из документов 40‐х и 80‐х годов и интервью, взятых непосредственно для спектакля в 2015 году. Отсутствие жесткости границ между текстами разных лет подчеркивает, что язык рабочих и проговариваемые ими ценности мало изменились, несмотря на социально-исторический разрыв. Язык не подчиняется линейности истории и проговаривает призрачность существования.
Спектакли отделены от повседневной жизни и представляют собой «другое пространство», с особыми маркерами входа и выхода. То, что Мишель Фуко назвал гетеротопией. Но при этом внутри они говорят о действительной жизни и внутри действительного предметного мира — не симулякра. Такая двойственность создает эффект мерцания. Дихотомии фиктивное/реальное, сделанное/готовое, прошлое/настоящее оспариваются. Театр выводит на поверхность наслаивание и перекрещивание пространственно-временных и концептуальных слоев в сегодня существующих местах. Добавляя в него физически чужеродные элементы игры, он вскрывает то, что в нем уже содержалось — работая с памятью места и коллективной памятью в целом.
Призрак ассоциируется с мертвым и связан с «работой скорби», о чем говорит Деррида, ссылаясь на Фрейда. Оба упомянутых выше спектакля повествуют об утрате: не стало завода и не стало памятника — в рассказах работника «Москвича», не стало Высоцкого и ушел из театра Любимов — в материалах и контексте «Радио Таганки». Однако призрачно и будущее.
Ксения Перетрухина в личной беседе (2015) рассказывала о собственных ощущениях в связи с проектом «Вперед, Москвич!»: только она привыкла «не ненавидеть» советское время, как оно пришло в сегодня, к чему она оказалась уже не готова. Как музей его можно принять, а не как музей? И именно поэтому важным было дать увидеть эту законсервированную среду — вглядеться в то, как жили, как это было — то, что может стать нашим будущим. Прошлое проявляется в настоящем и угрожает — будущему. Размышления художницы перекликаются с характеристикой призрака Деррида, согласно которому «мы не знаем, свидетельствует ли он о жизни в прошлом или о жизни в будущем, поскольку привидение может знаменовать собой возвращение призрака обетованной жизни»373.
Дом с привидениями
Очевидно, что документальные спектакли in situ оказываются по своей эстетике близки к реди-мейдам. Вместо кодирования реальности и изображения вымышленного мира — запечатлевание следов, хранилище свидетельств, регистрация, оттиск реальных объектов. Знаки, основанные не на символической, а на физической взаимосвязи, то есть индексы по классификации Пирса. Мы имеем дело с индексом — в отсутствии вызвавшего его объекта. Важно заметить, что след — это знак отсутствия, но не пустоты. «Следы, отпечатки, улики — пусть все они имеют физическую причину, они отсылают к той причине, что больше не присутствует в зримом знаке. <…> здание физически здесь, но во времени оно уже далеко»374 — писала Розалинд Краусс об искусстве 1970‐х годов, восходящем к индексальной практике реди-мейдов и фотографий. Эти слова во многом можно отнести и к исследуемым нами документальным сайт-специфическим проектам.
Французский теоретик Жорж Диди-Юберман, анализируя серию инсталляций «Смещения» итальянского художника Клаудио Пармиджани, где тот работает с пылью, пеплом и следами, оставшимися от убранных со стен после искусственного пожара вещей (рамок картин, книжных полок, стульев и пр.), говорит о получаемом пространстве как доме с привидениями. В этом месте больше ничего нет: «ни один житель, ни один объект больше не населяет этот дом (мы же, зрители, — не более чем прохожие, странники, археологи). Сохраняются одни дыхания, все еще различимые в недолговечных отпечатках пепла. Следовательно, основными действующими лицами этого «театра тишины», которым является Delocazione, будут наваждения»375. Наваждения — это «дуновение отсутствия, дыхание самого места», или, парафраз общеупотребительного выражения, «гений не-места». И этот гений не-места искусство делает видимым: «… дыхание уцелевшего времени, ставшее вдруг визуально интенсивным»376.
Само время отпечатывается в следах. «Пыль отрицает небытие». Спектакли в «покинутых местах» фиксируют момент перехода — это памятник не просто прошлому, но памяти и утрате.
Придя в Усадьбу Голицыных, где Пушкинский музей сделал свой филиал, а Институт философии РАН был вынужден съехать, сначала Ксения Перетрухина, а затем Семен Александровский выбрали оставить и показать обстановку, предметы ушедшей институции. Ксения Перетрухина для первой медиавыставки «Дом впечатлений» (куратор — Ольга Шишко) построила лабиринт из оставшейся библиотеки. Зрители бродили среди книжных шкафов, в которых уже нет книг, только композитор Дмитрий Власик в углы некоторых полок положил часы, так что можно было буквально слышать уходящее время. На втором этаже стояли опустевшие библиотечные каталоги, где еще попадались карточки — но даже если они были пустыми, они уже не имели шанса заполниться. Из оставшихся карточек где‐то были сложены детские карточные домики, что только еще больше подчеркивало отсутствие у этого места — в этой роли — будущего.
Для второй серии выставки с подзаголовком «Прогулка с трубадуром» Семен Александровский попросил оставить нетронутым целый этаж бывшего ИФ РАН. Из-за проблем с проводкой там технически нельзя было включать свет, и зрителям предлагали пройтись по этому этажу с фонариком в вечерние часы. Вещи были те же, что были оставлены в этих залах философами в спешке (пособия, листы диссертации, открытки, фотографии; кеды, бутылка шампанского…), какие‐то были сюда принесены с других этажей: например, в одной комнате оказались все числящиеся на балансе здания старые компьютеры. Путешествовать зрителю предлагалось в бинауральных наушниках, в которых он мог включить запись ходьбы по одному из европейских художественных музеев. Нетипичное для театра рассогласование слухового и зрительного каналов восприятия в «Другом музее» стирало границы не только пространства (в Москве слушали звуки Парижа, Венеции и Амстердама), но и времени: оставшиеся от ИФ РАН предметы свидетельствовали о прошлой жизни здания, а записи европейских художественных музеев намекали на его будущее как галереи искусства импрессионистов и постимпрессионистов. Зрители заходили внутрь реальных комнат и оказывались буквально в междумирье.
Это пространство уже не было институтом философии, уже не служило науке, но еще не было и задуманным музеем. Проект in situ здесь давал почувствовать это зависание, состояние между. Выставляя оставленные бывшими владельцами предметы, художники как бы продлевали им жизнь, не уничтожая, а сохраняя их для акта созерцания, рефлексии и памяти. Так искусство высвечивало не столько прошлое, сколько переход из одного состояния в другое, разрушение установленных практик, стирание когда‐то четких и казавшихся незыблемыми связей и переустройство пространства даже на уровне способов его прохождения.
Заключение
Дом с привидениями, искусство об утрате — это «парадоксальное место: место, где испытываешь одновременно контакт и дистанцию»377. Постоянное движение от контакта к дистанции и обратно — та оптика, в которой, кажется, лучше всего раскрывается индексальное произведение искусства, в частности, сайт-специфический спектакль.
Метафора призрака — или привидения — оказывается применима к театру in situ в разных значениях, потому что спектакли, созданные для и с учетом реального пространства, не заслоняют его, а целенаправленно «просвечивают», выявляя уже находящиеся в нем, но для обыденного взгляда невидимые, черты; потому что рассказываемая история одновременно принадлежит и прошлому, и настоящему, давая повод для узнавания ситуации и рифм как с прошлой жизнью пришедших зрителей или с их знаниями о прошлом, так и с текущим состоянием дел и зрительской памятью, а иногда и намекая на будущее; потому что театр часто выбирает для спектакля пространства заброшенные, оставленные, находящиеся в процессе перехода — от одного владельца к другому, от одного состояния и статуса к другому, — делая главной своей темой не только или не столько присутствие, сколько отсутствие, утрату, исчезание.
Биографии авторов
Олег Аронсон — кандидат философских наук, старший научный сотрудник Института философии РАН. Основные сферы интересов — современная философия, теория медиа. Автор книг «Богема: опыт сообщества» (2002), «Метакино» (2003), «Коммуникативный образ» (2007), «По ту сторону воображения. Современная философия и современное искусство. Лекции» (в соавт. с Е. Петровской, 2009), «Что остается от искусства» (в соавт. с Е. Петровской, 2015), «Силы ложного. Опыты неполитической демократии» (2017), «Кино и философия. От текста к образу» (2018).
Павел Арсеньев — докторант университета Женевы, художник, поэт и теоретик, главный редактор литературно-теоретического альманаха «[Транслит]» и автор четырех книг стихов. Основные сферы интересов — графические аспекты и формы материализации поэтического текста. Автор книг: «То, что не укладывается в голове» (СПб.: AnnaNova, 2005), «Бесцветные зеленые идеи яростно спят» (2011), «Spasm of Accomodation» (2017), «Reported speech» (2018).
Анастасия Архипова — культуролог, исследовательница, критик. Окончила историко-филологический факультет РГГУ, институт практической психологии и психоанализа (Москва) и Университет Ренн-2 (Франция). Сферы интересов — фрейдовский и лакановский психоанализ и культура (театр, в том числе оперный и танцевальный, телевидение — сериалы так называемого Золотого века, фанатские культуры). Автор (совместно с Екатериной Неклюдовой) книги «Эпоха сериалов. Как шедевры малого экрана изменили наш мир» (2020).
Елена Гордиенко — кандидат филологических наук, исследователь театра. Доцент кафедры культурологии и социальной коммуникации Школы актуальных гуманитарных исследований РАНХиГС, доцент кафедры менеджмента и культурной политики МВШСЭН. Окончила филологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, магистратуру по сравнительному литературоведению в университете Париж IV Сорбонна и магистратуру «Визуальная культура» факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ. Основные сферы интересов — театр in situ, театр и история, партиципаторный театр, перформативность. Публиковалась в журналах «ШАГИ/STEPS», «Практики и интерпретации», «Performing Arts» и других.
Ксения Гусарова — кандидат культурологии, старший научный сотрудник Института высших гуманитарных исследований им. Е. М. Мелетинского (РГГУ), доцент кафедры культурологии и социальной коммуникации РАНХиГС, преподаватель магистерской программы «Индустрия моды: теории и практики» в МВШСЭН, член международной группы исследователей телесности CORPUS и научного объединения Dress & Body Association. Сферы интересов — культура повседневности, теория моды, история и теория модных медиа, культурная история тела и канонов красоты. Публиковалась в журналах «Clothing Cultures», «Fashion Theory: The Journal of Dress, Body and Culture» (и его русскоязычном аналоге «Теория моды: Одежда. Тело. Культура»), «ШАГИ/STEPS», «Новое литературное обозрение», «Неприкосновенный запас».
Валерий Золотухин — кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник Школы актуальных гуманитарных исследований ИОН РАНХиГС, постоянный участник лаборатории Theatrum Mundi. Окончил Институт филологии и истории Российского государственного гуманитарного университета. Основные сферы интересов — история русского и советского театра, история и теория звучащей художественной речи. Публиковался в журналах «Театр», «Новое литературное обозрение», «ШАГИ/STEPS», Apparatus и других. Автор и составитель (совместно с Виталием Шмидтом) книги «Звучащая художественная речь: работы Кабинета изучения художественной речи (1923–1930) (2018).
Марина Исраилова — искусствовед, критик, исследовательница, кураторка. Закончила филологический факультет КемГУ и магистратуру по истории искусств ЕУСПб. Преподает в Лаборатории нового театра при Санкт-Петербургской школе нового кино. Сокураторка проекта по исследованиям звука «Вслух», лектория «Теории и практики перформанса» (Открытый лекторий Новой Голландии). Основные сферы интересов — феминистские эпистемологии, качественные методы исследований применительно к искусству, самоорганизованные инициативы в художественной среде, политическое как повседневное, перформативные практики, письмо как инструмент субъективации, возможности необязательности и радости в исследовательской работе.
Юлия Лидерман — культуролог, исследовательница, соосновательница (совместно с Марией Неклюдовой) и куратор независимой исследовательской лаборатории Theatrum Mundi. Основные сферы интересов — теория искусства, теория культуры, современное искусство, советская культура и искусство. Автор статей в журналах «Знамя», «Новое литературное обозрение», «Искусство кино», Pro et Contra, «Вестник общественного мнения», «Синий диван» и др. Автор книги «Мотивы «проверки» и «испытания» в постсоветской культуре. Советское прошлое российском кинематографе 1990‐х» (2005).
Елена Петровская — кандидат философских наук, ведущая научная сотрудница, руководительница сектора эстетики Института философии РАН, главный редактор философско-теоретического журнала «Синий диван». Основные сферы интересов — современная философия, эстетика, американская литература и культура. Автор девяти книг, включая «Непроявленное. Очерки по философии фотографии» (2002), «Антифотография» (2015), «По ту сторону воображения. Современная философия и современное искусство. Лекции» (в соавторстве с О. Аронсоном; 2009), «Теория образа» (М.: РГГУ, 2010), «Безымянные сообщества» (2012), «Что остается от искусства» (в соавторстве с О. Аронсоном; 2015) и «Возмущение знака. Культура против трансценденции» (2019).
Ирина Сироткина — кандидат психологических наук, доктор философии (PhD), ведущий научный сотрудник Института истории естествознания и техники РАН. Основные сферы интересов — история наук о человеке, история танца и двигательной культуры. Автор книг «Diagnosing Literary Genius: A Cultural History of Psychiatry in Russia» (2002), «Свободное движение и пластический танец в России» (2011), «Шестое чувство авангарда: танец, движение и кинестезия в жизни поэтов и художников» (2014), «Танец: опыт понимания» (2020) и других.
Галина Шматова — кандидат культурологии, преподаватель Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ), Школы-студии МХАТ, Высшей школы сценических искусств Театральной школы Константина Райкина. Окончила историко-филологический факультет РГГУ. Основные сферы интересов — театральная коммуникация, политика зрительства, телесность в современном театре. Публиковалась в изданиях «Театральная жизнь», «Экран и сцена», «Петербургский театральный журнал», а также в журналах «Вестник РГГУ», «ШАГИ/STEPS», «Знания. Понимания. Умения» и др.
Theatrum Mundi. Подвижный лексикон
Под редакцией Юлии Лидерман и Валерия Золотухина
Корректор
Михаил Пономарев
Выпускающий редактор
Катя Суверина
Макет, верстка
Андрей Кондаков
1
В первую очередь, студенты кафедры Истории театра и кино РГГУ, с которой у семинара с самого начала его работы сложились устойчивые связи.
2
См.: «Люди вышли на площади, просто увидев, какая нас ждет тоска»: [Стенограмма выступлений Ю. Лидерман, М. Давыдовой, В. Гаевского, О. Астаховой, М. Неклюдовой, И. Сироткиной, О. Зинцова и др.] // Театр. 2012. № 6–7. С. 228–233.
3
Забытые пьесы. 1920‐е–начало 1930‐х годов. Сост. В. В. Гудкова. М.: НЛО, 2013.
4
См.: «Круглый стол» «Театральность в границах искусства и за его пределами»: [Стенограмма выступлений Б. Дубина, В. Золотухина, О. Рогинской, О. Гавришиной, Ю. Лидерман] // НЛО. 2011. № 111. С. 219–233.
5
Стенограммы других встреч можно найти на сайте лаборатории. [Электронный ресурс]. URL: http://theatrummundi.ru/
6
Город Милет был взят Персами в 494 г. до н.э.
7
Геродот. История в 9 кн. Л.: Наука, 1972.
8
Rosenbloom D. Shouting ‘Fire’ in a Crowded Theater: Phrynichos’s Capture of Miletos and the Politics of Early Attic Tragedy // Philologus. 1993. Vol. 137. P. 183.
9
Golden L. The Purgation Theory of Catharsis // The Journal of Aesthetics and Art Criticism. 1973. Vol. 31. No. 4. P. 473. Перевод цитаты из Мильтона наш, поскольку в переводе Ю. Корнеева выпущен фрагмент фразы, касающийся меланхолии (Мильтон Д. Потерянный рай. Стихотворения. Самсон-борец / пер. Ю. Корнеева. Библиотека всемирной литературы. Серия первая. Том 45. М.: Художественная литература, 1976.)
10
Ibid., P. 474.
11
Рабинович Е. Риторика повседневности. Филологические очерки. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2000. С. 251.
12
Перевод, предложенный Е. Рабинович. В переводе В. Аппельрота: «… трагедия есть подражание действию важному и законченному, имеющему определенный объем, [подражание] при помощи речи, в каждой из своих частей различно украшенной; посредством действия, а не рассказа, совершающее путем сострадания и страха очищение подобных аффектов» (Аристотель. Поэтика. Об искусстве поэзии / пер. В. Г. Аппельрота, ред. и коммент. Ф. А. Петровского. М.: Государственное издательство художественной литературы, 1957).
13
Рабинович Е. Указ. соч. С. 258.
14
Там же. С. 256.
15
Там же. С. 259.
16
Там же. С. 264.
17
Там же. С. 265.
18
Porter J. Jacob Bernays and the Catharsis of Modernity // Billings J., Leonard M. (eds). Tragedy and the Idea of Modernity. Oxford: Oxford University Press, 2015. Pp. 15–41. Портер опирается на свой перевод финальной части одного из двух эссе Бернайса (Porter J. Translation of J. Bernays’s “Outlines of Aristotle’s Lost Work on the Effects of Tragedy”, sec. IV // Tragedy and the Idea of Modernity. Pp. 315–328).
19
Лессинг Г. Э. Гамбургская драматургия. М.‐Л.: Academia, 1936. С. 288.
20
Porter J. Op. cit. P. 20.
21
Ibid., p. 22.
22
Ницше Ф. Рождение трагедии, или Эллинство и пессимизм. М.: Мысль, 1990. C. 82.
23
Porter J. Nietzsche, Tragedy, and the Theory of Catharsis // SKENÈ Journal of Theatre and Drama Studies. 2016. Vol. 2. No. 1. P. 226.
24
Ibid., p. 223.
25
Фрейд З., Брейер И. Исследования истерии // Фрейд З. Собрание сочинений: в 26 т. Т. I. СПб.: Восточно-Европейский институт психоанализа, 2005. С. 49. Во время одного из длительных периодов помрачения пациентка разговаривала только по‐английски, не замечая, что говорит не на родном немецком.
26
Hirschmüller A. Physiologie und Psychoanalyse in Leben und Werk Josef Breuers. Bern: Hans Huber, 1978. Pp. 210–211. Цит. по: Sulloway F. J. Freud, Biologist of the Mind: Beyond the Psychoanalytic Legend. Cambridge, MA; London: Harvard University Press, 1979. P. 57.
27
Фрейд З., Брейер И. Указ. соч. С. 249, 275.
28
Там же. С. 277.
29
Джонс Э. Жизнь и творения Зигмунда Фрейда. М.: Гуманитарий, 1997. С. 130.
30
Архипов Г. А. Понятия диссоциации и вытеснения (Verdrängung) как две парадигматические модели поля мировой психотерапии // Цапкин В. Н., Есипчук М. С., Архипов Г. А. Этюды по психотерапевтической компаративистике. М.: МГППУ, 2014. С. 116.
31
Там же. С. 144.
32
Там же. С. 139.
33
Там же. С. 140.
34
Фрейд З., Брейер И. Указ. соч. С. 276.
35
Архипова А. Лебедь и бык // Экран и сцена. 12 декабря 2019 г. [Электронный ресурс]. URL: http://screenstage.ru/?p=12069
36
Дьякова Е. Интервью. Ромео Кастеллуччи: «То, как мы уходим, самое важное» // Новая газета. 8 ноября 2019. № 125. [Электронный ресурс]. URL: https://novayagazeta.ru/articles/2019/11/06/82627‐romeo-kastelluchchi-to-kak-my-uhodim-samoe-vazhnoe
37
В 2018 г. показана на Дягилевском фестивале в Перми (копродукция Пермского театра оперы и балета с тремя европейскими оперными домами).
38
Брехт Б. Театр: Пьесы. Статьи. Высказывания: В 5 т. Т. 5/2. М.: Искусство, 1965. С. 78.
39
Semenowicz D. The Theatre of Romeo Castellucci and Socìetas Raffaello Sanzio: From Icon to Iconoclasm, From Word to Image, From Symbol to Allegory. N. Y.: Palgrave Macmillan, 2016. P. 160.
40
«Плакать в театре — настоящее наслаждение». Интервью режиссера-авангардиста Ромео Кастеллуччи «Медузе» // Медуза. 11 декабря 2014. [Электронный ресурс]. URL: https://meduza.io/feature/2014/12/11/plakat-v-teatre-nastoyaschee-naslazhdenie
41
Ницше Ф. Указ. соч. С. 59.
42
Там же. С. 73.
43
Там же. С. 94.
44
Фрейд З. Толкование сновидений. Репринтное воспроизведение издания 1913 года. Ереван: Камар, 1991. С. 403.
45
Там же. С. 404.
46
Фрейд З. Влечения и их судьбы (1915).
47
Лакан Ж. Семинары: кн. 10. Тревога (1962–1963). М.: Гнозис/Логос, 2010. С. 155.
48
Miller J.‐A. Les six paradigmes de la jouissance // La Cause freudienne. Octobre 1999. No. 43. Pp. 7–29. [Электронный ресурс]. URL: http://www.causefreudienne.net/wp-content/uploads/2015/04/JAM-Six-paradigmes-jouissance.pdf
49
Лакан Ж. Семинары: кн. 7. Этика психоанализа (1959–1960). М.: Гнозис/Логос, 2006.
50
Miller J.‐A. Op. cit.
51
Lacan J. Kant avec Sade // Critique. Avril 1963.
52
Miller J.‐A. Op. cit.
53
Человек-Волк и Зигмунд Фрейд: сборник. Киев: Port-Royal, 1996. С. 172.
54
Лакан Ж. Семинары. Кн. 10. С. 94.
55
Arseni C., Di Matteo P. “Who I am, you’ll never know” // [Электронный ресурс]. URL: https://www.salzburgerfestspiele.at/en/p/don-giovanni
56
Brousse M.‐H. Castellucci, Lethéâtre des objets // Théâtre et psychanalyse — Regards croisés sur le malaise dans la civilization / Ed. by Page C., Koretzky C., Jodeau-Bell L. Montpellier: L’Entretemps, 2016. Pp. 288–293. См. также: Архипова А. Камень преткновения или скала соблазна? (Как говорить о театре с помощью психоанализа) // ШАГИ / STEPS. 2017. Т. 3. № 3. С. 224, 229–231.
57
Ibid., p. 289.
58
Ibid., p. 291.
59
Ibid., p. 289.
60
Papalexiou Е. The Dramaturgies of the Gaze: Strategies of Vision and Optical Revelations in the Theatre of Romeo Castellucci and Socìetas Raffaello Sanzio // Theatre as Voyeurism: The Pleasures of Watching. London: Palgrave Macmillan UK, 2015. P. 51.
61
Brousse M.‐H. Castellucci, Le théâtre des objets. P. 292.
62
Brousse M.‐H. Les conditions d’une larme // Lacan Quotidien. 2015. No. 550. [Электронный ресурс]. URL: https://www.lacanquotidien.fr/blog/2015/12/lacan-quotidien-n-550‐les-conditions-dune-larme-par-m-h-brousse-zizek-une-confusion-qui-insiste-par-j-aleman-guerre-par-a-aromi/
63
Ibid.
64
Леман Х.‐Т. Постдраматический театр. М.: Фонд развития драматического искусства, 2013. С. 35–36.
65
Лакан Ж. Семинары: кн. 10. С. 21.
66
Так, в одном из случаев Фрейда пациентка боится заходить в магазины одежды, потому что там над ней, когда ей было 13 лет, посмеялись продавцы; в дальнейшем выясняется, что «смех» и «одежда» приводят к совсем другому травматическому событию в детстве (сексуальному абьюзу): аффект «страх» смещен относительно своей причины (Фрейд З. Проект научной психологии (1895). Цит. по: André S. What Does a Woman Want? N. Y.: Other Press, 1999. P. 82–83).
67
Лакан Ж. Семинары: кн. 10. С. 96.
68
Un costume de peau. Entretien avec Romeo Castellucci // La Cause Du Désir. 2015. Vol. 3. No. 91. “Ce corps qui jouit”. [Электронный ресурс]. URL: https://www.cairn.info/revue-la-cause-du-desir-2015–3‐page-5.html
69
Впервые современные танцовщики заговорили, кажется, у Пины Бауш; см.: A corps et à cris. [Электронный ресурс]. URL: https://www.numeridanse.tv/themas/expositions/corps-et-cris
70
Если не ошибаюсь, это было в проекте «Любовь и дружба», который несколько лет назад курировала Анастасия Прошутинская в Доме танца при КЦ ЗИЛ (Москва).
71
Верлен П. «Искусство поэзии» (1874), пер. В. Я. Брюсова. [Электронный ресурс]. URL: https://ru.wikisource.org/wiki/Искусство_поэзии_(Верлен;_Брюсов)
72
Цит. по: Кандинский В. Точка и линия на плоскости. М.: Азбука-классика, 2005. C. 14.
73
Блок Л. Д. Классический танец. История и современность. М.: Искусство, 1987. С. 146, 255.
74
Кандинский В. Указ. соч. С. 107.
75
Кандинский В. Избранные труды по теории искусства. Т. 1. 1901–1914. М.: Гилея, 2008. С. 163.
76
См.: Холопова В. Н., Холопов Ю. Н. Антон Веберн: жизнь и творчество. М.: Советский композитор, 1984. С. 34.
77
Государственная академия художественных наук существовала в Москве в 1921–1930 годах; о Хореологической лаборатории см.: Сироткина И. Свободное движение и пластический танец в России. М.: НЛО, 2012.
78
См., напр., «Изоляция Форсайта. Проект от Инновационного театра балета в честь Международного дня танца». [Электронный ресурс]. URL: https://www.youtube.com/watch?v=NX2YOMz6H-o
79
Eimert H. Die notwendige Korrektur. In: Die Reihe 2: Antoin Webern Dokumente… Analysen. Wien; Zurich; London: U. E., 1955, P. 37: Цит. по: Холопова В. Н., Холопов Ю. Н. Указ. соч. С. 115.
80
Кандинский В. Избранные труды по теории искусства. Т. 1. 1901–1914. М.: Гилея, 2008. С. 272.
81
См.: Suquet A. Scènes. Le corps dansant: un laboratoire de la perception // Histoire du corps. Vol. 3. Les mutations du regard. Le XXe siècle. Paris: Éd. du Seuil, 2005. Pp. 407–408.
82
Langer S. K. Feeling and Form: A Theory of Art Developed from «Philosophy in A New Key». London: Routledge & Kegan Paul, 1953. Pp. 174–176.
83
Ibid., p. 175.
84
О «чистом», или «абсолютном» танце см.: Partsch-Bergsohn I. Modern Dance in Germany and the United States: Crosscurrents and Influences. Newark, NJ: Harwood Academic Publishers, 1995. Р. 21; Авдеев В. И. Новый свободный творческий танец // Искусство. 1929. № 5/6. С. 124–134.
85
Маяковский В. В. Живопись сегодняшнего дня; цит. по: Азизян И. А. Диалог искусств Серебряного века. М.: Прогресс-Традиция, 2000. C. 48.
86
Некоторое представление об этом дает издание: Словарь художественных терминов. ГАХН. 1923–1929 гг. М.: Логос-Альтера, Ecce Homo, 2005.
87
Тарабукин Н. М. Движение // Словарь художественных терминов. ГАХН. 1923–1929 гг. М.: Логос-Альтера, Ecce Homo, 2005. C. 126–127; Фабрикант М. И. Жест // Там же. C. 156–157.
88
Кристева Ю. Семиотика. Исследования по семанализу. М.: Академический проект, 2013. С. 34–46.
89
См.: Birdwhistell R. L. Kinesics. International Encyclopedia of the Social Sciences. Vol. 8. Macmillan, 1968. Pp. 379–385.
90
Пасквинелли Б. Жест и экспрессия. М.: Омега, 2009.
91
Цивьян Ю. На подступах к карпалистике: движение и жест в литературе, искусстве и кино. М.: НЛО, 2010.
92
Рутберг И. Г. Опыт и исследования Ф. Дельсарта, продуктивные для искусства пантомимы // Академия пантомимы: теория и практика. Вып. 1. М.: АПРИКТ, 2011. С. 200.
93
Дидро Д. Эстетика и литературная критика. М.: Худож. лит., 1980. С. 285.
94
Барт Р. Третий смысл: Исследовательские заметки о нескольких фотограммах С. М. Эйзенштейна // Строение фильма: Некоторые проблемы анализа произведений экрана. Сб. статей. М.: Радуга, 1985. С. 176.
95
Зенкин С. Н. Работы о теории. Статьи. М.: НЛО, 2012. С. 267.
96
Там же.
97
Noland C. Agency and Embodiment: Performing Gestures / Producing Culture. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2009. P. 195.
98
Гудмен Н. Способы создания миров. М.: Логос, Идея-Пресс, Праксис, 2001. [Электронный ресурс]. URL: https://litresp.ru/chitat/ru/%D0 %93/gudmen-neljson/sposobi-sozdaniya-mirov
99
Там же.
100
Там же.
101
Этим манифестом заканчивалась статья Райнер о ее работе «Parts of Some Sextets», написанная для Tulane Drama Review (1965). Цит. по: [Электронный ресурс]. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Yvonne_Rainer#cite_note-7
102
Sontag S. Dancer and the Dance // London Review of Books. Vol. 9, No. 3 (5 Feb. 1987). [Электронный ресурс]. URL: https://www.lrb.co.uk/the-paper/v09/n03/susan-sontag/dancer-and-the-dance
103
Гудмен Н. Указ. соч.
104
«…the bipolar flea moves in on the crocodile returning from a hunting party, taken over by dizziness you climb the swordfish, the angle is against it, despair pricks you but patience, light-footed, a thousand offerings to the north east» (Chauchat A. Generative Fictions, or How Dance May Teach Us Ethics // Andersson D., Edvardsen M., Spångberg M. (eds.) Post-dance. Stockholm: MDT, 2017. P. 34).
105
Ibid., p. 33.
106
Ibid., p. 41–42.
107
Смит Р. Танец жизни // Новое литературное обозрение. 2019. Т. 149. № 1. С. 401–413.
108
«Импрессионистичным» назвал танец Айседоры Дункан критик Андрей Левинсон, см.: Левинсон А. Искусство и значение Изадоры Дункан // Старый и новый балет. Пг: Свободное искусство, 1917. С. 47–63.
109
В русском переводе: «Металог: Что еще за лебедь?» Я благодарю Дмитрия Федотова, предоставившего мне свой перевод металога; оригинал см. в: Bateson G. Steps to An Ecology of Mind. Chicago & London: The University of Chicago Press, 2000. Pp. 33–37.
110
Цит.по: Валери П. Об искусстве. М.: Искусство, 1993. C. 447.
111
Бейтсон Г. Металог: Что еще за лебедь? / пер. Дм. Федотова (рук., С. 1–2).
112
Там же. С. 4–7.
113
Фишер-Лихте Э. Эстетика перформативности. М.: Канон-плюс, 2015. С. 374.
114
Там же. С. 375.
115
Леман Х.‐Т. Постдраматический театр. М.: Фонд развития драматического искусства, 2013.
116
Фишер-Лихте Э. Эстетика перформативности. М.: Play&Play; Канон+, 2015.
117
Леман Х.‐Т. Указ. соч. С. 135.
118
Там же. С. 143.
119
Фишер-Лихте Э. Указ. соч. С. 30.
120
Там же. С. 71.
121
См.: Гордиенко Е. Когда театр может быть опасным? К вопросу об этике партисипативного театра // Петербургский театральный журнал. 2018. № 94. Цит. по электрон. версии. [Электронный ресурс]. URL: http://ptj.spb.ru/archive/94/viewers-theater/kogda-teatr-mozhet-byt-opasnym/
122
Рансьер Ж. Эмансипированный зритель. М.: Красная ласточка, 2008.
123
Там же. С. 8–9.
124
Фишер-Лихте Э. Указ. соч. С. 111.
125
Буррио Н. Реляционная эстетика. Постпродукция. М.: Ад Маргинем Пресс, 2016. С. 48.
126
Рансьер Ж. Указ. соч. С. 6–8.
127
O’Hara M. Appearing Live: Spectatorship, Affect, and Liveness in Contemporary British Performance // Electronic Thesis and Dissertation Repository. [Ontario]: The University of Western Ontario, 2017. [Электронный ресурс]. URL: https://ir.lib.uwo.ca/etd/4764/
128
«Богатые живут иначе. Богатые стали бояться экранов. Они хотят, чтобы их дети играли с кубиками, а потому частные школы без компьютерных технологий сейчас на подъеме. Живые люди стоят дорого, и богатые хотят и могут платить за них. Напоказ отказаться от технического в пользу человеческого взаимодействия: прожить день без мобильного телефона, отказаться от социальных сетей и не отвечать на электронные письма — стало символом высокого социального статуса» («The rich do not live like this. The rich have grown afraid of screens. They want their children to play with blocks, and tech-free private schools are booming. Humans are more expensive, and rich people are willing and able to pay for them. Conspicuous human interaction — living without a phone for a day, quitting social networks and not answering email — has become a status symbol») Bowels N. Human Contact Is Now a Luxury Good // New York Times. 23.03. 2019. [Электронный ресурс]. URL: https://www.nytimes.com/2019/03/23/sunday-review/human-contact-luxury-screens.html
129
Бишоп К. Искусственный ад. Партиципаторное искусство и политика зрительства. М.: V-A-C press, 2018.
130
Дебор Г. Общество спектакля. М.: Логос, 2000.
131
Бишоп К. Указ. соч. С. 196.
132
Там же.
133
Там же. С. 235.
134
Там же. С. 243.
135
Геббельс Х. Эстетика отсутствия. М.: Изд-во «Театр и его дневник» Электротеатра Станиславский, 2015. С. 123.
136
Шкловский В. Гамбургский счет: Статьи — воспоминания — эссе (1914–1933): Сб. ст. М.: Сов. писатель, 1990. С. 58–72.
137
Болотян И. Театр как пытка. «Груз 300» и его противоречия // Театр. 2019. № 38. Цит. по электрон. версии. [Электронный ресурс]. URL: http://oteatre.info/teatr-kak-pytka-gruz-300‐i-ego-protivorechiya/
138
Гудков Л. «Доверие» в России: смысл, функции, структура // Вестник общественного мнения. Данные. Анализ. Дискуссии. 2012. № 2 (112). Цит. по электрон. версии. [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/doverie-v-rossii-smysl-funktsii-struktura-1/
139
Там же. С. 13.
140
Там же. С. 17.
141
Там же. С. 20.
142
Подробный очерк этих движений в их развитии, взаимовлиянии и взаимоуничтожении, включая движение за народный театр (Горький-Луначарский), массовые действа (Евреинов), театр, развернутый в повседневности (Керженцев), и, наконец, передвижной театр коммунизма (Гайдебуров) см. в соответствующих главах книги: Кларк К. Петербург, горнило культурной революции. М.: НЛО, 2018.
143
В духе того, что происходит с литературой в дискурсивной инфраструктуре 1900‐х годов, или того ограничения средствами самого языка кино, к которому призывает Вертов. См. подробнее: Kittler F. Discourse Networks 1800–1900. Stanford: Stanford University Press, 1990.
144
Если Малларме в поздних текстах называет даже танцовщицу «пишущимся знаком», то Мейерхольд, напротив, превращает текст в «узор на канве движений».
145
Тексты всех (косвенно) упоминаемых в этом абзаце лиц можно найти, выстроив обширную панораму формального метода как энциклопедии русского модернизма, в недавно вышедшем трехтомнике «Формальный метод: антология русского модернизма» (Под ред. С. Ушакина. Екатеринбург: Кабинетный ученый, 2016).
146
Вопрос о советском эпосе и красном Толстом, т. е. большой романной форме встанет не раньше, чем через 10 лет после революции.
147
Кларк убедительно показывает, что изгнание из театра частного сектора, приводившее в восторг культурных активистов, выглядит как выдавливание более успешного конкурента — причем, с помощью того, кто пока не казался серьезным актором (как, например, в случае Пиотровского, утверждавшего, что отсутствие контроля со стороны государства приводит к культурной власти лавочника). См.: Кларк К. Указ. соч. С. 183.
148
Шкловский В. Сентиментальное путешествие. Москва —Берлин: Геликон, 1923. С. 383. По мнению Ильи Калинина, Шкловский «переживал революцию как столкновение с силой, способной перехватить у литературы инициативу по остранению привычного рецептивного контекста. <…> Парадоксальность революционной, фронтовой повседневности в том, что это она делает человека художником, в то время как автоматизированную мирную повседневность художественной должен своим остраняющим усилием сделать сам человек. <…> Экстремальная повседневность становится насквозь художественной реальностью». См. подробнее: Калинин И. Поэтика эксцесса и экономика дефицита: фетишизация революционного быта // Транслит. 2015. № 15–16. С. 125–132.
149
Ср. Шкловский В. О писателе // Новый ЛЕФ. 1927. № 1. С. 29–33.
150
См.: Керженцев П. Творческий театр. Пути социалистического театра. Издание 3‐е. М.: ВЦИК Советов Р., С., К. и К. Депутатов, 1919. С. 38. Это не может не напомнить еще одного расхожего понятия из арсенала той эпохи: «карнавал не созерцают, — в нем живут» (Бахтин). Ср. с знаменитой строкой ленинградского поэта Кушнера «Времена не выбирают, в них живут и умирают».
151
Кларк показывает, что это было только одной из крупных постановок подобного рода в Советской республике и имело целый ряд не менее масштабных аналогов в других странах, к примеру, в Америке, где массовый театр собирает аудиторию аналогичных и даже больших масштабов, чем «Взятие Зимнего дворца», что не может не оскорбить исследователей русского авангарда в лучших политических чувствах. См.: Кларк К. Указ. соч. С. 203–204.
152
Как отмечает К. Кларк, символическим маркером этого жанрового переключения часто становилась загорающаяся красная звезда (или завершавшее многие постановки совместное исполнение «Интернационала», действительно размывавшее границу между участниками и зрителями). См.: Кларк К. Указ. соч. С. 202–203.
153
Впрочем, в случае Петербурга, этой «ритуальной столицы революции», как ее называет Кларк, эти массовые зрелища обязаны одному неочевидному источнику — идеалу классической древности. Многие интеллектуалы из разжалованной столицы считали, что «Октябрь вернул миру Эсхила», Петрополь оказывался социалистическим городом-государством, а большевики — той властью, под сенью которой появляется шанс на его расцвет. Кларк К. Указ. соч. С. 207–214.
154
Во Владивостоке выходит первая книга «Железная пауза» (1919), а в Чите вторая — «Ясныш» (1922). Последующие поэтические сборники Третьякова в той или иной степени пересекаются с ними по составу текстов. См.: Россомахин А. «Мастер речековки на заводе живой жизни»: поэтические книги Сергея Третьякова // Третьяков С. М. Итого: Собрание стихов и статей о поэзии. М.: Рутения, 2020. С. 775–784. См. подробнее о раннем поэтическом футуризме Третьякова и подробный стиховедческий анализ поэтического цикла «Путевка», замыкающего последнюю книгу: Арсеньев П., Косых А. Китайское путешествие С. Третьякова: поэтический захват действительности на пути к литературе факта // Транслит. 2011. № 10–11. С. 14–20.
155
На заседании ИНХУКа 24 ноября 1921 г. 25 художников провозгласили свой принципиальный отказ от композиционного формо-образования и станковой живописи в пользу конструкции и непосредственного участия художников в промышленном производстве, подписав манифест «производственного искусства». См. подробнее: Заламбани М. Искусство в производстве: Авангард и революция в Советской России 20‐х годов. М.: ИМЛИ РАН, «Наследие», 2003.
156
Третьяков С. Откуда и куда // ЛЕФ. 1923. № 1. С. 198. Далее страницы приводятся в тексте.
157
Не самым очевидным претекстом может служить статья Винокура «Футуристы — строители языка», выходящая в том же 1‐м выпуске ЛЕФа и в частности говорящая о грамматической инженерии футуристов. См.: Винокур Г. Футуристы — строители языка // ЛЕФ. 1923. № 1. С. 204–212.
158
Дукор И. Сергей Третьяков // Третьяков С. Речевик. М.: Гос. изд-во, 1929. С. 11–12.
159
В упомянутой статье «Футуристы строители языка».
160
См. подробнее о координации между движениями рук и лица как палеонтологической реальности у Леруа-Гурана: Leroi-Gourhan A. Le geste et la parole. Tome I: Technique et langage. Paris: A. Michel, 1964.
161
Дукор И. Указ. соч. С. 8.
162
Как показывает Женетт, для Аристотеля повествование (диегесис) представляет собой одну из двух модальностей поэтического подражания (мимесис), тогда как вторая модальность состоит в прямом изображении событий актерами, которые говорят и совершают поступки перед публикой. Тем самым обосновывается классическое разграничение повествовательной и драматической поэзии. См. подробнее: Женетт Ж. Фигуры. В 2‐х томах. Т. 1. М.: Изд-во им. Сабашниковых, 1998. С. 284.
163
В данном случае, как и выше, мы пользуемся понятиями Чарльза Пирса. См. обзор семиотики Пирса, к примеру: Кирющенко В. Язык и знак в прагматизме. СПб.: Издательство ЕУСПб, 2008.
164
Под (квази-)индексальностью в данном контексте имеется в виду включение реальных физических индексов, которые, конечно же, все равно оказываются знаками в рамках театральной конвенции (что и позволяет говорить о «постановке индексальности»), но знаками не иконического, а именно индексального типа, то есть физически (акустически, ольфакторно, etc.) связанными с обозначаемым ими: звук сирены, запах газа. Это применение классификации Пирса к театру в любом случае продолжает оставаться проблематичным, однако позволяет уловить общую тенденцию авангарда, сдвигающего характер знака от конвенционального к мотивированному физическими процессами.
165
В 1960‐е годы Кристиан Метц предложит теорию кино как психо-социального аппарата воздействия, основанного на неподвижности зрителя в темном помещении и преобладании регридиентных процессов. См.: Метц К. Воображаемое означающее. Психоанализ и кино. СПб.: ЕУСПб, 2010, а также: Арсеньев П. Вообразить означающее («Верить своим глазам»: повествовательный вымысел против материальности означающего) // НЛО. 2011. № 109. С. 108–117.
166
В Театре Мейерхольда: «Земля дыбом» (1923, адаптация М. Мартине «Ночь»), «Рычи, Китай» (1925) и репетировавшаяся, но так и не поставленная «Хочу ребенка!» (1926). В Театре Пролеткульта с Эйзенштейном: «Мудрец» (адаптация А. Островского «На всякого мудреца довольно простоты», 1923), «Слышишь, Москва?» (1923) и «Противогазы» (1924).
167
См. об этом подробнее: Eaton K. The theater of Meyerhold and Brecht. Westport, Ct: Greenwood, 1985.
168
Третьяков адаптирует пьесу Марселя Мартине «Ночь», переведенную на русский С. Городецким. По свидетельству А. Февральского, «пьеса представляла интерес как материал для создания революционного спектакля, но ее мрачный колорит и слабое построение действия расхолаживали и Мейерхольда и коллектив. По предложению Мейерхольда Третьяков взялся за переработку пьесы. Решено было положить в основу спектакля принцип агитплаката» (Февральский А. С. М. Третьяков в театре Мейерхольда // Третьяков C. Слышишь, Москва? М.: Искусство, 1966. С. 189).
169
По мнению Эдварда Брауна, экран выполнял формально-техническую функцию передних кулис, намного эффективнее и энергичнее отделяя эпизоды. См.: Braun E. Meyerhold on Theater. N. Y.: Hill & Wang, 1969. P. 969.
170
Ее свойства в одноименной статье очертил Винокур: «Вне этой фразеологии нельзя было мыслить революционно или о революции. Сдвиг фразеологический — соответствовал сдвигу политическому. Здесь были найдены нужные слова — «простые как мычание», — переход от восприятия которых к действию не осложнялся никакими побочными ассоциациями: прочел — и действуй!». См.: Винокур Г. О революционной фразеологии (один из вопросов языковой политики) // ЛЕФ. 1923. № 2. С. 110; а также Арсеньев П. От словотворчества к словостроительству: Винокур, Платонов, Третьяков // Публикация материалов конференции «Авангард жизнестроительства» / под ред. С. Ушакина (готовится к публикации).
171
У Гельмгольца учится Сеченов, считающийся основателем русской физиологии, а его ученики — психофизиологи Павлов и Бехтерев уже находятся в непосредственном контакте с советским авангардом и психотехникой. См. подробнее главу «“Механика головного мозга” Всеволода Пудовкина: кино как рефлексология» в: Ферингер М. Авангард и психотехника. Наука, искусство и методики экспериментов над восприятием. М.: НЛО, 2019. С. 138–215.
172
В центре еще не производственные процессы, но уже и не герой. См. ниже анализ теории «биографии вещи».
173
Третьяков С. «Земля дыбом». Текст и речемонтаж // Зрелища. 1923. № 27. С. 6. Цит. по: Февральский А. Указ. соч. С. 190–191.
174
Нечто подобное опять же предлагает уже Винокур, говоря о языковой инженерии футуристов, заключающейся не в создании новых диковинных слов, но изобретении грамматических связей между элементами. Овнешняя языковое изобретение, Винокур однако еще остается в области чисто языковой инженерии (хотя и подходит к обсуждению материальности газеты, определяющей механизацию грамматики), тогда как Третьяков заводит речь о психо-инженерии в театре. См. подробнее: Арсеньев П. От словотворчества к словостроительству: Винокур, Платонов, Третьяков.
175
Третьяков С. Слышишь, Москва? М.: Искусство, 1966. С. 191–192. В ходе разработки положений био-механики Мейерхольд с Третьяковым вместе ведут в мастерской курс «слово-движение», а когда мастерская преобразуется в Государственные экспериментальные театральные мастерские имени Вс. Мейерхольда, Третьяков будет читать курс «Речестройка, интонация, поэтика». См.: Февральский А. Указ. соч. С. 195.
176
В том же году Третьяков посвящает большую статью Крученых, «добросовестно избегавшему сюжета и всякого рода литературности и идейности в своей работе», чьи приемы он применяет в речевом монтаже для постановок Мейерхольда. См. Третьяков С. Бука русской литературы // Бука русской литературы. М.: Тип. ЦИТ, 1923. С. 4.
177
Отметим, что Станиславский, противопоставляя свой метод театру Мейерхольда, тоже называет его по моде того времени «психотехникой», но понимает он под этим «технику» внутреннего переживания, технику эмоций, а не телесных рефлексов. Из-за этой «занятости» термина Мейерхольду и придется дать своему методу актерской игры название био-механики как принципиально овнешненной и телесно- физиологической. При этом и сам основатель научной психотехники Гуго Мюнстерберг отрицал существование психики как нематериального феномена и, чтобы разграничиться, в свою очередь, с другим активным преобразователем психологии тех лет провозглашал: «О подсознании можно рассказать в трех словах: оно не существует» (Цит. по: Ферингер М. Указ. соч. С. 87). См. подробнее о различии методов двух режиссеров: Аронсон О. Театр и аффект. Биомеханика Мейерхольда vs. «психотехника» Станиславского // Советская власть и медиа. Сб. статей. СПб.: Академический проект, 2006. С. 296–305.
178
В терминах философии языка и сознания, к которым мы регулярно обращаемся, наряду с таким революционным «сенсуализмом» задействовались и ресурсы философии здравого смысла / прямого реализма, которая в конечном счете и приведет к зарождению теории дейксиса, имени собственного и т. д.
179
Отчасти по этой модели функционирует «миф» у Барта: вещи существуют сами по себе, но позволяют паразитировать на себе некой коннотации/идеологии (см. «Миф слева» в: Барт Р. Мифологии. М.: Изд-во им. Сабашниковых, 1996). См. также его статьи о функционированни знака в театре Брехта в: Барт Р. Работы о театре. М.: Ad Marginem, 2013.
180
Первая публикация: Третьяков С. Противогазы: Мелодрама в 3‐х действиях // ЛЕФ. 1923. № 4. С. 89–108.
181
Эйзенштейн работает с 1922 г. в Первом Рабочем театре Пролеткульта, а значит такой перенос театрального действия на производство несомненно вдохновляется принципами построения новой пролетарской культуры, которые, с одной стороны, шире и более размыты в сравнении с теоретической платформой ЛЕФовского агит-театра, а с другой, переплетаются до неразличимости с другими дореволюционными экспериментами по реформированию театра.
182
Ростоцкий Б. Драматург-агитатор // Третьяков С. Слышишь, Москва? М.: Искусство, 1966. С. 221.
183
Аналогичный профессиональный синдром дал о себе знать в апокрифе, согласно которому на похоронах Малевича в 1935 году Татлин, глядя на художника в специально спроектированном учениками супрематическом гробу, сказал: «Притворяется!».
184
Не был ли интерес производственного искусства к театру обусловлен тем, что в отличие от литературного жанра пьесы, которая может быть сочинена индивидуальным автором, театральная постановка является именно производством (особенно в европейских языках: theater production)?
185
Всего за пару месяцев до этого в день празднования Октябрьской революции 1923 года в Москве (а впервые в 1922 в Баку) была сыграна «Симфония гудков» Арсения Авраамова, состоявшая целиком из пушечных и пистолетных выстрелов, заводских гудков, свиста пара, шума самолетов и других «машинных» звуков.
186
Эйзенштейн С. Избранные произведения: в 6 тт. Т. 5. М.: Искусство, 1963. С. 62–75.
187
Схожим образом уже в первой адаптации Третьякова для Эйзенштейна («Мудрец») изобилие акробатических трюков вызывало у зрителей тревогу за реальный физический риск, входящий в игру актеров, но еще не угрожающий самим физически присутствующим зрителям. См. подробнее: Kolchevska N. From Agitation to Factography: The Plays of Sergej Tret’jakov // The Slavic and East European Journal. Vol. 31. No. 3 (Autumn, 1987). Pp. 388–403.
188
Так, по свидетельству актера Максима Штрауха, «для публики было невыносимо чувствовать запах газа, к которому она не была привычна» (Туровская М., Медведев Б. Максим Максимович Штраух. М.: Искусство, 1975. С. 50).
189
Так акценты расставляются, к примеру, в: Oliver D. Theatre without the Theatre: Proletcult at the Gas Factory // Canadian Slavonic Papers / Revue Canadienne des Slavistes. Vol. 36, nos. 3–4 (1994). P. 303.
190
Здесь нельзя не упомянуть еще раз о более раннем и масштабном «драматургическом эксперименте» Николая Евреинова, который представлял собой не что иное, как повторное взятие Зимнего дворца в третью годовщину революции в октябре 1920 года, т. е. разыгрывал перво-сцену учреждения советской власти с реальными участниками революционных событий и, вместе с тем, не слишком искушенными ценителями театра, что и делало этот театр массовых действий — на Дворцовой площади и с участием крейсера «Аврора» — не менее реальным, чем события трехлетней давности. Аналогичным образом к десятилетней годовщине революции будет снят «Октябрь» Эйзенштейна, который признает влияние Евреинова на свой метод. См. подробнее: Чубаров И. «Театрализация жизни» как стратегия политизации искусства. Повторное взятие Зимнего дворца под руководством Н. Н. Евреинова (1920 год) // Советская власть и медиа. Сб. статей. СПб.: Академический проект, 2006. С. 281–295.
191
Третьяков С. По поводу «Противогазов» // ЛЕФ. 1923. № 4. С. 108
192
Дебре Р. Введение в медиологию. М.: Праксис, 2010.
193
Так, по мнению Бухло, Родченко уже в начале 1920‐х «инкорпорирует технические средства конструкции в само произведение и связывает их с существующими стандартами развития средств общественного производства в целом» (Buchloh В. H. D. From Faktura to Factography // October. 1984. № 30. P. 89. Перевод мой — П. А.). Как и Дюшан чуть раньше, Родченко отказывается от традиционных инструментов живописи и стремится механизировать ее «ремесло», но если Дюшан в исходит с своем отказе из языка («серого вещества»), то конструктивисты-производственники — из индустриальной техники.
194
Все оригинальные пьесы Третьякова основывались на документальном материале, имевшем своим источником газету, но «Противогазы» в дополнение к этому еще делали главным героем рабкора. В 1922 году рабочий корреспондент Спиридонов подвергся нападению других рабочих фабрики за серию заметок в «Правде», которые привели к исключению директора из партии. Именно после этого случая, по мнению историка Д. Кенкер, не только справедливость была восстановлена, но и роль рабкоров оказалась в центре общественного внимания. См.: Koenker D. Factory Tales: Narratives of Industrial Relations in the Transition to Nep // The Russian Review. Vol. 55, No. 3 (Jul., 1996). Pp. 384–411.
195
Это совмещение ролей зрителя и героя предвосхищает уже петлю обратной связи в оперативном очеркизме Третьякова.
196
См. подробный обзор реакций современников — от зарубежных театральных критиков до рабочих корреспондентов — на спектакль: Oliver D. Op. cit. P. 314. Как подчеркивает исследовательница, ни одна из этих реакций не содержит критики в адрес соотношения заводского интерьера и театральной фикции, которую озвучивает в своих воспоминаниях Эйзенштейн и в дальнейшем цитируют все его биографии и историки театра и кино. Не театр терял смысл и выглядел абсурдно на фоне машин, а только режиссер с мегафоном (как отмечает один из рецензентов). Эйзенштейн сбегает в кино не как в более современный медиум, а как в пространство, допускающее больше формальных трюков.
197
Что означает, что в центре пьесы не только производственная, но и — переплетенная с ней — семейная драма: беременная главная героиня отказывается дать будущему ребенку человеческое имя и признается, что назовет его «Противогаз» — в память о производственной трагедии… и о самой пьесе Третьякова. Это необычное даже для революционной эпохи имя можно рассматривать в качестве первого указания на будущий интерес Третьякова к «биографии вещи». См. подробнее ст. «Би(бли)ография вещи: литература на поперечном сечении социотехнического конвейера» в: Арсеньев П. Литература факта высказывания. Очерки по прагматике и материальной истории литературы. СПб.: *démarche, 2019.
198
«Хочу ребенка!» К постановке Театре имени Мейерхольда. (Беседа с автором пьесы С. М. Третьяковым) // Программы гос. академических театров. 1927. № 4. С. 12.
199
Доклад Мейерхольда 15 декабря 1928 в Главреперткомее. Цит. по: Февральский А. Указ. соч. С. 201.
200
Лисицкий был выбран неслучайно, поскольку этот проект он реализовывал в своей собственной конструктивной практике. Так, в 1926 в Дрездене он создает экспозиционное пространство, в котором «зритель больше не должен быть убаюкиваем живописью до пассивности. Наша установка сделает его активным… Зритель физически вовлекается во взаимодействие с представленными объектами». См.: Lisitsky E. Demonstrationsrame. Dresden: VEB Verlag der Kunst, 1967. P. 362. Как художники, так и литераторы и режиссеры ЛЕФа стремились заполнить разрыв между искусством и массами, который породила буржуазная традиция. Кризис репрезентации был одновременно кризисом отношений с аудиторией, на который парижский авангард отвечал утверждением уникального статуса авангардного объекта, тогда как советские и немецкие авторы разрабатывали различные стратегии преодоления исторических ограничений модернизма. См. подробнее об этом: Buchloh B. Op.cit.
201
Цит. по: Kolchevska N. Op.cit. P. 397.
202
Рудницкий К. Режиссер Мейерхольд. М.: Наука, 1969. С. 395. Ср. решение, предложенное в той же «здоровой общественной дискуссии» Андреем Платоновым в рассказе «Анти-сексус».
203
Цит. по: Третьяков С. Слышишь, Москва? С. 198.
204
В 1926 году журнал «Гигиена и здоровье рабочей и крестьянской семьи» объявляет конкурс «Здоровый ребенок», а осенью того же года разворачивается суд над коллективным изнасилованием (т. н. «Чубаровское дело»). См. подробнее: Kiaer С. Imagine No Possessions: The Socialist Objects of Russian Constructivism. Cambridge, MA: The MIT Press, 2005. Pp. 255–258, а также 7‐ю главу Naiman E. Sex in Public: The Incarnation of Early Soviet Ideology. Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1997.
205
Там же Третьяков уточняет задуманный им социальный эффект постановки: «Я не большой поклонник пьес, которые заканчивают свое драматургическое развертывание некоей одобренной сентенцией, уравновешивающей борьбу сил, происходящую на сцене. Интрига провернута, преподнесен вывод, и зритель может спокойно идти надевать калоши. Я считаю более ценными те пьесы, реализационная часть которых возникает в зрительской гуще, за пределами театрального зала. Не пьеса, замыкающаяся в эстетическое кольцо, но пьеса, начинающаяся на эстетическом трамплине сцены и развертывающаяся в спираль, завитки которой уходят в зрительские споры, в зрительскую внетеатральную практику». См.: «Что пишут драматурги. — С. М. Третьяков» // Рабис. 1929. № 11. С. 7.
206
Доклад Мейерхольда 15 декабря 1928 в Главреперткоме. Цит. по: Февральский А. Указ. соч. С. 201.
207
Крученых А. Хлебников В. Слово как таковое.
208
«На афише мы будем писать не “спектакль первый”, “второй”, “третий”, а дискуссия “первая”, “вторая”, “третья”» (Цит. по: Февральский А. Указ. соч. С. 202).
209
В дискуссии после доклада Мейерхольда Третьяков скажет: «Я охотно иду на любые указания, которые мне делает советская медицина». Цит. по: Февральский А. Указ. соч. С. 202.
210
Доклад Мейерхольда цитируется по: Февральский А. Указ. соч. С. 201. Тогда же в борьбу за желанную постановку включается и И. Терентьев, предполагавший поставить спектакль в Московском театре Революции, но и его постановочный план останется без реализации.
211
Беньямин В. Московский дневник. М.: Ad Marginem, 1997.
212
Третьяков С. О пьесе «Рычи, Китай» // Третьяков С. Слышишь, Москва? М.: Искусство. С. 159. Жанровое затруднение — не единственное. Заимствование индексального материала и способы его обработки в пьесе начинает откровенно конфликтовать с задачами агитационного воздействия. Так, документальный материал должен быть инсценирован, как и ранее индексальность — поставлена. Этого Третьяков добивается приемами монтажа уже не только текстовых и речевых фрагментов, но и целых «повествовательных звеньев» — используя ретардацию, реверсию, взаимоналожения и то, что сейчас называют флэшбэк. Настаивая на том, что он позволяет «фактам говорить самим за себя», Третьяков одновременно подчеркивает манипуляцию сценическим временем и повествовательной фокализацией в степени, позволяемой обычно только медиумом кино. См. подробнее: Kolchevska N. Op.cit.
213
См.: Карева Л. Эпистемология со дна // Cyberfemzine-X. [Электронный ресурс]. URL: https://cyberfemzine.net/so_dna/
214
«Некрикливые формы о нескромном». Интервью с Александрой Абакшиной и Алиной Шклярской (театр Maailmanloppu) // К.Р.А.П.И.В.А. 25 сентября 2019. [Электронный ресурс]. URL: https://vtoraya.krapiva.org/nekriklivie-formi-o-25‐09‐2019
215
Алла Митрофанова — философиня, участница Киберфеминистского интернационала, кураторка многолетнего «Философского кафе» (открытого семинара по современной философии).
216
«Некрикливые формы о нескромном». Там же.
217
Häkli J, Kallio K. P. On Becoming Political: The Political in Subjectivity. Speaker Series, IASR/NSR lecture. University of Tampere, February 13, 2018.
218
Fashion / Depression. Out Cinema Saint Petersburg. 10.07.2017 [Электронный ресурс]. URL: https://www.facebook.com/events/1774318042817758/
219
Летний фестиваль искусств «Точка доступа». 25.07.2019 [Электронный ресурс]. URL: https://www.facebook.com/events/ 384773028840811/
220
Абакшина А. Нетрадиционные пространства для сценических практик, пьеса-матрица, опыт постанатомического театра MAAILMANLOPPU // Syg.ma. 24.05.2018. [Электронный ресурс]. URL: https://syg.ma/@alieksasha-abakshina/nietraditsionnyie-prostranstva-dlia-stsienichieskikh-praktik-piesa-matritsa-opyt-postanatomichieskogho-tieatrra-maailmanloppu
221
В парадигме режиссерского театра метод занимает одну из самых иерархизированных позиций: метод, система, режиссерский почерк являются предметом анализа для зрителя и критика, и в то же время мистифицируется как знание, доступное в полной мере исключительно его создателю (внутреннее, сокрытое, в крайних случаях — непостижимое как гений).
222
Манифест предлагает «разогнать скорости 3D-принтеров и другие технологий до их абсолютных пределов и за их пределы в области умозрительного, провокационного и странного». [Электронный ресурс]. URL: https://additivism.org/manifesto
223
Поль Пресьядо — философ, квир-феминист, профессор политической истории тела, гендерной теории и истории перформативных искусств в университете Париж-VIII Венсенн- Сен-Дени.
224
Сокращение от “Oh yeah, you are a good girl”.
225
«Некрикливые формы о нескромном». Там же.
226
Спектакль «Лакомый кусочек/tidbit» поставлен по книге Ирины Аристарховой «Гостеприимство матрицы», исследующей биотехнологии и репродуктивные практики. Книга вышла на английском в 2012 году, переведена на русский в 2017 (Издательство ИванаЛимбаха).
227
Ксенофеминизм. Политики отчуждения. [Электронный ресурс]. URL: http://laboriacuboniks.net/ru/
228
Цит. по: Alla Mitrofanova. Looking for ‘Information’, ‘Subject’ and ‘Body’ from the metaphysics to the present (cyberfeminist perspective) // First Cyberfeminist International Reader. 1997. P. 33. [Электронный ресурс]. URL: https://www.obn.org/obn_pro/downloads/reader1.pdf
229
Карева Л., Столет Й. Киберфеминизм: тела, сети, интерфейсы // ХЖ. 2018. № 105. [Электронный ресурс]. URL: http://moscowartmagazine.com/issue/78/article/1696
230
Одно из сопутствующих мероприятий конференции по неклассическим эпистемологиям, которая прошла 12 апреля в СПбГУ.
231
Подробнее о ДК Розы см.: Осминкин Р. С. Дом культуры как лаборатория. Опыт самоорганизованных кружков ДК Розы // Шаги/Steps. 2019. Т. 5. № 4. С. 186–201; Как жить вместе и не убить друг друга. Опыт ДК Розы. Дискуссия резидентов // К.Р.А.П.И.В.А. 14.09.2018. [Электронный ресурс]. URL: https://pervaya.krapiva.org/kak-zhit-vmeste-14‐09‐2018/
232
Работай больше! Отдыхай больше! — «Коллективная самоорганизованная платформа, разрабатывающая вопросы производства знания, кооперации, работы, отдыха, технологии и акселерации через разнообразные перформативные, партисипативные и дискурсивные форматы». Цит. по: [Электронный ресурс]. URL: http://workhardplay.pw/ru/
233
При поддержке НИУ ВШЭ и Оксфордского Российского Фонда.
234
Карева Л., Столет Й. Там же.
235
Практика Марины Русских, сотрудницы «н и и ч е г о д е л а т ь».
236
Формат обсуждения, предложенный Анной Аверьяновой, сотрудницей «н и и ч е г о д е л а т ь».
237
К показу спектакля «Лакомый кусочек» была изготовлена «Музыкальная открытка-приглашение»: [Электронный ресурс]. URL: https://www.youtube.com/watch?v=HX2_fi1POEY Из описания: Приглашение для участия в спектакле «Мужская Беременность. Лакомый кусочек»: «Лакомый кусочек — спектакль о мужской беременности и гостеприимстве. Проект основан на книге Ирины Аристарховой “гостеприимство матрицы” и нашем вымысле. Это SF. Все происходит на кухне, где мы готовим яды, выращиваем лакомые кусочки. Все происходит там, на матричной плате, где кто‐то ждет гостей, становясь местом (беременеет)».
238
Из описания проекта на сайте Студии СДВИГ: [Электронный ресурс]. URL: http://sdvig.space/what-is-actually-going-on/
239
Самоорганизованная конференция, посвященная вопросам творческого труда. В этом показе участвовали Валя Луценко и Марина Шамова.
240
Барад К. Агентный реализм. Как материально-дискурсивные практики обретают значимость // Опыты нечеловеческого гостеприимства: Антология. М.: V-A-C press, 2018. С. 42–121.
241
Столет Й. Чужой+чужой: опыт коммуникации 3000‐го года // Киберфемзин 02. [Электронный ресурс]. URL: https://www.academia.edu/42162842/%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%BC%D0%B7%D0%B8%D0%BD_02
242
Харауэй Д. Антропоцен, Капиталоцен, Плантациоцен, Ктулуцен: создание племени // ХЖ, № 99. 2016. [Электронный ресурс]. URL: http://moscowartmagazine.com/issue/39/article/771
243
Брайдотти Р. Половое различие как политический проект номадизма // Хрестоматия феминистских текстов. Переводы. СПб.: Издательство «Дмитрий Буланин», 2000. С. 220–250.
244
Мол А. Множественное тело: Онтология в медицинской практике. Пермь: Гиле Пресс, 2017. С. 237.
245
«н и и ч е г о д е л а т ь», «Добро пожаловать в кукольный дом», «Партия мертвых», «Техно-поэзия», «Союз выздоравливающих», «Движение Ночь», «Лига нежных», «Группа лиц по предумышленному сговору», проекты Дарьи Серенко, Катрин Ненашевой, Дарьи Юрийчук, Вика Лащенова, Анны Белоусовой, Анастасии Дмитриевской, Германа Лавровского, Егора Софронова, Татьяны Гордеевой и Екатерины Бондаренко и многих других.
246
Плант С. Итак, ситуационизм // Неприкосновенный запас. 2012. № 2 (82). [Электронный ресурс]. URL: https://www.nlobooks.ru/magazines/neprikosnovennyy_zapas/82_nz_2_2012/article/18683/
247
См. об этом: Доклад Леси Прокопенко во время «Обсуждения, посвященного заботе во время кризиса», организованного редакцией Syg.ma 25.04.2020. [Электронный ресурс]. URL: https://www.youtube.com/watch?v=Q1JXhW2DHag
248
Рансьер Ж. Разделяя чувственное. СПб: Изд-во Европейского Университета, 2007. С. 264.
249
Braudel F. History and the Social Sciences: The Longue Durée // The Longue Durée and World-Systems Analysis. Albany, NY: SUNY Press, 2012. Pp. 241–276.
250
Gould S. J., Vrba E. Exaptation — A Missing Term in the Science of Form // Paleobiology, Vol.8, No.1 (Winter 1982). Pp. 4–15.
251
Гильберт Д. Основания геометрии. Петроград: Сеятель, 1923. С. 152.
252
Кант И. Спор факультетов // Кант И. Собр. соч. В 8 т. Т. 7. М.: Чоро, 1994. C. 157–136.
253
Badiou A. Being and Event. N. Y.: Continuum, 2005. P. 526.
254
Спиноза Б. Политический трактат // Спиноза Б. Избр. произведения. В 2 т. Т. 2. М., 1957. С. 185–382.
255
Кант И. Критика способности суждения // Кант И. Собр. соч. В 8 т. Т. 5. М.: Чоро, 1994. С. 414.
256
Арендт Х. О революции. М.: Европа, 2011. С. 464.
257
Бадью А. Апостол Павел. Обоснование универсализма. М.: Университетская книга, 1997. С. 96.
258
Lyotard, J.‐F. Enthusiasm: The Kantian Critique of History. Stanford, CA: Stanford University Press, 2009. P. 74.
259
Аронсон О. Театр и аффект. Биомеханика Мейерхольда vs. психотехника Станиславского // Советская власть и медиа: Сб. статей. СПб.: Академический проект, 2005. С. 621.
260
Данный текст подготовлен на основе выступления на тему: «Речь и революция. Эстетическая теория» при участии Ю. Г. Лидерман (программа лаборатории Theatrum Mundi совместно со Школой современного зрителя и слушателя; Электротеатр «Станиславский», г. Москва, 26 октября 2018 года).
261
Остин Дж. Как совершать действия при помощи слов // Остин Дж. Избранное. М.: Идея-Пресс, Дом интеллектуальной книги, 1999. С. 13–135; Серль Дж. Р. Что такое речевой акт? // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XVII: Теория речевых актов. М.: Прогресс, 1986. С. 151–169.
262
См. подробнее: Bourg J. From Revolution to Ethics. May 1968 and Contemporary French Thought. Montreal & Kingston; London; Chicago: McGill-Queen’s University Press, 2017. Pp. 19–25.
263
О роли научных открытий К. Маркса см.: Альтюссер Л. Ленин и философия. М.: Ad Marginem, 2005. С. 24–43.
264
Hobbes Th. Man and Citizen (De Homine and De Cive). Indianapolis, Ind.; Cambridge: Hackett Publishing Co., 1991. P. 224.
265
См. об этом: Вирно П. Грамматика множества. К анализу форм современной жизни. М.: Ад Маргинем Пресс, 2013. С. 7–9.
266
Спиноза Б. Политический трактат // Спиноза Б. Избр. произв. в 2 т. Т. II. М.: Госполитиздат, 1957. С. 288–289.
267
Там же. С. 290.
268
Там же. С. 295.
269
См.: Спиноза Б. Этика // Спиноза Б. Избр. произв. в 2 т. Т. I. М.: Госполитиздат, 1957. С. 456.
270
См. подробнее: Negri A. The Savage Anomaly. The Power of Spinoza’s Metaphysics and Politics. Minneapolis, Minn.; Oxford: University of Minnesota Press, 1991. P. 194 и след.
271
См., например: Negri A. Spinoza for Our Time: Politics and Postmodernity. New York: Columbia University Press, 2013; Idem. Subversive Spinoza: (Un)contemporary Variations. Manchester; New York: Manchester University Press, 2004.
272
Certeau de M. La prise de parole et autres écrits politiques. Paris: Seuil, 1994. P. 42.
273
См.: Бахтин М. М. К философии поступка. [Электронный ресурс]. URL: http://www.infoliolib.info/philol/bahtin/postupok3.html.
274
Евреинов Н. Театр и эшафот. К вопросу о происхождении театра как публичного института. [Электронный ресурс]. URL: http://teatr-lib.ru/Library/Mnemozina/Mnemoz_1/.
275
Подробнее об этом см.: Подорога В. А. Второй экран. Сергей Эйзенштейн и кинематограф насилия. Т. 1. Зеркальная подпорка. Материалы к психобиографии. М.: BREUS, 2017. С. 105–110.
276
Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. М.: Ad Marginem, 1999. Особ. гл. 1 «Тело осужденного».
277
Ренанский Д. Как сегодняшняя публика воспринимает «стиль Сталин» // Ведомости. 20.09.2018. [Электронный ресурс]. URL:https://www.vedomosti.ru/lifestyle/articles/2018/09/21/781567‐stil-stalin.
278
См. развернутый социокультурный комментарий по этому поводу в кн.: Jameson F. Utopia as Replication // Jameson F. Valences of the Dialectic. London; New York: Verso, 2009. P. 431–432.
279
См., например: Бикбов А. Представительство и самоуполномочение. По материалам исследования НИИ митингов, декабрь 2011–июнь 2012 // Логос. 2012. № 4 (88). С. 189–229. Конечно, у нас движение имело относительно локальный характер по сравнению с мировым «Оккупаем».
280
См.: Certeau de M. Op. cit. P. 55.
281
Ibid. P. 45.
282
См. подробнее: Петровская Е. Возмущение знака. Культура против трансценденции. М.: Common Place, 2019. C. 226–259.
283
См.: Peirce Ch. S. Harvard Lectures on Pragmatism (1903) // The Essential Peirce. Selected Philosophical Writings. Vol. 2 (1893–1913). Bloomington; Indianapolis, Ind.: Indiana University Press, 1998. P. 227.
284
Иванов Вяч. Эллинская религия страдающего бога // Эсхил. Трагедии. М.: Наука, 1989. С. 323.
285
Не могу не отметить иронию этого наблюдения в эпоху коронавирусной пандемии. Собираться можно только по двое, третий из контактов исключается.
286
См. специальный выпуск журнала «Синий диван», посвященный акционистскому и, шире, социальному искусству (М.: Три квадрата, 2016. Вып. 21). Там я рассматриваю вторжение на примере антропологически ориентированного искусства Д. А. Пригова (Петровская Е. Тело народа: сопротивление, вторжение, инакомыслие (заметки о творчестве Д. А. Пригова) // Синий диван. 2016. Вып. 21. С. 50–60).
287
Спиноза Б. Этика. С. 456.
288
Ср.: Ильенков Э. В. Диалектическая логика: Очерки истории и теории. М.: Политиздат, 1984. С. 37.
289
См.: Ленин В. И. Маевка революционного пролетариата // Ленин В. И. Полн. собр. соч. 5‐е изд. Т. 23. М.: Политиздат, 1973. С. 300; Он же. Крах II Интернационала // Ленин В. И. Полн. собр. соч. 5‐е изд. Т. 26. М.: Политиздат, 1969. С. 219.
290
См.: Bourg J. Op. cit. P. 34, 37–39 и далее.
291
Удивительно, что это настроение каким‐то образом передалось Ж. Делезу и Ф. Гваттари. Их совместная статья, опубликованная в 1984 году, имеет такой заголовок: «Мая 68‐го не было», хотя речь здесь идет о событии, понимаемом вне причинно-следственных связей, а стало быть, вне исторического времени (Делез Ж. Мая 68‐го не было. М.: Ад Маргинем Пресс, 2016. С. 69–73).
292
Даниeль Кон-Бендит — Жан-Поль Сартр. Интервью / Пер. с фр. С. Дубина // «Вся власть — воображению!» Май 1968‐го и французские интеллектуалы // Книжное обозрение «Ex libris НГ». 09.07.1998. С. 3 [11].
293
Сафронов Ю. Время собирать камни и швырять их в полицию // Новая газета. 01.06.2018. № 57. С. 16.
294
См.: Certeau de M. Op. cit. P. 52.
295
Candidate Prokhorov Says Putin Must Change // The Moscow Times. 01.17.2012. [Электронный ресурс]. URL: https://www.themoscowtimes.com/2012/01/17/candidate-prokhorov-says-putin-must-change-a11930.
296
Головин А. А. Полная школа таксидермии: Набивка чучел разных животных и птиц. М.: Тип. Н. Н. Булгакова, 1902. С. iii.
297
Флобер Г. О литературе, искусстве, писательском труде. Т. 2. М.: Художественная литература, 1984. С. 179.
298
Лонг Дж. Питомцы на шее: живые и «совсем как живые» животные в моде 1880–1925 годов // Теория моды: Одежда. Тело. Культура. 2011. Вып. 21. С. 127–150.
299
Одним из наиболее ярких примеров «оживления» модного таксидермического объекта, приводимых Лонг, пожалуй, служат декоративные намордники для горжеток из цельной шкуры зверя (Лонг Дж. Указ. соч. C. 143–144). С другой стороны, питомцев могли подбирать под цвет платья или верхней одежды: «Для ношения на улице… в зимние месяцы определенно наилучшая собака — маленький черный померанский шпиц; поскольку можно приобрести также шпицев разных оттенков бурого, их несложно подобрать под чрезвычайно модные сейчас жеребковые шубки» (цит. по: Лонг Дж. Указ. соч. C. 134).
300
Цит. по: Poliquin R. The Breathless Zoo: Taxidermy and the Cultures of Longing. University Park: Penn State University Press, 2012. P. 46.
301
Мей С. Моды // Модный магазин. № 11. 1863. С. 167.
302
Павлов С. Т. Набивка чучел птиц и собирание орнитологических коллекций. М.: Издание журнала «Семья охотников», [1909?]. С. 5–6.
303
Плавильщиков Н. Н., Кузнецов Н. В. Собирание и изготовление зоологических коллекций. М.: Госкультпросветиздат, 1952. Цит. по электрон. версии. [Электронный ресурс]. URL: https://zoomet.ru/plav/plavil_119.html
304
Бонар Л. Набивка чучел (Препарирование чучел птиц): Руководство для охотников, любителей птиц и т. п. СПб.: Журн. «Домаш. ремесленник», 1912. С. 3.
305
Aloi G. Speculative Taxidermy: Natural History, Animal Surfaces, and Art in the Anthropocene. New York: Columbia University Press, 2018. P. 20.
306
Лонг Дж. Указ. соч. С. 138.
307
Poliquin R. Op. cit., p. 6.
308
См.: Барт Р. Camera lucida. М.: Ad Marginem, 1997.
309
Лонг Дж. Указ. соч. С. 138.
310
Гарри Марвин ставит таксидермические объекты в один ряд с телами вождей, героев и мучеников новейшей эпохи, которые продолжают (а порой только начинают) «действовать» после биологической смерти (Marvin G. Perpetuating Polar Bears: The Cultural Life of Dead Animals // Snæbjörnsdóttir B., Wilson M. Nanoq: Flat Out and Bluesome: A Cultural Life of Polar Bears. London: Black Dog, 2006. P. 157). Такая оптика позволяет акцентировать агентность чучел, сущность которых уже не сводится к вещи или товару, и представляется весьма продуктивной применительно к повести Флобера.
311
Флобер Г. Простая душа. Цит. по электрон. версии. [Электронный ресурс]. URL: http://lib.ru/INPROZ/FLOBER/dusha.txt
312
См.: Винсент С. Волосы: иллюстрированная история. М.: Новое литературное обозрение, 2020. С. 23–29. Винсент также приводит пример викторианской броши, заказанной в память об умершем питомце, внутри которой хранится завиток собачьей шерсти (Сс. 25–26) — еще одно свидетельство «очеловечивания», скорее чем объективации, животных (или, по крайней мере, одинаковой объективации человека и зверя).
313
Флобер Г. Простая душа.
314
Там же.
315
В действительности таксидермия первой половины XIX века знала способ препаровки птиц «в виде Св. Духа» (Boitard P., Canivet E. Manuel du naturaliste préparateur. Paris: Manuels Roret, 1828. P. 125) — с широко расправленными крыльями, фактически в «плоском» виде, максимально приближавшем тушку к экспонату гербария.
316
Флобер Г. Простая душа.
317
Там же.
318
Павлов С. Т. Указ. соч. С. 10.
319
Рудевич В. В. Руководство к препарированию чучел и скелетов птиц. СПб.: журн. «Техника, ремесла и с.‐х. архитектура», 1903. С. 7.
320
Плавильщиков Н. Н., Кузнецов Н. В. Указ. соч.
321
Ежемесячное приложение к «Живописному обозрению»: Моды. Ноябрь 1902. Вып. 11. С. 115.
322
Моды. Сентябрь 1902. Вып. 9. С. 98.
323
Джованни Алои указывает на многочисленные сходства и параллели в таксидермических и культовых практиках, от материалов (использование воска) до построения «мизансцены»: исследователь возводит пространственную структуру естественнонаучной диорамы к рождественскому вертепу (Aloi G. Op. cit., p. 7, 114). Сходным образом Донна Харауэй, описывая Зал млекопитающих Африки Карла Эйкли в Американском музее естественной истории, говорит: «Слоны высятся подобно алтарю в центральном нефе кафедрального собора», — а обрамляющие зал диорамы называет «боковыми алтарями»: «Подобно алтарю каждая диорама рассказывает эпизод истории спасения; в каждой размещена особая эмблема, символизирующая одну из добродетелей» (Haraway D. Teddy Bear Patriarchy: Taxidermy in the Garden of Eden, New York City, 1908–1936 // Social Text. № 11 (Winter, 1984–1985). P. 23, 24).
324
Флобер Г. Простая душа
325
Там же.
326
Головин А. А. Указ. соч. С. 29.
327
Таксидермический термин. См.: Плавильщиков Н. Н., Кузнецов Н. В. Указ. соч.
328
Головин А. А. Указ. соч. С. 14.
329
Там же. С. 30–31.
330
Флобер Г. Простая душа
331
Aloi G. Op. cit., p. 94.
332
Примечательно, что в том же 1984 году Стивен Банн предложил последовательное сравнение историографического метода Л. фон Ранке с таксидермией, см.: Bann S. The Clothing of Clio: A Study of the Representation of History in Nineteenth-Century Britain and France. Cambridge: Cambridge University Press, 1984. Pp. 8–31.
333
Aloi G. Op. cit., p. 13.
334
Poliquin R. The matter and meaning of museum taxidermy // Museum and Society, 2008, 6 (2). Pp. 123–125; Henning M. Op. cit., p. 663.
335
Poliquin R. Op. cit., p. 123.
336
Dyer R. Stars. London: British Film Institute, 1998. P. 112; Niesel J. The Horror of Everyday Life: Taxidermy, Aesthetics, and Consumption in Horror Films // Journal of Criminal Justice and Popular Culture 2, no. 4 (1994). Pp. 61–80.
337
Mondal S. “Did he smile his work to see?”—Gothicism, Alfred Hitchcock’s Psycho and the art of taxidermy // Palgrave communications, 3 (2017). [Электронный ресурс]. URL: https://www.nature.com/articles/palcomms201744
338
Эксперты аукциона Кристис, где она была выставлена в 2011 году, датировали эту фотографию ориентировочно 1962 годом. [Электронный ресурс]. URL: https://www.christies.com/lotfinder/Lot/guy-bourdin-1928–1991‐hommage-a-hitchcock-5421016‐details.aspx
339
Braithwaite N. J. Fashion, Fantasy, Power and Mystery: Interpreting Shoes through the Lens of Visual Culture // Carlotto F., McCreesh N. (eds.) Engaging with Fashion: Perspectives on Communication, Education and Business. Boston: Brill Rodopi, 2019. P. 208.
340
Bann S. Op. cit., p.16–17; Henning M. Anthropomorphic taxidermy and the death of nature: The curious art of Hermann Ploucquet, Walter Potter, and Charles Waterton // Victorian Literature and Culture. 2007. Vol. 35. P. 672.
341
Золя Э. Чрево Парижа. Цит. по электрон. версии. [Электронный ресурс]. URL: http://lib.ru/INPROZ/ZOLYA/belly.txt
342
Гройс Б. Под подозрением: Феноменология медиа. М.: Художественный журнал, 2006. С. 28.
343
Там же. С. 19.
344
Baker S. The Postmodern Animal. London: Reaktion Books, 2000. P. 9.
345
Вертипорох С. Петербург упоролся // Фонтанка.ру. 3.04.2013. [Электронный ресурс]. URL: https://m.fontanka.ru/2013/04/03/191/
346
«Начинается все с псевдокультурной ржавчины, продолжается упоротыми лисами, а закончится все детской порнографией» — заявил Милонов в интервью изданию «Петербургский дневник» (Домрачева А. Виталий Милонов: Упоротого лиса в Великий пост бесноватые везут // Петербургский дневник. 21.03. 2013. [Электронный ресурс]. URL: https://spbdnevnik.ru/news/2013‐03‐21/vitaliy-milonov--uporotogo-lisa-v-velikiy-post-besnovatyey-vezut)
347
По мысли Марселя Мосса, «Способ сидения имеет фундаментальное значение. Человечество можно разделить на сидящее на корточках и сидящее на каком‐нибудь приспособлении. Среди тех, кто пользуется сиденьями, можно различать народы со скамьями и без скамей и подставок; со стульями и без стульев» (Мосс М. Общества, обмен, личность: Труды по социальной антропологии. М.: КДУ, 2011. С. 318). Таким образом, поза Упоротого Лиса не просто «человеческая», ее можно также рассматривать как специфически «западную».
348
“They say that because of his pose, he fits anywhere” (McCrum K. Welsh artist’s stuffed eBay fox becomes Russian internet sensation // WalesOnline. 9 December 2012. [Электронный ресурс]. URL: https://www.walesonline.co.uk/news/local-news/welsh-artists-stuffed-ebay-fox-2013129)
349
Bann S. Op. cit., p. 17.
350
Davis J. R. The Great Exhibition and the German States // Jeffrey A. Auerbach, Peter H. Hoffenberg (eds.). Britain, the Empire, and the World and the Great Exhibition of 1851. Aldershot: Ashgate, 2008. P. 158; Young P. Globalization and the Great Exhibition: The Victorian New World Order. New York: Palgrave Macmillan, 2009. P. 101.
351
A guide to the Great Exhibition: containing a description of every principal object of interest: with a plan, pointing out the easiest and most systematic way of examining the contents of the Crystal Palace. London: George Routledge and Co., 1851. P. 137.
352
Great Exhibition of the Works of Industry of all Nations, 1851: Official descriptive and illustrated catalogue. Vol. III: Foreign States. London: Spicer Brothers, [1851]. P. 1121.
353
Berger J. About Looking. New York: Pantheon Books, 1980. P. 11.
354
Aloi G. Op. cit., p. 103–137.
355
Haraway D. Op. cit.
356
В этом контексте крайне интересны работы современного российского таксидермиста Павла Глазкова, посвященные как раз «интимной жизни животных» (см.: Послянова А. Голуби — хорошие отцы, лисы — прекрасные отчимы, а гиббоны живут в идиллии // Комсомольская правда. 04.07.2017. [Электронный ресурс]. URL: https://www.msk.kp.ru/daily/26700/3724401/). Идеология этих композиций заслуживает отдельной статьи.
357
Цит. по: Aloi G. Op. cit., p. 124.
358
Берджер Дж. Фотография и ее предназначения. М.: Ад Маргинем Пресс, 2014. С. 205.
359
Baker S. Op. cit., p. 61, 62.
360
Лиотар Ж.‐Ф. Состояние постмодерна. М.: Алетейя, 1998.
361
В эту категорию зачастую попадают и исторические объекты, например, Грипсхольмский лев — чучело середины XVIII в., напоминающее геральдического, а не «реального» льва.
362
Бонар Л. Указ. соч. С. 28.
363
Shufeldt R. W. Taxidermy as an Art // The Art World. Vol. 3, № 3. December 1917. P. 212.
364
Baker S. Op.cit., p. 31–32.
365
По классическому определению Майка Пирса и Майкла Шэнкса, сайт-специфические представления «задуманы, сконструированы и обусловлены особенностями найденных пространств, существующими социальными ситуациями или местами, как использованными, так и неиспользованными. <…> Они основываются, в своем замысле и интерпретации, на сложном сосуществовании, наложении и взаимопроникновении ряда нарративов и конструкций, исторических и современных, из двух основных порядков: того, что идет от пространства, его приборов и оснащения, и того, что привнесено в пространство, спектакля и его сценографии: из того, что предшествует работе и что следует из работы: из прошлого и из настоящего. Они неотделимы от своих пространств, единственных контекстов, в которых они понятны» (Pearson M., Shanks M. Theatre/Archaeology. London, New York: Routledge, 2001. P. 23). Термин site-specific изначально был употреблен относительно контекстуального искусства минимализма 1960‐х годов, и под местом понималась прежде всего физическая, материальная данность пространства. Впоследствии искусство перешло к исследованию культурных, социальных, политических, экономических и институциональных рамок восприятия арт-объекта, где видящий субъект осознается уже не только как наделенный телесностью, но и как актор, вовлеченный в различные отношения в социуме. Быть «специфическим» по отношению к так понимаемому пространству значило «кодировать и/или перекодировать институциональные конвенции, так чтобы выставить их скрытые операции» (Kwon M. One Place after Another: Site-Specific Art and Locational Identity. Cambridge: MIT Press, 2002. P. 14).
366
Таким пространством являются и некоторые пространства театра, не являющиеся зоной регламентированного контакта артистов с публикой.
367
Инишев И. Н. Диапазон эстетического: от дискурса до текстуры // Философский журнал | Philosophy Journal. 2014. № 2 (13). С. 131.
368
Цит. по: Kaye, N. Site-Specific Art: Performance, Place and Documentation. London: Routledge, 2000. P. 128.
369
Ibid, p. 41.
370
Ср. комментарий к спектаклю зрителя Юрия Сорокина: «… развешанное белье, боже, — для меня прям реально необычный архаизм, а там так еще происходит, это нормально. Пластические этюды я не очень понимал, но мне очень понравилось, как на заднем фоне были дети и собака. Город подыгрывал: эти элементы как будто сами создавали это пространство 90‐х, мне еще казалось, что они чумазые почему‐то…» (из интервью автору статьи, июль 2019).
371
Деррида, Ж. Призраки Маркса. Государство долга, работа скорби и новый интернационал. М.: Logos-Altera, Ecco homo, 2006. С. 94.
372
Там же. С 147.
373
Там же.
374
Краусс Р. Подлинность авангарда и другие модернистские мифы. М.: Художественный журнал, 2003. С. 201–224. С. 222.
375
Диди-Юберман, Ж. Клаудио Пармиджани: дом с привидениями (прах, воздух, стены) // Художественный журнал. 2013. № 90. С. 86.
376
Там же.
377
Там же. С. 91.
Theatrum Mundi. Подвижный лексикон
Theatrum Mundi. Подвижный лексикон
Сведения о книге
***
От редакторов
«В чем причина слез?»: Патос и катарсис в театре Ромео Кастеллуччи
Катарсис: очищение, прочистка, прояснение, экстаз
Идеал целостности и травма расколотости: отреагирование аффекта vs психоанализ
Слезы Диониса
Фунт плоти
Театр объектов
Una furtiva lagrima
Абсолютный монарх
В чем смысл танца?
Танец и нарратив
Движение, танец, жест
Третий смысл
Искусство создания миров
Странные истории
Женщина или лебедь?
Право на (не)участие: дистанция, вовлеченность и доверие в театральной коммуникации
Постановка индексальности, или Психо-инженеры на театре
Экспозиция
Рождение трагедии из духа материального дефицита (1917–1920)
«Снова проиграть эту ситуацию»: эстетический штурм Зимнего или театр массового поражения (1920)
Постановка индексальности, или Психо-инженеры на театре
«Груды согласных рвут гортань»
«Реально ощутимые» речевые сигналы
Элементы «игры» в остром запахе газа
Анатомический театр для «иллюзорного любовника»
Политики производства знания в театре и перформансе в России: кейс-стади
Время революции
Вопросы аудитории
Речь и революция. (набросок теории действия)
От попугая Флобера до Упоротого Лиса: театрализация природы в таксидермических практиках
Викторианская таксидермия: мода и меланхолия
Мертвые и смешные: таксидермия постсовременности
Заключение
Призрачное пространство в спектаклях in situ: эффект междумирья
Пространство — Призрак — Свидетель
Призракологика
Дом с привидениями
Заключение
Биографии авторов

Последние комментарии
1 час 6 минут назад
6 часов 52 минут назад
6 часов 58 минут назад
7 часов 1 минута назад
7 часов 2 минут назад
7 часов 7 минут назад