Стригольники. Русские гуманисты XIV столетия [Борис Александрович Рыбаков] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
Стригольники Русские гуманисты XIV столетия
Светлой памяти моей жены Зои Георгиевны Рыбаковой-Андрониковой.
Введение
Новгородские историки XV столетия с большой подробностью и знанием дела освещали события времен поколения своих дедов, они располагали разными источниками сведений и по-разному их использовали. Иной раз на страницы летописи попадали эпизоды на первый взгляд незначительные (например, приезд в Тверь сурожского купца и молодого московского боярина), но историк обосновывал это: «Се же писах того ради, понеже огнь загореся от того» (имелась в виду большая война Москвы с Тверью)[1]. События были связаны с соперничеством и противостоянием таких значительных государств, как Великое княжество Литовское, Золотая Орда, Московское, Тверское княжество, Новгородская земля… Для рассмотрения событий только одного 1375 года потребуется карта всей Восточной Европы — от Карелии до Крыма и от Литвы до Вятки, от орденских рыцарских земель Прибалтики до Каспийского моря. «Господин Великий Новгород», опережая Москву, выходил на международную арену как в торге, так и в политике. Новгородцы помогали в этом году московскому князю Дмитрию Ивановичу (будущему Донскому) в его войне с Михаилом Тверским, заключившим союз с Мамаем и с Ольгердом Литовским. На стороне Москвы воевали 18 князей, названных летописцем с указанием столиц их княжеств. Новгородская вольница — знаменитые ушкуйники, воспетые в былинах о Ваське Буслаеве, в это самое время прошлись на 70 ушкуях двухтысячным войском по всей Волге от русской Костромы до ордынской «Хазторокани» (Астрахани), побывав как незваные гости даже в самой ханской ставке Золотой Орды — в Сарае-Берке. Два года спустя эти новгородские молодцы добрались до самого «моря-окияна», до побережья Ледовитого океана. В конце годовой статьи 1375 г. хронисты дают несколько кратких заметок о внутренней жизни своего города: посадник Юрий поставил церковь Иоанна Златоуста, а на Холопьей улице «свершиша» новую (на этот раз каменную) церковь Кузьмы и Дамиана, священник которой Григорий Калика (Паломник) был в свое время избран главой новгородского духовенства под именем архиепископа Василия (1330–1352). Завершает годовую статью 1375 г. лаконичная запись в некоторых летописях о расправе с какими-то «стригольниками». В наиболее ранних Новгородских летописях (Новг. 1-й, Новг. 2-й, Новг. 3-й) этой записи нет — потомки, очевидно, не должны были знать об эпизоде, бросающем тень на церковную жизнь города. Но поскольку в дальнейшем по поводу стригольников писали вплоть до самого конца XVIII в., не только простые писатели на церковные темы, но и русские епископы и митрополиты, церковные публицисты вроде знаменитого игумена Иосифа Волоцкого и даже вселенские патриархи Царьграда (Филофей, 1355 г.; Нил, 1382 г.; Антоний, 1395 г.), то в более поздних исторических компиляциях вроде Новгородской 4-й и Софийской 1-й летописях появляется под 1375 г. кратчайшая ретроспективная запись о стригольниках:1375 г. …Тогда стриголников побиша: дьякона Микиту, дьякона Карпа и трие его человека. И свергоша их с мосту[2].Запись оставляет много недоумений: кто такие стригольники, в чем их вина? Кто распорядился бросить их в воду? Что это за река, в которую они ввергнуты после побоев? Софийская 1-я летопись, очень близкая к Новгородской 4-й, часть недоумений снимает:
1375 г. …Того же лета побиша стриголников еретиков: дьякона Микиту и Карпа простца и третиего человека с ними. Свергоша их с мосту, развратников святыя веры[3].Мы узнаем, что стригольники — преступники по отношению к православной церкви, еретики. Карп здесь оказывается не дьяконом, а «простецом», т. е. «мирянином», простым человеком, не причастным к духовенству (рис. 1).

Рис. 1. Расправа со стригольниками в Новгороде в 1375 г. Миниатюра лицевого свода XVI в. Направо от зрителя «софийская сторона» с Кремлем.
Но где и кем произведена расправа, нам продолжает оставаться неизвестным. Очевидно, современникам и близким поколениям пояснения не требовались. Историки XVI в. вносят некоторые разъяснения:
1375 г. …Того же лета новогородцы ввергоша в воду, в Волхов стриголников-еретиков, глаголюще: «писано есть в евангелии — аще кто соблазнить единого от малых сих, лутчи есть ему, да обвесится камень жерновный на выи его и потоплен будет в море»[4].Здесь исчезли имена утопленных два века тому назад еретиков, но зато читатели узнали, что дело происходило в Новгороде Великом на знаменитом волховском мосту. «Развратником веры» был предъявлен текст Евангелия, из которого ясно, что стригольники, в составе которых было и посвященное в сан духовенство (дьяконы), смущали своею проповедью народ, «малых сих». В скриптории Ивана Васильевича Грозного был создан интереснейший «Лицевой свод», снабженный огромным количеством полихромных миниатюр. Одна из них (первый том Остермановского списка см. рис. 1) посвящена новгородскому событию 1375 г.[5] На миниатюре изображена Софийская (левая по течению Волхова) сторона Новгорода с крепостными воротами Детинца и западной частью великого моста. На мосту толпа простых людей, пришедших с Торговой стороны, бросает с моста двух человек со связанными вместе руками. В бурных волнах Волхова уже барахтаются пятеро приговоренных. Здесь перед нами типичный для средневекового искусства показ динамики события путем расчленения его на отдельные эпизоды, несовместимые во времени, но в своем комплексе дающие повествование о ходе события. Древнерусский художник мог на одной иконе изобразить как бы одновременно и Иоанна Предтечу и Саломею с отрубленной головой Предтечи на блюде; зрители знали, что здесь искусственно объединены два явно асинхронных эпизода, две стадии события. Фигуры, перебрасываемые через деревянные перила моста на нашей миниатюре, — это первая стадия; пятеро тонущих в волховской воде — вторая, финальная стадия. Здесь показаны все пятеро стригольников, подвергнутых казни: Никита, Карп «и трие человека его» (Карпа). Совпадение с приведенным выше текстом Академического списка Новгородской 4-й летописи полное (двое из тонущих в черных дьяконских рясах). Точное количество подвергшихся расправе могло быть известно московскому художнику эпохи Грозного от митрополита Макария, начинавшего свой служебный путь новгородским архиепископом, а в середине XVI в. руководившего грандиозными историко-патрологическими предприятиями в Московском кремле. Остались невыясненными два вопроса: во-первых, почему Карп в одном случае назван дьяконом, а в другом — «простецом», мирянином; во-вторых, кто же осудил Карпа и его людей на такую страшную, идущую еще из языческих времен казнь? Первый вопрос был разъяснен через семь лет после первого упоминания Карпа (в летописи) патриархом Царьграда Нилом, писавшим в 1382 г. о «Карпе диаконе, отлученном от службы стригольнике». Подробнее и юридически точнее судьба Карпа была обрисована в 1386 г. другим современником Карпа, пермским епископом Степаном Храпом, написавшим специальное обращение к самим еретикам:
1. «Злая ересь прозябе от Карпа дьякона… Ныне же от службы отлучена, от церкви изгнана стригольника…» (дьявол воздвиг его против церкви). 2. «…Сю бо злую сеть дьявол положил Карпом стригольником, что не велел исповедатися к попом…» 3. «Сам бо — стригольник, связан бысть и отлучен от церкве, своей деля ереси…» 4. «Недостояйно есть слушати стригольниковых учеников…»[6]Из слов Стефана Пермского явствует, что ересиарх Карп был и дьяконом (до церковных репрессий), и расстригой-«простецом» после «изгнания от церкви» и лишения права церковной службы. Кроме того, Стефан разъяснил и значение (может быть, диалектное новгородско-псковское) слова «стригольник», употребляемого им в единственном числе. Это не профессия, не манера особой стрижки волос, не принадлежность к причту с выстриженной тонзурой. Это — обозначение расстриги, лишенного дьяконского сана и отлученного от церкви: «Стригольник» — расстрига Карп, с которого в связи с ересью снят священный сан. «Стригольники» — «стригольниковы ученики», последователи расстриги Карпа[7]. С точки зрения духовенства, наименование «стригольник», «стригольники» — уничижительное, постоянно напоминающее о неполноправности, низверженности, внезаконности как самого человека, считающего себя учителем народа, так и его учеников, тоже стремящихся к проповеднической деятельности. Если первоначально слово «стригольник» обозначало персонально самого Карпа после снятия с него сана, то в дальнейшем оно распространилось и на всех «стригольниковых учеников». К сожалению, нам неизвестно время интердикта, в год, который Карп был отлучен от церкви, так как тогда мы знали бы точно, с какого времени церковная оппозиция стала обозначаться термином «стригольники». Последний вопрос, связанный с драматическим эпизодом 1375 г.: кто дал распоряжение о публичной казни в центре Новгорода дьякона, проповедника-расстриги и троих «слабых и неразумных, последовавших ереси той»? Ни один из летописцев не дает на него ответа. Патриархи Царьграда в своих посланиях предостерегали от смертной казни, призывали «самоотлучившихся от церкви» новгородцев и псковичей к возврату в лоно православия, к покаянию и воссоединению: «Исправите… себе, стриголници… покоритеся презвитером вашим… соединитеся в благое… и возвеселимся о возвращении тех» (послание патриарха Нила 1382 г.). Светские власти Новгорода — ни князь, ни посадник, ни тысяцкий — не могли распорядиться жизнью дьякона и бывшего дьякона, так как все духовенство и все церковные и околоцерковные люди (просвирни, паломники-калики, лекари, изгои и др.) находились в юрисдикции епископального суда. А вопрос о казни «развратников веры христианской» никоим образом не мог быть решен без санкции главы новгородской церкви — архиепископа. Архиепископом Новгорода с 1359 по 1388 г. был выбранный из ключарей Софийского собора владыка Алексей. Никак нельзя сказать, что новгородские летописцы этого тридцатилетия были невнимательны к своему владыке. Напротив, они любовно следили за каждым действием Алексея, отмечая строительство церквей, время фресковой росписи, освящения храмов, указывая даже состав причта, участвовавшего в молебнах. Отмечалось уважение посадников и боярства к Алексею, фиксировались его поездки во Псков и в центр русской митрополии — Москву, где тезка новгородского владыки — митрополит Алексей и Дмитрий Донской принимали его «многу честь въздаша ему и дары многы…». Невнимательностью новгородских хронистов молчание о процессуальной, юридической стороне очень важных событий 1375 г. объяснить нельзя. Настораживают и нежелание наиболее близких по времени летописцев вообще упоминать о них (три последовательно созданных летописи), и лапидарная форма первой по времени ретроспективной записи, не дающей ни места, ни причин произведенной неизвестно кем и за что расправы. Загадочным является и то, что непосредственно за потоплением стригольников в Волхове «на ту же зиму съиде владыка Алексеи со владычества по своей воли… и бысть Новгород в то время в скорби велицей…»[8], а ближайшей весной Алексей, вернувшийся на свою кафедру, ездил в Москву к митрополиту. Эту загадку попытаемся решить в дальнейшем, после рассмотрения разных явлений в жизни Новгорода того времени. Сейчас же считаю необходимым обратить внимание на те внешние условия, которые никогда не связывались исследователями с городскими движениями интересующих нас лет. Речь идет о «казнях божьих», как называли тогда стихийные бедствия. Беды и голод начались за четыре года до расправы со стригольниками:
1371 г. «Того же лета бысть мгла велика, яко за едину сажень пред собою не видети. И мнози человецы лицем ударяхуся друг друга; птицы по воздуху не видяху летати, но падаху с воздуха на землю, ови о главы человеком ударяхусь. Такожде и звери, не видяще, по селом ходяху и по градом, смешаюшесь с человецы: медведи и волцы, лисицы и протчия звери. Сухмень же бысть тога велика и зной и жар много, яко устрашатись и вострепетати людем. Реки многа пресохоша и езера и болота. А леса, боры горяху и болота высохши, горяху и земля горяще. И бысть страх и трепет на всех человецех. И бысть тогда дороговь хлебная велика и глад велий по всей земле…»[9]Сгусток несчастий падает на 1374–1376 гг.
1374 г. «Того же лета быша зной велицы и жары, а дожда сверху ни едина капля не бывала во все лето. А на кони и на коровы и на овцы и на всяк скот был мор велик. Потом же прииде и на люди мор велик по всей земле Русской»[10].На следующий год несчастье подобралось к соседнему с Новгородом Тверскому княжеству:
1375 г. «А в граде Твери бяше тогды скорбь немала, такова же не бывала в мимошедшая лета: бысть мор на люди и на скот»[11].Бедствия не миновали и Новгород:
1374. 1375. 1376. «В Новегороде Великом река Волхов семь дний иде въспять. По третье же лето уже тако идяше!»[12]Для, равнинного ландшафта Новгородчины с его низкими берегами это означало, что могучая река и огромное озеро Ильмень разлились по всей безбрежной пойме Волхова и наводнение затопило многие десятки сел с их пашнями, луговыми выгонами, запасами стогов сена… Быть может, не случайно именно в это время, после второго наводнения, 2000 молодых людей Новгородской земли сели в 1375 г. на ушкуи и отправились искать счастья в далеких краях. Широкомасштабные стихийные бедствия, эпидемии и эпизоотии неизбежно вызывали у людей средневековья представления о «казни божьей», о каре за грехи. В XI в. русские люди, деды которых были еще язычниками, вернулись во время неурожая к старым прадедовским богам. В XIII в. стихийные бедствия привели к ряду конфликтов как с языческими волхвами, так и с православным духовенством. В конце 1220-х годов длительная засуха охватила значительную часть Европы. В Новгороде это привело сначала к расправе с языческими жрецами, заподозренными в каких-то вредоносных колдовских действиях:
1227. «Явишася в Новеграде волхвы, ведуны, потворницы [знахарки-колдуньи] и многая волхования и потворы и ложная знамения творяху и много зла содеваху, многих прелщающе. И се мужи княже Ярославли въступишася за них. Новгородцы же ведоша волхвов на Ярославль двор [князь был в походе] и складше огнь велий… и вринуша во огнь и ту згореша вси»[13].После этого самовольного аутодафе «поиде Антоний архиепископ новгородьскый на Хутино [пригородный монастырь]… по своей воли»[14]. На следующий год проливные дожди обострили обстановку:
1228. «Той же осени наиде дъжгь [дождь] велик и день и ночь: на госпожьин день оли и до Никулина дни [от 15 августа до 6 декабря] не видехом светла дни; ни сена людьм бяше лзе добыта, ни нив делати. И въздорожиша все на торгу и хлеб и мяса и рыбы… И тако ста по 3 лета». «Той же осени бысть вода велика в Волхове: пойма около озера сена и по Волхову».За 6–8 декабря озерный лед двинулся на город и снес Великий мост. А через эти три года летописец с горечью подводил итог:
«… Бяше туга и печаль… дома тъска, зряще дети, плачюще хлеба, а другая умирающа…. Разидеся град нашь и волость наша… а останок почаша мрети…»Обездоленная природой «простая чадь» Новгорода искала причины невзгод в поведении духовенства, тех людей, которые были посредниками между человеком и высшими силами, управляющими миром. Начали с языческих волхвов, кончили новым архиепископом, сменившим ушедшего, якобы «по своей воле», Антония.
1228. «И вьздвиже [дьявол] на Арсения… простую чядь. И створше вече на Ярославли дворе [где в прошлом году жгли волхвов] и поидоша на владыцынь двор, рекуче: „Того деля стоит тепло дълго — выпроводил Антония на Хутино, а сам сел, дав мьзду князю“»[15].Нового владыку согнали «акы злодея пьхающе за ворот», а Антония вернули на его архиепископское место. Четырнадцатое столетие началось упоминанием о расправе с колдуньями, вредившими урожаю:
1303. «Бысть зима тепла без снега и хлеб бысть дорог велми. И несколько жен сожгоша»[16].Возвращаясь к интересующим нас событиям 1375 г., мы можем установить типологическое сходство между конфликтами двух разных столетий: и там, и здесь во время стихийных бедствий внимание народа устремлялось к служителям бога (или языческих богов), которых считали ответственными в первую очередь за то или иное состояние природы. И там, и здесь после эксцессов глава новгородской церкви уходил (временно) с поста: в 1228 г. после самовольной расправы новгородской толпы с языческими жрецами, а в 1375 г. после расправы со стригольниками. Ни светская, ни церковная власть не санкционировала этих действий, хотя действия против волхвов или против подозреваемых в ереси прямо относились к юрисдикции церковного епископального суда. Суда не было; со стригольниками расправились безымянные «новгородцы», и эту расправу юридически следует считать не казнью, а самосудом. Можно подозревать, но, правда, без особых доказательств, что против образованных и «чистое житие имущих» стригольников (такими их рисуют полемизирующие с ними епископы) новгородцы были направлены кем-то из состава ортодоксального духовенства, какими-то многочисленными последователями владыки Моисея (умер в 1363 г.), которому дважды приходилось покидать архиепископскую кафедру «по своей воле». В его житии автор ставит ему в заслугу противоборство с ересью стригольников. Основной тезис стригольников, как известно, состоял в недоверии к посреднической роли всякого вообще духовенства между людьми и богом. Врагов из числа среднего и высшего духовенства у стригольников было много, но, учитывая позицию вселенских патриархов, рекомендовавших лишь уговоры и призывы к воссоединению стригольников с церковью и прямо запрещавших смертную казнь, мы не можем связывать новгородский самосуд 1375 г. с именем архиепископа Алексея, прямо ответственного за деяния «дома святой Софии». К тридцатилетней деятельности владыки Алексея, вступившего на пост после вынужденного ухода врага стригольников — Моисея — мы еще не раз вернемся в дальнейшем. В заключение обратимся снова к миниатюре Лицевого свода, изображающей эпизод расправы. На новгородском Великом мосту сошлись, как мы видели, две различных группы: слева, с Торговой стороны (где, как увидим в дальнейшем, обнаружились памятники стригольнической обрядности)[17], идет толпа просто одетых молодых новгородцев. Они держат в руках связанных стригольников и бросают их в Волхов. Навстречу им из крепостной воротной башни Детинца идет группа высоких седобородых старцев в корзнах-плащах. Ни архиепископа, ведающего дела «развратников веры», ни кого бы то ни было из духовенства на рисунке нет. Идущий впереди старик с жестом укора или назидания обращается к толпе «заречан». Никто из действующих лиц не смотрит на тонущих дьяконов и простецов: головы всех подняты, люди обеих групп смотрят друг на друга: заречане на бояр софийской стороны, а те на заречан. Создается зрительное впечатление, что почтенные старцы не столько порицают стригольников, сколько укоряют молодых людей, творящих самосуд. Обитатели Кремля явно противопоставлены обитателям Торговой стороны.
* * *
После событий 1375 г., когда погиб глава неизвестно когда возникшего стригольнического движения Карп, само движение не прекратилось, и мы получаем за последующие пять десятков лет две группы основных документов о характере этого движения. Одна из них — это послания константинопольского патриарха (которому была подчинена вся русская церковь) Нила 1382 г. и блестяще написанное поучение русского епископа Стефана Пермского 1386 г., дающее наиболее полное представление о стригольниках. Затем следует период молчания, а через тридцать лет возникает вторая серия документов, направленных только против стригольников во Пскове и посланных митрополитом Фотием из Москвы; она датируется 1416–1429 (или 1427) гг. Из последнего (четвертого по счету) послания митрополита Фотия во Псков явствует, что ранее он дал распоряжение «тех стригольников обыскать (выявить) и показнить», и в этом послании, которое датируется 1429 г., благодарил посадника и духовенство Пскова за исполнение его приказа, в результате которого «инии те стриголници побегали, а котории осталися… те деи… яко диаволу в них въгнездившуся», сохранили прежние воззрения. Молчание источников в последующие десятилетия объясняется, быть может, тем, что нетерпимый к ереси Фотий вскоре умер (в 1431 г.), а в 1430-е годы сложилась новая политическая ситуация: Псков стал союзником Москвы против Новгорода. Новый московский митрополит Исидор содействовал эмансипации псковской церкви от власти новгородского архиепископа. В этих условиях внимание псковского духовенства должно было сосредоточиться не столько на борьбе со своими заблуждавшимися псковичами, сколько на противостоянии могущественному архиепископу новгородскому Ефимию II, у которого псковичи отняли с помощью Москвы владычный суд и поборы. Один из приездов Ефимия во Псков «не в свою череду» закончился тем, что вскоре «стал бой псковичам с софьяны» (людьми архиепископа)[18]. Сведения о стригольниках как об общественном движении прекратились. Слово «стригольники» становилось нарицательным, обозначавшим теперь не последователей стригольника (расстриги) Карпа, а всяких вообще инакомыслящих, отклоняющихся от ортодоксии прихожан[19]. В дальнейшем даже старообрядцы XVII–XVIII вв. получали не только наименование «раскольников», но и «стригольников». В 1799 г. в Петербурге была издана книга под таким названием: «Полное историческое известие о древних стригольниках и новых раскольниках, так называемых старообрядцах, о их учении, делах и разгласиях, собранное из потаенных старообрядческих преданий, записок и писем… протоиереем Андреем Иоанновым [Журавлевым][20] в Санктпетербурге при Императорской Академии Наук 1799 года». Первым историком стригольничества, разумеется крайне пристрастным, был Иосиф Волоцкий, боровшийся в конце XV и в начале XVI в. с новым, значительно более радикальным движением в Новгороде и Москве, обнаружившим себя с 1480-х годов. Иосиф, хорошо знавший современного ему новгородского архиепископа Геннадия (опознавшего в чернеце Захаре стригольника), мог получить от него дополнительные сведения о Карпе, например, о месте зарождения ереси:Некто бысть человек, гнусных и скверных дел исполнен, именем Карп, художеством стриголник, живый во Пскове, Сей убо окаянный ересь состави скверну же и мерзку, якоже и вси верят и мнози от православных христиан, иже суть слаби и неразумии, последоваша ереси той…Церковные историки позднейших времен мало уделяли внимания движению стригольников. Для них слово «ересь» сразу ставило еретиков за рамки церковной истории, и поэтому даже серьезнейший из церковных историков Е.Е. Голубинский ограничился в своем известном труде лишь самой краткой характеристикой этого, по его словам, «маленького противуцерковного общества». В советской историографии А.Д. Седельников и Н.П. Попов начали интереснейшую работу по выяснению исторических корней стригольничества в эпоху, предшествующую такому финальному эпизоду, как самосуд 1375 г.[22] Наиболее всеобъемлющими и интересными исследованиями являются работы Н.А. Казаковой и А.И. Клибанова[23]. Н.А. Казакова в своем труде посвятила целый раздел историографии стригольничества; раздел достаточно полон и интересен, что избавляет меня от необходимости углубляться в эту тему. В итоге произведенного за последнее столетие исследования только одних письменных источников 1375–1429 гг., и притом исходивших только из антистригольнических кругов высшего русского и византийского духовенства, общая характеристика стригольнического движения может быть конспективно представлена в таком виде. 1. Учитывая «обмирщенность» духовенства, пьянство (бичуемое и властями) и склонность его к стяжательству и взяткам, стригольники сомневались в праве духовенства быть посредником между людьми и богом. На этом основании они отказывались от обычной исповеди священникам: Карп «не велел исповедатися попам». Стригольники предлагали взамен неясную по источникам «исповедь земле». 2. Инициаторами этого протеста были, очевидно, выходцы из низшего духовенства — из людей, достигших только сана дьякона (Карп, Никита). Могли быть, очевидно, и «простецы», не имевшие никакого сана. 3. Стригольники были образованными книжными людьми, создававшими даже какие-то «писания» в обоснование своих взглядов (Карп). «Или бы не от книжнаго писания говорили, никто бы не послушал их». 4. Стригольники соблюдали православные обряды. Их называли «молебниками» и «постниками». 5. Вели правильный образ жизни. О них люди говорили: «Сии не грабят и имения не збирают!», «Аще бо бы не чисто житье их видели люди, то кто бе веровал ереси их?» 6. Стригольники усиленно пропагандировали публично свои взгляды, стремились «учительствовать», проповедовать и привлекать народ в свой «союз неправедный». Это служило поводом для обвинения их в самозванстве. 7. Возможно, что у стригольников не было четко очерченной концепции по всем религиозным вопросам и не было единого стандарта. 8. Московская митрополия и константинопольская патриархия рассчитывали на то, что им удастся переубедить еретиков и вернуть их в лоно православной церкви. Главным был вопрос о желательности признания стригольниками непререкаемого авторитета духовенства, всех ступеней церковной иерархии от простого иерея («пресвитера») до патриарха и церковного собора. Таковы основные выводы, сделанные исследователями XIX–XX вв. В выводах современных исследователей и в их методике не все бесспорно и не все опирается на историческую критику источников. На стригольников, например, очень часто распространяли взгляды классиков марксизма на западные городские ереси, из изучения которых вытекал вывод об антифеодальном характере ряда еретических движений. Этот верный вывод был механически перенесен на русских стригольников, у которых нельзя найти антифеодальные тенденции даже в тех характеристиках, какие давали им их противники, церковные феодалы. Очень часто стригольничество, с его явной антиклерикальной направленностью (в этом сходство его со многими ересями Балкан и Западной Европы), считали простым отзвуком западных движений богомилов, вальденсов, катаров и пр., забывая при этом о возможности вполне естественной конвергенции в сходных исторических условиях. Излишне доверяясь словам обвинительных поучений против стригольников, историки нередко не замечают того, что строят свои суждения исключительно на прокурорских речах, не имея возможности сопоставить их с материалами другой, обвиняемой стороны. Впрочем, аналогия с судебным диспутом не очень удачна — диспуты могли вестись в XIV в. во время проповеди самих «стригольниковых учеников», но о них нам ничего неизвестно. Располагаем же мы не результатами обсуждения, а посланиями — повелениями князей русской церкви, подкрепленными авторитетом вселенского патриарха, лично обращавшегося к псковичам и новгородцам. «Еретиков» пока не проклинали, надеясь на их раскаяние, но в ближайшем будущем им обещали и анафему, и заточение, и изгнание из града (послания митрополита Фотия). Доверчиво воспринимая как правдоподобные свидетельства об учении стригольников, так и высказанные мимоходом, в полемическом запале обвинения в полном еретичестве, историки допускали, что стригольники отрицали все христианские таинства, не признавали Евангелия, отвергали божественную сущность Иисуса Христа, не верили в загробную жизнь, в рай и ад, отрицали воскресение мертвых и вообще отвергали все христианское вероучение…[24] Историки оказались plus royaliste, que le roi, показав стригольников в таком виде, что средневековым церковным иерархам было бы просто неприлично переписываться с подобными дикарями-язычниками. В результате появлялись такие неосторожные формулировки: «Ересь стригольников имела реакционную религиозную оболочку. Эта оболочка делала невозможным развитие передовых идей»[25]. Еще дальше пошел в своей кандидатской диссертации философ В.В. Мильков (1981), утверждающий, что «антихристианскую мысль XI–XIV вв. следует признать патриархальным направлением, на вооружении которого было мировоззрение родо-племенного строя… Исторически прогрессивная критика христианства русскими еретиками началась только с середины XV в. До этого еретичество следует охарактеризовать как консервативное, не имевшее исторической перспективы»[26]. Необходимо при дальнейшем исследовании, во-первых, произвести тщательный пересмотр этих письменных источников 1375–1429 гг., на основе которых сделаны приведенные выше выводы, а во-вторых, очень важно продолжить анализ предстригольнического периода истории русской общественной мысли. Стригольничество отчленяется от предшествующего движения лишь по случайному принципу обидного прозвища ересиарха Карпа, данного ему, разумеется, церковниками XIV в., но уловить существенное различие между учением Карпа и «Словом о лживых учителях», возникшим почти на сто лет ранее, не так легко. Без анализа всех антиклерикальных тенденций XII–XIV вв. невозможно понять тот небольшой хронологический отрезок развития общественной мысли, который в нашем представлении окрашен именем Карпа — «расстриги».(«Просветитель» 16-е слово)[21].
* * *
Важнейшим условием корректировки наших взглядов на стригольничество является максимальное расширение фонда источников. Широта охвата должна соответствовать историческому значению этой важной, но неуловимой (или не уловленной еще) темы борьбы людей средневековья за человеческое достоинство. Деление ее на замкнутые этапы не позволяет понять устойчивую сущность общественного конфликта, возникшего за полтора-два столетия до появления нового обозначения (всего лишь!) участников этой борьбы по «стригольнику» Карпу. В 1230-е годы Авраамий Смоленский читал народу те самые книги, которые потом продолжали переписывать и комментировать и в XIV столетии. Он чуть не поплатился жизнью, когда «враги-игумены» повели его на суд, желая «яко жива пожрети его»[27]. В XIII–XIV вв. русское духовенство обмирщилось уже в той же мере, как и католическое духовенство Запада, и отнюдь не являлось примером «чистого жития». Взятки за поставление на место (от священника до игумена и до епископа), пьянство «череву работних попов», инертность, а иногда и малограмотность приходских священников были и у нас, и на Западе, и в Византии предметом порицания со стороны самого церковного начальства и вызывали возмущение прихожан, знавших своего пастыря во всех его повседневных заслугах, слабостях и провинностях. Одним из участков конфронтации прихожан и приходского священника были «дары», обязательная оплата всех треб (крещение, свадьба, похороны, специальные молебны), но это касалось только материальной стороны и не затрагивало такой деликатной области, как достоинство человека.
Рис. 2. Надпись-граффити начала XIII в. на стене древней церкви в Смоленске. Надпись относится к эпохе Авраамия Смоленского, возбудившего своими проповедями негодование духовенства.
Совершенно иное дело — таинство причащения, которому непременно должна предшествовать исповедь, откровенное и исчерпывающее перечисление всех своих грехов «словом, делом и помышлением». За простой информацией о грехах должно последовать покаяние, признание раскаяния в совершенных поступках или даже в замыслах. Священник, как посредник между человеком и богом, может отпустить эти грехи, положив то или иное наказание, и лишь после этого прихожанин или прихожанка могли быть допущены к причастию. Такова церковная сторона процедуры исповеди и причастия. Но была и другая, юридически-бытовая сторона: убийца должен был сознаться в убийстве, о котором никто не знал, жена должна была признать свою тайную неверность мужу, князь обязан был сообщить духовнику о своем замысле внезапно напасть на своего соседа, которому он дал клятву жить в мире… Духовенство — от приходского священника до княжеского духовника — становилось обладателем всех секретов и государственных тайн как частных лиц, так и правителей от семилетнего возраста до предсмертной агонии. Все жители одного прихода (городской квартал, или село, или несколько деревушек) оказывались под контролем иногда вполне достойного пастыря, а иной раз и «лихого пастуха»; тогда открывался простор сплетням, наговорам и даже шантажу. Однако и это еще не предел вторжения средневекового духовенства в интимную жизнь своих прихожан: на протяжении шести столетий с XII по XVII в. церковью составлялись для священников, принимающих исповедь, специальные вопросники предполагаемых грехов. Здесь наряду с такими темами, как разбой, воровство, клятвопреступление, обращение к языческим волхвам, неуплата денег наймитам и многое другое, существует обширный раздел, посвященный половой жизни прихожан, ее «технической» стороне и разнообразным извращениям, с перечислением порнографических деталей (онанизм обоих полов, лесбийская любовь, педерастия). Молодой девушке (оговорено) священник может задавать вопросы: не блудила ли она «со отцом родным или с братом… или со скотом блуда не сотворила ли?» Есть вопросы о добрачной жизни девушки-невесты; ее спрашивают о том, скольких своих младенцев-эмбрионов она тогда тайно погубила. Ряд заготовленных вопросов для исповедающихся задавался в такой скабрезной форме и содержал столько омерзительных подробностей, что они должны были жестоко оскорблять человеческое достоинство прихожан и прихожанок и возмущать, а вместе с тем и пугать кающихся в своих грехах не богу, а знакомому человеку, который знает наперечет всех людей своего прихода (каяться чужому попу было запрещено). Значительная часть древних церковных требников, содержащих подобные исповедальные «анкеты», происходит, судя по диалектным чертам («истецение» вместо «истечения» и др.), из Новгородско-Псковского региона, породившего стригольническое движение[28]. По всей вероятности, вопрос о симонии (поставление на церковные должности «на мзде») и об эпикурейском образе жизни части духовенства (с чем боролись и сами церковные власти) не так волновал и возмущал средневековых людей, как бесцеремонное выпытывание интимнейших подробностей в их настоящем и прошлом. Нападки на образ жизни «лихих (т. е. скверных) пастухов» были, очевидно, не самоцелью, а способом самообороны, защиты унижаемых этими пастырями людей от неприличной и опасной любознательности исповедников. Неудивительно, что с ростом самосознания средневековых горожан подобное копание в грязном белье вызывало повсеместный протест и рождало простейшую идею: отпускать грехи может только бог, священник-посредник является лишним звеном, поскольку бог есть всеведающий и вездесущий и как таковой услышит слова покаяния «чистым сердцем на всяком месте». Именно поэтому вопрос об исповеди священникам и таинстве причащения и явился первым и определяющим в учении Карпа и его последователей, как писал в 1382 г. патриарх Нил. Именно по этому единственному признаку Геннадий Новгородский в 1490 г. «познал», что монах Захарий — стригольник. Но вывод, который из этого сделали исследователи, что стригольники отрицали вообще исповедь и причастие как таинство, оказался преждевременным. В новгородских эпиграфических материалах XIV в. мной были обнаружены покаянные кресты, объясняющие и исповедь непосредственно богу, и «покаяние земле», так смущавшее исследователей, видевших в этом отзвуки языческого пантеизма[29]. Покаянные кресты из окрестностей Новгорода снимают со стригольников еще одно несправедливо воздвигнутое на них обвинение в том, что они якобы отрицали загробную жизнь и веру в воскресение мертвых, что составляет краеугольный камень христианства (см. ниже главу II). С точки зрения православной догматики кресты были безупречны и неуязвимы для оппонентов, что, по всей видимости, и содействовало их сохранности вплоть до конца XIX в. Большой интерес представляет та стригольническая письменность, о которой говорит Стефан Пермский в своем поучении 1386 г. Это могут быть и более ранние сочинения и компиляции, которые копировались в годы стригольничества. Примером может служить житие Авраамия Смоленского, переписанное в 1355 г., или знаменитый «Трифоновский сборник», содержащий в своем составе ряд статей, созвучных учению стригольников вроде «Слова о лихих пастухах». Сборник переписан во Пскове в 1380 г., за два года до появления в этом городе патриаршего посланца, суздальского епископа Дионисия, приехавшего развенчивать и разубеждать стригольников. Стригольническая книжность могла быть и оригинальной; Стефан Пермский говорит о Карпе, что он показывал своим слушателям «писание книжное, еже и списа на помощь ереси своей…». Но существовал в средние века и другой способ воздействия на читателей, когда канонический текст, освященный тем или иным авторитетом, подправлялся, отдельные слова или фразы вставлялись и переписанный текст принимал иную направленность. На этот случай в уже знакомых нам исповедальных вопросах существовал даже специальный пункт, адресованный книжному писцу:
А не грешил ли ты, предписывая святыя писания, по своему хотению ухищряя, а не якоже се писано?[30]Мне посчастливилось обнаружить в знаменитой Фроловской псалтири XIV в. (инициалы и фронтиспис которой неоднократно публиковались, а текст ни у кого из исследователей не вызывал интереса) большое количество именно таких тенденциозных «ухищрений по своему хотению», которые в своей совокупности дают целостную систему стригольнических взглядов. Смысл многих фраз в псалтири существенно отличается от канонического русского перевода. «Исповедайтесь господеви!» — вот главный тезис того, кто не списывал с какого-то текста, а продиктовал («проглаголал») переписчику этот стригольнический призыв. В каноническом переводе этого нет (подробнее см. главу 4)[31]. Большого внимания заслуживает и книжная орнаментика XIV в., которая вопреки мнению некоторых знатоков книжности несет очень важную смысловую нагрузку и тоже в пользу стригольнических идей. В упомянутой Фроловской псалтири тонко вырисованные инициалы разбросаны крайне неравномерно и производят впечатление полной беспорядочности. Обращение же к содержанию выделенных этими красочными буквицами псалмов ведет нас к стригольническим тезисам. Изучение книжной орнаментики, в особенности фронтисписов, раскрывает перед нами интереснейший мир четко осмысленной символики, когда внутри условного контура храма может оказаться сам Сатана и его адские псы, а над храмом, где, как правило, обычно рисовали Иисуса Христа, благословляющего автора текста (евангелиста или Давида-псалмопевца), может оказаться поющий петух-шантеклер, приветствующий новую зарю. Заглавные буквы-инициалы (рис. 3) в богослужебных книгах с первой четверти XIV в. приобретают очень живой, иной раз даже гротескный характер, далеко уводя читателя от торжественности содержания книги в живой и веселый быт средневекового города: переругивающиеся рыбаки, старик, греющий руки у костра (приписка: «Мороз! Руки греет…»), дерущиеся на поединке горожане, новгородец, обливающийся водой, гусляр, которому художник желает успеха («Гуди [играй] гораздо!»), — все это свидетельства известной секуляризации церковного книжного искусства, внесения жизненной, мирской струи в церковное по существу искусство. Стригольников не обвиняли в такой вольности, но новый стиль орнаментики — знамение времени.
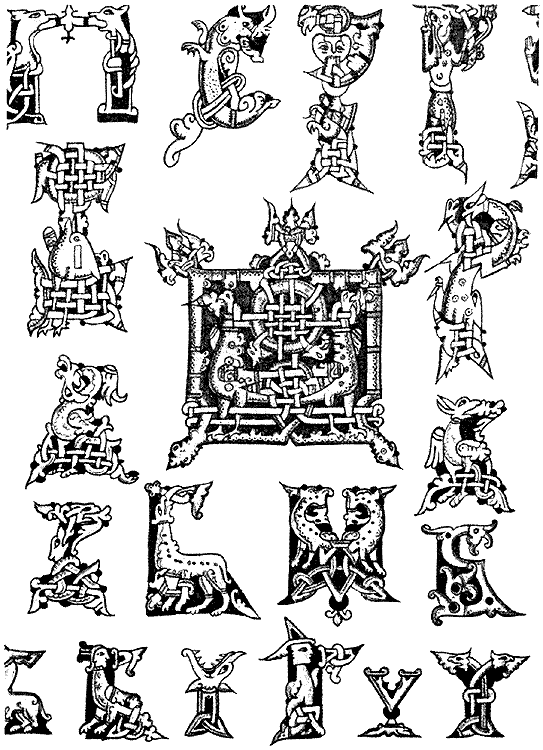
Рис. 3. Заглавные буквы-инициалы на новгородских рукописях XIV в.
Ни одно явление развития общественной мысли средневековья нельзя рассматривать без привлечения живописи той эпохи. Иконы и особенно многоярусная фресковая роспись храмов — это «Глубинная книга» средневековья, книга мудрости, где за стандартами евангельских или ветхозаветных сюжетов можно раскрыть целый ряд разных подборов и комбинаций этих сюжетов-клише, которые выражают индивидуальный замысел каждого отдельного заказчика или художника-исполнителя, замысел, поднятый иной раз на большую теософскую высоту. В Новгороде Великом сохранилось много икон и фресковых композиций эпохи подготовки и расцвета стригольничества, но искусствоведы не всегда интересуются историко-философскими проблемами — в трех монументальных книгах по новгородской живописи, вышедших в последние годы, нет ни слова о стригольниках; проблема поиска связей или их полного отрицания даже не поставлена[32]. А между тем в новгородско-псковской иконописи, и особенно во фресковых комплексах XIV–XV вв. можно найти многое, что тем или иным образом сопряжено с богословскими спорами или прямо с тезисами стригольничества. М.В. Алпатов высказывал интересныесоображения на эту тему[33]. Необходимо обратить внимание на то, что в изобразительном искусстве Новгорода XIV в. появляется устойчивый интерес к тем христианским персонажам, которые имели непосредственную связь с богом: пророк Илья, Иоанн Лествичник, святые-пустынники (вроде Герасима), молившиеся богу в необитаемой пустыне, разумеется без всяких посредников. В этот ряд входит и псалмопевец Давид, постоянно обращавшийся к богу подчеркнуто лично от себя. В живописи появляется новый, гуманистический по существу образ человека: не условная схема, не аскет, потерявший жизненность своего облика, а осмысленный образ живого, думающего и чувствующего человека. Ослабляется условная «иконописность» и проступает не анатомический, а психологический реализм. В качестве примера могу обратить внимание на известную икону «Рождество богоматери» (рис. 4) первой половины или середины XIV в.[34] Женщина на склоне лет, у которой никогда не было детей, родила вымоленного у бога ребенка (Марию, будущую мать Иисуса). Все персонажи картины встревожены происшедшим и ближайшим будущим — опасен преклонный возраст Анны… Наиболее выразительно лицо служанки, подошедшей к самому ложу роженицы: оно полно напряженной тревоги, переходящей в испуг. Так предельно обобщенно и сильно изобразить человеческие переживания мог бы и художник начала XX в. Это тоже знамение времени.
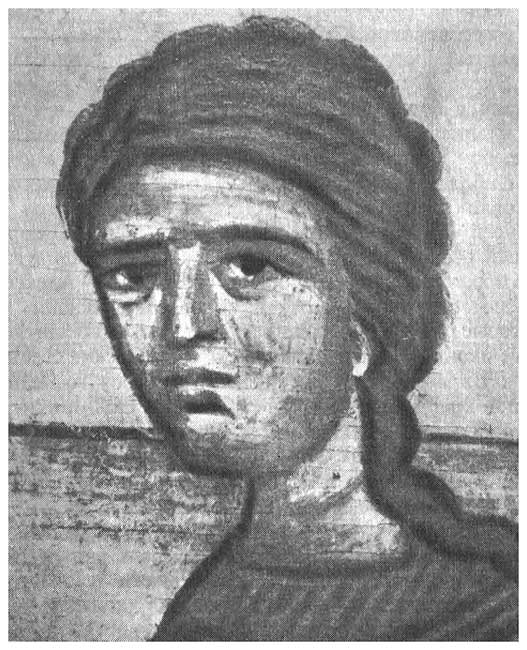
Рис. 4. Икона «Рождество богоматери» середина XIV в. Деталь. Служанка с тревогой смотрит на пожилую роженицу Анну.
В проблему стригольничества необходимо включить и обширный, многообразный мир прикладного искусства. Триптих с тремя дьяконами в центре всей композиции прямо ведет к стригольникам, руководимым дьяконами. В.Л. Янин справедливо связывает со стригольниками серебряный ларец Самуила с изображениями святых врачей бессребреников Козьмы и Дамиана[35] (рис. 5).

Рис. 5. Изображения святых — «безмездников» Козьмы и Дамиана на ларце XIV в. Стригольники, порицавшие духовенство за «дары» и поборы, противопоставляли ему культ Козьмы и Дамиана, «врачей безмездников» (отказывавшихся от платы).
Знаменитый Людогощинский крест из Новгорода 1359 г., работы мастера Якова Федосова, с его почти полным набором святых, общавшихся с богом без посредства духовенства и с многозначительной надписью о том, что с чистым сердцем можно молиться богу на любом месте (подразумевается — не только в церкви), быть может, наиболее значительный памятник прикладного искусства. Он изготовлен в тот год, когда гонитель стригольников — архиепископ Моисей — вторично «по своей воле» ушел с кафедры. Этот деревянный расписной крест как бы открывал тридцатилетнее владычество простого ключника Софийского собора — Алексея, которого лишь по недоразумению считают виновником «казни» 1375 г.[36] Некоторые разделы мелкой пластики, как медное литье, каменные нательные иконки, выводят нас далеко за городские стены Новгорода и ведут в Царьград или в Иерусалим к гробу господню, куда со всех концов христианского мира стремились паломники-пилигримы, «калики перехожие». Такими пилигримами были новгородский владыка Василий Калика (1331–1352 гг.) и его современник Стефан Новгородец, оставивший интересное описание Царьграда середины XIV в. С каликами связано появление на Руси, и особенно в Новгороде, нагрудных каменных иконок с изображением «гроба господня» и разных апокрифических сюжетов как русской работы, так и привозных из Византии и с Востока[37]. Паломничество как общеевропейское историческое явление средневековья очень важно для понимания литературы и общественной жизни той эпохи. Константинополь, и Иерусалим, и многочисленные перепутья, по которым приплывали и приезжали к ним со всех сторон разноязычные паломники, были теми пунктами, где осуществлялось общение католиков и православных, еретиков и ортодоксов, несториан, ариан, павликиан и других всевозможных толков. Здесь рождались и разносились по свету многочисленные апокрифы, отражавшиеся и в древнерусской литературе, и живописи. Упомянутый Стефан Новгородец (1348–1349 гг.) разыскал в Царьграде двух новгородцев, Ивана и Добрилу, которые жили здесь, «списаючи в монастыре Студийском от книг святаго писания, зане бо искусни зело книжному писанию»[38]. Нельзя не связать эту попутную заметку с интересом новгородцев того времени к «писанию книжному». Потомки «калик перехожих» сохранили в своем репертуаре, в «духовных стихах» XIX в., стихи о земле, близкие к стригольническому «покаянию земле»[39]. Во время паломнических путешествий по христианскому Ближнему Востоку новгородско-псковские калики могли ознакомиться с восточнохристианской особенностью исповедоваться не священнику, а перед той или иной святыней[40]. А это, как мы хорошо знаем, было главным и определяющим положением учения стригольников, приносивших свое покаяние о грехах не человеку-иерею, а каменному кресту с вырезанной на нем сокращенной формулой покаянной молитвы. Очень важным, но наименее всего выясненным в истории стригольничества является определение социального диапазона этого движения. Если удастся доказать наличие стригольнических книг, стригольнической иконописи и тем более дорогостоящих фресковых росписей в каменных храмах (там, где стригольники вправе заказывать свою систему живописных композиций), то движение определится как бюргерская ересь, но с опорой на более широкие демократические круги всего городского посада. Материалом для анализа должен быть синтез всех данных для такого отрезка времени, срединной точкой которого будет самосуд над Карпом и его людьми. Таким отрезком является, как уже говорилось, архиепископство Алексея — 1359–1375, 1376–1388 гг. Хотя историки и говорят, что Алексей жестко расправился с еретиками, но никаких данных о том, что он или кто-то его именем разрешил топить стригольников в Волхове, у нас нет. Удивляет и другое — Алексей ни разу не выступил с обличением ереси: в 1376 г. московский митрополит Алексей, приняв Алексея Новгородского «с любовию», отпустил его в Новгород, «поучив его о ползе духовней, како паствити ему порученное стадо и въстязати дети своя от всякого зла»[41], а в 1382 г. ересь обличал не Алексей, а патриарх Нил и прибывший в 1382 г. ересь обличал не Алексей, а патриарх Нил и прибывший в качестве его легата суздальский епископ Дионисий; в 1386 г. порученное Алексею стадо поучал опять не он, пастырь Новгорода и Пскова, а Стефан, пастырь далекой Пермской земли. Владыка Алексей наследовал после своего предшественника построенный Моисеем загородный Успенский монастырь на Вол словом Поле. Много лет монастырская церковь не была расписана. Частичная роспись была осуществлена только после смерти Моисея в 1363 г., а вся церковь была покрыта фресками примерно через полтора десятка лет. Характер фресок (см. ниже, главу V) позволяет высказать предположение, что волотовская церковь Успения могла предназначаться для таинства причащения по стригольническому обряду: исповедь-покаяние производилась где-то вне церкви у покаянного креста, а причащение — в самой церкви, первая фреска которой в притворе, в двух шагах от входа, была посвящена пиру «требующих ума» (притча Соломона). Каждому входящему в церковь персонажи фрески, слуги Премудрости божьей, как бы протягивали чашу вина, превращая иллюстрацию к библейской притче в своего рода изображение «протоевхаристии». Если это удастся доказать (систему доказательств см. ниже), то мы поймем слова митрополита Фотия, обращенные к поздним стригольникам Пскова:
1416. Проклят будет тот, «иже особь въдружити [соорудит] храм и служити начнет…»Возможно, что практика сооружения особых, не входящих в соборный комплекс церквей началась уже на три десятка лет раньше митрополичьего поучения. Напомню, что Авраамий Смоленский, ненавидимый священниками и игуменами, управлял монастырем и служил в «особой» церкви еще за полтораста лет до Успенской церкви архиепископа Алексея. Он мог поставить «особый жертвенник», мог вести богослужение в «особом храме». Решить сложные и важные вопросы сущности гуманистического движения стригольников, его связь с общественной мыслью XII–XIII вв., его эволюцию за то полу столетие, когда мы следим за его судьбой по церковным поучениям, можно только при условии максимально широкого привлечения и системного, комплексного изучения всех видов источников. Только такая многогранность нашей источниковой базы, включающей летописи, поучения, богослужебные книги, живопись, архитектуру, фольклор, может приблизить нас к цели. В этом вводном разделе изложена без доказательств программа исследования и бегло перечислены основные вопросы, подлежащие анализу, но синтез (или конспект синтеза) здесь опережает анализ.
Глава первая Предпосылки и предшественники
Церковь и общество в средневековой Руси
История русской церкви в первые пять веков ее существования излагается историками поневоле очень односторонне — у нас нет источников, которые характеризовали бы различные периферийные стороны церковной жизни, и в силу этого мы зачастую вынуждены ограничиваться пересказом кратких сведений о митрополитах и епископате, о юридической сущности церковного суда, о случайно уцелевших в огне половецко-татарских пожаров сочинениях церковных писателей, но нам очень трудно проникнуть в жизнь тех молекул церковной организации, какими являлись приходы. Церковных приходов были тысячи; их центрами были не только те каменные храмы, часть которых сохранилась до наших дней, но и бесчисленные деревянные церкви в городах и селах почти на всем необъятном пространстве трех природных зон Восточной Европы: в черноземной лесостепи с ее древней культурой, в обширной, колонизованной позже, зоне лиственных лесов, а после татарского нашествия и в отдаленной заволжской тайге вплоть до самого «Студеного моря-окияна». Старинная форма княжеского освоения далеких земель — погост — со временем стала обозначением церковного прихода с храмом и приходским кладбищем — погостом. В городах приходы тесно соприкасались один с другим, объединяя население соседних улиц и кварталов. Христианство проникало в Восточную Европу с юга, с берегов «Синего моря» русских сказок («Понта Эвксинского»), из таких византийских городов с сильной русской примесью, как Херсонес-Корсунь, Тира-Белгород, Сольдайя-Сурож, Боспор-Корчев, Таматарха-Тмутаракань, и очень медленно продвигалось на север в разноплеменную среду готов, славян, литовцев и финно-угров. Христианизованные готы скоро покинули причерноморские степи (кроме Крыма), и здесь на много столетий утвердились сменявшие друг друга тюркские племена; с XIV в. здесь стал распространяться ислам. Крещение Руси способствовало неторопливому продвижению христианства в северные регионы с различной этнической средой и различными традициями местных языческих воззрений у ятвягов и литовцев, карел, чуди, мерян, коми и югорских племен Северодвинья. Только тщательный анализ этнографических фольклорных материалов позволит выявить, какая причудливая амальгама получилась в результате наслоения поверхностно понятого христианства на идущее из глубин тысячелетий могучее туземное язычество. Необходимо учитывать, что в результате неравномерности исторического развития Севера и Юга местные религиозные представления разных народов находились на разном историко-культурном уровне. Кроме того, следует учитывать и различие глубоких этнических корней народов лесной зоны разного происхождения: индоевропейцев, урало-альтайцев, самодийцев. Новгород Великий, интересующий нас как центр стригольничества XIV–XV вв., был окружен именно такой разноплеменной средой, считавшейся православной лишь формально. Архиепископ Макарий, будущий сподвижник Ивана Грозного и митрополит, писал из Новгорода в 1534 г. в Москву о необычайной жизненности архаичных языческих обрядов полурусского населения Новгородской земли, предпочитающего христианству «прелесть кумирскую». Новгородско-псковские стригольники, действовавшие за два века до наблюдений Макария, были со всех сторон окружены этой языческой финно-угорской стихией. Христианство появилось на Руси в IX–X вв. как религия чужого и чуждого государства. Во время мира с Византией русские языческие божества были представлены в самом Царьграде, и когда император, скрепляя мирный договор с русами, клялся именем Христа (по всей вероятности, в Софийском соборе), то где-то в его столице стояли идолы Перуна и Волоса, у подножья которых давали клятву русские послы. В Киеве задолго до принятия христианства были православные церкви (пророка Ильи), где совершалась церемония скрепления договоров, так же как в Константинополе, одни участники шли в христианский храм, а другие — в языческое капище Перуна. В периоды размирья с Византийской империей князь Святослав и его боярство преследовали христиан как потенциальных пособников империи и разрушали в Киеве их церкви. Сын Святослава в 988 г. совершил очень важный политический шаг, приняв христианство из рук Византии и сохранив вместе с тем полный суверенитет своего молодого государства. Русь как христианская держава сильно укрепила свое международное положение как в Европе, так и на Ближнем Востоке. Новая религия с ее разработанной и теософски утонченной догматикой и противоречивой литературой первоначально не могла быть понятной не только народу, но и образованным верхам славянского общества. Как можно было разобраться славянским неофитам в основе основ христианства — Библии, — если в ней механически (но богословски равноправно) сливались и Ветхий завет, сложившийся в пору становления рабовладельческого общества, и Евангелие, являвшееся открытой антитезой многих ветхозаветных принципов и порожденное эпохой тяжелейшего кризиса всего античного рабовладельческого мира? В Византии и на Ближнем Востоке за сотни лет до крещения Руси прошла длительная и бурная пора вселенских церковных соборов с их разномыслием участников, жесточайшими спорами, преследованием проклинаемых еретиков и невероятной путаницей во взглядах спорящих сторон. Эта эпоха становления канонического христианства оставила после себя разноречивые полемические сочинения и большое количество враждующих между собой сект-ересей и различных толков (ариане, павликиане, монофизиты, несториане и многие другие), являвшихся побежденным, но неистребленным меньшинством. На Русь пришло официальное христианство, сложившееся при Константине Великом (315–337 гг.) и преподнесенное русским в сильно упрощенном виде, как это явствует из «речи философа» (богослова) великому князю Владимиру. В Киеве новая вера, принятая из чисто политических соображений, но никак не из внутреннего перерождения народного сознания, была принята сравнительно спокойно, с пониманием тех преимуществ, которые сулило, как принято говорить, «вхождение в число цивилизованных христианских народов». Государственное язычество было здесь достаточно сильно: языческие «волхвы-волшебники» наравне с боярами заседали в княжеской думе, были грамотны, ездили, по всей вероятности, в Царьград на подписание договоров, писали великокняжеские летописи Старого Игоря, Ольги, Святослава, а около 980 г., за восемь лет до крещения, осуществили (может быть под руководством Добрыни?) языческую реформу, создав целый пантеон богов во главе с Перуном-Зевсом. Княжеский культ этого бога грозы и войны не удержался в народе. Чем дальше от Киева, тем сильнее было сопротивление и новому язычеству и быстро сменившему его христианству. Интересующий нас Новгород на протяжении целого столетия противостоял православию. Около 1071 г. влиятельный волхв объединил против внука Ярослава Мудрого весь город, и только решительность князя Глеба, поддержанного своей дружиной, удержала новгородцев от разрыва с христианством. Христианство в XI в. жалось к городам, почти не выходя за пределы городских стен и пригородных монастырей. Сельская периферия продолжала жить в своей тысячелетиями складывавшейся аграрно-магической языческой стихии. Достаточно взглянуть на религиозную жизнь восточнославянской деревни пошире, и мы увидим устойчивость прадедовского «пращурского» миропонимания и вытекавшей из него заклинательно-магической обрядности. Возьмем два хронологических среза, отдаленные от крещения Руси один на пять с половиной веков, а другой почти на целое тысячелетие: речь царя Ивана Грозного на Стоглавом соборе 1551 г. и трехтомный труд этнографа А.Н. Афанасьева «Поэтические воззрения славян на природу», вышедший в 1860-е годы. Царь с большим знанием дела излагал современное ему народное языческое мировоззрение и порицал духовенство за бездеятельность. Александр Николаевич Афанасьев собрал колоссальный, современный ему, материал о тех же самых языческих обрядах в русской, украинской и белорусской деревне через три столетия после Стоглава. Православное духовенство не так уж было и виновато в такой неискоренимости языческих традиций. Во-первых, в своей хозяйственной жизни славянские земледельцы и в XVI и в XIX в. по-прежнему, как и в первобытности, находились в полной зависимости от природы и ее непредсказуемых капризов. Во-вторых, христианство в своей религиозной доевангельской первооснове содержало ряд архаичных общечеловеческих представлений о силах, управляющих стихиями, и о способах молитвенного и магического обращения к ним. Достаточно сопоставить основные церковные русские праздники с солнечными фазами и с важнейшими точками хозяйственного года, чтобы убедиться в возможности совместимости старого славянского календаря с новым христианством. А это решало половину вопросов народной общественной обрядности:
Сохранности языческих обычаев в деревне содействовало то, что христианство как религия начало проникать в толщу земледельческого населения едва ли ранее XIII в. Сельское население должно было подчиняться порядкам общегосударственной религии (устранить многоженство, прекратить сожжение своих покойников, не иметь дела с волхвами и т. п.), но погребальные костры в земле Вятичей горели еще при летописце Несторе «и до сего дне», а к волхвам обращались и в XVII в. Взаимоотношения церкви и деревни долгое время ограничивались формальной стороной. К XIII в., когда некоторые епископы обогатились не только книгами, но и селами (разумеется, с людьми), взаимоотношения с церковью стали более тесными. Княжеские уставы обрисовывают широкую компетенцию церковного суда, которому, кроме вопросов религии, была подвластна такая беспредельная область, как семейное право. Несравненно более близкими и повседневными были взаимоотношения с церковью у горожан, у массы городского посада — купцов, ремесленников, обслуги торга, транспорта, корабельного дела. Здесь все было на виду; уклонение от обязательной обрядности (крещение, брак, погребение, праздничное богослужение, исповедь и причастие и т. п.) легко замечалось духовенством прихода и легко наказывалось. Но близость соприкосновения горожан с духовенством имела и другую сторону — если священник знал о провинностях того или иного посадского человека, то и весь городской посад знал, каковы у него пастыри, каково соотношение между предписанным и проповедуемым, с одной стороны, и наблюдаемым горожанами — с другой. Особые отношения складывались у церкви с княжеско-боярскими кругами, общественной элитой городов. Первичное недоверчиво-враждебное отношение к христианству как к византийской религии, естественное во время русско-византийских войн IX–X вв., исчезло после прекращения этих войн. Русь выросла настолько, что великий князь киевский Ярослав уравнялся своим титулом с цесарем «второго Рима» византийским императором и тоже стал именоваться «цесарем» или «царем», передав этот титул потомству. Первый цесарь Руси сделал попытку освободить русскую церковь от зависимости от вселенского патриарха Константинополя, предложив выбрать митрополита собору русских епископов; праправнук Ярослава через сто лет повторил эту попытку, но церковная зависимость от греков все же осталась. Церковь в XI–XII вв. укрепилась в русских городах и содействовала упрочению феодального строя. Церковь сама стала частью феодального класса со всеми внутренними градациями: от епископов, которых можно приравнять к удельным князьям, до священников и дьяконов, находившихся примерно на одном уровне с княжескими министериалами (мечниками, вирниками, милостниками). Игуменов монастырей вполне можно приравнять к боярам. Церковь имела свой епископальный суд, которому были полностью подведомственны все церковные люди и некоторые разряды околоцерковных людей. Юрисдикция церкви распространялась на все население русских земель в вопросах религии, языческих молений и, что особенно важно, в широкой области семейного права. Однако светская власть на Руси, как и в Византии, главенствовала над церковной, что, впрочем, не устраняло конфликтов и коллизий. После распада в середине XII в. огромного и мало сцементированного государства, которое мы называем кабинетным термином «Киевская Русь» (а сами русские того времени называли просто Русью или Русской землей), появилось десятка полтора суверенных княжеств, первый период жизни которых был очень прогрессивен. Церковная организация, формально все еще единая, фактически раздробилась по крупным самостоятельным княжествам. Почти каждое княжество стало епархией, почти в каждой новой столице был и князь и епископ. К 1130-м годам, когда «раздрася вся Русская земля», относятся княжеские грамоты с перечислением земельных владений, городков, сел, торговых пошлин, которые князь жаловал своему епископу. Но бывала иногда иная ситуация, когда князь судил излишне обогатившегося епископа своим, княжеским судом (Ярослав Всеволодич, отец Александра Невского в 1229 г.); возможно, что епископ Кирилл, как и многие из тогдашних бояр, проявил излишнее своеволие и слишком понадеялся на свою «заборонь» — иммунитет. Конфликты происходили не только на уровне «князь — епископ», но и на уровне «великий князь — митрополит». Русская средневековая аристократия после принятия христианства не отбросила от себя тот языческий, тысячелетиями слагавшийся обрядовый и полуобрядовый быт, который был в полном расцвете в момент перехода к новой вере. Главным моментом были общественные празднества и пиры в княжеском дворце. Обратим внимание на то, что весь былинный богатырский эпос ставит в зачин былины пир у стольного князя Владимира, где князь получает неожиданную весть о каком-либо событии и поручает возникшее дело тому или иному богатырю. Календарными сроками больших пиров («пированьице-почестен пир») были древние языческие праздники, которые, как мы видели, часто совпадали по срокам с новыми христианскими. Это содействовало сохранности прадедовских обычаев и в новых условиях православия, но камнем преткновения явилась ритуальная языческая еда: свинина, яйца, молочные изделия, скоромное масло. Как только обострялись взаимоотношения светской власти с церковниками, так они применяли старый испытанный прием: «чтобы властвовать, следует что-нибудь запрещать». Поводом для осуждения была музыка на пирах, а объект запрета легко был найден. Как известно, в православном обиходе два дня в неделе — среда и пятница — являлись постными, когда запрещалась скоромная (мясо-молочная) пища. Любой христианский праздник, кроме пасхального цикла, мог совпасть со средой или пятницей, и церковники-ригористы могли требовать «постного стола», без мясных (у прадедов ритуальных) кушаний. А устойчивость ритуальной еды оказалась настолько прочной, что вплоть до начала XX в. на рождественском столе в православных семьях обязательным блюдом был окорок ветчины. Можно понять гнев русских князей средневековья, когда митрополит-грек из показного благочестия настаивал на своем запрете! Так возник знаменитый конфликт 1160-х годов, известный под названием споров о мясоядении. В споры, которые велись как устно, так и литературно, были втянуты и великие князья и митрополит, и весь епископат (некоторые епископы лишились своих епархий), и даже константинопольские патриархи. В этой обстановке князья и аристократия русских городов противостояли церкви, то наступая на нее, то молчаливо пренебрегая запретами. Одновременно с этим усилилось внимательное рассмотрение быта самого духовенства и выявление различных непотребств в нем. Вот почему мы не должны удивляться почти полному пренебрежению автора «Слова о полку Игореве» к церковности, к внешней, обрядовой стороне уже не новой, двести лет существующей веры. Ведь на протяжении всей поэмы ни один из героев не перекрестился перед началом похода или боя, ни один не поблагодарил бога за победу (10 мая) или за удачное избавление от плена… А вот прадедовским языческим богам был предоставлен полный простор: Стрибог, Хорс, Велес повелевают стихиями, являются праотцами русских людей (Дажьбог). В конце XII в. рождается новое, утонченное язычество — культ Света (не Солнца), Белого Света, дня, противопоставленного мраку ночи, как добро противопоставлено злу. Но не нужно думать, что русское боярство отказалось от православия, крещения и другой обрядности. Здесь все оставалось по-старому, но к каноническим православным тезисам стихийно, неорганизованно, не отменяя ничего христианского, был добавлен культ Света, который потом всплывет в интересующем нас XIV в. в виде споров о «Фаворском свете», а на рубеже XII–XIII вв. вызовет специальный отклик церковных кругов в виде отдельного поучения «Слово о твари». Кратко ознакомившись с вертикальным разрезом русского общества XI–XII вв. (село, город, боярство), мы должны теперь коснуться его мобильной стороны: торговые экспедиции, войны, путешествия. Здесь важны как внутренние передвижения в пределах одного княжества и всей Русской земли, так и зарубежные связи с Балканами, Западной Европой, Кавказом и Ближним Востоком. Если ставится вопрос о заимствовании еретических учений со стороны, то нужно оценить и возможность такого заимствования. Во время тех или иных перемещений социальная стратиграфия нарушалась, слои смешивались. Если купец (или, вернее, купцы, «товарищи») снаряжал обоз («товар») или флотилию для далекого торга, то в такой экспедиции по «гостинцу» (магистральный путь «гостей») или по морю участвовали и люди обслуги вплоть до холопов и изгоев. Впрочем, из числа холопов и рядовичей выходили доверенные лица, которым хозяева — купцы, бояре — доверяли значительные капиталы, как следует из статей Пространной Русской Правды. Посланный с поручением мог «истерять» деньги, мог (если он недостаточно умен) вместо выполнения дела просидеть в ресторане (в «дому пировном» — Даниил Заточник, конец XII в.). Войны собирали под княжеские знамена тоже разные слои общества — от князей и бояр до смердов, составлявших основную массу кавалерии, и до «кощеев» (конюхов, коноводов и т. п.). Роль смердов в распространении по всей Руси сведений о жизни, быте и событиях в других землях у нас совершенно не учтена. Это произошло оттого, что историки понимали под смердами все крестьянское, сельское население без исключения. Источники уполномочивают нас на другое решение этого спорного вопроса: простые крестьяне-общинники, жившие в «весях», именовались «людьми», а «смердами» назывались землепашцы, жившие в княжеских «селах» или «погостах», находившихся под особым покровительством князя и обязанные нести военную службу в княжеской коннице; если смерды были заняты весенней пахотой, то задуманный князем поход мог быть и отменен[42]. Думаю, что именно эта специфика положения смердов позволяет связывать с ними русский богатырский эпос X–XII вв. — былины, относительно которых тоже давно ведутся споры о социальной среде их зарождения; считалось, что былины рождались при княжеских дворах и лишь к XVII–XIX вв. опустились до «простого олонецкого крестьянина». Представление о смердах как о воинах-пахарях X–XII вв. меняет дело. Богатырский эпос возникал в воинской среде и слушателями исполнения былин были и князья, и дружина, и многотысячная масса смердов. Погосты смердов простирались в XII в. вплоть до Северной Двины, и именно в таком диапазоне встречены былины о древних киевских богатырях фольклористами XIX в. Смерды в социальном смысле близки к украинским реестровым казакам XVI–XVII вв., сочетавшим свое крестьянское хозяйство с обязательной конной военной службой. Казачество оставило интереснейший фонд казацких дум. Смерды, близкие по жизненным обстоятельствам к княжеско-боярскому слою (по крайней мере, во время походов), могли принять христианство раньше, чем «люди» в деревенской глуши, вдали от христианизированных городов. Погосты смердов в этой самой глуши могли быть, как уже говорилось, первичными очагами христианства в деревне.
* * *
Ни торговые экспедиции, ни военные походы не имели, по всей вероятности, отношения к ересям, к восприятию воззрений богомилов, катаров и т. п. еретиков. Иное дело — добровольные путешествия русских людей, которые в условиях средневековья обычно облекались в форму паломничества к святым местам в Иерусалим или в Константинополь-Царьград. На Руси паломники-странники именовались «каликами перехожими». Состав каличества был столь же пестр, что и состав войска. Паломники были людьми разного общественного положения — от простых (но, очевидно, не очень бедных) людей до богатых игуменов и архиепископов. Для нас особенно важно, что в XIV в., в эпоху стригольничества, каличество прочно связано с Новгородом и Псковом: новгородский архиепископ Василий Калика (1329–1352 гг.), Стефан Новгородец (автор подробного путеводителя по Царьграду 1349 г.), пскович Карп Калика (1341 г.), анонимный автор «Беседы о святынях Царьграда» (около 1323 г.). В новгородском прикладном искусстве много каменных резных нагрудных образков с изображением Иерусалимского храма «Гроба господня», которые являлись своего рода опознавательными знаками паломников-пилигримов[43]. Хождения в Царьград и Иерусалим осуществлялись большими группами; церковная знать ездила со свитой спутников, иногда с вооруженной дружиной, люди попроще объединялись и выбирали себе атамана. Паломничество, связанное с познанием новых мест и обилием всевозможных путевых приключений, породило и особый вид литературы — «Хождения» — путеводители и новый жанр устного народного творчества — «духовные стихи», выросшие, по-видимому, из былинного богатырского эпоса. Один из первых авторов «хождения» — игумен Даниил, встречавшийся с королем-крестоносцем Болдуином, стал героем былины «Данило Игнатьевич», описывающей возвращение калики из путешествия в момент победы русских над Шаруканом в 1107 г.[44] С Новгородскими былинами XIV в. тоже связана тема паломничества. В былинах о Ваське Буслаеве усмирил молодого буяна «старчище пилигримище», в котором справедливо видят новгородского архиепископа Василия Калику. Духовный стих «Сорок калик со каликою» по именам персонажей должен бы быть отнесен к X–XI вв. (князь Владимир, Добрыня, Алеша Попович), но при ближайшем рассмотрении он, оказывается, отражает ситуацию XIV в. со знаменитыми ушкуйными походами новгородской вольницы, во время которых ушкуйники «убили много буйных головушек напрасно, ведь, а пролили крови да горючией…». Паломничество к святым местам было средством искупления грехов. Использование составителями духовных стихов старых былинных приемов объясняется тем, что именно в то время и именно в Новгородчине происходит циклизация старых былин X–XII вв. с единым всеобъемлющим центральным героем Владимиром «стольно Киевским» на все три столетия. Васенька Буслаев, как и герои сказа о сорока каликах, тоже стал каликою («Смолоду бито много, граблено, под старость надо душа спасти») и на корабле поплыл в Иерусалим-град прямо от Ильмень-озера и доплыл до Иерусалима, где и бросил якоря. Здесь новгородский богатырь замаливает грехи за себя и «про удалых добрых молодцев». Гибнет Василий на «горе Сорочинской» близ моря Каспийского. Это «Сары-тин» — Царицын на Волге, около которого под Астраханью был разбит большой отряд ушкуйников (2 000 чел.) в 1375 г.[45] Прямая, объявленная во всеуслышание цель паломничества, разумеется не простая туристическая любознательность, а осмотр библейских и евангельских мест и стремление получить от главных общехристианских святынь или исцеление от недугов, или отпущение грехов. Безымянный паломник, побывавший в Царьграде в 1321–1329 гг., описывая свой долгий путь по многочисленным святыням города, отмечает много случаев чудесного исцеления, но только четыре раза он отмечает отпущение грехов: в Софийском соборе у доски от Ноева ковчега в день всеобщей исповеди и причастия«… в великый четверток… бывает сход велик крестьян [христиан] со всех сторон; … Велико исцеление бывает больным. И приходящим бывает прощение грехов и от бед избавление»[46].Такова же общедоступность и других святынь, дающих отпущение грехов.
В Манганском монастыре, «аще кто приидет убогыи человек на поклонение страстем господним… и целует в распятие и в ларец [со „страстями“] — и велико прощение бывает».Дает отпущение грехов и икона св. Спаса в Перивлептском монастыре; передается древняя легенда:
«Рече святый Спас Маврикию царю: „Согрешил еси — покайся!“ — Император покаялся иконе»[47].

Рис. 6. Каменные иконки новгородских «калик перехожих» с изображением гроба господня в Иерусалиме. XIV в. На одной из иконок (правый рисунок) есть надпись, говорящая о таинстве причащения у иерусалимских святынь.
Во всех упоминаниях покаяния и прощения и речи нет об исповеди, о покаянии какому-либо духовному лицу; грехи прощает сама святыня как посредница между Спасом и кающимся. Путешественник отметил массовость и доступность подобной формы отпущения грехов: «сход велик» христиан, «аще кто придет…» в обязательный срок исповеди, в четверг страстной недели. Вдали от своих приходских контролеров, в толпе сошедшихся со всех концов христианского мира разноязыких пилигримов автор этого хождения 1320-х гг. наблюдал в действии ту тайную (вероятно, безмолвную) исповедь, которая стала основным пунктом учения новгородско-псковских стригольников. Согласно исследованию С. Смирнова об исповеди стригольников земле, на русскую ересь повлияло то, что христиане Ближнего Востока (где было много и ортодоксов и различных сект) приносили покаяние (перед причастием) не духовнику, а той или иной святыне[48]. Усиленное внимание нашего безымянного автора «Хождения» 1321–1323 гг. к исповеди святыням полностью подтверждает правильность построения С. Смирнова. В упомянутых выше «хождениях» и былинных сказах есть деталь, связанная с таинством причащения, к которому кающиеся допускаются после исповеди. Это какая-то чаша или чара («копкарь», «пахирь» — потир, «чарочка»), связанная с русскими каликами перехожими. В отрывке новоторжской летописи под 1329 г. говорится о том, что 40 калик новгородских по возвращении из Иерусалима передали Спасскому собору в Торжке чашу. В 1329 г. Иван Калита, находясь в Торжке, выкупил «копкарь» у соборных «притворяй» — нищих[49]. А в 1349 г. паломник Стефан Новгородец записал в Константинополе рассказ о том, что когда-то в Софийском соборе был случайно обнаружен сосуд «пахирь» (потир), который русские калики признали своим, и, несмотря на возражения греков, доказали это. Сквозь путаницу летописных, фольклорных и легендарных сведений выясняется лишь одно: какой-то ценный сосуд (потир для причастия) был привезен русскими паломниками из Константинополя и достался, в конце концов, Ивану Калите, возможно в 1329 г., когда в Новгороде был и сам Иван Данилович и митрополит Феогност. Торжок в летописи не упомянут, но он лежал на пути из Москвы в Новгород. Большой интерес для нашей темы представляют «духовные стихи», которые смыкаются, как мы видели, с былинами, но по-настоящему развиваются уже в другую, послемонгольскую эпоху XIV–XVI вв., когда былины исполнялись, но не создавались вновь. Былины как героический эпос возникали на киевском юге, а духовные стихи на обширном новгородском Севере. Создателями духовных стихов могли быть представители низшего духовенства, знакомые с церковной литературой. Но во многих духовных стихах проглядывает то, что волновало стригольников, — интерес к процедуре покаяния-исповеди. Таков давно обративший на себя внимание исследователей духовный стих «Плач Земли»:
* * *
Церковная мысль молодого, новообращенного в христианство государства начала свой самостоятельный путь ярким и интересным «Словом о законе и благодати» Илариона, написанным, по всей вероятности, в 1030-е годы. Это великолепное по форме произведение создано в те годы, когда усиленно переводился (и переписывался с болгарских оригиналов) весь основной фонд христианской богослужебной и богословской литературы. К этому времени христианство пережило несколько этапов своей эволюции; противопоставляя новое учение социальных низов Ветхому завету с его культом царей и пророков, вызывая злобу и ожесточение знати, жрецов и фарисеев, миролюбивое христианство евреев, тем не менее, молчаливо признавало древнюю Библию, полностью сохранив верховного библейского бога и ряд пророков. Христианство осложнило монотеистическое представление о едином боге введением понятия «троицы», что вызвало долгие, многовековые недоумения и споры богословов, неоднозначно понимавших эти, не слишком удачно придуманное, триединство древнего творца Вселенной, его сына, родившегося от простой девушки через 5508 лет после сотворения мира, и «святого духа», эманации божественной силы, исходящей, по мнению одних, только от бога-демиурга, а по мнению других, и от отца и от его сына; самостоятельности у святого духа нет и не должно быть. Евангельские тексты плохо помогают решению вопроса о неразделимости отца и сына, Ягве (Иеговы) и Иисуса Христа. Приведу несколько примеров:Евангелие от Марка …О дне же том [о дне «страшного суда»] или часе никто не знает — ни ангелы небесные, ни Сын, но только Отец.Равноправие, единосущность двух основных членов троицы здесь нарушены.(13–32)
Евангелие от Иоанна Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца творящего: ибо что творит он [отец], то и сын творит также(5-19)
Ибо Отец любит Сына и показывает ему все, что творит сам и покажет ему дела больше сих так, что вы удивитесьВ этих трех параграфах канонического текста сын показан отнюдь не в качестве «единосущного» отцу, а, скорее, как созерцатель дел отца, входящий в эти дела лишь после того, как «увидит отца творящего». О некоторых замыслах отца (например, срок страшного суда) «единосущный» остается в полном неведении. Неудивительно, что на протяжении более сотни лет на четырех вселенских соборах христиан шли споры именно по поводу божественной или человеческой природы Иисуса Христа и по поводу взаимоотношений отца и сына (1-й собор Никейский 325 г.; 2-й Константинопольский 381 г.; 3-й Эфесский 431 г.; 4-й Халкидонский 451 г.). После каждого собора от ортодоксальной церкви откалывались «еретики», образовывавшие самостоятельные локальные христианские секты. Сомнения и разномыслие, несмотря на решения соборов, продолжали существовать, как увидим далее, и во времена стригольников. Очень важным рубежом в истории христианства было его превращение из гонимого вероучения, не сходного со многими религиями античного мира, в государственную религию Рима и Византии при Константине (315–337 гг.) и Феодосии Великом (379–395 гг.). Ветхий завет из уступки первохристиан-нестяжателей силе традиций стал теперь подспорьем и необходимостью для рабовладельческих и феодальных государств. Вопрос о признании и непризнании Ветхого завета, которому раннее христианство противопоставляло свое евангельское, несравненно более гуманное, вероучение оставался спорным на протяжении более тысячи лет. Уже в середине II в. появился еретик Маркиан, отвергавший Ветхий завет. Признавая бога-демиурга, всемогущего творца всей Вселенной, всех бесконечных галактик, всего многообразия земной природы, трудно было понять его необъяснимое бессилие при неповиновении Сатаны, при описании коварных действий Змия в самом раю и неповиновении прямым запретам бога со стороны Адама и Евы. Бессилие Всемогущего проявляется и при рассказах о греховности людей. Бог был вынужден утопить в океане все человечество, кроме одной праведной семьи Ноя (но и в ней был свой Хам!). Разве нельзя было богу просто отвести людей от греха, надоумить их? Библейский бог жесток, беспощаден; Ветхий завет предписывает кровавую расправу даже с нарушителями субботней ритуальной праздности. Соединение Ветхого завета с Новым увеличило количество нелогичностей. Появился сын бога-творца, который своей мученической смертью должен был искупить грехи человечества. Сын принес новое, доброе слово, обличил зло и был казнен носителями зла. Но предначертания бога-отца опять, остались невыполненными — люди продолжали грешить, враждуя друг с другом, зверски расправляясь с проповедниками мира и правды. Значит, жертва оказалась бесполезной? Но, оказывается, Всеведающий (уже по Новому завету) предвидел эту бесплодность и наметил предстоящий в далеком будущем новый, второй после всемирного потопа страшный суд над человечеством, более послушным Сатане, чем богу… Каноническая христианская литература обросла огромным количеством разноречивых толкований, а вокруг Ветхого и Нового завета возникло множество побочных еретических учений. На преодоление их и были направлены усилия трех вселенских соборов (второго, третьего и четвертого). Превращение христианства в государственную религию, ставшее возможным только благодаря соединению нового учения Иисуса Христа с Ветхим заветом иудейского жречества, укрепило его позиции, но не устранило разномыслия и сомнений. Еретические движения возникали в самых различных формах на протяжении всего средневековья. Незадолго до появления христианства на Руси и в Болгарии (сыгравшей важную роль в крещении русских) Византийская империя пережила тяжелый период (730–843 гг.) «иконоборчества», когда было уничтожено много произведений церковного искусства. Императоры, стремясь в то время ограничить рост монастырского землевладения, содействовали этому антицерковному движению. Иконоборчество в какой-то мере опиралось на ересь «павликиан», предшественников знаменитых «богомилов». Разгром религиозного искусства, издевательство и уничтожение христианских реликвий, пользовавшихся почитанием на протяжении четырех столетий, не могли не повлиять на отношение к христианству. Дуалистические ереси, ставившие Сатану почти наравне с богом, усилились. Библейский пророк Моисей, принявший непосредственно от бога закон на скрижалях, был объявлен болгарскими богомилами главным помощником Сатаны. Основное учение иудаизма — Моисеев закон — богомилы называли «грязной верблюжьей шерстью» («нечист, като камилата») и возмущались его первобытной мстительностью «око за око…»[54]. Состриженная, но необработанная шерсть верблюда, очевидно, противопоставлялась как полуфабрикат готовым теплым тканям, для получения которых нужна была большая доработка грязного сырья. Византийско-болгарская церковь прошла к моменту христианизации Руси большой и извилистый путь. Православная литература оказалась противоречивой по своему составу; некоторые каноны (как, например, учение о троице, невключение богородицы в символ веры) были неудачны и вызывали недоумения, открывая широкий простор для выбора иных путей. Вот в таком виде, как слияние воедино Ветхого и Нового завета, как официальная религия феодального государства, возглавленная цесарем и в то же время окруженная постоянно возникающими ересями, православная церковь и наслоилась на Руси на недозрелое, но уже существующее русское государственное язычество.(5-20)
* * *
Первые русские церковные писатели, постоянно общавшиеся с греческим и болгарским духовенством, по долгу службы должны были знать не только официальную сторону тогдашнего православия (ее они старательно постигали, переводя с греческого и переписывая болгарские тексты), но и всю красочную и сочную фольклорность павликианско-богомильского мифотворчества и апокрифики. При Владимире Святом (980-1015 гг.) русские неофиты христианства жили по тому «учебнику» закона божия, который помещен в летописи и обозначается обычно как «Речь философа»[55]. Но уже на рубеже первой и второй трети XI в., в самом начале «самовластия» (после усобиц) Ярослава Мудрого, дискуссия по поводу преимуществ Ветхого и Нового завета продолжается и на русской почве. Участники дискуссии: новгородский епископ Лука Жидята[56], с одной стороны, и его знаменитый современник — Иларион, с 1051 г. митрополит Руси, — с другой. Обычно эти два автора первых учительных русских произведений рассматриваются порознь друг от друга, но мне кажется, что их необходимо рассматривать во взаимосвязи. Обратим внимание на датировку. Точной даты нет ни для того, ни для другого писателя, но основания для догадок есть. Лука был поставлен в епископы Ярославом Мудрым в 1036 г. Поучение Луки Жидяты адресовано «братии», но это не узкий круг монастырской братии. В «Поучении» речь идет не о монашеских кельях, а о «клетях» — домах простых людей; те, к кому обращается автор, должны «чтить слуг церковных», что указывает на непринадлежность адресатов поучения к духовенству. В числе этих адресатов есть судьи, есть люди, любящие шутовство, маскарады («москолудство»), что несовместимо с монашеским бытом. Круг вопросов «Поучения» так же широк, как и круг людей, к которым оно обращено. Возможно, что это своего рода «тронная речь» новопоставленного епископа Новгорода своей полуязыческой пастве. В таком случае «Поучение» должно быть датировано 1036 г. — годом поставления епископа, годом вокняжения в Новгороде старшего сына великого князя — Владимира Ярославича. Особенностью поучения Луки Жидяты была постоянная опора на Ветхий завет Моисея. Это обстоятельство позволило исследователям говорить о том, что христианский монотеизм воспринимался русскими неофитами «первоначально не в евангельском, а в библейском варианте». Отсюда делался широкий (может быть, даже излишне широкий) вывод о том, что Моисей в глазах славянского язычника «стоял выше, чем Иисус Христос»[57]. Специально вопрос о соотношении библейской и евангельской концепции был очень тонко и умно поставлен Иларионом в его «Слове о законе и благодати». Вполне вероятно, что это замечательное произведение написано в связи с целым рядом событий 1036–1037 гг. политического и церковного характера, сплетающихся в единый комплекс, образующий благоприятный перелом в судьбе великого князя Ярослава Мудрого. В 1036 г. скончался последний действенный соперник Ярослава — его брат Мстислав Черниговский и Тмутараканский. Днепр, разделявший с 1024 г. Русь на два владения братьев, перестал быть границей, и Ярослав стал «самовластием» всей Русской земли. Резиденцией русских митрополитов ранее был Переяславль Русский, находившийся на левом, черниговском берегу. В 1037 г., вскоре после смерти Мстислава, центр русской митрополии переводится в стольный Киев. Тогда же в столице был заложен (в подражание Царьграду) собор Софии, «премудрости божией»[58]. Софийский собор символично поставлен на месте последней битвы с печенегами, происходившей у самых стен древнего Владимирова города. Двухвековая борьба с этими кочевниками завершилась битвой 1036 г. В этот комплекс событий 1036–1037 гг. входит еще одно важное обстоятельство: по гипотезе М.Д. Приселкова, около 1037 г. Ярослав Мудрый получил согласие императора Византии на право титуловаться не только великим князем (в тюркской хазарской форме «каганом»), но и «цесарем» наравне с цесарем Византии[59]. Гипотеза М.Д. Приселкова не встретила сочувствия у ученых, и, к сожалению, была забыта, но в 1950-х годах в Софийском соборе была обнаружена надпись-граффито о смерти Ярослава Мудрого 20 февраля 1054 г. Здесь он назван цесарем или царем (надпись под титлом: црѧ)[60]. Принятие высокого титула императора выдвигало киевского князя в самый первый ряд европейских монархов; королей, князей и герцогов было в Европе несколько десятков, а цесарей-императоров только трое: император Священной Римской империи (в 1037 г. Конрад II), император Византии (Константин Мономах) и цесарь Руси — Ярослав Владимирович Мудрый. Более чем вероятно, что такой сгусток благоприятных обстоятельств потребовал какого-то торжественного литературного оформления, порученного священнику княжеского храма в загородном дворце под Киевом — Илариону, написавшему слово: «О законе Моисеем даннем и благодати и истине Иисус Христом бывшим и како закон отъиде, благодать же и истина всю землю исполни…»[61] В отличие от своего современника Луки Жидяты Иларион не только не опирается на Ветхий закон, но прямо противопоставляет его евангельскому учению («благодати»). Предполагаемая синхронность двух произведений придает им облик полускрытой полемики: если Лука писал свое поучение в 1036 г., а Иларион — в 1037 г., то мы можем понять «О законе и благодати» как развернутый показ недостатков «закона» (который «отъиде») и преимущества «благодати» (которая «всю землю исполни») именно с полемической целью. Закон Моисея касался только иудеев, а благодать Христа — всех народов земли. Закон не обещал будущей жизни в загробном мире, а для христианства вера в потусторонний мир была одним из самых основных догматов. «Закон — тень, благодать — истина». «Мерцанию свечи закона» Иларион противопоставляет «сияние солнца благодати». Попутно Иларион прославляет Владимира и его сына Ярослава (Георгия) и их предков, не упоминая норманнов Рюрика и Олега. Владимира он постоянно величает «каганом», подчеркивая его высокий титул, а тем самым как бы подкрепляя законность царственного титула его сына. Обостренное отношение Илариона к иудаизму, возможно, объясняется тем, что после отхода печенегов на юго-запад Русь оказалась лицом к лицу с хазарами Приазовья и Северного Кавказа. Хазары, очевидно, оправились после разгрома, учиненного Святославом, и вновь представляли опасную силу. Переход тмутараканских владений Мстислава к Ярославу Мудрому обострил русско-хазарские отношения: по византийско-хазарским проискам здесь были убиты двое внуков Ярослава, а третий (Олег Гориславич) был пленен хазарами… Поскольку хазары исповедовали иудаизм, то антииудейскую (в религиозном смысле) направленность «Закона и благодати» следует рассматривать в свете русско-хазарских отношений 1030-1080-х гг. А.Ф. Замалеев и В.А. Зоц полагают, что богословская сущность этого произведения близка арианству: «Не отвергая в принципе сверхъестественного происхождения сына божия, Иларион вслед за Арием акцентирует внимание исключительно на его плотской природе и мирских деяниях…»[62] Текст Илариона не уполномочивает на такой интересный, но весьма сомнительный вывод. Древнерусский мыслитель привел 17 примеров единства человеческой и божественной сущности, а обилие «мирских деяний» объясняется тем, что все четыре евангелия содержат именно описание дел, слов и испытанных в миру тягостей. Учение о троице изложено очень кратко и формально, но арианского духа в этом изложении нет. Единственно, что отличает произведение Илариона от канонической литературы, — это чрезмерное отдаление от принятой христианами библии в целом, сильное принижение иудаизма и его носителей, но, повторяю, это могло быть отражением не религиозных споров, а реальной политической ситуации. Критикуя «закон», Иларион ссылается все же и на книгу Бытия, и на книгу Царств, и неоднократно на Псалтирь. К спорным религиозным вопросам начала XII в. прикасался и Владимир Мономах. В своем знаменитом «Поучении детям» он несколько раз говорит о покаянии в грехах, но при этом всегда речь идет о покаянии непосредственно богу: «Уповай на бога, яко исповемся ему». Каяться в своих грехах нужно как в своем дому (особенно на ночь), так и в дневных делах — «аще и на кони ездяче»; каяться можно и находясь в церкви («и в церкви то дейте…»). У Мономаха нет и следа пренебрежения к духовенству («Епископы и попы и игумены… [пропуск в рукописи]… с любовью взимайте от них благословленье и не устраняйтеся от них…»), но при всем внимании к проблеме покаяния великий князь ни разу не сказал об исповеди посреднику-духовнику; покаяние в храме следует понимать как безмолвную исповедь в святом месте[63]. А.Ф. Замалеев упрекнул Мономаха в том, что у него якобы «непонятно отношение Христа к богу»[64], но упрек в арианстве напрасен. «Господь бо нашь, — пишет князь, — не человек есть, но бог всей Вселене; иже хощеть — в мьгновеньи ока вся створити хощеть»[65]. Важно отметить, что здесь речь идет не о боге-отце, а об Иисусе Христе, который претерпел и хуление, и смерть. Русская церковь в середине XII в., в самом начале процесса кристаллизации суверенных княжеств-королевств, уже прочно вошла в общественный быт Руси. Ее материальное положение определялось землевладением, княжеской десятиной, судебными пошлинами и, разумеется, оплатой населением всевозможных треб (крещение, брак, похороны и т. п.). Как уже говорилось, именно в эту эпоху русская аристократия начала активно протестовать против ригористического вмешательства церкви в частную и общественную жизнь боярско-княжеских кругов и возрождать язычество в более утонченной и возвышенной форме. Церковь должна была соответственно поднимать свою богословскую деятельность на новый, более высокий уровень. Показателем нового отношения церкви к восприятию мыслящими людьми христианских догматов и канонической литературы было стремление представить эту православную книжность как сумму символов, требующих мудрой расшифровки и позволяющей «потонку пытати» ее. Во второй половине XII в. в Киеве появляются стеатитовые образки с рельефным изображением такого евангельского сюжета, как «уверение Фомы». Апостол Фома, как известно, не поверил воскресению Христа:Если не увижу на руках его ран от гвоздей и не вложу перста моего в раны и не вложу руки моей в ребра его — не поверю!Иисус предоставил Фоме обзор своего тела и убедил его. Образки с изображением уверения Фомы делались очень хорошими мастерами и покрывались позолотой, они были рассчитаны на те боярские круги, в которых к тому времени накопилось много сомнений и недоумений. Этой же цели служила и живопись. Фрески Спасо-Мирожского монастыря во Пскове середины XII в. как бы продолжают повествование об уверении Фомы, иллюстрируя следующую, 21-ю главу евангелия от Иоанна: Фома и шестеро других учеников Христа находились на берегу Тивериадского озера; они узнали появившегося здесь Иисуса лишь после того, как тот сотворил чудо: только что потерпевшие полную неудачу апостолы-рыбаки вдруг получили небывалый улов. Тогда они признали воскресшего. Интересно внимание русского духовенства (заказчиков произведений искусства) к сюжетам, связанным с сомнениями и последующим уверением. С 1147 по 1154 г. митрополитом Руси снова, как и сто лет тому назад, стал не грек, а коренной русский человек Климент Смолятич, монах Зарубского монастыря под Переяславлем. Им было написано 16 «словес», о которых говорилось «яже чюдна и хвалы достойна», но, однако, они не были «преданы церковьному прочитанию за величество разума и глубину сокровенных ради и дивных словес»[66]. Исследователь творчества митрополита Климента Н.К. Никольский с достаточным основанием полагал, что в Киеве при дворе Изяслава Мстиславича («царя», так его называет летопись) возник кружок книжников, знающих греческий язык и занимавшихся научно-литературными и философскими вопросами[67]. Из 16 слов Климента Смолятича, не допущенных (очевидно, сместившим его митрополитом-греком) к чтению в храмах, ни одно не дошло до нас. Уцелело лишь одно его письмо, адресованное священнику Фоме, упрекавшему Климента в увлечении философией вообще и такими античными языческими авторами, как Гомер, Аристотель и Платон в частности[68]. О Клименте как писателе говорит и Киевская летопись:(Еванг. от Иоанна, 20–25)
«Бысть книжник и философ так, яко же в Руской земли не бяшеть. Бе зело книжен и учителен и философ велий и много писания написав, предаде»[69].Климент в своем ответе не отрицает интереса к античной философии, но указывает Фоме, что тот слишком примитивно воспринял понятие философии и напрасно упрекает Климента в тщеславии. Настоящие любители славы, пишет Клим, — это те, «иже прилагают дом к дому, села к селам, изгои же и сябры и бърти и пожни ляда же [поросшие пашни] и старины [старопахотные земли]». Сам Клим от такого стяжания свободен. Учтем, что о духовенстве так пишет глава духовенства. Для нашей темы важнее другое возражение Фоме, упрекавшему Климента в стремлении «пытати потонку божественных писаний», т. е. доискиваться сокровенного символического смысла в библейских и евангельских притчах и рассказах. В притчах Соломона 9-я глава начинается словами: «Премудрость созда себе храм…» Климент расшифровывает это так: «Премудрость есть божество, а храм — человечьство». С этой темой мы еще встретимся у стригольников XIV в. Приводя примеры евангельских невероятностей вроде притчи о насыщении 5000 человек пятью хлебами (Матф. 4-21), Климент настаивал не на буквальном понимании, а на символической расшифровке подобных иносказаний. Перечислив целый ряд подобных притч, Климент дал пример аллегорического понимания, выбрав для этой цели встречу Иисуса Христа с самарянкой у древнего колодца, сооруженного еще праотцем Иаковом. Беседа у колодца была посвящена теме веры в бога — «живой воды», текущей в жизнь вечную; женщина возжелала этой воды, а Иисус решил испытать ее (Еван. от Иоанна 4-16-19).
16. Иисус говорит ей: пойди, позови мужа твоего и приди сюда. 17. Женщина сказала в ответ: у меня нет мужа. Иисус говорит ей: правду ты сказала, что у тебя нет мужа. 18. Ибо у тебя было пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе; это справедливо ты сказала. 19. Женщина говорит Ему: Господи! Вижу, что Ты пророк…[70]Климент Смолятич как бы недоумевает при напоминании этого эпизода:
Что ми самарянынею, яко аще свята есть или пятью мужи ея или шестом? Или кладезем Иаковлим и скоты их [самарянка упоминала, что из колодца брали воду и для семьи Иакова и для их скотины]?Писатель, иронизируя, воспроизводит здесь отношение читателя-буквалиста, одинаково равнодушного как к многочисленным мужьям самарянки, так и к скотам праотца. Но далее он, щеголяя начитанностью, дает образец символической расшифровки, взятый им из сочинений гераклейского епископа Аввы:
Того ли хощеши уведати: самаряныни есть душа, а пять муж ея — пять чувьств, а шесть мужь ея — ум… И диктатор ум сказается…[71]Можно не соглашаться со слишком натянутым толкованием гераклейского епископа, но направленность поиска сокровенного смысла евангельских притч характерна для XII в. Климент пытается показать, что познание божества происходит путем анализа внешнего мира зрением, слухом, осязанием, обонянием и вкусом, а синтез восприятия чувственного мира, приближающий к познанию бога, производит ум человека («диктатор»). На место буквального понимания текста ставится расшифровка таящихся в нем символов, а на место слепой веры в бога — рационально познанная Вселенная, как доказательство мудрости и могущества бога. Это — огромный шаг вперед. Недаром современники отмечали не только книжность митрополита Климента, но и «величество разума и глубину сокровенных словес» Климента Смолятича. Эту же самую мысль, что величие бога подтверждается и познается обзором всего сотворенного им, в более поэтической и торжественной форме преподнес в своей кантате выдубицкий игумен Моисей великому князю Киевскому Рюрику Ростиславичу в 1198 г. Следуя Мефодию Патарскому, Моисей считал, что душа благомудрого человека — это микрокосм, «малое небо», «поведающи славу божию правостью веры и словесы истеньными и делы добрыми». Понимание макрокосма «добре смотрящим творца» в особенности убеждает в величии бога. Даю отрывок в своем переводе:
* * *
Накануне нашествия Батыя, в первые десятилетия XIII в. русская церковь продолжала расширяться и укрепляться. В княжеско-боярском обиходе исчезли языческие элементы, в городах строилось много каменных храмов, о которых писали летописи, называя имена архитекторов и живописцев. Рождается новый архитектурный стиль, который можно было бы назвать русской готикой: храмы вытягиваются вверх, сводчатые покрытия дробятся на несколько ярусов; город вырастает вверх, и церкви, обгоняя жилища, возвышаются над ними. Этот стиль завершается в XVI в. Вознесением в Коломенском, но в свое время из-за татарского ига он полнокровного развития не получил. Христианство начало проникать в деревню, но данных об этом мало, так как летописцы не заглядывали в села, а тем более в веси. Монастыри вышли за пределы городских стен и пригородов и начали свою знаменитую колонизационную деятельность, которая потом особенно развернулась в эпоху Сергия Радонежского. Монастыри-феодалы были особенно экономически прочной частью церковного организма: они не делили свои земли по наследству, как князья и бояре; они занимались торгом и ростовщичеством; они получали большие денежные и земельные вклады «на помин души» от всех слоев населения. Рост числа монастырей и их богатств вызывал естественное недовольство многих. Дело не дошло еще до той остроты, какую мы наблюдаем при нестяжателях и осифлянах в XV–XVI вв., но «ангельское житие» монахов вызывало осуждение еще в начале XIII в. Псевдо-Даниил Заточник, писавший свое «Моление» около 1229 г. (как расширенное подражание «Слову» Даниила Заточника 1197 г.), так оценивал современное ему монашество:Мнози бо отшедше мира сего во иноческая и паки возвращаются на мирское житие, аки пес на своя блевотины… обидят села и домы славных мира сего, яко пси ласкосердии… Ангельский имея на себе образ, а блядный нрав; святительский имея на себе сан, а обычаем похабен[72].Это резкое и смелое высказывание было адресовано отцу Александра Невского, князю Ярославу. Важная для историков фраза, обвиняющая монастыри в том, что они «обидят села и домы славных мира сего», прямо свидетельствует о зарождении боярско-монастырских конфликтов за три столетия до нестяжателя старца Вассиана (князя В.И. Патрикеева). Смелость Псевдо-Даниила, холопа по происхождению, объясняется тем, что именно в том самом 1229 г. князь Ярослав Всеволодич устроил в Суздале небывалый суд над бывшим епископом ростовским Кириллом:
Бяшеть бо Кирил богат зело кунами и селы и всем товаром и книгами. И просто рещи — так бе богат всем, как ни един епископ быв в Суждальской области… Месяца сентября в 7 [число] все богатьство отъяся от него некакою тяжею. Судившю Ярославу, тако ту сущю ему на сонме [съезде или соборе][73].
* * *
Материалы первой трети XIII в. свидетельствуют о переменах в расстановке общественных сил в Руси: если в XI в. государственная власть безоговорочно поддерживала церковь, то теперь все чаще возникают конфликтные ситуации, при которых княжеская власть начинает ограничивать права и претензии князей церкви, а в связи с этим поддерживать церковников-идеалистов, отгораживавшихся от излишне «череву работного» духовенства. Русская действительность сохранила нам сведения об Авраамии Смоленском, который в первую половину своей деятельности возбудил лютую ненависть всего смоленского духовенства, был судим владычным судом, лишен права богослужения, а во вторую половину (примерно после 1220 г.) стал игуменом и архимандритом Ризоположенского монастыря под Смоленском, а на соборе 1549 г. был канонизирован как святой. Эта схема напоминает судьбу Франциска Ассизского, первоначально противопоставлявшего братство нищенствующих монахов официальной, отягощенной мирской суетой церкви, а в дальнейшем ставшего главой одного из основных монашеских орденов католической церкви — францисканцев. Авраамий Смоленский имеет прямое отношение к теме стригольничества, так как в самый разгар стригольнического движения в 1355 г. в Новгороде было переписано житие Авраамия. Молитва самого Авраамия дает нам тот основной тезис стригольников, который составляет главное содержание знаменитого Людогощинского креста 1359 г.:…Помилуй владыко-царю град си Смоленеск и святую обитель сию и князи и вся православныя христиане, нарицающе имя твое на всяком месте владычествиа твоего…Крест 1359 г.
Господи, помилуй вся христьяны на всяком месте молящяся тобе верою чистымь сердцемь…[74]Эта евангельская истина средневековыми еретиками понималась расширительно: «Мы можем молиться тебе, боже, на всяком месте, а не только в церкви». Подробнее эта тема будет рассмотрена в особом разделе. Авраамий (в миру Афанасий Семенович) был выходцем из среды богатых горожан Смоленска; у него была возможность нанимать писцов и богато украшать те храмы, где он священствовал. Он был достаточно образован и обладал умом, помогавшим ему «разумети неудобь-разумительная в святом писании таинства». Одно из поздних житий его говорит о нем: «Аки бы вивлиофика [библиотека] ум его — многия в себе содержаша книги!»[75] Авраамий был не только ярким проповедником, но и писателем и художником, написавшим две иконы на эсхатологические темы. Е.Е. Голубинский, один из наиболее объективных церковных историков, несправедливо отнесся к житию Авраамия, полагая, что в нем нет изображения его деятельности и что жизнь Авраамия «не богата внешними событиями»[76]. Житие Авраамия написано его современником и учеником Ефремом, тоже образованным, начитанным человеком, пережившим своего учителя. Биография Авраамия сложна и драматична. Чувствуется, что биограф о многом умалчивает, многое сглаживает и стремится показать своего учителя благонамеренным православным проповедником на всех этапах его деятельности. Но сумма приводимых Ефремом фактов говорит об очень бурных событиях и бурной деятельности. В начале XIII в. Афанасий Семенович постригся в Селищенском монастыре под Смоленском. Начитанность и дар слова позволили Авраамию вскоре получить сан дьякона, а затем и священника. Источник конца XVI в. датирует получение священства 1198 г.[77] Авраамий быстро завоевал авторитет у жителей Смоленска, приходивших слушать его в монастырь. Однако вскоре его проповедническая деятельность вызвала враждебное отношение к нему как братии монастыря, так и самого игумена. Авраамий говорил о себе: «Бых 5 лет искушениа терьпя, поносим, бесчествуем, яко злодеи»[78]. Началось со споров и возражений со стороны горожан, монахов и священников. Авраамий побеждал в спорах: «яко ничтоже (противники) сведуща противу нас» (Авраамия и «аврамистов»).
И пакы не преставааху крамолы нань [на Авраамия] вьздвизающе в граде и везде, глаголюще: «Се уже весь град к собе обратил еси».К сожалению, содержание проповеди и предмет споров автор жития не раскрывает. Но участники диспутов намерились «оттоле прогнати [проповедника]; якоже и бысть».
Якоже и самому игумену не стерпети, многыя к нему притекаюшаа [жалобщики] И не хотя того, его отлучи и глаголаше: «Аз за тя отвещаю у бога. Ты же престани уча!» И оттоле вниде [Авраамий] в град[79].Проповедник, известный на весь столичный город, был лишен права литургии, вынужден был перейти в другой монастырь (Крестовоздвиженский) внутри городской крепости. Но проповеди не прекратились:
И мнози начаша от града приходити и послушати церковного пения и почитания божественных книг — бе бо блаженый хитр почитати… [и] протолковати, яже мнозем несведущим и от него сказаная всем разумети… … Николи же умолънуша уста его к всем: к малым же и к великым, рабом же и свободным и рукоделным[80].В самом Смоленске проповеди Авраамия тоже встретили двойственное отношение: одни его «пророком нарицающе», а другие жаловались епископу, что Авраамий еретик и «глубинные (в другой редакции „отверженные“) книгы почитаеть». Глубинные книги — различные апокрифы, иногда далеко удалявшиеся от канонической литературы[81]. Еще раз приходится пожалеть, что Ефрем не осветил характер обвинений и направленность выступлений самого Авраамия, так как, судя по составу его врагов, по накаленности обстановки и по намерениям враждующих с ним сил, дело шло о крайне тяжких преступлениях Авраамия. Ефрем как очевидец рисует картину попыток расправы с Авраамием:
Събраша же вси от мала и до велика, весь град нань [на него]. Инии глаголють: «Заточити!» а инии — «К стене ту пригвоздити и зажещи!» а друзии — «Потопити!» И проведше въсквозе град.Вполне возможно, что такое неистовство всего города было вызвано страшной засухой, упоминаемой в житии и хронологически определяемой археологами по годичным кольцам древних бревен. По исследованиям Б.А. Колчина, общеевропейская засуха была в 1217–1222 гг.[82] Выше мы уже видели два примера (в 1228 и 1375 гг.), когда длительные стихийные бедствия приводили к поиску «виновных». Таковых искали среди духовенства, считая, что кто-то неправильно молится, нарушает какие-то взаимоотношения людей с богом. В 1228 г., как говорилось выше, пострадал новгородский архиепископ Арсений, неправдой захвативший стол, а в 1375 г. — отлученный дьякон Карп, вероучение которого порицали духовные власти. Последний вариант, возможно, подобен тому, что на полтораста лет раньше происходило в Смоленске во время засухи 1217–1222 гг. Эта самая мысль об обвинениях в адрес духовенства по поводу насылаемых богом бедствий выражена Ефремом и в «Житии Авраамия»:
Бог… казня, беды дая: град, пленения и вся, еже на ны от бога приходят… Овии [некоторые] осуждают и хулят святителя [епископа] и ерея и черноризца…[83]Князь, бояре и духовенство собрались на владычном дворе. Когда Авраамия с двумя его учениками «яко злодея влачяху» на судилище, то свидетелями были все смоляне: «…весь град: и по торгу и по улицам — везде полно народа, и мужи те, глаголю, и жены и дети. И бе позор тяжек видети…» — признается очевидец[84]. На суде образовались две стороны:
Князю бо и властелем умягчи бог сердце; игуменом же и ереом [попам] аще бы мощно — жива его пожрети…Епископ и какие-то «безумные» «хотеша бес правды [без суда] убити и». Суд, где главной фигурой был, как мы видим, князь, нашел, что на Авраамии никакой вины «не обретается», что казнь проповедника будет «беззаконным убийством». В ответ на это «по бесчину [бесчинно] попом, яко волом рыкающим, такоже и игуменом». Несмотря на «рычание» духовенства, княжеский суд оправдал Авраамия и даже извинился перед ним: «Благослови, отче, и прости Аврамие!» По окончании суда епископ (по имени не назван) приказал своим людям крепко стеречь Авраамия и двоих его учеников. На следующее утро епископ (опираясь, очевидно, на то, что дела о еретичестве находятся в юрисдикции церковного суда) решил взять реванш. «Събравшимся игумени и ерей и вины, яже преже глашлаху… вьзложиша нань». Авраамия изгнали из городского монастыря и отправили обратно в место его пострига, в Селищенский монастырь под Смоленском (село Богородское), игумен которого недавно лишил Авраамия права служить в храме и изгнал из своей обители.
Тако же бе и сему их запрещение: яко же никому же не приходити к нему. Мнози же мечници на всех путях стрежааху, а неции [из пытавшихся проникнуть к Авраамию] разграблены быша[85].Опальный проповедник по воле игуменов и иереев оказался отрезанным от народа не только монастырскими стенами, но и вооруженными заставами на всех путях. Вероятно, к этим трагическим дням относится интереснейшая надпись-граффито на стене одной из древних смоленских церквей, найденная при археологических раскопках[86] (см. рис.).
ГосподИ, ПОМОЗИ ДОМУ ВЕЛИКЪМУ НЬ ДАЖДЬ ВРАГОМЪ ИГУМЬНоМЪ ИСТРАТИТИ И ДО КЪНЦА НИ КЛИМЯТ…Палеографическая дата надписи — около 1215 г. Эпиграфическая — 1211–1240 гг. Берестяные грамоты — 1197–1224 гг. Время общеевропейской засухи — 1217–1222 гг.[87] Надпись совершенно определенно принадлежит кому-то из смоленских «аврамистов» и относится ко времени засухи, о которой Ефрем говорит сразу же вслед за описанием суда и рыкающих «аки волове» игуменов. Климята, по всей вероятности, вторая после епископа фигура в соборе смоленского духовенства, быть может архимандрит главного монастыря. Под «домом великим», возможно, следует понимать не конкретный храм, а общину аврамистов — тех, которые долгое время восхищались протолкованиями книжной премудрости, ораторским даром Авраамия, называли его пророком и тем вооружили против него (и против себя) прежде всего, всех игуменов многочисленных смоленских монастырей. После описания последствий соборного осуждения Ефрем, вполне в духе средневековой наивности, пишет, что «овии от игумен инии же от попов напрасную смерть приимаху, яко ведущеи бывше в сонме [в судилище] наблаженнаго». «Се же оставльше и на прежнее възвратимся», — пишет Ефрем, возвращая читателей к судьбе Авраамия.
Бывшу же бездождью велику в граде, яко иссыхати земли и садом и нивам и всему плоду земленому…Епископ Игнатий совершил молебен о дожде, но безуспешно. Тогда епископу напомнили о несправедливом лишении Авраамия права богослужения. Игнатий вернул Авраамию это право; Авраамий помолился, и бог «напои лиде земли, человекы и скоты възвесели». Епископ, осудивший Авраамия (уже оправданного князем), не был назван по имени ни разу. Теперь выступает как бы новый епископ Игнатий, узнавший об отлучении Авраамия от некоего священника и сразу ставший к Авраамию в дружеские отношения. Далее идет описание того, как Авраамий выбирает вместе с Игнатием место для Авраамиева Ризоположенского монастыря, как скупают «ограды овощныя» (огороды) на избранном месте. Игуменом нового монастыря Игнатий назначил Авраамия, который щедро снабдил церковь иконами и завесами «и украси ю яко невесту красну». По отношению к новому храму употреблено слово «дом». Хронологически основание монастыря аврамистов следует относить к окончанию засухи, т. е. к 1220–1222 гг. В подробном и интересном житии Авраамия мы явно ощущаем два различных периода: 1) Резкая конфронтация с духовенством, публичные чтения для всех слоев населения с комментариями темных мест. Длительность этого первого периода, как мы знаем со слов самого Авраамия, приведенных Ефремом, — пять лет, т. е. примерно 1212–1217 гг.; 2) После пятилетнего преследования «врагами-игуменами» полная реабилитация, создание собственного загородного монастыря, вновь успех («гражане… с женами и с детьми… и от князь и от вельможь, работнки же и свободнии притекаху вси своя грехы к нему исповедающи»). Завершается все канонизацией 1549 г. при Иване Грозном. Вероятно, проповеди и толкования канонической литературы, подкрепленные «глубинными книгами», произносимые в первый период, содержали много осуждений современного Авраамию духовенства и монашества, но хитроумный Ефрем не раскрыл сущность его учения, не желая подвергать «аврамистов» новым испытаниям. Сущность первого периода деятельности Авраамия Смоленского, его антиклерикальную (судя по неистовству «игуменов и иереев») публичную проповедь мы сможем понять при ознакомлении с обильной литературой XIII–XIV вв., авторы которой нередко оглядывались на эпоху «аврамистов», одобряя и переписывая те немногие сочинения и компиляции, которые дошли до нас от первой трети XIII столетия (до татарского нашествия). А.Д. Седельникову и К.П. Попову принадлежит первенство в отыскании глубоких корней стригольничества, в расширении хронологических рамок поиска истоков этого движения. А.Д. Седельников обращал внимание на интереснейший «Трифоновский сборник» 1380-х годов и сопоставлял стригольничество с движением в верхах тверского общества начала XIV в. и с позднейшими псковско-новгородскими делами[88]. Н.П. Попов продолжил разыскания А.Д. Седельникова, обратив пристальное внимание на «Златую Цепь» (рукописи, написанные на новгородско-псковском диалекте, называют сборник «Златая Чепь») и на «Старший Измарагд» XIV в., относя первый к раннестригольнической литературе и усматривая в нем влияние французско-ломбардских вальденсов[89]. «Златую Чепь» цитирует Ефрем, осуждая тех «врагов-игуменов», которые лютовали против Авраамия Смоленского[90]. Пышное название сборника толковалось тогда так: «… якоже бо кто носит на выи [на шее] цепь златую — красит вы. Тако и сию книгу приникаяй красит измарагд, сиречь ум»[91]. В «Златой Чепи» есть нападки на институт монашества:
Мнози бо в пустынях и в горах, мысляще мирьская — погибоша и мнози в градех с женами и детими живуще — спасошася[92].Кредо, составителя «Златой Чепи» выражено в сочинении «Поучение правыя веры».
Попом и простьцем держати пост и поклон и милостини и пенье нелицемерное втайне, идеже не видить никтоже, не слышишь, но токмо един бог. В малей церкви, еже есть келья своя, ти ту есть лепо!* А в велицей церкви пети и кланятися до земи — то есть не все за ся, но господня часть за ся, ано все — за кристьяны и за князя.* Вернии бо человецы в своей клети бога моляще, кланяються за кристьяны и за князя[93].Н.П. Попов сделал очень важное наблюдение: середина текста (отмечено знаками *) представляет собою палимпсест, т. е. вторичную надпись на месте соскобленного или смытого с пергамена текста[94]. Между основным текстом и переправленным текстом мы видим резкое различие: основной текст явно направлен против участия в общем церковном богослужении. Молиться следует в своем доме (точнее, в своей комнате, «в клети»), в своей келье; свидетелем «поклона» будет только один бог. Это «малая церковь». Написанное по смытому тексту допускает молитву в «великой церкви», но там следует молиться не только за себя, но и за князя и всех христиан. Последняя часть допускает, что молитва за князя и всех христиан может производиться «верными человеками» и в своем дому. Общий смысл этих рекомендаций в том, что свои личные, интимные пожелания верный человек может изложить богу без посредников, у себя дома. В стригольническое время мы увидим (см. главу 4) рисунки, изображающие этих «верных людей» XIV в., которые как бы отходят от церкви, внутри которой находится Вельзевул; двое мужчин, покинувшие церковь, поднимают к небу маленькие модели «своих клетей», свою малую церковь[95]. Рукопись «Златой Чепи», изученная Н.П. Поповым, имеет еще одну, чисто внешнюю черту сходства с Фроловской псалтирью: и там и здесь важные для писца тезисы выделены более крупными киноварными или красочными инициалами. В «Златой Чепи» таким «знаком внимания» отмечен текст «Слова некоего христолюбца»:
… рече господь: мнози пастуси просмрадиша виноград мой… Пастуси суть попове и книжници, а виноград [сад] — вера, а сущии в винограде человеци в вере и погибають [в чем повинны] лихии пастухы и учители безумными[96].Биограф и ученик Авраамия Смоленского, Ефрем, хорошо знал «Златую Чепь»; содержание статей, образующих этот сборник, раскрывает перед нами напряженную обстановку и смело выраженное недовольство «лихими пастухами» — духовенством. Как выход предлагается «малая церковь», свое жилище, где можно обратиться к богу без посредства «безумных учителей». Можно понять «врагов-игуменов» и «рыкающих» иереев, что они взъярились на Авраамия, в руках учеников которого находилась (а может быть и создавалась?) подобная литература. Дополнительные данные о причинах игуменского гнева на Авраамия и его современников мы получаем ретроспективно из источника рубежа XIII–XIV вв. Таким источником является превосходно изученный А.И. Клибановым так называемый «Трифоновский сборник» 1380-х годов, псковского происхождения[97]. Связь содержания сборника со стригольничеством отмечал еще А.Д. Седельников, но А.И. Клибанову удалось расслоить этот пестрый по составу источник на несколько хронологических слоев. Выяснилось, что автор интереснейшего антицерковного «Слова о лживых учителях» (1274–1312) опирался на сочинение, относящееся к первой четверти XIII в., т. е. к той же самой предмонгольской поре, что и первый, бунтарский период деятельности Авраамия. Это сочинение — «Предъсловие честнаго покаяния». Автор «Слова о лживых учителях», которого А.И. Клибанов убедительно считает составителем всего Трифоновского сборника (с. 34), полагал себя как бы наследником того, кто написал «Предъсловие» и почтительно представил его читателям:
Обретохом уже святыя книгы и, разгнувше, обрящем в них путь спасения, путь вечныя жизни… Сему же пути начало — святых отець поучение и предъсловие честнаго покаяния… Аще ли кто и свят есть [посвящен в сан], а по тому пути не потечеть, ему же [доброму пути] начало и предсловье честнаго покаяния (не слышаньемь токмо, но и деломь творения) и будет тако: отиметься от него святость [сан] и дасться тому; кто по тому пути пойдет, вьсприем учение и предъсловие честнаго покаяния…[98]Этому же составителю принадлежит по мысли того же исследователя и послесловие к «Предъсловию честнаго покаяния»:
Ведети [знать] подобает, яко предъисловию честного покаяния не подобаеть несмышлену попови държати. То добре умеющ — тоже учити, а не умеяй учити не притчи на покаяние…[99]Судя по этим словам, речь идет о каком-то особом обряде, перед которым «добре умеющий учить» пастырь должен произнести какую-то нестандартную, требующую специальной учености проповедь. Каяться в грехах требуется «с плачем и покаянием в умилении до исхода душа своя. То же по силе, а не через силу…» Неспособный к поучениям «несмышленый» священник не должен даже приходить на процедуру честного покаяния. Если «Предъсловие» было вступительной проповедью пастыря перед исповедью его слушателей, то это был вместе с тем и экзамен пастырю. Всем собравшимся и слушающим проповедника становился ясен уровень подготовленности, книжной начитанности того, кто решился выступить перед ними с речью. Автор хорошей проповеди, предваряющей одно из главных христианских таинств, становился уже не просто передатчиком перечня грехов богу и ответного отпущения грехов, а искоренителем зла, предстателем перед богом за своих прихожан или за тех людей, которые независимо от парафиальных границ собрались к этому хорошему проповеднику. Духовенство, естественно, было серьезно обеспокоено такой непрошеной конкуренцией. По всей вероятности, обозначение «Предъсловие честнаго покаяния» и является как упоминанием какого-то особого исповедального обряда, так вместе с тем и названием статьи в сборнике, посвященной вопросу о том, какими качествами должен обладать руководитель этого обряда. В стиле автора «Слова о лживых учителях» ощущается знакомство с житием Авраамия:
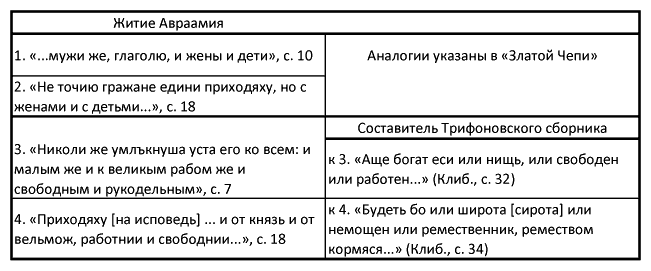
В содержании самой статьи «Предъсловие…» мы видим строгое и суровое отношение к духовенству:
Подобает быти архиерею съмысльну и умьну и мудру в учении книжном и тверезу в всемь… Такому же подобаеть быти иерею. Аще ли не такым — то не подобаеть быти ереемь. Аще и будеть и свят [иметь сан], понеже есть невежа и несмысльн[100].К таким «несмысленным» попам нельзя приходить на исповедь. К тем священникам, которые недостойны принимать исповедь кающихся, автор «Предъсловия» обращает гневную филиппику:
Горе вам, фарисеи, лицемери, книжници слепни, яко объходите море и землю и творите единого пришельца сына дьбри огньней, сугубейша вас! Горе вам, вожеве слепии, спону [препятствие] творите хотящим спастися![101]В этом горячем обвинении слепых вождей очень туманно, замаскированно обозначен тот, кто повелевает ими: «сын дебри огненной»; кто он? Это — Дьявол, Сатана, Вельзевул… У автора сочинения, посвященного покаянию, нет и намека на отрицание самого таинства исповеди и причащения; вопрос состоит лишь в том, кому грешник доверит передачу поведанных прегрешений богу. Ответ дан:
Аще ли обрящеши мужа духовна и разумна, то без съмута [без смущения] исповежься ему не яко к человеку, но яко к богу.В простом умолчании о месте в обществе того мудрого мужа, к которому можно прийти на исповедь, содержится целая концепция: образованные миряне (не из числа духовных лиц), простецы могут заместить невежественного святителя. Вот примерно так по памятникам или упомянутым в житии Авраамия (как «Златая Чепь») или синхронным годам судилища над Авраамием (как «Предъсловие честнаго покаяния») мы можем представить себе облик аврамистов и контуры их программы, которая недостаточно выясняется из жития, написанного Ефремом в ту благополучную пору, когда страсти утихли; Ризоположенский монастырь продолжал существовать и вспоминать недавнюю жесткую конфронтацию автор не хотел. Подводя итоги тем отрывочным сведениям, которые сохранились от предмонгольского времени о свободомыслии русских людей по отношению к церкви, можно сказать следующее. 1. Укрепившееся экономическое положение церкви вообще и монастырей в частности, противоречившее евангельской догме, вызывало у нас, как и на Западе, осуждение как со стороны низов (холоп Псевдо-Даниил), так и княжеских верхов (Ярослав Всеволодич). 2. В образованной среде возникла потребность в критическом рассмотрении основной христианской литературы; критическом не в смысле полного отрицания или разгрома, а в смысле необходимости анализа («пытати потонку»), разгадывания скрытого содержания евангельских иносказаний. 3. Паломники, путешественники в Иерусалим и в Царьград встречались в этих центрах притяжения всего христианского мира с самыми различными толкованиями богословской литературы (ариане, несториане, павликиане, богомилы и др.), знали о существовании противоречий в древних текстах, об отколовшихся от вселенской церкви сектах, но явных следов подражания тому или иному еретическому движению мы не видим. Знакомство с пестрой мозаикой восточных и западноевропейских толков христианства вызвало лишь стремление к уяснению «скрытых словес». Даже болгарские богомилы, возникшие почти одновременно с крещением Руси в той стране, откуда Русь черпала основную православную литературу, не повлияли ни на русское духовенство, ни на его оппонентов. В русской действительности в целом (судя по случайно уцелевшим источникам) не было ни богомильского иконоборчества, ни отрицания литургии, ни хуления богородицы, ни признания творческой энергии Сатаны. 4. Приблизительно в эпоху аврамистов в русских землях создаются такие сборники, как «Златая Чепь» (новгородско-псковско-смоленского происхождения) с ее осуждением монашества (это поддержано и во Владимиро-Суздальской земле), противопоставлением интимной молитвы в «своей клети» богослужению в храме и с укорами в адрес «лихих пастухов», компрометирующих церковь. 5. В то же время формируется и новое отношение к такой важной проблеме, как таинство причащения, или, точнее, к вопросу о праве любого духовного лица (независимо от степени его образованности и нравственности) быть посредником между грешником и богом. 6. Особый интерес представляет такое произведение, как «Предъсловие честнаго покаяния», тоже синхронное эпохе «аврамистов». Помимо поддержки требования к священникам и архиереям быть самим подготовленными к принятию исповеди, здесь проглядывает неизвестный по другим источникам обряд: исповеди, покаянию в грехах должно предшествовать какое-то слово, «предъсловие», произносимое ученым священником или мудрым мужем-простецом. Это предполагает публичное выступление перед какой-то аудиторией — сообществом, группой прихожан (?) или единомышленников, очевидно, как призыв к полной искренности и откровенности предстоящего «честного покаяния». Сама исповедь могла быть, как и требуется, индивидуальной; это по тексту неопределимо. В житии Авраамия Смоленского такой обряд не описывается, но текст жития дает право на такое толкование: проповеди Авраамия и его комментарии писания слушают его многочисленные сторонники из всех слоев общества; эти же категории русских людей от ремесленника до князя, с женами и детьми «притекаху [к Авраамию] вси своя грехы к нему исповедающи и тако отхожаху в домы своя радующеся»[102], т. е. не только покаявшись, но и получив отпущение грехов. Подобный обряд, реконструируемый на основании двух источников, мог быть основой обособления сторонников Авраамия от той части духовенства, которую сами аврамисты называли фарисеями и слепыми вождями. Судя по житию, Авраамий был идеалом автора «Предъсловия честнаго покаяния». Все три источника начала XIII в.: «Златая Чепь», «Предъсловие честнаго покаяния» и «Житие Авраамия» — возникли, по всей вероятности, в среде аврамистов, которые остались, в конце концов, в лоне православной церкви. Острота конфликта между духовенством и аврамистами в первую четверть XIII в. явствует, во-первых, из той ярости, с какой игумены и иереи влачили Авраамия на суд, перекрывали дороги, ведущие к нему, и отлучали от богослужения. Во-вторых, это острота ощущается в том полуприкрытом отождествлении «лихих пастухов» со слугами «сына дебри огненной». Основой конфликта был тот же самый вопрос, который через полтора столетия привел к расправе со стригольниками — вопрос об исповеди и о нравах духовенства. Путь примирения аврамистов с православной церковью для нас неясен: сдача части позиций, татарское нашествие или же стремление епископата использовать демократическую направленность аврамистов подобно тому, как католическая церковь использовала «нищенствующие» ордена? Взаимоотношения русского общества с православной церковью дошли к моменту татарского нашествия примерно до того же уровня, на котором находились подобные отношения и в католической Западной Европе. Климент Смолятич был младшим современником французского богослова Петра Абеляра (1079–1142), посвятившего ряд произведений проблеме веры и разума. Абеляр не отбрасывал «языческие» труды древних философов и ссылался на Сократа, Платона, Аристотеля, Теофраста, Сенеку. Климент Смолятич, как мы помним, отводил упреки Фомы в недозволенности использования таких античных авторов, как Гомер, Платон, Аристотель. Абеляр стремился показать, что «между древней философией и христианством фактически нет никакой грани»[103]. «Абеляр утверждал, — пишет исследовательница его творчества Н.А. Сидорова, — что христианская вера нуждается в укреплении ее доводами разума, что „глубины философии“ облегчают понимание христианской веры»[104]. Климент ставит себе в заслугу то, что он в письме к князю Ростиславу Смоленскому опирался на философов, прославленных в древности. Он, как и Абеляр, особенно настаивает на том, что в вопросах веры необходим разум: «Рассмотряти ны есть лепо, возлюблении, и разумети»[105]. Этот призыв к разумному рассмотрению объединяет богословов как Парижа, так и Киева. Судьба обоих была печальна: на Санском церковном соборе 1140 г. Абеляр был осужден, ему было запрещено писать, папа Иннокентий II санкционировал уничтожение книг Абеляра[106]. Климент Смолятич был, так сказать, вытеснен с киевского митрополичьего стола митрополитом-греком, а его «16 словес, яже чюдна и хвалы достойна» были запрещены «за величьство разума и глубину сокровенных ради и дивных словес»[107]. Из всего интереснейшего (судя по отзыву Афанасия Мниха, современника Климента) наследия русского рационалиста середины XII в. до нас не дошло ничего, кроме одного письма от Климента к Фоме, которое позволяет лишь предполагать богатство и свежесть мысли в утраченных для нас произведениях. Православные блюстители церковных порядков оказались более расторопными исполнителями распоряжений, чем их католические современники, — от Петра Абеляра дошло до нас почти все литературное наследие. В католической Европе и в православной Византии в XII–XIII вв. существовало множество еретических учений. Одни из них основывались на неприятии понятия христианской троицы, другие отрицали божественную сущность Иисуса Христа, третьи были устремлены на «лихих пастырей» — духовенство… Контрмеры принимались церковью различные: опровержение тезисов еретиков, запрещение проповеди, прямое преследование и т. п. В начале XIII в., когда за древней (с III в.) ересью манихеев закрепилось название альбигойцев и начались альбигойские войны, появилось еще одно оружие — «нищенствующие монашеские ордена», первоначально оппозиционные по отношению к римской курии, а впоследствии прирученные ею. Франциск Ассизский (1182–1226 гг.) и Доминик (1160–1221 гг.) организовали монашеские ордена францисканцев и доминиканцев, которые сыграли видную роль в борьбе с ересями, в укреплении официальной церкви. Не была ли эволюция русских «аврамистов» от ярых противников «игуменов и иереев» к спокойному сосуществованию со всей массой как добрых, так и лихих пастырей, неким подобием эволюции католических нищенствующих орденов в эти самые десятилетия? Как бы то ни было, но Авраамий Смоленский, и его ученик, и биограф Ефрем были впоследствии канонизованы, причислены к лику святых православной церкви. Канонизация состоялась на церковном соборе 1549 г.[108] Важно определить, какая именно сила выдвинула этих аврамистов в ряды святителей. Духовенство XIII в., как мы помним, было настроено крайне враждебно к Авраамию, и освобождение проповедника было делом не церковной, а княжеской власти. Князья приходили к Авраамию и на исповедь. Вполне возможно, что канонизация 1549 г. продолжала линию поведения Ивана III, открыто поддерживавшего в 1503 г. «нестяжателей», выступавших против монастырского землевладения. Интересные данные о заинтересованности светской власти в поддержке давних аврамистов содержит «Стоглав». Канонизацию святых в 1547 и в 1549 гг. проводили Иван IV и митрополит Макарий. Стоглавый собор 1551 г. вел сам молодой царь. Он произнес «Предъсловие сего собора» (возможно, позволяющее нам представить себе облик «предъсловия честнаго покаяния»), сообщил с удовлетворением о завершении общегосударственного «Судебника» и задал духовенству две группы вопросов, обнаруживающих хорошее этнографическое знание как народных обычаев, так и отклонений от богослужебных норм в Новгороде и Пскове[109]. Во второй, дополнительной группе из 32 вопросов на разные, заданные вразброс темы царь спрашивает духовенство:
Вопрос 5 Да о псковском чудотворце Ефросине и о Смоленском Авраамии уложити же — как им праздновати? Ответ: Праздновати им, как и прочим святым преподобным отцем: пети по божественному уставу служба вся сполна[110].Почему из 39 святых, канонизованных на соборах 1547 и 1549 гг., царь, участвовавший в этих соборах, публично заинтересовался дальнейшей судьбой только этих двух персон? Ефросин Псковский (1386–1481) до 1447 г. был монахом Псковского Снетогорского монастыря[111], прославившегося конфликтами и брожением внутри братии, которые вызывали вмешательство и борца со стригольниками Дионисия Суздальского в 1382 г., и новгородского архиепископа Симеона, и митрополита Фотия, тоже боровшегося со стригольниками. Послание Симеона в Снетогорский монастырь 1417–1421 гг. порицает поведение простых монахов, покинувших обитель и поднимающих мирян против монастырских старцев; миряне судят их мирским обычаем[112]. Послание Фотия 1418 г. дает интереснейшее дополнение о чисто стригольнических настроениях части монахов Снетогорского монастыря, иноком которого в те годы состоял Ефросин Псковский. Снетогорские монахи, судя по посланию митрополита, в начале XV в. уклонялись от таинства причащения: «божественного и животворящего христова тела и честный крове… не приимающе. Такожь и к святой доре [часть просфоры] не приступающе и к хлебу пречистыя…»[113] Фотий предусматривает, что эта часть монастырской братии может найти поддержку у народа и запрещает «мирским людям крамолу въздвигати на настоятеля». В послании о стригольниках 1416 г. Фотий обращается ко всем властям «державы Пьсковьской», бичуя стремление псковичей «безумно особь въдружити храм», т. е. самовольно строить церкви и служить в них без разрешения епископа[114]. Сам Ефросин покинул Снетогорский монастырь в 1447 г. и на речке Толве основал свою обитель. Ученики Ефросина (Савва, Иларион, Досифей, Серапион) построили в глухих местах Псковской земли свои монастырьки. Не такие ли «особые алтари» имел в виду Фотий, пресекая самовольное строительство и служение? Данных для ответа у нас нет, но следует учесть, что епархиальное начальство находилось не во Пскове, а в Новгороде, а псковской частью епархии с 1347 г. управлял пскович[115]. Вернемся к Ивану Грозному и Стоглавому собору. Рядом с 5-м вопросом в дополнительном списке стоит вопрос о симонии, об оплате священниками места своего служения и возведения в сан, т. е. один из основных тезисов стригольников[116]. А вопрос 14 о чрезмерной активности новгородских мирян в поставлении попов и дьяконов прямо соотносится с посланием Симеона: царь считает неправильным, что в Новгороде посадские люди, «уличане», собирают с кандидатов в священники или дьяконы «деньги великие» (до 30 рублей!) и «идут ко владыке всею улицею», а собранные за поставление деньги архиепископ делит между собой и прихожанами[117]. Вопрос 15. Во Пскове чиновники и «наместник владычень попов ставят сами… и на них [на попах] емлют мзды великие, а того не пытают — которой бы [поп] грамоте горазд и чувствен и достоин священнического сану; только того и пытают кто бы им больши денег дал»[118]. Деятельность Авраамия Смоленского и Ефросина Псковского, несомненно, обсуждалась на соборе 1549 г. и, очевидно, была не вполне одобрена осифлянским духовенством, что вызвало какое-то замедление в оформлении новых святых. Иван Васильевич, побывавший вместе с братом Юрием в 1547 г. в Новгороде, Пскове, на Белоозере и в ряде монастырей[119], имел возможность хорошо познакомиться с местным бытом, ролью мирян в церковных делах и с позиций светской власти решил, как и смоленский князь XIII в., поддержать Авраамия и Ефросина и ускорить составление каждому из них «службы всей сполна». Медлительность духовенства середины XVI в. — последние отголоски преследования еретиков-стригольников и аврамистов XIII–XV вв.
* * *
Нашествие Батыя и двухсотсорокалетнее ордынское иго резко понизили уровень развития русских земель и затормозили возможность дальнейшего поступательного движения. Разные элементы русского общества в разной степени ощутили тяжесть новой, подневольной ситуации. Патриархальная деревня сравнительно быстро могла восстановить свое нехитрое хозяйство; ее страшили опустошительные военные набеги татар, по которым теперь велось невеселое летосчисление: «от Чюрнаевой рати…», «от Дюденевой рати…». «Ордынский выход», огромные суммы, выплачиваемые русскими феодалами ханам, доводил деревню до полной нищеты и обескровливал тем самым и всех феодалов. Всех кроме церкви. Самое резкое падение испытали русские города. Совсем недавно, получив в середине XII в. оптимальную политическую форму крупных суверенных княжеств, Русская земля начала расширять ремесленные посады старых городов и строить сотни новых городов. С полным правом владимиро-суздальский поэт мог накануне татарского нашествия писать в торжественной оде родной земле:* * *
Деревня и город Северной (Новгородско-Псковской) и Северо-Восточной (Владимиро-Суздальской) Руси различно реагировали в своей религиозной сфере на «божью казнь», олицетворенную золотоордынскими воеводами, киличеями и баскаками. Если для христианизированного города важнее всего было покаяние людей в совершении злодеяний как средство смены божьего гнева на милость, то для полуязыческой деревни снова, как и в голодные годы XI в. или начала XIII в., вставал вопрос об отказе от новой веры и возврате к прадедовским богам или о сочетании обеих вер. Стригольников иногда обвиняют в симпатии к язычеству, но это, как постараюсь показать в дальнейшем, крайне сомнительно. Языческая стихия разрасталась за счет деревни, в которой существовала своеобразная система особого налога за выполнение языческих обрядов — «забожничье». Церковь в XIII–XIV вв. переписывала старые и создавала новые поучения против язычества, а русско-чудское крестьянство приглашало сельских священников на свои языческие по происхождению братчины. Из поучения, приписанного пророку Исайе, о почитании Рода и рожаниц мы узнаём, что главный праздник собранного урожая происходил 8 сентября в день Рождества Богородицы, а на следующий день устраивалась «вторая трапеза», на которой «черпала наполнялись» вином в честь языческого Рода и двух рожаниц, древних богинь плодородия, которым как бы соответствовали Мария-Богородица и ее мать Анна. На этот второй, языческий пир приглашались священники, и здесь они читали христианские молитвы, посвященные богородице. Автор называет их «череву работнии попове»; в глазах же своих односельчан они просто дополнительно подкрепляли своими молитвами древний языческий обряд. Функции языческого волхва и православного иерея сближались в деревенском быту настолько, что правила Владимирского церковного собора 1274 г. при поставлении в священники рекомендовали осведомляться относительно кандидата: не «кощунник» ли он или «чародей»?[123] Тогда же появляется термин «рожаницемолец», т. е. «молящийся рожаницам». Следует сказать, что возврат к языческой аграрной магии не противоречил вере в необходимость покаяния перед богом христиан, Род и рожаницы ведали урожаем, а вопрос о прекращении насланной на Русь казни во имя получения в будущей жизни царства небесного — это вопрос, так сказать, «вне компетенции» языческих божеств, так как в славянском язычестве отсутствовало само понятие загробного мира с разделением на ад и рай. Упомянутый выше Серапион («епископ зело учителен и силен в божественном писании». — Татищев, 5-51) обвиняет свою паству в том, что верят в колдовскую силу языческих волхвов и в случае неурожая вымещают свое несчастье, сжигая волхвов, считая их (как и в 1227 г.) виновниками голода. Неурожай в Новгороде был в 1273 г. Поучение Серапиона близко к этой дате.О, попове-священници! Укланяйтеся от пьяньства![125]Надпись была повторена трижды! Сами церковные власти были обеспокоены и укоренившимся обычаем ставить священников «на мзде» (за значительные деньги) и моральным обликом среднего духовенства (священников, дьяконов). Церковный собор 1274 г. ответил на нападки предшествующих поколений в отношении поставления священников «на мзде» (взятке), установив уплату в 7 гривен как плату за «протори» — расходы, связанные с обрядом посвящения в сан. Собор, руководимый митрополитом Кириллом III, решительно обрушился на пьянство духовенства: упиваются без меры, пьют от вербного воскресенья (этот день открывает страстную неделю) до дня всех святых (через неделю после троицына дня)[126]. В этот интервал попадает вся страстная неделя с ее особо трагическим богослужением, посвященным мучениям («страстям») и смерти Иисуса Христа. А от вербного воскресенья до дня всех святых — 64 дня сплошного пьянства! Следует сказать, что строгое решение собора (пьяница иерей «да будет извержен»!) мало подействовало — приведенная выше надпись сделана сотню лет спустя после собора 1274 г., но новгородских священников все еще приходилось уговаривать «уклоняться». Церковные соборы 1274 и 1312 гг. (во Владимире и в Переяславле) довольно разносторонне рассмотрели положение церкви и ее взаимоотношения с мирянами[127]. Из суммы всевозможных запретов и констатаций мы можем составить представление о том, что́ происходило в древнерусских городах в первые десятилетия после победы татар. Высшее духовенство. Митрополит, епископы, игумены монастырей. В распоряжении этой категории был огромный аппарат административно-церковного, хозяйственного и даже военного назначения («владычные наместники», «владычные стольники», «владычные бояре»), разделенный на несколько разрядов. Была у церкви и своя дипломатическая служба. Сходство со светской феодальной структурой было полное. Как правило, епископы вполне уживались с суверенными князьями; митрополит же как прямой преемник главы церкви большого, еще не расчлененного государства — Киевской Руси X — начала XII в. — оказался в XIII–XIV вв. единственным властителем (в своей сфере) населения всех феодальных княжеств, что объективно облегчало и переход к политическому единству русских земель. Ханы Золотой Орды по своему усмотрению назначали великих князей Владимирских (потом Московских), но не вмешивались в избрание митрополитов. Игумены таких самостоятельных организмов, как монастыри, могут быть приравнены к светским боярам, но без права передачи обителей по наследству. Монастыри широко пользовались правом посылки монахов для сбора милостыни в любые города. Эта связь с миром компенсировала замкнутость и отрешенность «пустынножития». Бродячие монахи, бесконтрольно собиравшие деньги, показывали «мирским» церковь не с лучшей стороны. Среднее духовенство. Священники, дьяконы. Это основная категория духовенства, осуществляющая богослужение в храмах, молебны в домах и на полях, выполняющая требы прихожан: крещение новорожденных, венчание, соборование умирающих, похороны, исповедь и отпущение грехов. Священник («иерей», «святитель», «пресвитер», «поп») был как бы представителем бога для своих прихожан и одновременно был предстателем перед богом, посредником, передающим моления и просьбы всего прихода и каждого прихожанина в отдельности. Священник отвечал перед богом за поведение прихожан. Отсюда родилась поговорка «Каков поп, таков и приход». Дьяконы тоже имели священный сан, но круг их деятельности и прав был у́же, чем у священников. Низшее духовенство и церковные люди. Интересную и довольно многочисленную группу лиц, тем или иным образом связанных с приходской церковной организацией, рисуют нам средневековые источники[128]. Одна часть этих людей, не имеющих сана, связана прямо с церковным ритуальным обиходом — это «клир», «клирошане», «причт» («причетники»), «дьяки» (позднее «дьячки»), пономари, псаломщики, певчие, чтецы, просвирни и люди, приписанные древними уставами в ведение церковного суда, — паломники-калики (странники), увечные, нищие («притворяне») и даже изгои и лекари. Сюда же следует включить и не названных в уставах писцов, переписчиков рукописных церковных книг. Используя поля богослужебных книг, писцы нередко помещали на них абсолютно не связанные с основным текстом личные записи. Переписчиками могли быть и сами епископы, и священники (в порядке добровольного искуса), но главная масса книг создавалась писцами-профессионалами, иногда не слишком почтительными к каноническому тексту. Из книг, изготовленных священниками, исключительно интересен «Шестоднев», переписанный псковским попом Саввою в 1374 г. Сумма всех маргинальных надписей — это как бы дневник рядового городского священника примерно за год его жизни[129]. Сопоставление этого дневника с записями простых писцов выявляет резкое различие между имеющим сан духовенством и простыми переписчиками, которые на страницах книги жаловались на свою незавидную судьбу:
Бог, дай съдоровие к сему богатствию: Что кун — то все в калите, Что пърт — то все на собе; Удавися, убожие, смотря на мене![130]Новгородские дьячки фиксировали свое бедственное положение и надписями-граффити на стенах церквей:
Охъ, тьщьно владыко! Нету поряда дьякомъ. А де и исплачю… Охъ женатымъ дьяком[ъ]![131]Полную противоположность представляет упомянутый «дневник» попа Саввы. Здесь перед читателем величественной книги о создании богом макрокосма невольно вырисовывается на полях рукописи микрокосм небольшого, хорошо налаженного поповского хозяйства XIV в. Здесь упоминается и о том, что «на святую Варвару родила свинья поросят», и о том, что хозяину надо заглянуть на гумно, посмотреть, как работают «страдники». Несколько записей посвящено простецким бытовым удовольствиям: вымыться в бане, так как тело «зудит», или поехать пить в загородное место под Псковом, в Зряковицы[132]. Церковные (но не имеющие сана) и околоцерковные люди были своего рода разночинцами XIII–XIV вв. Большинство их было грамотно, причастно к церковным делам, к православной книжности; они общались с дьяконами и священниками и лучше, чем кто-либо, знали и степень начитанности, и уровень нравственности своих рукоположенных святителей, от которых они находились в служебной и экономической зависимости. Дьячки, псаломщики, чтецы общались с приписанными к церкви каликами перехожими и от них узнавали все новинки международной религиозной жизни и обычаи дальних христианских земель Востока. Из таких обычаев в то напряженное время был особенно важен для русских горожан обряд исповеди и покаяния непосредственно у тех или иных местных святынь без пересказа своих прегрешений посреднику из духовенства. От тех же странников-пилигримов получались сведения и о многообразных ересях заморских стран, и о новых апокрифических сюжетах, вошедших в международный оборот в цареградско-палестинской зоне общения паломников из разных мест. Вот эти грамотные низы церковных людей, одновременно являвшиеся по уровню жизни и низами городского посада, и были самой воспламенимой средой русских городов, способной возглавить и увлечь за собой все посадское население в противодействие лихим пастырям среднего и высшего ранга. Постановления церковных соборов 1274 и 1312 гг. отразили много стихийных новшеств, возникших в церковной практике в тяжелое безвременье середины XIII в. Прежде всего, выясняется возрастание роли простых мирян в самом процессе богослужения: миряне читают с амвона, освящают «плодоносия» и даже, как думает А.И. Клибанов, объясняют священное писание[133]. К таким самодеятельным мирянам подключаются и дьячки, нарушающие запрет входа в алтарь, и дьяконы (в Новгороде), самовольно подменяющие священников[134]. Другой стороной воздействия мирян на свою религиозную жизнь в духе своеобразного двоеверного синтеза является стремление как-то примирить, приладить друг к другу священнослужителей древней веры и новой религии, волхвов-чародеев и православных священников. Священников, как мы помним, приглашают на «вторую трапезу» на следующий день после празднования Рождества Богородицы. Волхвы-«кощунники», т. е. сказители мифов, судя по «Правилу митрополита Кирилла», добровольно стремились стать попами, и при отборе кандидатов на духовные должности епархиальному начальству рекомендовалось выяснять предварительно: не кощунник ли, не чародей ли он?[135] Пьянство священников, как мы видели, резко осуждалось народом, но, очевидно, в том случае, когда поп был приглашен на полуязыческую братчину и пил здесь ритуальные «черпала», это вызывало гнев только церковного начальства, но не мирян. В «Правилах митрополита Кирилла» в одной фразе слиты и порицание пьянствующего попа («да будет извержен!») и неожиданное указание на всеобщую поддержку провинившегося народом:
А если мирские люди будут составлять сходбища, противясь сему правилу, то да будут отлучены![136]Третьим признаком новизны является открытое пренебрежение церковной исповедью и причастием. Появился особый термин «недароимцы», люди не принимающие святых даров, уклоняющиеся от причастия, а, следовательно, и от предварительной исповеди. Уклонялись даже от обязательной исповеди один раз в году и даже от исповеди перед венчанием[137]. Во всех этих действиях и уклонениях (например, от обряда исповеди священнику) мы видим, с одной стороны, продолжение той близости к народу, которую начали аврамисты, того стремления учить, комментировать, разъяснять, а с другой — то новое отношение к проблеме покаяния без посредников, которое станет основой учения стригольников. Итогом всех размышлений русских горожан на религиозные темы и об отношении к официальному духовенству является, как справедливо считает А.И. Клибанов, «Слово о лживых учителях», датируемое 1274–1312 гг. и как бы вводящее нас в четырнадцатое столетие, столетие стригольников. «Слово» впервые издано А.И. Клибановым по рукописи Новгородского Софийского собора; им же предложена и датировка его[138].
Слово о лживых учителях (1274–1312)
Надписано «Слово о лживых учителях» именем «Иоанна Златоустого архиепископа Костянтина града». Содержание «Слова» в сокращении и частично в пересказе представлено здесь с моей условной разбивкой на параграфы:1274–1312 гг.
1. Похвала христолюбцам и книголюбцам; книгы бо незабытную память имут. «Горе же тому, иже не почитает святых книг писания пред ссеми» [вслух]. 2. В последние дни наступает голод проповеди, голод книжных словес. Те, которые говорят, что достаточно услышанного в церкви, — научены дьяволом. 3. На всяком месте владыка Христос. Прославлять его надо везде «великою силою глаголюще», «с высоким проповеданием учите!» 4. «Лепо же есть всем славити бога и проповедати учение его. Не рече господь: „Увежь мя ты, пророче, един“, но: „да уведят [узнают] мя вси от мала и до велика!“» 5. «Мнози пастуши [пастухи. Псковизм] наймиты наймуют паствию скота, а сами пиють или да спять». Пастухи словесных овец тоже спят и «упиваються неправедным събраным, потакви [поблажки] деюще властелем и не хотять учити право, ловяще у них [у властей] чаши или некоего взятия. Того ради простейшим учением учать и разумное, правое и дивное таять, им же [разумным учением] бы ся спастись…» 6. «О, горе бо, рече, — уже и пастухи волци быша и овець истьргаше, рекше: „изъучиша попове люди и не на добро, но на зло“». И господь рече: «О, горе вам, вожеве слепии, яко затворяете царство божие от человек… учащих [внецерковных проповедников] ненавидите». «Мнози бо идяхуть в веру и в крещение, а учителев мало», [далее автор отрекается от еретиков]: «Тако же и еретици не разумеюще писаний, хулу принесоша на господа; того ради простейшим учением учать» [духовенство и еретики упрощают учение]. 7. «Подобаеть убо святителем послушьство имети от внешних. Ведомо же буди: послушание есть учение, а внешнии же суть, иже не имуть ни ерейства, ни дияконьства, но певци или четци суть». Господь говорил не о хлебном голоде, а «о душевнем, рекше о учении книжнемь…» 8. «Егда пастухи възволчатся, тогда подобаеть овци овце наставити [овца должна учить овец]». Как пример приводится умирающий: если духовенства нет, то «научить» может и «простой». Второй пример: рать подступает к городу, «простълюдин» предупреждает криком, и умные люди укрываются в крепости, а несмышленые могут сказать «не [княжий] муж поведаеть не бежит в град!» Враги повоевали бы и избили бы несмышленых.*
9. «Разумейте же, братие, како ти есть ныне»: Враждебная рать это — бесы. Проповедника, облеченного саном нет, нет учителя, могущего вести. «Учители бо наши наполнишася богатьством имения и ослепоша…» «Тем же ине без ответа имам быти в день судный [на страшном суде]» «Откуду убо вниде в ны неведение? Яве ли, яко от непочитания книжнаго!» 10. «Увежь же, человече, яко книгы всему добру мати есть, кормящи дети своя! И продай же все сущее, еже у тебе и купиши книги — всяку добродетель спасения и честна сведения святых книг»… В книгах — сокровища Сына и премудрость Отца… «Блажен человек, иже обрете премудрость. Попытай же, любимице, аще богат еси или нищь или свободен или работен — святыя бо книгы всему добру сокровище есть… и [их] разъгнувше обрящем в них путь спасения, путь вечныя жизни…» 11. Сему же пути начало [1.] святых отець поучение и [2.] «Предъсловие честнаго покаяния». Тот, кто найдет начало этого пути, то даже если он и грешен, то, «следуя этим путем, он обретет жизнь вечную. И тому же буди послух [свидетель] и Святый Дух». Если же кто не пойдет по этому пути, даже если на нем есть святительский сан, то «отимется от него святость [сан] и дасться тому, иже, кто по тому пути пойдет», въсприем учение [св. отцов] и «Предъсловие честного покаяния не слышаниемь токмо, но и делом, творением». Тогда будешь причтен к святым. Если же не пойдешь этим путем, то не будет у тебя времени на покаяние. Остерегайся, как бы враг [«суперник» — дьявол] не отдал тебя судье, а тот — слугам «и въвержен будеши в тму кромешнюю и ту будеть плач и скрыжьт зубом». 12. Ничто не пропущено в святых книгах «еже нам на устроение. Мне же слезы приходять, егда усльшю некия и немыя церковьникы глаголюща, яко не суть си в святых книгах писана». Так говорят не только простые грамотеи, но и пастухи [священники], обладающие пророческими и апостольскими книгами, «но нрава их не дьржаще». Сейчас настало благоприятное время сказать им: «О, горе вам, наставници слепии… не утвержени книжным разумом», красующиеся одеянием, «а не книгами, оставльшеи слово божие, а чреву работающеи; их же бог — чрево и слава. Иже от овець волну [шерсть] и млеко взимаете, а овець моих не пасуще. О них [о своей пастве] слово имаете отдати в день суда — толика не брегше спасения». Апостол Петр предупреждал, что «будуть бо в последняя дни ругатели книгам и по своим похотем ходяще и будуть лживии учители, иже въведуть многых в погыбель. И мнози имуть последовати учению их неспасеному [не ведущему к спасению души после смерти], кривому и слабому. Сии суда не убежать и погибель их не въздремлеть».*
13. «Вы же, чада, не всякому духу [проповеди] веру имете… нъ разумейте — кое ли есть злое учение, кое ли доброе. Доброе же учение приими, аще и от простого слышиши, а злого учение не приими, аще и свят [священник] есть учай тя. То же, разумей и писание глаголеть: аще ли и ангел пришьд учити вы начнеть, не яко же мы учихом — проклят да будеть!»… 14. «Аще ли ти брат так непокорив и не послушаеть трезвого учения, будеть ли короваемолец или рожаницемолец [язычник, поклоняющийся богиням плодородия рожаницам]» или ростовщик, грабитель, взяточник, клеветник, содержатель корчмы, развратник, пьяница, вымогатель, завистник — «ти бо жизни вечныя не наследять». Тот, кто с такими дружит или ест и пьет, — «враг есть божий и отметник христов и похульник Духу Святому и причастник… дьяволу». 15. «Видите ли, братия, како владыка Христос, бог нашь, обличаеть злыя, а добрыя блюдеть и милуеть и пасеть тело всякимь обилием, а душю пашеть [„кормит“. Псковизм] учениемь книжным». Творения пророков, апостолов и святых — «все то учение Духа Святого. Да аще кто похулить или укорить или мнить лжю сущю — то противьник есть Духу Святому!» Где те гордые пустословцы, «потаковници злым и ругатели правоверных», которые заявляют, что этого нет в святых книгах; для них же самих «бог — чрево и слава?»*
16. «Вы же, чада, блюдитесь лживых учитель и глаголющих: „Несть крестьянам [христианам] мучения любо грешну, любо негрешну“. Это происки дьявола „многым невежам на пагубу! О, горе человеку тому, иже тако глаголеть! Не отдасться ему ни в сий век, ни в будущий!“» Если говорящий так не отречется сам от того, что он говорил, «пред человекы, пред ними же глаголал, и не придет на покаяние, то луче быся и не родил [лучше бы он и не родился]!» 17. Разве никто не слышит слова господа, обращенные к тем, кто находится «ошюю» [по левую руку] от него: «Идите от мене, проклятии, в огнь вечный, уготованный дьяволу и ангелом его [слугам дьявола, бывшим ангелам]». Могут сказать, что эти слова обращены к язычникам «и аз реку же и о поганых. Тако глаголеть господь: „Сего ради не въскреснуть [?] нечестивии на суд“. Вижь же — не поганым глаголеть, но крестьяном, не творившим воля божия, ни [не] ходившим по заповедем господним». 18. Многие говорили Иисусу Христу: не ради ли тебя мы крестились и чудеса творили? Господь отвечает, что если «воля моя не твористе — идете от мене! Не ве́де [не знаю] вас!» 19. «Вы же, братья и чада моя милая… аще кто [из] вас разум имаеть — не слушайте лживых учитель, ни дружбы держите с таковыми, ни пити, ни ясти. … Мы же, чада, елико же и есть христолюбивых, приимем заповеди Его, творяще волю Его, не слухомь токмо слушающе, но волю Его делы творяще и получим жизнь вечную о Христе Исусе, господе нашемь, ему же слава».* * *
При ознакомлении с этим интереснейшим произведением рубежа XIII и XIV вв. встают две группы вопросов: 1) Кто автор по своему месту в обществе и кого он клеймит как «лживых учителей»? 2) Каким должно быть истинное учение, и кто имеет право учить божественному слову? Автор — пскович, грамотный и талантливый человек. Он умело перемежает цитаты из церковной литературы с живым обращением к отдельному собеседнику: «Увежь же человече…», «Попытай же любимче…» Чего стоит фраза о человеке, отрицающем адские муки для грешников: если он не отречется от своих слов, то «луче бы ся и не родил!» К большой аудитории автор обращается двояко: «Братие!» и «Чада!», а в конце обобщенно: «Братие и чада!» Вторая форма («чада») является обращением к младшим, подчиненным, может быть, к порученной ему пастве. Но автор не принадлежит к духовенству, посвященному в сан, которому он противопоставляет «внешних» — певчих и чтецов, т. е. самые низы церковного клира. Быть может, в число людей того же ряда следует включить и писцов, писавших книги, так как одновременно с восхвалением книг как источника священной мудрости, у него проскальзывают наивные житейские советы: «продай же все сущее, еже у тебе и купиши книгы!» «Лживые учители» — не духовенство вообще, а лишь малограмотное, невежественное духовенство, занятое накоплением богатства, щеголянием в красивом облачении и потакающее властям. Оно озабочено «чревом и славою»; к книгам оно относится невнимательно, без разумения, без критического рассмотрения. По существу здесь нет ничего нового по сравнению с негативной констатацией Владимирского церковного собора 1274 г., но наш автор совершенно нетерпим к такому духовенству, считая его виновным в том, что оно не указывает своей пастве пути к спасению. Отсюда и «пастухи-волки», и «слепые вожи», и даже «еретики».* * *
Изученный А.И. Клибановым «Трифоновский сборник», содержащий «Слово о лживых учителях», был переписан стригольниками в те самые 1380-е годы, когда Стефан Пермский вел с ними горячие споры и возражал против тех самых тезисов, которые так красочно представлены в этом слове. Весь сборник представлял собою интереснейшую антологию церковных (но почти всегда антиклерикальных!) сочинений, частично переведенных с греческого, частично написанных русскими авторами, но по средневековой традиции прикрытых именами отцов церкви. Здесь есть и поучения Луки Жидяты, и Феодосия Печерского, и выписки из сочинений Кирилла Туровского, и сочинения против русского язычества. Составитель включал сюда слова против показной аскезы и мнимых постников, а в одном месте дал такой преувеличенно восторженный панегирик современному монашеству, что иначе как остроумный памфлет его нельзя и принять. Важным разделом сборника (50 листов из 130) является «Власфимия» — «хула на еретики», представляющая собой как бы сборник в сборнике. Основная часть антиклерикальных сочинений содержится во Власфимии. В «Воспоминании» о церковном соборе времен Константина Багрянородного говорится, что если священники будут «грубыя, не книжникы, то убо будеть зверем, рекше еретиком вольно входити и въсхыщати паству христову». Далее речь идет о том, из-за чего шли главные споры XIV в.: о неприличии «възводити мьздою на престол святительства»[139]. В слове: приписанном Григорию Богослову, говорится:«Полон мир попов, но делу божию редции ся обретають. Мнози, иже суть — не умеющий [вести церковную службу]; только в чин внидоша [получив сан] ищюще льготы и чести… Только мирская смышляють, а книг не почитають, но и учащих сторонних проповедников ненавидят»[140].Негодованием и презрением к пьянствующему духовенству наполнено поучение, приписанное святому Василию Великому[141]. Даю его в своем переводе:
Иереи! Учителями называетесь, а оказываетесь соблазнителями. Вы по своему святительскому сану почтены: пропитание и облачение получаете, а сами бесчестите сан свой. Вы пьянствуете как дикари, не знающие ни закона религии, ни книг и как неразумные скоты объедаетесь невоздержанно. Смрад идет из уст ваших, как из вскрытого гроба… От пьянства у вас тяжесть в теле, помрачение [ума] и очей ваших изменение. Как идолам языческим вы угождаете своему чреву; Сладостям [жизни] служите вы, а не богу! Тело свое предпочитаете душе. Вы лижете чужие трапезы и как сосущие щенки не можете насытиться от жадности своей. Вы ходите по чужим домам, не будучи приглашены никем. Как скот, откармливаемый на убой, вы объедаетесь и пьете. Вы льете [вино] в себя, как в дырявый сосуд, не в силах сдержать свою жадность и беснуетесь от пьянства! О, велико падение ваше и злостная невоздержанность! Многие незнающие ни [христианской] религии, ни книг спасаются, но попы, знающие закон, без милости будут осуждены. Господь сказал о таких: «Горе вам, учителя-книжники, так как, взявши ключ разумения царства небесного, вы сами [в него] не входите и стремящимся войти препятствуете!» Предостерегаю вас, священники, — если не изменитесь, то будете отстранены от богослужения. Если же вы служите, а этих [своих грехов] не оставите, то строже язычников осуждены будете [богом] как соблазнители, прельщающие людей и ведущие их на погибель в муку вечную!Мне кажется, что Стефан Пермский, поучая новгородцев в 1386 г. и упрекая уже убитого одиннадцать лет тому назад Карпа, имел в виду именно этот — в основном направленный против лживых учителей — подбор разнородных и красочных материалов, составленный первоначально на рубеже XIII и XIV столетий и переписанный в годы, близкие к приезду Стефана в Новгород.
Стригольник же [Карп], противно Христу повелеваеть, Яко от древа животнаго [«древа жизни»] — от причащения удалятися. Яко древо разумное, показывая им писание книжное, еже и списа на помощь ереси своей, дабы чим воставити народ на священникы[142].Эти слова епископа Стефана прямо указывают не на творческое участие Карпа, а на копирование им (или по его заказу) какого-то более раннего произведения, посвященного важной для него теме о малограмотных и бражничающих священниках. «Трифоновский сборник» был превосходной хрестоматией для проповедников из «простецов» — мирян — как в XIII в., так и в XIV в.
* * *
Скудная и отрывочная документация истории русской общественной мысли, и в том числе антиклерикального движения, обрисовывает нам следующие этапы его зарождения и развития.1. Первая треть XIII в. Продолжается борьба с язычеством и языческим духовенством — волхвами, против которого применяются самые жесткие меры (коллективное аутодафе, Новгород). В крупных городах (на примере Смоленска) среди низового духовенства прослеживается стремление ко всенародной проповеди, привлекающей «малых и великих», «работных и вельмож». Возникают такие сборники, как «Златая Чепь» (судя по диалектным особенностям, очевидно, во Пскове или Новгороде). Создается (может быть даже в конце XII в.) интереснейшее произведение — «Предъсловие честнаго покаяния», рекомендующее особый обряд всенародной проповеди перед исповедью и причастием, названной «предисловием». Такое предисловие требует хорошего знания христианской книжности; в случае неподготовленности священника он должен устраниться от проповеди и уступить место более начитанному и «чувственному», более эмоциональному проповеднику. Практическое применение обряда публичного «предисловия» перед покаянием прослеживается в Житии Авраамия Смоленского, вызвавшего своими всенародными проповедями и комментированием Священного писания резкое возмущение старшего духовенства вплоть до епископа. От владычного суда Авраамий был избавлен лишь вмешательством княжеской власти. Впоследствии Авраамий создал собственный монастырь под Смоленском, где произносил публичные проповеди (предисловия честного покаяния?), после которых отпускал грехи «малым и великим».
2. Рубеж XIII–XIV вв. (1274–1312 гг.) Церковные власти (на церковных соборах 1274 и 1312 гг.) с разных позиций резко критикуют духовенство как за взятки («мзда» и «протори» при поставлении), так и за малограмотность и пьянство. Возникает, очевидно общенародная, потребность в большей просвещенности и благопристойности быта приходского духовенства. В расчете на демократические круги городского посада (Пскова), на низшее духовенство и околоцерковных людей (певчие, чтецы, писцы, калики) создается замечательная антология различных поучений («Трифоновский сборник», введенный в науку А.Д. Седельниковым), предназначенных для перевоспитания духовенства и для оправдания замены иереев, имеющих сан, простыми мирянами, просвещенными «простецами». Здесь помещено созданное около столетия тому назад «Предъсловие честнаго покаяния», а обобщены все основные положения сборника в «Слове о лживых учителях», которое А.И. Клибанов справедливо считает принадлежащим перу составителя всего «Трифоновского сборника».
3. Судьбы ранней антиклерикальной литературы в XIV в. В княжение Ивана Калиты (1328–1340 гг.) «Трифоновский сборник» подвергается тенденциозному редактированию. Из него изымаются наиболее острые нападки на духовенство и остаются только те тексты, которые «могли быть допущены на полки дворцовых библиотек, чтобы служить интересам великокняжеской власти в ее противоречиях и конфликтах с церковью»[143]. Изъяты были в числе других и старинное «Предъсловие честнаго покаяния» и наиболее неприятное для духовенства «Слово о лживых учителях». Эта редакционная работа, очевидно, связана с той борьбой против еретиков в княжении Ивана Калиты, о которой глухо говорят наши источники. В 1355 г., когда стригольническое движение в Новгороде при владыке Моисее набирало силу, переписывается житие Авраамия Смоленского, написанное столетием раньше. Новгородцы или псковичи середины XIV в. сочли для себя необходимым вооружить своих читателей старым, но не устаревшим произведением аврамиста Ефрема. Авраамий тогда канонизован еще не был. Новый список жития — эстафета, принятая стригольниками XIV в. от аврамистов XIII в. В 1380-е годы воспроизводится «Власфимия» рубежа XIII–XIV вв. со всеми теми антиклерикальными сочинениями, которые в младшей редакции времен Калиты были решительно изъяты из нее. А.Д. Седельников безусловно прав, связывая эту новую копию, воспроизводящую более старинную полную редакцию во всем всеоружии своей полемической страстности, с движением стригольников. И «Предъсловие честнаго покаяния», идущее от эпохи аврамистов, и «Слово о лживых учителях» снова вошли в строй той литературы, которая в полемике с невежеством и разложением духовенства противопоставляла этим порокам идеалы гуманизма, страстно (хотя подчас и наивно) призывала к чтению книг, к созданию своих личных библиотек, к вдохновенному общению с народом.
Глава вторая Стригольники и исповедальный комплекс
Во всей полемической литературе XIV–XV вв., направленной против стригольников, на первом месте стоят два приписываемых им тезиса их учения: отрицание духовенства и отрицание важнейшего общехристианского таинства причащения, которому должно предшествовать покаяние в грехах «словом, делом и помышлением». Попутно в поучениях некоторых иерархов, далеких от новгородско-псковской общественной жизни, стригольники обвиняются дополнительно в порицании монашества и даже в отрицании загробной жизни (митрополит — грек Фотий, 1427)[144]. Основным обвинением остаются все же упреки духовенству, поставленному на мзде, ведущему неблаговидный образ жизни, неподготовленному к высокому призванию и в силу этих своих отрицательных качеств недостойному принимать исповедь кающихся прихожан. Признавая односторонний и тенденциозный характер источников, исследователи излишне доверчиво отнеслись к утверждениям одной из спорящих сторон — официальной, церковной и писали о полном отказе стригольников от такого важнейшего таинства, как евхаристия, и об отрицании ими духовенства вообще со всеми его функциями. Это давало возможность сближать стригольников с богомилами и отрицать связь стригольничества с более ранними движениями. Опора на односторонние источники, преднамеренно сгущавшие прегрешения стригольников против православия, приводила исследователей к преувеличению еретичности движения стригольников[145]. На суде историков было бы желательно выслушать и другую сторону — самих стригольников, но в руках тех историков, которые слишком строго судили этих еретиков, применяясь к нормам русской церкви XIV–XV вв., не было документации с этой другой спорившей тогда стороны. В настоящее время некоторые новые материалы мы можем представить. Вопрос о моральном облике духовенства после краткого обзора литературы, предшествующей стригольникам, можно оставить в стороне. Полемические произведения вроде «Слова о лживых учителях» полностью совпадают в своей констатационной части с констатацией верховных церковных кругов (например, «Правило митрополита Кирилла») по поводу морального и богословского уровня тогдашнего русского духовенства. Различие лишь в направленности: церковные власти хотели выявить, пригрозить наказанием и исправить, а посадские люди — выявить, укорить и плохих отодвинуть в сторону. Но наблюдали и те, и другие одно и то же; здесь разноречий между тогдашними церковными судьями и, так сказать, присяжными заседателями из посадских людей нет. Рассмотрим все, что относится к спорному (оставшемуся спорным) вопросу об исповеди и отпущении грехов. Первое, что должно нас заинтересовать, — это необычайная напряженность этой темы в средние века, настойчивость церкви при отказе прихожан от исповеди священникам, обращение к священному писанию в поисках истинного ответа. Получение сана (и прибыльного прихода) за взятки, пьянство «череву угодных попов», легкое житие иноков в обители и в миру (при сборе пожертвований) — все это было сторонними для народных масс минусами духовенства, не касавшимися непосредственно каждого человека. Контакты с иереями и клиром были двух родов: во-первых, в церкви во время богослужения или при исполнении треб, а во-вторых, при церемонии исповеди, когда грешный прихожанин или прихожанка один на один встречались со священником и когда нужно было не только рассказать о своих (осуждаемых самим кающимся) неблаговидных словах и делах, но и ответить на разные вопросы священника, принимающего исповедь и дающего отпущение грехов от имени самого бога. Прихожане, как правило, хорошо знали своего пастыря, слышали его проповеди, знали его нрав и обычай, его отношение к «страдникам» (см. выше дневник попа Саввы), его поездки в злачные места (там же), наполнение черпал на братчинных пирах… Почтенный посадский человек или молоденькая девушка могли попасть на исповедь именно к такому недостойному священнику (а исповедь была обязательна для всех православных начиная с 7 лет) и должны были раскрывать перед ним все свои прегрешения «словом, делом и помышлением» и подвергаться, кроме того, унизительным расспросам. Степень оскорбления человеческого достоинства и опасность разглашения поведанных духовнику грехов и замыслов (в случае шантажа) была очень велика для всех членов прихода, во главе которого стоял такой священник. Исповедоваться же в чужом приходе было запрещено. Однако мы только тогда в полной мере сможем оценить бесцеремонность и оскорбительность таинства исповеди, когда ознакомимся с таким изобретением средневековой церковной администрации, как упоминавшиеся выше специальные сборники исповедальных вопросов, превращавшие искреннее и добровольное раскаяние прихожанина в суровый принудительный допрос[146]. Родились эти сборники, по всей вероятности, из тех «вопрошаний», с которыми новгородское духовенство середины XII в. обращалось к епископу при различных казусах их церковной практики. Но заранее следует оговориться, что здесь нет и намека на стремление к допросу. «Вопрошания» XII в. обращены не к кающемуся прихожанину, а к более компетентному старшему представителю духовенства для получения советов. Молодые, неопытные иереи просто выясняли у епископа то, чего они сами не могли узнать из русской богослужебной литературы. Таково замечательное «Вопрошание Кюриково, еже въпраша епископа ноугородьского Нифонта и инех»[147]. Кирик (Кирилл) — новгородский математик и регент церковного хора в Антониевом монастыре, родился в 1110 г., а в 26 лет (1136 г.), уже в сане дьякона, написал свое знаменитое «Учение» о числах; он вел записи своих бесед с новгородским епископом Нифонтом и игуменом Аркадием[148]. «Кириково вопрошание» не столько дневник, как полагали некоторые исследователи, сколько своеобразная запись консультаций умного молодого священнослужителя у епископа, к которому он был близок. Тематика вопросов очень разнообразна, а записи сделаны совершенно бессистемно, очевидно, по мере возникновения сомнений и недоумений в процессе служебной практики. К беседам-консультациям привлекались и другие лица. Вопрошающими были Илья и Савва («Саввины главы» и «Ильино вопрошание»); в ответах участвовал игумен Аркадий, делались ссылки на игуменью Марину и игумена Клима, знакомого с греческой обрядностью. По поводу последней Кирик записал: «Се же написах не яко творити все то, но разума ради — ци коли ся что таково приводить» (стр. 32, § 38). Форма записей очень живая: Кирик спрашивал о степени греховности близости с женой в великой пост; Нифонт «разгневася». «Ци учите, рече, воздержатися в говение от жен? Грех вы в том!» Кирик иногда спорил и приносил с собою книги: «Прочтох же ему из некоторой заповеди (о том, что ребенок, зачатый в пятницу, субботу или в воскресенье, вырастет татем или разбойником)…» Епископ ответил: «А ты [те] книгы годиться сьжечи!» (с. 44, § 74). Очень красочно описано, как следует отгонять от себя сатану: Кирик полагал, что достаточно поднять руки вверх и пять раз произнести заклятие; «А Нифонт и сице молвяше: яко гоняше от себе [жестами] или речью на невидимого врага!» (с. 36, § 47). Записи Кирика пестрят жизненными деталями, вводя нас в характер этих бесед; ответ епископа нередко сопровождается упоминанием его реакции на тот или иной вопрос: «смеяшеся», «разгневася», «и он помолче…» Вопрос о посте грудного младенца встречен едкой репликой: «Ци луче уморити?»; описание процедуры перекрещивания католика в православие сопровождалось сентенцией: согласие на совершение обряда надо дать «поразумеюче — каков будет человек?» Обращение к новгородским летописям позволяет нам датировать начало бесед антоньевского доместика с владыкой Нифонтом. Вопрошание Кирика разбито издателем на 101 параграф; параграфы 19–22 посвящены сопоставлению русских православных обычаев с греческими, а в § 20 прямо указано обращение Кирика к митрополиту (стр. 30): «… рех [я сказал] митрополиту…» Единственным киевским митрополитом, приезжавшим в Новгород при Нифонте (1130–1156), был грек Михаил, пробывший в Новгороде два месяца, с 9 декабря 1134 г. по 10 февраля 1135 г.[149] Значит, беседа Кирика с митрополитом состоялась в зиму 1134/35 г., а первые 18 параграфов падают на 1131–1134 гг. Установление этой даты помогает нам понять загадочные §§ 23 и 24, непосредственно следующие за описанием беседы о греческой ритуальной практике:23. А зерно горющное прямь, рече, синап. 24. Еже пакы се в пророцъствии: «10 мужь имется [схватятся] за ризу жидовина» Уже было пленение и запустение, имаху бо ся за ризы властий своих… А уже бе никому же ни до чего же«Пленение и запустение» падают на зиму 1134/35 г., когда митрополита Михаила новгородцы задержали у себя, а в битве на Жданей Горе «победиша ростовци новгородцев и побиша множество их и воротишася ростовцы с победою великою»[150]. «Хватание своих властей за одежды» относится к следующему 1136 году, когда вся новгородская земля восстала против князя Всеволода Мстиславича, которого изгнали из его дворца, посадили с женой и тещей под стражу на епископский двор и предъявили ему список его провинностей. Осенью «убиша Юргя Жирославица и с мосту свергоша». При новом князе, Святославе Ольговиче, Кирик ненадолго стал летописцем и свое учение о числах ввел в летописное дело, упоминая и фазы луны, и индикт и даже мало кому известные календы[151]. Нового князя выгнали через «два года без трех месяцев». Вот эти-то все события, частично записанные рукою Кирика, и объясняют нам странно звучащие § 23 и 24: горчичное семя — семя начавшихся раздоров и мятежей, а библейский образ толпы, сдирающей одежды со своих властей, — отображение бурных событий, происшедших в Новгороде через три месяца после отъезда митрополита Михаила. Все девять упомянутых в «Вопрошании» лиц, тем или иным образом участвовавшие в обсуждении деталей церковной жизни (Кирик, Илья и Савва, митрополит Михаил, епископ Нифонт, его «попин», игумены Аркадий и Клим, игуменья Марина), должны быть причислены не к «лихим», а к «добрым пастырям». Сам Кирик в своих действиях, получающих одобрение владыки, выглядит разумным, инициативным и решительным пастырем, знающим и литературу и жизненные ситуации. Так, еще в начале 1130-х годов (т. е. в первых вопросах, заданных, очевидно, до приезда митрополита) Кирик воспретил какому-то новгородскому монаху паломничество в Иерусалим: «… сде [здесь, в своей земле] велю доброму ему быти» (§ 12, стр. 27). Епископ одобрил: «Велми, рече, добро твориши: да того деля идеть, абы порозну ходяче ясти и пити. А то — ино зло борони!..» Кирик нашел в литературе («а се прочтох ему…»), что епитимью, наложенную на согрешившего, можно заменить заказом (оплачиваемых) литургий: 10 литургий за 4 месяца, 30 литургий за год. Нифонт возмутился такой замаскированной индульгенцией кому бы то ни было («царь бы, али иний богатий») и лаконично резюмировал: «Неугодно!» Нифонт нередко смягчал церковные наказания по принципу: «а луче не запрещать силою — али болий грех» (§ 77). Кирика смутило, что епископ разрешил одному священнику причастить нераскаявшегося грешника, но «попу веляше пети, а без риз» (§ 52).Кирик отправился к Нифонту и тот ему разъяснил:(с. 30)
Тобе поведаю, Кюриче: того ради възбраниваю инем — ат и другыи, бояся того же, оже без риз поють, покаються!Нужно было очень широко мыслить, чтобы позволить себе отступить от незыблемого канона (сначала — покаяние и лишь после этого — отпущение грехов) ради сущности дела, ради того, чтобы упорствующий грешник был выставлен на всеобщее осуждение тем фактом, что «разрешальные» молитвы для него исполнялись без торжественного облачения духовенства, так сказать, начерно, как для тяжкобольного. Такой же гуманный педагогический прием Нифонт преподал и вопрошавшему его Илье.(с. 36–37)
А еже человек покается, а будуть у него греси мнози? То не повеле ми тогда же опитимьи дати, но что-любо мало — да оли тому обучиться; тоже придавати помалу, а не велми отягчати ему.Собеседования-консультации во владычных покоях, как видим, проходили серьезно, без формализма и излишнего ригоризма. Здесь щеголяли знанием и общехристианской, и русской литературы (правило митрополита Георгия, Слово Исайи пророка в его русифицированном виде), сюда приносили книги, комментировали и критиковали их, одним словом, действовали «разума ради», вполне в духе своего современника Климента Смолятича, с которым, впрочем, Нифонт был в неприязненных отношениях. Но время расцвета русской культуры сказалось в общем подъеме гуманности. Записи бесед-консультаций велись в очень живой форме тремя разными лицами (очевидно, в календарном порядке) с начала 1130-х годов. Как долго продолжалось записывание, установить трудно; предельная дата — смерть епископа Нифонта (1156), но единственное хронологическое приурочение — события 1134–1136 гг. Оно приходится на 23 и 24 позицию «Вопрошания»; после этого было обсуждено еще 76 вопросов Кирика и 52 вопроса Ильи и Саввы, которые, впрочем, могли быть и синхронны вопросам Кирика. Интересно то, что все три вопрошания тогда же, в середине XII в., объединились (без всякой систематизации) и проникли в XIII в. в Кормчую, в составе которой копировались вплоть до XVI в.(с. 59. Запись сделана самим Ильей: «не повеле ми»)
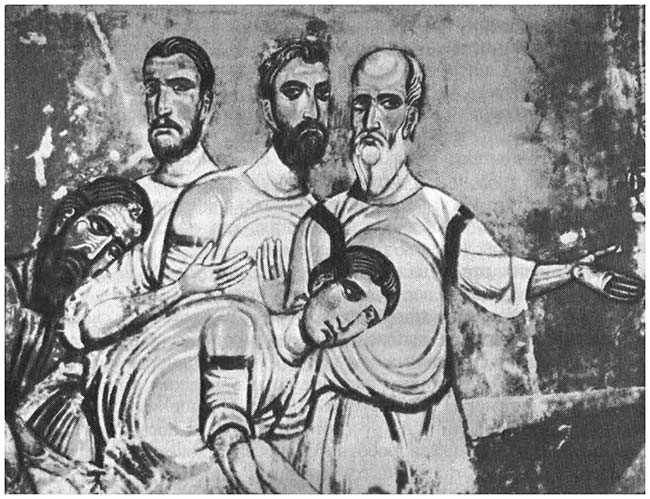
Рис. 7. Фреска Спасо-Мирожского собора во Пскове (середина XII в., построен при арх. Нифонте). Художником показана сложная гамма ощущений апостолов, наблюдающих чудо на Тивериадском озере. Живопись созвучна духу бесед епископа Нифонта с математиком Кириком.
Третья часть (!) всех вопросов (49 из 153) посвящена различным деталям таинства исповеди и причащения. Молодой дьякон Кирик интересовался подробностями действий духовенства во время совершения причастия и сложной системой «телесной чистоты» как священника, приступающего к обряду, так и кающегося (§§ 26, 27, 28, 29, 57, 77, 78). Никакого намека на расспросы исповедующихся священником нет во всем комплексе вопрошаний. Речь идет только лишь о скрупулезном выполнении обряда (чтобы псы не лизали вино, чтобы была тщательно протерта просфора, упавшая на землю, чтобы не было рвоты у принимающего причастие и т. п.) и о том, чтобы между принятием исповеди священником и его ночной близостью со своей попадьей был надлежащий, строго регламентированный интервал, т. е. чтобы принимающий исповедь был чист во верх смыслах. Для будущих стригольников такие представители среднего и старшего духовенства, как Кирик и Нифонт, были идеалом. Они полностью соответствовали представлениям стригольников и их предшественников о «добрых пастырях», противопоставляемых «лихим пастухам»: они — книжны, учительны, строги к себе, благожелательны к прихожанам, гуманны, критичны к апокрифической литературе, снисходительны к младшим по возрасту («аже молод и не воздерьжлив — не боронити»), уважительны к женщине («ци погана есть жена!?»), заботливы к социальным низам и суровы к попам-ростовщикам (§ 4). Вот эти-то качества и позволили «Вопрошанию Кирикову» просуществовать в ряде списков с XII по XVI в. включительно. Своеобразие источника — не сочинение, не поучение, а личные записи по мере возникновения неясностей — является гарантией правдивости.
* * *
В XIII–XIV вв., как мы видим, русские церковные писатели, стремясь повысить авторитет духовенства, сознательно обрисовывали быт и моральный облик его худших представителей весьма неприглядными чертами. Прихожане, естественно, знали поведение своих пастырей не хуже церковного начальства, и в их среде, у «мирян», у «простецов», возникла чрезвычайно опасная для церкви идея о «лживых учителях». Призывы к чистому житию, к познанию книжности и проповедческого искусства редко достигали цели: в конце XV в. новгородский архиепископ Геннадий жаловался на малограмотность священников, а в середине XVI в. Иван Грозный открыто предъявил на Стоглавом соборе огромный счет русской церкви по многим статьям. Однако, несмотря на обилие собственных провинностей, священники оставались судьями своих прихожан, узнавали об их грехах на исповеди-допросе и назначали им епитимью — наказание. Несоответствие того или иного священника роли судьи и посредника между людьми и богом создавало многовековой конфликт, фокусом которого явилось таинство причащения, где каждый прихожанин или прихожанка должны были сообщить своему духовному отцу обо всех своих проступках, помыслах и замыслах, независимо от морального облика и репутации этого отца. Вынужденность покаяния только своему приходскому священнику неизбежно приводила исповедающихся к сопоставлению христианских принципов с реальным поведением их духовного отца, который нередко оказывался «лихим пастырем», и к поискам в православной книжности примеров непосредственного обращения к богу. Священные книги стали для русского городского посада оружием к самообороне от излишней любознательности духовенства и позволили перейти (опираясь также на современные решения русских церковных соборов) в наступление на разложившуюся часть духовенства. То обстоятельство, что лучшие церковные писатели в пору тягчайшего чужеземного ига возвели покаяние в грехах в высокий разряд общенародного подвига, могущего унять божью казнь, придавало особую остроту конфронтации лихих пастырей и народа на почве исповеди и покаяния. Все возраставшие справедливые (и в силу этого трудно опровергаемые) нападки на духовенство привели к тому, что у него возникла своеобразная защитная реакция, принцип которой хорошо выражен известным инициалом XIV в.: буква М в новгородской рукописи (псалтирь XIV в.) изображена в виде двух рыбаков, тянущих невод с рыбой. Один из них кричит другому: «Потяни, корвинъ сынъ!»; другой, обиженный, огрызается: «Самъ еси таковъ!» Приходское духовенство в XIV в. оказалось в положении огрызающегося и ответило на критическую литературу «предстригольников» (вроде приведенного выше «Слова о лживых учителях») огромной серией заранее заготовленных сборников исповедальных вопросов, так называемых «чинов» или «последований исповеди». Это была частная инициатива; Е.Е. Голубинский пишет: «Вина за эти истинно соблазнительные последования, представляющие собою источник к изучению византийского разврата, никоим образом не должна быть возлагаема на церковь, как на таковую. Последования составлены разными частными духовниками и не получали ни малейшей апробации церкви»[152]. Перечни всевозможных предполагаемых грехов критически мыслящих прихожан были оружием самообороны «лихого пастуха» и составлялись они по принципу: «Сами есте таковы!» Оружие оказалось особенно острым в силу того, что исповедь была тайной, принималась без свидетелей; это, с одной стороны, располагало кающегося к большей откровенности, а с другой стороны, делало сведения, полученные духовником, бесконтрольными, недоступными проверке. В научный оборот сборники исповедальных вопросов были введены А. Алмазовым еще в конце XIX в. Но в очень малой степени они были использованы при рассмотрении истории русской общественной мысли[153]. Рукописи вопросников датируются XIV–XVII вв. К концу этого периода появляется особая форма покаяния, настолько гиперболизированная, что в ней исчезла обида того или иного конкретного кающегося на задающего каверзные вопросы исповедника: пришедшему на исповедь предлагалось признать свою полную виновность во всех мыслимых и немыслимых грехах. Вот несколько примеров:«… Горе мне грешному — несть убо толь грешна человека по всей тысящи лет, ни в живых, ни в мертвых, якоже аз, окаянный!..» «Согреших, отче, каюся, прости мя и благослови грешнаго! Несть бо того греха, иже аз, окаянный, не согрешил!..»[154]
«… Боже! Очисти мя грешнаго и помилуй мя!.. Без числа согреших от начала живота моего: От востока до запада, от юга и до севера, От земли и до небеси…» «Пача листа и травы и песка морьского мои греси без числа суть!» «Паче всех человек аз, окаянный, согреших…»
«Аз есмь бездна согрешению и пучина беззаконию. Несть бо того греха, его же не сотворих аз, Окаянный, но во всех каются тебе, творцу моему и Богу. Господи, прости мя!»[155]Покаяние по этой поэтичной, но абсолютно лишенной индивидуальных черт форме нисколько не уязвляло человеческого достоинства кающегося и по существу являлось безобидной формальностью. На раннем этапе, особенно интересующем нас (XIV–XV вв.), характер вопросников был совершенно иным. Исповедник-инквизитор выискивал интимные детали быта, нередко скрытые от посторонних глаз, и выпытывал их. Только небольшая часть исповедальных вопросов приближалась к тематике бесед Кирика с Нифонтом, во время которых уточнялись обязанности священников и их, священников, нормы интимной жизни, связанные с сакральным отношением к духовной и телесной чистоте пастырей. Здесь, в вопросниках, встречается тематика, связанная с религией и обрядностью, но не часто.
Кающийся грешил: неверием святыя заповеди Христа Бога нашего, леностью и слабостью и небрежением о святых писаний. Непослушанием отецъ духовных и прекословием, Осуждением, оболганием и оклеветанием отецъ духовных…[156]Подобные расспросы сразу переносят нас в эпоху сомнений, критики, конфронтации мирян и духовенства и брожения внутри самого духовенства.
А не грешил ли ты, «преписывая святая писания по своему норову и по своему хотению, а не якоже се писано»?
А не грешил ли ты «о пытании тайн глубин неведомых, о божестве и пречистых тайных [таинствах]»?(с. 216)
А не грешил ли ты, «приложив еси книжная словеса на хулное слово или кощуну? Пост два лета»Прямо против стригольников направлены такие перечни прегрешений:(с. 150)
… Похулив церковь божию… и вся книги божественныа святых отецъ писани, собою исправливая и иных уча не по уставу, похулив и осудив священника, служащаго божественную литургию… смутив священника в церкви… а сам предстоях в церкви с великою мерзостию… и неверовах писанию, что писано о церкви божии; нечисто прихождах в ней, якоже в простую храмину со всякою злобою. Пытах о судьбах божиих и похулив судьбы божии и разсужах о судьбах божиих своим неразумием и злослових[157].Вот еще один пример:
Человек грешил «… во церкви глумлением и повествованием, люди соблажняя… и многия священники в службе и во всяком пении и правиле осужах и хулих, а сам хвалихся во исправлениа пения и службы и во всяком пении и правилах и добр творяся и многоречив пред человекы…» (с. 232).Читая перечисление грехов человека, стремящегося постигнуть «тайны глубин неведомых», исправляющего «по своему норову» священные книги и приходящего в церковь лишь для того, чтобы дать молящимся исправленное им богослужение, мы как бы видим деятельного стригольника в его повседневной обстановке борьбы за очищенную веру и обрядность. Эта часть «чинов исповедания» резко контрастирует с механически соединенными с ней вопросами о пьянстве и разврате (возможно, другого происхождения). Разложение духовенства, а может быть и нездоровое соперничество священников, заинтересованных в умножении причащающихся (переход к иному духовнику иногда разрешался), сказывается в специальных «священнических исповеданиях», когда один священник исповедовался другому. Кающегося священника его собрат спрашивал: не является ли он онанистом, педерастом, пьяницей, соблазнителем невесты христовой — монахини или схимницы (!), а также о том, не подговаривал ли он исповедовавшуюся у него «дочерь духовную на блуд или плясал с нею»? (с. 237). Верхом изощренности являются перечни предполагаемых грехов, по которым опрашиваются простые миряне:
А се въпрос женам [новгородская рукопись XIV в.]: Переже, како доиде греха — с законьнымъ ли мужемъ или блужением? С деверем ци доиде греха? Ци доиде со отцем, ци с братом доиде родным?Далее священник спрашивает: о лесбианстве, о технических деталях полового сношения с мужем, об онанизме кающейся (с выяснением деталей), об убийстве своего новорожденного ребенка, о сводничестве (с. 159). Эта рукопись относится к разгару стригольнического движения — к XIV в. и четко обрисовывает оскорбительность подобного допроса. Еще один пример:
Въпрос женам [рукопись XV в.]: Како во первых растлеся девьство твое — блуда ради растлися или со законным мужем или его двема или с тремя? Наказание: пост 3 летаИсповедальные вопросники содержат длинные перечни тех лиц и существ, с которыми женщина или девушка могла согрешить, «сотворив блуд» с ними. Вот перечень из одного вопросника:(с. 160).
Отец родной, Крестный отец, Отчим, Деверь, зять, кум, Отец духовный, Монах, Схимник, Поп, дьякон, Дьячек, пономарь, Слуга монастырский, «Или со скотом блуда не сотворила ли?»Далее в этом бесстыдном перечне идут вопросы о лесбианстве, о взаимном онанизме и о таких технических деталях, которые здесь немыслимо даже называть (с. 179). Перечень мужских прегрешений еще шире. Что касается объектов блуда, то в их число кроме пассивных педерастов входят и родная дочь, и сестра, и невестка, и падчерица с мачехой, и даже сноха с тещей (с. 147, 150). Исповедающийся должен отвечать и на такие вопросы, как: не занимался ли он онанизмом в церкви во время «божественного пения»? (стр. 214), не держал ли публичный дом с проститутками («…ции корчму и блудныя жены держал на блужение приходящим?» с. 178)[158]. Приведенных примеров более чем достаточно для того, чтобы ощутить всю омерзительность подобных собеседований духовного отца с прихожанами. Это была откровенная месть «лихих пастухов» своему духовному стаду, возмутившемуся против права духовенства прощать и наказывать своих духовных дочерей и сынов, братьев и сестер. Составители скабрезных вопросников оказывали весьма сомнительную услугу своей церкви, т. к., во-первых, они подтверждали, что даже в монастыре все, кроме игумена, могли вступать в связь с женщинами (см. последний пример), что священники могли сами заниматься разными видами разврата, что за таинство причащения исповедник получал «дарок», «мзду», что принимающий исповедь духовный отец мог плясать с той женщиной, которая искала у него отпущения грехов… Во-вторых, недостаточно книжные исповедники не знали того, что православная церковь была против такого копания в половой сфере жизни своих прихожан и прихожанок:
Исповедуясь Богу, должен ли я вспоминать и счислять все грехи, которые я сделал? Никоим образом! И особенно если согрешил телом и блудом, ибо когда хочешь ты припомнить такой-то и такой-то грех, то оскверняется твоя душа…В-третьих, беззастенчивый интерес к технике супружеских отношений и различных половых извращений неизбежно вел к оскорблению и возмущению не только юных девушек («… аще девство цело есть…»), но и всех поколений прихожан, находившихся в церковной зависимости от таких любознательных посредников между людьми и Богом. Поэтому посадские люди с интересом слушали рассказы калик-паломников о покаянии в святой земле ветхозаветным и евангельским святыням без посредников или прислушивались к словам проникшего в храм «многоречивого» стригольника, смущающего богомольцев своими вольными речами об исправлении книг. Поэтому вчитывались в псалтирь и другие книги, где говорилось о непосредственном общении с богом, и поэтому постоянно подчеркивали недостойное поведение самих неизбежных посредников, отвечая на их укоры в греховности по бытовавшему тогда принципу: «Сам еси таков!» Стригольники выходили на бой с открытым забралом, т. к. даже по словам их оппонентов они были людьми чистого жития, людьми книжными, постниками и молебниками, стремившимися заменить или потеснить лживых учителей если не в праве приема исповеди, то по крайней мере, в произнесении общей вступительной речи — «предисловия честного покаяния».(Петр, Хартофилакс цареградского партиарха. XI в.)[159]
Стригольнические покаянные кресты
Проблема причастия и индивидуальной тайной исповеди была краеугольным камнем в спорах церковных полемистов со стригольнической оппозицией. Второй предмет спора — поставление священников «на мзде», т. е. оплата кандидатом посвящения в сан и предоставления ему доходного места (прихода) — был и по существу второстепенным: стригольникам нужно было тем или иным способом уязвить духовенство и показать, что каждый член духовного сословия изначально греховен. Третья тема — неудовлетворительный нравственный уровень и низкая образованность духовенства — постоянно присутствовала в полемике, но не была спорной, так как сами церковные власти и соборы, в равной мере с оппозиционным городским посадом, осуждали эти недостатки приходского духовенства. Нас должен заинтересовать следующий вопрос: так ли обязательна была начитанность священника для выслушивания прегрешений его прихожанина? Почему так строго судили люди недостаточно книжного иерея: ведь в процессе принятия индивидуальной исповеди роль священника была в значительной мере пассивной: выслушать, назначить епитимью и отпустить именем бога грехи. Ответ содержится в неоднократно упомянутом выше «Предъсловии честного покаяния», которое являлось общественной проповедью, предшествовавшей самому таинству покаяния и причастия, настраивавшей всех прихожан на полную откровенность при исповеди каждого из них. Такое общеприходское торжественное мероприятие могло производиться в тот главный, обязательный для раскаяния день, каким являлся Великий Четверг на страстной неделе, день тайной вечери Иисуса с апостолами. Страстная неделя по особому пасхальному календарю всегда приходится на весеннее время (главным образом на апрель), и предисповедная проповедь могла проводиться под открытым небом на земле, покрытой свежей зеленью. В диапазоне пасхального праздничного цикла на Руси происходила и встреча весны, и пахота, и сев яровых, и первый выгон скота в Юрьев день (23 апреля). Все это было прямо связано с землей, со сроками древних аграрно-магических обрядов, к которым были приурочены новые православные праздники. Один из лучших церковных ораторов — Кирилл, епископ Туровский, так воспел послепасхальные дни (начинающиеся через 10 суток после покаянного Великого Четверга):Еще же и сию ересь прилагаете, стригольницы, — велите земли каятися человеку… А кто исповедается земли — то исповедание не исповедание есть: земля бо бездушна тварь есть — не слышит и не умеет отвечати и не въспретит сьгрешающемуСредневековые люди католического Запада, по словам того «философа», который разъяснял Владимиру I сущность христианства, сохранили древнее почтительное отношение к земле и небу: они «землю глаголють ма́терию. Да аще им есть земля мати, то отьць им есть небо»[162]. В произведениях русского фольклора земля устойчиво называлась «Мать-Сыра-Земля», т. е. земля, напоенная небесной влагой. Возможно, что весенняя предпокаянная проповедь стригольников была одной из форм оттеснения языческих обрядов и замены их публичной проповедью красноречивого «молебника и книжника». Воспитанное тысячелетиями миропонимание земледельцев заключало в себе уважительное отношение и к рождающей хлеба́ земле, и к орошающему и согревающему эту землю небу. Эти два важнейших элемента природы и были в центре внимания стригольников. Митрополит Фотий упрекал стригольников в том, что(Стефан Пермский)[161]
… стриголници, отпадающей от бога и на небо взирающе беху, тамо отца собе наричают, а понеже бо самых того истинных еуаггельскых благовестей и преданий апостольскых и отеческых не верующе, но како смеют, от земли к въздуху зряще, бога отца собе нарицающе?.. «… И котории тие стриголници от своего заблужениа не имут чисто веровати православия истинаго, ни к божьим церквам — к небу земному — не имуть быти прибегающе и на покаяние к своим отцем духовным не имуть приходити…» [от тех следует удаляться и их наказывать][163].Митрополит, естественно, не отрицает наличия божества на небе, но считает, что стригольники недостойны называть его своим отцом в силу того, что они пренебрегают церковью («небом земным») и не являются на исповедь к своим духовным отцам. Из этой констатации исследователи делали нередко вывод о том, что стригольники вообще отрицали само таинство причащения. Однако прямое свидетельство Стефана Пермского о том, что стригольники «исповедовались земле», не позволяет делать такого крайнего вывода: у епископа речь идет о признании стригольниками самой сущности таинства, но порицается форма проведения обряда, отстраняющая посредника — иерея. Стригольник исповедуется непосредственно богу и местом такой исповеди является не церковь, не библейские священные места (как у калик перехожих), а природа, открытые пространства, где можно мысленно или словесно обратиться к матери-земле и «от земли к воздуху зряще» поведать свои грехи отцу небесному. Обвинять стригольников в отрицании одного из важнейших христианских таинств нельзя. Они были повинны (с точки зрения церкви) лишь в том, что самовольно отстраняли духовенство от руководства процедурой покаяния и отпущения грехов, оставляя тем самым каждого человека один на один с богом; обоснование этого стригольники отыскивали в священных книгах, в частности в псалтири. В этом проявлялась главная гуманистическая черта нового вида покаяния, раскрепощавшая человека, оборонявшая его человеческое достоинство и дававшая ему независимость от «лихих пастырей». Предварительная проповедь, обращенная ко всем прихожанам, сплачивала их, делала обряд более торжественным общественным обрядом (рис. 8).

Рис. 8. Покаянные кресты из окрестностей Новгорода. Надписи на крестах второй половины XIV в. содержат обращенную к богу просьбу о прощении грехов живому грешнику и о предоставлении ему вечной жизни в будущем мире. Для написания своего имени каждым кающимся в середине креста оставлено гладкое место. Левый крест найден за северной окраиной Новгорода; правый из Аркажа монастыря. (Рисунки проф. А.А. Спицына). Схема-расшифровка помещена на рис. 14.
* * *
Исходя из наметившихся признаков стригольнической обрядности («предисловие» в день обязательного покаяния, весеннее время этого общего собора и необходимость открытого пространства для обращения к земле и к небу), мы должны обратить внимание на обилие в Новгородско-Псковской епархии монументальных каменных крестов, поставленных вне церквей, на дорогах, на перепутьях. В.В. Седов составил карту размещения этих крестов, являвшихся не надмогильными, а «поклонными» или памятными[164]. В некоторых случаях постановка креста отмечала какое-то реальное событие. Таков, например, крест новгородского боярина Ивана Павловича 1133 г., поставленный в самых верховьях Волги при впадении ее в озеро Стерж. Высота креста 167 см. Надпись на нем:В ЛѢТО 6641 (1133) МѢСАЦА ИЮЛѦ 14 ДЕНЬ ПОЧАХЪ РЫТИ РѢКУ СЮ АЗЪ ИВАНКО ПАВЛОВIЦЬ I КРЕСТЬ СЬ ПОСТАВИХЪ[165].Через год после каких-то гидротехнических работ в самых верховьях Волги, проведенных 14 июля 1133 г., Иванко Павлович был избран новгородским посадником. Этот датированный крест открывает собой длинный ряд каменных крестов XII–XVII вв. разного, в том числе и не погребального, назначения. К этому ряду следует добавить множество деревянных крестов, доживших до XX в. Таким образом, Новгородская земля вплоть до Северной Двины и Белого моря была обеспечена большим количеством священных мест, где православный человек мог помолиться вне церкви, а зачастую и далеко от церкви. Совершенно особый интерес для нашей темы представляют кресты из окрестностей Новгорода с покаянными надписями (рис. 7, 8 и 14). А.А. Спицын успел опубликовать два таких креста (утраченных к 1903 г.) и тем сохранить их для науки. Третий крест опубликован П.П. Покрышкиным, производившим архитектурное обследование и реставрацию Спасо-Нередицкой церкви. О четвертом кресте, вделанном в апсиду Федоровской церкви на Софийской стороне, мне сообщила Т.В. Николаева и любезно передала свою зарисовку[166]. Особый интерес представляют огромные (до 2 м высоты), предназначенные для вкапывания в землю кресты из Аркажи и из стен Борисоглебской церкви в углу Плотницкого конца Новгорода. Оба креста сверху донизу покрыты крупными обронными (выпуклыми) надписями, палеографически датируемыми серединой XIV в. (см. рис. 7). Борисоглебский крест изготовлен особенно тщательно: все восемь ответвлений креста обведены рельефной рамкой, в центре вырезан рельефом же небольшой крестик; буквы расположены в 16 коротких строк и исполнены с большим мастерством. В надписи многие слова даны под титлами как привычные аббревиатуры. В расшифровке (и без соблюдения строк и орфографии) надпись такова:
Исус Христос. Царь славы. Ника. Господи, спаси и помилуй раба своего [оставлено место для имени] Дай, Господи, ему здоровье и спасенье, отданье грехов, а в будущий век — жизнь [вечную].Крест явно не надмогильный, так как неупомянутому рабу божьему испрашивается не только прощение грехов, но и здравие. Датировка этого креста, встроенного в стену церкви Бориса и Глеба, уточняется летописной датой постройки самой церкви: 1377 г.[167] Следовательно, крест был изготовлен в третьей четверти XIV в. до 1377 г., вырыт из земли и сохранен, но не на своем месте, а был вмонтирован в стену строившегося храма. Для будущих размышлений отмечу, что архиепископ Алексей, очевидно, санкционировал это. Второй крест был найден близ Успенской церкви того монастыря, который основан в XII в. одним из собеседников Кирика, игуменом Аркадием. Надпись выполнена менее тщательно, и порядок слов сильно запутан. Расшифровка дает следующее:
Исус Христос. Царь славы. Ника, Всему миру владыка. Царству его же (о?) не кончатис[я] Спаси и помилуй раба своего [оставлено место для имени] Дай, Господи, ему здравье и спасенье, отданье грехов, а в будущий век — жизнь вечнуя.Особенностью этих новгородских крестов является их нарочитая, предусмотренная мастером безымянность, плохо сочетающаяся с грамматической формой единственного числа («раба своего», «ему»). Для имени (а на борисоглебском кресте — даже и для отчества) оставлено гладкое пространство, но вырезание рельефных букв, как во всей надписи, здесь несомненно не предусматривалось, т. к. «поле» надписи, над которым должны возвышаться буквы, здесь уже полностью счищено заподлицо с полем всей обронной надписи. Загадка решается просто, если мы допустим, что задача мастера состояла не в том, чтобы изготовить крест для одного человека или впрок (в обоих случаях нужно было бы оставить заготовку без выдалбливания фона), а для написания на кресте временных надписей, имен разных сменяющих друг друга лиц[168]. Эти временные надписи на гладкой поверхности, оставленной для имен разных рабов божиих, могли наноситься углем, воском свечи и стирались по миновении надобности. Допущение о разных лицах основано на грамматической форме, закрепленной тщательно вырезанными рельефными буквами. Кресты были частью некоего обряда, при котором каждый молившийся от своего имени индивидуально обращался к Богу. Обряд состоял из суммы последовательных индивидуальных обращений к Богу, квинтэссенция которых выражалась постоянной надписью на каменном кресте; бог должен был дать: здоровье, прощение грехов (перечисленных устно или мысленно) и пребывание в царстве небесном после смерти. Нередицкий крест, от которого уцелело лишь три обломка, дает иную формулу:
… НИ… ЛѢ ХРОСТЪ СЕ ЯЗЬ РАБЪ… (Далее оставлено место для имени)В отличие от первых двух крестов здесь на пространстве для имени какой-то новгородец того же XIV в. размашисто нацарапал ножом:
«ВАСИЛИI С БРАТОМЪ СВОIМЪ (Е) ОВСЕЕМЪ»[169].Четвертый новгородский крест подобного типа и того же времени обнаружен в стене Федоровской церкви на Софийской стороне Новгорода; две лопасти из трех отбиты. Форма его значительно изысканнее рассмотренных нами, но надпись предельно сокращена: в трех секирообразных лопастях умещались только три аббревиатуры: IСЪ (существует), ХСЪ NНКА (предполагаются по аналогии). На цоколе креста четкая обронная надпись:
CNIO, СПОДИ, ПОМИЛ УIОчевидно, читать следует так: «Спаси, Господи, помилуй». Далее оставлено место для имени. Силуэт такого креста, врытого в землю, должен напоминать женскую фигуру в широкой одежде с раскинутыми в стороны руками. Может быть, это связано со средневековым культом матери-земли?
* * *
Интереснейшие кресты из окраин и пригородов Новгорода XIV в. раскрывают, как мне кажется, исповедальный обряд тогдашних стригольников. Он, по всей вероятности, должен был состоять из трех этапов. 1. Проповедь (собранию) прихожан, произносимая хорошим знатоком православной книжности. Она могла происходить и «на ширинах градных», в чем упрекал стригольников Стефан Пермский. Это — предисловие честного покаяния. 2. Индивидуальное покаяние у загородного каменного креста, врытого в землю и находившегося под открытым небом. Наличие двух голгофских крестов, вырезанных посреди надписей и расположенных на разной высоте (Аркажский крест), может говорить о такой детали обряда: кающийся подходит к кресту, целует верхний крест и пишет свое имя на отведенном для этого гладком пространстве креста. Судя по борисоглебскому кресту, на этом пространстве могло уместиться не только имя, но и отчество очередного раба божия. Этот верхний голгофский крест расположен на высоте около полутора метров и может быть поцелован стоя; нижний же крест вырезан значительно ниже, на расстоянии 80-100 см от земли, и приложиться к нему можно было, только стоя на коленях на земле у подножья креста. Верхний голгофский крест связан, по-видимому, с началом, приступом к исповеди, а нижний, приземленный — с самой исповедью, с перечислением (устным или мысленным) своих прегрешений, производившимся коленопреклоненно. Нижний крест находится рядом с заключительной формулой-просьбой: «Дай, господи, ему здравье и спасенье, отданье грехов…» Такую заключительную фразу должен был бы в церкви произносить священник, рассматриваемый как неизбежный посредник между людьми и богом. Здесь же она навечно вырезана на камне, заменяя посредника и храня тайны всех грешников, стоявших на коленях на земле у подножья монументального покаянного креста. Даже в поучении Стефана Пермского мы не найдем безусловного указания на полное, принципиальное отрицание стригольниками таинства исповеди как такового. Епископ постоянно подчеркивает, что основа отказа стригольников от церковной исповеди у священника лежит в неприятии стригольниками тогдашнего городского духовенства в его весьма неприглядном виде:Вы, стригольницы, тако глаголете: «Сии учители пьяницы суть: ядят и пьют с пьяницами и взимают от них злато и сребро и порты от живых и от мертвых» … Сю бо злую сеть (отказ от исповеди попам) дьявол положил Карпом — стригольником, что не велел исповедатися к попом…[170]Кому же можно было поведать свои грехи и испросить отпущения их? Богу, только самому богу, на виду у неба и земли, как «твари», творчеству бога. 3. Вслед за исповедью должно последовать таинство евхаристии, принятие причастия, «святых даров». Епископ Стефан упрекал Карпа в том, что «стригольник, противно Христу повелеваеть, яко от древа животнаго, от причащения удалятися… дабы чим воставити народ на священникы»[171]. Здесь речь идет не о таинстве вообще, а о принятии причастия из рук священников, «яко [те] не по достоянию поставляеми», а по «мзде», за взятки. Если вопрос о стригольнической исповеди может быть решен с помощью приведенных выше покаянных крестов, то проблема евхаристии значительно сложнее и может быть рассмотрена нами в дальнейшем лишь после анализа новгородских общественных и церковных событий XIV в. с привлечением такого драгоценного памятника древнерусского искусства, как фрески Успенской церкви в пригородном монастыре на Волотовом поле (1353–1380?), которым распоряжались в эти годы то преследователи стригольников, то их покровители[172].
* * *
Некоторое представление об исповеди без участия духовенства дают упоминавшиеся выше руководства по проведению процедуры покаяния. Интересно сочинение, основа которого приписана Дионисию Ареопагиту, «глубиномудростному философу», ученику апостола Павла, а передача другим поколениям — Иоанну Дамаскину.Исповедание грехов повседневное к самому господу Богу… … Егда кто хощет сице исповедатися господеви богу своему, то особь, наедине став, воздев руце свои на небо и крестообразно распростер или пады лицем на землю и руце також крестообразно распростер — тогда въспоминай грехи своя со многим смирением, в сокрушении сердца, с воздыханием и со слезами, внимай коемуждо слову… Особо подчеркивается обязательность быть наедине с богом без посторонних свидетелей; рекомендуется ночная исповедь (в доме): … но тако як же особь, наедине. Да не тако, кто, видя тя, творяща — погубиши мзду [награду] свою тщеславием… Егда молишис(я) — вниди в клеть свою и затвори двери твоя и помолись отцу твоему втайне и воздаст тебе яве.Далее следует обоснование такого исповедания без посредника ссылками на несуществующие примеры действий святых отцов далекой старины:
Сим словесем господним последующе вси святии апостоли и с ними же святый великый апостол Павел, не от человек наученный, но самим Исусом Христом, богом на небесах… … Посем мнози святии, последующе ему, яко премудру учителю вселенныа, сими словесы его исповедашася господеви богу во вся дни и ночи и услышана [богом] быша, в небесное царство достигоша внити…[173]После определения процедуры такого одиночного, скрытого покаяния идет общая формула всех возможных греховных действий: нарушил все 10 заповедей, совершил все 7 смертных грехов, согрешил всеми 5 чувствами и не сотворил ни одной из б добродетелей[174]. Рукопись, в которой помещено это «Исповедание», к сожалению, поздняя — она относится к XVII в., и обобщенность греховности, своего рода «панамартолизм», «всегрешность» кающегося, характерна именно для этого времени, но фигуры новгородцев XIV в., отходящие в сторону от церкви и поднимающие к небу миниатюрные модели своих «клетей», хорошо известны нам по фронтиспису рукописи времен расцвета стригольничества (см. главу 4). Понятным нам становятся и упреки стригольникам в том, что они исповедаются земле (здесь: «падают лицом на землю») и начинают исповедь, обращаясь к небу. Автор «Исповедания» показал нам две формы стригольнической обрядности: моление под открытым небом на земле (м. б. у врытого в землю креста?) и домашнюю тайную исповедь «в своей клети». Остается найти материальное подтверждение третьей формы стригольнических молений — «на ширинах градных». Но для того, чтобы завершить анализ покаянных крестов окрестностей Новгорода, нам следует выяснить ту историческую обстановку, которая привела к перемещению этих монументов в толщу каменных стен церквей или в пределы церковных оград (Аркажа). Единственное надежное сведение относится к борисоглебскому кресту, встроенному в церковь, завершенную и освещенную в 1377 г. (очевидно, в день Бориса и Глеба 2 мая), а начатую постройкой, вероятно, в 1376 г. Вполне возможно, что утрата этим крестом, врытым где-то в землю, своего первичного места связана с событиями 1375 г., когда произошла расправа с Карпом и другими стригольниками. Покаянные кресты оказались опальными свидетелями гонимого культа, но, поскольку ни одна из надписей на кресте не выходила за канонические рамки покаянной молитвы, то просто уничтожить крест не представлялось возможным, и владыка Алексей освятил церковь Бориса и Глеба в Плотниках со встроенным в нее крестом. Так как известные нам кресты однотипны и все они палеографически могут быть сближены с крестом архиепископа Алексея (1376 г.)[175], то, несмотря на единичность борисоглебского креста, мы можем считать, что и остальные стригольнические покаянные кресты были лишены своих первичных мест в 1370-е годы, в годы решительного наступления каких-то сил на это гуманистическое движение.
Глава третья Древо разумное
Людогощинский крест 1359 (1360) г
Совершенно исключительную ценность для познания стригольнического движения середины XIV в. представляет знаменитый Людогощинский крест (рис. 9), давно известный науке и много раз опубликованный как образец русской скульптурной резьбы. Деревянный крест высотою в морскую сажень (183 см) и шириной около половины «великой косой» сажени (130 см) сохранился в Новгороде в церкви Флора и Лавра на Людогощей улице, в западной части Софийской стороны города.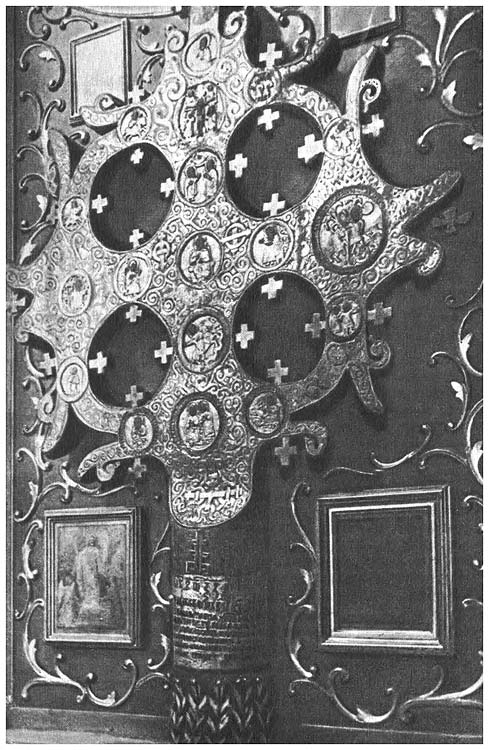
Рис. 9. Общий вид Людогощинского креста 1359/60 г. в XIX в. (в интерьере церкви Флора и Лавра на Людогощей улице Новгорода Великого).
По всей вероятности, это вторичное местонахождение креста. Он был предназначен для того, чтобы быть не внутри церкви, а вне церкви, «на всяком месте», как явствует из надписи, вырезанной на нем. Каменные кресты могли стоять просто под открытым небом, но деревянные кресты требовали какого-то покрытия, навеса (рис. 10). Таковы многочисленные сооружения на четырех столбах с пирамидальной крышей, под которой стоит деревянная статуя Иисуса Христа или какого-либо святого, дожившие до наших дней в Польше.

Рис. 10. Вид Людогощинского креста после реставрации.
Полная необработанность людогощинского креста с обратной стороны говорит о том, что сооружение для защиты креста от дождей должно было находиться у какой-то стены с тем, чтобы эта задняя сторона не была видна богомольцам. Крест был раскрашен в древности в духе средневековой деревянной скульптуры треченто-кватроченте. Реставраторы в 1947–1949 гг. уловили лишь красочные слои XVI и XVII вв., но эта роспись, по всей вероятности, лишь повторяла первоначальную. В пользу того, что крест изначально был расписан, говорит то, что сам художник, испрашивая у бога помилования, употребляет форму: «…и мне написавшему»; речь идет не о надписи; а об изготовлении креста в целом — ведь крест представал перед зрителем, полихромным живописным произведением. Лицевая сторона людогощинского креста сплошь покрыта резьбой плоского рельефа: 18 медальонов с изображениями библейских и евангельских сюжетов и сплошной (главным образом растительный) узор на всем кресте в промежутках между медальонами. На цилиндрической основе креста тщательно изготовлена обронная (выпуклая) надпись. Надписями снабжены и пять медальонов. После раскрытия титл и расшифровки тайнописи, скрывающей имя художника, надпись выглядит так (см. рис. 11):
В ЛѢТО 6867 ИНДИКТА 12 ПОСТАВЛЕНЪ БЫСТЪ КРЕСТЪ СН(Й) ГОСПОДИ ИИСУСЕ ХРИСТЕ, ПОМИЛУЙ ВСЯ ХРИСТЬЯНЫ НА ВСЯКОМЪ МѢСТѢ МОЛЯЩАСЯ ТОБѢ ВѢРОЮ ЧИСТЫМЬ СЕРДЦЕМЬ И РАБОМЪ БОЖИИМЪ ПОМОЗИ ПОСТАВИВШИМЪ КРЕСТЬ СИ ЛЮДГОЩИЧАМЪ И МНѢ НАПИСАВШЕМУ ЯКОВУ СЫНУ ФЕДОСОВУ + [аминь?]

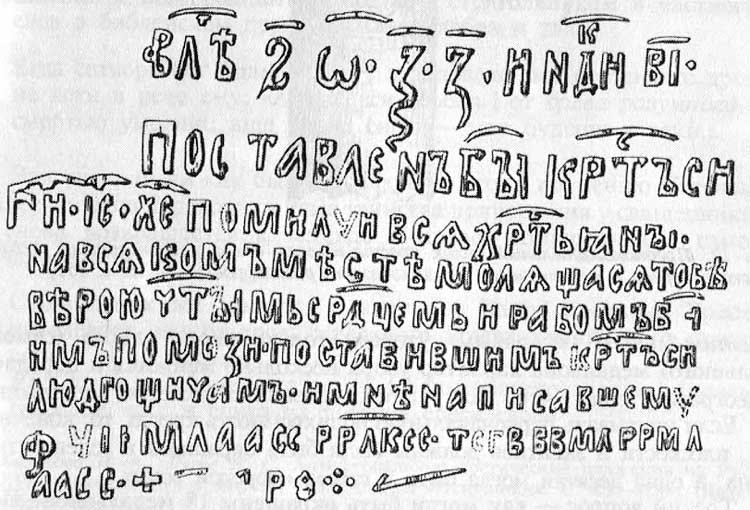
Рис. 11. Надпись на кресте (фото и прорись).
В Новгороде в середине XIV в. применялся мартовский счет лет. Точная дата — 6867 год от сотворения мира — соответствует сроку от 1 марта до 31 декабря 1359 г. и январю и февралю 1360 года от рождества Христова[176]. Автор надписи хорошо грамотен, знаком с двумя видами тайнописи (см. ниже) и достаточно образован для того, чтобы правильно поставить греческий индикт и пересказать слова апостола Павла:
Хощу убо, да молитвы творят мужие на всяцем месте, воздеюще преподобные руки без гнева и размышления…[177]Имя художника было зашифровано тайностью и так густо покрыто многовековыми слоями краски, что долгое время расшифровать ее было невозможно. Только реставраторы Государственного Исторического музея в Москве в 1949 г. полностью освободили крест от всех наслоений, и мне представилась возможность заняться расшифровкой. Система тайнописи — использование цифрового значения букв и изображение одной буквы при помощи двух букв, сумма цифровых значений которых равна значению изображаемой. Например, нужно зашифровать букву Д, означающую цифру 4; для этого дважды пишется буква В (= 2) и получается 2 + 2 = 4. Если цифра нечетная, то она делится на две неравные части: например, если нужно изобразить букву О (=70), то для этого пишутся Л (=30) и М (= 40)[178]. Если мы для облегчения проверки расставим буквы попарно, то получим следующее:
ФУ-II-МЛ-АА-СС РР-ЛК-СС ТС-ГВ-ВВ-МЛ-РР-МЛ-АА-СС ѦКОВУ СНУ ФЕДОСОВУ[179]В самом конце надписи должно было быть слово «аминь», но эта часть креста повреждена и достоверно читается только одна буква Р. Этого достаточно для того, чтобы предполагать, что здесь тоже применена тайнопись, но другой системы — «простая литорея», при которой все согласные буквы делятся на два ряда; нижний ряд пишется справа налево, и при письме буквы одного ряда заменяются буквами другого: Б В Г Д Ж З К Л М Н Щ Ш У Ц Х Ф Т С Р П слово АМИНЬ писалось так: АРИПЬ. Примеров простой литореи много[180]. Надпись на кресте, сделанная от имени уличан Людогощей (Легощей) улицы, дана вполне в духе стригольнического учения, отрицавшего монополию церкви и утверждавшего право всех христиан обращаться непосредственно к богу, к небу как к местопребыванию божества. Стефан Пермский убеждал новгородцев в 1386 г.:
… всякого тщеславия и высокоумия убежати не молитися на распутиях [на перекрестках дорог или улиц] и на ширинах градных [городских площадях] ни выситися словесы книжными…В надписи Якова Федосова все это есть: крест предназначен не для помещения в церкви, а для «всякого места», в том числе и для установки на многолюдных площадях, где могло производиться, например, «предисловие — проповедь честного покаяния». Полихромия и щедрая орнаментация креста действительно позволяют говорить об известном тщеславии автора и заказчиков, а знание канонической литературы и знакомство с двумя системами средневековой тайнописи давали возможность автору «высится словесы книжными». Стефан Пермский был в Новгороде по стригольническим делам спустя два десятка лет после установки креста на Людогощей улице. Попытаемся восстановить облик этого уникального памятника в том виде, в каком он предстал перед взором епископа, приехавшего сюда спорить со стригольниками.
* * *
Общий вид Людогощинского креста необычайно своеобразен: Яков Федосов придал ему скульптурной формой обработки облик невысокого дерева с коротким круглым (цилиндрическим) стволом и пышной, раскидистой кроной. Это достигалось, во-первых, тем, что в плоскости изделия было сделано четыре больших круглых прорези (по 20–25 см), а от округлой основы (плоскость диаметром в 95 см) отходило во все стороны более 13 (верх утрачен) массивных отростков-завитков по 10–20 см в длину. Кроме того, упомянутые большие прорези, а также весь периметр изделия украшены 26 выступающими вставными крестиками, которые усиливают впечатление ажурности «кроны». Во-вторых, почти вся поверхность кроны сплошь покрыта резным растительным (кудрявым) узором; только около одного (самого большого) медальона характер узора несколько меняется и передает идеограмму воды, что, как увидим, связано с сюжетом медальона. Если учитывать первоначальную полихромность креста, то, конечно, 9/10 плоскости и завитков должны были быть окрашены в зеленоватые тона, а одна десятая могла быть в гамме «морской воды». Третий вопрос — как могли быть окрашены 18 медальонов? Поскольку все изображения в них связаны с библейскими и евангельскими (даже если они основаны на апокрифах) сюжетами, то мы должны взять за образец иконную живопись того времени. В XIV в. существовал особый разряд краснофонных икон, которые по своему подбору и трактовке отвечают стригольническому движению (см. главу V). По всей вероятности, людогощинские медальоны тоже имели красный фон. Нимбы святых должны были быть золотистыми, такими же могли быть и кольцевые обрамления каждого медальона. Лики и одежды святых, а также фигуры животных могли сочетать желтые тона с коричневыми, зелеными (тела драконов) и др., как это мы видим в иконописи того времени. В трех местах «кроны» Яков Федосов поместил резные изображения двенадцатиконечных крестов, вплетенных в круг (см. рис. 12), которые могли символизировать как идею повсеместности — конечные крестики обращены «во все четыре стороны», — так и идею движения времени (12 месяцев года?). Размещены они по сторонам Иисуса Христа, сидящего на троне (в самом центре всего изделия) и у основания «кроны».
Рис. 12. Предположительный облик креста-«древа» в его первоначальной окраске райского дерева с медальонами-«яблоками» (расшифровку см. на с. 131).
Судя по позднейшей раскраске XVII в., эти символические кресты тоже, как и обрамления медальонов, были выделены светлой краской. Поэтому в зрительное восприятие Людогощинского креста в целом мы должны включить не только 18 медальонов, но и эти три круго-креста. В целом после росписи вид всего изделия Якова Федосова был очень близок к облику ветвистого дерева, а учитывая предполагаемую краску медальонов, напоминал плодоносящее дерево с красно-золотистыми крупными плодами. Цилиндрическая основа креста — ствол — был коричневым. Всем 18 иконкам придана круглая форма, а преобладание красно-желтых тонов в их расцветке говорит в пользу спелости плодов. Епископ Стефан, приехав в Новгород в 1386 г., начинает свое обращение к новгородцам вообще и к стригольникам в частности со слов о библейском древе познания добра и зла:
Егда сотвори бог Адама и Евгу и заповеда ему от единаго древа не ясти и рече ему: «Аще снеси [съешь] от древа разумного — смертью умреши; аще ли не снеси — жив будеши в веки…»Эти слова были как бы эпиграфом ко всему поучению Стефана. Далее епископ переходит к теме таинства причащения у священников и снова возвращается к легенде о древе, помещенной в самом начале Книги Бытия:
Стригольник же [имеется в виду сам Карп] противно Христу повелевает, яко от древа животного [древа жизни] — от причащения — удалятися. Яко древо разумное показая им [своим последователям] писание книжное, еже и списа на помощь ереси своей[181].Епископ укорял Карпа за то, что из двух деревьев, находившихся в середине библейского рая, стригольники почитали не древо жизни, а древо познания, «разумное древо», плоды которого бог запретил есть Адаму и Еве, а дьявол хитроумно соблазнил их. Разумное древо, нарушение запрета на его волшебные плоды определило с позиций Библии всю дальнейшую судьбу человечества, и, начиная свое поучение с этого эпизода, епископ Стефан поднимал полемику со стригольниками на значительную теологическую высоту. Из слов Стефана мы узнаем, что Карп сделал какие-то выписки из священных книг, обосновывающие почитание именно разумного древа. Воздвижение на одной из бойких новгородских площадей креста с надписью, утверждающей, что истинно верующим молиться можно на всяком месте, было открытым провозглашением отказа от непременного посредничества церкви во взаимоотношениях людей с богом. Людогощинский крест, открыто поставленный уличанами, т. е. целым приходом Загородского конца, предстает перед нами в качестве знамени какого-то нового учения, обличать которое в Новгород приехал владыка другой епархии. У меня складывается впечатление, что Стефан не только мог видеть, но и видел в натуре это овеществленное «разумное древо» стригольников и преднамеренно построил свое поучение с развенчания этого реального древообразного креста, позволявшего ему сразу бросить своим оппонентам упрек в пособничестве дьяволу, использовавшему в свое время плоды «разумного древа» для погибели человечества. Это был хороший ораторский прием — начать не с книжных дебрей, а с наглядного воплощения определенных идей, хорошо знакомого всем новгородцам. Такое допущение сделано сейчас мной предварительно, на основе первичного соприкосновения с крестом 1359/60 г.; предстоит еще дальнейший анализ. Ценность сведений Стефана о почитании в Новгороде «древа разумного» состоит не только в том, что дает нам возможность толковать Людогощинский крест как подобие какого-то мифического дерева вообще, а в том, что среди стригольников почиталось только одно «разумное древо». Элементы некоторой неприязни к церкви, отмеченные в надписи на кресте-древе, позволяют более уверенно связывать его не с «животным древом», а именно с «разумным», почитаемым стригольниками. Епископ, рассуждая о райских деревьях, ошибся в двух пунктах: во-первых, он упрекал стригольников в отказе от причастия, даруемого «животным древом». Однако, как мы видели в предыдущей главе, стригольники признавали исповедь, но исповедь особую, непосредственно богу, у загородного каменного креста. Во-вторых, епископ не разъяснил, каким образом райское древо жизни связано с таинством причащения — ведь между разговором бога с Адамом по поводу двух деревьев и появлением новозаветной идеи причастия («тайная вечеря») лежит по христианскому счету пять тысячелетий (точнее, 5041 год). Прежде чем перейти к рассмотрению содержания скульптурно-живописных изображений в медальонах Людогощинского древо-креста, разрешим возникшее недоумение, связанное с культом «разумного древа» у стригольников. В Книге Бытия сам бог предостерегает Адама от пользования его плодами; в XIV в., в 6894 г. от сотворения мира, образованный епископ, выполняя волю патриарха и московского митрополита, говорит о стригольниках (возможно, в их присутствии) как о почитателях этого «разумного древа». Стефан даже употребил такое выражение:
Тати и разбойницы убивают человекы оружием, а вы, стригольницы, убиваете человекы разумною смертию, удаления ради от пречистых тайн тела и крови Христовы[182].В данном контексте нескладное выражение «разумная смерть» может означать только одно: лишение вечной жизни в результате доверия к розыскам в христианской книжности, в книжной премудрости, о которых упомянул Стефан. В эту пору, церковно-стригольнического противостояния, книги с каноническими и апокрифическими сюжетами были полны противоречий и уже на протяжении более тысячи лет вооружали сторонников разных прочтений. Книги, «древо разумное», становились оружием в полемике и в борьбе. В самый разгар событий, за двенадцать лет до посещения Новгорода Стефаном Пермским, один новгородский писец, составлявший родословие русских князей, оборвал его на событии 26 ноября 1374 г. (рождение у Дмитрия Донского сына Юрия) и поместил на последнем листе слово о книгах, приписанное святому Ефрему:
Брате! егда ти найдет лукавый помысл извлеци сий мечь, еже есть помянути страх божий и посеци всю силу вражью. Имей в утробе место [внутри себя] книги божественныя, тацим же образом труба, въпиющи, съзывает ны, воины. Тако божественныя книги чтомы [когда их читают] збирают помыслы на страх божий и паки, тацим же объразом въпиющи труба во время рати невегласа [в данном случае: неоповещенного] въставить прилежати на супротивныя. Тако и святыя книги въставлять ти ум, прилежа ти на благое и укрепят тя на страсти… Да получим истинный разум писания почитанием [чтением][183].Это было написано за несколько месяцев до расправы с Карпом, составителем «словес книжных, яже суть сладка слышати хрестьяном» (Стефан Пермский), но которые «убивают человекы разумною смертию». Понятия «книги» и «древо разумное» неотделимы одно от другого. В напряженной обстановке 1360-1370-х годов книги становились главным оружием. Книги — меч, рубящий вражью силу; книги — воинская труба, созывающая на рать «нас, воинов» и поднимающая в бой тех, кто еще не оповещен; книги зовут к добру и укрепляют тех, кому грозят казни и страсти за борьбу со злом… Неудивительно, что древовидный крест, великолепное создание Якова Федосова, был воздвигнут как символ новой мысли, как образ «древа разумного». Как же произошел такой крутой поворот в отношении к архаичной ветхозаветной легенде о вредоносности древа познания добра и зла? На чем основывал Карп и его «стригольниковы ученики» свое новое учение о пользе разумной веры или веры в разумное? Нам придется заглянуть в основу основ — в Библию. Библейское повествование о жизни Адама и Евы в раю записано в двух вариантах, противоречащих один другому: Вариант 1. «Бытие», глава 1. Сотворение мира в шесть дней. Сотворены Адам и Ева. В пищу им указаны «травы, сеющие семя» и плоды деревьев. Адаму и Еве Бог сказал, благословив их: «плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю и обладайте ею». Вариант, считающий семена растений главной пищей человечества, создан, очевидно, в эпоху знакомства с земледелием. Шестым днем кончается творение мира и всего живого. Обратим внимание на то, что здесь нет конфликта, нет изгнания из рая, нет табуированного дерева. Вариант 2. «Бытие», главы 2–4. День седьмой. Снова бог создает человека, так как «не было человека для возделывания земли» (гл. 2, § 5). Бог «насадил рай» и поместил там человека [Адама]. «И произрастил господь бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи. И дерево жизни посреди рая и дерево познания добра и зла» (§ 9). «И заповедал господь бог человеку, говоря: „От всякого дерева в саду ты будешь есть (§ 16), а от дерева познания добра и зла не ешь от него! Ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертию умрешь“» (§ 17). Стефан Пермский, как мы видели, довольно точно цитировал это место. Далее подробно говорится о создании Евы, о соблазнителе Змее, который объяснил причину запрета: «…в день, в который вы вкусите их (плоды древа познания. — Б.Р.) — откроются глаза ваши и вы будете как боги, знающие добро и зло» (гл. 3, § 5). Бог был испуган приобщением Адама к разумению тайн: «Вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло; как бы не простер он руки своей и не взял также от древа жизни и не вкусил и не стал жить вечно» (§ 22). Прародители были изгнаны из земного рая, и у входа бог поставил херувима, «чтобы охранять путь к дереву жизни» (§ 24).
Если мы соотнесем второй вариант начальной истории человечества по Ветхому завету с данными науки, то получим для райского периода жизни Адама и Евы эпоху раннего палеолита: теплый субтропический климат, голые или полуголые люди; источник жизни — собирательство плодов; возникло понятие табу. Потом появились одежды из звериных шкур (гл. 3, § 21). Завершается ранняя первобытность эпохой познания — формируется Homo sapiens ледникового времени. Одновременно растет в человечестве зло. «И раскаялся господь, что сотворил человека на земле… И сказал Господь: „Истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил“» (гл. 6, §§ 6, 7). «Я наведу на землю потоп водный, чтобы истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни под небесами!» (§ 17). Вода затопила всю землю, и горы оказались на 15 локтей от поверхности воды… В этих текстах, возможно, отразилась эпоха таяния ледника (мезолит), оставившая кости вымерших «допотопных» мамонтов и носорогов, породившие библейскую легенду об «исполинах» (гл. 6, § 4)[184]. Здесь, как видим, греховность людей преодолевается только волей разгневанного и разочаровавшегося бога-демиурга. Перелом в осмыслении прошлых и будущих судеб человечества был связан с распространением христианства в первые века нашей эры: новое понимание загробного мира, идея его дуалистического членения на рай и ад, а самое главное — идея искупления всех прошлых грехов всего человечества от Ноя до Понтия Пилата добровольной (но предначертанной) смертью сына божьего. Теперь выступает на первый план не исступленное погружение всей плоскости Земли со всеми живыми существами в океанскую пучину, а обращение к духу, совести и разуму самих людей. Не повсеместная ветхозаветная казнь всего живого, а новозаветное предоставление каждому человеку возможности самому осознать свои поступки, признать их перед богом и покаяться в них. Кому покаяться, от кого получить отпущение грехов, предание их забвению? Ответы получались различные: исповедоваться следует в церкви, священнику; можно исповедоваться в Святой Земле перед древними святынями; исповедоваться следует самому вездесущему и всеведующему богу, следящему за судьбой каждого существа… Цель исповеди и покаяния — не только прощение совершенных проступков, но и спасение от вечных мук ада, получение права на вечную жизнь в век будущий. Так и было написано на стригольнических покаянных крестах:
Господи! Спаси и помилуй раба своего… Дай, господи, ему здравье и спасенье, отданье грехов, а в будущий век — жизнь вечнуя!Райское ветхозаветное «древо животное» обеспечивало вечную жизнь только двум голым дикарям, созерцателям великолепия созданного богом мира. Накануне изгнания Адам овладел разумом, полученным от древа познания, а потом, спустя 5500 с лишним лет, Христос указал его потомкам путь к получению вечной жизни в «будущий век». Однако обилие и разномыслие христианской литературы, особенно начиная с эпохи вселенских соборов, затрудняло поиск истинного пути к возвращению в рай, к вечной жизни рядом с богом. Древо жизни было уже бесполезно в этом поиске, так как, во-первых, оно осталось в недоступном живым людям раю, а во-вторых, конечная цель совершенствующегося человечества — вечная жизнь — стала теперь, после искупительной жертвы Христа, доступной для каждого праведно жившего человека по окончании его земного пути. Это различие двух эпох хорошо ощущал митрополит Иларион, называя ветхозаветное время «законом», а христианскую эпоху — «благодатью». Однако поиск пути к благодати был затруднен «лживыми учителями», и люди средневековья хорошо осознавали, что преодолеть сопротивление темной и жадной до мирских утех части духовенства (резко осуждаемой и самыми церковными властями) можно было только при помощи критического рассмотрения противоречивой книжности, при помощи разумного отношения к литературному наследию, о котором писал в неугодных церкви сочинениях еще Климент Смолятич в середине XII столетия. Татарское нашествие и тяжелое «измаилитское» иго, длившееся к моменту стригольнических выступлений уже более сотни лет, расценивалось новгородцами 1360-х годов как божья кара, воскрешавшая библейскую суровость, как наказание за непрекращающееся возрастание человеческой греховности. Проблема искреннего всеобщего покаяния самому «владыке всего мира» (надписи на покаянных крестах) становилась важнейшей и неотвратимо вела, прежде всего, к «древу разумному», к поиску истины среди многословия накопившейся за тысячу лет противоречивой канонической, еретической и апокрифической литературы. Первопечатник Иван Федоров, печатая в Остроге свою знаменитую Библию в 1581 г., предпослал ей интересный эпиграф, созвучный тезисам стригольников:
Испытайте писания, яко вы мните в них имети живот вечный и та [писания] суть свидетельствующа о Мне [о боге][185].Нас может удивить, что стригольники как будто (по словам их оппонента Стефана Пермского) отказались от почитания древа жизни, обеспечивавшего бессмертие, и обратились к запретному «древу разумному», лишившему Адами и Еву бессмертия. Но так могли понимать их позицию или те православные люди, которые плохо знали литературу и не вдумывались в канонические тексты, или же оппоненты, стремившиеся любым способом уязвить их. Дело было в коренном изменении ситуации: по второму варианту библейского рассказа о жизни Адама в раю, древо жизни действовало только внутри рая и обеспечивало бессмертие только Адаму и Еве, пока они находились в раю. Дальнейшая жизнь многотысячного потомства Адама шла уже без покровительства древа жизни, дерева непрерывного бессмертия. Учение Христа создавало новую концепцию приобретения бессмертия, но уже без всякого участия древа жизни: бессмертие отодвигалось в «век будущий» и завоевывалось каждым человеком для себя. Русский книжник XII — начала XIII в. писал:
Человече! На торгу житейстем еще еси. Даже [пока] торг не разыидется — купи си [себе] милостынею нищих помилование от бога, смирением — вечную славу и правдою — житие нескончаемо… О, человече! Геенны убоявся, возненавиди злаа дела, а царства небеснаго въжелав — возлюби добрая дела! А [если] ты ни злых дел останешися ни на добраа подвигнешися, а время твое течеть, аки речная быстрость… Да блюдися с великим тщанием: не веси [ты не знаешь] бо в кий день солнце померкнеть [для тебя] и луна не дасть света своего — рекше живот твой скончается и душа из телеси изыйдеть. Уже не будет лзе [возможности] покаятися…[186]Этот автор твердо убежден в том, что «житие нескончаемое» достигается личным активным самосовершенствованием и покаянием. О форме покаяния он умалчивает, но к XIV в. данный вопрос стал наиболее спорным и трудноразрешимым. В спорах с официальными богословами, утверждавшими обязательность посредничества духовенства в деле отпущения грехов, стригольники, считавшие, что лучше получить прощение от самого бога, чем от его земных слуг, должны были искать контраргументы и тщательно анализировать обширную и противоречивую литературу, накопившуюся за целое тысячелетие. Для этого-то и требовалось обращение к книгам как к «древу разумному». Важное для Адама и Евы в их райском быту древо жизни утратило свое значение сразу после грехопадения, а то, что скрывалось за символом древа познания, уравнявшего в какой-то мере человечество с божественными силами, стало условием прогресса. Вечная жизнь стала пониматься как заслуженная награда за правильно прожитую в обществе жизнь отдельного человека; сама краткосрочная человеческая жизнь, текущая «аки речная быстрость», теперь рассматривается как недолгий экзамен перед началом бессмертия. Введение понятия ада, «геенны огненной» для не выдержавших жизненного экзамена, придавало особую контрастность представлениям о будущем веке, таком же двойственном, как и земная жизнь, в которой неразрывно переплетены добро и зло. Именно этому дуализму, проникновению в сложную переплетенность добра и зла и посвящен такой символ, как «древо познания добра и зла», или, как его называли стригольники, «древо разумное», т. е. древо мудрости, которое должно указать пути к вечной жизни. Явная древовидность Людогощинского креста может быть истолкована только в одном смысле: это — символ «разумного древа» стригольников, символ нового, рационального (в меру того, насколько «рациональное» приложимо к религии) отношения к Ветхому и Новому завету, к противоречиям и путанице в книгах, обрядах, во взаимоотношениях пастырей и пасомых.
* * *
Епископ Стефан Пермский прямо указал в своем обращении к новгородцам, что стригольники почитают «древо разумное», и добавил, что сам Карп подкреплял это особым писанием книжным. Единственный в своем роде крест-древо Якова Федосова может оказаться символом стригольнического «разумного древа», если 18 его «плодов» не опровергнут этого допущения. Разбросанные по всей «кроне» креста, эти медальоны не дают какой-либо ясной общей тематики. Здесь нет ни двунадесятых праздников, ни житийных клейм вокруг того или иного святого. Большинство медальонов представляет фигуры отдельных святых. Первую попытку осмысления содержания изображений на Людогощинском кресте предприняли в 1954 г. В.Н. Лазарев и Н.Е. Мнева[187]. Статья снабжена почти исчерпывающим списком литературы и 15-ю фотографиями деталей креста. Авторы продолжили работу своих предшественников по атрибуции библейских и евангельских персонажей, но по отношению к общей системе выразились весьма пессимистически: «Изображения не образуют стройной теологической системы… По своему содержанию изображения распадаются на три группы: 1) тематика, связанная с Христом („Распятие“, „Деисус“); 2) ангелы-хранители; 3) популярные в Новгороде святые»[188]. Этого, разумеется, совершенно недостаточно для понимания креста-древа как целого. Ощущая это, Лазарев и Мнева обратились к Новгородской летописи, где под 1359 годом помещен подробный рассказ о внутренней смуте: «Бысть мятежь силен в Новегороде». Летописец, писавший на Торговой стороне, подробно описывает насильственную смену посадников в Славенском конце, «сечу» на Ярославовом дворище, на которую славляне пришли в доспехах и «заречан» (софийских) «бояр многых побили и полупили», и уход с кафедры архиепископа Моисея. Перечислив события, авторы статьи о кресте пишут: «Как мы сейчас в этом убедимся, тематика его (креста. — Б.Р.) изображений самым недвусмысленным образом намекает на мятеж 1359 г.» (с. 162). Далее приводятся такие основания: фигуры воинов около распятия рассматриваются как «убедительное и логичное толкование» того, что «это напоминание заречанам [жителям кремлевского берега] о том, что они опростоволосились во время побоища 1359 г.», когда пришли на вече без доспехов (с. 162). Эпизод из жития Федора Тирона (святой освобождает свою мать, унесенную змеем) привел наших авторов к мысли, что «славляне, побившие и полупившие многих бояр Софийской стороны, не нашли спрятавшейся от них матери или близкой родственницы одного из бояр и последнему удалось ее спасти» (с. 162). «Выбор отдельных святых несомненно (курсив мой. — Б.Р.) продиктован их соименностью заказчикам креста» (с. 163). Итоги подводятся следующим образом: «Жители Людогощей улицы, носившие имена Симеона, Никиты или Даниила (?), Ильи, Самсона, Федора, Георгия и Герасима, пожертвовали церкви Флора и Лавра крест в память тех знаменательных событий, которые приключились с ними в 1359 г., когда часть их была ранена, а один чудом спас от гибели свою родственницу» (с. 164). На основании этой шаткой несомненности повторяется общий вывод: «Изображения не образуют никакой „системы“ и не подчинены никакому догматическому началу» (с. 164). Прежде чем делать столь пессимистический вывод, избавляющий от дальнейшего исследования, авторам следовало убедиться в достоверности последовательности событий и показать, что крест действительно поставлен после «великого мятежа», который новейшие исследователи убедительно датируют весной 1360 г.[189]* * *
В связи с важностью точной датировки и устранения путаницы, остановимся на этом подробнее. Не вызывает сомнений дата, четко вырезанная на основе креста Яковом Федосовым:
Но следует напомнить, что средневековая Русь жила по мартовскому году, начинавшемуся с 1 марта и продолжавшемуся до 28/29 февраля следующего, по нашему счету, года; январь и февраль тогда не открывали, а завершали годичный цикл. Людогощинский крест не мог быть поставлен в январе-феврале 1359 г. по нашему январскому счету лет, но мог быть закончен в январе-феврале 1360 г. Летописные даты менее четки и определенны. Средневековые хронисты нередко записывали события не тотчас по их совершении, иногда они объединяли в одной записи дела соседних лет, группировали их тематически или по степени их значимости, нарушая строгую последовательность. Наименее важные события нередко приписывались в конце годовой статьи. Опираясь на солидное исследование Н.Г. Бережкова, можно сделать вывод, что сражения новгородцев Торговой и Софийской стороны происходили весной 1360 г.[190], а судя по тому, что лед уже сошел и можно было разобрать мост, чтобы отрезать путь противнику, действие происходило не ранее конца марта или в апреле, когда уже шел 1360 мартовский год[191]. Следовательно, установка Людогощинского креста предшествовала бурным событиям весны 1360 г. и происходила не позднее 28 февраля 6867 = 1359/60 г. Необходимо сделать попытку уточнения даты установки креста. Здесь в нашем распоряжении есть две опорных точки: во-первых, определение того празднества или персонажа, которому художник или его заказчик отдавал явное предпочтение, и, во-вторых, уточнение календарного срока памяти этого праздника или святого. Многовековой обычай требовал, чтобы закладка или освящение каждого сооружения производились в день памяти. Первая позиция определяется легко: из 18 резных медальонов своей необычной величиной резко выделяется медальон с изображением битвы Федора Тирона со Змеем. Два соседних посвящены освобождению матери святого и архангелу Михаилу, помогающему змееборцу. Все три медальона объединены содержанием резных надписей и совершенно особым (не растительным, а «водным») узором вокруг них (подробнее см. ниже). Федор Тирон, герой письменных сказаний, апокрифов и фольклорных духовных стихов, был очень популярен в средние века почти наравне с Георгием Победоносцем — «Егорием Храбрым». Змей олицетворял на Руси южных кочевников, и схема жития Федора хорошо накладывалась на реальную историческую основу. Особую чувствительную ноту добавлял эпизод освобождения святым богатырем родной матери, плененной Змеем. Вероятно, поэтому на Руси появились сказания и духовные стихи, расширявшие и поле деятельности Федора, и круг событий, и хронологию событий. Духовные стихи дожили в народной и околоцерковной среде до XIX в. Празднование дня Федора Тирона происходило в православной церкви двояко: один день был постоянным, «в числе», — 17 февраля, а другой был необычным, подвижным, входящим в пасхальный цикл и приходился на субботу «первой седмицы великого поста». Это было сделано церковью за особые заслуги святого в тяжкую для христиан эпоху Юлиана Отступника. Почитание Федора Тирона уже в XI в. выразилось в том, что вся первая неделя великого поста именовалась «федоровской»[192]. В 6867 г. суббота на первой седмице приходилась на 22 февраля 1360 г. Новгородские события 6867 г. мы можем, учитывая церковно-календарные даты[193], представить в следующем виде:

В 6867 г. оба дня Федора Тирона — и день «в числе» и суббота первой седмицы — пришлись на одну неделю: 17 февраля — на понедельник, а 22 февраля — на субботу. Торжественная постановка креста 22 февраля, в тот особенный, почетный день, определяемый по пасхалии, наиболее вероятна. А явное предпочтение Федора Тирона другим персонажам креста проявлено художником очень определенно. Серьезным препятствием к установке такого «разумного древа», которое рекомендовало непосредственное обращение к Богу (подразумевалось — без духовенства) являлось наличие владыки Моисея, прославившегося гонением на еретиков. Неожиданный уход Моисея (вторичный) устранял это препятствие и стригольники Софийской стороны получили большую свободу действий и могли выступить публично со своей мудрой и изощренной композицией, к которой было трудно придраться с формальной канонической стороны — каждая мысль, каждая аллегория имела опору в евангельских или ветхозаветных текстах. Недаром в точном центре «древа» находится раскрытая книга, источник мудрости. Если это допущение будет принято, то следует учесть, что у Якова Федосова был очень небольшой промежуток времени для изготовления огромного резного и расписанного креста: от 25 января (уход Моисея в день своих именин) до 22 февраля (суббота первой великопостной недели) был неполный месяц. Если на резьбу основы, которую мы видим в настоящее время, отвести десять — двенадцать дней, то на роспись каждого медальона придется в среднем по одному дню. Мастеру (а вероятнее, мастерам) приходилось торопиться. Быть может, именно по причине обусловленной спешки из 18 требовавшихся резных надписей было выполнено всего лишь 5. Никакой логичности в отборе надписей нет. Козьма и Демьян подписаны, Герасим в пустыне подписан, Самсон Столпник подписан, Флор и Лавр — нет, Илья пророк — нет, Безымянный столпник — нет. Только поспешностью работы можно объяснить такую неоправданную неполноправность. Резными надписями, требовавшими кропотливой работы, не было подписано 13 верхних медальонов, где подписи могли быть сделаны красками. К сожалению, обновители креста в XVI в. содрали весь красочный слой XIV в. и расписали его заново. Стоит отметить, что если Яков Федосов торопился завершить свое «древо» ко дню Федора Тирона, то понятно, почему с подписания именно федоровского цикла он и начал. Здесь обозначены резными надписями и архангел Михаил, и Федор, убивающий Змея у «кладезя» и освобождение матери Федора:
+ СВЯТЫЙ ФЕДОРЪ ТИРОН ШЕДЪ ВЪ КЛАДЯЗЬ ПОБѢДИ ЗМИЯ А БЛАГОСЛОВИЛЪ МИХАИЛЪ И ОРУЖЪЕ ДАЛ + СВЯТЫЙ ФЕДОРЪ ВЕДЕТ МАТЕРЬ ИЗ КЛАДЯЗЯ ОТ ЗМИЯОсобое внимание Якова Федосова к циклу литературных и фольклорных змееборческих сказаний о Федоре Тироне не подлежит сомнению, но в системе всех аллегорических сюжетов «разумного древа» мы должны здесь, как и в других случаях, усматривать более глубокий, символический смысл. В 1980 г. Людогощинскому кресту посвятил небольшой раздел своей книги «От символа к реальности» Г.К. Вагнер[194]. Г.К. Вагнер, как В.Н. Лазарев и Н.Е. Мнева, допускает, что крест 1359 г. связан с новгородской усобицей, но не углубляется в эту тему. Он сокращает перечень предполагаемых заказчиков креста до двух новгородских бояр — Георгия и Федора. Содержанием креста с его 18 медальонами автор считает изображение микрокосма, где земная, человеческая часть представлена «особо любимыми новгородцами святыми» (с. 131). Однако здесь сразу же возникает ряд сомнений: почему нет Бориса и Глеба, Петра и Павла, Николы, которому посвящались специальные новгородские «братчины Никольщины», Софии, патронессы города, и др.? Небесная же часть Вселенной представлена, по мысли Вагнера, неким своеобразным деисусом «в чрезвычайно развернутом виде» (с. 128)[195]:

Это предположение встречает резкое несогласие. Деисус в его минимальном составе на Людогощинском кресте есть и занимает на нем срединное положение: в центре Иисус на троне; богородица «одесную» (влево от зрителя) и Иоанн Предтеча по левую руку, вправо от зрителя. Это четко замкнутый сюжет с минимальным числом персонажей. Медальоны по краям той горизонтали, которая продолжает линию деисуса (Илья на левом краю и Федор Тирон на правом) по своему содержанию никогда с деисусным рядом не связывались. Г.К. Вагнер и не строит свой предполагаемый деисус из одного горизонтального ряда, а произвольно привлекает в него медальоны из разных участков креста: и из вертикали (Флор и Лавр, Козьма и Демьян), и из разных мест периферийного окаймления: архангел из композиции с Федором Тироном, Симеон Столпник из далеко отстоящего медальона нижнего ряда; последнего святого, находящегося на «столпе», особенно трудно представить себе в ряду других персонажей предстоящих Иисусу (рис. 13).

Рис. 13. Срединная часть креста; в ее геометрическом центре — книга в руках Иисуса Христа.
Вызывает недоумение и другое: автор искусственно разъединил парные изображения таких святых, как Флор и Лавр, Козьма и Демьян. Вырезая этих святых на своем кресте попарно в одном медальоне, Яков Федосов определенно показал, что они предназначались не для деисусного чина, строившегося всегда на основе полной симметрии. В деисусе Вагнера (с. 128) симметрия нарушена и в другом отношении: по правую руку от Иисуса Христа — пять персонажей, а по левую — только четыре (см. схему). Еще более искусственным мне представляется его «мысленный деисусный ряд» (с. 128), тоже набранный из разных мест Людогощинского креста (см. схему):

Наш крупный искусствовед, обогативший науку рядом ярких работ, и сам ощущал неубедительность своего построения. «Я не собираюсь настаивать, — пишет Г.К. Вагнер, — на том, что заказчики Людогощинского креста и его мастер Яков сын Федосов имели подобный замысел» (с. 128). Итак, две попытки разгадать смысл сложного людогощинского комплекса, предпринятые В.Н. Лазаревым, Н.Е. Мневой и Г.К. Вагнером, не приблизили нас к пониманию общей идеи этого произведения, которому нарочито придана оригинальная форма райского «древа познания добра и зла», отягощенного плодами, делающими людей мудрыми и просвещенными. Назидательность, учительность, направленность пастырского руководства остались невыявленными. Признание креста Якова Федосова памятным вкладом группы людогощинских уличан, уцелевших от сечи во время новгородского мятежа, возможно лишь при условии, если источниковедчески будет доказана предполагавшаяся ранее хронологическая первичность мятежа 1360 г. по отношению к кресту с несомненной датой — 1359 год. Но даже и в случае перестановки дат мы из гипотезы Лазарева-Мневой извлечем всего лишь имена каких-то жителей Людогощей улицы; связь с мятежом совершенно не документирована пространной надписью Якова Федосова, писавшего не о напастях, а о мирной жизни горожан, молящихся Христу чистым сердцем. Гипотеза Г.К. Вагнера об отражении макрокосма в микрокосме Людогощинского креста в своей общей форме возражений не может вызывать, ведь любая икона подразумевает понятие Человечества, обращающегося к той или иной части небесных сил Вселенной, топографически (в представлении религиозных людей) размещенных вне Земли, в бесконечности небесного пространства. Но произведенная этим автором группировка всех изображений в два асимметричных (10 и 8 фигур) деисуса совершенно не раскрывает ни содержания, ни смысла этих произвольно набранных из разных частей креста комплексов. При таком механическом разделении почти всех (в эти деисусы не входит сцена распятия и столпник в навершии креста) изображений остается нераскрытым принцип их деления и религиозно-символический смысл как отдельных частей изделия Якова Федосова, так и всего креста в целом. «Плоды» «разумного древа» при первом взгляде кажутся бессистемно разбросанными по всей его увитой резным растительным декором «кроне». Нам необходимо выяснить, была ли в размещении 18 медальонов какая-либо система, или такая задача вообще не ставилась художником. На самых видных местах огромного резного креста Яков Федосов оставил нам три намека на основную схему всего «древа разумного», пренебречь которыми мы не имеем права (см. схему). Это четырехконечный крест, вплетенный в окружность; выступающие за пределы окружности концы креста дополнительно перекрещены небольшими перекладинами. В результате получается двенадцатиконечный равносторонний крест, с которым нам и придется иметь дело при выявлении композиций, образованных из нескольких медальонов, расположенных скульптором на той или иной структурной единице креста, которая объединяет кажущиеся разрозненными отдельные медальоны. Такой крест — позднейшая модификация древней «идеограммы повсеместности», распространяемой «на все четыре стороны» благодати, жизненной силы[196].


Рис. 14. Схема расположения сюжетов на покаяльных крестах из окрестностей Новгорода.
Две символические идеограммы вырезаны скульптором по сторонам центрального медальона с Иисусом Христом на троне, а третья — в самом основании «кроны». Если мы примем эту предназначенную зрителям подсказку Якова Федосова, то вычленение некоторых композиций на самом кресте обнаружится само собой. Остальные конструктивные части креста подлежат — для проверки возникшей догадки — тщательному рассмотрению. Для удобства рассмотрения всех сюжетов и образуемых ими композиций пронумеруем все 18 медальонов, группируя их по выделившимся частям креста, обозначив эти конструктивные части буквами (см. схему). А. Верхняя горизонтальная перекладина креста № 1–3 (слева направо). Б. Срединная горизонтальная перекладина № 4–6. В. Левая вертикальная перекладина (сверху вниз) № 7–9. Г. Правая вертикальная перекладина № 10–12. Д. Срединная вертикаль, «ствол» древа. Здесь порядок номеров нарушен тремя поперечными перекладинами, № 13–15. Е. Нижняя, замыкающая «крону» древа, горизонтальная перекладина, № 16–18.
Рассмотрение сюжетов по отдельным элементам большого креста Якова Федосова
Самый верхний медальон № 1 над верхним перекрестием с изображением столпника является как бы эпиграфом ко всему живописному комплексу «разумного древа», долженствующему просветить прихожан прихода Флора и Лавра. Нацарапанная поздняя надпись IС ХС не отражает содержания: столпник (Даниил?) находится надкапителью колонны, аканфовый орнамент которой четко обозначен на рельефе (рис. 15).
Рис. 15. Столпник в самой верхней части креста. Надпись IС ХС прочерчена позднее и является ошибочной.
Столпники в средние века всегда символизировали не столько удаление от суеты мира, сколько пример непосредственно общения человека праведной жизни с богом. А это, как мы знаем по литературе тех столетий, было главным содержанием полемики «еретиков» с духовенством. Непосредственность обращения к богу сопряжена с тем, что столпники-отшельники не посещали храма, не общались с духовенством, а молились уединенно, добровольно отрешая себя от всего мирского и замыкались «в столпе», т. е. в небольшой башенке, келье. В русском средневековом языке слово «столъпъ» придавало особый инфернальный характер столпничеству, так как означало не только «башенку», «однокамерный домик», но и погребальную «домовину» и саркофаг, как бы вводя затворника в жилище мертвых.
А. Казнь на Голгофе (№ 1–3).
Анализ трех медальонов, расположенных на верхней перекладине двенадцатиконечного креста начнем с медальона № 3, расположенного правее медальона с распятием № 2 (рис. 16).
Рис. 16. Композиция из трех медальонов — казнь на Голгофе. В центре — распятие; справа — сотник Лонгин удостоверяет, что скончался сын божий; слева — Иосиф Аримафейский скачет, опаздывая, к Голгофе.
Медальон № 3 изображает трех воинов, по поводу которых Лазарев и Мнева пишут следующее: «Даже если связывать эти фигуры с „распятием“, их расположение в отдельном медальоне не может не привлечь к себе внимания. Почему они оказались введенными в украшение Людогощинского креста? Если вспомнить слова летописца о том, что при побоище на Ярославовом дворище славляне были в доспехах, а жители Софийской стороны без доспехов и в силу этого были побеждены, то… изображение воинов получает убедительное и логичное толкование. Это напоминание заречанам (софьянам) … о том, как они „опростоволосились“ во время побоища 1359 г.»[197]. После выяснения того, что сеча славлян с «недоспешными» софьянами не имеет отношения к Людогощинскому кресту, это толкование можно не принимать во внимание. Воины на Голгофе, возглавляемые сотником Лонгином, — обычные персонажи и евангельского текста, и множества икон и фресок. Им, представителям враждебного мира, осудившею Иисуса на мучительную казнь, в евангелии отведена особая и очень важная роль первых провозвестников божественности Христа. Римский центурион Лонгин был первым человеком из враждебного небольшой группе последователей Христа лагеря, который всенародно, при многочисленной толпе зрителей казни, признал божественность Иисуса. Когда Иисус скончался на кресте, произнося свое знаменитое «Свершилось!..», Евангелие вкладывает в уста центуриона знаменательные слова:
Сотник, стоявший напротив Его, увидев, что Он, так возгласив, испустил дух, сказал: «Истинно, человек сей был Сын Божий!»На медальоне № 3 длиннокудрый безбородый сотник изображен с обнаженным мечом в левой руке; правой рукой он указывает на только что скончавшегося Христа, признанного им сыном божьим. Сюжет медальона № 3 — римская стража — органически, неразрывно связан с событием на Голгофе и обычно изображается неотрывно от главной темы распятия. Яков же Федосов, преследуя цель изображения «древа разумного» с плодами (которые прямо упомянуты в Библии), расчленил композиции на отдельные медальоны-плоды, сохранив их композиционное или смысловое единство в рамках перекрестий А, Б, В, Г, Д. В силу этого некоторые отдельные сюжеты, лишенные надписей, определяются с трудом. Примером может служить медальон № 1, расположенный на левом краю перекрестия А, на котором изображен всадник, мчащийся по направлению к Голгофе. Его почему-то и Лазарев, и Вагнер называют Федором Стратилатом[198]. В. старинных русских словарях-азбуковниках отражено правильное понимание этого эпитета: «стратилат-воевода»[199]. Ничего военного, тем более воеводского, у нашего всадника нет. У него нет ни доспеха, ни оружия, ни какого-либо символа власти. Это бородатый мужчина средних лет в длиннополом кафтане, он отмечен нимбом. Конь его в богатой сбруе скачет галопом по направлению к Голгофе; всадник, вытянув руку вперед, как бы указывает цель — вперед, к месту казни! Три медальона этого перекрестия А содержат элемент симметрии: в центре — сцена распятия; справа от зрителя — центурион, указующий перстом на только что скончавшегося на кресте Иисуса, а слева — всадник, мчащийся по направлению к тому же кресту и тоже как бы указывающий направление к кресту. Но воины и сотник медальона № 3 неподвижно стоят на месте казни, они присутствуют, они слышат последний вздох распятого… Всадник же явно находится где-то за пределами этого небольшого пространства и еще только скачет к нему издалека. Указующий жест Лонгина определяет точный хронологический момент — центурион воскликнул в минуты смерти Иисуса Христа. Кто же из евангельских персонажей, удостоенных нимба, опоздал к этому печальному сроку? Ответ был дан всеми четырьмя евангелистами:(Марк. Гл. 15–39)
Когда же настал вечер, пришел богатый человек из Аримафеи, именем Иосиф, который также учился у Иисуса. Он, пришед к Пилату, просил тела Иисусова. Тогда Пилат приказал отдать телоИосиф — потаенный («иже страха ради иудейска» Иоанн. Гл. 62) ученик Иисуса, «благообразный советник», но не участвовавший в совете, осудившем Христа «не бе пристал совету и делу их» (Лука. Гл. 23). Иосиф — владелец усадьбы в окрестностях Иерусалима (там был потом погребен Иисус) — судя по всем обстоятельствам, умышленно удалился из города, чтобы не участвовать в совете нечестивых, но, узнав о неожиданном повороте событий (Пилат долго не соглашался с Синедрионом и не хотел казни Иисуса), он поспешил к Голгофе, но опоздал, не застал учителя в живых и принял участие лишь в снятии тела с креста и погребении Иисуса. Яков Федосов дал очень сильный, драматичный показ синхронности: когда Иисус произнес свое «Свершилось!..», когда римский сотник показал рукой на только что умершего и признал его сыном Бога, в это время тайный ученик Христа еще только скакал к Иерусалиму, простирая руку вперед, как бы указывая: «Там свершается!..» В этом случае расчленение единой темы на три медальона давало определенный художественный эффект, так как позволяло показать как единовременность ситуации, так и пространственную отдаленность одного из эпизодов.(Матфей. Гл. 27-57-58)
В. Подвиги Федора Тирона (№ 10–12).
Источники сведений о Федоре Тироне очень многообразны: это и житие святого, замученного во время знаменитых гонений на христиан «нечестивого царя Диоклетиана» (303–311 гг.), и апокрифические сказания, и русские духовные стихи, расцветившие греческую основу яркими фантастическими подробностями, наслаивавшимися друг на друга на протяжении столетий. Один из мотивов — борьба со Змеем и его змеенышами, удерживающим у себя воду и требующим ежегодных человеческих жертв. Второй мотив — Змей похищает мать Федора Тирона, пришедшую к колодцу, чтобы напоить сыновнего коня. В некоторых вариантах мать Федора представлена как знатная пленница Змея, одетая в золото и серебро. Третий мотив — могучий поток воды, вытекшей из убитого Змея, «яко река велия», едва не потопившей Федора и его мать. По велению архангела Михаила вода ушла в землю; иногда сам Федор обращается к «Матери — сырой земле», и она поглощает грозный поток. Четвертый мотив — война с каким-то иудейским царем (может быть, Хазария?); в результате победы кровь едва не затопила героя. Иногда кровь, заливающая победителя, является кровью самого Змея. Пятый мотив — победа Федора над какими-то пещерными людьми. Иногда они оказываются сарацинами и пленными греками, содержащимися в пещерах. Шестой — переправа через море или морской пролив. Седьмой мотив относится ко времени императора Юлиана Отступника (около 360 г.), когда давно умерший святой явился цареградскому архиепископу во сне по случаю вредоносных распоряжений императора-язычника: на первой неделе великого поста Юлиан приказал окропить идоложертвенною кровью все съестное на городском торгу. Архиепископ рекомендовал людям не покупать ничего на рынке, а есть вареную пшеницу с медом («коливо»). Федор Тирон в духовных стихах считается сыном православного царя Константина Самойловича. Когда Федор после всех своих побед возвращается вместе с матерью в Царьград, то царь Константин устраивает ему торжественную встречу. Сын отклоняет пышность:Г. Необычный деисус (№ 4–6).
На срединной горизонтали Людогощинского креста, на самом видном месте, Яков Федосов разместил деисус со стандартными персонажами (богородица и Иоанн Предтеча по сторонам Христа), но в совершенно нестандартных положениях — «предстоящие» не стоят рядом с Христом, а сидят на узорчатых стульцах, украшенных растительным орнаментом, подобно сидениям гусляров и русальцев XII в. на ритуальных браслетах, где такой узор, очевидно, изображает «леторасли» (весенние побеги деревьев, упоминаемые Кириллом Туровским). Иисус Христос в крещатом нимбе сидит на троне, придерживая левой рукой книгу. Его правая рука, пожалуй, не столько благословляет, сколько указывает на эту книгу. По сторонам Иисуса вырезаны два двенадцатиконечных креста в кругах (рис. 17 и 18).
Рис. 17. Деисус. Необычность композиции состоит в том, что богородица и Иоанн Предтеча не «предстоят», а сидят.

Рис. 18. Композиция, посвященная подвигам Федора Тирона, победившего дракона и освободившего свою мать. Архангел Михаил дает оружие Федору.
Богородица и Предтеча сидят по сторонам Христа с условными жестами беседы (или удивления) — широко разведенными руками. Никак не могу согласиться с В.Н. Лазаревым и Н.Е. Мневой, что на Людогощинском кресте изображен «традиционный» деисус[203]. В Новгороде мы такой традиционности «сидячего деисуса» не знаем. Деисус Якова Федосова, так сильно отличающийся от всех известных нам вариантов, представляет собой не «моление» в смысле «прошения», а как бы собеседование равноправных персонажей между собой или, учитывая символику жестов, выражение почтительного удивления сидящих слушателей. Сам же Христос как бы привлекает внимание к книге, которую он придерживает у себя на груди. В какой-то мере эта необычная и лишенная иерархической строгости композиция, может быть сближена с теми беседами на темы о разумном чтении священных книг, о проникновении в глубинный смысл писания, о котором в XII в. говорил Климент Смолятич, а в начале XIII в. — Авраамий Смоленский. Здесь может оказаться и намек на «предисловие честного покаяния» (не на сочинение, а на церемонию), когда мудрый книжник своей проповедью предварял исповедь и покаяние слушателей. С темой покаяния связан и образ Иоанна Крестителя в деисусе, так как он, проповедуя, говорил: «Покайтесь! Ибо приблизилось царство небесное… И крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои» (Еванг. от Матфея. Гл. 3–2, 6). Иоанн был предтечей и в обряде крещения, и в обряде покаяния. Эти слова о покаянии очень часто иконописцы помещали на свитке, который Иоанн Креститель держит в руке. Центральная композиция Людогощинского креста в своих трех «плодах» «разумного дерева» содержала иную, неофициальную идею демократического деисуса, превращая моление-ходатайство в собеседование с мудрым проповедником-книжником, призывающим к познанию, к разуму, воплощенному в Евангелии и вместе с тем напоминающим о необходимости покаяния в своих грехах. Все эти предположения прямо связывают крест 1360 г. со стригольниками и их предшественниками XIII в.
Е. Окружение деисуса. Добрые пастыри. Борьба со злом (№ 13, 14, и 15).
№ 13. На самой вершине креста, над распятием изображен святой — столпник, возвышающийся над капителью колонны. № 14. Прямо над фигурой Иисуса (в деисусе) изображены Флор и Лавр, получающие благословение с небес. Напомню, что Людогощинский крест несколько столетий находился в новгородской церкви Флора и Лавра на Людогощей улице и, очевидно, прямо связан с историей этого храма:1348. …Той же осене загореся Фларевь (Флор и Лавр. — Б.Р.) на Люгощи улици и сгори церков едина в обед год[204].То обстоятельство, что церковь могла сгореть в такой короткий срок, как обеденное время, свидетельствует, что тогдашний «Фларев» был, по всей вероятности, деревянным. Каменная же церковь была воздвигнута только в 1379 г.:
Того же лета заложиша церковь камену святую богородицю на Михалице и другую церковь камену святую Флора и Лавра на Людгощи улице[205].Крест, поставленный в 1360 г. уличанами Людогощей улицы, приходится на то промежуточное время 1348–1379 гг., когда он как бы подменял собою сгоревшую старую церковь. По всей вероятности, этот резной и расписной крест находится в какой-нибудь временной часовенке или подобии деревянного кивория, которые и до наших дней сохранились в Центральной Европе, как навесы над распятиями. Наиболее вероятно, что крест Якова Федосова был установлен «на церковище», на месте сгоревшей церкви, а после 1379 г. перемещен в новопостроенный каменный храм, где и находился до XX в. Помещение изображений Флора и Лавра на очень почтенном месте креста Якова Федосова рядом с Иисусом Христом и наличие благословляющего Христа «во облацех» на данном медальоне могло иметь и дополнительный смысл: эти святые были руководителями конских пастухов; новгородская иконопись знает большое количество икон с этим сюжетом. Имена конюхов в житии Флора и Лавра говорят о хороших, достойных коноводах: Спевсипп — «ускоряющий бег коня» Елевсипп — «гонящий коня» Мелевсипп — «ухаживающей за конем»[206]. И добродетельные пастухи коней и начальствующие над ними Флор и Лавр находились под прямым покровительством архангела Михаила. Получалась целая иерархия «хороших пастухов» во главе с «воеводой небесных сил» Михаилом. Распространенность этого сюжета в Новгороде XIV–XV вв. никак не может свидетельствовать о развитии коневодства, как считали когда-то искусствоведы-социологи, но, по всей вероятности, прямо связана со знакомым нам новгородским прогрессивным учением о «добрых пастырях», под которыми подразумевалось хорошее духовенство и хорошие «простецы»-проповедники. Легенды о таких добрых пастырях, как Флор и Лавр, входили в полемический арсенал стригольников, люто обличавших «лживых учителей». Епископ Стефан Пермский, увидевший крест «чистых сердцем» людогощичей через 26 лет после его изготовления и через 7 лет после его установки в храме, не мог не понять намека Якова Федосова, изобразившего момент благословения добрых пастырей Иисусом Христом. № 15. Георгий Победоносец. Медальон помещен на срединной вертикали непосредственно под фигурой Иисуса Христа в деисусе. Святой змееборец изображен в яростной схватке с драконом. Здесь показан не тот вариант, когда царевна Елисава ведет укрощенного Змия на своем тонком поясочке, а бой всадника Георгия, вздыбившего коня почти вертикально и снизу вверх вонзающего свое копье в пасть Змея, поднявшегося высоко над землей, как бы «на дыбы». Победа добра над злом художником не показана; голова Змея еще не на земле, а высоко над землей, на одном уровне с головой святого Георгия. Зло поражено, ранено, но еще не повержено, не побеждено окончательно… Композиция полна динамики и глубокого смысла. В новгородской иконографии Георгия подобной трактовки сюжета змееборства на других памятниках нет. Если учесть, что в момент изготовления креста враг стригольников архиепископ Моисей уже покидал кафедру, но еще был жив и после своего ухода с кафедры построил в 1362 г. еще одну церковь (Благовещение на Михайловой улице), то можно понять аллегорию художника — зло было ранено, но не уничтожено полностью.
Б. Библейские персонажи в непосредственном общении с богом (№ 7–9).
№ 7. Самсон и лев. Сомнения В.Н. Лазарева и Н.Е. Мневой в том, что здесь изображен Самсон[207], исчезают сразу при сопоставлении с библейским текстом: Самсон со своими родителями отправился к дому своей невесты: в пригородных виноградниках на него напал «молодой лев, рыкая» (Книга Судей. Гл. 14, 5). На медальоне изображен лев без каких бы то не было признаков гривы; значит, Яков Федосов хорошо знал Библию и изобразил именно молодого льва. В библейской биографии Самсона приводится очень много примеров общения с богом, прямых обращений к богу как отца Самсона, так и его самого. Из эпического сказания о мстительном и жестоком богатыре (сожжение нив при помощи лисиц с зажженными хвостами, разрушение колонн дома, полного людей, и др.) Яков Федосов взял только один сюжет — возрастание богатырской силы Самсона в те моменты, когда «сошел на него дух господень» для поражения зла, олицетворенного хищником. № 8. Илья пророк в пустыне. № 9. Ангел. Пророк Илья был одной из наиболее красочных фигур ветхозаветной истории. Яков Федосов пренебрег воинственными и очень эффективными эпизодами библейской биографии пророка вроде божественного самовозгорания жертвенника или заклания Ильей нескольких сотен жрецов Ваала (3-я книга Царств. Гл. 18, § 22, 40), а отобрал два связанных с пребыванием в пустыне, в полном безлюдье (рис. 19). Здесь Илья Фезвитянин беседует с богом, обращается к нему и слышит его голос, его практические распоряжения:И было к нему слово господне: «Пойди отсюда и обратись на восток и скройся у потока Хорафа, что против Иордана. Из этого потока ты будешь пить, а во́ронам я повелел кормить тебя там»… [Илья пошел и остался там] И во́роны приносили ему хлеб и мясо…(3-я Книга Царств. Гл. 17, 2, 6)

Рис. 19. Илья в пустыне; столпник Симеон; Герасим в пустыне вытаскивает заносу из лапы льва.
На кресте изображен Илья в нимбе, получающий хлебец от ворона. Левой рукой пророк отстраняет прядь своих волос, чтобы лучше слышать голос Бога. Скамеечка у ног Ильи — доказательство того, что он не странствует по пустыне, а живет в ней; такое лее седалище мы увидим у Герасима, жившего в пустыне (см. № 18). Могут удивить невысокие деревья, но оказывается, что и они находят объяснение в дальнейшем библейском тексте, где говорится, что Илья в другой пустыне заснул «под садом»[208]. Здесь уже не сам Бог переговаривается с пророком, а через посланца-ангела:
И вот, ангел коснулся его и сказал ему: «Встань! Ешь» И взглянул Илия и вот у изголовья его — печеная лепешка и кувшин воды. Он поел и напился и опять заснулВ новом переводе «сад» заменен можжевеловым кустом. Яков Федосов объединил два разновременных эпизода и изобразил Илью и ворона под деревьями сада, а ангелу выделил соседний медальон, обозначив у его ног неясный колобок. Здесь, как и в других случаях расчленения единого сюжета (Илья в саду и ангел), художник строго следует принятой им системе помещения наибольшего количества «плодов» на кресте-древе. По местоположению на кресте медальон с самим Ильей занимает более важное место, чем медальон с ангелом, так как находится на средней горизонтали, рядом с деисусом, соотносясь тем самым с Федором Тироном на другом конце этой горизонтали.(3-я Книга Царств. Гл. 19, 5, 6)
Д. Христианские святые в общении с богом (№ 16–18).
На нижней перекладине большого двенадцатиконечного креста мы наблюдаем как бы сочетание двух принципов подбора сюжетов: во-первых, здесь завершается серия сюжетов, размещенных на срединной вертикале (на «стволе» древа) и тематически связанных с личностью и характером Иисуса Христа, а во-вторых, здесь продолжается тема непосредственного общения человека с богом. Ко второму разряду относится медальон № 17. № 17. Врачи-бессребреники Козьма и Дамиан. Медальон окружен надписью:+ СВЯТАЯ БЄЗМѢЗДНИКА И ЧЮДОТВОРЦА КУЗЬМА И ДАМЬЯНЪ ВРАЦАВ имени Демьяна допущена описка: вместо мягкого знака, еря, вырезана буква В. Это, как и отсутствие надписей на многих соседних медальонах, подтверждает гипотезу о спешной работе Якова Федосова. Написание «ВРАЦА» вместо «врача» (двойственное число) — явный новгородизм. Братья-близнецы, Козьма и Дамиан, подобно Иисусу, были целителями, не взимавшими никакой мзды за свое врачевание. Врачи изображены со свитками в руках; у Козьмы свиток распущен до колен. Деятельность братьев и чудеса, которые они творили, во многом повторяют евангельский перечень чудес Иисуса Христа. Воспользуюсь интереснейшим памятником XIV в., хранящимся в Кракове[209] и представляющим, по всей вероятности, походную шкатулку средневекового медика для инструментов и снадобий. Этот медный вызолоченный ящик размером 43×12×9 см. На боковых гранях четко выгравированы 16 сцен из жития Козьмы и Дамиана. Братья исцеляли от «трясовицы», от слепоты и хромоты, зубной боли, они изгоняли бесов и змей и даже воскрешали умерших:
СВЯТАЯ ВРАЧА ВЪСКРѢШАЕТА СЫНА ВДОВИЧА[210]Последний, нижний медальон «ствола» древа, как и некоторые другие, помещенные на этой главной вертикали, иллюстрирует продолжение дел Иисуса Христа позднейшими христианами; в данном случае показаны те святые, которые исцеляли больных людей и возвращали им жизнь. № 16. СИМЕОН СТОЛПНИК. Круговая надпись этого медальона такова:
+ СВЯТЫЙ СЕМЕОНЪ СТОЛПЬНИКЪ 20 ЛѢТ СТОЯШЕ НА СТОЛПЕИзображение двух столпников Яковом Федосовым на своем кресте (на самом верху — № 1 и внизу — № 16) отнюдь не является пропагандой монашества — оба столпника показаны без монашеских куколей. Внимание к теме столпничества говорит о стремлении художника показать целеустремленность человека праведной жизни, обращающегося непосредственно к богу не только из-за своей личной греховности, но и в качестве заступника за всех окружающих его людей. № 18. Герасим в пустыне и лев. Круговая надпись:
+ СВЯТЫЙ ГЕРАСИМЪ ЕМЛЕТЬ ТРОСТЬ (ЗАНОЗУ) ОТ ЛЬВА ИЗ НОГѢ А ПРИДЕ В ПУСТЫНЮПреподобный Герасим (ум. 475) был богатым человеком, но, став христианином, раздал все имение бедным и удалился в Иорданскую пустыню. Главная идея его жития — преодоление стяжательности и страха. Символом последнего является эпизод со львом, встреченным Герасимом на водопое. Лев был ранен — он занозил себе лапу; Герасим, преодолев страх, вытащил занозу, и лев стал жить вместе с пустынником и защищать его. Н.С. Лесков в своей серии пересказов библейских легенд и апокрифов дал очень хороший очерк: «Лев старца Герасима»[211]. На Людогощинском кресте Герасим изображен сидящим на стуле, а лев — стоящим на задних лапах и лижущим пустынника. Стул вырезан на кресте не без смыла — художнику нужно было показать, что Герасим не просто проходил по пустыне, а что он имел здесь оседлость, мебель, был не путешественником, а настоящим пустынножителем, каким его и рисует житие.
* * *
Обзор восемнадцати отдельных медальонов, разбросанных по всей площади древообразного Людогощинского креста, завершен. Разбросанность и кажущаяся случайность подбора персонажей оказались обманчивыми. Самое простое первоначальное предположение, что изображенные здесь Федор, Герасим, Илья, Иваны, Кузьма, Фрол всего лишь патроны соименных им неведомых людогощичей XIV столетия, должно отпасть, так как ему противостоит стройная, тонко продуманная и изящно осуществленная система новгородского скульптора и живописца Якова Федосова. Ключ к пониманию своей системы художник трижды изобразил на самых видных местах креста, вырезав небольшие двенадцатиконечные крестики, как бы вплетенные в круг. Если увеличенную схему такого двенадцатиконечного креста мы наложим на раскидистую и пеструю «крону» изделия Якова Федосова, то сразу же на малых перекрестиях обозначатся четыре замкнутые композиции из двух или трех медальонов: А) смерть Иисуса Христа (№ 1–3); Б) Илья в пустыне (№ 7, 8, 9); В) Федор Тирон (№ 10, 11, 12); Г) деисус (№ 4, 5, 6) на срединном перекрестии.По большим теологическим темам «плоды» «разумного древа» распадаются так: 1) идея непосредственного обращения человека к Богу — 9 медальонов (№ 1, 7-10, 13, 16–18); 2) христологический цикл — 6 медальонов (№ 1–6); 3) праведные действия последователей Христа — 3 медальона (№ 14 — добрые пастыри, благословляемые Христом с небес; № 15 — победитель мирового зла; № 17 — целители-бессребреники).
Если вторая и третья темы занимают срединную позицию на главном перекрестии, то первая тема — непосредственное общение человека с богом — охватывает как бы кольцом центральный христологический цикл и тему последователей Христа (см. схему). Как художник, Яков Федосов проявил много вкуса и знания литературы. Чего, например, стоит изображение скачущего Иосифа Аримафейского, опоздавшего к моменту смерти своего учителя. Как контрастны отношения персонажей креста к хищнику — льву: ветхозаветный Самсон уничтожает зверя, разорвав его пополам, а живущий по Новому завету благодати христианин Герасим лечит льва и делает его ручным. В федоровском цикле художник с необычайной экспрессией изображает позорную тяжесть чужеземного плена: обнаженная мать Федора обвита кольцами змеиного хвоста, но герой уже вонзает свое копье в горло похитителя. А в соседнем медальоне эпический богатырь уже выводит освобожденную мать из места тягостного плена. С большой тонкостью мастер Яков показывает непобежденность другого Змея, с которым в ярой схватке бьется святой Георгий. Это предостерегает, мобилизует… Но, может быть, самым интересным и неожиданным является необычный деисус в середине «разумного древа». Где происходит действие? Почему предстоящие (богородица и Предтеча) не стоят, а сидят на каких-то стульцах или лесных пеньках с «летораслями»? Иисус, сидя на троне, держит у груди книгу в орнаментированном переплете, которая, как уже говорилось, является геометрическим центром всего сооружения, что, очевидно, не случайно. Напомню, что фигуры и жесты Марии и Иоанна не выражают просительности, «моления»; вся композиция скорее говорит о беседе, о собеседовании с мудрым книжником. Быть может, нас приблизит к разгадке федоровский цикл всех трех медальонов правого вертикального перекрестия Г. Средний медальон (№ 11) превосходит по своим размерам все остальные семнадцать. Здесь дана самая сложная композиция (Федор, его мать, конь, Змей, дерево). Федоровский цикл, основанный на литературных и фольклорных источниках, можно трактовать и как идею освобождения русской церкви от опутывающего ее зла; золото на матери-пленнице, кормление ею змеенышей — все это могло входить в аллегорию греховной церкви, грехи которой смыты потоком воды, пущенным архангелом по просьбе Федора. Место Федора Тирона в системе годового богослужения было значительно — вся первая неделя великого предпасхального поста называлась «федоровской» уже в XI в. День памяти Федора отмечался, как уже выяснилось выше, дважды в году: один раз «в числе» (17 февраля), как у всех святых, а другой раз он был включен в пасхальный цикл и перемещался в зависимости от срока пасхи. Такое исключение было сделано и для другого людогощинского персонажа — Иосифа Аримафейского. Почетным подвижным днем Федора Тирона (после его посмертного чуда при Юлиане Отступнике) стала «суббота первой седмицы великого поста». В 6867 г. (1359/60) обе памятные даты сошлись, как мы помним, на одной неделе: в понедельник 17 февраля был обычный именной день Федора Тирона, а в субботу той же недели, 22 февраля 1360 г., отмечалось празднование памяти Федора Тирона как избавителя народа от идоложертвенной пищи при императоре-ренегате. Поэтому первая великопостная седмица в интересующем нас году была как бы дважды федоровской. Мной уже было высказано предположение, что Людогощинский крест с его гиперболизированным федоровским циклом был поставлен в торжественный момент Федора Тирона. В православной русской церкви сорокадневной великий пост был временем покаяния и как бы подготовкой к главной исповеди года для каждого человека в великий четверг на страстной неделе. Церковная служба в федоровскую седмицу была очень строга; только что была отпразднована масленица с ее карнавальным полуязыческим разгулом, прощеное воскресенье было отречением от этой шумной суеты, а уже во вторник начинался интереснейший цикл «мефимонов», когда в процессе богослужения читался великий канон Андрея Критского, в котором давался широкий исторический обзор ветхозаветных и евангельских событий. Такая конструкция богослужения в федоровскую неделю (понедельник, вторник, среда, четверг) давала основание не только для повторения уже известного, но и для изложения той или иной новой концепции или для сомнений и толкований по поводу услышанного. Книжникам, искавшим глубины разума, «древо разумное» с его мудро подобранными «плодами», подобное Людогощинскому, могло служить хорошим подспорьем, своего рода наглядным пособием, в котором почти все было канонично, все персонажи были взяты из Библии или патриотической литературы и в то же время ощущалось особое отношение к духовенству: на кресте изображены (не считая Христа) двадцать два человека, четыре ангела, два коня, два льва, два Змия и ни одного епископа или простого священника. Умолчание могло быть преднамеренным. Тонкий, продуманный подбор сюжетов, иной раз даже второстепенных, требовавших для рядового прихожанина специальных разъяснений, прославлял Иисуса Христа (но не Троицу), в качестве примера для подражания указывал на добрых пастырей, целителей, подобно Христу воскрешавших людей, заставлял восхищаться героическими подвигами Георгия и Федора Тирона. В последнем случае, возможно, идет речь о спасении православной церкви, матери христиан, от овладевшего ею зла, олицетворенного в виде того Змия, который еще в раю соблазнил Еву. Половина всех сюжетов посвящена основной стригольнической теме — возможности для людей всех времен, от далеких ветхозаветных веков «закона» до последующих времен «благодати», обращаться к господу «на всяком месте, чистым сердцем». Автор этой грандиозной и совершенно новой композиции скромен: он смело подписал свое творение, но рядом со священными изображениями он не поставил напоказ молящимся своего имени, а зашифровал его декоративной тайнописью. Демократический «сидячей деисус» заставляет вспомнить возникший еще до стригольников на рубеже XII–XIII вв. и недостаточно ясный для нас обряд «честного покаяния», требовавший произнесения особого, не всем священникам доступного предварительного «Предъсловия». Все это очень хорошо увязывается и с действиями и мыслями стригольников, и с той «Федоровой седмицей», когда всенародно вспоминалась история взаимоотношений Бога и Человечества от сотворения рая до всемирного потопа, поглотившего грешников, от потопа до времен императора Тиберия, когда сын божий взял на себя новые людские грехи, и от Христа до тех новых дней, когда вновь накопились человеческие прегрешения. Людогощинский крест Якова Федосова для простых прихожан был непонятен; он требовал пояснений ученого книжника и вместе с тем он облегчал такому книжнику (священнику или «простецу-покаяльнику») рассказ на историко-церковную тему, делал его красочнее и убедительнее. Верхний медальон со столпником, праведником, постоянно обращающимся к богу, служил своего рода предварительной молитвой. Верхнее перекрестие, где на голгофском распятии Пилат приказал прикрепить насмешливую надпись: «Се есть Иисус, царь иудейский» (Матф. 27–37), Яков Федосов отвел изображению того момента, когда римский центурион признал казненного сыном божьим, когда все прошлые грехи человечества были прощены. На срединной горизонтали креста с одной стороны дан Илья Фезвитянин — пророк, заколовший языческих жрецов, а с другой — Федор Тирон, преодолевающий мировое зло (и, может быть, освобождающий мать-церковь от власти зла). В середине же креста показана беседа Христа с самыми близкими к нему людьми. Художник уравнял людей — Марию Богородицу и Иоанна, крестившего Иисуса, — с уже вознесшимся в небеса Господом Иисусом Христом, посадив их по сторонам трона… Предисловие честного покаяния не являлось частью богослужения; слушатели во время этой особой проповеди, возможно, имели право сидеть (?). Не навеян ли «сидячей деисус» Якова Федосова новгородской практикой? Календарным сроком такой проповеди естественнее всего признать конец «федоровской седмицы», когда уже был завершен цикл исторических припоминаний и в день, следующий за днем Федора Тирона, праздновалось «торжество православия», установленное в IX в. по поводу победы над иконоборцами. День Федора Тирона в субботу «федоровской седмицы» после длительного ознакомления с предысторией и историей христианства (канун Андрея Критского) и накануне «торжества православия» был логически наиболее подходящим для специальной темы и предстоящем великопостном покаянии. «Разумное древо» новгородских людогощичей, помещенное в церкви «добрых пастырей» Флора и Лавра, выражало основные идеи стригольников, которые враждовали с «лихими пастухами», а самих себя, «простецов» и «покаяльников», полагали добрыми пастырями. Интерес к обычаю произнесения особой проповеди перед приступом к длительному покаянию в годы создания Людогощинского креста подтверждается тем, что около 1380 г. во Пскове были переписаны в одном сборнике и «Слово и лживых учителях», и «Предъсловие честнаго покаяния». Людогощинское «разумное древо» с его многочисленными плодами было задумано Яковым Федосовым таким образом, что один только комментарий к хитроумно отобранным библейским и евангельским сюжетам представлял собой программу серьезного и глубокого «предъсловия» — проповеди, каноничной по форме, стригольнической по существу. Неудивительно, что Стефан Пермский, прибывший в Новгород для вразумления стригольников через 7 лет после водружения Людогощинского креста в церкви Флора и Лавра и вскоре после воссоздания рукописи «Предъсловия честнаго покаяния», в самых первых фразах своего обращения к новгородцам обрушился на них именно за почитание «древа разумного». Умный и начитанный епископ по достоинству оценил яркий и оригинальный труд Якова Федосова и ту опасность, которую он представлял для горожан, «ищущих ума». Однако твердые в своих убеждениях новгородцы сумели уберечь свое древо на протяжении шести столетий.
Глава четвертая Стригольническая книжность
Господи! Управи ум мой не о глаголании уст стужитися, но о разуме глаголемого веселитися и приготовитися на творение делом!Рукопись XIV в.
Подобно тому как труба, зазвучавшая во время войны, заставляет неоповещенных подняться против врага, так святые книги возбуждают ум, направляют тебя на добро и укрепляют на подвиги и страдания.Образованность и начитанность псковско-новгородских стригольников не подлежат никакому сомнению. Стефан, епископ Пермский, прибывший в Новгород специально для поучения и обличения стригольников, многократно подтверждал их книжность:Рукопись около 1374 г. Перевод.
…таковыи же (подобные фарисеям. — Б.Р.) беша еретицы — постницы, молебницы, книжницы. Лицемерницы, пред людьми чиста творящеся: аще бо бы не чисто житье их видели люди, то кто бы веровал ереси их? Или бы не от книжнаго писания говорили — никто бы не послушал их.Стефан, обращаясь к самим стригольникам, упрекает их в том, что они, оттесняя духовенство, стремятся «учителей покоряти» [укорять] и, изучив христианскую литературу, стать на их место:
Изучисте словеса книжная, яже суть сладка слышати хрестьяном, и поставистеся учители народом.Следующий упрек епископа Стефана обрисовывает нам основную задачу стригольнических книжников — путем анализа и разумной критики священных текстов показать своим читателям или слушателям необязательность исповеди священникам:
Карп-стригольник «не велел исповедатися к попам, дабы от попов честь ерейскую отнял… а вы, стригольницы, убиваете человекы разумною смертию, удаления ради от пречистых тайн тела и крови Христовы…»«Разумная смерть», т. е. критическое, рационалистическое отношение к священным книгам, уподоблена епископом оружию татей и разбойников. Особый интерес представляет свидетельство Стефана Пермского, что стригольники были не только начетчиками, но и переписчиками или даже авторами «разумных» сочинений:
Стригольник [Карп] же противно Христу повелевает, яко от древа животного [с запретными плодами познания] — от причастия удалятися. Яко древо разумное показая им [своей аудитории] писание книжное, еже и списа на помощь ереси своей, дабы чим воставити народ на священничьскый чин.Епископа возмущало, что стригольники со своей склонностью к «древу разумному», к анализу священных текстов не замкнулись внутри своего «съуза неправедного», но вышли открыто к городскому посаду Новгорода и Пскова, «на распутия [перекрестки улиц] и ширины градные [городские площади]», где они стремились «выситися словесы книжными» перед многолюдством своих сограждан. Всепоучение Стефана Пермского настолько пронизано описанием стригольнической книжности, начитанности, их проповеднического искусства, что никаких сомнений в достоверности этих характеристик у нас быть не может — ведь епископ говорил о своих непримиримых оппонентах. Русская средневековая литература, посвященная вопросам церковной и общественно-церковной жизни (отношение к сущности религии, ее обрядности, к нравственности как мирян, так и духовенства), была обширна и многообразна. Правда, мы можем судить о ней лишь по тем остаткам, которые уцелели от половецких и татарских погромов, когда в Москве, например, выгорали сводчатые подклеты многих храмов, доверху заполненные драгоценными рукописями (1382 г.). Но и уцелевшие образцы средневековой книжности дают нам представление о том, что́ волновало умы, по каким проблемам велась полемика, какова была позиция спорящих сторон и кто с кем спорил. Литература на церковно-общественные темы создавалась подобно тому, как строились синхронные ей готические соборы Западной Европы — в одном столетии возводилась основа здания, в следующем строили башни, а в третьем надстраивались верхние ярусы колоколен. Многие рукописи XIII–XIV вв. восходили к знаменитым «Изборникам» сыновей Ярослава Мудрого (1073 и 1076 гг.) и постепенно пополнялись новыми произведениями авторов XIII–XIV вв., а также дополнительно извлеченными старыми сочинениями. Объем сборников, как правило, возрастал, но в отдельных случаях по соображениям церковной цензуры иногда и уменьшался за счет изъятия особо острых статей. В сборниках, помимо действительных древних авторов, многие позднейшие дополнения надписывались именами отцов церкви (например, Иоанна Златоуста, Василия Великого и многих других) для придания новым статьям большей авторитетности. «Изборникам» давали звучные названия: «Пчела» (собирающая нектар разных цветов), «Золотая цепь» (в новгородском произношении «Златая чепь» — ожерелье, украшающее человека), «Изумруд» («Измарагд») и др. Читатели XIV–XV вв. получали в этих энциклопедиях не только произведения современных им авторов, но и давние, но не позабытые творения авторов прошлого. В этих сборниках, естественно, широко использовалась византийская христианская литература разных веков, а через нее просматривались и фрагменты произведений античных языческих авторов вроде друга Эпикура Менандра Мудрого. В некоторых случаях предполагается знакомство русских авторов с творчеством французского проповедника Петра Вальдо, родоначальника общеевропейской секты вальденсов XIII в. Часть статей в этих сборниках критикует духовенство с тех же позиций, что и высшие церковные власти; такие статьи были вполне безопасны для их авторов и владельцев рукописей, но наряду с ними были, как увидим, и такие тексты, которые неизбежно должны были глубоко возмутить старшее духовенство за нападки на взятки, поборы, взимаемые за посвящение в сан, а низшее духовенство за упреки в недостаточной профессиональной начитанности, пьянстве, отсутствии авторитета у прихожан. Составители таких актуальных изборников приложили много усилий к тому, чтобы завуалировать истинную остроту и антиклерикальность привлекаемых материалов: вновь создаваемые поучения приписывались известным отцам церкви, переводы с греческого малозаметно подправлялись в отдельных местах; иной раз прибегали к трудночитаемой тайнописи и тогда установить наличие какой-нибудь коварной вставки было очень трудно. Защитой от церковной цензуры являлось и включение в сборники спокойных, неполемических поучений и слов, которые не отклонялись от предписанной церковью благонамеренности. Но не всегда такие ухищрения помогали. До нас дошли рукописные книги с бумажными и пергаменными (кожаными!) листами, из которых были выбраны из середины какие-то сочинения, очевидно слишком резкие по отношению к церкви. Умудренные двухвековым опытом (начиная со времен Авраамия Смоленского), критики «работающих чреву попов» были предусмотрительны и в своих сборниках рассчитывали на два вида читателей: как на своих единомышленников, так и на придирчивых представителей тех самых церковных властей, против которых они поднимали городской посад Новгорода, Пскова, Смоленска, Твери. Для русской полемической книжности XII–XIV вв. характерно не только широкое использование произведений христианской литературы всех столетий, но и повторное копирование тех сборников и отдельных произведений, которые создавались в сравнительно недавнем прошлом. В руках читателей-мирян XIV в. было много заново переписанных произведений и сборников, которые создавались в XII–XIII вв. и копировались почти каждым новым поколением. Ко времени Карпа-стригольника (третья четверть XIV в.) русские книжники располагали не только экземплярами ветхих, «ветшаных» рукописей, но и новыми книгами, переписанными и пополненными их современниками. В первой вводной главе, где речь шла о конфронтации посадского населения и церкви, приведены образцы этой складывавшейся на протяжении двух-трех столетий полемической письменности. Для более подробного ознакомления следует обратиться к большому и серьезному исследованию А.И. Клибанова, в котором дается анализ всех основных сборников, их состава и устанавливается как датировка отдельных произведений, так и их судьба (изъятие наиболее «ядовитых» статей, смягчение их или, наоборот, ужесточение)[212]. Этим же автором впервые опубликовано важнейшее произведение, обосновывающее нападки на высшее духовенство на рубеже XIII–XIV вв., — «Слово о лживых учителях»[213].
* * *
В оценке того, в какой мере упомянутая русская (преимущественно псковско-новгородская) книжность с ее антиклерикальной направленностью может рассматриваться в качестве идеологии стригольников, исследователи разделились на три лагеря: историки XIX в. мало интересовались этой темой вообще и не рассматривали обширную литературу средневековья в связи со стригольниками. Е.Е. Голубинский, наиболее объективный из историков русской церкви, коснулся стригольников мимоходом, построив свои выводы только на материале церковных обличений. Стригольники расценивались Голубинским как незначительная община с коротким сроком жизни[214]. При такой оценке становится совершенно непонятным, почему против этой ереси, возникшей в одной новгородско-псковской епархии, ополчились и русский епископат, и митрополит Руси, и вселенские патриархи, почему в поучениях против «постников, молебников и книжников» рекомендовалось не только опровержение их учения, но и заточение и изгнание из града, отлучение от церкви, а на деле применялась и жестокая расправа — утопление в Волхове. Разнообразная, яркая и смелая книжность XII–XIV вв. не сопоставлялась с городским умонастроением этих веков, одним из обозначений которого на определенном этапе было стригольничество. Первыми исследователями, нарушившими такое искусственное расчленение единой исторической темы, были московские ученые, работавшие в рукописном отделе Государственного Исторического музея, Александр Денисович Седельников и Николай Петрович Попов. Седельников открыл для науки интереснейший сборник, созданный на родине Карпа-стригольника, во Пскове, во второй половине XIV в. (Новгородско-Софийское собрание Гос. Публ. Библиотеки им. М.Е. Салтыкова-Щедрина № 1262). По имени вкладчика книги в Видогощинский монастырь игумена Трифона (XIV в.) А.И. Клибанов закрепил за этим уникальным сборником наименование «Трифоновский». В 1921 г. А.Д. Седельников написал небольшую статью (опубликована только в 1934 г.) «Следы стригольнической книжности», в которой впервые сопоставил учение стригольников (в том его виде, в каком оно обрисовано их противниками) с обильным материалом полемической литературы; он, так сказать, выслушал не только речь прокурора (Стефана Пермского), но и ознакомился с речами обвиняемых. Стригольничество стало яснее, рельефнее и тем самым значительно историчнее[215]. Н.П. Попов расширил круг привлекаемых источников и дал историческую оценку еще двум широко известным сборникам: «Златой Чепи» и «Измарагду», о которых он убежденно (и убедительно) писал: «Оба памятника созданы стригольническим движением, и обличитель стригольников Стефан мог бы найти в Троицкой „Златой Чепи“ достаточно оснований для нападок на своих противников»[216]. «Трифоновский сборник» плюс «Златая Чепь» плюс «Измарагд» — это монументальный комплекс, в котором содержатся (иногда дублируясь) самые острые, самые ядовитые, по выражению Н.П. Попова, произведения, смело, во всеуслышание бичующие пороки духовенства и предлагающие народу изучение книжных словес как обоснование критики. К сожалению, дальнейшее изучение стригольничества привело других исследователей к отрицанию его органической связи с синхронной им книжностью. Н.А. Казакова в своей интересной работе о стригольниках в число публикуемых источников включила только поучения против стригольников, и в отношении обрисовки стригольнической концепции она опиралась только на эти враждебные им материалы (главным образом грамоты московского митрополита византийца Фотия) и приписывала стригольникам и неверие в апостольские и отеческие предания, и отрицание Евангелия, и отрицание загробного мира, рая и ада (а, следовательно, и воскресения мертвых); стригольники будто бы отрицали божественность Христа и святость икон. Уклонение стригольников от исповеди «лихому пастырю» расценено Н.А. Казаковой как принципиальное отрицание важнейшего христианского таинства вообще[217]. В своем перечислении еретических умыслов стригольников исследовательница излишне доверчиво отнеслась к беглому, ничем не подтвержденному перечню стригольнических грехов, приведенному в последних грамотах Фотия (1420-е годы), деятеля, недостаточно знавшего русскую действительность. Сведения его консистории могли основываться только на доносах; в новгородско-псковской полемической литературе стригольников они подтверждения не находят. А.И. Клибанов, давший, как мы видели, очень серьезный и полный анализ Трифоновского сборника и показавший разновременность его состава, четко отделил всю эту полемическую книжность от движения стригольников. «Ни старший Измарагд, — писал исследователь, — ни Златая Чепь не могли служить для стригольников идеологической платформой. Иное дело — антицерковное движение начала XIV в…»[218] Обосновывает этот решительный вывод чисто формальным положением: «Оба исследователя (Седельников и Попов — Б.Р.) прошли мимо того факта, что появление старшего Измарагда относится к первой половине XIV в., а возникновение (? курсив мой. — Б.Р.) стригольничества — ко второй половине XIV в.»[219] Но здесь сам А.И. Клибанов проходит мимо того факта, что новгородцы и псковичи именно во второй половине XIV в., когда появились случайные термины «стригольник» и «стригольниковы ученики», самым живейшим образом интересовались содержанием и «Измарагда» и «Трифоновского сборника». Оба сборника были переписаны («Измарагд» — в Новгороде, а Трифоновский — во Пскове, где начал свою деятельность расстрига «стригольник» Карп) именно во второй половине XIV в., независимо от того времени, когда, в каком столетии впервые были сочинены те или иные разделы этих сборников-хрестоматий. Что же касается того, с какого времени можно говорить о стригольничестве как общественном движении, то следует сказать, что нельзя придавать такое определяющее значение какому-либо случайному наименованию. Мы спокойно говорим о движении декабристов в 1810-1820-е годы, но ведь ни Пестель, ни Рылеев, ни их единомышленники, готовя несколько лет будущее выступление, не знали того, что их потомки нарекут их «декабристами» по трагедии 14 декабря 1825 г. На рубеже XIX и XX вв. одни и те же люди, не меняя своих убеждений, называли себя в разные периоды то социал-демократами, то большевиками, то коммунистами. «Стригольничество» как термин кажется нам таким же неопределенным и случайным. А если бы Карп не был отлучен от сана, то и стригольников не было бы? Актуальность тематики интересующих нас сборников для новгородского и псковского посада твердо документирована созданием новых списков этих громоздких сборников в то самое время, когда впервые из послания Стефана Пермского мы узнаем о системе стригольнических взглядов, когда впервые открытая проповедь «на ширинах градных» завершается смертной казнью. Острые полемические сборники, содержащие такие гневные произведения как «Слово о лживых учителях», создавались (и воссоздавались) в пору наивысшего обострения борьбы двух общественных сил: свободных проповедников-мирян, стремившихся очистить и сделать возвышеннее религиозную практику, с одной стороны, и церковных властей, покрывающих и обороняющих «лихих пастырей» — с другой. Которая из этих противоборствующих сил была кровно заинтересована в наличии такой «тяжелой артиллерии», как обсуждаемые сборники? Вопрос риторический и ответа не требует. Церковные поучения против стригольников и полностью синхронные им заново изготовленные во второй половине XIV в. списки оппозиционных сочинений — это две группы оружия воюющих сторон. Позиция А.И. Клибанова, отторгающего стригольничество от антицерковной книжности того же времени, особенно удивляет нас потому, что он сам провел интереснейший анализ главного сочинения, присутствующего и в «Измарагде» и в «Трифоновском сборнике», и на основе этого анализа дал превосходную картину «хода сражений» противоборствующих сил. Речь идет о комплексе разновременных статей, объединенных под общим заголовком: «Власфимия, рекше хулы на еретикы». Исследователь так изложил судьбу сборника: 1. Первичное составление сборника — 1274–1312 гг. 2. В эпоху Ивана Калиты (1325–1340 гг.) сборник подвергся существенному сокращению, устранившему наиболее «ядовитые» антицерковные статьи. 3. В 1380-е годы копируется старый, первоначальный список Власфимии со всеми ядовитыми сочинениями.Если мы сопоставим клибановскую схему, основанную на убедительном анализе, то увидим, что каждое ее новое звено возникает одновременно с каким-либо новым всплеском еретического движения:
«1313 г. того же лета явися в Новегороде еретик протопоп новгородский. К нему же присташа мнозии от причета церковного и мирян. И епископ тверский Андрей помогаша има, глаголя се, яко рай на земли погибе. И святый ангельский чин ругаху — безбожным учением бесовским имяноваху. И мнози от инок изъшедше оженихуся»[220]. Это свидетельство полностью сходится с первой позицией клибановской схемы. Новгородский протопоп был одним из первых читателей (а может быть, и создателем?) полной, воинствующей Власфимии 1274–1312 гг. Вторая, обескровленная редакция Власфимии прекрасно объясняется записью дьяков Мелентия и Прокоши на Сийском евангелии 1339 г., созданном в последний год княжения Ивана Калиты: «Сий бо князь великой Иван имеяше правый суд паче меры… безбожным ересям, преставшим при его державе. Многим книгам написанным его повелениемъ ревнуя правоверному цесарю греческому Мануилу…»[221]Чрезвычайно интересен обзор того полемического материала, который был устранен в эпоху Ивана Калиты и снова был включен в 1380-е годы. Лучше всего предварить этот обзор вполне обоснованными авторскими словами самого А.И. Клибанова. «В Трифоновском сборнике, — пишет исследователь, — представлены сочинения, которым ни в каком каноническом трактате не могло найтись места (Слово о лживых учителях и др.)… Скажем теперь только то, что Слово о лживых учителях доводит критику духовенства до отрицания института духовной иерархии, место которой оно освобождает для учителей из народа… В оправдание своего призыва к борьбе и в пояснение того, в чем эта борьба должна выражаться, сочинитель приводит примеры, от которых у духовенства должен был пробегать мороз по коже…»[222] С этими словами исследователя необходимо согласиться полностью. Но тогда возникает недоумение — если в 1380-е годы (а по другим данным, с 1355 г.) возобновлялись экземпляры такой острополемической книжности, то как можно обойти стороной стригольников, которых в середине этих 1380-х гг. Стефан Пермский прямо обвинял в том, что они «поставистеся учители народом», что вопреки заветам Христа стригольники заставляют удаляться от таинства причастия, что все духовенство до патриархов включительно «не по достоянию поставляеми»? Рассматривая по пунктам подробный «обвинительный акт» Стефана Пермского по делу стригольников, предъявленный им новгородскому архиепископу Алексею в 1386 г., мы получаем впечатление, что обвиняющий хорошо знал сборники сочинений вроде Измарагда или Трифоновского и опирался на них как на вещественное доказательство. Какая иная общественная сила Новгорода и Пскова в то время могла считать необходимым дать читателям (или слушателям читаемого) такой полный и многообразный подбор материалов против симонии (поставлении священников «на мзде»), малограмотности духовенства и одновременно стремиться к замене «лихих пастухов» добрыми (и книжными) пастырями из мирян, из среды городского посада? Составители сборников были одновременно и осторожны, прикрываясь именами отцов церкви, и смелы, готовя себя и своих последователей к открытой борьбе и «страстям». Стригольники и дождались этих страстей в 1375 г., когда последовала расправа с Карпом и его единомышленниками. Между прочим, Стефан Пермский в своем пространном «Списании», написанном через 11 лет после казни, ни слова о ней не говорит, как умолчали о ней и современные событию летописцы; краткая заметка появилась ретроспективно в более позднее время (см. главу 1). Стефан никого, кроме Карпа, не упоминает, как бы считая лишь его одного ответственным за все; те, кто продолжал дело Карпа у Стефана просто «стригольниковы ученики». За прошедшие после смерти Карпа годы епископом не названо ни одного имени из числа этих учеников. Единственным персонально обвиненным является один Карп. Не подводит ли это к мысли, что основа обвинения содержалась в том «писании книжном», которое Карп «списа на помощь ереси своей»?
* * *
Одной из причин, побудивших Н.А. Казакову и А.И. Клибанова отрицать органическую связь между стригольническим движением и воскрешенной путем изготовления во второй половине XIV в. новых списков прежней антиклерикальной литературы конца XII — начала XIV в., следует считать учет этой книжности только по времени первичного возникновения ее в русской среде (перевод, сочинение). Принцип первого появления совершенно необходим, разумеется, для изучения исторической ситуации в момент рождения тех или иных произведений, но он помогает понять только одну сторону явления — переход к какой-то новой фазе, а когда мы анализируем воспроизведение в другую эпоху, то мы определяем временну́ю устойчивость явления, хронологический диапазон его исторической жизни. Когда в 1355 г., за четыре года до создания людогощинского «древа разумного», было заново переписано житие Авраамия Смоленского, то это нельзя объяснять только данью уважения к гуманисту XIII в. — житие содержало, как мы помним, описание такого лютого негодования духовенства по поводу открытой проповеди Авраамия, что попы и игумены собирались сжечь, или распять, или утопить в Днепре миролюбивого проповедника. Через два десятка лет после нового воспроизведения рукописи жития волны Волхова сурово напомнили новгородцам о гневе смоленских пастырей полтораста лет тому назад. Второй угадываемой причиной отторжения стригольников от антиклерикальной книжности разных поколений в интересных и серьезных трудах Н.А. Казаковой и А.И. Клибанова следует считать обилие в этой книжности статей, говорящих об исповеди и покаянии как о законных и обязательных для каждого православного религиозных обрядах. Нежелание исповедоваться «череви работному попу» еще не означает отказа от исповеди и причащения в принципе; речь идет об устранении неблагопристойного посредника между грешником и богом. Митрополит Фотий и здесь слишком сгустил краски, и назвал стригольников XV в. «недароимцами», т. е. не «принимающими причастия», но это следует понимать лишь с дополнением: «… из рук духовенства». Массивные каменные кресты в окрестностях Новгорода, вкопанные в землю и содержавшие как краткий пересказ покаянной молитвы, так и свободное пространство для написания кающегося «имя рек», датируются тем же самым временем — второй половиной XIV в., — что и «Измарагд» и «Трифоновский сборник». Эти кресты одновременны и поучению Стефана Пермского. Именно на Стефана и следует возложить вину за понимание стригольнического учения как проповеди «недароимства», полного отказа от важного таинства. С этого тезиса Стефан начинает свое выступление: Карп «оклеветал весь вселеньскый собор: партиархов и митрополитов и епископов, игуменов… яко не по достоянию поставляеми… и такю виною (духовенства. — Б.Р.) отлучает от причащения святых… тайн», ссылаясь на свое писание книжное. Нежелательность выполнения церковного обряда Карп связывал с греховностью всего духовенства, а Стефан представил дело так, как будто бы о непосредственном обращении человека к вездесущему богу не может быть и речи. В неясной форме Стефан осудили «покаяние земле», под которым, по всей вероятности, следует понимать врытые в землю каменные кресты. Но эта практика по понятным причинам конспирации не отражена в антицерковных сборниках той эпохи. Обилие покаянной тематики в полемических рукописях рассматриваемого времени как бы отрезало эту книжность от вероучения Карпа и его учеников в том его виде, в каком его представил в своем обвинении пермский епископ, выявлявший малейшие провинности стригольников. Это и смутило, очевидно, исследователей, отдаливших книжность, воссоздававшуюся людьми XIV столетия, от стригольников. В свете новых данных о внецерковной исповеди новгородцев XIV в. следует принять старый тезис А.Д. Седельникова и Н.П. Попова о сопричастности стригольников к созданию тех монументальных сборников, содержание которых вызвало замешательство и резкую отповедь русского епископата и цареградского патриархата в 1380-е годы. Особый интерес представляют два почти синхронных сборника, созданные в двух центрах новгородской епархии, — «Измарагд» в самом Новгороде и «Трифоновский» на родине стригольника Карпа — во Пскове. В дополнение к тому, что бегло было сказано в первой, вводной главе, рассмотрим тщательно изученный А.И. Клибановым сборник, названный этим исследователем «Трифоновским» по имени игумена Видогощинского монастыря Трифона, вложившего книгу в библиотеку своей обители. Главные простригольнические сочинения роднят «Трифоновский сборник» с новгородским «Старшим Измарагдом» (например, «Слово о лживых учителях»), но «Трифоновский сборник» полнее и богаче по содержанию. Анализу этого псковского сборника А.И. Клибанов посвятил целый раздел своей большой работы[223]. Нам следует принять тезис А.Д. Седельникова и тогда исчезнет тот кажущийся разрыв между стригольничеством и сочинениями, критически рассматривающими практику православной церкви в XIII–XIV вв., так как в них очень большое внимание уделено вопросам покаяния и самой покаянно-исповедальной процедуре, что считалось чуждым для стригольников, будто бы в принципе отрицавших таинство исповеди и причащения. Содержание «Трифоновского сборника» многообразно и разносторонне; помещенные в нем статьи затрагивали многие вопросы, волновавшие тогда и светские и церковные власти, и духовенство, и городской посад от простых обывателей-прихожан до искушенных в религиозных контроверзах и широко образованных вольнодумцев, к числу которых относились стригольники-миряне и представители низшего слоя церковного клира. Составитель сборника не обошел вниманием и полуязыческую деревню, поместив три ранних поучения против язычества. Такова социальная широта читательской (и слушательской) аудитории, на которую был рассчитан сборник. Хронология сочинений тоже достаточно широка и охватывает почти весь христианский период исторической жизни Руси, начиная от поучений новгородского епископа Луки Жидяты (XI в.) и киево-печерского игумена Феодосия (XI в.) и кончая «Власфимией», которая переделывалась в XIV в. и продолжала видоизменяться (уже за пределами «Трифоновского сборника») вплоть до 1504 г. Широка, но вместе с тем и очень целенаправленна и тематика подобранных произведений XI–XIV вв. В основном это забота о надлежащим воспитании прихожан в христианском евангельском духе. Для этой цели необходимо повысить моральный и профессиональный уровень духовенства, устранить наблюдаемые прихожанами недостатки, а если тот или иной иерей плохо подготовлен, не владеет даром убедительной проповеди, то обосновывалось право мирян поручить руководство паствой образованным и талантливым людям из своей среды, что, разумеется, должно было возбудить крайнее недовольство как церковных властей, так и всего приходского духовенства. Целый ряд требований предъявлялся и к самим мирянам, внимание которых привлекалось, прежде всего, к покаянию. Однако ни в одном из включенных в сборник сочинений не говорится об обычной церковной исповеди священнику как посреднику между, людьми и богом. Центральное место в сборнике отведено «Власфимии», но как уже говорилось не в том смягченном виде, какой она приобрела в эпоху Ивана Калиты, когда из нее был изъят ряд наиболее острых статей, а в ее первоначальном виде 1274–1312 гг. Составитель Трифоновского сборника взял для копирования во второй половине XIV в. не ближайший к нему по времени благообразный вторичный вариант, а воскресил первоначальный, возникший в пору церковных соборов во Владимире (1274) и Переяславле (1312) вариант, содержащий такие исключительно важные сочинения, как «Предъсловие честнаго покаяния» (XII — начало XIII в.) и «Слово о лживых учителях». Для того чтобы почувствовать, каким гражданским мужеством нужно было обладать составителю Трифоновского списка в самый разгар репрессий и угроз в адрес стригольников (1350-1380-е годы), приведу ряд острых высказываний, возникших где-то на рубеже XIII и XIV вв., исчезнувших в младшей редакции второй четверти XIV в., возобновленных в «Трифоновском сборнике» около 1380 г. и снова вычеркнутых при Иосифе Волоцком в 1504 г.:… Погыбение наипаче бываеть от епископ и от попов грехов… Пастушие зловерье наводить на вся люди пагубу… Бывают же мнози епископи и Попове невегласи [невежественны]. О них же святый сбор рече: «Аше епископ ли поп поставлен будет невежа — да извержется!»[224]В качестве противоядия невежественному духовенству предлагается особенно ненавистная священникам альтернатива:
Бывают же и простии [миряне, не облеченные саном] вельми смыслены и мудры — яко подобаеть таковым и попы учити!.. Аще кто не имый сана ерейскаго и будет чист житием и умееть поучивати неразумный — да учить! Будуть бо вси учимы богомь…Так и кажется, что Стефан Пермский, укоряя стригольников за то, что они, «изучив словеса книжные… поставистеся учители народом», имел в виду сочинение, подобное «трифоновским». Такое же впечатление производит и другой упрек епископа в стремлении проповедовать свои идеи всенародно, на «распутиях и ширинах градных»; он мог быть вызван практикой «высокой проповеди», упоминаемой в «Слове о лживых учителях»:(с. 109)
Горе же тому, иже не почитае святых книг писания пред всеми… И паки глаголеть [псевдо-Златоуст]: ни в кровех [не в закрытых помещениях], ни малым гласом, но всьде великою силою глаголюще… Хвалите его [бога] в гласе трубнемь, рекше высоко проповедайте и инде с высоким проповеданием учите!Надпись на Людогощинском кресте 1359/60 г. утверждает, что чистым сердцем можно молиться Богу «на всяком месте» (подразумевается — не только в церкви). Тексты «Трифоновского сборника» подкрепляют этот тезис: «Внутренний человек» — «живой храм духа святого», люди — «храм божий есте», а не церковь (с. 110–112). В «Слове о лживых учителях» прямо сказано: «На всяком месте — владыка Христос» (с. 114).(с. 114)
Не пытаемо есть молитве место… Да и ты, где убо еси: или на мори или на пути или на торгу или в коемь месте или в храме (в данном случае это не «церковь», а неполногласная форма слова «хоромы» — дом, жилище — Б.Р.) молися в чистей совести — бог послушаеть тебе. Того [бога] бо есть земля и исполнение его и на всяком месте владычествие его.Для обличительных сочинений характерен воинственный дух. Слово «Власфимия» правильно переведено с греческого как «хула на еретиков», но по всей направленности содержания книги читателю становится ясно, что составитель считает еретиками некоторых представителей господствующей церкви, в которой много епископов и попов «невегласей» «зловерных пастухов». Очевидно, к тому времени городские вольнодумцы ощутили свою силу, и убедились в том, что их розыски в древней и средневековой канонической (и апокрифической, которую они могли принимать за каноническую) литературе показали им, что их взгляды на покупку священнических мест, на требование образованности и ораторского таланта от священников, на недопустимость их неблагопристойного поведения, что все это, во-первых, подкреплено текстами тех или иных писаний, а во-вторых, поддержано городским посадом, в том числе, очевидно, и его верхами, строившими на свои деньги «мирские» церкви и монастыри уличанскими и кончанскими корпорациями[226] и желавшими контролировать «свой» клир этих церквей. Все это, естественно, вызывало не только недовольство, но и противодействие церкви. Ситуация такого противоборства повторялась уже в третий раз: впервые мы наблюдаем ее в пору расцвета русских земель в конце XII — начале XIII в., когда города росли, набирали силу, создавали свое высокое искусство и, не выходя за пределы религиозного самосознания, стремились усовершенствовать церковную практику, устранить бытовые недостатки духовенства, а в области богословия считать, что «диктатором ум является». Эта первая конфронтация породила движение «аврамистов» и такие интересные произведения, как, например, «Предъсловие честнаго покаяния» или «Златая Чепь». После татарского нашествия она повторялась к концу XIII в., когда северные, не затронутые нашествием города оправились от общерусского разорения и вновь, после полувекового перерыва (в Новгороде 1230-1290-е годы), начали возводить каменные храмы, что было показателем возврата к домонгольскому образу жизни. Городской посад начал конфликтовать с духовенством. Была создана первая полная редакция «Власфимии», содержавшая убийственное для плохого (бичуемого и церковными властями) духовенства «Слово о лживых учителях». Церковь отозвалась созывом двух общерусских соборов (1274 и 1313 гг.). Вскоре эту редакцию обезвредили с точки зрения церкви, а к концу XIV в., когда жизнь в русских городах, особенно в Новгороде и Пскове, поднялась на значительно более высокий уровень, противоборство города и церкви снова возродилось, и в дело борьбы пошли все антиклерикальные сочинения двух предшествующих столетий — во Пскове создают Трифоновский сборник, составитель которого отверг предшествующую «обеззараженную» редакцию середины XIV в. и воскресил первоначальную бескомпромиссную. А.И. Клибанов высказал очень убедительное предположение, что в XIV в. могло быть несколько списков «Власфимии»[227], а это говорит о широком фронте противоборства официальной церкви и мыслящей части посада, стремившейся не к отказу от религии, а к очищению ее от действий тех «пастухов», которые «просмрадили» сад самого бога. «Трифоновский сборник» отразил ту стадию противоборства, когда недостаточно было упомянуть о недочетах, показать несоответствие книжных предписаний практике, упрекнуть тех, кто заслуживал упрека. Настало время действий. «Власфимия» открывается статьей-эпиграфом «Изложение, рекше въспоминание бывающаго церковнаго сьединения при Костянтине и Романе, овому царствующю, овому же тогда царству отцю саномъ почтену сущю». «Это, — пишет А.И. Клибанов, — памфлет против церковной иерархии, исполненный великолепным боевым духом»[228]. Составитель сборника, по-видимому, стремился придать даже заголовку этой статьи особую историческую весомость, описав подробно соправительство двух византийских императоров — Константина VII Багрянородного и Романа Лакапина, но допустил ошибку: «церковное соединение» произошло не при Константине Багрянородном, а в предыдущем столетии после победы над иконоборцами при Константине V (719–775). В этом явно ощущается рука не грека, а русского. Напоминание же о преодолении еретиков, занимавших одно время господствующее положение в империи, было не случайным. В самом тексте «Изложения» от имени цесарей рекомендуется осмотрительность при назначении церковных иерархов:(с. 109)[225]
Повелехом бо сего ради на высоту святительства добре могуща [лиц с большими возможностями] и крепкыя [в вере] възводити… [крепких] не теломъ, но душею и разумомъ…Особенно интересен перечень ветхозаветных и евангельских примеров жесткой и непримиримой борьбы с инаковерующими. Пополню верные суждения А.И. Клибанова расшифровкой некоторых кратких ссылок автора «Изложения» по первоисточнику. Борцами с религиозными противниками в библии выступают люди, непосредственно общающиеся с богом. Мы уже знакомы с этой темой по Людогощинскому кресту, где два медальона посвящены пророку Илье. Общение с богом может быть двусторонним: или человек обращается к богу с просьбой, или же бог сам избирает кого-то из людей для выполнения своих замыслов. Богоизбранность ограждала избранника от опасности, а иной раз давала ему власть даже над царями. Библия, повествуя об Илье Фезвитянине, дает два примера враждебных столкновений поклонников Саваофа с инаковерующими. Автор «Изложения» очень кратко напомнил своим читателям об Илье, «триста жрець заклавшаго и два пятьдесятника огнемь съжьгоша». Расчет был, конечно, не на простого читателя, а на искушенного, хорошо знавшего священное писание, перед которым при одном беглом упоминании имени Ильи вставала красочная и устрашающая библейская легенда. Первый эпизод — состязание с поклонниками Ваала-Гада, второй — с поклонниками Вельзевула. В первом случае устроили состязание, соорудив два жертвенника (камни, дрова, зарезанные тельцы), и поклонники Ваала в количестве 450 жрецов и поклонники Саваофа во главе с Ильей стали просить своих богов зажечь алтари божественным огнем. До полудня жрецы Ваала скакали вокруг своего жертвенника, взывая к Ваалу:
…зовяху гласом великим и краяхуся [царапали себя] по обычаю своему ножи и мнози бишася с бичми до пролития крови своея…(Острожская библия, 3-я Книга Царств, гл. 18)
И поругася им Илия Фезвитянин и рече: «Зовите гласом великим, яко непразньство ему [Ваал занят] есть: еда [м. б.] что ино строи или уснул будет — и да обудите его!»Вечером по молитве Ильи Саваоф зажег его жертвенник, а торжествующий Илья приступил к расправе с противниками:
И рече Илья к людем: «Поймайте пророки вааловы, да ни един скрыется от [из] них!» И прияша и веде я Илья на поток Кисов и закла их ту.450 (по иным источникам, 300) жрецов ложной веры были заколоты мечами. Второе состязание происходило со сторонниками бога Вельзевула (4-я Книга Царств. Гл. 1, 9, 12). Здесь Саваоф по просьбе Ильи сжег 100 воинов и двух офицеров-«пятидесятников». В первом столкновении было уничтожено языческое духовенство, а во втором — войско светской власти. Библия убеждала в том, что богоизбранность ограждала даже в незначительных, недостойных внимания божества, мелочах. Так, в главе соседней с рассмотренной нами (§§ 23–24) описывается, как по просьбе ученика и последователя Ильи, пророка Елисея, бог жестоко наказал мальчишек, которые поддразнивали Елисея:
Исходящу ему путем и се дети малыи изыдоша из града и ругахуся ему… И озревся [оглянувшись] въслед себе и виде я [их] И проклят я именем господним. И се изнидосте две медведицы от луга и растергоша [растерзавше] от них 42 отрочищаПо всей вероятности, отнюдь не случайно составитель «Власфимии» напоминал читателям о неприкосновенности людей, избранных богом; Елисей только-только стал преемником Ильи, взятого Богом на небо, а уже его достоинство ограждено кровью сорока двух отроков. Составитель «Трифоновского сборника» проследил за тем, чтобы во всей книге нигде не было определенно сказано, что малограмотная часть духовенства — это еретики, вольно или невольно, по незнанию искажающие смысл Священного писания. Но к этому подводит даже само название сборника: «…Хула на еретиков», а почти все тексты о духовенстве полны здесь гневных обличений «лживых учителей», справедливо охулив которых следует дать дорогу благочестивым, благонравным и весьма книжным мирянам. Так кто же эти еретики, «въсхищающие» (выкрадывающие) паству христову? Книжники и молебницы, «чисто житие имущие» или… Договаривать было крайне рискованно, и на евангельских уже, а не на ветхозаветных примерах автор «Изложения» переходит к другой, чрезвычайно важной для стригольников теме — к теме разумного и смелого учительства, не считающегося ни с чином, ни с саном тех, кого следует учить или, точнее, насильно переучивать, чтобы обеспечить им оправдание на страшном суде. Щитом, прикрывающим проповедника, здесь избран апостол Павел. Приводится 4-я глава 1-го послания к коринфянам, где говорится о том, что «царство божие не в слове, а в силе» (§ 20), и апостол спрашивает коринфян: прийти ли ему к ним с любовью или же с жезлом (в «Изложении» — «с палицею»)? Для книжников XIV в. здесь ощущается явное наведение на соседний важный, но и очень опасный текст 6-й главы:(гл. 2, 24)
Разве не знаете, что мы будем судить ангелов (!), не тем ли более дела житейские?Составитель «Трифоновского сборника» в другом месте повторяет этот горделивый тезис людей, обладающих полной и единственной истиной и не допускающих оспаривания ее кем бы то ни было:(гл. 6–3)
Павел божественный апостол рече: «Аще и АНГЕЛ, съшьд [сошедши] с небеси, начнеть благовестити не тако яко же мы благовестихом — проклят да будеть!»[229]Это уже не подготовка к религиозному диспуту, а априорное зачисление всех инакомыслящих, инаковерующих в разряд еретиков, заслуживающих анафемы. Это — объявление войны, casus belli. Составитель «Трифоновского сборника» острейших полемических слов и поучений знал, что он посылает согласного с ним читателя на открытую и опасную борьбу с могущественным и непреклонным противником, оружием которого было не только слово убеждения, но и отлучение от церкви, изгнание из града, заточение в монастырской башне, а то и волны Волхова. И он стремился подбодрить своего сторонника, укрепить его дух, подвигнуть его продолжать широкую проповедь правого вероучения:(Кл. с. 25)
Николи же престани право учай, исповедан правую веру и путь спасеный проповедаяй пред многими послухы(с. 107)
Аще ли хощещи уведети о том, иже творяще зла — ти сильны суть, но търпящи злая — худи!Перед нами полный отказ от евангельского непротивления злу и презрительное осуждение тех, кто терпит зло лишь потому, что сила на стороне злых. Сборник создавался несомненно в предвестии каких-то грозных событий, а может быть, и сам был их причиной, и составитель был озабочен силой духа своих сторонников, своих союзников в ведущейся и разрастающейся (не без усилий самих сторонников) войне гуманизма и разума с корыстолюбивой косностью. В предвидении предстоящих сражений с неизвестным исходом («даже и до смери подобаеть стояти») идущему в бой за правую веру дается прочувствованный отеческий совет:
И ты убо, егда хощещи что сделати благая, угодно души — многы предъзри [постарайся предвидеть] беды, многы тъщеты, многы скорби, многы смерти. Не дивися, не мятися! Рече бо, чадо, аще приходиши богу работати — приготови душю свою в напасть!О предельной накаленности общественной обстановки в Новгороде непосредственно перед расправой с Карпом в 1375 г. говорит один интересный источник — создававшаяся в Новгороде незавершенная летопись, последний раздел которой обрывается на дате 26 ноября 1374 г., после чего следует совершенно не связанный с летописью текст[230]:(с. 108)
Слово святого Ефрема… Брате! Егди ти найдет лукавый помысл — извлеци сей мечь [книги], еже есть помянута страх божий и посеци всю силу вражию. Имей в утробе [внутри себя] место книги божественыя — тацим же образом труба въпиющи съзывает ны, воины [нас воинов], тако божественыя книги чтомы [читаемые] збирают помыслы на страх божий. И паки тацим же объразом въпиющи, труба въ время рати невегласа [здесь: неоповещенного] въставить прилежати на супротивная. Тако и святыя книги въставять ти ум прилежати на благое и укрепят тя на страсти!Летопись, брошенная на полпути, генеалогия русских князей, доведенная только до 1374 г. и воинственное уподобление божественных книг то мечу, рубящему вражью силу, — о звучащей трубе, созывающей «нас, воинов», книжников, «прилежати на супротивная» — все это прямо вводит нас в напряженнейшую обстановку жизни Новгорода за несколькомесяцев до расправы со стригольниками. Автор этой неожиданной концовки, как и один из авторов Трифоновского сборника, взывает к рыцарской чести книжника-воина и ободряет его на случай грозящих ему в наступающих битвах «страстей». Воины этой рати, создавая изборники смелых и убедительных сочинений, по существу уже начали «судить ангелов». «Многие скорби», напасти и беды были неотвратимы, что и показал 1375 год.
Псалтирь и покаянные гласы инока Степана
К той полемической книжности русских вольнодумцев XIV в., которая так хорошо освещена в трудах А.Д. Седельникова, Н.П. Попова, Н.А. Казаковой и А.И. Клибанова, можно добавить еще один интересный источник, полуприкрытый таким безупречным заголовком, как «Псалтирь». Это давно известная новгородская рукопись XIV в., знаменитая Фроловская псалтирь (Fn 1–3), хранящаяся в Библиотеке им. М.Е. Салтыкова-Щедрина в Петербурге. В 1818 г. она была передана Академии наук Петром Кузьмичем Фроловым. За этот долгий срок многие исследователи обращались к пергаменной рукописи, написанной изящным уставом, но интересовались они не текстом, а красочными инициалами, ставшими знаменитыми благодаря В.В. Стасову, и необычным фронтисписом. Датируется рукопись серединой XIV в.[231] Однако интерес эта рукопись должна возбуждать не только своей орнаментальной частью, но и текстовой, так как она оказывается вариантом «Следованной псалтири» — к каноническим псалмам здесь присоединено 19 «покаянных гласов», разбросанных между разными псалмами. Они требуют особого рассмотрения. Не является стандартным и перевод самих псалмов: в ряде случаев изготовителем рукописи избирается такая грамматическая форма, которая позволяет понимать текст псалма как призыв к исповеди непосредственно самому богу, что прямо ведет нас к стригольникам. Необходимо заново рассмотреть всю рукопись комплексно: ее каноническую часть, отклонения от законного текста, орнаментацию (рис. 20, 21).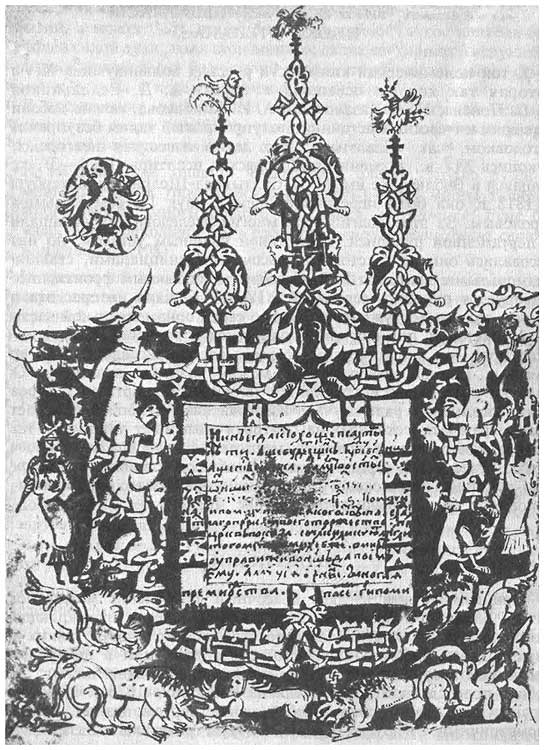
Рис. 20. Фронтиспис псалтири Степана. Вторая половина XIV в.

Рис. 21. Схема расположения отдельных символов. Т — тенета и узлы дьявольские; К — китоврасы; Д — дьяволята; В — Вельзевул; МН — люди за пределами церкви («мужи новгородские»); Х — знаки плодородия Земли; П — петух-шантеклер.
Фронтиспис.
При мимолетном взгляде красочный фронтиспис может показаться близким к обычному изображению храма, предваряющему текст священной книги. Известно огромное количество таких рисунков храма (обычно в разрезе) с изображением в центральной части или автора текста (Давид-псалмопевец, евангелисты), или собора православной церкви, как на Изборнике 1073 г. Некоторые фронтисписы представляют собой почти чертеж здания, сухой и геометричный, а в других случаях контуры трехглавого (пятиглавого) храма образуют пышную декоративную рамку вокруг тщательно выписанного изображения автора иллюстрируемого сочинения. Фронтисписы русских средневековых книг еще недостаточно изучены. Семантика композиций почти не вскрыта. А между тем только здесь художники, оформлявшие рукописные книги, могли проявить самостоятельность, выразить свое отношение к каноническим стандартам. Мастера прикладного искусства долго сохраняли архаическую символику, выработанную еще в языческие времена, но нередко выражавшую общие понятия, не связанные с формой религии. Таковы, например, знак солнца или устойчивый на протяжении тысячелетий знак земли-пашни в виде квадрата с четырьмя точками-семенами, знак плодородия в виде крина и т. п. Особый интерес представляет часто встречающееся в рукописях XIII–XV вв. сочетание очень крупных солярных знаков (часто с шестью лучами внутри круга), чередующихся с такими же крупными квадратами, символизирующими землю. Занимая почти всю ширину орнаментальной полосы, обрамляющей центральное изображение святого, знаки солнца обходят это изображение или со всех сторон (включая и «ночное солнце»), или же показывают только дневной ход солнца. Орнамент явно несет здесь значительную смысловую нагрузку, передавая идею макрокосма и расчисленного творцом мира движения главного для людей светила. Идеограммами солнца и земли не ограничивается символика фронтисписов. Возглавляя, открывая собой священную книгу, первая живописная композиция в ней должна выразить еще одну идею — взаимосвязь божественного начала (представленного центральной миниатюрой-иконой) с человеческим. На фронтисписах XIV — начала XV в., в те десятилетия, когда средневековые люди были крайне озабочены стремлением попасть после смерти в разряд прощенных богом, оказаться не в аду, а в раю, абстрактный человек показан в облике души-птицы. На рукописных книгах, и в частности на фронтисписах XIII–XIV вв., появляются странные изображения птиц, как бы попавших в тенета орнаментальной плетенки; птицы изображены без всяких следов оперения, они иногда безжизненно висят в «сетях» орнамента. В какой-то мере это разъясняется этнографическими записями о «навьях», душах мертвецов, принимающих облик птиц, летающих по ночам, в бурю и дождь «на злых ветрах». «Навьи» — это не все мертвецы вообще, а лишь те, которые были убиты какой-то внешней злой силой: съеденные волками, «с дерева падшие» и т. п.; по средневековым представлениям — жертвы дьявола[232]. В русских рукописях в орнаментике фронтисписов мы встречаем птиц, удавленных тенетами; примером может служить великолепный фронтиспис знаменитой псалтири Луки Смолянина 1395 г. Здесь храм показан не в разрезе, а с фасада, и вся западная, лицевая сторона покрыта узором из плетенки-тенет и птиц — живых, умирающих и мертвых. Более ранний пример подобной композиции — новгородский «Апостол» XIII–XIV вв.[233] Трудно безошибочно определить скрытый смысл композиции: для духовенства тенета будут сетями дьявола, а для еретиков вроде аврамистов — путами церкви, убивающими души людей неверным учением. После этих кратких замечаний перейдем к расшифровке интереснейшей, но и очень сложной композиции Фроловской псалтири (№ 3) XIV в.* * *
Если рассмотреть фронтиспис Фроловской псалтири № 3 на фоне дошедших до нас рукописей XIV в., то при первом взгляде мы уловим некоторые общие черты. Во-первых, вся композиция подчинена форме храма с тремя главами; в центре, как обычно, оставлено неорнаментированное прямоугольное пространство для изображения пророка — царя Давида. Во-вторых, преобладающим орнаментом является плетенка в сочетании с изображениями птиц. Третьей точкой соприкосновения с синхронными рукописями являются «китоврасы», человеко-звери, хорошо представленные, например, на так называемой псалтири Ивана Грозного новгородского происхождения, датируемой 1380-ми годами. Но на этом схожесть и кончается. В центральном прямоугольнике, предназначенном для красочного, иконного типа изображения того или иного святого, в нашей псалтири первоначально не было ничего. Имеющийся в настоящее время текст, заполняющий центральный прямоугольник, написан через 200 лет после создания рукописи, в XVI в. Пустое пространство окаймлено восемью знаками архаичной народной символики, обозначающими «землю», «поле», «засеянную пашню». На всем фронтисписе нет ни одного христианского персонажа, если не считать апокалиптического скованного Сатаны в нижней части композиции. Совершенной неожиданностью является сюжет отдельного рисунка, находящегося вне контура «храма» в левом верхнем углу листа. В благочестиво оформленных рукописях вроде Федоровского евангелия 1320-х годов (Ярославль) в этом углу, тоже вне храма, изображался Господь Бог, от которого проведена прямая линия к Иоанну Богослову, диктующему Евангелие своему ученику Прохору. Прямая линия — эманация божественной воли, нисхождение святого духа на евангелиста. Рядом с поясным изображением написаны слова, открывающие Евангелие от Иоанна: «Искони бе Слово [ЛОГОС] и Слово бе от Бога и Бог бе — Слово». На фронтисписе же Фроловской псалтири на месте бога, внушающего евангелисту мысль о единстве божества с Логосом-Словом, изображен… петух! Это не богохульство; это перенесение акцента с восприятия продиктованных понятий на предвозвещение нового слова. Петух — chant éclairé, певец новой зари, символ выхода из ночной тьмы к новому сияющему дню. В красочных инициалах самой псалтири мы трижды встретимся с изображениями этого шантеклера: Л. 24 об. Псалом 19. «Услышит тя господь въ день печали, защити тя имя бога…» Петух в цветистом оперении изображен в овальном медальоне. Л. 80. Псалом 63. «Услыши боже гласъ мой, егда молюся к тебе…» В соседнем 62-м псалме есть слова, связанные с утренней зарей («Боже!.. Тебя от ранней зари ищу я…»). Л. 208 об. Четвертая песнь пророка Аввакума. Начало: «Господи! Услышах слух твой [голос твой]…» Инициал с петухом открывает вторую часть песни пророка: «Отъ нощи утренюеть духъ нашь къ тебѣ, боже, зане свѣтъ повѣлѣния твоя — по земли». «Утрина» — заря, «утреневати» — «стремиться»[234]. Дальнейший текст поясняет, куда и к чему призывает стремиться библейский пророк: «Правдѣ научитеся живущии на земли… Господи боже нашь, миръ даже [дай] нам!..» Как видим, замена божественного образа рисунком петуха, символизирующим в данном случае общение с богом и стремление человека к правде и миру, не является предосудительной; благочестивый стандарт заменен здесь новым, весьма земным, но благородным символом новых гуманистических понятий, в том числе и права человека обращаться непосредственно к богу, беседовать с ним и призывать своих современников к правде.* * *
При более внимательном рассмотрении нашего фронтисписа мы увидим главное и существенное его отличие от большинства синхронных ему рисунков. Здесь дано не изображение пророка-псалмопевца или евангелиста в обрамлении тератологического орнамента, а развернута самостоятельная композиция, в которой орнамент был не безмолвным узорочьем, украшавшим рукопись, не цветистым окладом центральной иконы, а своего рода письменами, раскрывающими мировоззрение средневекового новгородца; центральной же фигуры здесь и вовсе не было. Ключом к раскрытию системы уникальной композиции является Сатана, изображенный в самом нижнем ярусе храмообразной композиции. Сатана скован: на руках и ногах у него кандалы; с двух сторон к нему подбираются звери, похожие на гиен. Это прямо ведет нас к Апокалипсису, к Откровению Иисуса Христа, записанному Иоанном Богословом, «чтобы показать рабам божьим, чему надлежит быть вскоре…»И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змия древнего, который есть дьявол и сатана и сковал его на тысячу лет(гл. 20 — 1, 2)
… После же сего ему должно быть освобожденным на малое времяЭтим определяется география интересующей нас композиции — нижний ярус подземного царства Сатаны, бездна. Над бездной с сатаной нарисованы еще две полосатых гиены, ухватившиеся за сеть с птицами. Определяется и хронология: сатана все еще скован, тысячелетнее заключение его еще не кончилось и предстоит освобождение духа зла «на малое время», после чего начнется страшный суд. В промежуток сатана «выйдет обольщать народы… и собирать их на брань» (20-7). Перед страшным судом сатана будет окончательно сожжен в озере расплавленной серы. Краткосрочное царство сатаны еще не наступило, но эта нижняя часть композиции с бездной, в которой Сатана — Вельзевул — пока еще скован, очень выразительно напоминает о предстоящем выходе его на свободу, «на брань» против христиан. Средняя зона фронтисписа, расположенная непосредственно над адом, — это зона земли, на нижней линии которой находятся ноги новгородцев в красных сапожках и лапы фантастических зверей. Символом земли как прямоугольного пространства (по «Космографии» Козьмы Индикоплова) является центральный пустой прямоугольник с упомянутыми выше семью идеограммами «земли»-«нивы» по периметру. Восьмой знак вынесен вверх на особый выступ, изображающий гору. Над зоной земли и под этой зоной (уже в аду) нарисованы четыре сети, в которых запутались тощие птицы с раскрытыми клювами; у некоторых птиц головы мертвенно запрокинуты назад. Лапы у этих, несомненно птицеголовых, существ зверино-птичьи: то задние — звериные, то задние — птичьи, а там, где хорошо виден птичий корпус существа, разнолапость выражена очень странно — у одной птицы правая лапа звериная, а левая птичья; у соседней наоборот. У таких птиц четко показаны крылья и задней пары конечностей нет. Художник хотел как-то слить птичий облик с отдельными элементами звериного, т. е. уподобить эти существа грифонам с их орлино-львиным комплексом. Все птицы даны попарно. Семантика этих тенет-«перевесищ» (сетей для птиц) убедительно раскрывается рисунком левой адской гиены: она держит в пасти конец сети и, напрягаясь, почти присев на задние лапы, тянет, затаскивает тенета с запутавшимися в них птицами в ад. Здесь, как уже говорилось, мы имеем дело с устойчивым отождествлением человеческой души с птицей, которое отразилось и в народных поверьях о «навьях», о душах людей, погибших от злого начала, в данном случае, по-видимому, от взаимной ненависти, раздоров, свар. Самыми крупными и, очевидно, наиболее значительными являются человеко-звериные фигуры с жезлами, которые появляются в книжной орнаментике (по датированным рукописям) в 1355–1381 гг., в самое интересное для нас время. Эти парные мужские фигуры в коронах или особых шапках, похожих на княжеские, располагались на фронтисписах в верхних углах «храмов», как бы поддерживая своими жезлами верхнюю, сводчатую часть постройки с церковными главами наверху. К расшифровке значения этих довольно часто встречающихся в заставках и фронтисписах фигур мы должны привлечь многообразные легенды о царе Соломоне и Китоврасе-архитекторе[235]. В Новгороде XIV в. один из вариантов легенды был изображен на знаменитых золоченых вратах Софийского собора, изготовленных по заказу архиепископа Василия Калики в 1336 г. Античный человеко-конь Кентаврос был переделан русскими книжниками в Китовраса, мудреца, книжника, зодчего и даже царя. Китоврас и Соломон на вратах 1336 г. изображены именно как цари в коронах; в стороне от огромной фигуры крылатого кентавра художник, считая мудрого Китовраса покровителем строительного дела, изобразил свою мастерскую, внутри которой изображен человек, чертящий на листе, и строительные инструменты. Китовраса в легендах иногда называют братом царя Соломона, что отражено и в тексте на золоченой пластине Васильевских врат 1336 г. Владыка Василий как пилигрим знал, очевидно, разные варианты легенд[236]. Создание Китоврасом плана («очертания») храма Соломона объясняет нам наличие мерного жезла, «мерила праведного» («умеря прут 4 локтя…») в руках этого зодчего на разных изображениях, в том числе и на заставках и фронтисписах рукописей[237]. Удвоение фигуры Китовраса в рукописях объясняется не только стремлением к симметрии, но и наличием в русских легендах его «брата» Соломона. Зоологическая ипостась Кентавра в средневековом искусстве бывает не только конская, но и звериная (с мягкими лапами) и птичья. В нашем случае у Китовраса лапы мягкие (львиные?). Главенствующее положение двух Китоврасов в ряде фронтисписов и книжных заставок XIV в. (обязательно с символическими жезлами в руках) представляет большой интерес для понимания сущности всей сложной композиции фронтисписа. Жезлы Китоврасов Фроловской псалтири (как и «Грозновской» псалтири 1380-х годов) как бы поддерживают всю сложную архитектурную систему контурно намеченного «храма». Художник умышленно, при помощи провисающих вниз тенет, создал у зрителя впечатление проваливающихся, падающих церковных сводов. Свои жезлы, похожие на пастырские «пасторалы», Китоврасы вонзают в самую середину падающих сетей то ли для того, чтобы порвать эти сети, то ли для того, чтобы выправить или поддержать верхнюю часть храмовой постройки. На дальних концах жезлов сидят маленькие грифоны, присутствие которых должно споспешествовать делу Китоврасов. В непосредственной близости от Китоврасов, но ниже их, стоя задними лапами на линии земли, находятся птице-звери, похожие на грифонов; их удлиненные шеи соприкасаются с лапами Китовраса («по пояс» — «песьи ноги»), а птичья голова достигает узорчатого пояса Китовраса; крылья обозначены неясно. Эти два существа, как и «птицы» в тенетах, тоже переплетены ременным плетением орнамента, но еще не удушены сетями, еще не утратили форму своих тел, верхние части которых приплетены к лапам Китоврасов. Из сетей, которыми частично оплетены Китоврасы и предполагаемые грифоны, высовываются бородатые хари, направленные к центру композиции. По краям выделенной нами зоны земли, как бы за пределами «храма», нарисованы две мужских фигуры с моделями домиков в руках. К ним, как и к бородатым головам, мы вернемся в конце описания фронтисписа (рис. 22).(гл. 20 — 3)

Рис. 22. Двое мужчин вне очертаний «злобесной» церкви поднимают модели домиков к небу (фронтиспис).
Верхняя зона четко определена тремя церковными главами, возвышающимися над самим зданием храма. Это небесная зона. Птицы здесь хорошо оперенные; на всех главах нарисовано по паре птиц с птичьей и звериной лапами каждая. Главы увенчаны большими узорчатыми крестами, и над каждым из них нарисован строгий крест простых грубых форм, силуэтом своим напоминающий новгородские покаяльные кресты. Этим крестом, дублирующим узорчатые кресты, венчающие главы (чего в архитектурной практике не было), придавалось какое-то особое значение, так как они нарисованы яркой красной краской, на которую художник был очень скуп. Они являются самыми красочными пятнами на всем фронтисписе. Быть может, действительно они должны были напоминать о спасительных покаянных крестах тех десятилетий, с которых тогда начинался важный обряд причащения? На этих крестах сидят три разных птицы, отмечающие разное время суток, вносящие в композицию динамику, фактор времени:
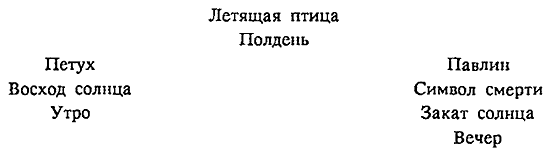
Определив три зоны мира: землю, подземный мир с его адом и бездной и небо с удвоенными символами христианства, мы должны рассмотреть взаимоотношение различных элементов, наполняющих эту средневековую модель макрокосма, обрисовывающую мир накануне высвобождения Сатаны от тысячелетнего заключения. Смысл подземного яруса композиции достаточно ясен. Он опирается на хорошо известную нам каноническую литературу. Добычей адских псов-гиен являются тенета с уловленными птицеобразными существами, самыми многочисленными персонажами в составе композиции — всего их 12. Две птицы находятся уже в аду; орудие ловли здесь усложнено какими-то рогатками, может быть, это силки, «пругло дьявола». Птицы в самом истерзанном виде. Четыре птицы пойманы над землей тенетами-перевесом; головы двух запрокинуты. Над скопищем четырех птичьих голов изображена последняя препона для движения вверх вроде силка, охраняемая двумя бородатыми дьяволятами. Три пары птиц небесного яруса изображены без сетей или силков; у них подробно вырисовано оперение, подчеркнуты крылья; они все нарисованы на фоне церковных глав, расположенных как три суточные позиции солнца: утром, в полдень и на закате, но солнечной раскраски здесь нет. Здесь перед нами, несомненно, стандартная христианская аллегория греховности, уловление душ человеческих в сети дьявола, о чем идет речь в каждом сочинении. Птицы четко разделены на две категории: шесть грешных душ уже уловленных слугами дьявола и шесть менее грешных, которые уже вышли на простор, достигли неба. Но они еще не полностью свободны — им, как настаивал Авраамий Смоленский, предстоят еще «воздушные мытарства», во время которых степень их греховности будут определять уже ангелы. Сопоставление этих птицеобразных существ с народными представлениями о «навьях», тоже птицеобразных, оставляющих в бане на пепле следы куриных лап, не дает полного тождества — художник, рисовавший фронтиспис, знал даже по одной русской литературе слишком много разноречивых, но красочных сказаний о кентаврах, грифонах, Вельзевуле и Сатане, чтобы изобразить человеческую невидимую душу в виде простой птицы. Апокрифы, сказания калик перехожих, отголоски античных и восточных легенд — все то, что невольно входило в сознание средневекового человека, и заставило художника слегка отвлечься от натурализма и изобразить птицу со звериными лапами. Но основа представления — душа есть птица — выражена здесь общепонятно; мелкие детали не заслоняют общего, конвергентного представления о душе-птице. Зрительно недостаточно четко выражена роль Китоврасов. Не ясно, ловят ли они души людей для отправки их в ад или, наоборот, стремятся порвать расставленные сети-перевесы? Китоврасы далеки от ада, они расположены высоко, перья их шляп развеваются в небе. К ним близки длинные грифоны, почти бескрылые, стоящие на земле. Лапы Кентавров, как уже говорилось, переплетены ременным плетением с шеями этих грифонов, но это еще ничего не уясняет… Разгадку мы получаем благодаря Евангелию 1355 г. владыки Моисея[238]. Китоврасы здесь — цари (т. е. Соломон и его «брат» Китоврас), они в богатой одежде, в цветных сапогах, с коронами на голове стоят по сторонам какой-то беседки из ветвей, внутри которой находятся два типичных для русского средневековья Семаргла, божества корней и плодородия. Семарглы-дивы изображались то как иранский Сенмурв в виде крылатого пса, то в виде античного крифона с головой орла и туловищем льва[239]. Символика Евангелия архиепископа очень проста и выражена двумя ясными образами: царь в короне — олицетворение порядка, его жезл напоминает о строительстве им храма. Крылатые псы в ошейниках со знаками плодородия на крыльях — благоприятный символ общего благосостояния и его охраны. Употребление этих символов в середине XIV в. отнюдь не является возвратом к язычеству. Это опора на очень архаичную, ставшую общенародной символику с добавлением апокрифических несуразностей вроде двух Китоврасов. Эта несуразность возникла в той среде, которая оплетала старые книжные легенды дополнительными эпизодами, не особенно считаясь с логикой. В некоторых сказаниях о Китоврасе говорится, что, отбросив Соломона, Китоврас тоже стал царем, а Соломон потом вернул себе царство[240]. Таким образом в орнаментике книг и возникли два царя, два Китовраса, два мудреца и прорицателя. Василий Калика ввел апокриф в церковное искусство (царь-кентавр и его брат — просто царь), а его преемник Моисей, создавший целый скрипторий для переписки книг, лишил Китовраса его конского дополнения, но соединил двух «царей» с двумя семарглами. Это очень важно для нас при расшифровке нашего фронтисписа, примерно синхронного евангелию 1355 г. Главные фигуры композиции фронтисписа — кентавры в красивых шляпах, с жезлами и стоящие около них на задних лапах грифоны — рассматривались художником как персонажи положительные, быть может отгонявшие своими жезлами душ-птиц от расставленных на них сетей слугами дьявола или стремившиеся порвать эти сети, завладеть ими. Это допущение, само по себе не вытекающее из рисунков Китоврасов с грифонами, получает устойчивость и доказательную силу при рассмотрении самых миниатюрных персонажей композиции — бородатых головок, прикрепленных к земным и небесным сетям. У них нет ни ног, ни рук, ни туловища, они являются как бы частью самих тенет, ярлыком, обозначающим принадлежность сетей тому, кто до поры до времени еще скован в бездне. Дьяволят нет у сетей, уже втащенных в ад; здесь надобность в них уже отпала. В верхней части композиции дьяволята находятся на последних, самых верхних сетях средней главы. Далее вверх расположены свободные, непойманные птицы. Очень важно определить отношение этих бородатых дьяволят к Китоврасам и грифонам. Оно четко и однозначно: бородатые опутывают ноги Китоврасов и горла грифонов. Художник на самом видном месте изобразил ременное плетение сетей, как бы возглавленное этими бородатыми и рогатыми головками, для которых концы плетенки являются их шеями. Бородатые стремятся связать, стеснить свободу действий и Китоврасов, и грифонов-дивов; их злобные хари направлены в сторону центрального прямоугольника «Земля». Верхняя пара дьяволят как бы тащит готовую сеть с полуживой и мертвой добычей. Боковые дьяволята заняты борьбой с противниками. Им помогают змеи с высунутыми языками. Картина ясна: это и есть «слуги Сатаны», уловляющие христианские души. Все, что описано в условных контурах храма, не дает нам ничего принципиально нового — дьявольские сети присутствуют в любом церковном произведении, но то, что помещено за пределами храма, представляет исключительный интерес и определяет характер этой сложной, но очень тонко продуманной композиции. На уровне земной поверхности, но в стороне от тенет нарисованы две мужские фигуры в длинных подпоясанных рубахах, красных сапожках, красивых шляпах. Руки обоих мужчин подняты к небу, и в руках каждый из них держит как бы модель домика. Домики с узорчатой двускатной кровлей, но неодинаковы: у левого новгородца вся стена домика покрыта «знаком земли», а у правого обозначен простой дверной проем. Змеи, находящиеся в системе дьявольского плетения, высовывают морды по направлению к домикам и выпускают до предела жалящие языки. Домики подняты новгородскими горожанами к Небу. А на нем изображен, как уже говорилось, не Иисус Христос, не солнце, а петух, окруженный тремя знаками земли, что как бы напоминало тройное членение нимба Иисуса Христа. К нему, к певцу новой зари, протягивают свои «клети», «храмины» эти новгородцы «от земли к въздуху зряще, бога отца собе нарицающе». Петух, разумеется, расценивался не как символ бога, а как аллегория нового понимания учения Христа. Это подтверждено предисловием к этой псалтири, написанном на соседнем листе:
Господи Иисусе Христе! Управи ум мой не о глаголании уст стужитиси, но о разуме глаголемого веселитися и приготвитися на творение делом.
Заставки.
Заставок в псалтири только две; одна из них помещена в самом начале, а другая — в середине книги, перед 70-м псалмом. Третья заставка всей этой рукописи находится уже за пределами псалтири (л. 199 об.) и возглавляет дополнительные материалы (песнь Мариам, обращение Ионы к богу, песнь пророка Аввакума и др.). Первая заставка (л. 2 об.) открывает первый псалом «Блажен муж, иже не идеть на совет нечестивых», но с этим текстом она не связана. Здесь продолжается та же самая тема, которой посвящен и фронтиспис, — обилие душ человеческих (в виде живых, полуживых птиц и птичьих голов) в сетях дьявола, который в зубах держит конец верви огромной, почти сплошной сети-перевеса, раскинутой над землей. Дьявол изображен вниз головой в особой выемке, которая обозначает «врата адовы», края ее являются рогами дьявола. Птицы показаны в трагической ситуации. В верхнем ярусе повторена, но несколько в ином виде композиция с китоврасами и грифонами. Китоврасы в шапках, украшенных праздничными «гильцами» (стеблями с насаженными на них цветами), но без жезлов. Около каждого Китовраса нарисованы две пары склоненных птичьих голов, уже без туловища. Китоврасы изображены с широко раскрытыми ртами (как и на фронтисписе), а у грифонов в обоих случаях рты заткнуты концами тенет. В нижнем ярусе, под сетями, нарисованы два льва, очевидно утверждающие царственность Китоврасов. У львиных лап, на земле, опущенные вниз птичьи головы, тоже без туловища. Если композиция фронтисписа сложна и многопланова, то замысел заставки, помещенной на соседнем листе, прост и ясен: вся площадь Земли (по Индикоплову, два квадрата) с севера на юг («врата адовы» на западе) покрыта сплошной дьявольской сетью, удушившей уже 12 из 16 птиц. Единственные существа, сохранившие голос, — два Китовраса (пророк-архитектор и царь) и рычащие львы с высунутыми языками (рис. 23).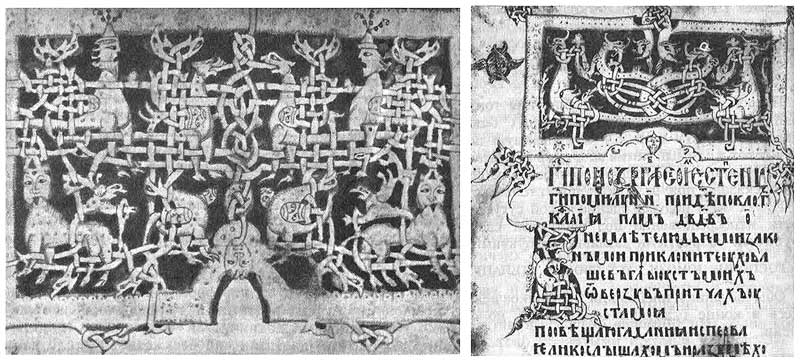
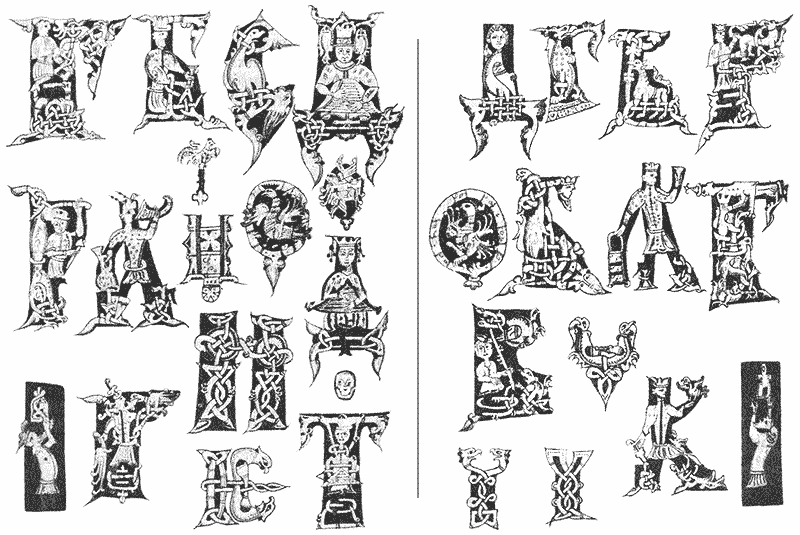
Рис. 23. Художественное оформление псалтири Степана. Первая заставка «тенета» дьявола, (вверху слева). Заставка с именем Степана (Господи, помози рабу своему Степану — вверху справа). Инициалы, отмечающие наиболее важные псалмы (внизу, слева и справа).
Вторая заставка (л. 101 об.) предназначалась для иллюстрации 70-го псалма Давида, что четко обозначено в последующей надписи: «Псаломъ Давидов О», т. е. 70-й, но помещена она между 76-м и 78-м псалмами и последующий за заставкой текст принадлежит не Давиду, а Асафу («Учение Асафа», псалом 77). Рассматривать заставку следует в сопоставлении с псалмом 70. Этот псалом полон личными просьбами Давида, обращенными, как всегда, непосредственно к Богу:
По правде твоей избавь меня и освободи меня; приклони ухо твое ко мне и спаси меня… (§ 2). Боже мой! Избавь меня из руки нечестивого, из руки беззаконника и притеснителя… (§ 4). Не отвергни меня во время старости, когда будет оскудевать сила моя… (§ 9). Боже! Ты наставлял меня от юности моей, и доныне я возвещаю чудеса твои (§ 17). И до старости и до седины не оставь меня, боже, доколе не возвещу силы твоей роду сему и всем грядущим могущества твоего (§ 18).Псалом 70 выбран не случайно для того, чтобы возглавить его изящной заставкой: в дополнительных («покаянных гласах»), добавленных в XIV в. в эту «следованную псалтирь», неоднократно звучит тот же самый мотив защиты в немощной старости и продления жизни «доколе не возвещу силы твоей роду сему». Об этом подробнее будет сказано при разборе дополнительных покаянных гласов. И как бы в подтверждение такой сугубо личной заинтересованности непосредственно под заставкой сделана красивая надпись крупными узорчатыми заглавными буквами (см. рис. 23):
ГОСПОДИ, ПОМОЗИ РАБУ СВОЕМУ СТЕПАНУОбычно записи писцов или заказчиков делались в конце рукописи. Здесь в конце псалтири есть запись, но она, к сожалению, без имени:
Многомилостиве, прещедрый господи, рекый «Просите и приимите» и азъ надѣхся тому словеси, понудихся проглаголати псалтирь сию. Тѣм же, аще в которомь псалмѣ изгрубихъ или с другомъ глаголя праздными бесѣдами или в помыслѣхъ, но всегда угодну буди твоему человеколюбью, спаси мя, раба твоего по милости твоей ныне и присно и в вѣкиНи имени, ни даты нет. Но есть уникальное сообщение: псалтирь не переписывалась, а писалась под диктовку. Некто (Степан?) «проглаголал», продиктовал книгу. Это заставляет нас особенно внимательно отнестись к записанному таким образом тексту. Не исключено, что необходимость диктовать псалтирь или дополнения к ней связана с возрастом инициатора создания новой книги; тогда размещение красочной заставки и строки с именем Степана рядом с псалмом, говорящим о старости и немощности, вполне объяснимо. Подтверждение того, что псалтирь, написанная превосходным изящным уставом, писалась не тем лицом, которое «проглаголало» текст, является вкравшаяся в 70-й псалом (л. 92) лишняя, незаконченная фраза, которой не должно быть в псалтири: «Яко не познахъ книжн…» Далее идет знак(л. 198 об.)
 (л. 92). Диктовавший (Степан), несомненно образованный книжник, вероятно, был слаб в каллиграфии, точнее, стал таким в преклонные годы (см. ниже) и произнес эту фразу, не предназначавшуюся для записи.
Заставка должна была находиться между псалмами 69-м и 70-м, но сюда, после 69-го псалма, вставлен 3-й «покаянный глас» с обращением к Богородице, начинающийся фразой:
(л. 92). Диктовавший (Степан), несомненно образованный книжник, вероятно, был слаб в каллиграфии, точнее, стал таким в преклонные годы (см. ниже) и произнес эту фразу, не предназначавшуюся для записи.
Заставка должна была находиться между псалмами 69-м и 70-м, но сюда, после 69-го псалма, вставлен 3-й «покаянный глас» с обращением к Богородице, начинающийся фразой:
…видиши мя въ страстехъ потопляема… Утиши волны въстающая на мя! И погружаемъ есмь от нихъ всегда. Елико възникнути из глубины зол, то толико к тебе припадая, вопию: «Пощади, владычице, твари сына своего, а твоего раба!»Заставка, возглавляющая следующий, 70-й псалом (ошибочно перенесенная на несколько листов вперед)[241], представляет собой прямоугольник с пропорциями 1×2 (Земля по Козьме Индикоплову), нижняя рамка которого в середине представляет собой волнистую линию, ниже которой, уже за пределами «земли», изображена голова бородатого мужчины («погружаем есмь [в волны] всегда»). В отличие от перевернутой головы дьявола на первой заставке эта голова дана нормально и без рогов. Заставка нарисована художником нестандартно и очень элегантно. По боковым сторонам ее обрамляют две огромные, высокие птицы, смотрящие в стороны друг от друга; середина занята ременным плетением (см. рис. 23), которое организуют S-видные змееобразные хвосты птиц со звериными или птичьими головами. Птичьих фигур здесь 10, и только две из них запутаны в тенетах. Если мужскую голову принять за упомянутого в покаянном гласе грешника, погибающего под «восставшими» на него волнами, то общая композиция заставки невольно напомнит нам облик средневековых кораблей с высоко поднятыми носом и кормой. Ладьи здесь нет, как нет реалистических черт почти во всех рисунках, но намек, легкое напоминание есть. Главные цветовые пятна заставки создают импрессионистическое впечатление средневекового корабля. В Новгороде именно в это время кодифицировался цикл древних киевских былин, в которых были описания кораблей Ильи Муромца и Соловья Будимировича:(л. 190)
…церковь оскверних злѣ телесную и церковь божию, в ню же человеци трепещюще входять, аз же, увы мнѣ, бес студа вхожю блудный(л. 217 об. — 218)
Не покажи [не карай] мене, владычице, не покажи мене чюжаго, устраншагося божественаго сына твоего крова. Недостойный аз, но омый мене от скверны пре[грѣ]шений моихъ…Все то, что отобрано составителем этой «следованной псалтири» из обычных обращений к Богородице, прямо говорит о раскаянии грешника, осквернившего таинство крещения, осквернившего церковь, отходившего от покровительства Иисуса Христа. И здесь, и в «Покаянных гласах», которые мы рассмотрим ниже, пишущий обращается не столько к Христу, сколько к заступнице Богородице, стремясь сделать ее благожелательной защитницей, предстательницей.(л. 219)
Текст псалтири Степана и инициалы
Текст рукописи Степана состоит из двух различных разделов; с одной стороны, это обычные псалмы, а с другой — вкрапленные в псалтирь «покаянные гласы» с автобиографическими чертами и основанные на евангельской тематике. «Покаянные гласы» разбросаны более или менее равномерно по всей псалтири, и каждый из них (всего их 19) украшен красивым красочным инициалом. На полторы сотни псалмов приходится только 43 цветных инициала; размещены они крайне неравномерно, без всякой симметрии. До 30-го псалма дано 29 инициалов, а далее на пространстве 168 листов составитель счел возможным дать всего-навсего 14 инициалов к 130 псалмам. В этом ощущается определенная нарочитость, и, знакомясь с содержанием отмеченных крупными инициалами псалмов, мы видим, что тщательно и тонко выполненные буквицы являются не столько украшением (хотя и сделаны с художественной стороны безупречно), сколько путеводителем по рукописи, выделяя то, что создатель ее считал наиболее значительным для своих читателей. Не лишне напомнить, что псалтирь в средние века была не только богослужебной книгой, в пении псалмов которой принимали участие и простые прихожане, но и учебной книгой, по которой начинали учить грамоте детей-семилеток. Приглядимся внимательнее к тому, что составитель рукописи выделил изящными инициалами. Псалмы, помеченные буквицами, можно разделить на четыре категории: общие обращения непосредственно к богу; исповедь непосредственно богу; беззаконие, творящееся вокруг; мольба к богу о спасении от врагов. Как видим, тематика особо вычлененных псалмов вполне соответствовала общественно-церковной обстановке в Новгороде в середине XIV в. (рис. 24).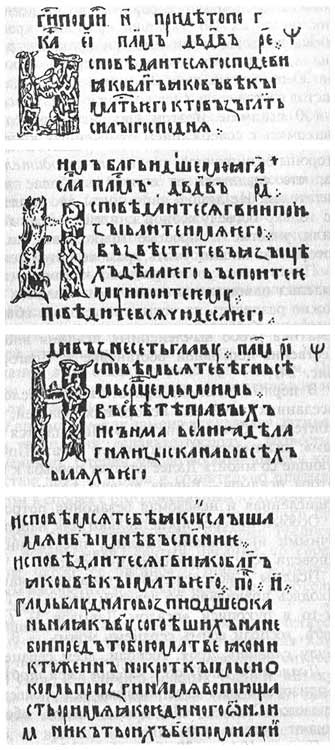
Рис. 24. Фотографии текстов, говорящих об исповеди непосредственно богу. Текст подправлен составителем и не соответствует современному каноническому.
В первых псалмах приветствуется человек, не участвующий в заседаниях каких-то нехороших властей, который «на седалищи губитель [губителей] не седе». Порицаются люди, «поучишася тщетным»; псалмопевец спрашивает Бога: «Почему умножились враждующие со мной?» Далее следует просьба к богу всегда выслушивать автора псалмов: «Внегда возвах, услыши мя, боже правды моея!.. Владыка, господи, боже мой, приимый грехы всего мира, и моя бещисленная и неведомая безакония потреби…» Особый интерес представляют для нашей темы выделенные красочными инициалами псалмы, посвященные вопросам покаяния, исповеди богу и прощения им грехов. Псалмы с исповедальной тематикой начинаются с 9-го, но он, находясь правильно по девятом месте (л. 10–13), обозначен почему-то в рукописи «псалом Давыдов 1» (л. 10 об.): «Исповѣмся тебѣ, господи всимъ сердцемь моимь…» В каноническом переводе: «Буду славить, тебя, господи, всем сердцем моим…» Псалом 74 (л. 97 об.): «Исповѣмся тобѣ, боже, исповѣмся тобѣ и призовемь имя твое, повѣмь вся чюдеса твоя…» Канонический перевод: «Славим тебя, боже, славим, ибо близко имя твое; возвещают чудеса твои». Псалом 104 (л. 139 об.): «Исповѣдайтеся господеви и призывайте имя его, възвѣстите въ языцѣхъ дѣла его…» Канонический перевод: «Славьте господа, призывайте имя его…» Псалом 107 (л. 149 об.): «…встану рано, испоѣмся тебѣ в людехъ господи». Псалом 110 (л. 154): «Исповѣмься тебѣ, господи, всѣмь сердцемъ моимъ». Псалом 117 (л. 158 об.): «Испоѣдайтеся господеви, яко благ, яко в вѣки милость его». Псалом 135 (л. 184): «Исповѣдайтеся богу небесному, яко благъ яко в вѣкы [милость его]». Псалом 137 (л. 185): «Исповѣмся тебе господи всѣмь сердцемь моимъ… Исповѣмся имени твоему по милости твоей и истинѣ твоей…»
В редких случаях тема исповеди богу не отмечена рисованным инициалом. Например, псалом 41 (л. 56 об.): «И въскую смущаеши мя [душа моя] — уповай на бога, яко исповѣмся ему…» Как видно из сопоставления средневекового текста с каноническим переводом на современный русский язык, новгородский книжник, XIV в. упорно стремился устранить разницу между глаголами «исповестить» (оповестить, прославить) и «исповедаться» (рассказать о своих грехах, исповедаться). Но такие грамматические формы, как «исповедайтеся господеви», с несомненным дательным падежом твердо свидетельствуют о стремлении Степана продиктовать своему писцу призыв к исповеди (покаянию, признанию своей греховности) именно богу, т. е. о чисто стригольническом понимании этой стадии обряда причащения. При каноническом понимании отмеченных текстов грамматически невозможно сказать: славьте «господеви». В псалме 104 к такому аргументу, как замена аккузатива дативом, добавляется и ненужная тавтология: «славьте господу… возвестите в языцех дела его…» Очевидно, Степан умело воспользовался корневой и звуковой близостью двух глаголов и сознательно призывал читателей псалтири к исповеди богу. Такпреподнесенный текст мог быть отличным аргументом в спорах с ортодоксальным духовенством. Недаром сочиненные священниками покаянные вопросники предусмотрели такие хитрости своих оппонентов, которые грешили, «предписывая [копируя, переписывая] святыя писания по своему хотению, ухищряя, а не якоже се писано»[242]. Вполне возможно, что не Степан был первым изобретателем такой подмены; необходим поиск в рукописях XII–XIII вв. Изящные, крупные инициалы высотой в 4–5 строк ведут читателя от одной важной темы к другой, как правило, не нарушая каноничности текста. Уже на первом развороте (л. 3) внимание читателя привлечено к состоянию умов, к наличию ложных учений: «Въскую шаташася языци и людие поучишася тщетным» (псалом 2). Далее инициалы выделяют такие темы, как просьбы спасти, помиловать от творящих беззаконие, от врагов, наполняющих «жилище господне»: «Суди господи обидящим мя и възбрани борющаяся со мною» (л. 43 об.); «…от человека лукава, от мужа неправедна избави мя!» (л. 186). Инициалы подчеркивают те псалмы, в которых содержится как упоминание поражений, так и надежда на скорое устранение гонений и нападок:
Попраша [победили] мя врази мои… Боже! Животъ мой [жизнь мою] исповѣдахъ тебѣ [рассказал без утайки]… [Если] възвратятся врази мои вспять — в он же день, аще призову тя, се познах, яко бог мой еси ты… и не убоюся, что створить мнѣ человек…(л. 73 об., пс. 55)
Помилуй мя, боже, помилуй, яко на тя упова душа моя! И на сень крилу [защиту крыльев] твоею надеюся, дондеже преидеть безаконие(л. 74, пс. 56)
Враги, злобные как змеи и аспиды, будут сокрушены богом и тогда «възвеселится праведникъ, егда видить месть»Особо отобранные, отмеченные посредством буквиц псалмы отражают напряженную обстановку в Новгороде в середине XIV в., где «беззаконие» то наступает на псалмопевца, то терпит поражение от праведника, раскрывшего богу всю свою жизнь. Судя по этой детали, тот, кто очень обдуманно и тонко распределял инициалы-указатели, причислял себя к сторонникам непосредственного общения с Богом, раскрытия ему, Богу, всей своей жизни и помыслов. Праведники-стригольники (?) уже предвкушают месть беззаконникам, так как они, праведники, самим господом уже подготовлены к битве со злом: «Благословенъ господь богъ мой, научая руцѣ мои на ополъчение и персты моя на брань [битву]» (л. 192, пс. 143). Псалтирь Степана завершается неканоничным 151-м псалмом, встречаемым в древних рукописях нечасто. Это псалом о победе простого пастуха (но будущего царя) Давида над филистимлянским богатырем Голиафом: «Сий псаломъ кромѣ числа», т. е. сверх обычного счета. Текст его краток и невразумителен без обращения к Библии (1-я Книга Царств, гл. 16, 17). Голиаф не только враждебный иноплеменник, но и поклонник иных богов, гнев которых он стремился обратить на Давида. «Аз же, — говорит Давид, — извлек мечь и усекнух и [Голиафа] и отъях поношение от сынов израилевых» (л. 198 об.). Такова мажорная концовка Псалтири Степана, своей тонкой системой расстановки инициалов создающая как бы новое произведение, хорошо отражающее неустойчивую, но крайне напряженную обстановку в Новгородской епархии во время недолгого вторичного владычества схимника (!) Моисея, вынужденного еще раз оставить кафедру в 1359 г. Примерно к тому времени, 1350-1360-м годам, можно отнести и создание этой интересной рукописи. Инициалы-буквицы Псалтири Степана сделаны очень умело и тонко. Основной орнаментальный мотив — «тенета» и орлиноголовые грифоны или просто птицы. Прямая иллюстративность псалмов отсутствует, но некоторые смысловые группы все же ощущаются: 1. Петух внутри круга связан с прямым обращением к богу, с повсеместностью «повеления [бога] по земли». Поющего петуха окаймляет округлая рамка с шестью четкими знаками-идеограммами земли (см. рис.). Ясный символ (петух-шантеклер, певец утренней зари, расцветающего нового светлого дня) подчеркнут словами: «От нощи утренюеть дух наш к тебе, боже…» В пересказе вся символика этих инициалов и дерзкая замена Иисуса Христа на фронтисписе поющим петухом выражает твердую убежденность художника в победном движении нового, очищенного понимания христианства в мире, во всем «кругозоре» видимой Земли (л. 24 об., 80, 208 дополнения к Псалтири). 2. Призыв исповедоваться непосредственно богу, основанный отчасти на звуковой близости таких глаголов, как исповещать (прославлять, пропагандировать) и исповедоваться (признаваться в своих согрешениях), применялся Степаном или его писцом всегда в возвратной форме и часто в императиве («исповедайтеся господеви!»), что не оставляет сомнений в субъективном, предумышленном понимании. Писец, слушавший «проглаголанный» ему текст, часто ошибался, но никогда не зачеркивал написанного; он предпочитал повторить неверно услышанную фразу, но ни разу не дал повода читателям упрекнуть священную книгу в каких-либо переделках или изменениях. Инициалы псалмов, понимаемых как призыв к исповеди богу, как правило, отличаются своими огромными размерами (л. 78, 139 об., 143, 146, 154, 158 об., 160 об., 185). 3. В тех случаях, когда художник иллюстрировал псалмы, в которых глагол «исповедаться» употреблялся более канонично (л. 41, 158, 173 об., 182), как «хвалите имя господне», «исповедайтеся господеви в псалтири», он почему-то изображал молодого, богато одетого человека, поймавшего птицу и выдернувшего из нее перо (или даже крыло?). Устойчивая связь всех этих птицеловов с текстами о прославлении бога и полная идентичность всех рисунков (юноша, полуощипанная птица, пышное птичье перо) позволяют предположить, что речь идет не об устном прославлении бога, а о написании псалмов, прославляющих бога; перо — орудие писца. Новгородские писцы XIV в. даже на полях копируемых ими книг любили хвастаться драгоценными перьями: «Любо есть писати ми павьим [павлиньим] пером!» 4. Быть может, наиболее интересным, но и наиболее трудным для правильного истолкования смыслового значения является группа инициалов к псалмам-восхвалениям в последних стихах Псалтири. Предпоследний, 148-й псалом (л. 196 об.) украшен инициалом, изображающим молодого человека в праздничном уборе (головной убор украшен «гильцами», как этнографически украшали в «неделю ваий»). Юноша стоит на коленях, держит в одной руке большой красивый кувшин для вина, а в другой орнаментированный рог и пьет из него. Этот сюжет повторен и в заключительном, 150-м псалме (л. 198). Не была ли подобная орнаментировка конца Псалтири намеком на предстоящую непосредственно после исповеди в грехах и покаяния евхаристию, таинство причащения? К этому сюжету мы вернемся при рассмотрении фресок Успенского монастыря в Волотове (середина XIV в.). Инициалы Псалтири Степана особенно интересны своей нарочитой неравномерностью распределения: есть развороты книги, где читатель одновременно видит три красочных инициала (например, л. 173–174), а есть много страниц, идущих подряд, на которых совершенно нет инициалов. Инициалы в этой рукописи были не столько украшением, сколько путеводителем, указателем важнейшего, с точки зрения Степана, в многогранном собрании библейских песнопений. К такому же индивидуализованному дополнению относятся и «покаянные гласы», довольно равномерно распределенные между псалмами Давида, Асафа и других древних творцов Псалтири.(л. 75 об., пс. 57)
* * *
На втором листе рукописи, на одном развороте с многозначительным фронтисписом, помещена «молитва, починая псалтирь», написанная от первого лица (Степана?). Речь здесь идет не столько о псалмах, сколько о помощи автору в его авторских творческих дополнениях, где он может оказаться недостаточно образованным, проявить «свое невежествие». Это введение настолько интересно, что его стоит привести целиком:Пресвятая троица, боже всего мира, поспѣши [помоги], настави сердце мое начата с разумомъ и кончати дѣлы благыми — боговдохновенныя сия книгы, яже святый духъ усты Давыдовы отригну. Их же и азъ окушаюся глаголати. Разумея же свое невѣжьствие и припадая, молю ти ся от тебе помощи прося: Господи Исусе Христе! Управи умъ мой не о глаголании устъ стужитиси, но о разумѣ глаголемого веселитися и приготовитися на творение дѣломъ. Яже учюся или глаголю, да добрыми дѣлы осиянъ — на судищи десные страны [по правую руку от бога] причастъникъ буду. И нынѣ, владыко, благослови, да въздохнувъ от сердца, языкомъ воспою, глаголя сице: Слава и ныне…Далее следуют приписки XVI в.:
«Таже приидѣте поклонимся трижды Поем: Блажен муж (начало первого псалма), начиная тихо и разумно»Это не общая молитва перед чтением Псалтири в храме, а личное обращение автора тех 19 покаянных гласов, которыми он «покусился» пополнить канонические псалмы. Автор, очевидно, проповедник, причисляющий свои «глаголы» к тем добрым делам, которые обеспечат ему после страшного суда царство небесное, место одесную бога. Для XIV столетия, столетия критического, «разумного» отношения к церковной книжности, весьма характерно двукратное обращение к разуму в этом кратком тексте. Очень важна и другая, тоже повторенная дважды идея: начать с разумного, заново осмысленного восприятия священных книг, а затем перейти и к благим делам. Вводное слово вполне корреспондирует с находящимся рядом фронтисписом, девизом которого является высвобождение из тенет, из тех уз, которые опутывали православную церковь XIV в., тянули души умерших («навий») в ад. Символом высвобождения являются двое мужей-новгородцев или псковичей, отдаляющихся от опутанной узами церкви и с надеждой поднимающих к небу свои малые храмы-клети, пригодные для непосредственного общения с богом. Иисуса Христа в композиции нет, но есть символ новизны, нового дня, освобожденного учения — кур-шантеклер, певец утренней новой зари. Степан, переделавший многие псалмы в чисто стригольническом духе («исповедайтесь господу»), изготовил (заказал) фронтиспис, композиция которого выражала ту же самую идею — законное право христиан обращаться к богу без посредников. Весь комплекс Псалтири Степана скреплен единством идей: фронтиспис-эпиграф, краткое предисловие о приоритете разумного познания над простым любованием красноречием, отбор псалмов при помощи красочных буквиц и «разумная» подправка текстов в пользу стригольников — все это взаимно связано. Нам осталось ознакомиться с двумя десятками дополнительных включений, которые размещены между псалмами и отчасти за пределами псалтирного текста (20-е). Как и в древней псалтири, где автор (Давид и др.) обращается прямой речью к богу, так и автор покаянных дополнений XIV в. говорит самому Иисусу Христу или Богородице:(л. 2)
Очютихъ язву [душевную] неисцѣлну, взискахъ на земли врача и не обрѣтохъ, но к тобѣ въспущаю глаголы…(л. 71 об.)
Враг [дьявол] стрѣлою грѣховною уязви, но ты [боже], яко врачь душамъ и тѣломъ, язвы душа моея исцѣли и спаси мя!..О духовенстве как о целителях душевных ран нигде нет ни слова — на земле нет духовного врача. «Покаянные гласы» составлены образованным и начитанным человеком, не лишенным поэтического дара. Первые дополнения к псалмам напоминают о страшном суде:(л. 61)
(л. 8 об.)
(л. 49)
* * *
Сквозь стандарты православной покаянной фразеологии, необходимые для текстов, подключенных к такой важной книге, как Псалтирь, мы можем уловить личностные элементы, которые допустимо соотнести с составителем всего этого интересного комплекса — Степаном. Псковские диалектизмы («широта» вместо «сирота», «слежю» вместо «слезу», л. 61) говорят о том, что Степан — пскович. Приписывать такое написание писцу трудно, так как текст не переписывался, а диктовался, и в концовке прямо сказано: «понудихся проглаголати псалтир сию» (л. 198 об.), в подтверждение чего следует обратить внимание на одну несуразность в 70-м псалме (л. 92), отмеченную мною выше[243]. Такой вовремя увиденный курьез мог получиться только в том случае, если писец «изгрубил, глаголя праздными бесѣдами» и не отличил диктуемого ему текста от каких-то устных комментариев; в Псалтири нигде не может идти речь о книгах и книжности. Степан обрисован человеком преклонных лет и обессиленным болезнями. Он слепнет, у него «омраченные очи»: «Бысть ми полудени, акы полунощи» (л. 71 об.). Обращаясь преимущественно к богородице, он говорит: «Немощенъ бо есмь… к концю житья достигша, но вари [защити — псковизм] пречистая и спаси мя, святый боже» (л. 123). В следующем «гласе»: «Вѣкъ мой кончевается и страшный престол готовится» (л. 132). Бог «гнѣвъ великъ възложи на мя. Того ради и не могу възникнути к тобѣ, ни руку въздети на высоту, но моляся не престаю, день [по] дне избавления прошю» (л. 72). «Нынѣ же болѣзнью растерзаюся…» (л. 191). Возможно, что этой болезненной расслабленностью объясняется и необходимость диктовки. Степан много путешествовал: «Всякъ путьшествовавъ грѣховный — спасения стезя не обрьтох нигде же…» (л. 216). Возможно, что среди всяких видов хождений были и плавания по морям, так как Степан любит морскую символику, что, разумеется, не является еще доказательством, но могло быть навеяно путешествиями в Царьград или Иерусалим:(л. 18)
(л. 49, 49 об.)
(л. 90)
Иисусе… да [й] же поспѣхъ отнынѣ положити ми начало мнишьскаго обѣщания пребывати в пощеньи, въ чистотѣЬ, цѣломудри, в говѣньи, терпеньи и въ прочихъ добродѣтелехъ. Да поживъ достойнѣ, получю прощенья многых ми грѣховъАвтор очень наивно, вполне в духе средневекового мышления, признается в том, что монашество для него не образ жизни, а лишь способ в конце грешного жизненного пути выслужить прощение и обеспечить себе после смерти место «в избранѣмь твоемъ [божьем] стаде». Он просит не только о себе, но и об игумене и умерших монахах своей обители: «Господи! Покой преставльшася отца и братию нашю на месте свѣтлѣ…» (л. 173). Своеобразие средневековых воззрений на взаимоотношения человека и бога сказывается в том, что Степан как бы напоминает богу, что он, как и все люди, сотворен им и поэтому на божестве лежит определенная ответственность за действия всех людей. Божеством в этом случае оказывается не библейский Иегова, а Иисус Христос («…руцѣ твои створисты мя…», л. 71). Обращаясь к богородице, автор называет себя «тварью [творением] сына твоего» (л. 90). По мысли Степана, Иисус Христос и богородица обязаны насильно удерживать человека от греха:(л. 73)
Господи! Видиши бѣду мою — принуди мя, господи, любо аще хощю, любо не хощю и спаси мя. Аз грѣхы люблю, но ты — бог — възбрани, яко силен!Богородица тоже считается ответственной за греховность людей и даже за их раскаяние:(л. 100 об.)
Ты же, всѣхъ царице, видящи мя порабощена; [если] не помилуеши, не приведеши ко истиньному покаянию — то всуе и родихся!В обращениях Степана к богу очень много простых житейских мотивов, которые могли бы быть применены в беседе с каким-нибудь соседом-уличанином:(л. 90 об.)
Омый мя от скверны прегрѣшений моихъ, да не порадуются врази мои о мнѣ…Вечная мука в аду здесь почти приравнена к злорадству его врагов в этом скоротечном мире… Интересна и наивная попытка Степана уговорить Иисуса Христа не разглашать его грехи на страшном суде, чтобы ему, Степану, не было стыдно за содеянное им:(л. 191 об.)
Во удолѣ плачевнѣ… егда сядеши, милостиве, створити праведный судъ, не обличи моихъ тайнъ, ни посрами мене предъ ангелы!В «покаянных гласах» в разных местах рассеяны намеки на какие-то вероисповедные прегрешения в его прошлом. Говорится об этом, разумеется, в самой обобщенной, неясной форме; сущность тайны сохранена:(л. 152 об.)
Злокозньный же врагь бестуднѣ нападе на мя, въскрежта на мя зубы завистью и стрѣлою безакония устрѣли мя и грѣховным мечемъ злѣ порази мя. Много бо брашася со мною и премогоша мя — впадох бо в преступленье и акы звѣрь на ловленьи убиша мя…. К тобѣ въспущаю глаголы моленыя от душа. Владыко, господи, творце всѣхъ, боже отче, правителю душь нашихъ! Съгрѣшихъ на небо пред тобою… И все житье мое печалью въсхыщено бысть, страх же в сердце ми вселися…Сомнений в том, что когда-то Степан, смущенный Сатаной, согрешил против самого Бога-Отца у нас не может быть, ведь в свидетели своего раскаяния он берет Иисуса Христа:
… Послухъ ми на небеси верен — единочадый твой сын, господь нашь Иисус ХристосВполне допустимо, что образованный, начитанный проповедник, возможно, путешествовавший к заморским святыням, притягивавшим к себе еретиков разнообразных толков, Степан увлекся каким-то учением вроде ереси антитринитариев, отрицавших Троицу. Как явствует из этого же «покаянного гласа» (л. 70–73), Степан, осознав ошибочность взглядов еретиков, постригся в монахи и просил бога продлить его дни: «Дажь ми время покаянию» (л. 72 об.), «…да поживъ достойно получю прощенья многыхъ ми грѣховъ» (л. 73). На мысль об антитринитарном прошлом наводит частое, нарочитое упоминание Троицы с полным перечислением всех ее ипостасей. Этот «покаянный глас» завершается так:(л. 71, 71 об.)
Молитвами пречистая богородица и всѣх святыхъ твоихъ помилуй мя отче и сыне и святый душе [звательный падеж слова «дух»], яко ты еси бог!Обращаясь к Иисусу Христу, Степан в другом месте признается:(л. 73)
Оставихъ тя, но не остави мене! Изидохъ [отошел] от тебе — изиди же на взискание мое и въ пажить свою введи мя…Пока писалась Псалтирь и сочинялись «покаянные гласы», Степана вновь одолели какие-то сомнения:(л. 30)
Пакы [снова, повторно] запять бывъ умомъ оканьный [окаянный] и неприязнинымъ обычаемъ грѣху работаю. И Темный Князь яко раба оканнаго къ своему хотьнию жаданиемъ плотьскымъ работати влечет мя… К тобѣ припадаю, прося прощения сгрѣшениемъ… обѣщеваюся и по вся часы сгрѣшаю… Дай же ми руку помощи!..Но уже в следующем «покаянном гласе» (в том самом, где он просит не знакомить ангелов с его тайными грехами) Степан говорит о единстве веры; сомнения, очевидно, устранены:(л. 142 об. и 143)
Господи, «направи животь нашь [нашу жизнь] къ заповѣдемъ твоимъ, душа наша и телеса — очисти, разумъ — истрезви, помыслъ — исправи! Избави насъ от скорби и злых болеѣзний, да полкомь ангелъ твоихъ огражаеми, наставляеми в единьстве вѣры: неразлучимыя троица отца и сына!»Напряженный поиск истины горожанами Новгорода и Пскова, колебания, сомнения, стремление переубедить оппонентов-соперников — все это относится к тому времени, когда создавалась уникальная рукопись Степана, продиктованная образованным человеком и написанная рукой хорошего каллиграфа, украшенная умно расставленными инициалами, озаглавляющими те псалмы, в которых дается чисто стригольническое толкование слову «исповедовать» («прославлять») как «исповедоваться» («признаваться в грехах»). «Покаянные гласы», содержащие «учение покаяния» (л. 29), дают интереснейшие штрихи к биографии Степана, которые хорошо вписываются в смятенное время 1350-60-х годов, когда созревало и усиливалось стригольническое движение, когда архиепископскую кафедру Новгорода и Пскова владыки то покидали, то вновь возглавляли, когда пилигримы-калики приносили из Царьграда и Святой земли все новые и новые взгляды на христианскую книжность и обрядность.(л. 152 об.)
* * *
При детальном рассмотрении Фроловская псалтирь с именем Степана в самой середине рукописи оказалась интереснейшим комплексом, вполне созвучным бурной для Новгорода и Пскова эпохе — середине XIV в., 1340-50-х годов. Стремление Пскова к суверенности, а Новгородской церкви к автокефалии, крестовый поход короля Магнуса и затеянный им спор о вере, возмущение народа покупкой священнического сана, подспудное движение стригольников, которыми уже начинают интересоваться патриархи в Царьграде, неожиданные смены архиепископов в Новгороде, ожесточенные споры «паламитов» и «варламитов» в местах паломничества новгородских калик за морями и накопление смелой простригольнической литературы в самом Новгороде — вот тот неспокойный фон, на котором мы должны рассматривать сложную фигуру Степана, бывшего еретика, «отошедшего» от Христа, запутанного Темным Князем в каких-то делах, оскорблявших Небо и самого бога-отца, еретика, раскаявшегося впоследствии, но страшащегося возмездия в потустороннем будущем, когда «разгыбаются книги» с записью человеческих прегрешений. У этого Степана есть двойник — Стефан Новгородец, написавший в 1353 г. известный «Странник». Сопоставляя этих двух тезок, сохраним до поры до времени различие в написании одного и того же имени — более торжественную, книжную форму «Стефан» и простонародную — «Степан». «Степан» только что рассмотрен нами в этой главе; «Стефан» тщательно изучен академиком М.Н. Сперанским[244]. Стефан прибыл в Константинополь весною 1348 г. и в страстной четверг 18 апреля 1348 г. начал осмотр Софийского собора, где была подготовлена встреча его с константинопольским патриархом Исидором Бухарисом, сторонником «паламитов»[245]. После осмотра Царьграда Стефан отправился в Иерусалим, но описание этого путешествия или не было сделано или не дошло до нас; уцелели только беглые упоминания в тексте цареградского «Странника». Оформился «Странник» уже в Новгороде или во Пскове. В вопросе о дате написания Сперанский расходится с Голубинским, справедливо опиравшимся на самую полную редакцию, где говорится о том, что со времени поставления Исидора в патриархи прошло уже шесть лет. Исидор был на престоле всего два года (с 17 мая 1347 г. по 2 декабря 1349 г.). Следовательно, Стефан писал «Странник» уже после смерти Исидора и, очевидно, по возвращении из второй поездки (в Палестину)[246]. Тогда вопрос о дате написания «Странника» решается просто: 1347 + 6 = 1353. Именно в 1353 г. вторично попавший на новгородскую архиепископскую кафедру Моисей посылает посольство в Царьград. Быть может, возникновение «Странника» следует связывать с потребностью нового посольства в путеводителе по Константинополю? Поэтому и Иерусалим оказался не нужным? Дата 1353 г. мне представляется надежной. Псалтирь Степана относится к середине XIV в., т. е. синхронна «Страннику», но степень хронологической близости обеих рукописей установить нельзя. Рассмотрим по порядку степень сходства или различия рукописей Стефана и Степана. 1. Общая направленность обеих рукописей устанавливается, несмотря на сильное различие жанров. Стефан в самом заголовке пишет, что задача поездки девяти новгородцев состояла не в общем ознакомлении с Царьградом, а в том, чтобы «поклониться святым местом и целовати телеса святых» (Сперанский, с. 50). Задача была выполнена: «И помилова ны бог святы Софеи Премудрость божии». Не патриарх, с которым новгородцы встречались в самый главный покаянный день — страстной четверг, — отпускал каликам грехи, а сам бог и храм Софии. Это ближневосточное поверье, что сами святыни могут прощать грехи существовало долго. В.Н. Татищев писал: «… некоторым местам и церквам жалуют [приписывают] власть грехи отпущать»[247]. Псалтирь Степана целиком проникнута идеей покаяния непосредственно богу, минуя посредничество духовенства. 2. Оба автора — путешественники с религиозной целью. О Стефане говорит весь «Странник», а о Степане — его приписка в конце Псалтири, упомянутая выше: «Всяк путешествовав греховный, спасения стезя не обретох нигде же» (л. 216). С морскими путешествиями Степана мы знакомимся благодаря частым упоминаниям морских волн, бурь, кораблей, кормчих. Внимание к морскому делу Стефана отмечено в его «Страннике» специальным рассказом об укрепленной бухте Константинополя близ Ипподрома:Ту суть врата городная железна решедчата, велика велми. Теми бо враты море введено внутрь города и коли бывает рать с моря — и ту держат корабли и катарги [гребные суда] до треюсот [300]. Имеет же катарга весл 200, а иная 300 весел…3. Оба автора — состоятельные люди: Степан заказывает калиграфу, художнику и писцу дорогую книгу в две сотни страниц с тонкими заставками и инициалами на пергамене. Его многочисленные путешествия («всяк путешествовав…») тоже стоили денег и весьма значительных. В «Страннике» Стефана прямо сказано, что по Царьграду «без добра вожа невозможно ходити: скупо или убого [без щедрой оплаты услуг экскурсоводов] не можеши видети, ни целовати ни единого святого…» (Сперанский, 59). 4. Роднит обоих Стефанов и непосредственный интерес к книгам, к книжным писцам. Степан сам диктовал (по болезни рук?) Псалтирь и дополнявшие ее «покаянные гласы», а Стефан в Царьграде интересовался Студийским монастырем, игумен которого в свое время «в Русь послал многы книги: „Устав, Триоди и ины книгы“» (Сперанский, 56; 305). Стефаном подробно описана его встреча с русскими книгописцами, работавшими в этом монастыре. Встреча произошла на следующий день после беседы с патриархом Исидором, в страстную пятницу:(Сперанский, 55)
На утрие в пяток вдохом с други моими по святым монастырям и обретохом на пути Ивана и Добрилу, своих новгородцев. И возрадовахомся зело, иж неколи бе мочно было свидетися, зане бо без вести пропали. И ныне живут туто, списаючи в монастыри Студийском от книг святаго писания, зане бо искусни зело книжному писанию.Новгородский скрипторий в центре Царьграда — вот один из возможных источников тонкой подправки канонических книг, оказывавшихся впоследствии в Новгороде или Пскове. Здесь они могли изготавливаться без контроля со стороны новгородских епископальных властей, а некоторые умышленные расхождения вроде понимания «исповѣдания» не как повсеместного прославления бога, а как исповеди богу, могли быть объяснены небрежностью перевода. 5. В чисто личном плане оба тезки удивительно схожи: оба они сравнительно недавние монахи, принявшие постриг уже к концу жизни; оба — старики.(Сперанский 58, 387)
И оттоле [от загородного монастыря] — читаем в «Страннике», — възратихомся в град, зане бо не мочно всего дозрети единожды. Старость бо моя, аки ветхаго мниха удручает и не те бо лета, егда быхом до монашеского обета.Это писалось в 1353 г., но по поводу самоощущения автора еще в конце 40-х годов. Стефан уехал в Царьград уже монахом. В дополняющих Псалтирь «покаянных гласах» Степан, как мы уже видели, предстает перед нами дряхлым, расслабленным старцем. Он не может писать, не может поднять рук; «яко в мале жизнь моя кончевается…», — пишет он в своих минорных обращениях к богородице и проявляет заботу уже не о себе, не о своей плоти, а о душе, уже отделившейся от тела и преодолевающей «воздушные мытарства» перед вратами небесными. Степан — тоже монах, возможно готовящийся принять схиму:(Сперанский, 59, 430)
Иисусе!.. Просвяти омраченеи мои очи и да же поспех [дай успех] отныне положити ми начало мнишьскаго обещания пребывати в пощеньи, в чистоте, целомудрии…О пребывании в монастыре говорит и следующая просьба Степана:(л. 72 об.)
Еще же и о семь молю ти ся, господи: Покой преставльшаяся отца и братию нашю на месте светле, на месте покойне…Это — проявление заботы об умерших игуменах и монахах того монастыря, где Степан доживает свои дни. 6. Очень важным обстоятельством является отмеченное М.Н. Сперанским для «Стефана» и прослеженное выше применительно к «Степану» смешение в их произведениях новгородских и псковских диалектных черт (Сперанский, 17, 48). Итак, наши тезки во всем настолько подобны друг другу, что, быть может, нам следует убрать орфографическое различие, обусловленное различием жанров (заглавие отдельной книги — «Стефан»; промежуточная запись писца в рукописи — «Степан»), и рассматривать и автора «Странника», и автора дополнений к Псалтири как одного и того же человека — богатого горожанина, путешественника-калику, монаха, образованного сторонника критического отношения к некоторым религиозным вопросам и нравам русского духовенства. Последнее очень деликатно проявилось в «Страннике»: После любезного приема у патриарха Стефан, не удержавшись, написал: «О, великое чюдо смирения святых! Не наш обычай имеют!» (Сперанский, 52). «Странник» писался для многих людей как обстоятельный путеводитель по Царьграду; здесь автор сдержан и суховат. В Псалтири же, «в покаянных гласах» своего сочинения он красочно бичевал себя за прежние заблуждения и прегрешения. Постоянной посредницей и защитницей он избрал богородицу и ей признавался в том, что он «осквернил божественное крещение», «осквернил церковь божию», «устранился крова» сына богородицы, т. е. Иисуса Христа, к которому он обращался с молением: «Оставих тя, но не остави мене! Изидох от тебе — изиди же на взискание мое и в пажить свою введи мя…» (л. 30). Степан неоднократно признается в том, что «враг стрелою беззакония устрели мя», что Темный Князь временами порабощал его. Но все это уже позади, теперь он озабочен тем, чтобы «истрезвить разум», «исправить помыслы» и осуществить «единство веры». Признание для деятеля середины XIV в. очень ценное, так как в те самые годы, когда калика Стефан отплывал в Царьград, в Новгороде, как и в Византии, шла полемика по поводу «Фаворского света» во время «преображения Господня». Греки разделились на два лагеря: сторонники Григория Паламы расценивали свет «преображения» как мистическое проявление божественности Христа («паламиты»), а сторонники Варлаама («варламиты») были реалистами и полагали, что свет, озарявший Христа на Фаворе, был «вещественен и образен»[248]. Правивший тогда новгородско-псковской епархией владыка Василий Калика принимал активное участие в этих спорах и написал в 1347 г. специальное послание тверскому епископу Федору о «земном рае». Федор следовал рационалистам «варламитам», опровергавший его Василий — мистикам «паламитам». Во взглядах спорящих было много наивного; приводимые примеры оказывались слишком заземленными для такой теософской темы, но спор затронул несколько городов и оставил след в северно-русской литературе. Стефан со своими восьмью спутниками уезжал из Новгорода в Царьград в самом начале дискуссии на Руси, а в Византию они приплыли тогда, когда греки уже ожесточенно спорили на ту же самую тему и «паламиты», поддержанные императором, одолевали рационалистов «варламитов» (1347 г.). В Византии и в Палестине, куда Стефан направился из Царьграда, новгородцы нашли бурлящую обстановку среди разноплеменных паломников, постоянно стекавшихся сюда со всех концов христианского мира. Именно здесь, на Ближнем Востоке, сложилось устойчивое представление, что ветхозаветные и евангельские святые места, урочища, храмы, мощи, прославленные иконы дают прощение грехов странникам, предпринявшим трудное и длительное хождение. Здесь, на той земле, где происходили события, хорошо известные по всем вариантам Евангелия, прощение, отпущение грехов кающемуся могло быть получено не через посредство духовенства, а прямо от бога. Стефан и его «други», беседовавшие с патриархом Исидором и благосклонно принятые им, получили прощение грехов не от Исидора, не от главы православной церкви, а при посредстве «святой Софеи», от совокупности сосредоточенных здесь святынь: «И помиловани бысть святей Софеи Премудрости божия…» (Сперанский, 50). Метод покаяния и получения отпущения грехов («помилования») у Стефана-калики и Степана — автора «покаянных гласов» в Псалтири, один и тот же — без участия духовенства. А по поводу своих русских духовных властей у странника вырвалось горькое замечание. Длительное путешествие в Грецию и Палестину (к сожалению, вторая половина паломничества не описана) неизбежно сталкивало наших новгородцев с сотнями различных людей, знакомило со всей пестротой вероучений, ересей, обычаев. Они не могли миновать встреч с арианами, несторианами, альбигойцами, сомневавшимися в учении о единосущной троице. Многие толки антитринитариев (противников трехсоставного божества) вычленили Иисуса Христа из этого труднопонимаемого триединства и считали его не богом, а человеком, сомневались в его извечности и полном тождестве с богом-отцом. Покаянные псалмы Степана дают основание считать, что много путешествовавший автор мог в какое-то время оказаться под влиянием тех или иных антитринитарных толкований, столь распространенных тогда во многих странах, а особенно на Ближнем Востоке. Степан сам говорит о себе, что он «осквернил божественное крещение», «согрешил на Небо», «осквернил церковь божию» и более конкретно: согрешил именно против Иисуса Христа, «устранившись от его крова [покровительства]». В третьем «покаянном гласе» Степан недвусмысленно пишет:(л. 173)
Господи Исусе Христе, сыне божий… Дай же ми покаяние свершено, да изиду вседушно на възскание твое… Оставих тя, но не остави мене! Изидох от тебе — изиди же на взискание мое и в пажить свою введи мя и причти ко овцам избраного ти стадаЭто страстный призыв раскаявшегося ренегата, временно впавшего в одну из многочисленных ересей, отрицавших полное равноправие и идентичность бога-отца и бога-сына. Не противоречит этому допущению и «Странник» Стефана. В кратком описании-путеводителе были бы неуместны пространные излияния о личном отношении автора к символу веры, но из текста «Странника» мы видим, что Иисусу Христу уделено здесь очень мало внимания; только один раз, описывая сосуд из Каны Галилейской, путешественник сказал: «В нем же Исус от воды вино сътвори» (Сперанский, 58). Богородице уделено значительно больше внимания: перечислены многие церкви, пересказаны основные легенды, даже рассказано как евангелист Лука писал с натуры портрет Марии: «Ту бо икону Лука евангелист написал позирая на самую госпожу девицу Богородицю, и еще живей суши» (Сперанский, 54). Средняя часть каждого «Покаянного гласа» Степана отведена Богородице как предстательнице, ходатаице за грешника, ей посвящено много теплых и сердечных слов. «Покаянные гласы» писались тогда, когда автор уже раскаялся в своем отступлении от ортодоксального вероучения, всячески стремился загладить свою временную уступчивость Темному Князю и, упоминая троицу, он старательно и нарочито перечислял все три ипостаси: бог-отец, Иисус Христос и святой дух. В том же покаянном тоне говорится и о наступившем «единстве веры». Выводы (предположительные) из сопоставления двух источников таковы: И «Странник», и «покаянные гласы» в Псалтири написаны одним и тем же лицом (будем называть его Стефаном) в середине XIV в., но с некоторым интервалом во времени. «Странник» — в 1353 г., на шестое лето после поставления патриарха Исидора (умершего патриархом в 1349 г.), а дополнения к Псалтири созданы тогда, когда путешественник еще в 1348 г. жаловавшийся, что он утомлялся длительными экскурсиями по Царьграду («а в Царьград, аки в дубраву велику внити… не мочно всего дозрети единожды — старость бо моя, аки ветхого мниха удручает…»), стал теперь совсем немощным старцем, ожидающим близкой смерти. Написание «Странника» совпало со вторым владычеством архиепископа Моисея и могло быть осуществлено по заказу нового владыки, крайне заинтересованного в покровительстве патриархата. В 1353 г. «Моисей посла послы своя в Царьград к блаженному и медоточивому языку Филофею, патриарху Вселенскому и к сыну его царю Ивану Катакузину з дары и со многою честию», прося их защитить от «насилия» со стороны московского митрополита[249]. Не был ли в числе даров и новый «Странник» в редакции, очищенной от мелких личностных заметок Стефана (в рукописи Черненко)? В 1355 г. Моисею были дарованы патриархом крещатые ризы и посланы «грамоты с златыми печатми о проторах на поставлениях и о церковных пошлинах святительскых и иныа различныа указания», т. е. документы патриархата против стригольников. Псалтирь Степана с ее последовательным и неуклонно проводимым тезисом «исповедайтесь господеви» едва ли могла появиться в это неблагоприятное для гуманистов время. Наиболее вероятно, что подозрительная, небезупречная Псалтирь с вызывающим фронтисписом появилась не во время владычества Моисея, гонителя стригольников, а только после его вынужденного ухода в 1359 г., одновременно с людогощинским «древом познания добра и зла», выражавшим средствами живописи ту же основную идею стригольников — «обращайтесь непосредственно к богу». К этому времени Стефан, устававший от длительных пешеходных экскурсий еще десяток лет тому назад («не те бо лета!»), готовил свою душу к посмертным «воздушным мытарствам», о которых ему могло напомнить переписанное в 1355 г. житие Авраамия Смоленского. Время же заблуждений Стефана, когда им владел «Князь Тьмы», вероятно, следует относить к архиепископству Василия Калики (1330–1353 гг.), менее строгого пастыря, чем сменивший его Моисей (1353–1359 гг.).(л. 30)
* * *
В связи со стригольнической книжностью стоит вопрос о составителе интереснейшего Трифоновского сборника, одна из рукописей которого датируется 1380-ми годами. Исследователь этого сборника А.И. Клибанов в разных местах своего труда различно отозвался о его связи со стригольническим движением: в итоговом заключении он пишет: «Руководитель стригольников Карп был автором сочинения „еже списа на помощь ереси своей“. К несчастью, — продолжает ученый, — мы не располагаем памятниками стригольнической литературы, что лишает нас возможности оценить по достоинству культурное значение этого движения»[250]. В разделе о новгородско-псковских стригольниках исследователь был значительно ближе к правильной оценке состояния дел: «Писание книжное, сочиненное стригольниками в обоснование своих взглядов… состояло из евангельских и других священных текстов, нарочито подобранных и истолкованных, чтобы укорить ими церковь. Ранним (и потому несовершенным) примером такого Писания книжного служит Трифоновский сборник, возобновленный в Пскове в те же годы, когда Стефан Пермский написал свое Поучение»[251]. Трифоновский сборник, превосходно анатомированный А.И. Клибановым,является очень полной и многообразной антологией именно тех сочинений, которые были нужны стригольникам для проповедей, для «предисловий честного покаяния», для аргументации в спорах с церковниками. Простое чтение вслух отдельных статей Трифоновского сборника заменяло хорошо обдуманную проповедь. Убедительность читаемого возрастала в глазах слушателей оттого, что авторство каждой статьи было приписано авторитетнейшим отцам церкви вроде Иоанна Златоуста («Слово о лживых учителях») и др. Сборник, принадлежавший игумену пригородного Видогощинского монастыря под Новгородом Трифону, заслуживает полного издания в наше время, так как эта антология дает широкую панораму начальной стадии русского средневекового гуманизма, вооружившего себя надежным арсеналом полемической книжности. Полупризнание А.И. Клибановым Трифоновского сборника памятником стригольнической литературы объясняется, на мой взгляд, тремя причинами: во-первых тем, что в сборнике нет прямых нападок на таинство причащения в принципе, нет многого из того, в чем клерикальная литература обвиняла «еретиков» — «стригольниковых учеников». Во-вторых, как мне кажется, исследователем неправильно понято (неоднократно упоминавшееся мною) выражение Стефана Пермского: «Стригольник [Карп] противно Христу повелеваеть, яко от древа животного, от причащения удалятися. Яко древа разумное показая им [ученикам, прихожанам] писание книжное, еже и списа на помощь ереси своей, дабы ним воставити народ на священничьскый [чин]»[252]. Здесь речь идет не об авторстве Карпа, а лишь о копировании, переписывании какого-то «писания книжного», которое хулило духовенство и в силу этого ставило препятствие исповеди священнику. Если бы епископ хотел обозначить Карпа как автора или составителя, то глагол был бы применен иной: «написа», «създа», «събра». А то, что Карп в качестве доказательства своей правоты показывал списанное им, явно говорит о показе не личного своего сочинения, а какой-то иной авторитетной книги с авторитетными именами. Только подобная книга, подтверждающая, подкрепляющая слова проповедника, могла быть привлечена «на помощь ереси своей». По прямому смыслу слов Стефана Пермского нельзя утверждать, что стригольники отрицали таинство причащения как таковое: они уклонялись от исповеди духовенству, мотивируя это тем, что «сии учители пьяницы суть: ядят и пьют с пьяницами и взимают от них злато и сребро и порты [одежды] от живых и мертвых»… «Сю бо злую сеть дьявол положил Карпом-стригольником, что не велел исповедатися к попом, дабы от попов честь ерейскую отнял, еже им Христос дал вязати [наказывать] и разрешати грехи»[253]. Из «Поучения» Стефана Пермского никак нельзя сделать безусловного вывода о полном отрицании стригольниками важного христианского таинства исповеди и причащения (раскаяния в грехах и прощения грехов). Епископ в полемических целях сгущал краски, но не настолько, чтобы говорить неправду перед самими новгородцами (в том числе и стригольниками). Стригольники отрицали исповедь священникам, заменяя ее непосредственным обращением к богу («Исповедайтесь господеви!»), о чем епископ умышленно умолчал, а исследователи излишне доверчиво отнеслись к его многоречивым обвинениям. Таковы невольные ошибки, когда в распоряжении науки оказываются свидетельства только лишь одной из полемизирующих сторон. Верный и прозорливый взгляд на Трифоновский сборник выразил еще в 1934 г. А.Д. Седельников, считавший его «рупором стригольнических идей»[254]. Теперь, после ввода в научный оборот новгородских покаянных крестов XIV в., созданных горожанами для индивидуальной (и, может быть, молчаливой) исповеди Богу, для нас уже ясно, что в полемике времен Карпа и Стефана Пермского не могло быть и речи об отрицании стригольниками этого таинства; напомню надпись на покаянных крестах Новгорода: «Исус Христос!.. Спаси и помилуй раба своего [место для имени], Дай, господи ему здравье и спасенье отданье грехов А в будущий век жизнь вечнуя»[255]. Эти пригородные (как и Трифоновский сборник) кресты снимают со стригольников еще одно обвинение — в отрицании загробного мира, который на этих каменных документах назван «будущим веком». Стригольники были в какой-то мере антиклерикалами, но едва ли следует говорить, что у них «постепенно антицерковная критика перерастает в критику христианского вероучения», что «Стригольничество отличается своей направленной критикой христианских таинств»[256]. Последним сомнением в правоте авторов, отрицающих связь Трифоновского сборника со стригольничеством, является «отчуждение» ерисиарха Карпа от этого памятника новгородско-псковской литературы. Прибывший в Новгород епископ Стефан Пермский все свое пространное поучение посвятил Карпу и его личным заблуждениям; вместе с тем у читателей этого поучения постоянно возникает впечатление, что Стефан критикует конкретно Трифоновский сборник с интересным многообразием и широтой его тематики[257]. Уточненная датировка Трифоновского Видогощинского сборника по филигранным знакам — 1385 год[258]. Тогда получается, что Стефан Пермский поехал в Новгород сразу, по свежим следам заново переписанной опасной книги в 1386 г. (Вполне вероятно, что это был не первый возрожденный экземпляр старшей редакции «Власфимии», так как содержал очень много псковизмов) и начал свое обличение стригольничества прямо с тезисов статей Трифоновского сборника. А первая попытка возобновления первичного острополемичного варианта могла быть сделана Карпом в разгар его проповеднической деятельности где-то в начале 1370-х годов и сразу привлекла к себе внимание церковных властей. Нависла угроза «страстей», сбывшаяся в 1375 г. Вполне возможно, что причиной такой расправы было появление нового списка Трифоновского сборника с его могучим арсеналом антиклерикальных статей. Даже если будет бесспорно доказано, что список игумена Трифона написан после 1375 г., то у нас все равно остается возможность предполагать, что данный список — одна из последующих копий, созданная уже «стригольниковыми учениками». Одного экземпляра на два охваченных стригольничеством города — Псков и Новгород — было безусловно недостаточно. До нас дошел, по всей вероятности, экземпляр новгородский, ведь он хранился в пригородном Видогощенском монастыре, расположенном у северной окраины Новгорода. Настаивать на непричастности Карпа к составлению сборника, на мой взгляд, трудно. Причастность же непреклонного гуманиста к созданию замечательной и крайне необходимой ему для убеждения своих оппонентов антологии вполне объясняет нам причину яростной расправы, произведенной неизвестно кем, неизвестно по чьему распоряжению в 1375 г. Вспомним, что Авраамия Смоленского «попы и игумены» хотели чуть ли не «жива пожрети» (распять, утопить в Днепре и пр.) только за проповеди и толкования «глубинных книг». Карп и его сподвижники были утоплены в Волхове, быть может, за воскрешение недавно запрещенной, «глубинной книги», сопоставленной епископом Стефаном с «древом разумным».* * *
Биография Карпа, к сожалению, известна нам только в самых общих чертах; Иосиф Волоцкий на рубеже XV и XVI вв. писал о Карпе: «Некто бо бысть человек, гнусных и скверных дел исполнен, именем Карп, художеством (?) стригольник, живый во Пскове. Сей убо окаянный ересь состави скверну же и мерзку, яко же и вси верят и мнози от православных християн, иже суть слаби и неразумни, последоваша ереси той, донде же архиепископ Дионисий Суждальский отиде в Констянтин-град о сем и принесе послание от вселеньского патриарха Антония во Псков к посадникам, яко да быша о православии попеклися и еретики искореним»[259]. Поиски в новгородских и псковских летописях за 1300–1375 гг. выявили только одного Карпа, отношение которого к стригольническому движению никак, впрочем, не отмечено. Но так как по хронологическому отстоянию от событий 1375 года упоминание этого Карпа в псковской летописи не исключает возможного отождествления с будущим вождем стригольников, приведу летописные сведения об этом псковиче:«В лето 6849 [1341] Индикта 9… Того же месяца [июня] догадавшеся [сговорившись] псковичи пешци, молодые люди, поидоша воевать Заноровье 50 мужь о Калѣке о Карпе Даниловиче. А в то время Немцы [орденские рыцари] переехавше Норову, повоеваша села псковская по берегу. И Карп с дружиною сретошася с Немци с наровцы на Кушели у села на болоте и, ополчившеся, псковичи сташа с Немци битися крепко на память Рожества святого Ивана Крестителя. И убиша Немець на припоре 20 муж. И побегоша прочь посрамлени, повергый полон и весь добыток свои. И прогнаше их за Норову, а сами псковичи, поимавше весь добыток их и самых оружие и порты, воротишася во Псков»[260].Во главе небольшой дружины молодых псковичей, действовавших, очевидно, на ладьях по Чудскому озеру и по р. Нарове, Карп Данилович отразил грабительский наезд немцев. Несмотря на скромность самого события, летописная заметка содержит очень ценную для нас информацию: Карп Данилович, возглавлявший полусотню молодцов, принадлежал, очевидно, к боярским кругам, т. к. иначе его не именовали бы по отечеству. Тот же летописец под 1343 г. описывает другой, более значительный поход (5 тыс. всадников) на земли Ордена, во время которого псковичи дошли до Медвежьей Головы (соврем. Отепе). Поход был начат 26 мая «на память святого апостола Карпа» (одного из 70 апостолов «второго призыва»). В походе участвовал и псковский посадник Данила, который в тяжкой финальной битве, давшей победу русским, «обрезав брони на себе и побеже». Псковский летописец, писавший два года тому назад о Карпе Даниловиче, об этом не слишком рыцарственном поступке псковского посадника умалчивает — мы узнаем об этом только из новгородской летописи[261]. Очень большой интерес для нас представляет сообщенное летописцем-церковником прозвище Карпа: он назван Каликою, как и правивший тогда Новгородской епархией Василий Калика, совершивший ранее паломничество в Царьград, описание которого, датируемое 1321–1323 гг., сделано, по-видимому, самим будущим епископом[262]. Новгородцы и псковичи активно участвовали в паломничествах «калик перехожих», путешествуя как в Константинополь, так и в Палестину. В списках различных «Хождений» неоднократно отмечается наличие псковского диалекта. Русские калики окунались в международный круговорот легенд, апокрифов, сказаний, различных отклонений от ортодоксального христианства и прямых ересей. Красочный мир «второго Рима» и «Святой земли» оставлял много ярких впечатлений и порождал множество раздумий и сомнений. Одним из устойчивых отклонений от обычных норм было убеждение всех паломников, что именно в этих местах, где некогда жили и действовали герои Ветхого Завета и Евангелия, можно получить полное прощение грехов не от духовного лица, а непосредственно от самих святынь, древних храмов, чудотворных икон, от мест пребывания Иисуса Христа, девы Марии и апостолов, а в Царьграде — равноапостольного Константина. В упомянутом «Хождении» Василия Калики прямо говорится, что в «Великий Четверг» (вспомним «Странник» Стефана) в Софийском соборе «приходящим бывает прощение грехов и от бед избавление». В других константинопольских храмах от местных святынь тоже «велико прощение бывает»[263]. Доказательством постоянных связей Новгорода и Пскова с местами заморского паломничества является большое количество каменных образков XII–XV вв. с изображениями Гроба Господня в Иерусалиме[264]. Как правило — это довольно крупные двусторонние образки, носившиеся поверх одежды и являвшиеся своего рода опознавательными знаками калик перехожих. На одной стороне изображался средневековый иерусалимский храм со знаменитыми «кандилами», саркофаг, апостол Петр и жены мироносицы; на обороте — разные подборы святых. Для нашей темы особый интерес представляет новгородский образок XIV в. (табл. 34 рис. 2, текст с. 97). На оборотной стороне крупным рельефом изображены евангелисты и Никола, а внизу — композиция из трех фигур во всю ширину иконки. По сторонам центральной (поврежденной) фигуры интересная надпись, к сожалению, не обратившая на себя внимания исследовательницы. КАМК — «камкание», «комкание» (от «communicare» — причащаться) — причастие[265]. Тогда вся трехфигурная композиция должна расшифровываться как изображение тех христианских персонажей, которые непосредственно связаны с обрядом евхаристии: архангел, Василий Великий и Иоанн Златоуст как создатели двух литургий, сопровождающих это таинство (см. ниже в главе о Волотовской росписи)[266]. Для нас очень существенно соединение в сознании новгородцев XIV в. двух понятий: величайшей христианской святыни, которая принимает покаяние и отпускает грехи, и обряда причащения. В свете этих данных нам становится понятен один эпизод, описанный Стефаном в его «Страннике»:
…ту ж [в Софии Цареградской] есть в великом олтаре колодяз, от святого иердана явися. Стражи бо церковнии выняша из кладязя пахирь [вариант — «чашу»] и познаша ю [чашу] каликы рускыя [русские узнали свой потир]. Греци же не яша веры. Русь же реша: «Наш пахирь [вариант — „наша чаша“] есть. Мы купахомся [в приалтарном бассейне] и изронихом». И не бысть от греков тако, яко же реша русь. И не даша калиг[ом], зане бо не яша руси веры на том. Оле [горе] нам странным! А во дне [внутри] его злато запечатано. И разбивше пахирь и обретоша злато…[267]Из этого следует, что русские паломники путешествовали с чашей для причастия — потиром; это значит, что отправляясь к святым местам, они заранее рассчитывали не только на свою исповедь святыням и получение от них безмолвного, неслышимого отпущения грехов, но и на причастие в святом месте. Причащать могли свои же люди из ватаги калик («простецы», «покаяльники»). Духовный стих «Сорок калик со каликою» повествует о том, что русские паломники еще в XII в. привезли из Иерусалима чашу, хранившуюся в Новом Торге (новгородском городе), которая спустя двести лет (в 1329 г.) очень понравилась проезжавшему в Новгород Ивану Калите и великий князь выкупил чашу у новоторжских «притворян»[268]. О прямой связи паломнических образков с комплексом покаяльной обрядности говорит очень интересный образчик верхневолжской пластики XIII–XIV вв. с изображением распятия и Гроба Господня[269]. Исследователи отрицают связь данной вещи с покаяльной обрядностью. Тем интереснее будет детальный разбор символики одного дополнительного сюжета. В правом нижнем углу той стороны, где вырезан храм Гроба Господня и крупные, романского типа евангельские персонажи, непосредственно за спиной апостола Петра, плачущего у гроба, резчик изобразил интереснейшую сцену, четко обособленную от общего канонического стандарта другим сильно уменьшенным масштабом; крохотные фигурки не мешают восприятию основной темы, они являются нарочитым дополнением, так сказать маргинальной пририсовкой. Разница в масштабах, быть, может, выражает асинхронность и отдаленность друг от друга разных сюжетов. У гроба сидит голый бородатый человек; к нему подходят двое паломников в длинных одеяниях и широкополых «шляпах земли греческой». Дальняя фигура неясна, а ближайшая к сидящему дана с подробностями; паломник как бы показывает обнаженному человеку два предмета: в правой руке у него небольшие (аптекарского типа) весы, а в левой — палка в половину человеческого роста, которую он держит за середину. Исследовательницы паломнической пластики дали несколько противоречивых толкований отдельным деталям и всей сцене в целом. В двух путниках видели волхвов, спешащих одарить новорожденного Христа (О.Н. Подобедова). А в явных весах — котомки странников (А.В. Рындина); в короткой палке видели посох (Т.В. Николаева)[270]. Рождество Христово и дары волхвов здесь совершенно неуместны. «Младенец» явно бородат, путников, подходящих к нему не трое (как должно было бы быть в случае изображения волхвов), а только двое. «Котомки», как показала Т.В. Николаева, — весы, но «посох» вызывает сомнения: он короток, больше похож на трость и кроме того путник держит его так, как никогда не изображают ни трость, ни посох. Мне кажется, что здесь, рядом с главнейшей святыней всего христианского мира — Гробом Господним, — к которому стремились простые паломники-калики, епископы и короли, тысячи крестоносцев, главной целью (с точки зрения религиозных людей) было лицезрение святыни, молитва непосредственно в храме этой святыни и покаяние в грехах, которое должно было именно здесь принести непосредственно (без помощи духовенства) отпущение грехов — ведь каждый калика проделал путь через чужие земли, моря и горы, миновал врагов, разбойников и львов. Странник (или ангел в виде странника) показывает душе умершего один из последних моментов пути души к вратам небесным, когда взвешиваются и измеряются все жизненные прегрешения умершего:
Место судное преже уготовяся ему и мерило и ставило. И в нем искушен будет всяк человек («Мерило праведное»).Здесь речь идет о том, как будет вершиться страшный суд. В «Слове Ефрема Сирина» говорится, как каждый человек в своей жизни должен вести себя:
Мерою доброю и ставилом устрой себе [себя] — да совершен будешь во всем.Известный нам по Фроловской псалтири многопутешествовавший Степан, находясь уже в том состоянии, когда «судья ждеть, претя ми огньною мукою…» (л. 132) просит Богородицу:
Облегчи тяготу душа моея… да не посрамлен будеть светоносивый ангел господень студными моими делы… да не препрен будеть въздушными мытари, да не отягъчають греси мои в мерилех на воздусе!«Мѣрила» — весы. «Ставило» — какой-то архитектурно-геодезический инструмент (с отвесом), способствующий установлению строгой правильности постройки[271]. Вот эти-то два предмета — весы-«мерила» для взвешивания поступков и «ставило» для безупречного построения своего поведения и демонстрируются обнаженному, лишенному всяких покровов человеку (или его душе?) у подножья Гроба Господня. Все сказанное выше говорит о том, насколько драгоценно и многозначительно для нас наименование молодого псковского воеводы Карпа «каликою», паломником, пилигримом. Паломничество расширяло кругозор, знакомило со всей мозаикой средневекового разномыслия. Непосредственное соприкосновение с местами деятельности святых людей, именами которых наполнены священные книги, и самого вочеловечившегося бога порождало неизбежные сомнения в необходимости посторонних посредников, которые нередко оказывались менее просвещенными, менее благочестивыми, нежели сам пилигрим. Можно сказать, что средневековые хождения подготавливали почву для движений подобных стригольничеству.(л. 181 об.)
* * *
Тысячеверстное путешествие по землям и морям могли осуществлять преимущественно состоятельные люди. Историк древнерусской литературы В.А. Келтуяла так подводит итоги исследования духовных стихов: «У калик — богатый каличий костюм, изобличающий принадлежность к высшему классу населения; они совершают путешествие дружиной, с атаманом во главе; … В одном варианте стиха калики прямо являются богатырями, съехавшимися на поле и решившими отправиться в Иерусалим по той же причине, как и Василий Буслаевич — потому, что они „убили много буйных головушек, а пролили крови да горючей…“»[272]. Псковитин Карп Данилович Калика (1341 г.), современник былинного новгородца Василия Буслаева (действовал в эпоху «старчища пилигримища», в котором видят владыку Василия Калику, 1330–1353 гг.). Карп Данилович очень хорошо вписывается в приведенную характеристику, данную профессором Келтуялой: он достаточно богат для того, чтобы совершить далекое заморское путешествие, он, судя по добавлению отчества, принадлежит к сословию «богатырей», старших дружинников, возглавлявших отряды «молодых людей». Хронология не препятствует предположению, что Карп Данилович мог бы быть тем вождем стригольников, которого казнили в 1375 г.: если к 1341 г. он уже приобрел прозвище «Калики», то он, разумеется, не был слишком юным, так как путешествие в Царьград требовало не менее года, а в Палестину, вероятно, не менее двух лет; паломничеству с серьезной целью должна была предшествовать повышенная образовательная подготовка. В 1341 г. Карпу должно было быть не менее 20–25 лет. Не мог он быть и значительно старше этого предполагаемого возраста, ведь командование небольшим пешим отрядом в полусотню псковичей, бродившим по болотам Принаровья, едва ли соответствовало бы положению зрелого боярина. Между упоминанием Карпа в 1341 г. и в 1375 г. лежат три с половиной десятка лет. Если допустить, что оба псковича (и калика, и стригольник) являются одним лицом, то мы получаем расчет, находящийся вполне в рамках вероятности: Карпу в момент казни было около шести десятков лет; за время 1341–1375 гг. этот условный персонаж вполне мог стать дьяконом, вести борьбу с «лихими пастухами», быть за это расстриженным и к концу указанного срока осуществить «списание книжное на помощь ереси своей». Теперь мы получаем право продолжить наши розыски и домыслы. Хронологических препятствий нет. Запись в псковской летописи о Карпе Даниловиче сделана рукой интересного, неповторимого летописца, который описал всего только два года жизни Псковской земли (1341, 1343), но, тем не менее, он четко выделяется из всех псковских хронистов за все XIV столетие. Во-первых, этот летописец пишет даты годовых статей с обозначением «индикта», византийского пятнадцатилетнего календарного цикла. Русские летописцы очень редко щеголяли этим, практически не нужным дополнительным обозначением. В той псковской летописи, где упомянут Карп, за весь XIV век нет ни одного индикта, кроме названных выше. В новгородских летописях до конца того же столетия (1395) индикт дан только три раза при коротких заметках 1334, 1337 и 1345 гг.[273] Во-вторых, псковские статьи с обозначением индикта отличаются полнотой, количеством событий и мелких эпизодов и в ряде случаев «эффектом присутствия» (самого летописца или его непосредственного информатора) и вниманием к деталям. В жизнь Псковской земли вмешиваются и Новгород, и Швеция, и Великое княжество Литовское, и Ливонский рыцарский орден. Хронист своей стороной считает Псков и древний Изборск, храм Троицы и храм Николы. Большое внимание уделено боярству; бояре с именами и отчествами перечисляются при отправке посольств, при описании участников походов, при перечислении погибших в битвах. Все события даны с точными датами, вплоть до числа и дня празднуемого святого. Летописцем упоминаются городки, села, речки, болота; указывается точное место, где взяли вражеского языка, передается такое завершение неясного похода: «Псковичи [после победы] в станах стоять опочиваюче». Наряду с большой политической игрой и большими походами, которые описывались другими местными авторами, наш летописец интересуется и мелкими действиями отрядов в 50–60 человек сговорившихся, «нагадавшихся», между собой горожан Пскова и соседних городов. Эта подробная «летопись с индиктами» врезается в неторопливое псковское летописание 1330-х годов, внося совершенно новый принцип широты охвата в сочетании с обилием мелких эпизодов и почти постоянным эффектом присутствия. В предшествующем тексте первая половина 30-х годов не описана вовсе; вторая их половина представлена (считаем строки по изданию А.Н. Насонова) всего-навсего 11 строками, т. е. в среднем по 2 строки (!) на год. В «летописи с индиктами» описание событий только за два года (1341 и 1343) занимает 180 (!) строк (соответственно, 126 и 54). В повествование, как уже говорилось, вовлечены и Ливонский орден, и шведский король и Ольгерд Литовский с родичами, и Новгород Великий, который нередко уклонялся от помощи Пскову и Изборску, но наибольший интерес представляет внимательное и любовное занесение в хронику малых походов псковских горожан по инициативе не властей, а отдельных лиц из боярско-дружинного слоя; летописец как бы следовал принципу, изложенному в этой же рукописи под 1352 годом;…Аще кому се не потребно будеть — да сущим по нас оставим, да не до конца забвено будеть![274]Летописец, сообщивший нам о походе псковской молодежи под начальством Карпа Даниловича, называет и других молодых воевод: Онтона, сына посадника Ильи, Володшу, который вскоре сам становится посадником Володшей Строиловичем. Упоминаются и священники, служившие как бы добровольными гонцами (поп Фома, поп Руда, Лошаков внук). Этот летописец пополнил летопись больших дел Псковской земли (войско в 5 тыс. всадников) мелкими делами боярской молодежи, в числе которой оказался и некий Калика Карп Данилович с его полусотней молодых пеших псковичей. У нас нет никаких надежных оснований для того, чтобы отождествлять двух псковичей: молодого Карпа Даниловича 1341 г. и Карпа-расстригу 1375 г., ересиарха, взволновавшего всю православную церковь от новгородского владыки до вселенского патриархата. Однако сведения «летописи с индиктами» рисуют нам такой персонаж, который вполне мог бы со временем стать и опасным вольнодумцем: образованный пскович из знатной семьи, паломник, совершивший заморское хождение, организатор отряда псковских горожан для отражения рыцарских набегов, воевода, попавший в поле зрения тоже образованного (щеголявшего знанием индиктов) летописца. В эпоху владыки Василия Калики (умер в 1352 г.) Калика Карп вполне мог принять сан дьякона, а при владыке Моисее (1353–1359 гг.), гонителе стригольников, когда во всей епархии кипели страсти, бывший паломник вполне мог быть вовлечен в споры, к которым он был подготовлен еще своим паломничеством.
* * *
Биография настоящего Карпа-стригольника, казненного в 1375 г., смутно обрисовывается в коротких словах Стефана Пермского и неясных, но злобных намеках Иосифа Волоцкого, писавшего сто лет спустя. Карп — родом из Пскова, образованный человек. Получил сан дьякона (вероятно, в пору владычества Василия Калики, т. е. до 1352 г.). В какое-то время был отлучен от службы, «от церкви изгнан» и даже расстрижен, стал расстригой-«стригольником», а его последователи по своему учителю стали именоваться или «стригольниковыми учениками» или просто стригольниками. Время этой первой церковной расправы с Карпом следует, по всей вероятности, относить ко вторичному пребыванию в 1353–1359 гг. на новгородской кафедре архиепископа Моисея, который был известен как гонитель еретиков. Образованность, набожность и чистый моральный облик Карпа и его последователей не вызывали сомнений даже у враждебно настроенных к нему современников. Главный обличитель Карпа — Стефан Пермский — пытается в одном случае даже выгородить Карпа, объясняя его пренебрежение к погребальной обрядности не принципиальным отрицанием обряда, а лишь его личной незадачливой судьбой отлученного от церкви расстриги:Сам бо стригольник связан бысть и отлучен от церкве, своей деля ереси, то и иных в ту в неисповеданную погибель введе. Еще же в животе своем [еще при жизни] уразумел то, оже тело его не будеть погребено со псалмы и песньми, якоже и всякого хрестьянина, того деля почал людем глаголати: «Не достоит де над мрътвыми пети, ни поминати, ни службы творити, ни приноса за умершего приносити к церкви, ни пиров [поминок] творити, ни милостыни давати за душю умершаго»[275].Из этих советов Карпа ограничить доходы нелюбимого им духовенства (оплата похорон, «приносы», поминки, милостыня) через полвека в московской митрополичьей консисторской части были сделаны непозволительно широкие выводы о якобы полном отрицании стригольниками идеи загробного мира. Таковы были полемические приемы митрополита-византийца Фотия. Стригольники будто бы учили:
Яко и въскресению не надеюще быти мняху… (повторно) Яко не надеющеся и въскресению быти…[276]А это уже оказывалось не только ересью внутри христианства, но и полным отказом от основы основ христианского вероучения о загробной жизни. У Карпа же, как мы знаем, речь шла о вещах значительно более простых и житейских: он «не велел исповедатися к попом, дабы от попов честь ерейскую отнял» (стр. 241). А вера в «жизнь вечную в будущий век» отчетливо выражена на рельефных плоскостях современных Карпу покаянных крестов. По всей вероятности, архиепископ Василий Калика не конфликтовал с подчиненным ему Карпом-дьяконом; в письменном наследии Василия не затрагиваются и интересующие Карпа вопросы исповеди и покаяния, но с повторным появлением на кафедре Моисея в 1353 г. сразу появилась кипучая деятельность новгородской архиепископии. Представитель богатых боярских кругов, Моисей уже владычествовал в Новгороде четыре года (1326–1330), оказавшихся очень трудными для республики: приезд митрополита Феогноста, вокняжение Ивана Калиты в Новгороде, война Новгорода с псковичами, войны с немцами и татарами и боярские мятежи. Возможно, что именно в эти годы ядовитая «Власфимия» рубежа XIII и XIV вв. была сильно смягчена и очищена от наиболее острых антиклерикальных статей, которые потом, спустя полвека, были восстановлены Карпом. А.И. Клибанов, как мы видели, датирует эту младшую редакцию «Хулы на еретиков» эпохой Ивана Калиты[277]. Одна деталь — концовка 66-й главы, завершающаяся многолетием в честь Калиты, дана в такой форме, что ее, по моему мнению, можно скорее отнести к началу, к первым годам княжения Ивана Калиты и в Москве, и в Новгороде (1327 г.):
Дай бог и на многая лета великому князю Ивану Даниловичю всея Руси (это — пожелание на будущее).Создание обезвреженной, значительно выхолощенной «Власфимии» должно было поставить Моисея во главе той партии новгородско-псковского духовенства, против которой воевали будущие стригольники. В сложной ситуации конца 132.0-х годов Моисей покинул кафедру, как вежливо пишет летописец, «по своей воли». Напряженность обстановки явствует из того, что «много гадавше новгородци и быша без владыки 8 месяцъ»[278]. Моисей принял схиму, т. е. отрекся от всех земных забот и суеты. На рубеже 1340 и 1350-х годов для пограничного Пскова наступили тяжелые и напряженные времена: орденские рыцари, Шведское королевство, Великое княжество Литовское. Новгород и Москва постоянно стремились в той или иной форме ущемить права маленькой боярской республики. Псков мужественно боролся с Великим Новгородом за свой суверенитет и за автокефальность своей церкви, входившей в состав новгородской епархии. Новгород вынужден был пойти на некоторые уступки, сумма которых перечислялась псковичам в своеобразной остановке. В 1348 г. шведский король Магнус Эриксон задумал нечто вроде крестового похода против Новгорода, но решил предварить войну религиозным диспутом:
Пошлите на съезд, — пишет король новгородцам, — свои философы а яз пошлю свои философы — дажь поговорят про веру, уведают чья будет вера лучьши? Аще ваша будет вера лучши — яз иду в вашу веру; аще ли будет наша вера лучши — вы пойдите в мою веру [в католическую] и будем все за один человек. Или не пойдете в одиначьство — яз хощю ити на вас со всею моею силою[279].В новгородско-псковской епархии, где уже действовали два варианта «Власфимии» (лютый антиклерикальный 1273–1313 гг. и смягченный, примиряющий вариант времен Калиты), общественные страсти были накалены, очевидно, до такой степени, что диспут только обнажил бы внутренний раскол русского общества и духовенства, и архиепископ Василий Калика с посадником и тысяцким от диспута отказались и порекомендовали королю обратиться в Царьград к патриарху. Магнус начал войну, крестил в католичество пленных карел, взял город Орешек. Новгородские силы осадили Орешек, но небольшой псковский отряд заявил, что псковичи не могут долго участвовать в осаде. Вот тогда-то новгородцы и начали перечислять все политические уступки, которые они сделали в пользу Пскова:
Братье Плесковичи! То перво мы вам дали жалобу [пожаловали вас, удовлетворили просьбу] на Волотове: посадником нашим у вас в Пскове не быти, ни судити. А от владыце судить вашему плесковитину [псковичу]. А из Новагорода вас не позывати дворяны, ни подвойскыми, ни софьяны [владычные слуги], ни изветники, ни биричи. Но борзо есте забыли наше жалование, а ныне хочете поехати!Не имея возможности воспрепятствовать уходу псковского отряда, новгородское командование просило псковичей покинуть русский стан незаметно: «Пойдите в ночь, а поганым [шведам] похвалы не дайте, а нам нечести [посрамления]». Псковичи же в самый полдень, поставив оркестр впереди полков, демонстративно покинули новгородцев:
Они же [псковичи] от Орешка въполдни поехаша, ударив в трубы, в бубны, в посвистели. Немци же то видивше, почаша смеятися…[280]Отказ владыки Василия от «философского» спора с католиками вполне объясним той бурной разноголосицей политических и религиозных взглядов, которая существовала в Новгороде и Пскове в середине XIV в. Нарочитые сепаратистские действия псковичей под Орешком привели, по-видимому, к отлучению всего Пскова от церкви; только эпидемия чумы заставила владыку Василия в 1352 г. поехать во Псковскую землю. «Тогда же псковичи бывше под запрещением архиерейским, опамятовшеся о гресе своем, послаша послы своя в Новгород, зовуче со слезами к себе Василия архиепископа новгородцкаго». Ввиду общенародного несчастья Василий Калика пренебрег многочисленным анафематствованием псковичей (Феогност в 1329 г., Василий в 1337 г. и, вероятно, в 1348 г. за уход «под музыку»), приехал во Псков, обошел, благословляя, весь зараженный город и умер от чумы, едва отъехав от Пскова. «Крестовый поход» Магнуса Шведского, набеги рыцарей, вероломство Ольгерда, конфликты Пскова с новгородским архиепископом — все это бледнело в сравнении с новой длительной бедой — чумой, от которой вымирали до единого человека целые города. Снова в умах средневековых людей возобновляется идея божьего наказания, тяжкой кары за многочисленные грехи. С этим логически связана идея всеобщего покаяния, искупления своих провинностей. И с большей остротой встал старый вопрос — сможет ли современное духовенство с его малой грамотностью и отягощенностью бытовыми, обыденными грехами, защитить от божьей грозы свое стадо, пасомое лихими пастухами? Не лучше ли всем миром обратиться непосредственно к вершителю судеб мира?
Длительная и опустошающая эпидемия прошла от Индии до Европы. «Велие множество бесчисленное людей добрых помре по всем улицам. Нетокмо же в едином Новегороде бысть сия смерть — и мню, яко по лицю всея земли походи…»[281]Повсеместная неотвратимая «черная смерть» невольно воскрешала в памяти тогдашних людей мрачные строки библии об устроенном богом всемирном потопе. Для русских к этому добавлялась еще живая память о таком же неотвратимом проявлении гнева Господня, каким было татарское нашествие, испытанное дедами и прадедами современников Василия Калики и Карпа-стригольника. «Великий мор» конца 1340 — начала 50-х годов, уносивший тысячи тысяч человеческих жизней (в том числе и неуспевших еще нагрешить младенцев), по своей апокалиптической неотвратимости, загадочности и масштабности не шел ни в какое сравнение с обычными повседневными бедами. Что значило в глазах средневекового христианина его личное покаяние своему приходскому священнику, когда по воле бога один за другим умирали епископы и князья, митрополиты и полководцы. Трагическое многолетнее шествие чумы по странам и континентам было совершенно несоизмеримо с привычной обывательской греховностью, сообщаемой богу через своего духовника. Люди ощутимо сознавали потребность в каких-то более торжественных формах обращения к богу, к богородице-заступнице, к Небу и небесным силам вообще; приходское, привычное духовенство было слишком обыденным и мелким по сравнению с грандиозностью кары. В таких условиях стремления ко всенародному покаянию возникли и «Предъсловие честного покаяния», требовавшее образованного оратора-вожака, и осужденный Стефаном Пермским обычай «молитися на распутиях [на перекрестках] и на ширинах [площадях] градных». При изучении истории общественно-религиозной жизни средневековья мы должны учитывать как грозные природные явления (землетрясения, наводнения, засуху), так и эпидемии — все это, как ни странно, сближало средневековых людей с их суровым ветхозаветным богом, смиряло их перед его слепым могуществом. Люди, окруженные смертью и обреченные на смерть, искали новых, необычных путей к разгневанному на все человечество богу. Стригольническое неприятие духовенства основывалось не только на его бытовых пороках, осуждаемых и самой церковью, но может быть главным образом на невежественности, «некнижности» простого приходского клира. Нужны были пророки, ораторы, владевшие всем богатством православного красноречия. В грозные годы ниспосланного богом испытания требовались опытные проповедники. И они появились: упоминаются «покаяльники» из духовенства и «покаяльники — простецы». «Время слуг своих поставляет…» (Иосиф Волоцкий). Неясное представление о внешнем облике бога расширилось до двух необъятных разделов мира: Неба, как его местопребывания, и Земли, как заступницы за все порожденное ею. Неотвратимые несчастья укрепляли веру в могущество небесных сил и порождали новые, более массовые формы культа.
* * *
Конец 40-х и начало 50-х годов XIV в. явились для Новгорода и Пскова временем особой, может быть, даже несколько исступленной религиозности, искавшей новых форм непосредственного массового обращения к богу. Сразу после начала «великого мора» и во Пскове, и в Новгороде строятся церкви Успения богородицы: псковичи поставили «за стеною, в стране святого Дмитрея», а новгородцы — тоже за стеною — в Волотове. Проблема покаяния приобретает особое значение:Аще бо отступим от беззаконий наших и раскаемся о гресех [грехах] наших — отвратит [бог] от нас гнев свой и простит согрешения наша…[282]Летописцы, занятые ужасами эпидемии, не описывают никаких новаций, связанных с усилившейся потребностью в покаянии, но упоминают события, которые косвенно намекают на какие-то действия старшего и младшего духовенства. Великий князь Московский Симеон Гордый незадолго до своей смерти (умер от чумы 26 апреля 1353 г.) собрал церковный собор:
Бысть снем [собор] на Москве князю Семиону и князю Константину Васильевичу про причет церковный[283].Как мы помним, именно церковный клир, причт, от простых чтецов до посвященных в сан дьяконов, часто являлся ферментом брожения, недовольства и проявлял недозволенную любознательность в отношении противоречий в канонической литературе, непрерывно обраставшей пухлым слоем международных апокрифов. Причетники участвовали в богослужении, могли учить посадских детей грамоте, общались с посадом на молебнах и при исполнении обрядов, завершавшихся общими пирами. Это была живая связь приходского духовенства с посадом. Именно к этой среде и принадлежали такие стригольники, как дьякон Карп и дьякон Никита. Лаконичность летописной заметки не позволяет нам определить направленность собора 1352–1353 гг., но тот факт, что в Москве при великом князе был собран специальный собор не по поводу кандидатуры нового митрополита (старый Феогност уже умирал), а по каким-то делам церковного причта, должен привлечь наше внимание. В разгар мора, 3 июня 1353 г. архиепископ новгородский Василий Калика умер от чумы, молебствуя во Пскове, а на его месте вторично оказался архиепископ Моисей. Моисей был могучей и яркой фигурой новгородско-псковской церковной и общественной жизни. Он был представителем боярских, аристократических кругов, возглавлял знаменитый Юрьевский монастырь в Перыни, строил много церквей и имел в городе много как сторонников, так и противников. Пробыв на кафедре четыре года (1326–1330), он удалился «по своей воле»; однако город бурлил целых 8 месяцев; сторонники Моисея стремились вернуть его на кафедру, но окончательность своего отказа Моисей подтвердил тем, что принял схиму, т. е. навсегда отрекся от каких бы то ни было мирских дел. Однако через два десятка лет Моисей снял куколь схимника и стремительно включился не только во внутренние дела новгородской кафедры, но и в широкую политику Москвы и Константинополя. Житие Моисея сообщает, что во время своего вторичного пребывания на кафедре (1352–1359 гг.) владыка «подвизался против стригольников»[284]. Эта вскользь сказанная фраза получает подтверждение и пояснение в летописных записях не столько новгородских, сколько более поздних московских историков начала XVI в., когда извлекались «старинные сказания» и открывались новые источники:
1353. «Того же лета архиепископ новгородцкий владыка Моисей посла послы своа в Царьград к блаженному и медоточивому языку Филофею патриарху вселенскому и к сыну его, царю Ивану Катакузину з дары и со многою честию, прося благословения и исправления от обидения, приходящих от митрополита [Алексея] с насилием многим…»[285]Жалоба на Москву, подкрепленная дарами, давала Новгороду некоторуюнадежду на автокефальность. Следующая запись, датируемая то 1354, то 1355 г., говорит нам о том, что недавний схимник решительно взялся за отстаивание симонии, столь порицаемой стригольниками:
Того же лета (1354?) прииде посол владыки новгородцкого изо Царяграда и принесе грамоты с златыми печатми о проторех на поставлениах и о пошлинах святительских и иныа различныа указаниа…Один из главных упреков стригольников духовенству всех рангов — упрек в «поставлении на мзде», во взятках — взносах за возведение в сан. Священный сан становился как бы купленным за деньги. Церковь пыталась объяснить эти взносы проторями, расходами на поставление. Летописный текст прямо свидетельствует о том, что Моисей в первый же год своего второго правления начал, а может быть, возобновил борьбу с вольнодумцами. За это он был щедро награжден константинопольским патриархом Филофеем по прозвищу «медоточивый язык»:
Принесе же и ризы крестьчяты владыце Моисею новогородцкому и благословение всему Новугороду[286].Ни имени еретика Карпа, ни упоминания его отлучения здесь еще нет, но борьба явно уже началась. В 1355 г., как уже неоднократно говорилось, переписывается житие Авраамия Смоленского, широко использованное тогдашними антиклерикалами. На годы последнего владычества Моисея падает, по всей вероятности, наиболее обостренная фаза борьбы стригольничества с архиепископом, а также и репрессии, примененные к Карпу — отстранение от службы и расстрижение, лишение сана. Наиболее вероятно, что свое прозвище «стригольник» — «расстрига» Карп получил не во время владычества преемника Моисея — архиепископа Алексея, скорее потакавшего вольнодумцам, а именно в короткое, но крутое семилетнее правление энергичного и авторитетного Моисея, а остававшиеся до казни полтора десятка лет действовал с лестной для него кличкой отверженного, создававшей ему ореол смелого борца за истину. В пользу такого не текстологического, а психологического толкования свидетельствуют слова самого Стефана Пермского: после отлучения от церкви Карп «еще же в животе своем [еще при жизни] уразумел то, оже тело его не будет погребено со псалмы и песньми… того деля почал людем глаголати: „Не достоит де над мрътвыми пети, ни поминати…“»[287] Отсюда вывод: мотив отрицания погребальной обрядности был частью проповеднической программы того, кто вошел в историю как расстрига-стригольник. Быть может, и второй неожиданный уход Моисея с кафедры был связан с какими-то жесткими действиями владыки, вызвавшими противодействия горожан. Новгородское боярство и духовенство уговаривало Моисея остаться, но тот отказал им, не назначил преемника, и новгородцы выбрали простого монаха (еще не священника и даже не дьякона) Алексея — «ключника дому святыя Софея». Волнения по поводу поста архиепископа продолжались почти целый год: Моисей «съиде с владычьства по своей воли, немощи деля своея на память святого отца Моисиа (не пророка. — Б.Р.)», т. е. по нашему счету уже в 1360 г. Поставление в архиепископы произошло во Владимире только 12 июля 1360 г.[288] Тотчас после ухода Моисея новгородцы воздвигли (как мы помним по главе о «разумном древе») чисто стригольнический людогощинский крест с его умной и художественно оформленной пропагандой идеи непосредственного обращения к богу. Время гонений на вольнодумцев кончилось; гонитель Моисей был в первый же свой год щедро награжден патриархом, а новгородский посад на три десятка лет избрал себе такого владыку — Алексея, которого то вызывали в Москву, то вразумляли вместе с его паствой специально присланные чужие епископы (Дионисий, Стефан). В нашем распоряжении нет точных данных для расстановки хронологических вех биографии Карпа, но по приведенным выше соображениям их можно представить себе так: 1. Во время владычества Василия Калики (1331–1352 гг.) псковитин Карп уже совершил паломничества, стал каликою и был свидетелем, а может быть, и участником многочисленных общественных и церковных конфликтов, которые особенно обострились в Новгороде и Пскове к концу 1340-х годов. Возможно, что, если к этому времени Карпу исполнилось 25 лет (необходимый возрастной ценз), он уже мог стать дьяконом и вошел в низший слой псковского духовенства. 2. Резкий переворот в сознании людей, вызванный длительной эпидемией повсеместной чумы и стремлением всех христиан обратиться с покаянием предельного отчаяния непосредственно к богу, казнившему людей, мог затронуть и Карпа. Литература, обосновывавшая «честное покаяние» и хулившая «лживых учителей», уже была создана и была известна как в Новгороде, так и во Пскове. 3. Псковский дьякон, даже если он и выражал какое-либо вольнодумство, не мог вызвать особого гнева архиепископа Василия Калики — в это время на весь Псков был наложен интердикт, снятый лишь по случаю мора. Стремительность действий Моисея после смерти Василия Калики и быстрота патриаршей благодарности за его действия против тех, кто сомневался в правах духовенства, свидетельствуют о том, что новый владыка сразу начал борьбу с вольнодумством. Временем отлучения Карпа и лишения сана следует считать вторичное пребывание на кафедре владыки Моисея, завершившееся его торопливым уходом 25 января 1360 г. 4. Архиепископство мягкого Алексея, по-видимому, было тем временем, когда дьякон Карп, ставший уже расстригой-стригольником, продолжал свою проповедническую деятельность и создал свою школу, свой «съуз неправедны» «стригольниковых учеников». 5. Дальнейшие действия вождя стригольников угадываются по уцелевшим рукописям. Стефан Пермский очень определенно утверждал, что Карп в своей проповеднической деятельности опирался на «писание книжное», которое он, Карп, «списа на помощь ереси своей». Оригиналом, можно полагать, была старшая редакция «Власфимии» (рубеж XIII и XIV вв.), которая в эпоху Ивана Калиты, как это доказано А.И. Клибановым, была сильно смягчена и обескровлена (см. выше). Это происходило в Новгороде или во Пскове примерно в годы молодости Карпа. Старшая, суровая по отношению к порокам духовенства, редакция не исчезла. В годы обострения проблемы к ней обращались вновь и это было неотразимой опасностью для церкви. Дошедший до нас Видогощенский «Трифоновский сборник» переписан, судя по водяным знакам бумаги, около 1385 г. и сразу же, в 1386 г., Стефан Пермский приезжает в Новгород и поучает паству и пастыря. Но был, очевидно, более ранний автограф Карпа, написанный им самим и повлекший внезапную и юридически необоснованную казнь Карпа и его сотоварищей в 1375 г. Вспомним того неизвестного нам новгородского летописца, который внезапно оборвал свои генеалогические расчеты на 26 ноября 1374 г. и неожиданно завершил тетрадь «Словом святого Ефрема», где писание книг приравнивается к звуку боевой трубы, созывающей «нас, воинов». «Тако и святыя книги въставять ти ум прилежати на благое и укрепят тя на страсти…» Страсти наступили в 1375 году. Псковитин Карп Калика, предводитель отряда молодых людей, отражавших пограничные набеги немцев в 1341 г., и псковский дьякон Карп-стригольник, казненный как вожак еретиков в 1375 г. в Новгороде, вполне могут оказаться одним и тем же лицом, но кроме происхождения из Пскова и хронологической допустимости у нас есть только один признак, который, не имея доказательной силы, позволяет хотя бы говорить на эту тему — участие Карпа Даниловича в каком-то паломничестве в 1330-е (?) годы, что непосредственно сближало Карпа-калику с кругом околоцерковных споров, ведшихся тогда и далеко за морями, и в своей земле. Но этого, разумеется, слишком мало для утверждения тождества двух псковичей, являвшихся тезками, современниками, земляками и паломниками.
Цветные иллюстрации

Инициал из псалтири Степана XIV в. Изображен юноша, стоящий на коленях и пьющий из рога.

Псковская икона конца XIII в. («Еван» — Иоанн Лествичник, Георгий, Власий).

Псковская икона Ильи Пророка. Конец XIII в.

Икона «Собор богоматери» (рождество Иисуса).
Глава пятая Городское искусство и стригольники
…В новгородском искусстве конца XIV в. не могли не отразиться те перемены в общественной жизни, которые в то время сказались и на движении стригольников.Русское средневековое искусство полнее всего сохранилось в Новгороде. Богатый город, живший интенсивной, напряженной жизнью, много создавал и не подвергался таким тотальным разгромам и разграблениям, как Киев или Владимир, во время татарского нашествия 1236–1240 гг. (или Царьград, разграбленный рыцарями-крестоносцами в 1204 г.). Только архитектура и фресковые росписи Новгорода сильно пострадали в 1941–1942 гг., но многое из разрушенного было уже изучено наукой XIX — начала XX в. Новгородские и псковские храмы сохранили большое количество икон, иногда даже с датами написания и именами художников. Ризницы (особенно Софийская) являлись своего рода музеями прикладного искусства XI–XV вв. Сохранились и именные сосуды для причастия новгородских бояр, изделия с подписями мастеров, «кузнецов золоту и серебру». Наши музеи теперь располагают образчиками прикладного искусства в широком диапазоне — от личных архиепископских предметов (например, потир владыки Моисея) до многочисленных образков калик перехожих с изображением гроба господня. К сожалению, общественное звучание искусства (особенно живописи), степень отражения им противоборства разных взглядов на детали обрядности и на роль духовенства недостаточно заинтересовали историков искусства. У нас и за рубежом издано много превосходных альбомов и исследований по истории средневекового искусства Новгорода и Пскова XII–XV вв., но слово «стригольники» редко-редко встречается в некоторых из этих книг, а широко поставленной проблемы — «А было ли у стригольников свое искусство?» — мы там не найдем[289]. Из числа приведенных в списке основных исследований новгородско-псковской живописи только в общей работе М.В. Алпатова поставлен вопрос о стригольниках. В других исследованиях говорится о демократической тенденции художников XIV в., об элементах гуманизма в их творчестве, о влиянии византийских и сербских мастеров, но движение стригольников, которым на протяжении многих десятков лет интересовались не только московские митрополиты, но и вселенские патриархи, не попало в поле зрения большинства историков искусства. М.В. Алпатов уделил внимание теме стригольников, но он воспринимал это движение (как историк ереси Н.А. Казакова) сквозь призму полемических выпадов Стефана Пермского и тяжких обвинений тенденциозно осведомленного Фотия. «Мы имеем сведения о новгородских еретиках, — писал М.В. Алпатов, — только от их заклятых врагов… и об идейной сущности (ереси) можно только догадываться… Мы не имеем новгородских памятников искусства, которые бы непосредственно отражали еретические воззрения. Возможно, что стригольники были противниками не только церковных обрядов, но и церковного искусства. Но все же в новгородском искусстве конца XVI в. не могли не отразиться те перемены в общественной жизни, которые в то время сказались и в движении стригольников»[290]. Предположение, что стригольники могли отрицать церковную живопись, основывается все на тех же нагромождениях поздних сведений из далекой Москвы 1420-х годов, по сумме которых стригольников вообще нельзя было считать христианами. М.В. Алпатов прав, считая, что общественная жизнь Великого Новгорода должна была включать и стригольническое направление в искусстве. В главе «Древо разумное» сделана попытка по подбору сюжетов обозначить как чисто стригольническое произведение расписанный Яковом Федосовым Людогощинский крест. То обстоятельство, что искусствоведы не начали поиск стригольнического направления в живописи после призыва М.В. Алпатова, может объясниться тем, что стригольники не были ни замкнутой сектой, ни резко отличными от общей посадской массы православными людьми. Поэтому решить вопрос, не очень уверенно поставленный Алпатовым, следует, очевидно, путем рассмотрения особенностей эпохи — от конца XIII до конца XIV в.; от создания «Старшей Власфимии» на рубеже столетий до нового воспроизведения ее в первоначальном остро обличительном виде в 1380-е годы. Диапазон различия в понимании задач иконописи резко бросается в глаза при сопоставлении трех хорошо известных икон конца XIII в. 1. Икона святого Николы Липенского 1294 г. из монастыря близ Новгорода. Поясное изображение святителя обрамлено 27 небольшими фигурами разных святых и богородицы. Одежда и нимб самого Николая отделаны художником с небывалой роскошью: золото, жемчуг, дробницы тонкого рисунка, изысканно орнаментированный нимб с девятью дробницами, воспроизводящими финифть домонгольского времени, тщательная выписка лика Николы — все это само по себе говорит о предназначении иконы для самых верхних, аристократических кругов Новгорода, что подтверждается подробной надписью.М.В. Алпатов
В лето 6802 (1294) при князе Андреи Александровичи и при архиепископе Клименте и при посаднице Андреи Климовичи написана бысть икона сиа повелением и стяжанием раба божия Николы Васильевича… А писал грешный Алекса Петров сын…[291]Никаких следов стригольнического духа в этой иконе, заказанной новгородским боярином Николаем Васильевичем, нет и в помине. Перегруженная богатой (в смысле реальной ценности изображенного золота и жемчуга) орнаментацией икона Алексы Петрова отражает возвращение новгородского боярства на прежний домонгольский высокий уровень жизни. В 1230-е годы, накануне татарского нашествия, в Новгороде строилось по нескольку церквей в год. После же нашествия, несмотря на то что Новгород не испытал непосредственного нападения татарских войск, за 60 лет не было построено ни одного каменного храма.

Рис. 25. Икона Николы Липенского 1294 г. Новгород. Художник Алекса Петрович.
Никола на Липне был первенцем новой поры, поры возрождения Великого Новгорода. Это и отразил Алекса Петров в своем преднамеренно украшенном узорочьем произведении. 2. Полной противоположностью иконе Николы Липного является современная ей известная икона из Новгородской земли (г. Крестцы) конца XIII в., на которой изображены трое святых: Еван (Иоанн Лествичник), Георгий и Власий[292]. Иоанн Лествичник в центре написан во всю длину иконной доски и почти в три раза превосходит ростом стоящих по сторонам Георгия и Власия. Уже в этом предпочтении можно усмотреть свойственное позднейшим стригольникам XIV в. особо почтительное отношение к людям, удостоившимся беседы непосредственно с богом. Иоанн Лествичник беседует с Богом у подножия небесной лестницы, на вершине которой стоит сам бог. Искусствоведы неоднократно сопоставляли фигуру Евана, написанную скупо, обобщенно, с обликом древнего языческого идола. О какой-то преемственности с прадедовской архаикой говорит и выбор святого Власия, христианского преемника языческого Волоса. Храмы Власия были и в Новгороде, и во Пскове. Волос-Велес был в свое время богом богатства, жизненного довольства; святому Власию ставили церкви во время эпидемий, чтобы уберечь жизнь многих тысяч людей. Георгий — победитель зла и мученик, стойко переносивший пытки, при помощи которых хотели заставить его отречься от христианской веры. Итак, суровая икона той эпохи, когда впервые создавалась полуеретическая антология, повторенная потом стригольниками (Трифоновский сборник), выражала три идеи: верность своей новой вере (пеший офицер Георгий), возможность обращаться непосредственно к самому богу (Иоанн Лествичник) и заботу о благосостоянии человечества. Все эти идеи полностью вписываются в позднейшее учение Карпа-стригольника. В руках у святых изображены символические предметы, которые усиливают это сходство: крест, окрашенный в кровавый цвет, меч в ножнах (Георгий) и две священных книги (Еван и епископ Власий). Верхние три четверти иконы покрыты ровным красным фоном; эта икона открывает собой значительный ряд краснофонных икон, идущий до XV в. синхронно сведениям о стригольниках. Возможно, что благодаря различию в росте изображенных на иконе святых, их крупные желтые нимбы играли роль схемы макрокосма — солнце в трех позициях: Георгий — утро, Еван — полдень, Власий — закат. Такая схема динамики солнца была известна за сотню лет до этой иконы. Она была четко выражена в арках напрестольной сени, изготовленной при Андрее Боголюбском в 1160-е годы мастером Константином[293]. Изображение суточного хода солнца было выражением глубокой оптимистической идеи закономерной смены ночной тьмы дневным светом; свет неизбежно победит тьму! В русской деревне такая символическая резьба на избах дожила до XX в. 3. Илья пророк с житием. Из окрестностей Пскова, конец XIII в.[294] Мы уже встречались с образом пророка Ильи на Людогощинском кресте, но там дан только намек, только напоминание для знающих содержание жития этого популярного пророка, взятого богом на небо. Здесь же основное изображение Ильи в пустыне, среди гор, слушающего голос бога (рука Ильи освобождает ухо от свисающих прядей волос), окружено двумя сериями отдельных клейм по краям иконы: наверху — деисус, моление Христу как божеству; по трем другим сторонам даны эпизоды из жизни этого яростного пророка. Очень важно отметить, что именно в это время наряду с расширением роли книжности, со стремлением не только благоговейно почитать иконы, но и понимать их, знать жизнь и подвиги иконных персонажей, послужившие основой их канонизации, появляются клейма с краткими надписями. На протяжении XIV–XVII вв. с каждым десятилетием возникает все больше и больше икон с житийными клеймами, встречаются иконы с 84 (!) клеймами; клейма (небольшие картины вокруг главного изображения) снабжаются надписями, поясняющими содержание изображенного, и церковь превращается как бы в огромную библиотеку, которая в промежутки между богослужениями могла предоставить прихожанам красочно иллюстрированные биографии важнейших христианских деятелей (рис. 26 и 27).

Рис. 26. Пророк Илья собственноручно убивает жрецов чужого бога. Обнаруженная в процессе реставрации первоначальная живопись нижнего клейма.
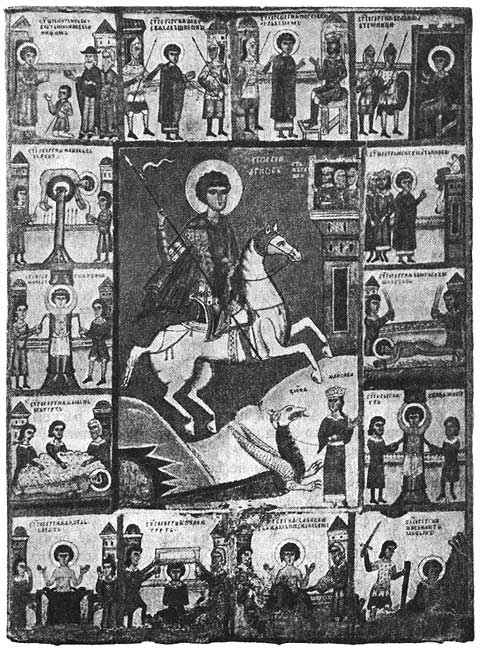
Рис. 27. Икона Георгия Победоносца с житием. XIV в.
Иконы с клеймами могли служить наглядным пособием при обучении детей закону божьему и пособием при проповедях и беседах, так как в них очень силен назидательный элемент, усиливающийся в «предстригольническое» и «стригольническое» время. Возьмем для примера иконы Георгия Победоносца XIV в. На одних во всю доску изображено эпическое сказание о победе над драконом: освобожденная от чудовища царевна, усмиренный дракон, царь и горожане, следящие с городских «заборол» за героическим поступком красавца богатыря Георгия… Но есть новгородская икона первой половины XIV в., на которой в четырнадцати крупных клеймах дана вся трудная жизнь этого знатного воина. Эпический эффектный момент поражения Змия здесь сохранен и дан в центре на огненном красном фоне, но эта мажорная героическая тема окружена 14 крупными клеймами, иллюстрирующими трагическую судьбу неофита-христианина, мужественно переносящего невероятные мучения. Сюжеты клейм: Георгий раздает свое имущество нищим; он сокрушает языческих идолов; Георгий связан и доставлен царю (Диоклетиану, Дадиану) и брошен в темницу (рис. 27). Девять клейм посвящены разным видам пыток: Колесование; «Удицами рвут»; «Бьют сухими дубцы»; «Камнем трут»; «Свечами жгут»; «В котле варят»; Распиливают голову пилой; Заливают известью (?); «Посекають мецем»[295]. Центральная фигура Георгия-всадника на белом коне, победителя дракона и освободителя царевны восходит по сюжету чуть ли не к Тезею и Минотавру и диссонирует с агиографическим содержанием клейм. А житийные клейма даны для назидания всем верующим как пример необычайной стойкости и силы веры. Эпический, сказочный победитель мирового зла показан человеком, бесстрашным и терпеливым великомучеником. Такое дополнение было вполне в духе стригольнического времени. «Мы же на предняя возвратимся», как говорили летописцы, к несколько более ранней псковской иконе Ильи с житием. В среднике дан не самый эффектный момент жития, не восхождение на небо в огромной огненной колеснице, а пророк, слушающий тихий, как ветер, глас божий в безлюдной пустыне. Клейма же раскрывают действия пророка, те его дела, за которые он удостоился и гласа божия, и вознесения на небо. Небесные силы представлены не ветхозаветным Иеговой, который, по библейской легенде, призвал к себе Илью, а деисусным комплексом с Иисусом Христом в центре, хотя это и нарушало библейскую последовательность. Содержание боковых клейм: 1. Ангел передает Илье божье повеление. 2. Отец Ильи рассказывает о чудесах, происходивших при рождении сына. 3. Илья просит бога наказать идолопоклонников Израиля, наслав на них засуху. 4–5. Встреча Ильи с вдовицей. Илья в доме вдовы. 6. Илья воскрешает сына вдовы. 7. Илье сообщают, что его разыскивает царь Ахав. 8. Пророк обличает царя. В этих клеймах Илья показан смелым, динамичным и беспощадным деятелем, наделенным божественным даром воскрешать мертвых, и вместе с тем жестоким по отношению к инаковерующим (просьба о засухе). В нижнем ряду иконы, на уровне глаз прихожан, были помещены иллюстрации к подробно описанному в житии «состязанию жрецов» (см. выше главу III), когда Илья утвердил свое превосходство как жрец Иеговы над сотнями языческих жрецов. В середине этого нижнего ряда, на самом видном месте, помещено самое крупное из клейм, посвященное знаменитому закланию Ильей нескольких сот языческих жрецов; огненное восхождение оттеснено в дальний угол. Такое внимание к теме жестокой расправы с инаковерующими представителями господствующего духовенства следует сопоставить с критикой русскими людьми рубежа XIII–XIV вв. православного духовенства. Правда, стригольников никогда не упрекали в стремлении воевать с церковью, физически уничтожать (или даже смещать) псковских или новгородских священников. Но кровавый библейский пример давал право предъявлять ряд обвинений духовенству. Икона пророка Ильи с житием синхронна как старшей редакции «Власфимии» с ее арсеналом антиклерикальных статей, так и решениям двух церковных соборов, 1274 и 1312 гг., бичевавших недостатки клира сверху, со стороны высших церковных властей.

Рис. 28. Псков. Довмонтов город XIII–XIV вв. Реконструкция Ю.П. Спегальского.
Судьба иконы Ильи сходна с судьбой «Власфимии». Книга была вскоре переделана, смягчена, наиболее опасные резкости из нее были убраны (в 1320-1330-е годы). Икона тоже была переделана еще в древности и самое опасное, самое дерзкое место в ней — массовое убийство языческих священнослужителей — было закрыто новой, нейтральной живописью, поясными изображениями святых. Посадские проповедники предстригольнического толка могли в конце XIII — начале XIV в. использовать «Власфимию» как литературное обоснование, а иконы подобные иконам «Георгий с житием» и «Илья с житием» как мощное средство эмоционального воздействия, своего рода красочное наглядное пособие. Истребление жрецов было развенчанием неприкосновенности сана, а мучения Георгия — примером духовной стойкости перед лицом «страстей». Литература и живопись гармонично дополняют одна другую, выражая разными средствами то, что волновало в то время общественность Пскова и Новгорода.
* * *
Живопись Пскова, где, по свидетельству Иосифа Волоцкого, зародилось движение стригольников, отразила один из важных пунктов обвинения их в том, что покаяние священникам они заменили покаянием земле. Это очень четко сказано Стефаном Пермским: «Еще же и сию ересь прилагаете, стригольницы, — велите земли каятися человеку, а не слышите господа, глаголюща: „Исповедайте грехи своя и молитеся друг за друга, да исцелеете!“» Талантливый проповедник допустил здесь тактическую ошибку; далее он продолжал: «Потому же святии отцы (а не господь! — Б.Р.) уставиша духовных отец — да исповедятся им хрестьяне»[296]. По поводу этого покаяния земле исследователями было высказано много разных мнений. Но мы теперь знаем (см. главу II), что речь идет о покаянии у огромных каменных крестов, врытых в землю под открытым небом. Судя по псалтири Степана (см. предыдущую главу), стригольники очень высоко ставили авторитет богородицы и почитали ее как второй персонаж среди небесных сил после Иисуса Христа. В эпоху Стефана Пермского во Пскове была написана уникальная икона «Собор богоматери», изображающая рождение Христово. Композиция ее и содержание необычны и интересны. Все пространство иконного «ковчега» (основной, несколько углубленной плоскости) снизу доверху занимает огромная зеленая гора, в центре которой находятся: вычурный царский трон Марии (вариант — «знамение») и ясли с младенцем, над которым склоняются головами конь и бык. По левому склону горы вверх на фоне неба поднимаются ангелы (в настоящее время бескрылые, но, может быть, крылья исчезли при какой-нибудь промывке?). По правому склону идут, отирая пот, пастухи. По левой стороне зеленой горы идут пешком волхвы с царскими дарами Иисусу Христу. Они преподносят богородице золотой сосуд в форме потира, ларец с ладаном и мешочек со смолой, предохраняющей от гниения («смирной»). Богатые одежды волхвов резко отличаются от сермяг пастухов. Надпись около волхвов: «ВОЛХВЫ КЛАНЯЮТЬСЯ». По сторонам трона Марии, у его подножья, — две полуобнаженные женские фигуры с распущенными волосами до пояса — «Пустыня» и «Земля». Набедренные повязки подчеркивают их различную сущность: у символа пустыни — красно-оранжевая, близкая к цвету песка, а у символа земли — зеленая, как трава, покрывающая гору. Символические фигуры, небывалые в русской иконописи, снабжены надписями: «Пустыня ясли дает». — Нарисовано корытце. «Земля вертеп [пещеру] принесоша». — Женщина показывает рукой на расселину в горе, закрытую троном. Около фигуры Земли у правого края иконы на зеленой траве лежит овальный венок из красных цветов и колосьев (?)[297]. Третья фигура дает более глубокую символику: изображен безбородый юноша в праздничной одежде (синий кафтан, белые порты и щегольские красные сапожки с отворотами). Юноша с разбега остановился перед какой-то черной дырой в земле, в самом углу иконы, нарисованной так, что краев ее не видно. Нога юноши уже на ближнем краю этой бездны; он удерживается балансируя руками. Многозначительная надпись около юноши: «КОЛѦДА». Архаичный языческий праздник зимнего солнцестояния — двенадцатидневные святки — начинался «колядой» 25 декабря в день христианского рождества. Шумный, общедеревенский или общегородской праздник сопровождался карнавалом ряженых, хождением от дома к дому с пением «колядок», в которых древнее языческое смешивалось с новым христианским[298]. Как и в других случаях, сюжеты живописи хорошо подкрепляются книжностью: в XIV в. создается и воспроизводится много прежних поучений, порицающих язычество, и в частности колядование, дожившее до XX в. Рождение Иисуса в глазах христиан означало начало новой эпохи, новой веры; изгнание в бездну нарядного язычника-«колядника» довершало тот торжественный апофеоз христианства, которому художник посвятил свою необычную, но очень обдуманную композицию. На видном месте у нижнего края иконы художник поместил (как антитезу языческим колядкам) фигуры трех певцов в белых окаймленных синими полосами дьяконских (?) одеяниях с посохами в руках. В центре — длиннобородый старец; по правую руку от него — «средовек», а по левую — безбородый юноша. Одежды певцов перекрещены на груди и плечах узкими красными лентами. Слева от певцов — христианский поэт (как думает Конрад Онаш) — Козьма Маюмский, часто изображаемый, как и Иоанн Дамаскин, в храмовой фресковой росписи. Козьма держит в руках книгу. Художник выделил на своей иконе два больших, заметных цветовых пятна: трон с богородицей и яслями и трех певцов в подчеркнуто белых одеждах. Богородицу окаймляет со всех сторон круг разных персонажей, выражающих радость по поводу рождения Христа. 1. В левом нижнем углу — Пустыня, дарящая ясли. 2. По часовой стрелке вверх — Волхвы — астрологи из дальних стран. Символика даров очевидно такова: драгоценность, слава, вечность. 3. Ангелы, оповещающие мир. 4. Простые пастухи, народ. 5. Земля, приготовившая приют для матери-роженицы. 6. Участник языческих святочных русалий и колядований, обреченный на провал в бездну. 7. Хор христианских певцов (дьяконов?), руководимый Козьмой Маюмским. Конрад Онаш, писавший в 1961 г., был безусловно прав, когда сопоставлял эту икону с движением стригольников[299]. Рассматриваемая икона происходит из Варваринского монастыря во Пскове (в верхних углах даны крохотные изображения Николы и Варвары). Руке этого же мастера принадлежат еще две иконы из того же древнего монастыря. На одной — необычный деисус с дополнением Варвары и Параскевы-Пятницы, а на другой — святая Варвара в короне, Параскева и Ульяна. Все три иконы относятся ко второй половине XIV в., но в двух «варваринских» ничего стригольнического не улавливается. Собор же Богоматери с певчими в белых одеждах прямо ведет нас к стригольнической среде, в которой большую роль играли образованные и посвященные в сан представители низшего духовенства — дьяконы. В 1375 г. среди пяти казненных стригольников было двое дьяконов: сам Карп и Никита.* * *
Тема благочестивых (с позиций самих вольнодумцев) дьяконов заставляет нас обратиться к одному малоизвестному в нашей научной литературе художественному изделию, где трем дьяконам отведено самое почетное центральное место. Это серебряный литой складень-триптих конца XIV или начала XV в. из коллекции Постникова[300].
Рис. 29. Серебряный триптих XIV–XV вв. (из коллекции М. Постникова). В центре под декоративной аркой — трое святых-исповедников: Самон, Гурий и Авив.
Срединная, центрирующая всю композицию триптиха пластина украшена декоративной аркой с красивыми колоннами, увитыми плющом или виноградом; капители — львиные морды. На самой арке литая надпись: «Яко необоримую стhну и источникъ чюдесъ стяжаше». Под изгибом арки, в небесах, — Богородица-знамение, которой и посвящена надпись. Надпись изготовлена с большим количеством лигатур, что сближает ее с тайнописью XIV в.[301] Все пространство арки между узорчатыми колоннами занимают три крупные мужские фигуры в дьяконском облачении. Как и на псковской иконе «Собор богоматери», все трое разного возраста и расположены в том же порядке: слева «средовек», в середине старец, а справа более молодой с дароносицей и кадилом. Перед нами известные святые Гурий, Самон и Авив. Надписи выглядят так:
САМОНА ГУРI АВИВОЭто исповедники и мученики первой четверти IV в., часто изображаемые в мелкой пластике все трое вместе. Замена Ъ на О в имени Авива свидетельствует о Новгороде, где в берестяных грамотах подобная замена часта. Над аркой, выше небесной сферы, — ангелы. Богородица же приближена к земле, к людям земли. Всех троих святых церковь чествует 15 ноября, в начале рождественского поста. Не исключено, что этот новгородский триптих, близкий по времени к псковской иконе, позволяет расшифровать имена трех уже знакомых нам певцов в белых одеяниях; сходство подчеркивается как распределением их по возрасту, так и тем, что празднование их связано с рождеством Христовым. Боковые створки триптиха композиционно построены по одному плану: в середине большой круг (шаровой сегмент) с рельефными изображениями; по углам углубления с рельефами. В целом получается, что по сторонам средней арки-небосвода находятся как бы два огромных креста с рельефами разного содержания. На левой створке даны в круге: Троица рублевского типа и символы четырех евангелистов. Скульптор подошел очень тонко к задаче показа «закона и благодати» — он не стал наполнять единое пространство семью неравнозначными персонажами — ведь если Троица есть изображение триединого Божества, то евангелисты — всего лишь люди, писавшие о божестве. Символы евангелистов скомпонованы так: ходящие по земле — внизу у земли (лев и телец), а летающие по небу (ангел и орел) — в верхних углах створки. Но гравер, делавший надпись по готовой серебряной отливке, ошибся: Ангел — надпись Матфей; следует — Иоанн Орел — надпись Марк; следует — Матфей Лев — надпись Иоанн; следует — Марк Телец — надпись дана верно — Лука Между двумя звериными символами помещен наследник языческого Волоса — святой Власий. Левая створка дала обобщение Ветхого и Нового завета. Правая створка. В центре — «Знамение Богородицы». Этот сюжет пользовался большой популярностью в Новгороде. Еще с 1169 г., когда новгородцы отбивали приступ суздальских войск Андрея Боголюбского, сохранялась легенда о том, что победе новгородцев и их юного князя Романа Мстиславича содействовала икона «Знамение Богородицы», поставленная на «необоримой стене» Великого Новгорода. В XV в., когда очень обострились взаимоотношения Новгорода и Москвы, было создано несколько экземпляров иконы, изображавшей «битву новгородцев с суздальцами» в зиму 1169/70 г. Икона «Знамения» показана на этой большой, почти полутораметровой композиции трижды: вынос иконы из храма, моление пред иконой архиепископа и утверждение иконы на каменной воротной башне новгородского Кремля. Может быть, отсюда и выражение «необоримая стена»? Интересен и подбор святых в угловых клеймах правой створки: Антип, Григорий, Никола, Василий. Трое последних — широко известные и почитаемые отцы церкви. Святой Антипа Пергамский — один из первых мучеников, возглавлявший христианскую общину Пергама в 81–96 гг. Он упомянут еще в Апокалипсисе; голос самого Бога говорил Иоанну Богослову, одобряя твердость и стойкость Антипы, умерщвленного за свою веру слугами сатаны (Библия. Откровение Иоанна Богослова. Гл. 2-13). Обращение к таким ранним мученикам за веру необычно для русской иконографии и литературы. К фигуре этого пергамского епископа обращались итальянские «апостолики», современники ранних стригольников начала XIV в.[302] В самом низу правой створки, между изображениями Николая и Василия Великого, в двух маленьких клеймах изображены два святых со свитками в руках, но без подписей. Это, очевидно, или Кузьма и Демьян, или же Флор и Лавр. На Людогощинском кресте есть обе пары почитаемых святых. Более вероятно, что здесь даны Кузьма и Демьян, так как Флор и Лавр — покровители животных, а на нашем триптихе уже обозначен такой покровитель — Власий-Велес, помещенный между тельцом и львом. О связи культа врачей-безмездников — Козьмы и Дамиана — со стригольничеством интересную заметку написал В.Л. Янин[303]. Упоминавшийся выше медный ларец (дарохранительница) XIV в. весь покрыт гравированными рисунками и многочисленными надписями. Очень явно проступает отмеченная Яниным идея безвозмездности. Мастер Самуил отвел целый раздел изображениям тех святых, которые отказывались от оплаты их медицинских услуг: «По той стороне — то все безмезники» (с. 214). Одна из гравюр на главной стороне ларца изображает эпизод из жития Кузьмы и Демьяна — отказ от платы (рис. 5):
СТЪIН КУѮМА И ДЄМЬѦНЪ, ПРИТАСѦ ОТ МЬѮДΥ.Житие Кузьмы и Демьяна — главное содержание рисунков и надписей ларца. Стригольники, укорявшие православное духовенство, прежде всего, за поставление на мзде и за последующие поборы с прихожан, должны были особенно ценить Кузьму и Демьяна именно за их принцип отказа отплаты. Кузнецы выбрали Кузьму и Демьяна в патроны не по их профессии врачевателей, а лишь по созвучию: Кузьма — «кузнь», «кузнец». В.Л. Янин прав, говоря, что «не только своей идеей, но и временем изготовления ларец тесно связывается с ересью стригольников» (с. 214). Вернемся к серебряному триптиху. Как и следует для эпохи расцвета и широкого интереса к книжности всех времен, персонажи на всех трех створках щедро снабжены свитками или книгами. Всего на складне изображены 12 объектов грамотности: три свитка и девять книг. Книги есть не только в руках святых и ангела, но и в лапах животных и птиц; орел, лев и бык держат книги своими лапами и ногами. Тонкость работы и ценность материала (триптих отлит из серебра) говорят не о городских низах, а о каком-то верхнем слое новгородского посада. Общая идея всех трех створок триптиха такова: первая (левая) створка в своем среднике дает Ветхий завет, троицу (сходную с рублевской) за трапезой у Авраама, но без хозяина, без заколаемого тельца — только три ангела с жезлами. То, что у Андрея Рублева только угадывается, — что средний ангел не Саваоф, а Христос, здесь документировано надписью у среднего ангела: IС ХС. Получается, что не сын сидит «одесную отца», а что сын выдвинут на первое, главное место, что отец оказался одесную сына; «закон» уступил место «благодати». И это не единичный пример для той эпохи. Тогда под словами «бог», «господь» (без специальных уточнений) нередко подразумевался не ветхозаветный Саваоф, а евангельский Иисус Христос. Дмитрий Донской, отправляясь в 1380 г. в поход, произносит следующую молитву:
Господи всемощный и всесильный и крепкий в бранех, яко въистинну царь еси славы, створивый небо и землю! Помилуй нас ради матери молитв… Ты бо еси бог нашь![304]В уста великого князя церковник, писавший летопись, вкладывает слова, которые могут быть при желании истолкованы, как антитринитаризм, отрицание троицы — сын, родившийся через 5508 лет после сотворения неба и земли, оказывается уже тогда творил мир… А какова же роль библейского, ветхозаветного бога? В XIV в. очень часто русские люди, не причастные ни к какой ереси, отбирали из троицы только одного сына (Иисуса) и присоединяли к нему богородицу, «царицу небесную». Такое же переосмысление происходило и в бытовой сфере у западных католиков. В приведенной выше молитве Дмитрия Донского четко обоснован и культ богородицы:
О многоименитая госпоже! Царице небесных чинов, присно вселеныя и всего человечьскаго живота кормителнице… избави нас от сыроядець сихМать бога расценивалась как трансформация архаичной богини плодородия. Оппоненты стригольников упрекали их в покаянии земле и в том, что «на небо взирающе беху, тамо отца собе наричают» (Фотий). Такое разделение лишало бога его повсеместности, оставляя ему только небо, а землю отдавая под покровительство матери Иисуса, дочери простых людей земли — Иоакима и Анны. Однако здесь, на триптихе, бог (в троице) помещен в центре, объединяя небо и землю. Средневековый культ богородицы-мадонны, заступницы за грешников, предстательницы перед своим сыном на небе за всех людей, очень усилился. Примерно половина всех храмов строилась на Руси во имя божьей матери и ее праздников: Рождество богородицы, Введение во храм, Благовещение, Успение, Покров. Возник культ отдельных икон богородицы (Пирогощая, Свенская, Донская, а впоследствии Казанская, Иверская и около двух сотен других).(с. 202)

Рис. 30. Икона «Вознесение». Иисус Христос уже вознесся на небо, а богородица стоит на земле среди апостолов, взирающих на небо.
Рассмотренная выше Псалтирь Степана («Фроловская») очень полно отражает воззрения людей Новгородской епархии на богородицу как на неизменную помощницу грешников в процессе покаяния. Во всех 19 «покаянных гласах» Степана есть, как мы видели, срединные разделы, обязательно выделенные красочными инициалами, с молитвенным обращением к богородице, которая как бы заменяла посредника-человека, представителя духовенства, принимающего исповедь. Постниковский триптих в целом полностью созвучен стригольническому учению, но отражает его в более приемлемом для христиан виде, чем это представлено в посланиях епископа Стефана и митрополита Фотия. Центральная створка с тремя святыми исповедниками и охраняющей их богородицей, с надписью, выражающей надежду на защиту ее «необоримой стены», говорит о тревожности обстановки, о поиске небесного покровительства. Упомянутый в Апокалипсисе первомученик Антипа на правой створке еще одно указание на грозящую опасность. По всей вероятности, триптих относится к тому времени, когда усилились «страсти», засвидетельствованные «Словом Ефрема» (около 1374 г.), казнью 1375 г. и цитатами, отысканными Фотием в правилах Антиохийского собора: согрешающих и непокорившихся «властелем повелеваем предати смерти» (послание 1416 г.).
* * *
Вся сумма изобразительного искусства русского средневековья ожидает своего исторического анализа, основанного на всех достижениях искусствоведов. Иконопись, фресковая роспись храмов, скульптура и мелкая пластика, полихромное шитье — все это материал для построения истории общественной мысли, отражение споров, противоборства, поиска. Такой анализ еще только начат, но он в сочетании с анализом литературы, апокрифов, фольклора, богословских сочиненийобещает многое. Новгородско-псковское искусство XIV — начала XV в. представлено, пожалуй, полнее, чем искусство других земель, и позволяет уловить динамику общественной мысли городского посада, успешно развивающихся городских центров. Общественная мысль не была, разумеется, единообразной; мы явно ощущаем боярскую, репрезентативную направленность одной части, но видим и общепосадское движение, устремленное к гуманистическим идеалам, к духовности, к познанию внутреннего мира человека. Сошлюсь на псковскую икону архангела Гавриила конца XIV в.[305]
Рис. 31. Архангел Гавриил. Псков, конец XIV в.
Перед зрителем не грозный представитель небесного воинства, а грустный и женственный молодой человек, у которого все атрибуты его святости сведены к минимуму (крылья обрезаны краями иконы и воспринимаются скорее как горы далекого заднего плана). Он задумчив и вместе с тем внимателен; в прекрасном лице нет ничего иконописного. Это Человек, как бы выслушивающий другого или ждущий ответа… Деисусный чин, из которого происходит эта небольшая икона, должен был производить сильное впечатление и воздействовать на прихожан своей глубокой человечностью, обращением к хорошему, тонкому внутреннему миру собравшихся. Человеческое, живое начало все чаше встречается в живописи. Напомню икону «Рождество Богоматери» (Тверь?) середины XIV в., которая создает у зрителя тревожное настроение, вполне созвучное обстоятельствам изображаемого события — только что завершились роды пожилой, никогда не имевшей детей женщины (Анны); у ложа роженицы в центре всей композиции изображена женщина, протягивающая Анне сосуд. Лицо ее (тоже не в иконописной манере) полно жалости и доброжелательной тревоги — как-то все обойдется?[306] На сходные чувства рассчитывал и мастер, писавший икону Бориса и Глеба первой половины XIV в., происходящую из Зверина монастыря под Новгородом[307]. Первые русские мученики, павшие жертвой в усобицах братьев Владимировичей, изображались и пешими и конными, но всегда во всем княжеском уборе. Общественное звучание разных типов борисоглебских икон связано, очевидно, с многочисленными усобицами и наездами иноплеменных (Борис оборонял Русь от печенегов). Церковь в Зверинском монастыре построил в 1335 г. владыка Василий, и в том же году новгородский летописец намеком сказал о готовившейся в Новгороде междоусобной битве: «Не дал бог кровопролитиа промежи братьею: наважением диявольскым сташа си сторона, и она сторона доспевше в оружьи противу себе оба-пол [по обе стороны] Волхова, нъ бог ублюде и снидошася в любовь»[308].

Рис. 32. Святой Глеб. Икона XIV в. из Зверина монастыря под Новгородом.
Князь Глеб, варварски убитый по приказу своего брата Святополка Окаянного, изображен на иконе красивым, одухотворенным юношей, смело и доверчиво смотрящим прямо перед собой. Лицо девичье-нежное, большие светлые, ясные глаза внимательны и убежденно спокойны… Знать, что этот чистый красавец, не повинный ни в каких сварах и заговорах, зарезан поварским ножом «акы агня непорочьно», было тяжело. А русские люди средневековья это прекрасно знали. Расчет художника состоял в том, чтобы показать воочию возвышенный образ тех, кто погибал от чужого честолюбия, чтобы прихожанин задал себе вопрос: почему гибнут именно такие люди? Исследователи установили, что зверинская икона была не одинока — известен синхронный ей дубликат из Савво-Вишерского монастыря близ Новгорода[309]. Отход от стандарта приветствовался, современники потребовали повторения. Количество примеров может быть во много раз увеличено, и все они будут свидетельствовать о внимании новых людей к человеческим чувствам, переживаниям, о стремлении художников не только отразить тот или иной религиозный сюжет, но и апеллировать к лучшим чувствам своих сограждан. Это говорит не о близости этих художников к стригольническому движению, а о том, что стригольники были порождением той эпохи, когда человеческое начало, гуманизм становился широким движением. В предстоящем историкам анализе социологии средневекового искусства как неотъемлемой части развития общественной мысли следует воздержаться от излишней прямолинейности, проявившейся, например, в истолковании целой серии новгородских икон, посвященных Флору и Лавру и другим христианским покровителям коней и скота.

Рис. 33. Новгородская икона XV в. с изображением «добрых пастырей» и их покровителей Флора и Лавра.
Эти довольно многочисленные в Новгороде иконы XIV–XV вв. одно время исследователи связывали с развитием коневодства, хотя Новгородская земля вовсе не являлась центром этой отрасли хозяйства. Позднее В.Н. Лазарев дал такое толкование: «Флор и Лавр выступают на иконах не самостоятельными носителями силы небесной, а как милосердные ходатаи о нуждах земледельца, потерявшего или боящегося потерять свое главное богатство — лошадь»[310]. Икона XIV в., по поводу которой сказаны эти слова, изображает покровителей не только коней, но и рогатого скота — Власия и Модеста, а в центре ее целый ярус отведен не покровителям, а самим пастухам, «добрым пастырям» с многозначительными именами. Спевсипп («ускоряющий бег коня»), Елевсипп («погоняющий коня») и Мелевсипп («ухаживающий за конем»). Венчает разные виды таких пастушеских композиций архангел Михаил, вручающий коней братьям-каменотесам (по житию) Флору и Лавру. Мне кажется, что эти городские иконы, написанные хорошими мастерами, не связаны ни с новгородской деревней, ни с потерявшим лошадь земледельцем. Символика здесь иная: «архистратиг и небесных сил воевода» Михаил вручает представителям народа коней, которых пасут потом хорошие конюхи, умеющие воспитывать коней. Нет ли здесь прямого намека на полемическую литературу о добрых пастырях, противопоставляемых «лихим пастухам»? Время было таково, что эта тема стала одной из самых актуальных. Несчастья и невзгоды, войны и эпидемии, городские драки одного берега на другой — все расценивалось как проявление божьего гнева, все требовало покаяния в грехах, а проблема покаяния сразу воскрешала давние споры о правомочности «лихих пастухов» быть посредниками и давать отпущение грехов. В честь добрых пастырей строились церкви Флора и Лавра (одна из них укрыла стригольнический крест Якова Федосова), по церкви назывались улицы («Фларевская»), в их честь писались слова-поучения, и с ними неразрывно связаны иконы, прославляющие хороших пастырей, находящихся под покровительством самого архангела Михаила. Все разделы средневекового изобразительного искусства от сложнейших многоярусных фресковых композиций в храмах до книжной орнаментики насыщены интересной информацией о развитии общественной жизни, ее формах и динамике. Возьмем такой прикладной вид искусства, как оформление книг. В связи со все повышавшимся интересом к книжности, содержанию книжного текста книга как вещь все больше утрачивает свою священную неприкосновенность; свободные от текста поля используются теперь писцами для самых различных личных пометок, не имеющих ничего общего с копируемым текстом. Приписки XIV в. делались в очень широком диапазоне — от цитат из «Слова о полку Игореве» (пскович Диомид в «Шестодневе», 1307 г.) до обсуждения качества пера («п[и]сал есмь павьим пером»; «…лихое перо; невольно им писати рабу многогрешному Леониду Офонасовичю»). Иногда писец делится своими сиюминутными переживаниями; «Спать ми ся хощеть». «О господи, помози, о господи, посмеши!» (писец ошибся, нужно было: «поспеши», «помоги», и тут же объясняет свою ошибку — «Дремота неприменьная и в сем рядке помешахся»), «Како-ли не объестися… поставять кисель с молоком». Приписки фиксируют хозяйственные новинки писца: «Родиша свиния порошата [псковизм] на память Варвары» («Шестоднев», 1374 г.). Это запись не профессионала писца, а священника Саввы, пописывавшего понемногу. Он как бы вел дневник на полях книги, повествующей о сотворении мира, пишучи интимные (иногда нецензурные) подробности[311]. Дьяк Кузьма Попович (1313 г.) обрисовывает на полях рукописи свое бедственное положение:

Рис. 34. Заглавная буква «М» в новгородской псалтыри XIV в. (Двое рыбаков переругиваются: «потяни корвин сын!»; «сам еси таков» отвечает младший. Образец «вольного стиля»).
Левый рыбак одет побогаче (узорчатый ворот, красные сапожки), в руке у него кормовое весло; он недоволен работой помощника, которому командует:
ПОТѦНИ, КОРВИН С[Ы]НЪ!«Корва» — «коурва» — «распутная женщина»; курвин сын — «БЛУДЬНИЦИНЪ» сын[313]. Младший (правый), одетый попроще, дерзко огрызается:
САМЪ ЕСИ ТАКОВЪТекст псалтири, к которому дан этот инициал, таков:
Многажъды брашася [боролись] съ мною от уности моея. Да речеть ныне Израиль: множицею брашася съ мною от уности моея, ибо не премогоша мене…[314]Быть может, какой-то личный конфликт писца, в котором он когда-то оказался победителем, сказав свое последнее слово («сам еси таков!»), натолкнул его на выбор такого экспрессивного, но необычного сюжета для украшения 128-го псалма? Для нашей темы представляет интерес то, что оформитель священной книги не постеснялся в пояснениях к рисунку тянущих сеть рыбаков употребить полуцензурное слово[315]. Вольность, с которой переписчики книг обращались с каноническими текстами, окружая их своими записями о житейских мелочах своего дома и улицы, еще не свидетельствует о стригольнических настроениях писцов. Ведь стригольников называли «книжниками», они, казалось, должны бы с большей строгостью относиться к внешнему виду почитаемых ими книг. Но строгость, уважительность, внимательность относились, очевидно, лишь к существу, к содержанию, к полемической новизне, а не к внешнему облику рукописей. Вольность — свидетельство рождения новой психологии, новых взглядов, известной секуляризации мысли, утраты благоговейного отношения к вещам церковного обихода. Приведенные выше отдельные примеры из разных видов городского искусства убеждают нас в том, что стригольнические идеи четко и ярко проявлялись и в живописи, и в прикладном искусстве, но они не вычленялись в обособленную группу. Произведения стригольнического духа выполнялись первоклассными мастерами, вероятно, дорого стоили и по своему стилю и общему виду не отклонялись от общего уровня новгородско-псковского искусства. Возможно, что и сами стригольники, проповедники на площадях и перекрестках, не отделяли себя от горожан разных рангов, что их идеи были понятны и близки и посаду, и части духовенства, а может быть, и части боярско-купеческих слоев. В одной и той же церкви находились иконы с признаками стригольнического мировоззрения и иконы совершенно нейтральные, сходные с десятками других живописных произведений Новгорода и Пскова. Примером такой «вкрапленности» стригольнических идей может служить деревянная Варваринская церковь во Пскове, из которой происходит упомянутая выше икона «Собор богоматери». Из этой же церкви (из ее обновленного каменного здания) происходят еще две иконы (деисус, три великомученицы), по поводу которых исследователи пишут: «Изучение техники и стиля этих памятников приводит нас к несомненному выводу о принадлежности их кисти одного мастера… владевшего в совершенстве живописными приемами того времени» (второй половины XIV в.)[316]. Что касается искусства, как источника сведений о развитии общественной мысли, то здесь необходимо ждать новых обобщающих исследований, которые, безусловно, раскроют перед нами не только богословскую, но и философско-социологическую картину динамики общественного развития. Существующий пробел в историческом синтезе требует создания комплексных исследований, сливающих воедино тщательной формальный искусствоведческий анализ (стиль, датировка, композиция, колористическая гамма, восприятие иноземных образцов и т. п.) с историческим осмыслением сюжетов на фоне реальных событий и вновь рождающихся идей и общественных движений.
Глава шестая Город Церковь Стригольники
Идеи, унаследованные Карпом-стригольником и его сторонниками от дедов и прадедов конца XIII — начала XIV в., находили широкий отклик в разных слоях городского населения Новгорода и Пскова. Но ни один из враждебных стригольникам исторических источников не говорит о какой бы то ни было недоброжелательности горожан по отношению к стригольникам. Поучения против стригольников адресованы всем псковичам, всем новгородцам (включая иногда даже самого архиепископа). Церковь оборонялась против очень широкого фронта почти всех слоев городского посада. При владыке Василии (1330–1352 гг.) велась литературная полемика по разным вопросам. Тот острый антиклерикальный материал, который был сосредоточен в протографе Трифоновского стригольнического сборника 1380-х годов, при Василии Калике был в известной мере обезврежен изъятием из него наиболее опасных статей. Более решительных мер владыка Василий не предпринимал. Иное дело сменивший Василия Моисей; он уже правил епархией раньше, в 1326–1330 гг., но ушел «по своей воле» и принял схиму[317]. Как схимник, он не имел права возвращаться на административный пост: «Аще будеть святитель в болести, а пострижется в скиму, а потом здрав будеть — достоить ли ему епископом быти? [Ответ:] Не достоить, но быти ему, яко и всякому мниху»[318]. Пробыв два десятка лет схимником, Моисей в 1353 г. снова возглавил кафедру и сразу же начал борьбу с теми, кто считал несправедливым поставление священников «на мзде», за взятку. И обратился Моисей не к митрополиту Руси, а прямо к царьградскому патриарху Филофею, от которого через год были получены грамоты и почетная награда Моисею — «крещатые ризы». Грамоты с золотыми печатями были посвящены тому вопросу, с которого стригольники начинали свои нападки на духовенство: «…о проторех на поставлениях [в священники] и о церковных пошлинах святительских [в пользу епископа] и иных различный указаниа»[319]. Опираясь на патриаршие грамоты, Моисей, очевидно, развил настолько бурную деятельность (она упомянута в его житии) против тех, кто посягал на «святительские» (епископские) доходы, что в 1359 г. ему вторично пришлось покинуть кафедру «по своей воле». В 1382 г., через 7 лет после казни Карпа и его соратников, константинопольский патриархат снова возвращается к главному аргументу стригольников в их оппозиции к духовенству, поставленному на мзде. Активная роль принадлежит на этот раз энергичному и образованному архиепископу Дионисию Суздальскому — «священных канонов известа хранителю».
Рис. 35. Потир (чаша для причастия) новгородского архиепископа Моисея, 1329 г.
Патриарх Нил передал Дионисию свою грамоту и поручил ему устно разъяснить от его, патриарха, имени псковичам и новгородцам (в том числе и архиепископу новгородскому Алексею) сущность святительских поборов[320]. Перед Дионисием была поставлена задача: да «поучит и покажет и съвокупит вы [псковичей] вси сборней и апостольстей церкви». Завершается грамота патриарха Нила выражением надежды на воссоединение: «Пишите к нам… и возвеселимся о възвращении тех [стригольников] и о покаянии». Патриарх признает, что некоторые епископы действительно поставляют священников за взятки:
И аще убо неции епископи суть по мзьде поставлениа [священников] сотворяюще, но не подобает сего ради отсещися от церкви и мнети вся [все духовенство] — еретики.Кроме того, предлагается различать взятку и расходы епископской кафедры на процедуру посвящения в сан (расходы на свечи, ладан, вино и др.):
Ино бе — еже взимати мзды, поставления деля, Ино же — еже о нужных потребах исторы [расходы].«Самоотлучившимся» стригольникам предлагается признать свои заблуждения и воссоединиться со всей православной церковью. Псковичам нельзя присоединяться к соседним с ними католикам (рыцарский орден):
«Коей бо церкви прилезите?» В латинской вере тьма ересей и тоже «по мъзде ставление тамо и сия бывает: поистинне отпродает церкви папа [папа римский торгует приходами]. Престаните от раздоров и разлучений! И совъкупльшеся единоумъствующе прочему церковъному чину, съгласно славу да высылаете».В посланиях патриарха Нила (они известны в двух вариантах, один ошибочно приписан патриарху Антонию) отношение к стригольникам очень миролюбивое: их упрекают лишь в одном заблуждении и выражают надежду на раскаяние и воссоединение, когда стригольники «совокупльшеся с братиею своею в едином съчетании [будут] славити бога, его же благодать и милость со всеми вами буди!». Так благодушно и дружелюбно писали во Псков из далекой Византии, где, как и у католиков, была «тьма ересей», где действовали богомилы, антитринитарии, где «паламиты» спорили с «варламитами»… По-другому отнесся к стригольничеству представитель русского епископата, против которого были направлены все стрелы вольнодумного красноречия. Припомним упоминавшийся выше важнейший и наиболее обстоятельный источник — «Списание» Стефана Пермского 1386 г. (точнее, в великий пост 1387 г.). Написанное епископом Стефаном поучение является, прежде всего, свидетельством популярности «стригольниковых учеников» и успеха их проповедей. Стефан не столько нападает на них, сколько защищается от их язвительных нападок на пороки духовенства. Эта задача была отягощена для него тем, что русская церковь в лице митрополита и епископата сама видела неблагоустройство приходского духовенства, и в решениях церковных соборов 1274 и 1312 гг. с достаточной строгостью указывала на его бытовые недостатки и его бедноватую образованность.

Рис. 36. Ктиторские портреты архиепископов Моисея (слева, с моделью храма в руках) и Алексея. Фреска Успенской церкви в Волотове под Новгородом. Моисей был строителем церкви в 1352 г., а при Алексее (конец 1380-х гг.) церковь была полностью расписана.
Рассмотрим более внимательно этот основной обвинительный акт. Народ слушал стригольников, хотя они, по словам Стефана, «ни священия имущи, ни учительского сана. Сами си поставляют учители народа от тщеславия и высокоумия и слушающая иже их сводить в погибель»[321]. Чем же привлекали проповеди стригольников?
Изучисте, словеса книжная, яже суть сладка слышати хрестьяном и поставистеся учители народом…Стригольники (в полном согласии с постановлениями церковных властей) откровенно осуждали приходское духовенство.(с. 239)
Вы, стригольницы, — пишет Стефан, — тако глаголете: «Сии учители — пьяницы суть, ядят и пьют с пьяницами и взимают от них злато и сребро и порты от живых и от мертвых»Стригольники привлекали горожан тем, что устраивали всенародные проповеди на площадях и перекрестках с чтением отобранных ими мест из Евангелия. Стефан не очень убедительно возражал им:(с. 240)
…молитися Христос в тайне повеле, всякого тщеславиа и высокоумиа убежати, не молитися на распутиях и на ширинах градных, ни выситися словесы книжнымиПермский епископ здесь покривил душой, так как если признавать только тайную, безмолвную индивидуальную молитву, то пришлось бы отказаться от такой формы, как богослужение в храме. Он был, очевидно, напуган популярностью стригольнических проповедников, обращавшихся к широким массам городского посада, успехом этих проповедников, который питал их тщеславие и высокоумие и позволял им «выситися словесы книжными», оттесняя тем самым законный церковный клир от учительства:(с. 240)
Вы же, стригольницы, глаголете, оже Павел [апостол] и простому человеку повеле учитиСтригольники обладали чертой, которая выгодно отличала их от приходского духовенства, жившего за счет исполнения треб (крестины, свадьбы, похороны, молебны), вкладов «на помин души» и участия в городских и деревенских полуязыческих «братчинах», не обходившихся без «череву работных попов». Они, стригольники, проповедовали нестяжательство, были или, по крайней мере, объявляли себя «безмездниками»:(с. 240)
Вы же, стригольницы, уловляете хрестьян тем словом, еже Христос рече ко апостолом: «Не имейте влагалищъ [кошельков], ни меди при поясех ваших»Но, конечно, самой опасной для церкви чертой стригольничества был призыв к отказу от исповеди исключительно представителям духовенства, имеющим священнический сан:(с. 241)
Сю бо злую сеть дьявол положил Карпом стригольником [расстригой], что не велел исповедатися к попом, дабы от попов честь ерейскую отнялОбращаясь непосредственно к людям Новгородской епархии, среди которых, как мы узнаем из слов самого Стефана, было много единомышленников стригольников, «сладко слушающих» их проповедников, Стефан не мог умолчать о том, как сами новгородцы и псковичи воспринимали этих возмутителей церковного спокойствия: «О стригольницех же неции безумнии глаголють: „Сии не грабят и имения ни збирают“». Сравнив их с фарисеями, Стефан продолжает:(с. 241)
Таковыи же беша еретицы: постницы, молебницы, книжницы, лицемерницы, пред людми чисти творящеся. Аще бы не чисто житье их видели люди, то кто бе веровал ереси их? Или бы не от книжнаго писания говорили — никто бы не послушал ихНазвав сторонников Карпа «безумными», епископ-оппонент незаметно для самого себя присоединился к их числу, удостоверив, что стригольники и на самом деле являлись образованными нестяжателями, жившими «чистым житием», обладавшими ораторским талантом и привлекавшими широкие круги горожан к своим проповедям. Нет ни одного исторического свидетельства о каком бы то ни было возмущении или просто недовольстве граждан Новгорода и Пскова существованием рядом с ними стригольников. Только духовенство, на которое был обращен весь обличительный пафос новых проповедников, было, естественно, настроено к ним враждебно, что вполне объяснимо не только прямыми (и часто, как утверждают сами церковные власти, справедливыми) нападками, но и стремлением стригольников оттеснить узаконенное духовенство, заменить его (в меру достижимого) образованными мирянами, «простецами». Впрочем, даже высшая власть епархии — владыка — нередко мирволила «еретикам», что особенно проявилось (как увидим ниже) во время тридцатилетнего владычества архиепископа Алексея. В реальном городском быту средневековья участие простых горожан в церковной жизни и даже в богослужении хорошо известно нам. Грамотность была основным условием привлечения мирян к церковной службе, а широкая грамотность новгородцев подтверждена большим количеством берестяных грамот, написанных горожанами самого разного социального положения. При изучении истории духовенства историки, к сожалению, не обратили внимания на интереснейшее наблюдение Е.Е. Голубинского о множестве домовых церквей в боярских, дворянских и купеческих домах как в средневековье, так и XVIII–XIX вв. «Необходимо представлять дело так, — пишет исследователь, — что в Киеве и потом во Владимире… были целые тысячи домовых священников, что они (города. — Б.Р.) были переполнены и, так сказать, кишели ими». При этом дается ссылка на грамоту константинопольского патриарха Германа 1228 г.:(с. 242)
В Русской стране приобретают куплею рабов, даже и пленников, и отдают их учиться священной грамоте, а потом, когда придут в возраст, возводят их по чину к священному сану, приводя их к епископам, но не освобождают их наперед от рабства[322].Эта предусмотрительная практика приобретения собственного священника-раба, послушного хозяину духовника-исповедника началась, как видим, еще в домонгольское время и продолжалась несколько веков. Внутри духовенства была своя сложная стратиграфия и ее нижние ярусы вплотную соприкасались с низами городского посада (чтецы, певцы, дьячки, пономари) и вотчины (священники из холопов). Поэтому стремление стригольников оттеснить, а иной раз и заменить некнижного попа начитанным и красноречивым мирянином (вспомним «Предъсловие честнаго покаяния») было не только понятно тогдашним прихожанам, но и желательно — ведь речь шла о вечности, о пребывании души не в кромешном аду, а в «царствии небесном», в раю. Народу нужны были добрые пастыри, которые могли помочь каждому человеку попасть в небесное стадо Христово. Большой интерес представляет недостаточно изученное церковно-юридическое произведение, связываемое с именем киевского митрополита при братьях Ярославичах грека Георгия (1062–1073 гг.), названное так: «Заповеди святых отец ко исповедающимся сыном и дщерем». О том, что какая-то часть этих заповедей принадлежит митрополиту Георгию, свидетельствует Кирик-новгородец в XII в., но «Заповеди» прожили, очевидно, долгую историческую жизнь и пополнялись, как считает Е.Е. Голубинский, в разные времена[323]. Среди тех разделов, которые, судя по языку, не могли относиться к XI в., а к XIV в. могли, есть очень важные статьи об «отцах», о «покаяльниках» и о «простецах»:
§ 16. «Аще отець [духовный] детей своих духовных не переказав отъидет далече — достоит им [прихожанам] инаго отца искати».
§ 18. «Аще отецъ прикажеть умирая, идеже [то, что] не любо детем, да сами найдут отца себе, идеже им будет любо; покаяние бо волное».
§ 27. «Аще кто покаяльного начнет имети люта отца или невежю, да отпросится от него и инде [в другом месте] покается…».Этот раздел, сближаемый с «Вопрошанием» Кирика, вероятно, действительно восходит к уставу митрополита Георгия XI в. Здесь процедура исповеди рассмотрена с позиций прихожан, которые вольны пренебречь невежественным или излишне придирчивым духовником и каждый из них по своему усмотрению может «искати себе отца». Интересны статьи (вероятно, более поздние), в которых речь идет о пополнении младшей прослойки клира простыми мирскими людьми. Так статью 23, говорящую о дьяках уже посвященных, с простриженной тонзурой на темени («гуменцем»), Е.Е. Голубинский верно расшифровывает как доказательство того, что «были при церквах дьяки без простриженных верхов… т. е. миряне дьячествовавшие»[324]. В более поздних разделах «Заповеди» есть ряд интересных, но, к сожалению, отрывочных данных о кандидатах на низшие должности. Одни из них — «покаяльники». Это не исповедники, принимающие исповедь, а дьяки, стремящиеся попасть в дьяконы или священники и совершившие предварительное покаяние, по которому церковные власти могут судить о степени благонравия претендента. Они, очевидно, какой-то срок находились под наблюдением своего духовного отца. «Покаяльник» — это уже взрослый человек, женатый (иногда даже вторично); за его нравственностью и за репутацией его жены следит церковь, дабы не «принять осужения» (§ 164). Рядом с покаяльниками и как бы в одном разряде с ними упоминаются «простецы». Е.Е. Голубинский в своей публикации «Заповедей» обошел молчанием эту категорию, вероятно, считая термин «простец» обозначением любого мирянина и не поясняя его. Однако, во-первых, в этом документе «простецы» обрисованы как люди, поступки которых связаны с церковью и регламентируются ею отлично от дел обычных прихожан. Во-вторых, нужно отметить, что мирянин обозначен здесь термином «простолюдин» (§ 151), а не «простец». Рассмотрим сведения о «простецах». Простец, участвовавший в обряде погребения и певший заупокойные молитвы, должен принять причастие («комкание», § 33). Простец, как и покаяльник, имеет право венчаться вторично (§ 45). Простецов и покаяльников хоронят одинаково (§ 91). «Аще простець жену свою изгнав и ину поимет или от иного пущену [разводку], да отвержен будет!» (§ 152). Если это обычный прихожанин, то от чего он будет отвержен? «Аще поп, вошед в церковь, ти воротится воспять — не достоит служити. А простець не имать мзды литургии тоя» (§ 112). Близость к покаяльникам (своего рода «кандидатам на духовные должности») и необычная строгость в отношении семейного положения простецов определяют их как мирян, участвующих и в требах (похороны), и в богослужении в храме, за которое они получали оплату (мзду). На этом уровне церковный клир вплотную соприкасался с городским посадом, вербуя из него и певчих, которые, судя по одинаковости их юрисдикции, были близки к покаяльникам и могли, по всей вероятности, продвигаться и далее по иерархической лестнице своего прихода вплоть до сана священника. Стремление новгородских и псковских стригольников противопоставить плохим, необразованным священникам-«невежам» хороших мирян, подготовленных не только к ремесленному выполнению бытовых треб, но и к проповедям, к «предисловиям»-вступлениям перед общим по сроку (но не по коллективному исполнению) покаянием, не противоречило идеалам церковных властей, обнародуемым на общерусских соборах. Е.Е. Голубинский подробно рассмотрел тему предоставления права принятия исповеди только лучшей части духовенства: «У нас в России в период домонгольский и долгое время после… не были духовниками все священники, а только некоторые по избранию и особому назначению»[325]. Другой стригольнический тезис — «исповедайтеся господеви!» подтвержден текстом Петра Хартофилакса XI в.: «Если не найду человека, к которому бы имел доверие исповедаться, что должен делать? — Исповедайся наедине богу, осуждая себя…»[326] У оппонентов Карпа и его последователей было довольно трудное положение — каждое их опровержение «ереси», каждый упрек стригольникам мог быть отведен ссылкой или на всю православную литературу, или на решения русских церковных властей недавнего времени. Полемика со стригольниками была просто самозащитой русского духовного сословия, а не обличением какой-либо еретической богословской концепции. Разобрав по пунктам все обвинения против стригольников, которые Стефан Пермский изложил в своем «Списании», рассмотрим те разделы православной религиозной мысли и жизни, по отношению к которым у ученого епископа и у стригольников не было расхождений; в чем Стефан не обвинял новгородско-псковских последователей Карпа? 1. Нет обвинений в отрицании ветхозаветной и евангельской книжности. Наоборот, стригольники названы «книжниками», знающими Евангелие. 2. Нет обвинений в сомнениях по поводу более поздней христианской литературы вообще. 3. Ничего не сказано Стефаном о склонности стригольников к отрицанию троицы (антитринитаризму), хотя в эту эпоху антитринитаризм в Византии возрождался. 4. Не отрицается соблюдение стригольниками всей православной обрядности (молитвы, посты). Наоборот, Стефан похвалил их за то, что они «молебницы и постницы», но укорил лишь тем, что все это делалось напоказ. 5. В «Списании» нет следов отрицания стригольниками богослужения, церкви как храма, как места моления и церкви, как общины. 6. Нет упреков в отрицании загробного мира и предстоящего воскресения мертвых. Речь идет у Стефана только о деталях погребальной обрядности (заупокойная служба, «приноси» духовенству), связанных с личной судьбой расстриги Карпа. 7. Стригольников не упрекают в иконоборстве или непочтительном отношении к священным изображениям. 8. Нет обвинения и в принципиальном отрицании христианского таинства причащения; сказано с упреком только то, что исповедь, предшествующую причастию, стригольники не хотят давать священникам, мотивируя это покупкой сана иереями («симонией») и взиманием платы за требы. 9. Стефан не подвергал сомнению высокий моральный облик стригольников и их проповеднический талант, обеспечивший им популярность в городах, но опять-таки объяснял это тщеславием. 10. Возмущаясь призывом стригольников к бойкоту «лихих пастырей», «лживых учителей» (осуждаемых и самими церковными властями), Стефан Пермский не допустил ни одного намека на враждебные действия новых городских проповедников против тех или иных представителей духовенства. В результате остается один-единственный тезис стригольнического учения, который и был объектом нападок Стефана: недобросовестность части духовенства («невежи», «пьяницы», поставленные на мзде) не позволяет честным христианам исповедоваться священникам; к исповедальной процедуре (речь идет, очевидно, о предварительных проповедях) следует допускать и подготовленных к этому мирян. С точки зрения духовенства, (до епископата, получавшего мзду, включительно) стригольнические идеи были враждебными и угрожающими, но в канонической христианской литературе и в поздних апокрифических сочинениях, приписанных отцам церкви, можно было найти много обоснований этому бюргерскому вольномыслию.
* * *
Через тридцать лет после обращения Стефана Пермского к новгородцам и псковичам появляется в 1416–1427 гг. целая серия грамот московского митрополита Фотия, адресованных уже только одному Пскову, родине вождя стригольничества Карпа[327]. Главное обвинение остается прежним: «не подобает отлучится кому от причащения»; нельзя обвинять духовенство в симонии, в получении сана за взятку, так как императором Исааком Комнином давно узаконен тариф священнических пошлин (грамота 1416 г.). Вторая грамота 1422/25 гг. является пространным ответом на многочисленные письменные вопросы псковского духовенства, напоминающим ответы Нифонта на «вопрошание Кириково». В конце грамоты Фотий просит псковичей:…прилежно зрите, како направити их (развращенных от врага-дьявола стригольников) в богоразумие и в познание истинны.От самого псковского духовенства никаких вопросов по поводу стригольников к митрополиту не поступало. В третьей грамоте (22 июня 1427 г.) Фотий пишет о каких-то еретиках, которые «чин великаго божиа священства, иночества яко ни во чтоже полагающе, но и умаляюще». Эти еретики, следуя библейским саддукеям, «яко и въскресению (перед Страшным Судом) не надеюще быти мняху» (с. 251). Митрополит узнал какие-то слухи о появлении во Пскове «некоторых новъсмущенных», которые еще не порвали с церковью и делают еще какие-то «приношения», но искажают сущность евангельского учения. Фотий напоминает, что он ранее «пространно писах» о стригольниках, а теперь пишет об этих новосмущенных «ради их познания и обращениа» (с. 253). Исследователи нередко приписывают стригольникам этот отказ от веры в загробный мир и в воскресение мертвых, что являлось бы полным отказом от первоосновы христианства, но в данном случае митрополит четко отделил старые заблуждения стригольников (грамота 1416 г.) от слухов о ныне отпадших от церкви, к которым он слово «стригольники» не применял. Стригольничество, возникшее под этим названием в середине предыдущего столетия, никак не могло быть обозначено Фотием как новообразование, о котором глава русской церкви только «по слышанию слышал». Митрополит не сопоставляет, а четко отделяет одно от другого: там, где он более подробно писал о стригольниках одиннадцать лет тому назад, не было и речи о таком новом антихристианском учении. По поводу же слухов о новых саддукеях, отрицавших бессмертие души, Фотий просит разъяснений псковских священников: «Отпишите ко мне и аз по божественным и священным правилом створю на таковых суд и осуждение». Ошибочные суждения историков о близости стригольников XV в. к библейским саддукеям основаны на изменении заголовка переписчиками XVI в. Самый ранний список озаглавлен правильно: «Послание Фотея митрополита во Псков». Более поздний список середины XVI в., когда шла острая борьба с еретиками, дает измененное надписание: «А се о стригольницех»[328]. Что же касается движения настоящих стригольников, то здесь со времен Стефана Пермского произошли значительные изменения — стригольники за эти годы начали, как явствует из слов Фотия, широкое строительство своих церквей или часовен. Грамота 1416 г. пестрит упоминаниями о новых, беззаконных алтарях, воздвигнутых конфликтующими с епископом клириками или мирянами:
Аще… кто от прозвитер [священников]… въсхощет же любоначальства ради низринуться и особь въдружит жертвеник и збор [собор богомольцев] творя и службу… [после троекратного предупреждения] да извержен будет! И иже с ним единомысленици аще убо клирици суть — и теи извержени будут [изгнаны] Аще же миряне будут — да отлучены [от церкви] будут!Наказание мирянам несравненно строже, чем членам церковного причта, «…понеже мирянин не имееть никаковаго сана священническаго, но пребывает под послушанием церковных правил — овча [овца] сущи словесна, того ради и вышъшему мучению достоин еси» (с. 244). Такова была на рубеже XIV–XV вв. практика стригольнического движения: поссорившиеся с епископом иереи или любоначальствующие миряне организуют, вопреки воле епископа, самостоятельную церковь и публичное богослужение в ней. Соревнуясь со стригольниками в начетничестве, митрополит документирует свой суровый запрет ссылками на каноническую литературу. Он цитирует постановления VI Вселенского собора, где резко порицаются те, кто «особь собе службу замышляя, без повеления своего епископа — последнему и лютейшому сих проклятию достойны творим» (с. 245). Приводится и § 10 правил собора «в Кагарении»: «Иже безумно особь въдружити храм и служити начнет — проклятию предается…» Более подробно это осуждение самовольной постройки храмов и основания церковных общин изложено в другом, более раннем списке, приведенном Н.А. Казаковой полностью[329]:(с. 244)
Аще кто презвитер или диакон, преобидевь своего епископа, отлучит себе от церкве и особь събирает [прихожан] и олтарь поставит и епископу, призывающу его не покорится… тогда того отврещи отнудь [от церкви]… Аще убо некый прозвитер от своего епископа осужен и надмением некыим и гордынею превозношаяся… или иный воздвизати [начнет] олтарь противу церковных веры и чина — таковый без казни [безнаказанно] да не изыдет![330]Самовольное строительство церквей очень беспокоило митрополита, тем более, что оно было прямо связано с движением стригольников. Об этом Фотий пишет в самом начале своего послания:(с. 245)
Слышах от писания ваших [псковских] священник, отлучающихся божиа закона и православия, зовомых стригольникех и смутися…В отличие от второго послания, посвященного разным темам, где стригольникам отведен только один параграф из 21, в первом послании 1416 г. весь текст посвящен стригольникам. Их основной тезис о греховности духовенства (вплоть до епископов), признающего симонию, отведен поговоркой «Кто пасеть стадо — от млека его не ясть ли?». Основное внимание митрополита всея Руси обращено на конфликты священников и дьяконов с епископами, завершающиеся разрывом, самовольным отходом их от епархиальной власти и незаконным «водружением храма», созданием «особых жертвенников», независимых церквей, с участием в этих недозволенных делах и мирян. Послание начинается сокрушением митрополита по поводу самовольно отлучающихся стригольников и завершается обращением к псковичам с просьбой воздействовать на «стригольников, ходящих в суете ума своего», вернуть их к православию, «да не сих [стригольников] окаанствияпопустит господь бог праведного своего гнева на языки [народы] не знающие его». Фотий от начала и до конца своего послания озабочен только стригольниками, развившими за время от посещения Новгорода Стефаном Пермским до 1416 г. энергичную деятельность по созданию своих, независимых церквей. Это не должно удивлять нас. Авраамий Смоленский, которому, как мы помним, местное духовенство готовило расправу, подобную той, какая была осуществлена через полтораста лет над псковичем Карпом, одно время был отлучен, изгнан из монастыря, но впоследствии получил от епископа Ризоположенский монастырь («Поручаю, — говорил епископ, — ти и даю пресвятые богородици дом») и стал его игуменом, создав особое направление «аврамистов». Францисканцы на Западе тоже сначала преследовались католической церковью, а в дальнейшем церковь предусмотрительно приютила оппозиционный нищенствующий орден и широко использовала его демократическую направленность. Ни «аврамисты», ни стригольники не были нищенствующими монахами, но они ставили своей задачей широкую проповедническую деятельность, ознакомление посадских масс с комментирующей литературой и привлекали людей всех рангов принятием у всех исповеди:(с. 243)
«Не точью гражане едини приходяху, но с женами и с детьми, но и от князь и от вельмож, работнии же и свободнии притекааху — вси своя грехы к нему исповедающи»[331].Полной аналогии с ситуацией, описанной Фотием, здесь, конечно, нет: Авраамий в начале XIII в. действовал с согласия дальновидного епископа Игнатия, а Фотий в том и упрекал стригольников, что они ссорятся с епископатом и наперекор ему «особь», т. е. самовольно, ставят алтари, созидают храмы. Но результат был сходен: и там и здесь оппозиционеры, упрекавшие духовенство и возбуждавшие лютую ненависть игуменов и иереев («аще бы мощно — жива его пожрети!»), в конце концов, овладевали какими-то опорными пунктами внутри православия, не противопоставляя их (приобретенные в дар храмы или воздвигнутые самими) русской церкви, не меняя богослужения (об этом нет речи у Фотия), а просто расширяя кругозор богомольцев проповедями. Для нас очень важно выяснить вопрос о том, можем ли мы среди сохранившихся памятников зодчества XIV–XV вв. Новгородской епархии отыскать следы «особь воздвигнутых жертвенников»?
Успенская церковь в Волотове (1352; 1363; 1390?)
Новгород Великий был окружен большим количеством пригородных монастырей, расположенных за пределами городских стен в зоне пешеходного сообщения. И почти с каждым из них связываются те или иные признаки соприкосновения со стригольническим движением. Видогощенский монастырь (за северной стеной города) располагал Трифоновским сборником XIV в., объемистой антологией стригольнической полемической литературы; фресковая роспись Спасской церкви в Ковалеве дала образцы нового, гуманистического изображения человека; в Кирилловском монастыре находилась икона с «протоевхаристией», которую следует сближать со стригольниками (см. ниже); этот же мотив известен и по фреске в церкви Рождества на кладбище за восточной окраиной города; близ Нередицы (церковь Спаса) и близ Аркажи (церковь Благовещения) были найдены, как мы видели, стригольнические покаянные кресты XIV в.; фресковая роспись Успенской церкви в Волотове (на северо-восток от Новгорода) содержит такой острый сюжет, как показ игумена монастыря, отвергшего Иисуса Христа, подошедшего к монастырским воротам в облике нищего… Под 1386 г. новгородский летописец перечислил монастыри, окружавшие город сплошным кольцом: «Низовцы» (войска Дмитрия Донского), подступив к Новгороду, «пожгоша около города монастырев 24 (список начинается с Софийской стороны): 1. На Перыне (на Перуне) 2. Юрьев 3. Рожественый 4. Пантелеев 5. Въскресеньский 6. Благовещеньский 7. Оркаж (Аркадьев) 8. Духов 9. Борисоглебский 10. Богородицин 11. Николин 12. Лазорев А на Торговой стороне 13. Антонов 14. Богородицин 15. Иоаннов 16. На Волотове 17. На Ковалеве 18. Рожественый 19. Кирилов 20. На Ситеске 21. На Лядке 22. В Нередицах 23. На Сковородке 24. В Щилове»[332]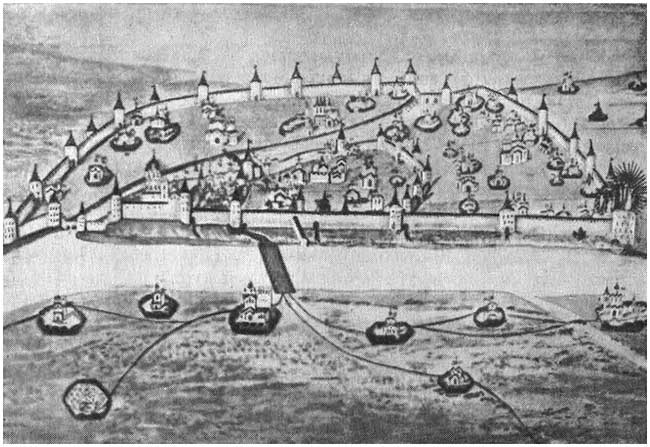
Рис. 37. Вид Пскова и окружающих его монастырей (старинное изображение).
Об этих монастырьках, которые все были видны с городского вала Новгорода никак нельзя было сказать, что они укрылись от мирской суеты и вели пустынное житие. Каждый горожанин мог ежедневно бывать в этих обителях, присутствовать на богослужении, слушать проповеди, знакомиться с монастырской библиотекой, рассматривать иконы и стенопись храма с сотнями сюжетов на ветхозаветные, евангельские и средневековые темы. Одним из таких драгоценных комплексов является необыкновенная, новаторская фресковая роспись монастырского храма Успения богоматери на Волотовом поле. В настоящее время храма уже нет, роспись погибла в огне варварских бомбардировок Новгорода в 1941 г. фашистами. На наше счастье ученые-энтузиасты в конце XIX в. и «в эпоху Грабаря» (1909–1913 гг.), когда всему миру открылись сокровища русского средневекового искусства, как бы предвидя печальную судьбу храма и его фресок, зарисовали, описали, сфотографировали все художественное наследие Успенской церкви. Имена В.В. Суслова, Л.А. Мацулевича, Н.П. Сычева останутся в памяти всех причастных к истории русской культуры, так как они создали огромный документальный фонд, позволяющий вести исследование уничтоженного памятника с достаточной полнотой[333]. Волотовская живопись по справедливости восторженно оценена историками искусства. В.Н. Лазарев в 1947 г. писал, что художник, создавший фрески, «обладал своим ярко выраженным индивидуальным лицом и по темпераменту своему мало чем уступал Феофану Греку. Волотовской росписи, — продолжает Лазарев, — присуще нечто резкое, стремительное. Все изображается здесь в бурном движении: одеяния надуваются, как паруса… концы их развеваются, фигуры очерчены летящими, не знающими никакого удержу линиями, скалы уподобляются языкам пламени… в позах и жестах этих фигур есть что-то неуравновешенное, стоящее на грани экзальтации; выразительные лица написаны с помощью смело брошенных мазков, попирающих все традиционные каноны. Казалось бы, нет такой силы в мире, которая могла бы сдержать эту разбушевавшуюся живописную стихию… В упрощенности его силуэтных линий легко опознать руку новгородца, умевшего ценить красоту кристаллической формы. И пожалуй, еще яснее новгородское происхождение мастера сказывается в чисто русском и притом простонародном типаже, переданном с редким для того времени реализмом»[334].

Рис. 38. Успенская церковь на Волотовом поле под Новгородом. 1352 г.

Рис. 39. План Успенской Волотовской церкви. Жирной полосой показано место фресковой росписи 1363 г., когда вся церковь была только выбелена и лишь в алтаре часть его была украшена небольшой фреской 150×300 см.
Г.И. Вздорнов считает, что Успенскую церковь расписывал «безымянный греческий живописец из Москвы»[335], мотивируя это наличием греческих надписей на фресках. Но исследователь не обратил внимания на то, что в надписях на греческом языке есть немыслимые для грека вкрапления кириллических букв; так подпись к изображению Федора Студита сделана таким образом: СТЮДН. Наличие кириллической буквы Ю, отсутствующей в греческом алфавите, твердо свидетельствует о руке славянина — болгарина, серба, русского, но не грека. М.В. Алпатов убежден в русском происхождении художника: «Несомненно, волотовский мастер был русским человеком, скорее всего, новгородцем: об этом говорит не только русский этнический тип его персонажей, но весь дух фресок»[336]. К этому можно добавить, что среди русских паломников-калик XIV в. естественно могли быть и художники, работавшие в Византии, изучавшие на месте живопись различных балканских школ (греческой, болгарской, сербской). Если в Константинополе был русский скрипторий, занимавшийся переводами греческих книг (см. выше «Странник» Стефана Новгородца) и посылкой их на Русь, то вполне логично допустить наличие какой-то временной оседлости в греческих городах и русских живописцев. Почти точно ко времени создания волотовских фресок относится интересная запись в русской летописи:
1385 г. Того же лета преведено бысть слово святаго и премудраго Георгия Писида «Похвала богу о сотворении всеа твари, яко възвеличишася деля твоя, господи, всею премудростию сотворил еси»[337].Тема сочинения Георгия Писида (VII в.) связана с фресковым комплексом Успенской церкви в Волотове — ее началом, первым сюжетом при входе в храм, в притворе, является фреска «Премудрость созда себе в дом». При таких оживленных связях Руси с Византией, какие мы наблюдаем в XIV в., нет ничего удивительного в том, что новгородский художник не только знал новое балканское искусство (и оно воздействовало на него), но мог знать и греческий язык и щеголять им, а случайная описка в греческом тексте выдала его русское происхождение. М.В. Алпатову принадлежит оригинальный прием показа сложного фрескового комплекса XIV в. современному нам человеку — исследователь предлагает читателю его книги войти в роль средневекового горожанина, вникающего в сущность многоярусной росписи в опустевшем после богослужения храме: «Посетитель волотовского храма увидит суровых монахов… величественных отцов церкви… и вдохновенных пророков с их тревожным взглядом, устремленным в будущее… На что бы он ни смотрел, всюду его внимание будет останавливать на себе то верно схваченный жест, то страстный порыв, и чем дальше он будет читать это живописное повествование, тем больше он будет проникать движением фигур, их волнением, доходящим до исступления, их готовностью оторваться, от земли и подняться к небу…»[338] (курсив мой. — Б.Р.). В более ранней своей статье М.В. Алпатов отмечает, что мастер волотовских фресок в своем подборе сюжетов пренебрегал теми, «в которых изображается всемогущество божества, а также сцены, рисующие его (Христа. — Б.Р.) страдания. Страшный суд, — пишет Алпатов, — вообще отсутствует… Предпочтение оказывается таким сценам, в которых божественное приходит в соприкосновение с человеческим (курсив наш. — Б.Р.) и это приводит человека в возбуждение… Пятидесятница [духов день] — это соединение учеников-апостолов со святым духом, осуществление стремлений человека соединиться с божеством…»[339]. «Я видел в натуре, — продолжает М.В. Алпатов, — лишь немногие византийские фресковые циклы, но полагаю, что синтез живописи и архитектуры в Волотовском храме — явление в XIV в. исключительное» (с. 81). «Все в волотовских фресках очень оживленно, подвижно и экспрессивно. Они превосходят в этом отношении большинство произведений [византийской] живописи эпохи Палеологов…» (с. 82). «…Трудно назвать другого художника треченто (XIV в.), который бы решился так смело донести до зрителя свою взволнованность…» Этот комплекс восторженных характеристик М.В. Алпатов завершает лестным для волотовского мастера сопоставлением с творчеством Андрея Рублева: «В Волотове можно заметить предвосхищение рублевской гармонии…» (с. 85). «Ни в Византии, ни в древней Руси нельзя найти более близких предшественников рублевского решения» (с. 86). Алпатов многократно подчеркивает, что одной из главных черт волотовской росписи является то, что «перед нашими глазами свершается торжественный обряд, происходит общение человека с небесными силами» (с. 87), т. е. иллюстрируется главный теологический тезис стригольничества. Приведенная подборка оценок волотовской росписи, сделанных крупнейшими искусствоведами, убеждает в исключительной важности этих фресок и обязывает внимательней вглядеться не только в живописное мастерство очень талантливого художника конца XIV в., но и в его восприятие общественной мысли своего времени. Само собой разумеется, что средневековый художник не был полностью независим, его творчество в значительной мере определялось как общим умонастроением, так и взглядами заказчика. Каждый расписанный храм представлял собой подобие специально составленной библиотеки, где подбор фресок-книг, отобранных из тысячи ветхозаветных, евангельских и патристических сюжетов, производился не по единому стандарту, а с привнесением индивидуальных особенностей как в отборе, так и в системе расположения, отражающей степень значительности той или иной темы для лиц, задумавших сложный комплекс многофигурной и многоярусной композиции. Упомянутые выше историки русского искусства — М.В. Алпатов и В.Н. Лазарев — по-разному смотрят на проблему канонического стандарта. Выражу их расхождения словами Алпатова: «В.Н. Лазарев не допускает никаких отступлений от канонического типа храмовой росписи, мотивируя это общими положениями о детерминированности средневекового искусства учением церкви… Автор настоящей работы, — говорит Алпатов о себе, — неоднократно высказывал мнение, что как в идейном замысле, так и в художественном выполнении росписи волотовского храма проявилось творчество мастера»[340]. Творец авторизованного комплекса волотовской росписи ввел в свою композицию очень большое количество книг в руках изображаемых им святых и огромных, развернутых перед зрителем свитков с пространственными цитатами из ветхозаветных пророчеств (Аввакум, Аарон, Давид, Соломон, Иезекииль, Иоиль, Иоаким) и творений христианских святых (евангелисты, Иоанн Дамаскин, Козьма Маюмский, Василий Великий, Иоанн Златоуст). Наш художник положил начало внедрению литературного элемента в сложную фресковую композицию. Это другая сторона того интеллектуального процесса, который выявился в это же время в появлении икон, обрамленных десятками клейм, дающих исчерпывающее представление о деятельности изображенного на иконе персонажа. Позднее, в конце XV и в XVI в., свитки с текстами становятся обычным дополнением к живописи. В XIV в. отношение волотовского художника к текстам на свитках очень серьезное и вдумчивое. Он не просто изображает свиток с буквами как обязательный аксессуар пророка или церковного писателя, а стремится показать тот или иной тезис, связанный с данным персонажем, увеличивая ради этого протяженность развернутой, демонстрируемой прихожанам части свитка. Внимание к содержанию надписей проявилось в центральной фреске в алтарной апсиде: здесь текст литургии распределен художником между шестью святителями[341]. Мастером отобран текст, связанный с темой познания и покаяния:
Бог дает просящему «премудрость и разум и не презираа съгрешающаго, но покаянье положь[ит] на спасенье, сподобивый нас смереных и недостойных рабъ своихъ в час сий стати пред славою святаго твоего жертвьника… Ты, владыко, прими от уст нас грешьных тресвятую песнь… и прости нам всако прегрешение!»Здесь приведена только часть текста литургии. Обилие пространных цитат, размещенных в разных разделах росписи Успенского храма, придает особый характер этому целенаправленному подбору разновременных текстов. В надписях вне свитков ощущается знание греческого языка (имена, названия событий), но это несомненно рука не грека, а русского, знавшего и балканскую живопись (наблюдения искусствоведов), и греческий язык, но допускавшего описки в греческом тексте, немыслимые для византийца. Тема премудрости бога, познаваемой людьми при посредстве книжности, широко представлена в многоярусной росписи Волотова; она встречает входящих богомольцев в притворе храма, а на протяжении всей службы видима всем молящимся в огромной (самой большой по площади) композиции «Сошествие святого духа на апостолов», помещенной над алтарем. Идея этой фрески — возможность слияния божественного начала с человеческим при посредстве третьего члена троицы — святого духа. Эта композиция необычна, т. к. помимо апостолов (простых людей) и Иисуса Христа (бога)… здесь в центре фрески на голубом небесном фоне изображена крупная женская фигура, представляющая собой олицетворение Космоса-Вселенной. Она держит в руках плат с двенадцатью запечатанными свитками, как бы предлагая это средоточие премудрости всему человечеству. Слово «Вселенная» в русском средневековом языке означало не космос в нашем понимании как совокупность всех планет, звезд и галактик, а только все человечество, «все заселенное» пространство[342]. В целом общая предалтарная композиция конца XIV в. в состав которой входила и «Вселенная» со свитками, представляла собой воплощение идеи единства божественного и человеческого. На переднем плане (восточный люнет) сверху вниз: 1. Иисус Христос — «нерукотворный спас». 2. Дух Святой в виде парящего голубя. 3. Сошествие Святого Духа на апостолов, первых последователей Христа. 4. Вселенная с богатым запасом свитков. Надпись говорит о всем человечестве, которое должно познать новое вероучение в его письменности: λαοί φυλαι καί γλωσσάι (народы, племена и языки). 5. Завершает композицию огромная рука Господня, к которой ангелы несут души праведников: Д[У]ШИ ПРАВЕДЪ[Н]ИХ В РУЦЕ Б[ОЖИЕ]Й. Путь людей к праведности указан на фреске, расположенной в самой глубине храма, за алтарем, но тоже видимой издалека. Это евхаристия — причащение после покаяния. Живописные композиции волотовского мастера затрагивают (как видно только из одного примера) те самые вопросы, которые интересовали новгородское общество в конце XIV в.: неразрывная, непосредственная связь человечества с божественной силой, роль книжности в познании этой силы и путь к праведности через покаяние. Все эти вопросы волновали стригольников («книжников» и «молебников»), которые вопреки свидетельствам церковных властей не отрицали ни таинства причащения, ни идеи воскресения мертвых. Новаторские волотовские фрески свидетельствуют, что создание новых вариантов церковной росписи отражало и выражало общее развитие и уровень общественной мысли. Что же касается социальной стороны, то волотовский храм давно отмечен исследователями как место помещения в нем совершенно уникальной фрески, иллюстрирующей очень острый сюжет, направленный против игуменов, забывших заветы Христа: «Слово о некоемъ игумене, его же искуси [испытал] Христос». Сущность этого интересного «Слова» такова: в общежительном (без частной собственности монахов) монастыре правил игумен, «иже бе исперва нищелюбив, последи же славолюбив, имея любовь велику к богатым бояром и от тех [бояр] славим»[343]. Иисус Христос в облике убогого нищего пришел к воротам монастыря и просил о встрече с игуменом; тот беседовал с богатыми гостями и ответил привратнику: «Не видиши ли мене с человекы беседующа? Почто еси его пустил!» Тут пришел к монастырю богатый человек, и сам игумен встретил его в монастырских воротах. Иисус обратился к игумену, но «он же ни озресе [не взглянув], но с богатым иде обедать». Так прошло время до вечера, «не сподобися [игумен] прияти благословеннаго странна [Христа]» и Господь отошел от монастырских ворот, порицая славолюбивого игумена. Однако считать эту легенду направленной против богатых слоев вообще не следует: «Аз же не богатство хуля глаголю, — признается автор, — но неумеющих жити в богатстве, сбирающих сокровища и ненавидящих нищих…» Нищелюбие здесь расценивается как средство приобщения к царству небесному после смерти. Волотовский мастер талантливо передал эту тему в виде своеобразного триптиха, расположенного в юго-западном углу храма. Первая, левая створка изображает Иисуса Христа у каменных ворот монастыря, обращающимся к привратнику с просьбой позвать игумена. Средняя часть триптиха (на южной стене) раскрывает перед зрителем контрастную панораму богатого монастырского архитектурного ансамбля, увенчанного многооконным куполом по типу царьградской Софии. На переднем плане, как бы вне здания, — красиво изготовленный каменный (как в южных монастырях) стол, уставленный яствами, за которым сидят игумен и трое его гостей в пышных одеяниях и причудливых головных уборах; правый гость, по-видимому воин в доспехе и шлеме. Гости оживленно беседуют с игуменом, но тот вынужден повернуться к пришедшему привратнику. Прислуживающий монах несет к столу еще одну чашу… Правая створка придает необычную для фресковой росписи временную динамику: здесь дана финальная сцена «Слова об игумене»; игумен узнал Христа, но тот удаляется, не дав благословения. Последняя часть триптиха расположена на углу у западной, задней стены нефа, и он виден богомольцам лишь тогда, когда они от алтарной, восточной стороны, где принимают причастие, идут к выходу из храма. И как бы вместе с ними, в том же направлении идет, минуя пирующих, Иисус Христос… Талантливый художник сумел сблизить толпу новгородских горожан с самим Господом, шествующим по земле (эти фрески расположены в нижнем регистре) наравне с ними, богомольцами. Мы не знаем, когда и где возникло «Слово об игумене»; волотовская фреска — единственное во всей русской средневековой живописи произведение, иллюстрирующее этот сюжет, злободневный на протяжении XIII–XV вв. Оригинальное размещение фрески-триптиха на переломе двух стен усиливает впечатление совместною, общего движения и богомольцев, покидающих храм, и Христа-нищего, тоже идущего почти на одном уровне с прихожанами и монахами по направлению к выходу. Если текст «Слова» говорил лишь о пренебрежении игумена к прохожему нищему, то тонко задуманная композиция фрески выражала более общую идею единства людей и вновь воплотившегося на земле Бога. У М.В. Алпатова возникло предположение, что «странным образом его [игумена] лицо похоже на лицо архиепископа Моисея», ктиторский портрет которого расположен почти рядом и занимает видное место в росписи данного храма[344]. Разбор этого интересного наблюдения будет дан ниже, в связи со взаимоотношениями Моисея и его преемника Алексея, при котором расписывалась Успенская монастырская церковь.
* * *
История создания Успенского храма в Волотове и его росписи частично отражена новгородским летописанием и дополняется разысканиями искусствоведов. В 1352 г., в разгар эпидемии чумы во Пскове и Новгороде «и по лицю всея земъля», скончался новгородской архиепископ Василий Калика и владыкой вторично стал схимник Моисей. Мор в Новгороде начался «от госпожина дня», т. е. от праздника Успения (15 августа), и первым действием нового архиепископа была постройка церкви Успения Богоматери на Волотовом поле. Очевидно, одновременно здесь был основан Моисеем и мужской Успенский монастырь, так как, во-первых, в летописи не было сказано, что храм построен в уже существующем монастыре, а во-вторых, новый храм был посвящен празднику, отмечавшему в данном году начало длительного бедствия, продолжавшегося до пасхи 1353 г.
Рис. 40. Первичная алтарная фреска Успенской церкви 1363 г. На фреске изображен престол, подготовленный для таинства евхаристии, двое ангелов и двое святителей, авторов литургий (Василий Кесарийский и Иоанн Златоуст).
Летописцы подробно и красочно описывают ход страшной эпидемии и перечисляют меры, принимавшиеся горожанами. Главным было обращение к богу, поскольку чума расценивалась как наказание всего греховного человечества от Индии до Европы за забвение божественных заветов. На первое место встала проблема покаяния в грехах, моление об их прощении и спасении душ после молниеносно приближавшейся смерти. Свидетели трагических событий указывают два основных способа приобретения права на включение в будущей жизни в состав «стада господня»: богатые люди могли заслужить спасение души посредством щедрых дарений церкви на помин души («овии бо от богатьства села давають церквам и монастырям»), а обычные средние горожане «промышляху о своем животе или о души, да сего ради мнози идяху в монастыри, мужи и жены, и постригахуся в мнишьский чин… и тако в добром исповедании преставляхуся от сея времянныя жизни на о́н [тот, другой] вечный свет к богу»[345]. Волотовский Успенский монастырь возникал (?) (или обстраивался новым храмом) в такое время, когда уцелевшие от мора посадские люди Новгорода искали приюта и спасения своих душ в стенах пригородных монастырей. Не сказалось ли это на составе новой монастырской братии, не привнесли ли пришельцы свои посадские взгляды в укрывшую их обитель? Расписана Успенская церковь была только в 1363 г., сразу же после смерти Моисея (25 апреля 1363 г.)
1363 г. (6871) «Того же лета подъписана бысть церкви святыя богородица на Волотове, в Моисееве монастыри, повелением боголюбивого архиепископа новгородского Алексея»[346].Это был своего рода дебют молодого владыки, только что освободившегося от неофициального контроля со стороны старшего предшественника, впервые занявшего этот пост сорок лет тому назад и прославившегося борьбой со стригольниками. Алексей же, наоборот, подвергался вызовам к митрополиту в Москву и был вынужден выслушивать антистригольнические поучения то Дионисия Суздальского, то Стефана Пермского. Ему, Алексею, митрополит не доверял дело обличения ереси.
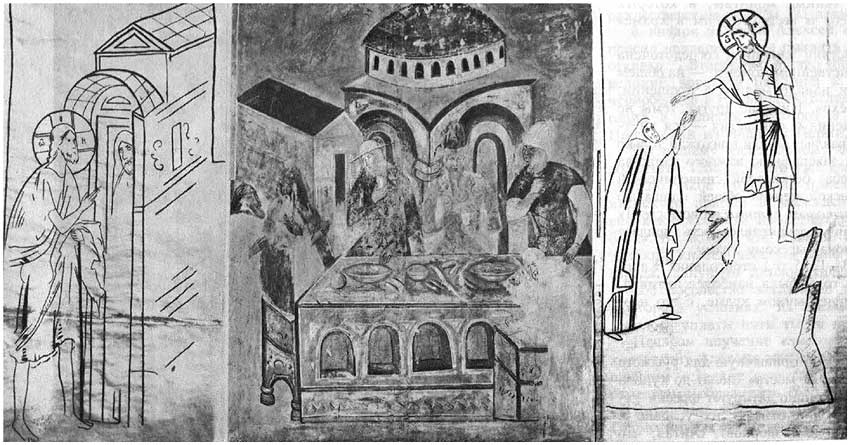
Рис. 41. Фреска-триптих в юго-западном углу Успенской церкви (роспись конца 1380-х гг.). Левая часть триптиха: Христос получает отказ у монастырских врат. Средняя часть: пир игумена с гостями. Правая часть: игумен пытается догнать уходящего Христа.
Должен предостеречь, что все черты сближения росписи храма с позициями стригольников, которые я приводил выше (общение человека с богом, высокая оценка премудрости божьей, глубокое уважение к книжности и критика церковного начальства за пренебрежение к нищим и сирым), не имеют отношения к «подписанию» Успенской церкви в 1363 г. Благодаря изысканиям реставраторов и историков искусства выяснилось, что дело обстоит значительно сложнее и интереснее. Волотовский храм, оказывается, расписывался дважды: первый раз в 1363 г., а затем в конце 1380-х годов, в последние годы владычества Алексея[347]. Роспись 1363 г. была совершенно необычна для древней Руси всего промежутка времени от крещения до конца XIV в., и последующих эпох: весь храм, как выяснилось в 1855 г., был оставлен без живописи и представлял собой строгий, светлый молитвенный дом, в самой глубине которого, за алтарем, была нарисована только одна сцена — «литургия святых отцов». Это — фреска размером 1,5×3 м, обведенная яркой красной рамкой, являющаяся чем-то вроде отдельно существующей иконы. Необычно и загадочно такое скромное, сосредоточенное только на одном сюжете, оформление всего храма. На фреске-иконе изображены: царские врата, престол с атрибутами причащения, двое ангелов в дьяконском одеянии и по краям двое святителей — Иоанн Златоуст (слева от зрителя) и Василий Великий (справа). Оба святителя демонстрируют молящимся цитаты из своих литургических произведений: Иоанн Златоуст из литургии «оглашенных» (первый этап службы), а Василий Великий из литургии «верных» (второй этап службы)[348]. «Святители и ангелы-дьяконы представлены здесь, — пишет Г.И. Вздорнов, — в литургическом действии… Волотовская фреска с изображением службы святых отцов является древнейшим примером этой композиции на русской почве» (с. 284). Учитывая несимметричность поз ангелов-дьяконов, их головы повернуты в одну сторону, налево, к северному входу, — исследователь делает очень интересное наблюдение: когда во время литургии «совершались вход в алтарь и положение святых даров на престол, священник и дьякон двигались слева направо, из жертвенника (севернее алтаря) в сторону алтаря» (с. 292). К этому можно добавить, что по церковной символике этот «малый вход» означает напоминание о выходе Христе на знаменитую Нагорную проповедь.
Священник благословляет вход, говоря: «Благословен вход святых твоих всегда ныне и присно и во веки веков» А диакон, поднимая евангелие возглашает: «Премудрость! Прости!»[349]После этого священник читает тайные молитвы, в которых испрашивает «прощение грехов себе и всем стоящим в храме» (с. 195). Вся сила художественного воздействия живописи сосредоточена автором росписи 1363 г. на одном-единственном моменте — на общем обращении к Премудрости божьей и начале молитв о прощении, (очевидно, перечисленных ранее) грехов. Никакие другие темы не отвлекают молящихся от темы прощения и причастия — вся внутренность храма выбелена, чиста и направляет мысли прихожан только на момент приступа к евхаристии, к завершению важного таинства причащения — принятию вина и хлеба, бескровной символической жертвы. Запрестольная фреска Успенской церкви общей площадью всего 4,5 кв. м была единственным цветовым пятном на всех стенах здания, и эта необычная, уникальная целенаправленность придает особое значение этому небольшому монастырскому храму. Ближайшие двенадцать лет (1363–1375 гг.) стригольник Карп, деятельность которого именно в эти годы была наиболее активна, мог наблюдать богослужение в этом необычном храме, с его необычной, удивительной росписью.
* * *
Когда же волотовский храм обрел свою привычную для русского глаза сплошную многоярусную роспись «от моста» (пола) до купола с Пантократором? Искусствоведы единодушно датируют фрески Успенской церкви 1380-ми годами, но одни относят их условно к 1380 г. (Алпатов), а другие — к 1390 г. (Вздорнов), считая, что роспись была начата еще при жизни архиепископа Алексея, а завершилась после его смерти (3 февраля 1390 г.)[350]. Этот вывод (последнего по времени публикации) исследователя основан как на стилистических данных, так и на том, что архиепископ Алексей изображен на одной из фресок с нимбом святости, что немыслимо для прижизненного изображения. Учтен и пожар 1386 г., который несомненно вызвал потребность ремонта и очистки от копоти. Однако летописные записи дают нам дополнительно интересные сведения о новгородских событиях конца 1380-х годов. Они содержатся в 4-й новгородской летописи, более поздней, чем три предыдущих, но пополненной по сравнению с ними из каких-то источников. Рассмотрим ее подробнее. 1386 г. Дмитрий Донской ведет войну против Новгорода. Московские войска преднамеренно и систематически сожгли 24 монастыря вокруг города и даже «…у всякой улици вне города за копаницею [за валом и рвом] вси ти хоромы пожгли. И бысть новгородцем и мнишескому чину много убытка»[351]. Среди спаленных «низовцами» монастырей упомянут и Успенский «на Волотове». Пожары монастырей и пригородных слобод окружили Новгород небывалым огненным кольцом, придавая трагический характер рождественским святкам (25 декабря 1386 — 6 января 1387 г.). 6 января владыка Алексей ездил в стан Дмитрия Донского и просил великого князя принять контрибуцию и дать мир: Дмитрий отказал[352]. Второе посольство (без владыки) добилось мира и «князь великий воротися из Ямна к Москве, а наместники присла и черноборцев в Новъгород». Вслед за этими словами написано: «Приездил в Великий Новгород в великое говенье Стефан владыка Перемьский из Великой Перми, что крещал пермичь»[353]. По нашему календарному счету великий пост, идущий после рождества 1386 г., — это уже весна 1387 г. Только в этой летописи сделано такое уточнение приезда Стефана в Новгород. Епископ-инспектор прибыл в побежденный город почти одновременно с великокняжескими наместниками и сборщиками дани — «черного бора». Возможно, что Алексей при безрезультатных переговорах с великим князем действительно допустил, защищая интересы Новгорода, какую-то дипломатическую оплошность, — ведь без него второе посольство заключило мир даже на более выгодных для Новгорода условиях: из восьми тысяч рублей контрибуции оно добилось уплаты пяти тысяч не Новгородом, а «заволочанами». Недаром поучение епископа Стефана было дано в 1387 г. архиепископу Алексею как укор не только новгородцам, мирно слушавшим «сладкие словеса» стригольников, но и их пастырю, не сумевшему образумить свое духовное стадо. Внушение новгородским стригольникам, сделанное Стефаном Пермским, было, по всей вероятности, частью каких-то общих мер московской митрополии:«Того же лета князь великий посла отца своего духовного Федора [племянника Сергия Радонежского], архимандрита Симоновского во Царьград к патриарху Нилу о управлении митрополии руския»Ровно через год, «на преполовение праздника владычна» (среда четвертой недели великого поста), Алексей оставил архиепископскую кафедру и поселился в Деревяницком монастыре, поблизости от Волотова. Концепция росписи церкви, стоявшей почти четыре десятка лет без стандартного живописного оформления, должна была обсуждаться в 1387–1389 гг. и очевидно с учетом тех пространных замечаний и упреков, которые сделал Стефан Пермский. В свете того, что сказано о неладах с Москвой, можно было бы предполагать, что владыка, вынужденный выслушивать поучения младшего по сану, не принимал участия в украшении Успенской церкви. Но это опровергается торжественной ктиторской фреской, где по сторонам богородицы на троне изображены Моисей с моделью храма в руках и Алексей просто с молитвенно протянутыми к богоматери руками: оба владыки изображены с нимбами. Такое уравнивание Алексея со строителем храма явно говорит о большой доле участия обоих архиепископов — один построил церковь, другой дважды украшал ее росписью: в 1363 г., после смерти Моисея, и в 1388–1390 гг. в конце своей жизни после пожаров и поучений, исходивших из Москвы.(Татищев, с. 162)
* * *
Архиепископ Алексей (1360–1388 гг.), правивший новгородско-псковской епархией, как скрупулезно подсчитал летописец, «30 лет без лета и без пяти месяць», не оставил своих сочинений, но о его умонастроении мы можем догадываться по взаимоотношениям с новгородцами и псковичами, с московскими митрополитами и великими князьями, по его позиции в тех или иных событиях. Вождь стригольников Карп последние 15 лет своей жизни находился в епархии, возглавленной Алексеем. Владыка Моисей, как мы видели выше, ушел с кафедры (был изгнан?) 25 января 1360 г., накануне известных нам бурных событий, когда новгородцы дрались в доспехах и без доспехов, когда силой сменяли посадников, когда у Флора и Лавра появилось стригольническое «древо разумное» скульптора и живописца Якова Федосова. Смена архиепископов была первым этапом этой не во всем ясной для нас борьбы: «Много же гадавше посадник и тысячкой и весь Новъград — игумени и попове и не изволиша себе от человек избрания сътворити…» Пост архиепископа в Новгороде был не только церковным — архиепископ играл большую политическую и дипломатическую роль в этой боярской республике. Почти восемь месяцев, от 25 января до 15 сентября, шли споры новгородцев по поводу нового владыки. Наконец были отобраны три кандидата; жребии с их именами были положены на престол Софийского собора, началось избрание по принципу «кого бог въсхощеть»: побеждал тот, чей жребий оставался на престоле. Избранником оказался простой монах, софийский ключник из «шестников» (княжеских или епископских министериалов) Алексей. Среда, из которой он вышел, — простые посадские люди, связанные службой у духовной знати, т. е. именно те примыкающие к духовенству люди, которые обычно находились в оппозиции к духовенству, имевшему сан, и только в исключительных случаях сами достигали высокого сана. Избранного новгородцами ключника Алексея в Твери посвятили в сан дьякона, потом в сан священника и, наконец, в древнем Владимире в Успенском кафедральном соборе Руси митрополит московский Алексей «поставил» его архиепископом Великого Новгорода.
Рис. 42. Архиепископ Алексей. Фреска в Волотовской Успенской церкви (около 1390 г.).
Интересно отметить, что задолго до официального поставления и даже до избрания в Софийском соборе, Алексей уже расценивался новгородским народом как лицо, облеченное церковной властью: весной 1360 г. (по летописи, 1359 г.), когда «бояр многих побили и полупили», а отрекшийся от власти Моисей «съиха из монастыря», к бушующим вооруженным толпам обратился (еще простой чернец) Алексей:
…а Алексей, поимя с собой архимандрита [очевидно Юрьевского?] и игумены, благослови их и рек: «Дети! Не доспейте себе брани, а поганым похвалы [в смысле похвальбы], а святым церквам и месту сему пустоты — не соступитеся на бой!» И приняша слово его и разидошася[354].В этой летописной заметке подчеркнут личный авторитет Алексея, еще не имевшего никаких юридических прав, но сумевшего предотвратить дальнейший разгул жестоких схваток. У нового владыки с его головокружительной карьерой появился свой летописец, очевидно из бывших сотоварищей по софийскому клиру; рука его прослеживается вплоть до 1393 г. Его записи сохранены в 1-й Новгородской летописи[355]. Своего патрона он характеризует как «мужа добра и знаменита разумна же и о всемь расмотрелива…» и в своей летописи освещает деятельность Алексея на фоне жизни Новгорода, не забывая при этом и такой маленькой темы, как софийский клир — новый владыка освящал большинство строившихся храмов и всегда делалась приписка о софийском клире, из которого вышел Алексей; вот один из примеров:
1362 г. «Того же лета постави архиепископ новгордчкый Алексей церковь камену святое Рожество на сенех и свяща ю сам, с игумены и с попы и с крилосом святыя Софея…»Возвращение новопоставленного Алексея из Владимира показано на фоне радости всего новгородского народа:(с. 369)
1360 г. «… приеха [Алексей] в Новъград и стретоша его игумены и попове с кресты… посадник и тысячкой и всь Новъград, возрадовашася радостью великою зело в тот день»Алексей ездил во Псков, совершая там литургии ради прекращения мора, ездил в Торжок с софийским клиром освящать там церковь, построенную новгородскими купцами. Под 1368 г. отмечено, что его резиденция — «владычень двор» пострадала от пожара. Под 1374 г. идет запись об освящении церкви Спаса на Ильине улице, но в 1375 году, когда произошла расправа с Карпом и его «стригольниковыми учениками», владычный летописец об этом событии ничего не написал. Им описана война великого князя Дмитрия с Тверью, но казнь Карпа в этом же году на страницы его хроники не попала. Там есть только события, происходившие зимой, т. е. после казни в Волхове, и, вероятно, связанные с действиями против стригольников:(с. 367)
На ту же зиму съиди владыка Алексей со владычества по своей воли на Деревяницу [монастырь под Новгородом]. И бысть Новгород в то время в скорби велице. Гадав много послаша к митрополиту [Алексею, в Москву] Саву анхимандрита, Максима Онцифоровица с бояры, чтобы благословил сына своего владыку [новгородского] Алексея в дом святей Софеи на свой ему святительскый степеньМитрополит должен был заинтересоваться такими двумя новгородскими событиями, как расправа с Карпом (происходившая между концом августа и зимним ледоставом Волхова) и уход владыки (зимой), огорчивший весь Новгород. Если бы владычный летописец считал казнь стригольников справедливой и если бы таков же был взгляд и самого владыки, то летописец должен бы был торжественно сообщить читателям как благочестивый владыка искоренил сатанинскую ересь. Сообщения нет, оно появится ретроспективно только в следующем столетии, а здесь, в хронике 1360-1380-х годов, — многозначительное (для нас) молчание. Возможно, что расправа со стригольниками не была каким-либо официальным актом, т. к. ни владыка, в юрисдикции которого находились церковные и антицерковные дела, ни посадники не упомянуты в сообщении о расправе — там просто сказано: «стригольников побиша». Мы помним в начале этой книги миниатюру из Лицевого свода, готовившегося в Москве, но под руководством бывшего новгородского архиепископа Макария, на которой противопоставлены друг другу группа седовласых бояр Софийской стороны и группа молодцов Торгового правобережья, бросающих стригольников в Волхов; никакого начальства, распоряжавшегося молодцами, нет. Мы знаем, что епископальные власти и митрополия предостерегали от предания еретиков смертной казни и надеялись на их воссоединение с церковью. Вспомним, что Волхов уже второй год (1374, 1375) «семь дней иде на въспять», а это означало гибель прибрежных полей и пастбищ, общенародное несчастье. Может возникнуть предположение, что Карп и его товарищи — жертва разбушевавшемуся Волхову, принесенная теми полуязыческими низами, против которых выступали высокообразованные книжники-стригольники, писавшие (тайнописью!) поучения против современных им язычников. В широко известном «Слове Григория Богословца», переписывавшемся в XIV–XVI вв., в том числе и в Новгороде, есть, помимо гневного осуждения пережитков язычества у людей того времени, и ядовитые стрелы в адрес тогдашнего православного духовенства:(с. 373)
… и на гнев богу по святем крещении череву работни [чревоугодливые] попове уставища трепарь прикладати рождества богородици к рожаничьне трапезе оклады деюче…[356]Подобные дополнения книжниковXIV в. уязвляли не только простых людей, веровавших в архаичных богинь плодородия — рожаниц, — но и духовенство, принимавшее активное участие не только в трапезе в честь рождества богородицы (8 сентября), но и во «второй трапезе» в честь этих самых языческих рожаниц (9 сентября). Проповедники, выступавшие как против приверженцев язычества, так и против потворствовавших им «череву работных» попов, легко могли оказаться под ударом с обеих сторон, что и могло привести во время наводнения к стихийной расправе без ведома светских и церковных властей. Это предположение не имеет безусловной доказательной силы, но и приписывать эту древнюю форму расправы (сбрасывание с моста), известную еще с языческих времен, архиепископу Алексею у нас нет никаких оснований. Во всех последующих посланиях из Москвы и Царьграда говорилось о необходимости примирения со стригольниками, возвращения их в лоно церкви и ни разу не был помянут трагический эпизод 1375 г. После ухода Алексея с владычества весь Новгород пришел в волнение и отправил большое и знатное посольство в Москву к митрополиту Алексею. Алексей, очевидно, не усмотрел никаких упущений в управлении епархией и отпустил новгородское посольство с миром:
И митрополит благослови сына своего владыку Алексея [новгородского], а Саву анхимандрита и бояр отпусти с великою честью. И привезоша благословение митрополиче владыце Алексею и всему Новуграду[357].9 марта 1376 г. торжественно собралось вече на древнем дворище Ярослава Мудрого, и все городские власти — наместник великого князя, посадник и тысяцкий «и иных много бояр и добрых муж» — понесли общее челобитье города в монастырь, где находился Алексей. «Възведоша владыку Алексея в дом святыя Софея… и ради быша новгородци своему владыце». Прошлогодний самосуд над Карпом не упомянут владычным летописцем ни прямо, ни косвенно, хотя он вполне мог быть причиной отказа Алексея от своего поста — как решился он, владыка, допустить подобное беззаконие? В умолчании летописца можно видеть если не симпатию к погибшим стригольникам, то во всяком случае полное нежелание описывать жестокую расправу, произведенную, судя по всему, без владычного слова. Если бы архиепископ Алексей был, подобно Моисею, активным преследователем стригольнического движения, то и отношение его летописца к трагическому событию 1375 г. неизбежно было бы другим. Он, этот прославляющий Алексея летописец, обязательно внес бы на свои страницы упоминание о еретиках, о преодолении дьявольских козней благочестивым архиепископом, о справедливой каре, постигшей отступников… Умолчание свидетельствует об обратном — о стихийном самосуде, неизвестно кем организованном; летописец не хотел сообщать о нем потомкам, очевидно расценивая его как упущение властей, в котором владыка был неповинен. Алексей сам осудил себя за происшедшую трагедию, покинув архиепископскую кафедру. Москва оправдала его. На следующей год Алексей новгородский предпринял путешествие к Алексею — митрополиту всея Руси.
1376 г. «Того же лета поиха владыка Алексей к митрополиту и с ним Сава анхимандрит [глава новгородских монастырей], Юрий Онцифорович [посадник]… и иных много бояр месяца августа в 13 день… И прия митрополит сына своего владыку Алексея в любовь. Такоже и князь великый. Пребысть владыка на Москве 2 недели и отпусти митрополит с благословением, а князь великый [будущий Дмитрий Донской] и брат его, князь Володимир с великою честью»В более позднем, чем новгородская летопись современника Алексея, московском своде 1479 г., в котором говорится и о расправе с Карпом, итог визита изложен иначе:(с. 374)
И паки отпусти его Алексей митрополит на свою архиепископью, много поучив его о ползе духовней — како паствити ему порученое стадо и въстязати [удерживать] дети своя от всякого зла и благословив его отпусти[358].Трудно гадать о содержании поучений митрополита, но едва ли подлежит сомнению, что мудрый и образованный митрополит Алексей вел эти двухнедельные поучения в дружеском тоне и возможно, что не порицал, а лишь вооружал бывшего софийского ключника ортодоксальной книжностью для отпора книжникам-стригольникам. Под «злом», от которого надо «востязать» новгородцев, подразумеваются не споры и разногласия, а действия. В данном случае, очевидно, злобный самосуд, произведенный вопреки стремлению патриархата достичь воссоединения инакомыслящего духовенства и «с братиею своею в едином съчетании славити бога». Алексей возвратился в Новгород в пятницу 17 октября. С этим победоносным возвращением из Москвы следует, вероятно, связывать знаменитый алексеевский каменный крест, вделанный в стену Святой Софии[359]. Он поставлен «общаго лѣтья», т. е. со всеобщего соизволения Великого Новгорода. На самой вершине креста изящным, как на серебряной чеканке, почерком написано: «Архиепископу Олексию дай богь многа лѣта и здравие и спасение и дѣтем его [новгородцам], всему миру».

Рис. 43. Крест архиепископа Алексея (1376 г.), изготовленный в его честь по желанию всего Новгорода.
Руководствуясь летописными материалами, очень подробно фиксирующими тридцатилетнее «владычество» Алексея, мы не можем назвать никакого другого срока постановки креста, кроме осени 1376 г., когда позади остался и уход архиепископа с кафедры, якобы «по своей воле», и поездка в Москву с поучением митрополита, и почетные проводы великим князем. Вероятно, установка креста была приурочена к встрече Алексея в Новгороде[360]. Крест был украшен пятью скульптурными композициями тонкой работы («благовещение», «рождество», «распятие», апокрифическое «сошествие во ад» и «вознесение»); все это было «написано», т. е. раскрашено и являлось вторым дошедшим до нас памятником, сочетавшим в свое время скульптуру и живопись новгородского треченто (первым был Людогощинский крест Якова Федосова). Иллюстрируемые события даны по-новгородски упрощенно (на берестяных грамотах и азбука была рационально упрощена); рождество дано без волхвов и других персонажей, вознесение показано неканонично и неполно. Здесь в духе времени изображена богородица (не упомянутая в евангельских текстах) и только двое апостолов из 11, названных в евангелиях[361]. Несколько удивляют дополнительные надписи к «благовещению» и «распятию» — они не касаются глубинного смысла событий, а низводят пояснение к второстепенным деталям. Вместо того чтобы сказать о Марии, что она по божественной воле даст жизнь Спасителю Человечества, здесь мы видим: «Прѣбудеши по рождествѣ дѣва а по смерти — жива». В надписи у сцены распятия вместо того, чтобы сказать зрителю об искупительной жертве, о страдании за все человечество, речь идет лишь о целительной силе тех досок, из которых сколочен крест: «Крестъ твой, Христе, аще древо видимо есть, но высшею силою одѣяно есть». Возможно, что в сумятице умов того времени автор этих надписей учитывал как уровень тех калик перехожих, которые привозили из своих южных странствий и кусочки древа от креста господня, и пальцы апостолов, и даже «млеко пресвятой богородицы» (!), так и уровень тех русских людей, которые приобретали эти «святыни» и заказывали для них дорогие реликварии — «ковчеги»[362]. Алексеевский крест очень лаконичен; композиции малофигурны, художник ограничивал себя минимумом персонажей; по сравнению с близким по времени Людогощинским он более артистичен и тонок в исполнении. Как живописное («писанъ») полихромное произведение крест в его первозданном виде был, вероятно, очень эффектен; он находился в самом центре Великого Новгорода и его фоном была западная стена Святой Софии, которую видел каждый входящий в этот храм. Тонкость скульптурной резьбы позволяла художнику-живописцу дать высокохудожественное произведение, достойное своего почетного местоположения. Из пяти сюжетов, отобранных мастером, один основан на апокрифе о сошествии во ад и прощении первородного греха Адама и Евы. В свете религиозных споров со стригольниками особый интерес представляет нижняя лопасть креста со сценой вознесения. Вознесение дано не стандартно и не канонично: отсутствуют девять апостолов, хотя в евангелии речь идет об одиннадцати (нет Иуды), и есть Мария, о присутствии которой ничего не сказано — Иисус пригласил только своих учеников, которым поручал распространение своего учения по всей земле. Здесь, на алексеевском кресте, богородица — главная фигура всей композиции. Она показана в середине нижнего ряда на «поземе» в позе оранты; за богородицей — гора, а по сторонам самой Марии — два высоких древа с распускающейся листвой, отделяющие богородицу от апостолов, расположенных по краям композиции. Весь этот нижний ряд — земля, земля людей и природы; богородица представлена как бы властительницей земли, «жизнедательницей», обеспечивающей плодородие, и заступницей за грешных людей перед Христом, к которому она просительно протягивает руки. Верхняя половина этой композиции — небо; небо с ангелами в широком полете и Иисусом Христом на троне, благословляющим землю; Христос окружен кру́гом ауры правильной циклической (не овальной) формы, которую поддерживают летящие ангелы. Апостолы, стоящие у подножья горы, с которой Христос поднялся на небо, как бы поделили между собой объекты внимания: правый смотрит на богородицу, стоящую меж деревьев, а левый — на небо, на Христа. В целом алексеевский крест, его теологическая концепция отражает некое усредненное представление горожан XIV в. Здесь смешаны вполне канонические сюжеты с апокрифическими (воскресение казненного Иисуса в виде его путешествия в ад и прощения греховности Адама) и не каноническими, как вознесение с центральной фигурой богородицы. Впрочем, следует заметить, что этим Алексевский крест не выходил из общего ряда русской средневековой живописи — существует много икон XIV–XV вв. и с сошествием во ад, и с богородицей в качестве главного персонажа вознесения. Стефан Пермский упрекал стригольников в том, что они приносят покаяние земле. Если учитывать, что земля и все земное рассматривалось людьми средневековья в неразрывной связи с «животоподательницей» — богородицей, то здесь не будет никакого противоречия. Если покаянные кресты вкапывались в землю и покаянные слова произносились человеком, находившимся перед таким крестом стоя на земле коленопреклоненно, то это следует рассматривать не как сознательный отказ от христианских форм и воскрешение языческого культа «Мать — сырой-земли», а как одну из форм культа богородицы. Еще меньше еретического можно найти в том упреке, который адресовал стригольникам митрополит Фотий в 1427 г.: «Стригольницы, отпадающей от бога и на небо взирающе беху — тамо отца собе наричают…» Митрополит-грек упрекает псковичей в том, что они отвели Христу только небо, не упомянув его власть над всем земным, но как мог русский православный человек, взирая небо, не считать, что там, на небе, находится его бог, единосущный сыну? Ведь основная христианская молитва начинается словами: «Отче наш, иже еси на небесех!»[363] Далее в тексте молитвы упоминается повсеместность власти бога: «… да будет воля твоя яко на небеси и на земли…» Католическая форма этой молитвы упоминает и небо, и землю в первой же фразе: «Pater noster, qui creavit caelum et terram». Быть может, упрек Фотия следует понимать не в смысле утверждения, что бог пребывает на небе (это не должно вызывать возражения), а в том смысле, что грешники и еретики, «стригольниковы ученики», осмеливаются считать себя детьми небесного отца? Но тогда речь может идти только лишь о самомнении грешников, но не о еретическом воззрении их. В целом новгородский крест, поставленный, по всей вероятности, в честь и во здравие архиепископа Алексея в 1376 г., отразил не только общее желание горожан приветствовать своего владыку по случаю благополучного исхода сложнейших дел, но, очевидно, и «общее лѣтье» самого замысла сюжетов: основные евангельские события, данные без излишней пышности и многолюдства, апокрифическое сказание о смысле жертвы Иисуса — спасение от греховности, интересное, сильно упрощенное представление о божественной власти — один персонаж из троицы (Иисус) как повелитель мира, простирающий руки над землей, и не вошедшая в символ веры заступница-богородица. К этому добавлены надписи, удостоверяющие истинность евангельской легенды о девстве Марии и магическую добротность амулетов-оберегов из крестного дерева Голгофы.
* * *
Продолжим обзор деятельности владыки Алексея. 1380 г. Весь Новгород бил челом Алексею, чтобы тот поехал в Москву к великому князю Дмитрию Ивановичу. Весной, за две недели до пасхи, Алексей с большой свитой поехал в Москву. Москва к этому времени уже начала разведку боем и воевала с татарами в Поволжье. Новгородцы верно оценили тяжелую для Москвы ситуацию и использовали ее: великий князь «прия их [новгородское посольство] в любов, а к Новугороду крест целовал на всей старине новгородчкой и на старых грамотах». 1382 г. После Куликовской победы (но до нашествия Тохтамыша на Москву) Дмитрий Донской решил укорить новгородцев, вынудивших его пойти на серьезные уступки в 1380 г. и не принявших никакого участия в борьбе с Мамаем. В Новгород и Псков приезжает епископ Дионисий Суздальский с грамотами константинопольского патриарха Нила:… в них же [в патриарших грамотах] писано о проторех, иже на поставлениях. Поучая закону божию по священным правилом… укрепляя от соблазн и от ереси стригольников (вариант: стригольниковы). Иная же из уст повеле поучениа глаголати в себе место Дионисию епископу Суздальскому при архиепископе Алексии Новогородцком. Тако сотвори в Новегороде и во Пскове. И устави [прекрати] мятежи и соблазны о проторех, иже на поставлениях [в сан]: ино бо есть мзда [взятка] и ино — проторы и исторы [траты, расходы] на поставлениях. И сице о том дав им посланиа от вселеньскаго патриарха Нила и поучив их довольно повелением патриарховым, Дионисей, епископ Суздальский и поиде из Новагорода и изо Пскова к Суждалю…[364]Это пространное сообщение московского историка XVI в. (в новгородской летописи XIV в. изложено короче) проливает свет на положение владыки Алексея — его поучают наряду со всеми новгородцами и псковичами; авторитетом патриарха его паству отвращают от соблазнов; его поучают в присутствии пасомых им мирян и духовенства… Очевидно, архиепископ Алексей не считал особенно опасными рассуждения стригольников о недопустимости поборов в пользу епископата при посвящении в сан — ведь основ православного вероучения споры на эту тему не затрагивали. А известные горожанам таких торговых городов, как Псков и Новгород, католические индульгенции с их тарификацией оплаты грехов делали тот единственный вопрос, который поставлен патриархом, еще менее значимым, узкопрофессиональным для священников и дьяконов. Возможно, что московская митрополия, попавшая после смерти святого Алексея (12 февраля 1377 г.) в руки церковных деятелей разного качества, искала повод для ущемления новгородской епархии, стремившейся к автокефалии. Из летописного сообщения о миссии энергичного Дионисия ясно одно — Алексей Новгородский не был ярым преследователем сомневающихся и мятущихся; он, очевидно, воспринимал «стригольниковых учеников» как и все горожане: книжные, чисто живущие люди, проповеди которых «сладко есть слушати». Богатая софийская казна, по всей вероятности, позволяла ему, бывшему софийскому клирику, не брать при поставлении преувеличенных проторей и мзды[365]. А спокойное отношение к народным сказаниям (апокрифам) и почтительное вычленение из троицы только одного Иисуса Христа, главного лица евангельского учения, выявившиеся при анализе креста, поставленного «повелением боголюбивого преосвященного архиепископа Олексиа», были продиктованы духом времени. 1385 г. На княжеском дворе собралось вече для решения вопроса об автокефалии новгородского епископата:
Целоваша крест Федор посадник Тимофеевичь тысяцкий Богдан Обакунович и вси бояре и дети боярьскии и житьи и черные люди и вся пять концев — что не зватися к митрополиту! Судити владыке Алексею в правду по манакануну [номоканону]…1386 г. Дмитрий Донской с большим войском подошел к Новгороду, стремясь наказать его за ушкуйничество и разбои. Владыка Алексей пытался склонить князя к миру, но безуспешно: «Князь владыце не послуша». «Низовцы»-москвичи тем временем, как мы уже видели, сожгли 24 пригородных монастыря (в том числе и Успенский Волотовский). Новгород откупился большой контрибуцией, и великий князь согласился на мир и прислал наместника и сборщиков дани, а митрополичья канцелярия (сам Пимен был вызван в Царьград) послала своего деятеля:
Приездил в Великий Новъгород в великое говенье [1387 г.] Стефан владыка Перемьский из Великой Перми, что крещал пермичь[366].Результатом этого приезда было известное нам «Списание от правила святых апостол и святых отецъ, дал владыце наугородцкому Алексею Стефан, владыка Перемыский на стригольникы». Третий раз поучали владыку Алексея. Первый раз в 1376 г. дружески и благосклонно поучал старший по сану митрополит Алексей, а два последующих поучения Алексею пришлось выслушать от только что получившего архиепископию Дионисия (1382 г.) и недавно поставленного в епископы Стефана Пермского (1387 г.). Следует учесть, что архиепископ Великого Новгорода был не только главой епархии, но в известной мере и главой боярской республики, руководя дипломатией и частью внутренних дел. Вероятно, поэтому владыка Алексей получал чувствительные удары и уколы во время возникновения новгородско-московских конфликтов. Политические коллизии вызывали стремление Москвы найти и обнародовать темные стороны непосредственно подчиненной архиепископу общественно-церковной жизни. А в этой области Новгород с его полуязыческим населением пятин и земель («Заволочье», «Двина», Беломорье) и грамотным городским посадом начиная с XI столетия являлся сложным и нередко весьма уязвимым организмом. По церковным делам Алексей отвечал и за Псков, стремившийся к автономии и автокефальности, что тоже усложняло положение новгородского владыки. При учете этих соображений мы должны несколько по-другому взглянуть на тот единственный комплекс письменных источников, на основании которого делаются выводы о глубоких еретических заблуждениях «стригольниковых учеников». Исследователи (М.В. Алпатов, Н.А. Казакова, А.И. Клибанов) понимали, что они имеют дело с тенденциозными, односторонними источниками, но (за неимением иных) иногда излишне доверялись им. Ни стригольников, ни епископальные власти нельзя оторвать от Города (будь то Псков или Новгород) во всей его социальной и культурной многослойности. Что касается владыки Алексея, то за все три десятилетия его управления епархией он был неразрывно связан с Новгородом. Со всем Новгородом — от простых посадских людей до бояр-посадников. И весь Новгород защищал его и радовался его успехам, а его летописец не забывал подчеркнуть это единстве и старался промолчать о неудачах и косвенно-оскорбительных поучениях, организованных Москвой, вроде «Списания» пермского епископа. Все три попытки воздействия на Алексея (1376, 1382, 1387 гг.) связаны со стригольниками и их тезисом, особенно раздражавшим духовенство: иереи, поставленные на мзде, не должны, недостойны принимать исповедь. Так, вероятно, думали не только стригольники, но и все горожане и лучшая часть епископата. Иначе трудно будет объяснить такую полную, гармоническую слитность Города и архиепископа Алексея, трижды уличенного в склонности к стригольникам или по крайней мере, к спокойному, не враждебному отношению к ним. 1388 г. Престарелый Алексей удалился от дел, уйдя в Деревяницкий Воскресенский монастырь, где была церковь, расписанная еще при Василии Калике, и специальные «владычные хоромы».
Съиде владыка Алексей с владычества по своей воли (4-я Новг.: «своего ради нездравия»), благословив своих детей — посадников и тысячкых и весь Новъград — в монастырь святого Въскресениа на Деревяницю на преполовление праздника владычня [середина великого поста], седев в дому святей Софеи лет 30 без лета и без 5 месяцъ (4-я Новг.: Изволи молчалное житие, в немощи будя). И много молиша и [его] весь Новъград, чтобы побыл в дому святей Софеи, донележе изведают, кто будет митрополит Рускои земли. И не послуша их…[367]1390 г. (6897) 3 февраля Алексей скончался.
Toe же зимы преставися архиепископ новгородчкый владыка Алексей месяца февраля в 3… и положен бысть в монастыри на Деревяници[368].Деревяницкий Воскресенский монастырь (пригородная архиепископская резиденция; церковь была построена еще Моисеем в 1335 г.), где были владычные палаты и где Алексей погребен в притворе Воскресенской церкви, находился невдалеке от Волотова, на полпути между Волотовским Успенским монастырем и Плотницким концом Новгорода. Гипотеза Г.И. Вздорнова о том, что роспись волотовской церкви была задумана и начата при жизни Алексея, а закончилась после его смерти, что позволило изобразить архиепископа с нимбом, мне представляется очень убедительной. Поджог пригородных монастырей в 1386 г. ставил на очередь вопрос о ремонте и покраске; публичное выступление Стефана Пермского в том же году требовало продуманного ответа. Живописное воплощение замыслов Алексея и его окружения, по всей вероятности, тщательно обсуждалось в 1387–1389 гг. Для выполнения фресковых работ, требовавших теплых дней, вполне достаточно было летних месяцев 1389–1390 гг. Близость деревяницкой резиденции Алексея к Волотову позволяла архиепископу наблюдать за ходом живописных работ.
* * *
Роспись Успенской церкви в Волотове уже охарактеризована в общих чертах по исследованиям В.В. Суслова, Л.А. Мацулевича, М.В. Алпатова, В.Н. Лазарева, Г.И. Вздорнова. Ее необычность, тонкость замысла, художественная и идеологическая смелость не позволяют обойти ее стороной при рассмотрении развития новгородской общественной мысли в конце XIV в. Единственная работа, в которой фрески Волотова рассматриваются в связи со стригольничеством, — это статья Т.А. Сидоровой[369]. Исследовательница пришла к выводу, что волотовская роспись является антитезой движения стригольников и направлена на развенчание их взглядов. Этот вывод основывается все на том же стандартном комплексе враждебных стригольникам поучений, исходивших от высшего духовенства Москвы. Оценивать стригольников только по этому одностороннему источнику так же опасно, как выносить судебный приговор только по речи обвинителя, не выслушав ни защитника, ни самого обвиняемого, ни свидетелей. В роли свидетелей должны выступить каменные покаяльные кресты из окрестностей Новгорода, а в качестве речи обвиняемого — литературные произведения вроде «Слова о лживых учителях» или «Предъсловия честнаго покаяния». Рассмотрим с этой общественно-полемической позиции концепцию всей системы фресковой росписи, автором или соучастником разработки которой, вероятно, следует признать главу новгородской церкви, трижды укоряемого за потворство стригольникам архиепископа Алексея. Успенская церковь представляет собой по существу невысокую башенку в 15 м высотой и с площадью основного помещения для богослужения, равной небольшой современной городской квартире — чуть больше 50-ти квадратных метров; с запада к ней примыкает маленький притвор площадью около 14 кв. м. Все это весьма интимно, и рассчитано на немногочисленную братию и на скромное количество прихожан. История храма и его росписи такова. 1352 г. «… Постави владыка Моиси церковь камену во имя святыя богородица Успение на Волотове». В этом же году Моисей был повторно приглашен занять архиепископскую кафедру, освободившуюся после смерти от чумы Василия Калики. 1352–1363 гг. Новая Успенская церковь простояла без росписи до самой смерти Моисея. Возможно, что это объясняется необычайно интенсивным строительством церквей в Новгороде; за эти 11 лет всего было возведено 13 храмов; из них 4 деревянных и 9 каменных, требовавших участия «церковных росписников» (термин тех лет). Из их числа пять церквей за семь лет (1352–1359 гг.) были построены Моисеем как архиепископом. Быть может, на все храмы росписников не хватило, или Моисей, круто взявшийся за искоренение еретиков, не ожидал, что события повернутся так, что ему придется вторично уходить в разгар событий и он не успел завершить задуманное? Как бы то ни было, но впервые стены Успенской церкви были частично оштукатурены только после смерти Моисея[370].* * *
«В лето 6871 (1363). Того же лета подъписана бысть церкви святыя богородица на Волотове в Моисееве манастыри повелением боголюбивого архиепископа новгородчкого Алексея»[371]. Если нам трудно представить себе русскую средневековую каменную церковь с голыми стенами, без всякой росписи, то не менее удивит нас и то, что было сделано «повелением боголюбивого Алексея» в 1363 г. Все стены и своды храма остались по-прежнему с нейтральной светлой помазкой, без штукатурки и фресковой росписи, и только в самой глубине алтарной части ярко выделялся сравнительно небольшой (150×300 см) прямоугольник площадью всего в 2 прямые сажени, расписанный многокрасочной живописью аль-фреско и обведенный широкой красной рамкой, удостоверяющей необычную ограниченность этой запрестольной композиции. «Церковный росписник», очевидно, преднамеренно сосредоточил все внимание каждого входящего в храм богомольца на единственном сюжете, который был виден всем пришедшим на богослужение и находился в самом священном месте — в алтарном полукружии около престола и синтрона. И эта совершенно уникальная ситуация, заставлявшая всех молящихся сосредотачиваться только на одном единственном красочном изображении, длилась на протяжении 25 лет, все то время, когда Алексей уже не находился под контролем своего старшего предшественника и сохранял свой пост главы новгородской епархии. Роспись в алтаре являлась как бы центральной иконой, а не стенописью и тема, избранная для этой цели чрезвычайно важна для нас. Казалось бы, что здесь должно было быть отображено то событие, которому посвящена данная церковь — успение богородицы (15 августа) — важный двунадесятый праздник. Однако алтарная фреска 1363 г. дает нам совершенно иное. В обрамленном красной полосой небольшом прямоугольнике (1,5×3 м) изображен престол, двое ангелов и двое святителей — Иоанн Златоуст и Василий Великий. Ангелы в дьяконских одеждах. На престоле изображен потир готической шестигранной формы. Святители держат в руках свитки со словами двух форм литургии — для «оглашенных» и для «верных». Эти две группы верующих были неравноправны: обе они имели право получить в процессе литургии причастие, но по прочтении Апостола и Евангелия дьякон удалял оглашенных: «Елицы [те, которые] оглашеннии — изыдите!» Это был пережиток раннехристианских времен, когда неполноправная группа состояла из людей, стремившихся стать христианами, но еще не получивших крещения. Состояние «оглашенных» в средние века недостаточно ясно. Возможно, что тогда учитывалось участие в богослужениях, регулярность исповеди и, может быть, участие в «предисловии честного покаяния» (?), одним словом, степень благочестия прихожанина. На свитке, который держит Иоанн Златоуст (левый святитель), написано начало сочиненной Иоанном молитвы об оглашенных: «Господи боже наш, живый на высоких! На смереныя призирая…» Свиток Василия Великого содержит начало литургии верных в виде обращения к богородице: «Изрядно о пресвятей, о пречистей, о преблагословенней владычице нашей богородице…»[372] Историки искусства предлагали различные варианты обозначения этой уникальной фрески: «Поклонение жертве», «Поклонение агнцу», «Великий вход», «Служба святых отцов» (наиболее обобщающее)[373], но для выбора обозначения следует обратиться ко всей сумме ритуальных действий во время литургии, и мы тогда увидим, что фреска-икона, как и многие средневековые иконы, обладает внутренней динамикой. Художник нередко показывает не только момент действия, но и результат его: воин заносит меч над головой Иоанна Крестителя и рядом, на этой же плоскости иконы, изображена Саломея, несущая на блюде отрубленную голову пророка. Уже одно то, что на фреске представлены символично два последовательных действия: литургия оглашенных и идущая вслед за ней литургия верных, говорит в пользу изображения нескольких стадий богослужения, предшествующих таинству причащения. Рассмотрим литургию Иоанна Златоуста[374]. Она подразделяется на три этапа: 1. «Проскомидия», принесение хлеба и вина. Размещение их на престоле. На фреске этот этап уже завершен, дискос для просфор и потир для вина уже находятся на престоле. 2. «Литургия оглашенных». Она представлена на фреске самим Иоанном Златоустом. После исполнения песни, сочиненной императором Юстинианом (VI в.), в которой он называет Иисуса Христа «Словом божьим» («Логосом») и «заповедью блаженства» (по «Нагорной проповеди»), происходит так называемый «малый вход», во время которого переносят евангелие с жертвенника, находящегося на север от алтаря, на престол. «Священнослужители выходят из алтаря северными вратами и проходят по солее к царским вратам» (с. 194). Полукружие царских врат изображено на фреске перед престолом. Историки искусства обратили внимание на то, что оба ангела смотрят на север, для чего левому приходится (очень грациозно) поворачивать голову в сторону от престола, чтобы встретить «малый вход» в алтарь. В это время диакон, поднимая Евангелие, возглашает: «Премудрость! Прости!» После «малого входа» священник читает молитвы, испрашивая прощение грехов. После этого оглашенным предлагается покинуть храм. 3. «Литургия верных». После херувимской песни происходит «великий вход»; тоже через северные врата вносят святые сосуды и ставят их на престол. Дьякон возглашает: «Возлюбим друг друга, да единомыслием исповемы!» Затем следуют: основной евхаристический канон, освящение даров и принятие причастия начиная с духовенства и кончая теми мирянами, которые намерены в этот день причаститься и уже где-то признались в своих грехах на исповеди. Широко распространенным стандартом было изображение таинства евхаристии в более торжественном виде: сам Христос, стоя у пышного кивория, раздавал хлеб и вино всем ученикам-апостолам. Фрески и мозаики на эту тему помещались на видных местах церквей, но все же являлись лишь малой долей многих десятков ветхозаветных, евангельских и патристических сюжетов, представленных в несколько ярусов на церковных стенах, столпах, арках, сводах и куполах. Такая многосюжетная живопись не могла управлять вниманием молящихся во время службы. Волотовская же фреска 1363 г., единственная на весь храм и посвященная всего лишь нескольким моментам непосредственно перед причастием, была, если можно так сказать, повелительно целеустремленна. Едва только богомолец входил в притвор церкви, как он уже видел в глубине храма целиком всю запрестольную фреску, говорившую ему, что все готово к исполнению таинства. И в такой готовности Успенская церковь находилась по крайней мере, 25 лет (с 1363 по 1388 г.). При суммировании всех обстоятельств, синхронных этому двадцатипятилетию возникает одна гипотеза, доказать которую трудно, а отбрасывать, быть может, и не стоит. Обстоятельства (формально они не являются доказательствами) таковы: 1. Фреска с литургическим сюжетом была создана архиепископом Алексеем на третий год его владычества только после смерти архиепископа Моисея. 2. Формально Алексей, разумеется, не был подчинен бывшему владыке, но старшинство Моисея, его связи с константинопольским патриархатом, щедро награждавшим этого гонителя еретиков, его авторитет в новгородских верхах — все это должно было сдерживать бывшего софийского «шестника», не имевшего при выборах 1360 г. даже сана дьякона. Смерть Моисея в январе 1363 г. позволила Алексею в первое же лето украсить церковь по своему усмотрению. 3. Небывалая по лаконичности и узости темы, по сосредоточению только на одном моменте роспись дает нам ключ к разгадке. Единственное во всем Успенском храме изображение не связано ни с успением богоматери, ни с проблемой покаяния, обязательно предваряющего причастие. Все внимание вошедших в храм направлено только на готовность к принятию святых даров, к совершению заключительного этапа главного христианского таинства, к которому молящиеся должны быть уже готовы. 4. Очень важно учесть, что предшествующий этап этого таинства — раскаяние (осознание греховности своих поступков и мыслей) и покаяние (просьба простить, помиловать) — уже позади, он совершен где-то вне стен этого храма, на него не направляет внимания создатель этой единственной росписи. Волотовский монастырь принадлежит к числу тех новгородских пригородных монастырей, близ которых, как мы уже знаем, находились огромные покаяльные кресты с пожеланиями здоровья, прощения грехов и спасения в век будущий. Для имени каждого кающегося тщательно отведено место на самой видной части креста после слов «… Помилуй раба своего» (далее вписывалось имя очередного исповедающегося). Вот у этих крестов, находившихся под открытым небом невдалеке от загородных церквей, и произносилась или мысленно, в сосредоточенном молчании протекала немая исповедь, предназначенная только богу. Все помолившиеся у крестов и признавшиеся в своих прегрешениях имели право принять причастие. К их услугам был Волотовский храм с его единственной фреской, обозначающей именно тот промежуточный момент, когда исповедь уже окончена и предстоит завершение обряда принятием причастия. 5. Возникает вопрос: если на протяжении четверти столетия необычная алтарная фреска удовлетворяла главу новгородской епархии и его паству, то почему в конце 1380-х годов решено было вернуться к привычной форме повсеместной росписи по всем стенам и сводам? Внешним поводом мог быть пожар 1386 г., а более глубокие причины могли быть связаны с тем, что у владыки Алексея сложились острые отношения с Дмитрием Донским, отвергшим в том же году просьбу Алексея заключить мир и допустившим поджог 24 подведомственных Алексею пригородных монастырей («Великий же князь велми держа нелюбье на Великий Новъгород и владыкы не послуша»). Алексей сам шел на конфликт с Москвой, и «нелюбье» Дмитрия Донского вполне объясняется резким и непочтительным решением новгородского веча в прошлом, 1385 г., когда новгородцы явочным порядком объявили автокефалию своей епархии, отменили подчиненность митрополиту и верховную церковную власть хотели вручить Алексею. Недовольство Москвы Алексеем выразилось в уже известной нам присылке епископа Степана к архиепископу Алексею с поучением в 1386/87 г.
Рис. 44. Роспись южной стены Волотовской церкви. Нижний ряд — история Иакова; средний ряд — сыновья Иакова; верхний ряд — «Премудрость созда себе дом».
К этим неприятностям добавлялось неустройство московской митрополии. Митрополит московский Пимен до середины 1387 г. находился в Царьграде, а в начале 1389 г. вопреки воле великого князя снова отправился туда же в третий раз. Киев обособился от Москвы — там был митрополитом Киприан, которого Новгород в свое время не принял… Непредсказуемость событий настораживала, и Алексей, очевидно, решил, что в такое смутное для церкви время лучше не уклоняться от общепринятого обычая расписывать церкви полностью. 6. Любопытно отметить, что в новой росписи (подробнее об этом ниже) первая фреска, встречавшая богомольцев при самом входе в притвор, изображала ни что иное, как своего рода «протоевхаристию», библейский прообраз таинства причащения, иллюстрацию к притчам Соломона, где речь идет о принесении жертвы вином и тельцами. «Ищущим ума» людям слуги протягивают кубки с вином…
* * *
Рассмотрим интереснейший комплекс всей храмовой росписи, достигавшей в некоторых местах девяти ярусов. Историки искусства, восхищенно занимавшиеся волотовскими фресками, много сделали для раскрытия содержания и общей концепции всей росписи[375]. Начнем рассмотрение с западного притвора (вход в храм), построенного одновременно с основным зданием. Притвор — первое помещение, в которое вступает входящий в церковь богомолец. Это как бы предисловие к той огромной книге, написанной живописными символами, какой является система фресковой росписи всей церкви[376]. Северная и южная стены покрыты коробовым (полуцилиндровым) сводом; западная и восточная стены (содержащие входные проемы) завершаются полукружиями. В центре свода наверху — крупное изображение богородицы — знамение (сюжет № 180). Богородица как бы встречает входящих, с поднятыми к небу руками — «заступница», «предстательница». Восточная стена (в глубине притвора) видна входящим прихожанам в первую очередь. Наверху, в полукруглом люнете, показано воскресение Иисуса Христа: покинутый гроб, омертвевшие от ужаса римские солдаты; справа — жены мироносицы, слева — встреча Христа с Марией Магдалиной (все это № 170). Главной фигурой здесь, пожалуй, является огнеликий ангел, посланный осуществить чудо: «Вид его был как молния, и одежда его бела как снег» (Матф. XXVIII-3). Белоснежные крылья широко, распахнуты. Произошло чудо, вселяющее человечеству надежду на будущее: «Я с вами во все дни до скончания века. Аминь!» (Матф. XXVIII-20). По сторонам входа в основной храм — архангел Михаил (слева, с северной стороны) и Гавриил справа (№ 171, 172). Оба архангела — красивые серьезные юноши. Михаил представлен воином, только что вынувшим меч из ножен, но не для убийства, а для охраны или церемониала. Гавриил держит в одной руке «мерило» (мерный жезл), равное примерно половине косой сажени, а в другой сферическое «зерцало», похожее на глобус. Сходство с глобусом придает своеобразная раскраска, напоминающая географические карты: голубоватые моря, зеленая суша и коричневатые горы. Представление о шарообразности Земли, установленное еще Эратосфеном, возродилось к тому времени и отразилось в сборнике Кирилло-Белозерского монастыря, составленном спустя два десятка лет после волотовской росписи (в 1412 г.)[377]. В статье «О земном устроении» форма нашей Планеты определяется составителем сборника так (в переводе): «Земля не является ни четырехугольной, ни треугольной, ни плоским кругом; Землю можно уподобить яйцу: сама Земля — желток, воздух вокруг нее — белок, а небо — скорлупа». В отличие от ранневизантийских представлений о небольших размерах Вселенной (например, Солнце казалось величиной с Царьград) автор 1412 г. считал расстояние от Земли до Солнца около 5 000 000 км[378]. Уровень научных познаний церковного росписника конца XIV в. небезынтересен для нас. На глобусовидном зерцале архангела нанесен экватор и несколько параллельных ему линий. Вся эта система нарисована не горизонтально, а наклонно, как бы учитывая наклон земной оси к эклиптике. Угол наклона (66°33′15″) на фреске дан с погрешностью всего лишь в полградуса; художник захотел и сумел выразить идею наклона оси «полюс-полюс» к эклиптике. Вся восточная стена в целом была как бы гранью между ветхозаветными сюжетами свода притвора (о них подробнее ниже) и росписью основного храма, в основном посвященной «нашей эре» от первого века до XIV. Это введение в новую эру было выражено тремя сюжетами: 1. воскресение Христа, как результат принесения предначертанной жертвы за все человечество; 2. защита христиан от внешних зол (архистратиг Михаил); 3. просвещение и осуществление божественной премудрости (архангел Гавриил). К богомольцам, выходящим после службы из храма, была обращена роспись западной стены притвора: встреча Марии, «понесшей во чреве своем» (после «благовещения») с беременной Елизаветой, почтительно и красиво поздравившей ее с этим событием («Богородице дево, радуйся…»). Вокруг этой жизнеутверждающей сцены написаны мученики, отшельники-столпники и несколько мучениц. Это было предостережением и назиданием людям, покидающим храм и выходящим в мир, полный опасностей. Мученики и мученицы страдали за свою веру. Возможно, подобная опасность могла угрожать и новгородцам и их женам в пору осуществления фресковой росписи?* * *
Совершенно особый интерес представляет роспись стен и свода притвора. Из четырех больших композиций одна полностью утрачена (низ северной стены). Начинать ознакомление следует с северной (левой) стены. Многофигурная фреска дает несколько разновременных событий, центром которых является пророк Моисей (№ 193). Моисей выводит народ к подножию Синайской горы: «Моисей взошел к богу на гору и воззвал к нему господь с горы…» (Исход XIX-3). Бог повелел Моисею подготовить народ к торжественному провозглашению заповедей, но с существенным ограничением: народ и даже священники не должны переступать черты, очерченной вокруг Синая, — только Моисей и Аарон имели право подняться к вершине.Жрецы же и людие да ся не нудят възыти к богу — да некогда погубит от них господь!На фреске в центре композиции изображена остро вздымающаяся к небу гора Синай, но вместо Саваофа художник поместил над горой медальон с богородицей (знамением), которая протягивает руку к Моисею как бы для того, чтобы взятьу того свиток. Неполноправность старейшин и жрецов подчеркнута и в 24-й главе книги Исхода: получать скрижали с заповедями бог разрешил только Моисею; «старцы» и даже первосвященник Аарон, брат Моисея, были оставлены у подножья горы (XXIV-1) и должны были «поклоняться издали…» Правая половина композиции посвящена построению «скинии собрания» (Вздорнов, № 194) с жертвенником внутри, окруженной крепостного типа оградой и прикрытой сверху облаком (Исход XXV–XXX). Во всей этой композиции мы ощущаем нестандартность отбора деталей. Так, например, здесь опущен такой важнейший сюжет, как вручение богом скрижалей Моисею. Диссонансом с текстом библии является изображение богородицы над Синайской горой. Но это не случайная ошибка художника, так как богородица есть и на южной стене в композиции, посвященной Соломону, т. е. совершенно вне реальной хронологии священного писания. Тысячелетние интервалы не помешали мастеру создавать искусственное представление об извечной, вневременной посреднической роли божьей матери[380]. Фрески на южной стене сохранились полностью до 1941 г. и хорошо зафиксированы. Роспись делится горизонтально на три яруса: верхний — «Премудрость созда себе храм» (Вздорнов, № 181); средний — шесть медальонов с изображениями сыновей Иакова (Вздорнов, № 184–189); нижний — История Иакова (Вздорнов, № 190–192). Тематика среднего яруса повторяет роспись северной стены, где уцелели только два медальона (Вздорнов, № 182–183) с сыновьями Иакова. Таким образом, из шести отдельных тем росписи всего притвора нам остается неизвестной только одна — погибшая еще в XIX в. нижняя композиция северной стены. Можно предполагать, что она была посвящена такому ветхозаветному персонажу, который мог бы равняться по своему месту в Ветхом завете Моисею, Иакову и Соломону. Вероятнее всего, там могла быть отражена история царя Давида, победителя Голиафа и творца Псалтири, состоящей из личных обращений автора непосредственно к богу. Рассмотрим наиболее ранний хронологически сюжет росписи нижнего яруса южной (правой) стены притвора Успенской церкви — историю Иакова, внука праотца Авраама (№ 190).(Исход XIX-24. Федоровская библия)[379].
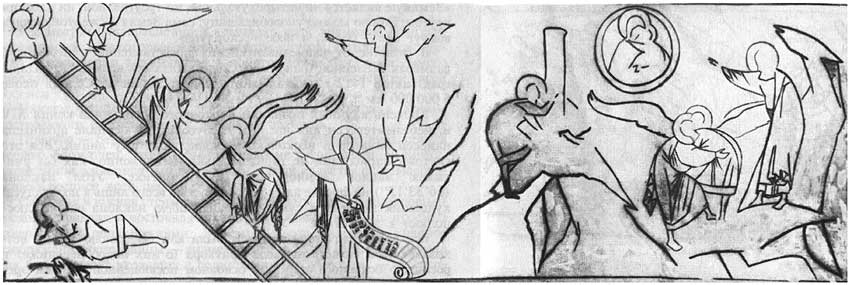
Рис. 45. Фреска «История Иакова».
Библейский рассказ об Иакове полон противоречивых характеристик и острых ситуаций, во время которых бог постоянно принимает участие в делах и бедах Иакова: сам является ему во сне и наяву, дает советы, испытывает его, приказывает. Читателям библии неясно происхождение такой благожелательности — Иаков, являясь близнецом и находясь еще во чреве матери, заводил там, в утробе, драки с братом Исавом. Оказавшись при родах вторым, Иаков стремился к первородству и, как известно, выторговал у брата это преимущество за знаменитую чечевичную похлебку. Грубым обманом получил он и благословение слепого отца, прикинувшись братом Исавом (Бытие XXV 21–34; XXVII); когда же истина выяснилась, Иакову пришлось бежать в Месопотамию. Ничего этого на волотовской фреске нет; художник заинтересован только одной темой — общением Иакова с богом. Эта тема представлена тремя эпизодами: во-первых, сном Иакова, во-вторых, установкой им памятника — «столпа» — на месте своего чудесного сна и, в-третьих, борьбой бога с Иаковом, во время которой тот «повредил сустав бедра у Иакова» (Бытие XXXII-25). Сон Иакова, бежавшего от мести брата Исава, таков: ему приснилась гигантская лестница от земли до самого неба; по лестнице вверх и вниз ходят ангелы, а на самом верху стоит сам бог и обещает Иакову и его потомству ту землю, на которой он сейчас находится: «Я сохраню тебя везде, куда ты ни пойдешь… Я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе» (Быт. XXVIII-15). На фреске показан и спящий Иаков и ангелы, но вместо бога над вершиной лестницы изображена богородица-Знамение. У подножья небесной лестницы стоит святой Иоанн Лествичник со свитком в руке, а рядом на скале изображен пророк (?) или евангелист Иоанн (мнение Г.И. Вздорнова), указующий рукой на верх лестницы. Надпись на свитке не связана с библейским сюжетом:
Славы божые тя, богородице, показа целовекомъ — небесную лествица. Тобою бо к нам сшел естьБогородица рассматривается как своего рода «небесная лестница», при посредстве которой Иисус Христос сошел с неба на землю[381]. Библейский сюжет здесь переводится в иную, новозаветную евангельскую плоскость. Это один из средневековых способов приблизить богородицу, роль которой все возрастает, к ветхозаветному богу и к троице.(№ 190)

Рис. 46. Фреска «Премудрость созда себе дом (храм)». Слева — храм царя Соломона; в центре — трапеза «премудрости божьей», на которой все «ищущие ума» наделяются вином и мясом тельцов (ветхозаветный прообраз евхаристии).
В середине фрески на видном месте изображен холм, на вершине которого Иаков воздвигает свой «столп» в виде четырехгранной колонны с подобием раннеионийской капители наверху (№ 190-4 Записные книжки 1910 г.). Третий эпизод в правой стороне фрески иллюстрирует загадочный текст 32-й главы Книги Бытия. Иаков нажил богатство, наплодил от жен и служанок одиннадцать сыновей (Вениамин родился позже) и, решив загладить свою вину перед братом, двинулся со всеми людьми и стадами в родную землю. Однажды ночью на небольшой переправе «остался Иаков один. И боролся Некто с ним до появления зари… И сказал (противоборствующий Иакову): „Отпусти меня, ибо взошла заря“. Иаков сказал: „Не отпущу тебя, пока не благословишь меня!“» (Быт. XXXII-24-26). На фреске Иаков борется с ангелом, но текст Библии говорит о другом: «Ты боролся с богом и человеков одолевать будешь». Бог изменил имя Иакова на Израиль. Эта легенда передает очень архаичные представления об испытании героя непосредственно божеством. Рядом со сценой борьбы нарисован пророк, указывающий рукой на богородицу, повторно изображенную над изображениями схватки и «столпа». К этому «столпу»-памятнику текст Библии возвращается в 35-й главе. После того, как состоялось примирение Иакова с братом и дядей (братом матери), бог сказал Иакову-Израилю:
Изыиди в место Вефиилево [место столпа — «Дом Божий»], живи ту. Сътвори же олтарь богу, явльшемуся тебе, егда бежа от лица брата своего ИсаваЕсли поставить это поведение бога в связь с тем, что происходило в Новгородской епархии на рубеже XIV–XV столетий, когда там, по словам митрополита Фотия, усиленно ставились новые алтари и новые жертвенники, то можно подумать, что волотовский художник отнюдь не случайно напоминал прихожанам начало очень важной главы в Книге Бытия, повествующей о даровании богом земли для всех 12 колен Израилевых (Иаковлевых). Получив такое повеление, Иаков, прежде всего, озаботился уничтожением разнообразных идолов, которым поклонялись его родичи и челядь. «Рече же Иаков дому своему и всем, иже с ним: „Поверзете вы богы чюждая, иже с вами! И от среды их [сущности] очиститеся и измените ризы своя“». Окончательно избрав бога своего отца и деда, Иаков повел свой род в Ханаанскую землю, туда, где он когда-то увидел небесную лестницу и слышал голос этого бога. Народы и жители городов на пути испытывали «страх божий» и «не гнашася въслед сынов израилевых». Далее в Библии излагается тезис о богоизбранности племени, признавшего только этого бога и отвергнувшего «чуждых богов»:(Быт. XXXV-1. Федоров. библия)
И рече ему [Иакову-Израилю] бог: «Аз есмь бог твой. Расти и множися! Языци [племена] мнози будут от тебе и цари от чресел твоих изыдут! И землю, юже дах Аврааму и Исааку — тебе даю и семени [потомкам] твоему»На старом месте, где много лет тому назад беглец Иаков поставил памятный камень, теперь он воздвиг каменный жертвенник, «Дом Божий» — Вефиль. При ознакомлении с текстом Библии мы видим, что волотовский «росписник» в своем живописном повествовании отбросил второстепенные мелочи (чечевицу, вражду братьев, рождение сыновей от жен и служанок) и сосредоточил внимание зрителей на поворотном (с точки зрения еврейства) пункте истории — на богоизбранности всех 12 колен израилевых. Важность именно этой темы подчеркнута не только тем, что с обеих сторон композиция обрамлена изображениями богородицы, но и тем, что на обеих стенках притвора широкой срединной полосой идут медальоны с сыновьями Иакова, родоначальниками всех двенадцати колен Израилевых, расселившихся от Галилеи на севере до гор у южного берега Мертвого моря.(Быт. XXXV-11-12. Федор. библия)
* * *
Из всей фресковой росписи волотовской Успенской церкви наибольший интерес для наших разысканий представляет композиция в верхнем ярусе южной (правой от входа) стены притвора. Здесь преподнесена тема «Софии-Премудрости божией», основанная на притчах царя Соломона, поучениях данных им сыну Ровоаму. В главе восьмой «Притчей» Премудрость говорит сынам человеческим от своего имени о преимуществах мудрости и знания, которые дороже серебра и золота и драгоценных камней. Премудрость существовала еще до создания мира богом:Господь сьзда мя в начаток путий своих, в дела его прежде век основания [мира], прежде сътворения земли и прежде сьтворения бездны…Премудрость присутствовала при сотворении мира и радовалась «егда веселяшеся Вселенную скончав». София-Премудрость обращается к сынам человеческим:(Притчи Соломоновы VIII-22-23. Федор. библ.)
Ныне же убо чада, послушайте мене! И блажены, иже пути моя сохранят. Слышите Премудрость и упремудритеся [станьте мудрыми] и не преступите! [не уклонитесь от разумного] Блажен бо муж, иже послушает мене и человек, иже пути моя хранит и бдяй при моих дверех присно стрегий подбоя моих вход [всегда охраняет от нападения входы ко мне]…Можно представить себе, как часто в своих проповедях и рассуждениях обращались к подобным каноническим текстам люди вроде Карпа-стригольника или художника Якова, сына Федосова, глубоко чтившие древо познания, «древо разумное». За четыреста лет существования русской фресковой живописи впервые именно в этой пригородной церковке появляется роспись, посвященная Премудрости божьей и ее роли в облагораживании человечества. Композиция фрески очень продуманная и глубокомысленная. Левая и правая стороны композиции разделены тысячелетним промежутком: слева — знаменитый храм Соломона (или храм Премудрости на семи столпах), из-за которого выглядывает Соломон со свитком, где текст, прославляющий Премудрость (сидящую по другую сторону храма), является как бы заголовком всей фрески. С правой стороны — огромное по сравнению с другими изображение богоматери на троне с младенцем Иисусом на ее коленях и Иоанн Дамаскин со свитком, текст которого воспевает и Премудрость, и богородицу. Все срединное пространство, все тысячелетие от царя Соломона (965–928 гг. до н. э.) до начала нашей эры отведено живописной расшифровке того, что написано на свитке Соломона, т. е. девятой главе «Притчей» Соломона:
1. Премудрость созда себе храм (вариант: дом) И утверди столп седмь. 2. Закла своя жертвенная и черпа в чаши своей вино и уготова свою трапезу. 3–4. Посла своя рабы с высоким проповеданием начашу глаголющи: «Иже есть безумен — да уклонится ко мне [сомневающийся, без твердых взглядов, да направится ко мне]» И хотящим ума [т. е. поучения, наставления] рече: 5. «Приидете, ядите мой хлеб и пийте вино, еже черпах вам. 6. Оставите безумие и живи будете и вовеки воцаритеся! И взыщете премудрости и поживете и исправите во сведении разума…»Т.А. Сидорова в своей статье об этой фреске очень добросовестно и подробно разобрала как вопрос об отношении к проблеме премудрости христианских богословов от Оригена и Киприана Карфагенского (III в.) до патриарха Филофея (современника стригольников)[383], так и новейшую западную литературу, посвященную этой теме[384]. Трапеза Премудрости с вином и хлебом, устроенная для людей, «ищущих ума», «жаждущих поучения истине», давно уже расценивается в христианской литературе как своего рода протоевхаристия, ветхозаветная предшественница евангельской тайной вечери, положившей начало таинству причащения у всех христиан. Премудрость широко оповещает («с высоким проповеданием») о своем желании научить людей разумному познанию, которое приведет к тому, что нашедшие ум «вовеки воцарятся», т. е. в переводе на евангельские понятия достигнут вечного пребывания в царствии небесном[385]. На волотовской фреске именно эта трапеза со всеми ее жизненными подробностями занимает срединное место в композиции, как бы соединяя Премудрость времен Соломона с богородицей, открывающей рождением сына новую эпоху. Надпись на свитке Соломона очень точно воспроизводит начальную часть притчи, а надпись на свитке Иоанна Дамаскина, обращающегося к богородице, связывает воедино ветхозаветное с Новым заветом:(Притчи. IX-1-6. Федоров. библ.)[382]
Всевиновная [первопричинная] и подательная жизни безмерная Мудрость Божия созда храм свой от пречистыя, безмужныя матере — церковь плотию обложи собе. Славен прославися Христос бог нашь[386].Волотовская фреска была первым на Руси изображением темы Премудрости; после нее, в XV–XVI вв., появились иконы, резные образки, тщательно собранные и опубликованные Т.А. Сидоровой. Рассмотрим центральную сцену «протоевхаристии» по совокупности источников, что восполнит недочеты сохранности успенской росписи. Начнем с большой иконы «Премудрость созда себе дом» первой половины XVI в. (до 1548 г.) из пригородного Кириллова монастыря близ Новгорода[387].

Рис. 47. Икона XVI в. из монастыря под Новгородом с изображением темы «Премудрость созда себе храм».
Библейскую фразу о семи столпах иконописец XVI в. истолковал как семь вселенских соборов христианской церкви и отвел им резко отграниченную верхнюю треть иконы. Премудрость, рожденная богом «прежде потечения источник водных, прежде даже неутвердишася горы… егда веселяшеся Вселенную скончав», эта Премудрость помещена в левой начальной части композиции, а Соломон, как и должно быть при соблюдении хронологического ряда, поставлен после изначальной, «первопричинной» Премудрости, между ней и богоматерью на фоне великолепных строений Иерусалима. Богородица на троне и Иисус господствуют в композиции в правом верхнем углу, соблюдая хронологическую последовательность: сотворение мира; царство Соломона; возникновение христианства. Вокруг Премудрости, сидящей на скамье с жезлом и чашей — пять «кругов славы»; внешний круг с восемью «ангельскими чинами» и интересным, как бы «муаровым» орнаментом, который, очевидно, должен был символизировать неустроенность, расплывчатость очертаний творимых богом материков, морей и облаков. Следующий, ярко-красный круг содержит, по мнению Т.А. Сидоровой, иллюстрацию к пророчеству Иезекииля (Иезекииль 1-10). Это верно в основном, но следует сделать очень важное примечание: из четырех четырехликих чудовищ художник изобразил только то, что точно соответствовало символам четырех евангелистов: Ангел — Иоанн Орел — Матфей Лев — Марк Телец — Лука Это еще один штрих, характеризующий стремление связать христианскую символику с ветхозаветной. Над головой Премудрости (в своеобразном восьмиугольном обрамлении), в вершине круга с символами евангелистов, нарисован большой золотой потир. Фигуры историко-богословского окружения центральной сцены (Премудрость, Соломон, Мария) даны в малом масштабе, а люди основной темы — трапезы — даны крупно, рельефно, экспрессивно. Рабы Премудрости режут тельцов, разливают вино из пифоса, врытого в землю. Семеро молодых служителей протягивают кубки с вином толпе как бы подбежавших к столу людей разного возраста, протягивающих руки к налитым чашам. Протянутые руки художник изобразил на очень светлом фоне, что сразу привлекает внимание к ним. Это «ищущие ума», требующие разумного поучения, приобщения к премудрости, стремятся принять участие в священнодействии трапезы, для них устроенной Премудростью Божией. Лучшего прототипа евхаристии, лучшего показа потребности в постижении разумного, показа, сделанного на широчайшем фоне нескольких тысячелетий мировой истории нам не найти. Первым, кто на Руси преподнес верующим эту многозначительную трапезу разума и премудрости, был наш волотовский церковный росписник 1380-1390-х годов. Новгородская же икона — прямой отзвук волотовской фрески.

Рис. 48. Группа исследователей, спасших для науки живопись Успенской церкви в Волотове своими работами 1910–1911 гг. (уничтожена фашистами в 1941 г.). Слева направо: Н.Л. Окунев, Н.П. Сычев, Л.А. Мацулевич. Леса поставлены под фреской, показывающей приход Софии Премудрости божией к евангелисту Матфею.
Вернемся к росписи притвора Успенской церкви в Волотове (№ 181). Премудрость здесь не отягощена библейской символикой и не уравнена с Богородицей, данной здесь в очень крупном масштабе. Главная, средняя часть композиции посвящена приходу большой толпы разноплеменных (наблюдение Т.А. Сидоровой) людей, «ищущих ума». Служители Премудрости стоят на большой горе и с чашами в руках склоняются к стоящим у подножья горы приглашенным на трапезу, а те очень благопристойно и чинно принимают чашу. Толпу взыскующих разума отделяет от трона Богоматери с Иисусом Иоанн Дамаскин, на свитке которого написано: «Всевинна [первопричинная] (?…) и подателна жизни безщисла [непрестанно дарующая жизн[) Премудрость божия созда храм свой от пречистыя безмужныя матере — церковь. Плотию обложи собе — славен, прославися Христос бог нашь!» Общая идея этой неясной в некоторых деталях из-за утраты букв надписи такова: Премудрость (просуществовавшая уже пять с половиной тысяч лет) воплотилась в девушке, чудесным образом родившей сына — спасителя человечества; мать бога приравнена к церкви, к средоточию, жизненному выражению новой истинной веры, к собранию верующих[388]. Волотовский художник или все софийские соборяне во главе с владыкой Алексеем, разрабатывавшие и одобрявшие концепцию новой росписи Успенской церкви через много лет после ее постройки, стремились пропагандировать ту же самую идею, которую в начале владычества Алексея выразил Яков Федосов в своем людогощинском «древе разумном». Но древо познания — это древо запретного плода; оно легко вызывало осуждение духовенства с естественной ссылкой на первые страницы Библии, что для начетчиков сразу же отсекало всякую возможность возражений им со стороны людей «треченто», по-новому понимавших проблему разумности и пытливости. Недаром первой фразой Стефана Пермского, обращенной к новгородцам и Алексею в 1387 г., было напоминание о запретном плоде: «Аще снеси [если съешь] от древа разумного — смертью умреши!» Тщательно подготовленное выступление Стефана было в известной мере ответом на создание в 1360 г. Яковом Федосовым красочного и многозначного креста-древа. В свою очередь, концепция успенской росписи с ее Премудростью, слуги которой встречают чашами с вином всех изыскующих разума у самого входа, при первых же шагах богомольцев, перешагнувших церковный порог, становится как бы прямым ответом пермскому епископу, явившемуся поучать новгородцев. Концепция росписи разрабатывалась, по всей вероятности, почти сразу же после выступления Стефана — в 1388–1389 гг.

Рис. 49. Фреска в юго-восточном «парусе» подкупольной конструкции: евангелист Иоанн прислушивается к голосу бога, идущему из ущелья. Возможно, что профиль в левой части фрески, обращенной к Иоанну, символизирует этот голос.
Стефан Пермский выявил опасную уязвимость смелой, но несколько наивной попытки Якова Федосова защитить древо познания как символ Разума, как собрание примеров непосредственного общения людей с богом — источником высшего разума. Достаточно было одной цитаты из Библии, чтобы показать неуместность самой формы федосовского креста-древа, напоминающей о первородном грехе Евы и Адама. Имея на руках «Списание» пермского епископа, Алексею Новгородскому и его «росписнику» нужно было искать другое оружие для защиты принципа разумности. Греховность Адама не очень логично была отведена изображением его в нимбе и с надписью «агиос Адам» (Вздорнов, № 28), но это ничего не решало; нужно было найти нечто более весомое, что могло бы быть противопоставлено очень архаичным отголоскам первобытного дуализма, соединенного с тайнами жреческого познания, которые сохранило начало Книги Бытия. И новгородцы, триста лет почитавшие свою патрональную святыню — собор Софии Премудрости божьей, — нашли хороший выход из того неудобного положения, в которое их поставил Стефан своими нападками на «древо разумное», — они прибегли к привлекательному образу Премудрости божьей, возникшей еще до начала мироздания, радовавшейся процессу сотворения мира, а в исторические времена созывавшей на свою трапезу всех пытливых, вопрошающих, «требующих ума». Мы уже видели, что при первом вступлении под своды притвора новгородцы, пришедшие в церковь, были подробно ознакомлены и с мудрым строителем иерусалимского храма Соломоном, и с сидящей у этого храма Премудростью, и с трапезой для ищущих ума, и с богородицей, на которую, по-видимому, в какой-то мере проецировались качества Премудрости. Перед художником стояла еще одна задача, которая описанной выше фреской в притворе по существу не решалась — как связать ветхозаветную Премудрость с христианскими временами, как с ее помощью отстоять право на поиск, на размышления в своей современности? Художник не оставил тему Премудрости, не ограничился показом ее только в проходном пространстве притвора. Эта фреска была своего рода только эпиграфом. Как только богомольцы вступали в основное помещение церкви, так над ними оказывалось изображение богоматери-знамения с полным повторением слов о Премудрости (круговая надпись вокруг медальона в своде нартекса. Вздорнов, № 48)[389]. Текст притчи Соломона о Премудрости был хорошо известен всем новгородцам по фреске в барабане купола Софийского собора (роспись 1109 г.), где изображен царь Соломон, держащий свиток, начинающийся словами: «Премудрость създа себе храм…»[390] Богородица с сыном на руках («Знамение») приобретает в XIV в. черты ветхозаветной Премудрости. Древняя Премудрость здесь воплотилась в одной из земных девушек, которая чудесным образом явилась «телесной церковью», реальным местом материализации бога-сына, который «славно прославися». Такая трактовка (Косьма Маюмский) как бы продолжала жизнь Премудрости в двух ипостасях — Марии и рожденного ею Иисуса. Образ «Знамение» дает нам и мать и ребенка-сына в устойчивом единстве. Дублирование «Знамения» и одного и того же текста и в притворе и в самом Успенском храме свидетельствует о том значении, которое придавалось теме «христианизированной» Премудрости, но настоящий показ этой темы дан особо. Мастер выбрал для этого наиболее выгодные места в самой срединной части церкви — в подкупольном пространстве, где переход от четырех подпорных столбов к цилиндру главы образует сферические треугольники сводов — «паруса». Он отвел их четырем евангелистам. Так как во время разных богослужений годичного и недельного цикла очень часто читаются избранные места из того или иного евангелия, то очень удачно оказались расположенными «голосники», сосуды-резонаторы, вмазанные рядом с изображениями евангелистов в «парусах». Слушателям могло казаться, что голос священнослужителя исходит как бы от евангелиста. Художник новаторски и весьма элегантно решил свою задачу прославления Премудрости христианских времен: к трем евангелистам (за исключением апостола Иоанна) он направил Премудрость, принесшую книгу каждому автору[391]. Во всех трех случаях София-Премудрость изображена одинаково. Это молодая девушка в длинном хитоне с поясом и открытым воротом; рукава очень коротки, и обнаженные руки Премудрости несколько нарушают церковную строгость. М.В. Алпатов справедливо назвал эти три изображения Премудрости «обаятельными женскими фигурами»[392]. Признаками Премудрости являются жезл и восьмиугольный цветной нимб из двух наложенных друг на друга квадратов; у всех изображенных повязки на голове. Одежды Софии в каждом отдельном случае разные по цвету. Вероятно, это связано с тем, что все три композиции Премудрости с евангелистами передают разные моменты первичного проявления ее перед тем или иным будущим автором. 1. Евангелист апостол Матфей. (Вздорнов. Волотово, № 20; Алпатов. Фрески, № 85). Свиток пергамена у Матфея на левом колене; в правой руке инструмент для графления листов. На столе еще не открытая книга. София-Премудрость в красноватом хитоне, непринужденно опираясь на стол апостола, что-то внушает ему; Матфей сосредоточен. 2. Евангелист Лука. (Вздорнов. Волотово, № 21; Алпатов. Фрески, № 87). Книга на пюпитре уже раскрыта, пергамен уже разлинован и расположен на правом колене (как следует для письма). Премудрость стоит за спиной евангелиста, нежно положив левую руку ему на плечо, а правой указывая на книгу. 3. Евангелист Марк. (Вздорнов. Волотово, № 22; Алпатов. Фрески, № 86). Премудрость стремительно уходит, указывая рукой на оставляемую книгу.

Рис. 50. Серия изображений Премудрости, посещающей евангелистов. Премудрость в шестизубчатом нимбе у евангелиста Матфея; она принесла книгу, кладет ее на стол и что-то наставительно говорит апостолу. Премудрость у евангелиста Луки. Книга уже раскрыта и Лука держит в руках разлинованный свиток. София стоит за спиной евангелиста-художника и ласково указывает ему на текст книги. Премудрость у Марка. Евангелист уже пишет на свитке, а София стремительно уходит, обращая его внимание на раскрытую книгу. Все три фрески Волотовской церкви образуют как бы единую динамическую композицию, в которой София движется слева направо от одного писателя к другому, вдохновляя их книгой Разума.
Эти три фрески создают у богомольцев, покидающих храм после службы, эффект движения нарисованных фигур: Матфею София только что принесла книгу, не успев еще ее раскрыть; Лука уже изготовился к письму, София что-то шепчет ему, разъясняет. У Марка приготовления и разъяснения уже завершены, он уже пишет (виден текст), Премудрость покидает его. Эта хорошо заметная асинхронность придает Премудрости определенную жизненную динамичность, как бы приобщая юную грациозную девушку к земным, человеческим делам. Символом Премудрости Божией здесь является не столько эта «обаятельная женская фигура», сколько книга, концентрат и источник мудрости. Во всей волотовской росписи множество книг, свитков, текстов (зачастую очень пространных). Христос иногда изображается не Пантократором, а учителем с книгой в руках. Перечень персонажей, изображенных на стенах и сводах Успенской церкви, — это своего рода каталог «библиотеки», каковой являлась живопись этого храма. Большинство персонажей было авторами ветхозаветных или христианских произведений (от библейских пророков до таких исторических лиц, как Косьма Маюмский, Иоанн Дамаскин, Феодор Студит, Феодосий Печерский). Быть может, не случайно удостоился здесь изображения святой Варлаам (№ 158). Начитанные и несомненно знакомые с общественной жизнью Византии верхи новгородского духовенства знали о современных им спорах между «паламитами» и «варлаамитами» и, принимая сторону последних, могли намеренно предоставить место их древнему патрону. Обращения к Премудрости божией в росписи Успенской церкви мы видим и в других случаях, из которых особо следует отметить величественную женскую фигуру Вселенной, держащей в руках покров с двенадцатью запечатанными свитками (Вздорнов. Волотово, № 70; Алпатов. Фрески, № 63)[393].

Рис. 51. Свиток.
Фигура Вселенной была как-бы продолжением темы «Сошествие святого духа на апостолов», где каждый апостол держал (как символ мудрости нового учения) книгу или свиток. Еще не распечатанные свитки у Вселенной предназначались тем народам, которым предстояло познать мудрость в будущем. Тема Премудрости в разных ее проявлениях пронизывает всю роспись Успенской церкви, отражая веления того времени, когда ценилась не только простая начитанность, но разумное проникновение в смысл, возможность сомнения в неразумном, поиск истины. Интерес к проблеме разумности проявлялся тогда повсеместно. Летопись отмечает, что в 1385 г. «преведено бысть слово святаго и премудраго Георгия Писида: „Похвала к богу о сотворении всеа твари, яко възвеличишася дела твоя, господи, вся Премудростию сотворил еси“»[394].
* * *
Какое отношение имеет концепция волотовской росписи конца 1380-х годов к движению стригольников? Т.А. Сидорова ответила на этот вопрос, опираясь не на весь живописный комплекс этой церкви, а только на одну (правда, очень важную) фреску в притворе: «Основная идея этой фрески — идея новозаветной искупительной жертвы, связанной с вочеловечением второго лица троицы — Логоса [Христа]… и спасительного действия евхаристического таинства — является прямым ответом новгородским еретикам на их книжные мудрствования»[395]. Г.И. Вздорнов, не используя недавно введенный в науку материал об ошибочности представлений исследователей об отказе стригольников от исповеди, тем не менее, возражал Т.А. Сидоровой: «Превосходная в своей иконографической половине, эта статья представляется нам неоправданной именно в той своей части, которая посвящена предполагаемой антиеретической направленности упомянутой композиции»[396]. Собранный мной в этой книге материал, синхронный стригольническому движению, напоминает разбросанные детские кубики с наклеенными на них фрагментами каких-то картинок. Понять смысл отдельных изображений очень трудно, но когда кубики правильно сложены, то зрителю выявляется целостная картина. Приступим к такому синтезу. Исходя из того, что оба волотовских мастера — и 1363 г. и 1390 г. — придавали таинству евхаристии в своей концепции росписи первостепенное значение, вернемся к рассмотрению определяющей проблемы: «Стригольники и таинство исповеди и причащения». В тяжкие времена ордынского ига каждое общенародное несчастье: чума, иной какой-нибудь мор, засуха, саранча, нашествие соседей, разорительное княжеское «розмирье» — все объяснялось гневом божьим, справедливым наказанием за непрощенные или скрытые от бога прегрешения людей. При господстве такого образа мыслей исповедь, полное признание греховности своих недобрых дел, становилось отнюдь не личным делом отдельного человека, а делом общенародным, как общенародны были небесные наказания за злые дела каждого человека. Когда к размышлениям о божьей каре на этом скоротечном свете добавлялись мрачные мысли о возможности утратить навсегда надежду на вечное место «в божьем стаде» после Страшного Суда, тогда роль искреннего покаяния и очищения еще более возрастала. Весьма примечательно, что специальное сочинение о коллективной подготовке к индивидуальной исповеди — «Предъсловие честнаго покаяния» — написано, как считает А.И. Клибанов, «может быть не позднее первой четверти XIII в.»[397]. А ведь судьбы Руси начали трагически меняться именно в то время; битва на Калке была не локальным сражением у берегов Азовского моря:1223 г. «Князь великий Киевский Мъстислав Романовичъ и з детьми и з зятем убиен бысть от татар. Сия же великая беда случися в Русской земле великим князем русским… и всем странам Русским месяца июня в 16 день. Татарове же гнашася за христианы до Новаграда Северскаго. Христиане же, не ведуще лести татарскиа, изыдоша противу их со кресты, они же [татары] зле иссекоша и домы их пожгоша, а имение огню предаша. Тако же и по иным градом ходиша… глаголаху же сице: яко единех киян [жителей Киевской земли?] избито тогда 60 000. А инех же невозможно и глаголати, сколко их избито! Точию един бог весть — число безчисленое…»[398]1229 г. Хан Батый начал наступление на Европу и захватил низовья Яика и Волги. Русский книжник, продолжатель знаменитого Даниила Заточника, готовит русских людей к тяжелому противостоянию:
Воскресни, боже! Суди земли! Силу князю нашему укрепи, ленивые утверди, вложи ярость страшливым в сердце! Не дай же, господи, в полон земли нашей языком, не знающим бога![399]1237–1240 гг. Яростная самоотверженность русских воинств не помогла. Батый прошел сквозь Русь, оставив пожарища. В полон попали почти все русские земли. Вот в этой-то обстановке и родилось «Предъсловие честнаго покаяния», которое должно было смягчить божью кару. 1380–1390 гг. То десятилетие, к которому историки искусства обоснованно относят интереснейшую роспись Успенской церкви на Волотовом поле, было сложным и крайне напряженным как для Руси в целом, так и для Новгородско-Псковской земли. Оно началось блестящей победой на Куликовом поле, победой, моральное значение которой было настолько велико, что русские люди XV в. все еще отсчитывали годы от «Задонщины», как от новой эры. Но хан Тохтамыш и его преемники удержали русские княжества в своих руках еще на целое столетие, что, разумеется, приводило к глубокому разочарованию. Дмитрию Донскому приходилось по-прежнему вести борьбу и с Тверью, и Рязанью, и Нижним Новгородом. Большие неурядицы происходили в московской митрополии: митрополит Пимен предпринимал длительные поездки в Царьград, сидел под арестом у Дмитрия Донского и снова становился митрополитом. Дионисий Суздальский, получивший право именоваться митрополитом московским, то ездил в Царьград, то поучал новгородцев от имени патриарха, а окончил жизнь под арестом у Владимира Ольгердовича в Киеве… Более удачлив был изворотливый и талантливый болгарин Киприан, которому удалось закрепиться в Москве в качестве митрополита. В Новгороде Великом то страдали от морового поветрия, то воевали с немецким орденом, прекратив на семь лет (1383–1390 гг.) всякую торговлю с Северной Европой, то оборонялись от Дмитрия Донского, возмущенного ушкуйными набегами (1386 г.), а то традиционно разделившись на два волховских берега, воевали друг с другом, сменяя в итоге неугодных кому-то посадников (1387 г.). Проблема общенародного покаяния как средства избавления от многообразия божьих казней была по-прежнему актуальной. В религиозном отношении Новгород в это десятилетие выступал очень монолитно. Стригольники, часто поучаемые именно в эти годы, не вносили, очевидно, разлада во внутреннюю жизнь города, в чем, по-видимому, следует видеть заслугу архиепископа Алексея, выступавшего всегда от имени всего Новгорода. В церковной жизни несравненно острее стоял вопрос о взаимоотношениях с Москвой, где митрополичьий стол нередко пустовал. Как мы уже видели выше, именно в эти годы Новгород (весь город, а не только епархиальные круги) объявил автокефалию новгородской церкви во главе с Алексеем (1385 г.). Единство горожан Новгорода в церковных делах продолжалось и после Алексея: в 1391 г. в Новгород с пышной свитой из нескольких епископов прибыл новопоставленный митрополит Киприан. Семь дней чествовали новгородцы главу русской церкви, но после протокольной церемонии встречи произошло непредвиденное:
В восмый же день, в неделю [в воскресенье] нача служити божественную литоргию во святей Софии Киприян, митрополит всеа Росии. И отслужив божественную службу и взыде на анбон [амвон]… и нача учити люди новгородцкия, на анбоне стоя с крестом. Они же не прияша учение его, затыкающе уши свои жестокосердием и непокорством, аки аспиды глухи и не восхотеша благословения. И удалися от них и облекошася вместо благословения в клятву [в проклятие][400].Новгородцы «едиными усты» напомнили митрополиту, что шесть лет тому назад, при Алексее, весь город, «вси заедин» поклялись отменить митрополичий суд «и грамоты есмя подписали и попечатали…». Через год после этого веча, возглавленного посадниками, Стефан Пермский упрекал новгородских стригольников в том, что они говорили: «Недостоин есть патриарх, недостойни суть митрополити…» Теперь, в 1391 г., когда Киприан объявил их последователями Сатаны, новгородцы в целом, а не только вольнодумцы-стригольники «не послушаша митрополита и не внимаху словесем его и учениям. И Антония патриарха послание и учение ни во что же положиша». Прожив в Новгороде две недели, Киприан «иде в Москву с нелюбием» (Татищев, с. 180). Для понимания места стригольников в системе общественной жизни Новгорода Великого чрезвычайно важно то, что в свете приведенных материалов 1387 и 1391 гг. мы по существу лишены возможности провести демаркационную линию между взглядами стригольников и горожан (всех званий) вообще. Возможно, что стригольники были лишь выразителями общего городского умонастроения, людьми хорошо образованными и явно стремившимися оттеснить или заменить наиболее слабых представителей духовенства. Борьба за новгородско-псковскую епархиальную автокефалию (или, точнее, полуавтономию) могла вполне примирить горожан со «стригольниковыми учениками». Быть может, не совсем случайно в обоих эпизодах в перечне духовных чинов пропущено одно весьма важное звено — епископ? Упоминаются простые иереи-священники, которые дерзают возражать отдаленным властям — митрополиту и патриарху, а о епископе не только умалчивают, но заранее планируют его руководство епархией и прямо называют имя своего современника — архиепископ Алексей. Вся сумма событий 1380-х годов, в которых победы чередовались с поражениями, устраняла полную безнадежность, но еще не снимала проблемы общего покаяния как средства существенного смягчения божьего гнева. И русские люди именно в эти 1380-е годы переписывают заново то «Предъсловие честнаго покаяния», которое родилось при первой грозе, после первого поражения от войск Чингисхана в 1223 г. Что представляло собой честное покаяние, к которому в особых экстремальных условиях потребовалось «предисловие», какая-то предварительная проповедь? Речь не идет о коллективной открытой исповеди, которая неизбежно должна была бы стеснять кающихся. Предисловие к покаянию — публичное чтение, яркая, страстная речь к собравшимся, задача которой — убедить народ в общественной необходимости полного и откровенного раскаяния. Как уже говорилось выше, к подобной проповеди допускался не каждый священник, а лишь тот, кто был подготовлен, «книжен», кто обладал ораторским талантом. Примером такого проповедника может служить Авраамий Смоленский, монах, игумен, иконописец, к которому стекались толпы людей из разных земель, разных общественных слоев. Проповедь завершалась исповедью и причастием. Авраамий действовал именно в то время, к которому исследователи относят возникновение сочинения «Предъсловия честнаго покаяния». В стригольническое же время, в 1355 г., житие Авраамия было, как уже говорилось, заново переписано. 2. Процедура совершения таинства причащения в XIV — начале XV в., судя по тем данным, которыми мы располагаем, была очевидно такова: начальным ее этапом была проповедь перед прихожанами — «предисловие»; второй этап, по всей вероятности, проходил в двух вариантах: один из них — обычная исповедь священнику в церкви, другой вариант — исповедь без священника и не в церкви, а у покаянного креста. Сосуществование этих двух резко различных вариантов подсказывается наличием во второй половине XIV в. покаянных крестов, но форма и длительность сосуществования предполагаемой двуобрядности исповеди в Новгороде нам неизвестны. Могло быть топографическое разделение — допустим, церковные власти разрешали производить исповедь (с предшествующим «предисловием»-проповедью) не в самом городе, а лишь у пригородных монастырей, где и найдены известные нам кресты. В этом случае исполнение обряда было под контролем монастырских властей и самой монашеской братии, которая сама не обязана была отказываться от обычной формы исповеди. Но для такого либерального решения вопроса жгучей спорности совершенно необходимо было согласие епископальной власти. Возможно, что архиепископ Алексей шел навстречу тем посадским кругам, которые настаивали на новой форме исповеди, открывавшей полный простор искреннему и полному признанию греховности. Судя по тому гладкому месту на покаянных крестах, которое оставлено для подписи кающегося «имярек» — мастер-каменотес рассчитывал не только на посадские низы, где люди ограничивались одним только именем или прозвищем, но и на боярско-купеческие слои, где обычным было написание не только имени, но и отчества. Высшая церковная власть в лице митрополита и тех епископов, которых московская митрополия посылала инспекторами в Новгород и Псков (Дионисий 1382 г., Стефан Пермский 1386/7 г.), была очень озабочена воссоединением стригольников с церковью, «единством веры». Епископат прекрасно понимал, что умонастроение стригольнического времени может найти опору в комплексе канонической литературы, создававшейся на протяжении нескольких тысячелетий. Не всегда он мог рассчитывать на победу в открытом споре, а прибегать к репрессиям не хотелось, так как это вконечном счете могло привести к поражению в словесной и литературной полемике. Церковные власти явно боялись большего обособления свободомыслящих горожан от церкви, что произошло в католической Европе в XVI в., и ожидали такой ситуации, когда они возрадуются «единству веры». Но для сглаживания разноречий и устранения полемики необходимы были какие-то уступки с обеих сторон. Мне представляется, что стригольники именно в эту пору обострения взаимоотношений с митрополией предложили новую форму покаяния у монументальных крестов, расположенных поблизости от пригородных монастырей. Эти кресты второй половины XIV в. были поставлены под открытым небом, врыты в землю (может быть, на каких-то небольших возвышениях), и на самих крестах иногда были вырезаны два изображения распятия: одно для целования стоя, в рост, а другое значительно ниже, к которому можно было приложиться только стоя у креста на земле на коленях. Не это ли имел в виду епископ Стефан, когда утверждал, что стригольники каются земле и что они смотрят на небо, «тамо зряще отца собе». И то, и другое было невозможно в церковных стенах; и то и другое естественно получалось при исповеди у покаянного креста. Церковные власти могли не слышать перечисления грехов (вероятнее всего, покаяние, обращенное непосредственно к богу, было безмолвным, мысленным), но у них была возможность наблюдать со стороны, что исповедь у крестов происходит; можно было поименно перечислить всех, кто подходил к кресту, писал на нем свое имя и исповедовался Иисусу Христу в расчете на «жизнь вечную». Это, несомненно, было уступкой со стороны церкви, уступкой вполне естественной во время тридцатилетнего владычества бывшего софийского ключаря архиепископа Алексея. Но на основе подобной уступки могло возникнуть на какое-то время соглашение, восстановиться то «единство веры», о котором писал некогда «омраченный умом» и «уклонявшийся присно» от «пути покаяния» престарелый монах Степан, диктовавший знакомую нам простригольническую псалтирь. Практика исповеди у покаянных крестов была, по-видимому, недолгой — крестов XV г. мы уже не знаем. В эпоху митрополита Фотия церковные власти были обеспокоены тем, что массовый характер приобрело строительство новых храмов («воздвижение» новых алтарей и жертвенников) без ведома епископата и, по всей вероятности, в большем отдалении от городов, чем в XIV в., где труднее было осуществлять законный контроль. 3. После исповеди, дававшей право на совершение главного таинства — причащения, — грешник, раскаявшийся в своих злых делах, словах и помыслах, должен был принять причастие, «дары». При выполнении этого обряда от священника не требовалось ни особых талантов, ни начитанности, ни ораторских способностей; в отличие от проповеди-«предисловия» здесь у стригольников не было никаких преимуществ над обычными приходскими священниками. Предполагаемое соглашение между епископатом и стригольниками могло состояться, естественно, только при обоюдных уступках с обеих сторон: стригольники, придумав оригинальную форму исповеди непосредственно Иисусу Христу, «царю славы, всему миру владыке», достигали возможности избежать откровенных признаний своему приходскому священнику, но ставили себя под контроль монастырских властей, которые могли видеть и учесть всех исповедающихся. Церковь упускала какую-то часть прихожан, предпочитавших безмолвную исповедь у креста, но, предоставляя свои храмы для заключительной, важнейшей стадии обряда — причастия-евхаристии, — осуществляла «единство веры», которого так усиленно требовали митрополит и патриарх. Одним из таких храмов и была, очевидно, Успенская церковь на Волотовом поле, принадлежавшая непосредственно новгородской архиепископии. Уже в 1363 г. она должна была поражать новгородцев суровой ригористической целеустремленностью: все внутреннее убранство этого небольшого загородного храма было оставлено чистым, светлым, без сложной многоярусной росписи и только в алтаре, за престолом, находилось единственное изображение престола, приготовленного к совершению обряда евхаристии, двух ангелов и двух святителей — авторов литургий: Иоанна Златоуста и Василия Великого. Новгородцы XIV в. знали Иоанна Златоуста также как «автора» самого ядовитого антиклерикального произведения «Слова о лживых учителях». Исторический Златоуст не имел никакого отношения к этому «Слову», написанному через сотни лет после его смерти и беззастенчиво приписанного ему. Но народ верил в авторство, и выбор персонажа был тактически оправдан. С именем святого Василия тоже связано одно из острых стригольнических произведений, но этот Василий не являлся Василием Великим (см. выше). В глазах же простых богомольцев оба святителя на алтарной фреске могли расцениваться дополнительно и как критики «лихих пастырей». Фреска была единственным цветовым пятном во всем храме. Все внимание входящих в храм тем самым было сосредоточено исключительно на одном моменте: следует приступить к принятию причастия, стать «дароимцем» и тем самым получить «здравье и спасенье, отданье грехов, а в будущий век жизнь вечную», как гласит надпись, вырезанная на покаянных крестах. Еще раз напомню, что такая уникальная, единственная на Руси по своей целенаправленности роспись в алтарной апсиде была создана сразу же после смерти владыки Моисея, активного гонителя стригольников. К тому времени Моисей уже четыре года не управлял епархией, но мог как бывшее начальство софийского клирика Алексея, как авторитетное лицо в городе (он начинал свою карьеру архимандритом первого в Новгороде по богатству Юрьева монастыря) сдерживать проявление Алексеем симпатий к стригольникам, порицаемым самим Моисеем. Смерть Моисея освободила архиепископа Алексея от этого сдерживающего начала, и он в том же 1363 г. осуществил необычную запрестольную роспись площадью всего лишь в 4,5 м. Но именно таков был замысел, что явствует из наличия широкой красной рамки, замыкающей евхаристическую композицию. Содержание этой единственной фрески — литургия перед причастием в «великий четверг» (день евангельской тайной вечери), день почти обязательного причащения православных, — говорит об особом, специальном предназначении этого загородного архиепископского храма, прежде всего, для таинства причащения. Это не значит, разумеется, что монастырская церковь служила только этой цели; так не могло быть. Но вполне вероятно, что при сближении епископата со стригольниками (или с частью этих вольнодумцев) им была предоставлена возможность принимать причастие в определенных храмах; так было бы удобнее контролировать процедуру исповеди у крестов. Судя по топографии известных нам новгородских покаянных крестов, такими доступными для причащения стригольников храмами могли быть: церковь Бориса и Глеба на севере Плотницкого конца, церковь Спаса в Нередице и Благовещенская церковь в Аркажском монастыре. Борисоглебский крест вделан в церковную стену при постройке здания в 1378 г.; следовательно, крест изготовлен был несколько ранее. Интересно отметить, что форма массивных каменных крестов, вкапывавшихся в землю, с тремя параллельными (нижняя не скошена) горизонтальными перекладинами полностью вплоть до пропорций воспроизведена на фронтисписе псалтири Степана, где, как мы помним, автор «покаянных гласов» говорит и о своих прошлых ошибках (служил «князю тьмы») и о наступившем «единстве веры». 4. Два десятка лет Успенская церковь в Волотове простояла в своем предельно строгом (забегая на два века вперед, в «протестантском») виде, выражавшем лишь одну единственную, но весьма актуальную в те годы заботу: придите, покаявшиеся, примите причастие — все уготовано для вас! Потребность в многоярусной росписи всей церкви от купола почти до самого пола возникла лишь после того, как митрополия всея Руси и Константинопольская патриархия неоднократно заставляли новгородцев и псковичей во главе с их пастырем Алексеем выслушивать различные обвинения и поучения. Стефан Пермский старательно потрудился над своим «Списанием» 1387 г., но оно было основано на искажении реальной ситуации, на слухах о личных взглядах расстриги Карпа, который «еще в животе своем [при жизни] уразумел то, оже тело его не будет погребено со псалмы и песньми», так как был отлучен от церкви. Из этого делался вывод об отрицании всеми стригольниками вообще всей погребальной обрядности, а впоследствии и об отрицании загробной жизни в принципе. Упрек несправедлив, ведь на каждом поминальном кресте вырезались слова: «Дай ему… в будущий век жизнь вечнуя!» «Списание» Стефана, прежде всего, подбор общеизвестных эпизодов и цитат, отысканных в обширной церковной литературе для защиты чести мундира, но не опровержение основного гуманистического тезиса стригольников о праве каждого верующего обращаться непосредственно к вездесущему и всеведающему богу. Московская митрополия была напугана возрождением в 1385 г. давно составленного сборника, являвшегося опорой вольнодумцев Новгорода («Трифоновский сборник»); и подлинной задачей Стефана должен был быть разбор этой монументальной антологии, ее общего духа. Епископ же ограничился только защитой материальных интересов духовенства: «исторы» при поставлении, «уроки церковный» («Церковникы церковью питаются… кто пасет стадо — от млека стада не ясть ли?»), «приносы за умершего (приносимые) к церкви». «Разумному древу» стригольников новопоставленный епископ не смог противопоставить ничего значительного, духовного. Роспись рубежа 1380-1390-х годов в Волотовском храме была не уступкой стандарту, а новой формой защиты своих широких взглядов, новым наступлением новгородских вольнодумцев. Концепция росписи, создававшаяся в последние годы жизни владыки Алексея, была совершенно новаторской, ломавшей прежние стандарты и прямо связанной с принципом разумного, одухотворенного познания. Это был ответ Стефану Пермскому, но ответ на ином, более высоком уровне новгородского треченто. Живопись Успенского храма была, несомненно, рассчитана не только, а может быть, и не столько на осмотр ее во время богослужения, сколько на систематическое «чтение» этой огромной «глубинной книги» в просторе межслужебного времени. У художника был прямой расчет на время осмотра росписи по окончании службы, когда богомольцы превращались в обычных горожан и покидали храм, двигаясь от алтаря к выходу. В этом направлении идет на фреске Иисус Христос в образе нищего, просившийся в монастырь (южная стена), миновавший обитель, где игумен пировал с богатыми заморскими гостями и не принял Иисуса, и уходящий от игумена, осознавшего свою ошибку (западная стена). Иисус нарисован здесь идущим по направлению к выходу из Успенской церкви. Начав рассуждать о том, как прихожане могли осматривать расписанные стены церкви, мы должны обязательно вспомнить, что в старину существовало твердое правило размещения молящихся во время службы: женщины находились на левой от входа (северной) половине храма, а мужчины — на правой (южной). Такое разделение существует у старообрядцев до XX в. В какой-то мере это обстоятельство учтено при составлении системы волотовской росписи; на северной, «женской» стене почти везде присутствует Богоматерь: она стоит на переднем плане в сцене «вознесения», хотя ни в одном Евангелии она не упомянута среди присутствующих. К сцене распятия отдельным сюжетом добавлена фреска «оплакивание», где Марии, естественно, принадлежит главная роль. Большая композиция в нижнем регистре посвящена Успению Богородицы, что связано и с наименованием храма. На южной, «мужской» стене дано несколько сюжетов христологического цикла (рождество Иисуса Христа, крещение), апокрифическое сошествие во ад. К этим общим сюжетам добавлены такие, которые связаны с мирскими делами, с жизненной активностью мужчин. Ктиторская фреска с портретами архиепископа Моисея, строителя здания храма в 1352 г. и его преемника Алексея, организовавшего сначала необычную алтарную фреску с двумя святителями в 1363 г., а затем и полную роспись храма в конце 1380-х годов с прославлением Премудрости — Логоса и Богородицы. Эта большая по размерам фреска с изображениями двух крупнейших церковных деятелей Новгорода 1320-1380-х годов, резко отличавшихся друг от друга в своей церковной политике, помещена на видном месте, несомненно, сознательно и преднамеренно, очевидно, как живописный символ того примирения и воссоединения церкви с «ищущими ума» стригольниками, которое произошло при Алексее и, по всей вероятности, благодаря Алексею. Ни тот, ни другой из этих владык не был канонизирован, но оба они изображены с нимбами. Наличие нимбов у обоих владык говорит о том значении примирения враждовавших сторон, которое придавали этому событию современники. Нимб у Алексея пририсован, очевидно, уже после его смерти — искусствоведы видят некоторые технические отличия от нимба Моисея. Но вся симметричная композиция с двумя архиепископами по сторонам Богоматери, сидящей на троне, несомненно, принадлежит первоначальному замыслу. Почетное местоположение ктиторской фрески говорит о том огромном значении, которое придавалось в эти годы с таким трудом достигнутому «единству веры». 2. Двигаясь от ктиторской фрески (с архиепископами) к выходу из церкви вдоль той же «мужской» стены, прихожане просматривали три эпизода, иллюстрировавшие рассмотренный выше сюжет: Христос в образе нищего и отказавший ему в беседе игумен. М.В. Алпатов очень убедительно усматривает портретное сходство архиепископа Моисея на ктиторской фреске с этим игуменом, отвергшим Христа. В развитие этой догадки можно еще раз напомнить, что Моисей до избрания его архиепископом был архимандритом главного монастыря Великого Новгорода — Юрьевского, известного своим богатством и аристократизмом братии. Если это действительно так, то значит художник, изобразивший «моисееподобного» игумена в столь неприглядной ситуации, был на стороне Алексея и завуалированно хотел показать современникам истинную сущность такого гонителя стригольников, как Моисей. 3. Продвижение богомольцев-мужчин от клироса к выходу (сопровождаемое движением в этом же направлении персонажей фресок на южной стене) сопровождалось также и перемещением Премудрости наверху, в парусах сводов: ближе к алтарю София приносит еще нераскрытую книгу Матфею, а рядом, ближе к выходу, «обаятельная», по выражению Алпатова, София разъясняет что-то евангелисту Луке, указывая на текст уже раскрытой книги. Персонажи фресок «движутся». 4. У самого выхода из храма в притвор завершается «мужская» общественно значимая тематика: здесь разрабатывается тема монастырского устройства. Всех входящих в храм с самого первого шага, еще в притворе, встречали слуги Премудрости, протягивающие им чаши, наполненные вином. «Ищущие разума» приглашаются на устроенную для них трапезу Премудрости Божьей. Здесь же изображен мудрый Соломон и сама изначальная Премудрость, уравновешенная на другой стороне этой фрески Богоматерью. Такая встреча богомольцев протоевхаристической сценой художественно воплощена на Руси впервые. Концепция всей росписи, подчеркивая высокое значение разума, нигде не противопоставляла разумное церковному, каноническому. Здесь же, в притворе, изложен языком живописи еще один стригольнический тезис — непосредственное общение человека с богом (лестница Иакова). Нас может заинтересовать то, что на одном из срединных мест фрески притвора художник изобразил каменный памятник, «дом божий», поставленный Иаковом на том месте, где бог испытывал его. Четырехгранная колонна с неясной (на фреске) капителью врыта в небольшой холмик; по соотношению с фигурой Иакова памятник близок к размерам новгородских покаяльных крестов. Быть может, это не случайно: сначала моление у камня, а далее принятие вина и хлеба, а еще далее построение храма? Не представлена ли здесь ветхозаветная предыстория обряда причащения с некоторыми стригольническими деталями? Роспись основного храма, как уже говорилось выше, пронизана той же господствующей темой Премудрости: книги и свитки в руках изображенных персонажей, христианские мудрецы и поэты (Иоанн Дамаскин, Косьма Маюмский), иноземные астрологи, мчащиеся верхом на конях к яслям Иисуса, апостолы с книгами в руках, воспринимающие сошествие святого духа, Вселенная с запечатанными свитками для всех народов и племен мира… И в самой сердцевине храма, под светом подкупольных окон, — грациозная, юная Премудрость приносящая книги евангелистам, создающим Новый завет. Ее образ явно навеян представлениями об античных музах, из которых Клио, муза истории, всегда изображалась с книгой; этим как бы дается понять, что и дело евангелистов есть дело исторической важности. София-Премудрость, как уже говорилось, очень талантливо показана в движении: вот она приносит и кладет на стол книгу апостолу Матфею; вот у Луки она раскрывает книгу и ласково дает ему какие-то советы. Но в книге обозначены не строчки букв, а какие-то синие знаки, приводящие на память синие инициалы многих рукописей XIV в. Такими буквицами украшена знакомая нам псалтирь Степана, а «Странник» Стефана удостоверяет нам, что этот новгородец знал легенду о том, что евангелист Лука был и художником, что он писал с натуры икону-портрет самой Богородицы Марии. И Премудрость в этом сюжете держит не длинное архитектурное «мерило», а коротенький муштабель художника-иконописца (Вздорнов. № 21-3). Новая вера христиан предстает в этой живописи не как слепое безраздумное следование за вероучителем, а как новое учение, внушенное той извечной Премудростью, которая 5533 года тому назад уже следила за тем, как божественной волей создавался наш мир, наша природа и как рождалось человечество. Стефан Пермский раскритикован художником с такой головокружительной теософской высоты, что его старательный подбор общеизвестных цитат выглядит весьма примитивно. При рассмотрении всей системы фресковой росписи мы найдем очень много точек соприкосновения с умонастроением стригольников, сознательных поклонников книжности и разумности, но не обнаружим ни одного признака сомнений в вере, никаких черт несогласия с основной канонической литературой. В целом же волотовский «церковный росписник» и его сложное, новаторское произведение, вероятно тщательно обдумывавшееся предварительно в соседней резиденции архиепископа Алексея, — это показатель высокого взлета мысли, разумного восприятия книжного наследия (восприятия совершенно лишенного начетничества) и талантливого исполнения. Во всей системе росписи сквозит обращение к зрителю высокой образованности и культуры; живопись подсказывает темы к размышлениям, а память «книжника»-богомольца раскрывает перед ним широкие картины многовековой культуры прошлого. Чего, например, стоит напоминание о Премудрости, ведь за царственной Софией у подножия колоннады храма и за изящными фигурками той же Софии-Премудрости, приносящей евангелистам книги, мы ощущаем великолепный гимн Разуму. Все это — гуманизм, конец (или, точнее, начало конца) «темных столетий», рождение нового, просветленного взгляда на мир. О новом отношении к жизни говорит и отход от церковной одеревенелости образа человека, переход к динамичному контрасту летящих, экспрессивных фигур и лиричных, сразу вызывающих симпатию персонажей. Античностью веет от сцены купания младенца (Алпатов, цв. 6), от хора девушек, сопровождающих Марию (Алпатов, цв. 3). Опередило свою эпоху изображение сотника Лонгина (Вздорнов, № 65-5), показанного вне иконописной традиции. Человеческое начало представлено такими богатырями-гераклами, как Адам (Алпатов, № 79), неизвестный пророк (Вздорнов, 45). Вместе с тем архангелы, главная исполнительная власть Неба, показаны привлекательными земными юношами (Алпатов, № 4; Вздорнов, № 171-6), а София-Премудрость божия, участвовавшая тысячи лет тому назад в первичном сотворении мира, дана не только в виде величавой царицы, но и в облике простенькой девушки, деловито исполняющей поручение, и изображена здесь с большой лирической теплотой… Художником управляли не только представления о Вселенной и мировых событиях прошлого — своею кистью он открывал живую жизнь, любовно показывая человеческое начало. Он был истинным гуманистом, широко просвещенным, широко мыслившим и призывавшим к уважению рожденного новой эпохой Человека. Волотовские фрески открывают новую эпоху, осуществляя синтез разума, человечности, смелой новизны (рис. 52).

Рис. 52. Символ Вселенной. В огромном покрове лежат пергаменные свитки, предназначенные для разных народов мира. Греческая надпись: «Народы. Племена. Языки».
Заключение
Стригольничество было прогрессивным общественно-религиозным движением… Идеология стригольничества заключала в себе элементы нового мировоззрения… Эти элементы сказывались в рационалистической струе, подчеркивании активного характера человеческой личности… Стригольники — предвестники нового гуманистического мировоззрения, зарождавшегося в стенах русских городовОбщее представление о стригольниках XIV–XV вв. сложилось у историков на основе двух групп письменных источников, относящихся одна к 1350-1380-м годам, а другая к 1416–1427 гг. Обе группы представляют собой поучения высших церковных властей, направленные против новгородско-псковских гуманистов, названных их противниками «стригольниками», т. е. сторонниками и последователями расстриженного дьякона Карпа. Эти источники достаточно внимательно изучены исследователями, которые за неимением собственно стригольнических материалов доверчиво отнеслись к обвинениям, исходящим исключительно из той церковной среды, которую стригольники осуждали. А вполне ли объективны обвинители стригольников? В рамках имевшихся у исследователей материалов ответить на этот вопрос было очень трудно. Задача данной книги состояла в попытке расширения фонда источников как тематически, так и хронологически (в достригольническую эпоху). Если уподобить поучения епископов, митрополитов и даже вселенских патриархов речам обвинителей и прокуроров на судебном процессе, то задача сводилась к поиску показаний свидетелей и самих обвиняемых стригольников. Главнейшим, всесокрушающим пунктом обвинения являлось утверждение, что стригольники отвергают одно из основных таинств христианства — причащение. А это влекло за собой непризнание загробной жизни и царствия небесного и воскресения мертвых. В случае правильности этого обвинения стригольников вообще нельзя было бы считать христианами. В этой книге сделана попытка показать, что у новгородских стригольников примерно в третьей четверти XIV в. возник новый обряд: приносить покаяние перед причастием не священнику, а у огромного, врытого в землю креста, на котором уже вырезаны слова покаянной молитвы, упоминаются «отданье грехов» и «вечная жизнь». В середине креста оставлено место для написания имени очередного кающегося. Анализ фресковой росписи пригородных церквей Новгорода показал, что некоторые храмы (церковь Успения на Волотовом поле) предназначались специально для принятия причастия (хотя, разумеется, не исключительно для этого). Строгая роспись только в алтарной части с фигурами лишь двух святителей, возможно, объясняется тем, что у художника или у его заказчика было желание показать приглашение к причастию не только «верных», но и «оглашенных» — Иоанн Златоуст был автором литургии «оглашенных». Не скрывается ли здесь стремление епископата пойти на компромисс со стригольниками? Привлечение к стригольнической теме такого общеизвестного памятника, как Людогощинский крест 1359/60 г. Якова Федосова, показало, что стригольническое поклонение «древу разумному» (в чем их в первых же словах своего поучения начал упрекать Стефан Пермский) было сознательным стремлением пропагандировать разумное отношение к фонду христианской литературы, допускающей непосредственное обращение человека к богу. Существенным пополнением наших знаний о стригольничестве является комплексное рассмотрение так называемой Фроловской псалтири середины XIV в. Фронтиспис псалтири содержит изображения двух новгородцев, отходящих от церкви, наполовину опутанной сетями дьявола и поднимающих к небу модели своих домиков или моленных, где в одиночестве они хотят общаться с богом. Провозвестником нового учения, новой зари здесь является петух-шантеклер. Текст псалтири подправлен в стригольническом духе, и там присутствуют такие совершенно стригольнические фразы, как: «Исповедайтеся господеви!» (вместо «исповедайте господа»). К псалтири добавлены «покаянные гласы», содержащие молитвенные обращения к Христу, богородице и троице; в них много личного, биографического (автор много путешествовал, впадал в ересь, стал немощным стариком). В середине псалтири вырисована крупная надпись с именем Степана, что, по-видимому, определяет имя автора покаянных гласов и дает некоторые основания связывать ее с автором «Странника» новгородцем Степаном. Устранение ошибочного взгляда на стригольников как на людей отвергающих в принципе таинство покаяния и причащения, теперь позволяет включить в состав полезной стригольникам книжности огромный фонд острополемической литературы XIII–XIV вв., выявленной и изученной А.Д. Седельниковым, Н.П. Поповым, Н.А. Казаковой и А.И. Клибановым. Это и «Предъсловие честнаго покаяния», и «Слово о лживых учителях», и целый ряд других произведений, зачастую намеренно приписанных известным отцам церкви. А.И. Клибанов, давший превосходный анализ Трифоновского сборника 1380-х годов, остановился у самой черты: эту обширную и многообразную антологию разновременных антиклерикальных произведений он мог бы в результате своих собственных изысканий назвать стригольническим стратегическим оружием, но не сделал этого, так как его удерживало от такого вывода укоренившееся представление о полной греховности «стригольниковых учеников», якобы полностью отрицавших таинство, а в трифоновской антологии такого отрицания нет. Стригольники действительно считали недопустимым покаяние в своих грехах грешному же иерею, своему приходскому священнику, недостатки которого были на виду у всего прихода, но от этого еще очень далеко до принципиального отвержения таинства и всего того, во имя чего это таинство производилось. Очень интересные дополнительные материалы по умонастроению новгородского и псковского посада может дать историко-культурный анализ изобразительного искусства XIII–XIV вв. во всех его разновидностях от нагрудных иконок с изображением гроба господня, принесенных из Палестины или Царьграда, до великолепной, вдохновенной росписи Успения на Волотовом поле с ее гуманистической влюбленностью в Премудрость. Для понимания глубины и широты общественной жизни Руси XIV в. нам необходима полная публикация таких содержательных и полнокровных рукописных книг, как Трифоновский сборник, открытый А.Д. Седельниковым и глубоко исследованный А.И. Клибановым.Я.А. Казакова
* * *
Для понимания истинного исторического места стригольничества и самой сущности этого движения, помимо нового синтеза всех видов источников, необходим также широкий исторический охват, расширение хронологических рамок его рассмотрения. Об этом писали еще в начале XX в. М.К. Любавский и А.Д. Седельников. Идея разумного (в том числе и критического) отношения к источникам, каким бы священным авторитетом они ни обладали, возникла еще у митрополита Илариона в середине XI в., когда он писал, что библейский ветхий закон «мимо идет», а евангельская «благодать» существует ныне и охватывает весь мир. В значительной мере такой разумностью был наделен другой русский митрополит — Климент Смолятич (середина XII в.), считавший, что в оценках наследия «ум диктатор является». К сожалению, его сочинения, полные «глубокого разума», до нас не дошли. То особое умонастроение русских горожан, которое выражалось в некотором разочаровании в действенности, результативности обрядов, выполняемых православным духовенством, естественно усилилось после татарского разгрома, такой страшной божьей кары. Вещественным эпиграфом к этой эпохе может служить серебряный нагрудный образок, изготовленный около 1237 г., года начала нашествия Батыя. Лицевая сторона механически оттиснута с образца, изготовленного еще в мирное время: архангел Михаил («Святый Михаилъ архистратигъ небесных силъ воевода») изображен в виде нежного ангела в тончайшей античной одежде с венком в руках. Подобные изображения, относящиеся к началу XIII в., обнаружены в ханской ставке Батыя в Увеке на Волге, где находились русские пленные. Штамп для оборотной стороны изготовлен, очевидно, уже перед самым нашествием; сделан он грубовато и дает изображение Иоанна Крестителя и одновременно его отрубленной головы у его ног. Надпись: «Аг[нос] Иоанн вопиеть, глаголя: Покайтеся, братья! Уже бо приближися царство небесное…»
Рис. 53. Нагрудная иконка времен нашествия Батыя (V век). На лицевой стороне — ангел; на оборотной Иоанн Предтеча, его отрубленная голова и круговая надпись: «Аг[исс] IОАН ВОПИЕТЬ ГЛАГОЛЯ: „ПОКАЙТЕСЯ БРАТЬЯ — УЖЕ БО ПРИБЛИЖИСЯ ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ!“»
Проблема всеобщего покаяния, всенародного моления о избавлении от этой казни выдвигается на первое место, и вопросы, связанные с этой обрядностью, становятся под контроль всех слоев населения. Сама церковь строго следит (или, точнее, предписывает следить) за нравственностью и благопристойностью духовенства, но не может в эти тяжкие времена повысить его образовательный и культурный уровень. Талантливые люди из низших ступеней клира стремятся оттеснить и заменить служителей, имеющих сан. К такому оттеснению священников стремятся и «простецы»-миряне, среди которых в Новгороде и Пскове было, как мы знаем по обилию берестяных документов, много грамотных и достаточно образованных людей. Приманкой и полем приложения сил для всех потенциальных соперников официального духовенства явился новый покаянный обряд, родившийся, по-видимому, в результате той чудовищной, еще никогда не испытанной божьей казни, какой оказалось для русских людей долголетнее татарское иго. Иго, а не эпизодический наезд. Именно в то время, после трагедии на Калке, создается «Предъсловие честнаго покаяния», которое переписывалось новгородцами и псковичами на протяжении многих десятков лет. Как уже говорилось, новый обряд мы можем представить себе по житию Авраамия Смоленского, проповедовавшего князьям и работникам, монахам и детям. Прежде чем приступить к исповеди, Авраамий выступал перед большой аудиторией с проникновенной проповедью. Духовенство Смоленска одно время крайне недоброжелательно, враждебно встречало проповеди Авраамия, но, в конце концов, он все же возглавил монастырь, где, очевидно, и произносил свои «предисловия», психологически подготавливавшие аудиторию к покаянию. Рукописи, содержащие «предисловие», одновременны деятельности Авраамия и его учеников — конец первой трети XIII в. Ученики, «аврамисты» действовали и после его смерти, а в стригольническое время (1355 г.) его житие воспроизводилось. На Западе последователей Авраамия назвали бы монашеским орденом аврамистов, подобно их современникам францисканцам и доминиканцам, последователям Франциска Ассизского (1182–1226 гг.) и Доминика (1160–1221 гг.). Умонастроение русских горожан, порожденное многими длительными историческими испытаниями и названное на одном из его этапов эволюции «стригольничеством», надо начинать рассматривать никак не позже чем с той эпохи, когда кончилось существование цветущей, «украсно украшенной» Руси и началось тягостное противостояние далекому врагу, изменившему весь уклад нашей жизни, затормозившему развитие, оторвавшему Русь надолго почти от всего тогдашнего мира. Дело «аврамистов», их общественная функция состояла (быть может, не очень осознанно) в приведении в готовность лучших сил русского города для морального очищения, необходимого в новых условиях. Для этого и самой церковью было много сделано на рубеже XIII и XIV вв. на церковных соборах 1274 и 1312 гг. во Владимире и Переславле-Залесском и в особых поучениях епископата. Для религиозных людей средневековья моральная стойкость с опорой на принципы христианства, на примеры из жизни праведников и мучеников прошлых лет была очень нужна как противостояние княжеским распрям, крестовым походам католиков (король Магнус Шведский), и полукатоликов вроде литовского Ягайла для преодоления внутригородских кровопролитных конфликтов. Передовые люди города («аврамисты» для начала этого периода, «карписты»-стригольники для XIV в.) считали своим прямым долгом совершенствовать свое духовное оружие, не ограничиваться слепой верой, а вносить в нее «разум», т. е. знание в сочетании с осмыслением. Отсюда составление огромных антологий с критическими оценками самых разнообразных сторон и жизненных ситуаций и книжных сентенций. Отсюда взгляд на такую книгу как на боевую фанфару, зовущую воинов в бой («Слово Ефрема…» 1374 г.). «Карписты»-стригольники второй половины XIV в. — это не какое-то новое неожиданное общественное движение, а прямое, непосредственное продолжение того, что началось в первые годы татарского разгрома и продолжало существовать до Куликовской победы и даже после нее, но в обновленной форме. Стригольники не разрушали общественных устоев, они не собирались отменять или ниспровергать церковь, они не выступали против икон или богослужения, они не посягали ни на одно из основных положений православия, хотя калики-паломники приносили с Востока сведения о десятках ересей. Сторонники Карпа заботились о том, чтобы христианское, православное дело делалось чистыми руками нравственно чистых людей. Кроме того, стригольники были очень озабочены настоящей, глубокой верой, основанной на знании широкого круга литературы. Сами они, даже по признанию их противников, были безупречно чисты, образованны, соблюдали все обряды, были «молебниками». С новгородско-псковскими стригольниками по существу боролась только московская митрополия и лишь некоторые местные владыки вроде Моисея. Нет ни одного свидетельства о том, что против них тем или иным образом действовали городские власти (посадники, тысяцкие, князья) или ими возмущался посадский беспокойный народ. Уязвимой стороной стригольников, очевидно, являлось их честолюбие, их стремление показать себя отличными проповедниками (для чего использовались даже «ширины градные») и оттеснить попов-«невегласей», попов-невежд. Это естественно вызывало очень резкую реакцию как в свое время против «аврамистов», так через полторы сотни лет и против «карпистов». Стригольники XIV в. едва ли были резко обособленной замкнутой группой; скорее всего, это были горожане, часть которых могла быть близкой к многочисленному клиру новгородских и псковских церквей. Среди них могли быть и те загадочные миряне-«покаяльники», которые как-то участвовали в литургии и получали оплату даже если литургия по вине священника не состоялась. К этому времени в богатых городских домах появились домовые церкви, несколько уменьшавшие количество прихожан в приходских храмах. Примерно с того же времени началось некоторое пренебрежение горожан официальным богослужением. Через триста лет после митрополита Фотия, писавшего о том, что псковичи начали «водружать» где-то (очевидно, вдали от епархиальных властей) особые алтари и жертвенники без ведома епископа (1427 г.), Иван Посошков писал в 1723 г. о вере и посадском населении Новгорода почти так же, как писалось в стригольнические времена:
«В духовном чине, аще будут люди неученые и в писании неискусные и веры христианские всесовершенного основания неведующии и воли божией неразумеющии, к тому же аще будут пьяницы и иного всякаго безъумия и безъчинства наполнены, то благочестивая наша христианская вера вся исказится и весьма испразднится и вместо древняго единогласнаго благочестия вси разъидутся в разногласныя расколы и во иные еретические веры. От презвитерского небрежения уже много нашего российского народа в погибельные ереси уклонились. В Великом Новеграде так было до нынешняго 723 года в церквах пусто, что и в недельный день человек двух-трех настоящих прихожан не обреталося. А ныне архиерейским указом, слава богу, мало-мало починают ходить ко святей церкви. Где бывало человека по два-три в церкви, а ныне и десятка по два-три бывает по воскресным дням, а в большия праздники бывает и больше, и то страха ради, а не ради истиннаго обращения»[401].Таково было давнее традиционное умонастроение посада. В стригольническом движении произошел некоторый перелом во время управления епархией (и отчасти всей Новгородской республикой) архиепископом Алексеем. Суммируя все его действия за 30 лет владычества, мы видим, что он не преследовал стригольников (расправа с Карпом и Никитой в 1375 г. не может быть инкриминирована ему), содействовал им и, по всей вероятности, выгораживал их во время вызовов его в Москву. О симпатии Алексея к вольнодумцам говорит уже одно то, что когда в его епархию приезжали то от патриарха, то от московского митрополита «судить» стригольников, читать им поучения, Алексей вместе со всеми выслушивал обвинителей как бы со скамьи подсудимых. Организация Успенской церкви в 1363 г. как исповедальной с ее уникальной «протестантской» живописью в выбеленном храме указывает на определенное соглашение, на достижение «единства веры» на основе взаимных уступок: владыка разрешает каяться в грехах у покаянных крестов и предоставляет храм в монастыре для причастия «оглашенных». Стригольники со своей стороны допускают возможность контроля над людским составом причащающихся «дароимцев» и, очевидно, принимают причастие из рук священника в храме, подобном Волотовской Успенской церкви с ее росписью, открывающейся сценой винопития верующих «ищущих ума». После Куликовской битвы, глубоко и надолго изменившей многое в русском самосознании, произошло какое-то изменение и во взаимоотношениях стригольников и новгородской церкви. Москва посылает учителей-прокуроров, а архиепископ стремится к автокефалии и явно мирволит стригольникам и идет на сближение с ними. На поучение Стефана Пермского 1386 г. (точнее, в великий пост 1387 г.) Алексей ответил великолепной росписью Волотовского храма с ее гимном Премудрости и книжности, с ее высоким гуманистическим взлетом и расчетом на квалифицированного зрителя. Роспись завершалась, как отмечают искусствоведы, уже после смерти Алексея, что и позволило дать большую фреску над южным выходом: два архиепископа по сторонам трона богоматери — гонитель стригольников Моисей и покровитель этих вольнодумцев — Алексей. Это, возможно, символ какого-то конкордата, временного примирения (вероятнее всего, 1363–1390 гг.) официальной церкви (Моисей) и «ищущих ума» вольнодумцев (Алексей); оба владыки изображены с нимбами, как святые. После поучения Стефана ровно на 30 лет исторические источники о стригольниках замолкают, и вновь появляются лишь в 1416 г., при Фотии. Этот митрополит-грек получил огромное количество доносов из Пскова и, плохо зная русскую действительность, со слов тех, которые «пишут ми», нагромоздил очень много обвинений на стригольников, принимать которые всерьез не стоит. Единственное, что бесспорно, — это тревога митрополита по поводу постройки кем-то большого количества новых церквей вне поля зрения епископов. Новая ситуация объясняется просто: когда митрополитом всея Руси стал энергичный, хитроумный и бесцеремонный Киприан и приехал в Новгород, то новгородцы, слушая его проповедь в Софийском соборе, заткнули уши и не подошли под благословение. Киприан, по-видимому, мстил новгородцам и, по всей вероятности, разогнал всех, за кем числились те или иные вины. Вольнодумцам, пренебрегшим святительским благословением, пришлось покинуть град (этим прозил еще Стефан) и водружать новые жертвенники где-то в других, новых местах. Как бывалый и много испытавший деятель, Киприан, очевидно, не захотел оставлять следов своей мести людям новгородской епархии, чем и объясняется длительное молчание источников. Новый митрополит, Фотий, получил множество донесений о том, что стригольники «ударились в беги» и что повсюду воздвигаются новые храмы. Расцвет городского вольнодумства, охвативший в Новгороде и Пскове вторую и третью четверти XIV столетия, вел общество к более высокому уровню понимания своих задач, к отказу от примитивного начетничества, к очищению своего человеческого достоинства от бытовых недостатков и пороков. Вольнодумцы-стригольники проповедовали разумное отношение к авторитетам и горячо и убедительно отстаивали главное достоинство средневекового религиозного человека — его исконное, неотъемлемое право обращения к своему богу. Бог мыслился не столько как ветхозаветный Яхве, жестокий, мстительный и непредсказуемый, но преимущественно как новоявленный сын божий — искупитель грехов спаситель Иисус Христос. В живописи он стал на центральное место, а отец оказался одесную его; в литературных произведениях, как и в живописи, главными, понятными и ясными персонажами стали Иисус Христос и богородица; слово «господь» почти во всех случаях обозначает не Яхве, а Христа. Стригольники отвоевывали свое право обращаться непосредственно к нему, к создателю новой гуманной веры, заинтересованной в каждом человеке. Божество, установившее на место сурового «закона» гуманную «благодать», именуемое в христианской богословской литературе Логосом-Мудростью («Словом»), — вот предмет поклонения новых людей развитого средневековья, заботившихся о сохранении человеческого достоинства. Стригольники или, точнее, та передовая, наиболее культурная часть русского городского посада XIII–XIV вв., которая призывала к Разуму, пропагандировала книжность, установила культ Премудрости и подавала пример «чистого жития», — эта часть русских людей средневековья заслуживает уважения и изучения на более широком материале, чем только одни поучения ее оппонентов.

Последние комментарии
11 часов 26 минут назад
15 часов 41 минут назад
17 часов 59 минут назад
19 часов 49 минут назад
1 день 1 час назад
1 день 1 час назад