Листопад



ЛИСТОПАД
Роман

Перевод с сербскохорватского В. И. ЗАВЬЯЛОВА
Для нас была весна, а для него осень, закат жизни.
Неслышным шепотом опадали увядшие листья — дни. Он спокойно, без тоски и боли, покидал нас, будто достиг всего, о чем мечтал, осуществил все свои желания и планы.
— Об одном прошу тебя, не пиши в газетах о моей смерти, — сказал он мне при последнем моем посещении. — Мои недруги не должны этого знать.
Мое задумчивое молчание вызвало на его поблекшем лице грустную улыбку. Это была его последняя улыбка. Через два часа он скончался, оставив нас в вечной печали.
На Космае до сих пор о нем ходят легенды. Крестьяне его родной деревни воздвигли ему памятник из черного мрамора. Вместо надписи на памятнике высечены штык и роза.
Тихомир Ачимович
Село Рогача
22 сентября 1966 года
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

По дальним холмам и возвышенностям потянулись лиловые полосы тумана. Изломанная линия горизонта терялась в темноте. Медленно и незаметно на Космай
[1] опускались холодные и жутковатые осенние сумерки. Все вокруг устало дремало, придавленное гнетом тишины и таинственности, которая вытекала из каменных недр и, словно видение, парила над землей. Вершина горы хмурилась под покровом тяжелых облаков. Уже несколько дней не было видно солнца, а в сумерки начинал моросить мелкий колючий дождь. Повсюду по земле пролегли дождевые дорожки.
Все дышало осенью, настоящей, глубокой шумадийской
[2] осенью, наполненной запахами сырой земли и набухших палых листьев. С каждым днем все реже слышались печальные крики журавлей, давно улетели ласточки, замолкли перепела, и только многочисленные воробьи, сбившиеся в стаи, оглашали окрестности своим испуганным чириканьем. На всем вокруг лежала печать какой-то озабоченности, одиночества, печали и легкой тревоги. В лесу становилось все спокойнее и умиротвореннее, лес опустел — ни крестьяне из ближних деревень, ни цыгане сюда больше не заглядывали. Только Пейя Лолич иногда приходил в этот глухой уголок, будто хотел оживить в своей памяти картины прошлого. И пока сумрак не скрывал Космай, Лолич неподвижно стоял на голой вершине и с интересом рассматривал села, разбросанные по склонам рассеченных глубокими оврагами, усаженных кривыми рядами деревьев, покрытых садами и перелесками холмов.
Лолич любил смотреть, как белые крестьянские дома с красными крышами пропадали из виду в наползавшей тени сумерек и как весь многоцветный пейзаж превращался в один большой однотонный ковер.
С малых лет Лолич любил эту холмистую часть Шумадии с ее небольшими нивами и пастбищами, небогатыми садами и огородами, красивыми домиками, внешне всегда спокойную, погруженную в свои заботы и невзгоды, с устоями старины, тщательно и заботливо оберегаемыми народом, любил он эту красивую гору, высоко взметнувшуюся над разбросанными внизу мирными селами, которая походила на гигантский могильный холм, воздвигнутый над останками неизвестных героев, и о которой с глубокой древности до наших дней слагаются красивые легенды. Лоличу всегда казалось, что он уцелел в сумбуре прошлой войны лишь благодаря глубокой любви к родному краю, что он вытащил свою жизнь из вихря смерти для того, чтобы передать молодому поколению через свои книги эту большую, неисчерпаемую любовь. И теперь, пользуясь любой возможностью, он приходил сюда, чтобы вспомнить прошлое, восстановить в памяти некоторые прежние события, которые не вернешь и возврата которых он бы не хотел. Время делало свое дело, многое стерлось в памяти, но было и такое, что осело глубоко в душе, не забывалось. Сквозь годы оно казалось все милее и дороже, как минувшая молодость, которая живет вечно лишь в памяти и никогда в действительности.
Отсюда, с этой крутой вершины, похожей на большую спиралеобразную раковину улитки, иссеченную бурями и невзгодами, покрытую глубокими трещинами, зеленым мохом и красно-желтыми опавшими листьями, — отсюда началась настоящая жизнь Пейи Лолича, целеустремленная сознательная жизнь молодого романтика, довольно хорошо знавшего, чего он хочет от жизни и что отстаивает на этом свете. Лолич и сейчас был еще довольно молод. Ему было чуть больше тридцати пяти лет. Но глубокие морщины, изрезавшие лоб над густыми бровями, и пряди седых волос говорили о том, что за плечами этого человека лежит очень трудная жизнь.
Действительно, с юных лет Лолич включился в трудную борьбу за право на человеческое существование. Он сознавал, что эта борьба будет длительной, что она продолжится и после того, как его уже не будет в живых. Лолич любил окружающую его жизнь, любил свои повседневные дела, которым отдавал всего себя целиком. Он гордился тем, что в достижениях новой жизни есть его непосредственный вклад, и считал себя ее неразрывной частицей. Прошлое и настоящее, обыденное и героическое слились в его сознании в тугой узел, такой же неразрывный, как земля и воздух, как жизнь и смерть, как человек и любовь.
Человек, сформировавшийся и закалившийся в огне борьбы, особенно остро ощущает свою причастность к действительности. Все для него имеет свою причину, свой остов, прочный и непоколебимый, на который всегда можно опереться. Жизненный корень Лолича, определявший всю его сущность, находился на отрогах этой горы, в сплетении великих, незабываемых событий. Здесь, на Космае и в его окрестностях, где скрещиваются извилистые волчьи тропы, а по дну глубоких ущелий мчатся холодные потоки, Лолич перенес нечеловеческие муки и лишения.
Окинув взглядом крутые горные тропы, по которым в тысяча девятьсот сорок первом году партизаны выбирались из железных тисков смерти, Лолич вдруг заметил, что в его направлении следует какой-то человек, на первый взгляд довольно пожилой и усталый. Лолич инстинктивно почувствовал, что эта встреча не принесет ему добра, и насторожился. Человек часто останавливался, крутился на одном месте, оглядывался назад, будто кого-то ожидал увидеть. Временами он пропадал в зарослях кустарника, чтобы вновь появиться на полянках. Лолич ни на минуту не упускал его из виду, следил за каждым его шагом, как когда-то в войну наблюдал за вражескими солдатами, пытаясь догадаться, что ищет здесь этот старик в столь неурочное время. Жители ближних сел сюда не заглядывают. Они боятся этого места, так как им кажется, что из-за каждого камня, из-за каждого куста на них смотрят те, кто погиб здесь, защищая родной край. «Да, много здесь осталось наших, — с тяжелым вздохом и внутренней болью подумал Лолич. — Из всего отряда нас уцелело двадцать пять человек».
Осенью сорок первого, когда партизаны были вытеснены из всех районов Шумадии, только на Космае и в его окрестностях продолжалась отчаянная борьба. Здесь бесстрашные космайцы кровью писали новые страницы героической летописи своего края.
Остатки отряда, отступая, ушли в направлении Санджака
[3] в то время, когда последние ласточки улетали на юг. Весной следующего года ласточки вернулись в родные места, но уже не все, как не все возвратились к себе домой партизаны. И сейчас, наблюдая за заплутавшим путником, Лолич подумал: «А может, он тоже одна из тех ласточек, которая когда-то отбилась от стаи и затерялась на длинном, тяжелом пути, а сейчас возвратилась и ищет свое разоренное гнездо?..»
Пока Лолич размышлял, путник подошел совсем близко. Увидев Пейю, он на мгновение остановился, как бы что-то припоминая, а затем повернул в сторону оврага, со дна которого доносилось клокотание горного потока. По поведению незнакомца было видно, что он не хочет ни с кем вступать в разговор и предпочитает уединение.
— Эй, знаете ли вы, куда идете? — окликнул его Лолич с почтением, которое было свойственно ему в тех случаях, когда он оказывал мелкую услугу. — Эта тропа ведет к обрыву и довольно опасна. Вам лучше бы вернуться назад. Вы меня слышите?
Незнакомец, сделав по инерции несколько неуверенных шагов, остановился. Несмотря на сгущавшиеся сумерки, Лолич видел его достаточно отчетливо, но ему захотелось взглянуть на незнакомца поближе: что-то в нем его насторожило. Несколько мгновений они внимательно рассматривали друг друга. Незнакомец был высокого роста и выглядел довольно старым и усталым, щеки у него запали, взгляд был какой-то погасший, тусклый. У него была длинная седая борода и такие же длинные и седые волосы. На его худых плечах болталась старая, потертая куртка без пуговиц, подпоясанная узким ремешком. На нем были солдатские брюки, обут он был в резиновые сапоги. Опираясь грудью на палку, незнакомец тяжело дышал, но весь его облик был преисполнен достоинства. Этот человек, видимо, относился к той категории людей, которых вначале принимают за просителей, но при дальнейшем знакомстве обнаруживают, что они привыкли не просить, а брать, не подчиняться, а повелевать.
— Что ты, черт возьми, уставился на меня, будто впервые видишь живого человека? — с усмешкой на посиневших губах спросил незнакомец таким ядовитым тоном, который бьет, как удар хлыста.
Лолич был так поражен мелькнувшей догадкой, что растерялся. Все в нем заклокотало от охватившего его волнения, сердце бешено застучало. Словно далекое и мучительное видение, в его мозгу возник образ Лабуда, старого друга, бывшего командира отряда. Сомнений больше не было. Он узнал это волевое лицо, большие темные глаза. Первым его побуждением было бежать отсюда. В висках стучало. «Это же Лабуд! Откуда он взялся? Ведь все говорили, что он умер». Каждый нерв у Лолича напрягся как струна, тело оцепенело, ладони покрылись потом.
— Нет, нет, это неправда, этого не может быть! — воскликнул он натуженным шепотом, полным боли и глубокого страха. — Это же не ты, Лабуд? Скажи, что я обознался.
Лолич почувствовал страшную жажду, ему казалось, что по жилам у него вместо крови потекло расплавленное олово. Не было сил сдвинуться с места, он стоял, низко опустив голову.
— Нет, ты не обознался, Пейо. Это я. — Лабуд усмехнулся той скупой улыбкой, которая воскресает на лице обвиняемого при объявлении оправдательного приговора. — Как видишь, все возможно, даже наша встреча.
— Ты жив, Лабуд, а мы думали… Все говорили… — Он замолчал и стиснул виски ладонями, будто хотел задержать в сознании далекие и тяжелые воспоминания.
Встреча потрясла Лолича. Происходящее он воспринимал как сон. До этого момента Лолич жил уверенно, купался в красивых мечтах, был полон желаний и надежд, а сейчас как-то сразу обессилел и обмяк.
— Можешь думать, что хочешь, но со мной ничего не могло случиться, — прищурившись, глядя на Лолича, произнес Лабуд после небольшой паузы. — Я не из тех, кто умирает на полпути к цели.
— Ты прав. С нами ничего не может случиться. Мы обязаны дойти до конца, — запинаясь, согласился Лолич.
Трудно сказать, насколько Лолич сознавал свою вину перед Лабудом. Он был из тех, кто каждый свой поступок считает правильным, идеальным и может найти оправдание любому действию.
Видя, что Лолич разнервничался сверх всякой меры, Лабуд сердито сказал:
— Перестань дрожать, возьми себя в руки.
— Клянусь, давно так не волновался, никогда не испытывал ничего подобного. — Лолич провел ладонью по лбу, как бы стирая с него пыль прошлого.
— Если человек волнуется и переживает, — глядя куда-то мимо Лолича, произнес Лабуд, — значит, он еще жив и, во всяком случае, не потерял совесть.
— И здесь ты прав. Мы еще поживем и покажем себя. Только ты напрасно сердишься на меня. Я ни чуть-чуть не виноват во всем, что произошло с тобой. Ты должен это знать.
— А разве тебя кто обвинял?
— Нет, но я подумал, что ты можешь усомниться и сейчас будешь…
— Успокойся. Нет у меня ни возможности, ни сил, да и желания мстить тебе, — усталым голосом прервал его Лабуд. — Для меня достаточно того, что тебя мучает собственная совесть. Ты уже наказан.
— Все, что было на суде, было сфабриковано и подстроено, меня принудили…
— Я же тебя только что просил не вспоминать об этом.
— Ты действительно считаешь, что с прошлым покончено?
Лабуд неопределенно пожал плечами, он не знал, что ответить.
— Иллюзии кончились, — жадно вглядываясь в затуманенную даль, произнес Лабуд оживившимся голосом. — Дорого они стоили мне. Но с прошлым расставаться не вижу нужды.
Окружающие предметы как бы удалялись, растворяясь в мягкой, призрачной пелене мрака, исчезали за черным пологом тьмы.
— Прошлое не исчезает, — продолжал Лабуд, — а, наоборот, с ходом времени становится все глубже и дороже. Без памяти о прошлом я не прожил бы и дня. Как я счастлив, что вновь стою на Космае, вижу наши села, нашу землю. Теперь и умереть не страшно.
Лолич непроизвольно кивнул в знак согласия, но спохватился и начал торопливо, как на смертном одре, заклинать Лабуда, что тот еще поживет на этом свете. Лабуд не любил, чтобы его утешали, но, зная манеру Лолича произносить пустопорожние слова, он не обращал на них внимания.
Лабуд почувствовал приступ слабости и прислонился к дереву. Подождал, пока успокоится сердце, и хотел уже что-то сказать, но глубоко и болезненно закашлялся, взгляд его помутнел. Снизу, словно дым от большого пожара, поднималась мгла. Вершина горы скрылась в клубах облаков и сгустившегося мрака. Исчезли из виду деревни. Холодный вечер опускался на землю.
— Когда находился там, на острове, мечтал об одном: хоть раз повидать вновь свой край, родную землю, встретиться с товарищами. А сейчас, после того как увидел Космай, жить захотелось снова, появилась вера в то, что еще не все потеряно. Помнишь, как верили мы в победу, когда в сорок первом начинали борьбу, и как нам помогала эта вера? Кажется, с той поры минула вечность, а прошло всего пятнадцать лет. Помнишь, кажется, где-то здесь, за гребнем, погиб тогда наш комиссар Шумадинец?
— Как не помнить, ведь ты тогда тоже едва не погиб, — ответил Лолич, обрадовавшись возможности сказать хоть что-нибудь, реабилитировать себя в глазах товарища. — О тех событиях я написал роман, в котором ты один из главных героев. И это справедливо. Так оно и было в действительности. Я за правдивость в искусстве.
— Не мне судить о своих заслугах, но не думаю, что они были так велики, чтобы о них писать в романах, — ответил Лабуд тихим, бесцветным голосом, полным сомнений. Он думал о том, как может один и тот же человек в книгах писать одно, а в донесениях в органы сообщать другое. Трудно было все это совместить.
Они медленно шли по узкой, извилистой тропинке, которая едва виднелась под ногами. Слева над тропой нависала каменистая стена обрыва, справа журчал быстрый холодный поток. На сей раз темнота была приятна Лабуду. Она была какая-то легкая, заполненная мягкими, едва слышными звуками, доносившимися словно из-под земли. Он остановился настороженно, как охотник при приближении дичи. На мгновение ему почудились шаги серны, но вдруг они превратились в едва слышные слова песни, что когда-то певала медицинская сестра его роты. Нет, слух не обманывал его. Это ее голос — мягкий, грудной, полный тонких оттенков, созвучный с музыкой мелких капель теплого весеннего дождика, ласкающего молодые распускающиеся листья.
Последние годы этот голос постоянно преследовал Лабуда по ночам, однако стоило ему проснуться, как голос исчезал, но оставалось видение больших темных глаз, забыть которые он был не в силах. И сейчас Лабуд весь напрягся, силясь понять, действительно ли он слышит знакомый голос или же это очередная галлюцинация.
— Все последние годы я провел среди наших товарищей, среди живых и мертвых, — опять начал Лабуд, когда они спустились в низину, где песня уже не была слышна. — И о тебе часто думал, возможно, даже чаще, чем ты заслуживаешь.
— Напрасно ты сердишься на меня, — приостановившись, сказал Пейя. — Сейчас ты знаешь, что я не виноват.
Лабуд тоже остановился и уставился в темную даль. В пустом мраке не было видно ничего, лишь в одном месте, немного в стороне от их пути, что-то светлело, словно блики невидимого костра.
— Хотя нет, больше всего я вспоминал Гордану Нешкович, — не обращая внимания на Лолича, вернулся Лабуд к прерванной мысли. — Все-таки в партизанах мы были не просто товарищами. Мы любили друг друга, ты это знаешь. Только где она теперь, не знаю. Мы никогда не переписывались. Она — моя последняя надежда.
Лолич остановился как вкопанный. В глазах у него помутилось, лоб побледнел, ноздри задергались, а рот полуоткрылся. Казалось, Лолич сейчас скажет что-то важное и значительное для них обоих. Но он промолчал, страдая от муки и тоски. Только сейчас осознал он всю серьезность возникшей ситуации, но у него не нашлось ни силы, ни храбрости сказать правду.
— Если ты спрашиваешь о Гордане Нешкович, то она работает вместе со мной в редакции одной газеты. — Лолич судорожно вздохнул. — Мы часто вместе ездим, пишем репортажи и так далее…
— Не может быть! — обрадованно воскликнул Лабуд. — Как я рад, что она нашлась!
Сердце Лолича билось, как птица в клетке, с каждым мгновением он все ускорял шаг, и это было похоже на бегство. Но Лабуд ничего не замечал. Встреча с человеком, который каждый день видит Гордану, влила в него свежие силы, вернула его из мира грез, светом маяка пронзила мрак неизвестности, и он шагал теперь за своим поводырем, больше ничего не спрашивая.
Лолич тоже молчал. Когда идти им оставалось совсем немного, пошел мелкий липкий дождик. Лабуд сразу почувствовал озноб, стал часто останавливаться, натужно и подолгу кашлял. Ноги с трудом повиновались ему, он то и дело спотыкался и, наверное, не раз бы упал, если бы не толстая узловатая палка, на которую он опирался.
Терпение покидало Лолича. Он нервозно курил сигарету за сигаретой, выискивая момент, чтобы произнести какую-нибудь ядовитую фразу, но нужные слова не приходили на ум, и с каждым шагом он все отчетливее ощущал, как его охватывает панический страх. Что-то будет, если Гордана не забыла Милана Лабуда, если у нее проснется к нему прежняя любовь?
— Не помню точно, но, кажется, этот идиотский кашель мучает меня три года, — сказал Лабуд после очередного приступа кашля. — Врачи думают, что я с ним и родился, но я-то знаю, что они ошибаются. Ведь в партизанах я не кашлял, ты же помнишь.
Лолич посмотрел на него отсутствующим взглядом философа, которого прервали в момент зарождения новой идеи.
— Сейчас-то я знаю, как трудно излечиться от него. Когда кашель начинает меня мучить, кажется, что наступил конец света. Чувствуешь себя отвратительно: внутри все сотрясается и клокочет, а ты ничего не можешь с этим поделать… — И голос Лабуда потонул в новом приступе кашля, на сей раз особенно жестоком.
Лолич наблюдал за ним со злорадством. Никогда он не питал к нему такого отвращения, как в эти минуты, но бросить Лабуда сейчас Лолич не решался и лишь еще больше ускорял шаг. Уставший и продрогший Лабуд едва поспевал за ним.
Наконец они прошли сквозь узкий каньон и по крутым ступенькам, выбитым серпантином, выбрались на небольшую открытую площадку. Этот участок пути Лабуду дался особенно трудно.
В это время года ночи на Космае холодные, наполненные сонной тишиной, в которой самые слабые звуки звонко разносятся на сотни метров. Поэтому Лабуд еще издалека услышал знакомый ему голос и сейчас все еще не мог успокоиться. Все его мысли были устремлены навстречу своей мечте, и он не сразу заметил, что они поднялись на невысокую террасу. Лабуд вздрогнул, увидев перед собой костер, разложенный под ветвистым дубом. В свете костра виднелся роскошный легковой автомобиль белого цвета и туристская палатка. В промежутке между палаткой и машиной, словно в рамке от большой картины, сидела женщина. Блики пламени от костра трепетали на ее лице, и она походила на скульптуру, освещенную матовым светом.
— Пейо, это ты? — спросила женщина, заслышав шаги, и подняла глаза.
Лолич обогнул костер и встал перед женщиной, как будто хотел заслонить ее от чужого взгляда.
— Гордана… — пробормотал он неуверенно.
Она взяла его руку в свою.
— Гордана… — повторил он еще тише и попытался изобразить улыбку. — Я не один. — Лолич кивком головы показал на Лабуда. — Видишь, гостя привел.
Гордана поспешно встала, легким движением оправила одежду, сняла с плеч вязаный платок и, подняв руки, поправила прическу. В таком положении она оставалась несколько секунд, с удивлением вглядываясь в пришельца. Она ощутила вдруг, что губы ее пересохли. Несколько раз их взгляды встречались, как встречаются ласточки в полете — чуть коснутся крылышками друг друга и снова разлетаются в разные стороны. Лабуд еще издали узнал Гордану и сейчас с огромным трудом контролировал себя. Ему казалось, что она совсем не изменилась. Та же величественная осанка, те же красивые черты лица, то же чарующее сияние больших глаз — словно время проходило стороной и бережно хранило ее молодость.
— Я тебя давно жду, чего только не передумала, — сказала Гордана Лоличу.
Лабуд подумал, что ее слова относятся и к нему, него сердце сильно забилось.
«Она работает со мной в одной газете, — молнией пронеслось в мозгу Лабуда. — Мы часто вместе ездим и пишем репортажи». Он стоял всего в нескольких шагах от костра и не спускал взгляда с Горданы. «Почему же Пейо не сказал сразу правды? Зачем лгал? Я бы немедленно ушел. Человек, хоть однажды потерпевший поражение, становится понятливее…»
Хотя, по совести говоря, это поражение было трудно понять и признать. И может быть, именно потому, что он не сразу осознал весь трагизм своего положения, Лабуд не повернулся и не ушел. Гордана находилась, казалось, так близко, совсем рядом, их разделяли каких-то два-три шага, а на самом деле между ними пролегла пропасть. Он стоял опустив голову, не в силах посмотреть в ее глаза, затененные длинными ресницами. Ноги и руки у него словно окаменели, мысль замерла, горло сжимала холодная невидимая рука, в груди нарастал тяжелый, болезненный вздох. Долгие годы мук и одиночества, проведенные в мыслях о ней, сейчас приобрели некий трагический оттенок. Надежды рушились. Как ждал он этой встречи, сколько строил разных планов, и вот теперь в мгновение ока все обратилось в прах. Лабуду было ясно, что он забыт; он видел, что вернуть прошлое нельзя, а его чаяния оказались иллюзией. Осознание случившегося потрясло его, лишило последних сил. Он был так поражен этой изменой, что растерялся.
«Потерять в жизни все, а теперь расстаться и с последней мечтой! — думал про себя Лабуд, чувствуя, как на глаза навертываются слезы. — Она меня даже не узнала. Как можно забыть такую любовь?»
Ему казалось, что его бросили в безвоздушное пространство, где не на что опереться. Все вокруг было чужим, нереальным, далеким.
— Ты все еще не узнаешь его? — довольным голосом спросил Пейя Гордану, кивая в сторону Лабуда.
Гордана недоуменно посмотрела на мужа, словно ожидая, что он скажет еще что-нибудь. Лабуд перехватил ее взгляд и неожиданно для себя отступил в темноту. Теперь он окончательно поверил, что Гордана не узнала его. Время выветрило любовь, думал он, предало ее забвению, оставило от нее лишь жалкую тень.
— Вот так-то, — машинально произнес он из темноты. — Приятно было повидаться, а теперь мне пора идти, — собрав все силы, сказал он. Слова застревали у него в горле, будто колеса грузовика в вязкой грязи проселочной дороги. — Я должен идти, — после короткого замешательства повторил он. — Отсюда дорогу я хорошо знаю, да и дома наверняка ждут.
Услышав голос Лабуда, Гордана насторожилась и посмотрела в его сторону.
Лолич, будто и не слышал последних слов Лабуда, снимал с себя охотничье снаряжение и укладывал его в машину.
— Уже поздно, до свидания, — произнес Лабуд, однако не тронулся с места и лишь сильнее оперся на палку обеими руками.
— Конечно, иди, ты ведь давно не был дома, — сразу оживился Лолич. — Не смею удерживать тебя.
«Так будет лучше, — думал он. — Пусть Лабуд так же неожиданно исчезнет, как и появился».
— Правда, я думал, что ты немного побудешь с нами, но раз тебе надо идти…
— Кто знает, может быть, опять придется свидеться, — холодно и презрительно прервал его Лабуд.
— Все бывает… может быть. Земля круглая. Если хочешь, могу подвезти до деревни на машине, мне это совсем нетрудно.
Лабуд нервничал. Ему очень хотелось еще раз взглянуть на Гордану, может быть в последний раз. Она стояла сейчас немного в стороне от костра, и Лабуд подумал, что она намеренно скрывается от него.
Гордана же чувствовала себя так, словно никак не могла пробудиться от долгого сна. Ее мысли блуждали в далеком прошлом, которое уже стало понемногу забываться. Одно лишь воспоминание о том времени вызывало у нее горечь и боль. Но с каждой минутой возникшая ситуация становилась ей понятнее, однако она все еще колебалась. Вслушиваясь в усталый, измученный голос, доносившийся из мрака, Гордана чувствовала, что все ее тело охватывала дрожь. Где-то в самой глубине ее существа возникло неосознанное беспокойство, ее бросало то в жар, то в холод. И вдруг ее осенило. Это же Лабуд, ее Лабуд находится здесь перед ней. Сомнений больше не было: это тот человек, с которым связана лучшая часть ее жизни, наполненная чистотой помыслов, молодостью, мечтами, нежностью, любовью.
На мгновение ей стало стыдно за свое предательство, за измену, но это ощущение быстро прошло. Сейчас она видела лишь Лабуда, его постаревшее бородатое лицо, беспокойные сверкающие глаза, его грубоватый профиль с четкими линиями лба, носа, подбородка и толстых губ, слышала лишь его сильный озябший голос, который всегда знала твердым и спокойным. Для нее больше ничего не существовало.
«Это он, Милан! Это его голос, его лоб, его губы, — шептала про себя Гордана, борясь с охватившим ее волнением. — Он жив, жив… Это главное… Почему он замолчал?»
Несколько мгновений она смотрела на него глазами человека, который в самый последний момент нашел в себе силы избежать столкновения автомобилей и еще не освободился от полушокового состояния.
— Милан, откуда ты здесь?! — не владея больше собой, воскликнула она и едва не бросилась ему на шею. — Я никогда, никогда не переставала о тебе думать.
Ее распахнутые для объятия руки замерли на полпути, и лишь кончиками пальцев она легко провела по его щекам, губам, подрагивающей бороде. Она видела перед собой совсем другого Лабуда — потерянного, больного, постаревшего, и сердце ее наполнилось болью. Почувствовав его губы на своих ладонях, Гордана очнулась.
— Как я тебя ждала, если бы ты знал, — прошептала она, и на ее длинных, ресницах заблестели слезы.
Лолич, не двигаясь, следил за каждым движением своей жены. В его памяти возникли отрывочные картины их совместной жизни. К Гордане он привык относиться как к собственности, как к вещи, купив которую однажды, приобретаешь на всю жизнь. Он знал, что она не способна на обман и измену. Правда, еще долго после свадьбы она держала на стене фотографию Лабуда. Он не возражал, зная их прежние отношения. В конце концов, устыдившись, она убрала фото, и Лолич подумал, что с прошлым покончено.
Но, глядя на жену сейчас, Лолич понял, что ошибался. «Нельзя верить женщинам, не зря говорят», — думал он оскорбленно и потерянно, опасаясь, как бы его чувства не вырвались наружу. Встретив Лабуда, Лолич намеренно не сказал ему правды о себе и Гордане. Так верил он в любовь Горданы, ну если не в любовь, так в ее долг жены перед ним, что с тайной надеждой ожидал увидеть еще одно, может быть последнее, поражение Лабуда.
Он почти не сомневался, что так оно и будет, и поэтому поведение жены было для него страшным ударом. Лолич был потрясен, смят, раздавлен и, словно в полубреду, пытался еще что-то придумать, чтобы вернуть Гордану. Но как это сделать? Снова мстить? Но принесет ли теперь этот метод какую-нибудь пользу? Вот если бы можно было вновь повторить то, что удалось ему провернуть семь-восемь лет назад. Лолич давно не терпел поражений, все у него выходило. Без особых усилий он поднимался по служебной лестнице, получал награды и так привык к успеху, что и думать перестал о неудачах. «Мне — все, другим — ничего», — привык считать Лолич. Тем, более когда дело касалось Горданы. Попробовал бы кто-нибудь покуситься на нее! При одной мысли об этом Лолич терял рассудок.
Сейчас ему казалось, что какая-то неведомая сила вырвала его из привычного хода событий и бросила в пучину неизвестности. Сгорая от ревности, раздираемый жалостью к себе, он вспоминал тот злосчастный день, когда впервые сказал Гордане о своей любви. Лабуд тогда уже не стоял на его пути, жизнь отбросила его в сторону и похоронила. Лолич надеялся, что мертвые не воскресают, что они не в состоянии кому-либо мешать, а тем более мстить. Ему запомнился день, когда он дал объявление в газете, а после эту газету подбросил Гордане на стол. Вечером, выходя из канцелярии, увидел ждавшую его Гордану всю в слезах. «Лабуд погиб в автомобильной катастрофе!» Она была потрясена горем и инстинктивно искала опору, на которую могла бы опереться. Такой опорой в тот момент мог быть лишь Лолич. Он знал это и, как опытный искуситель, не спешил к ней на помощь, понимая, что у нее нет другого выхода, кроме как следовать за ним. В те послевоенные годы, когда мужчин было негусто, многие девушки не могли найти себе достойной пары, а особенно те, что были постарше и побывали в партизанах. На них смотрели как на героинь, но не спешили отдавать им свою любовь. Гордана, как и любая другая девчонка, мечтала о тепле домашнего очага, о семье, о детском лепетании, о нежной любви мужа, и поэтому, пережив неожиданную смерть Лабуда, она все же ответила согласием на предложение Лолича, хотя и приняла его почти равнодушно, без восхищения. Так люди принимают незаслуженную награду, от которой, однако, не смеют отказаться, ибо знают, что другой не будет.
— Почему молчишь? — спросил Лабуд, не выпуская из своих рук руки Горданы. Она почувствовала в его словах укор и усмешку. — Разве тебе нечего мне сказать?
Она смотрела ему в глаза, не зная, что ответить.
— Мне сказали, что ты погиб, — прошептала она после мучительного молчания. — Я не могла не поверить…
— Не говори мне о смерти, — неожиданно строго прервал ее Лабуд. — Всю жизнь она меня сопровождает. Надо ее хоть иногда забывать.
Гордана улыбнулась, подняла его ладони и прижала их к своим щекам.
— Дорогой мой, любимый, не сердись, — со вздохом сказала она. — Я люблю тебя и ждала только тебя, ждала долго и упорно. И сейчас люблю тебя, мне кажется, больше, чем когда-либо. Конечно, больше… После того объявления в газете о катастрофе долго еще не верила. Искала тебя повсюду, но безрезультатно. Прошу тебя об одном: прости меня, прости все.
Лабуд молчал, думал. Знал, что не было никакой автокатастрофы. Но сейчас все это не имело значения. Его лоб покрылся холодным потом. Голова кружилась. Рваные клочья тумана неслышно тянулись друг за другом. Костер угасал. Мрак становился все темнее и гуще. Лишь едва слышный ветерок шелестел над головой, загадочно шептался с голыми ветвями дуба, сбивая с них дождевые капли. И когда капли падали в костер, он на мгновение вспыхивал язычками пламени и освещал неярким колеблющимся светом лицо Горданы.
— Если бы я знала, что ты жив, что когда-нибудь вернешься ко мне, — шептала она мягко и сердечно, словно говорила сама с собой, — все было бы по-другому. Никогда, никогда бы не изменила тебе. Я хочу, чтобы ты знал об этом.
— Спасибо тебе, Гордана, что не совсем забыла меня, — ответил Лабуд, не сводя глаз с ее уст… таких дорогих, любимых. «Неужели они целовали Лолича?» Эта мысль глубоко кольнула Лабуда, и непроизвольным движением он отбросил от себя руки Горданы.
Гордана не поняла его жеста и снова положила ему на плечи свои руки. Она неотрывно смотрела на него, и ей показалось, что его глаза понемногу оживали, лицо приобретало свой естественный цвет, становились нежными губы и к ним возвращался запах, запомнившийся ей при первом поцелуе.
— Почему ты никогда не писал, почему?.. — застенчиво спрашивала она. — Я бы ждала тебя всю жизнь. Всю жизнь.
Ревность, захлестнувшая было Лабуда, постепенно затихала.
— Я никому не писал. Оттуда, где я был, письма не идут. Между той жизнью и этой нет связи. Там… — Он не закончил фразы и закашлялся. На его лицо снова пала тень смерти.
Гордана потерянно смотрела на него, понимая и сознавая его трагедию, неизлечимость его болезни. Думала о том, как ему помочь. Она была готова принять на себя все его муки.
— Ты, кажется, собирался уходить? — будто разбуженный тяжким кашлем Лабуда, спросил Лолич. — С твоим туберкулезом надо лежать в больнице, а не скитаться по лесам.
Гордана презрительно посмотрела на мужа, перенесла взгляд на Милана, затем снова на мужа. Зная характер Лабуда, она подумала о том, что если сейчас он повернется и уйдет, то ей его больше не видать никогда. Надо было решать, и решать скорее. Она на мгновение закрыла глаза, обретая решимость.
— Конечно, конечно, — произнесла она, — Милан срочно нуждается в лечении.
— Наконец-то услышал от тебя сегодня первое умное слово, — сказал Пейя, еще не осознав, какой приговор он вынес себе. — Я сейчас же отвезу его в больницу. — И, обернувшись к Гордане, добавил: — Ты не беспокойся, я быстро вернусь.
— Я тоже иду с ним, — решительно заявила Гордана. — Я не могу оставить его в таком состоянии.
— Брось, Гордана, свои глупости, подумай, что делаешь. — Лолич в сердцах швырнул в костер только что прикуренную сигарету. — Успокойся, приди в себя. Что это на тебя напало? Нам же завтра утром надо быть в деревне на открытии памятника павшим бойцам, а к вечеру сдать в редакцию готовый репортаж.
— Спасибо за напоминание, но меня больше не интересует ни твоя редакция, ни твой репортаж. Все эти годы я делала все, что ты хотел, а сейчас буду поступать, как сама считаю нужным… Еще не совсем поздно, — она обернулась к Лабуду, — мы успеем на последний автобус. Подожди минуту, я возьму свою сумку. — И она поспешила к машине.
Лолич стоял неподвижно, будто окаменев. Он знал упрямый характер жены и больше не осмеливался ее задерживать. Тяжело дыша, ловя пересохшими губами холодный воздух, он думал о том, с каким превеликим удовольствием одной рукой задушил бы сейчас Лабуда. Испугавшись этой мысли, он отошел в сторону. Еще никогда он не чувствовал себя таким неуверенным, как сейчас. В отчаянии он был готов на все. На мгновение он встретился взглядом с Лабудом. Тот скупо усмехнулся и устало присел на камень, на котором сидела Гордана, когда они появились у костра. Безысходные мысли навалились на Лолича, давили его своей тяжестью. Он ощущал тупую боль в голове, в ушах звенело, как после хорошей ночной пирушки.
Лабуд сознавал свое состояние. «С такой болезнью, как у меня, — думал он, — трудно на что-нибудь рассчитывать. Обычно страдающие туберкулезом люди уходят из жизни весной, когда начинает цвести тыква. Понимает ли это Гордана? Как она будет жить после меня? Надо сказать ей сейчас все, ничего не скрывая. Остановить, надоумить. Жаль, но скрывать ничего нельзя. Как-то она воспримет мои слова? Может быть, мне лучше повернуться и уйти, и пусть она думает, что хочет, хоть трусом считает».
— Гордана, — позвал он ее с намерением исповедаться перед ней, но, встретив ее взгляд, ощутил какую-то внутреннюю боль и должен был сначала совладать с собой.
— Уже поздно, да и дождь кончился. — Она подошла к нему с дорожной сумкой в одной руке и с зонтиком в другой. — Как приятно мне видеть тебя… Пошли, так будет лучше для нас обоих…
Тонкие прямые брови Горданы взметнулись и стали похожи на крылья ласточки в полете. Она попробовала улыбнуться, но внезапные слезы выдали ее.
— Милан, дорогой мой, зачем так… — Она уронила голову ему на плечо и обвила шею руками. — Или забыл меня, разлюбил?.. Сколько я страдала, сколько слез пролила! Пойми, я тебя нашла и не хочу больше терять!
Она вся дрожала, и ее волнение передавалось ему. «Она любит меня, она моя! Мы любим друг друга уже пятнадцать лет, — пытаясь оправдаться в собственных глазах, думал Лабуд. — Нет, нет, ничто нас больше не разлучит. Я люблю ее, и этим все сказано».
Гордана по-своему расценила его затянувшееся молчание.
— Коли не любишь, — сказала она резко, — я не хочу тебе навязываться… У меня хватит сил пережить и это несчастье.
— Как можешь ты такое говорить, Гордана? Ты ведь знаешь, что я тебя люблю. Только любовь твоя и помогла мне выжить и возвратиться к тебе. Она давала мне силы и помогала пережить самые тяжкие времена. Только что я сейчас? Моя болезнь неизлечима. Надежды на выздоровление нет, мои цветы отцвели, листья опали… Мне жить-то осталось всего до весны, чтобы, когда все расцветет, угаснуть. Поэтому я не хотел бы тебе принести несчастье, оставить тебя одну.
Она не дала ему продолжить, закрыла ему рот своей ладошкой. Он поцеловал ее пальцы.
— Прошу тебя, милый, не говори так. Это на тебя непохоже, ты говоришь чужими словами. Никогда я тебя таким не знала и не хочу видеть несчастным. Вспомни, как в отряде все стремились брать с тебя пример. Где же сейчас твой оптимизм, твоя любовь к жизни? Ты не имеешь права думать о смерти, после всего того что перенес и пережил. Возьми себя в руки, Лабуд, оставь мрачные мысли, поверь в себя. И знай, что я всегда с тобой, всегда помогу в трудную минуту. Вспомни, как ты любил говорить: «Сильнее смерти только сама жизнь». Разве не так?
Сухие горячие губы Лабуда на мгновение ожили, слившись в поцелуе с желанными устами Горданы. Она закрыла глаза, припала к его груди, голова у нее закружилась, и ей показалось, что земля ушла у нее из-под ног и что она падает в бездонную пропасть. Все исчезло, остался лишь какой-то далекий голос, голос прошлого, на зов которого она не могла не откликнуться.
…Это случилось давно, ой как давно, еще в самом начале войны, когда со всех сторон партизанам угрожала смерть. Люди жили как бы на грани между страхом смерти и надеждой остаться в живых. Что перетягивало, то и определяло поведение человека. Лабуд понимал, что если страх поражения и смерти завладеет мыслями бойцов, то борьбе конец, все будет кончено с ними. И чтобы хоть как-то избежать или хотя бы отсрочить нависшую катастрофу, Лабуд взбунтовался против смерти, как бунтуют люди против неправды. Он не верил в бессмертие, но именно поэтому и не хотел умирать. По отношению к смерти, как и по отношению ко всей окружающей его действительности, у Лабуда было свое мнение, которое он провозглашал открыто и убедительно.
— Смерть? — с насмешкой и вызовом восклицал он. — Да это же глупо и наивно, ребята, думать о ней! Какие вы герои, если будете трястись перед каждым дьяволенком! Запрещаю вам до конца воины не только говорить, но и думать о таких вещах. У нас нет, ни времени, ни сил поддаваться страху. Разве без нас мало людей погибает? Нет, нет, сейчас я не имею права погибнуть, мне недосуг, у меня много дел. Как вы думаете, — продолжал он рассуждать, обращаясь к бойцам, — принимается в расчет моя занятость или нет? Конечно, принимается. А подумали ли вы над тем, что будете делать, если меня вдруг продырявит пуля? Кто тогда будет командиром, ну-ка, поднимите руки, у кого какие есть предложения? А может быть, имеются добровольцы на мое место? Нет? Ну вот и хорошо. Я так и думал, что среди вас на мое место любителей не найдется. Таким образом, сами видите, что если бы я даже и хотел, то все равно не имел бы права умереть.
Бойцы смеялись шуткам своего командира. И в этом разномастном гаме сухих, глухих, натужных мужских голосов Лабуд вдруг различил нежный и звонкий голосок, напоминавший журчание горного ручейка. Он принадлежал молодой девушке с черными большими глазами, густыми прямыми бровями и длинными ресницами, которая не сводила с Лабуда своего взгляда. Лабуд даже подумал, как это случилось, что он до сих пор не обращал внимания на такую девушку и даже избегал ее?..
Незаметно изменив тон и манеру речи, Лабуд продолжал:
— Вчера, например, у меня была возможность отдать богу душу, но я передумал. Налетели на меня стервятники со всех сторон, загикали: «Коммунист, капут, сдавайся!» К счастью, я про вас вспомнил: пропадут, думаю, без меня. И подпустил их поближе, а сам гранату приготовил. Они так и остались там лежать, а я, как видите, ничего. — «Да и как можно умереть, когда перед тобой такая краса, — подумал он про себя, бросая взгляд в сторону ротной санитарки. — Какие губы, какое прекрасное лицо!» — Так я решил со смертью подождать до конца войны. А там видно будет. Пока же каждому должно быть ясно, что фашисты еще не изобрели оружия, которым могли бы нас уничтожить. Что касается винтовок, бомб, да и гранат, то этим нас не возьмешь, мы не из пугливых. Пусть придумывают что-либо поновее, но не забывают, что и новое оружие обернется против них. Это уж точно. Коммунистов не так-то просто уничтожить. Нам и на этом свете неплохо, жить можно…
— Послушай-ка, Лабуд, ты все о коммунистах толкуешь, будто вам одним жить хочется, — неожиданно прервал его Влада Зечевич. — А что делать нам, бедным, кто не в партии?
— Вам, — усмехнулся Лабуд, — ничего не остается, кроме одного: кто не хочет умирать, пусть вступает в партию. Другого выхода я не вижу.
Влада Зечевич задумался, опустив голову, но в его взгляде читалось недоверие. Лабуд хорошо знал, как долго Влада не может решиться вступить в партию. Этот вопрос был сложным не только для него, но и для большинства сельской молодежи, которая психологически еще не была готова сделать решительный поворот в своей судьбе. Лабуд хорошо знал Зечевича, как и те обстоятельства, которые удерживали его на определенном расстоянии от коммунистической партии. Оба они были из крестьян, вместе росли, были сверстниками и старыми товарищами, а кроме того, вместе служили в одном полку, отбывая военную службу.
Лет шесть назад, когда в Черногории было неспокойно, собрали сербских парней и погнали в Колашинские казармы, откуда, кроме синего неба над головой и темного ущелья впереди, ничего не видно. Но, хотя жизнь в казарме была несладкой, тем не менее Милан Лабудович не жаловался на судьбу, ему нравилась военная служба. В новой, хорошо пошитой серой униформе, в
сапогах с подковками на каблуках, Лабуд маршировал по казарменному плацу, высоко задрав подбородок, выпячивая шею, словно лебедь, готовящийся к взлету. В то время немного находилось молодых людей, готовых так рьяно нести военную службу, поэтому усердие Милана было быстро замечено. Однажды, глядя на Милана, шедшего по плацу, Зечевич произнес: «Не идет, а плывет словно лебедь
[4]», и с той поры это прозвище укрепилось за ним на всю жизнь.
Через два месяца Лабуд получил благодарность «за примерную службу королю», а еще через месяц, по завершении начального курса обучения, его отправили в полковую школу капралов. Начало было неплохим для крестьянского парня. Он сразу понял, что невозможно пробиться в унтер-офицеры без полковой школы, как невозможно добраться до верха лестницы, не переступив через первые ступеньки. Все генералы начинали карьеру с капрала. Это — главный винтик большого и сложного механизма. Без капралов нет армии, как не бывает дня без утра. Милана не беспокоило то, что капралов все ненавидели и презирали. Его привлекало другое — перед капралами дрожали, а их приказания выполнялись без рассуждений. «Капрал вам не собака, — любил повторять он выражение своего первого командира отделения, — напрасно лаять не станет». И Милан «зря не лаял». Уже в первые дни по возвращении из школы, когда его поставили командиром отделения, он разбил в кровь нос одному рекруту за то, что тот плохо вычистил свою обувь. Ничего не поделаешь, все капралы с этого начинали строить свою карьеру.
На втором году службы Лабуду прицепили на погоны еще по нашивке (звездочке), и он получил право на десятидневный отпуск домой. Однако вновь начались волнения среди горожан, и отпуска временно отменили. Полк был приведен в боевую готовность, а две роты были направлены в помощь жандармам. Бунтовщики же не хотели успокаиваться. Первые два дня они ходили мирными толпами по городу, распевая запрещенные песни и требуя признания красной России, о которой Лабуд почти ничего не знал. Он не мог понять, почему они требуют, чтобы Россию признали, если известно, что она существует. С каждым днем бунтовщики вели себя все наглее и наконец дошли до того, что стали требовать свержения короля, смены правительства и проведения каких-то новых выборов. Такого своеволия, по мнению Лабуда, терпеть было нельзя. Он любил своего короля и давал присягу верно служить «богу, королю и отечеству». Когда бунтовщики поливали имя короля грязью, все в нем клокотало от ненависти к ним. Его терпению приходил конец. Наконец оно лопнуло, когда группа студентов и рабочих на главной площади города сожгла портрет «его величества». Такого Лабуд не мог простить. Коршуном налетел он на бунтовщиков, но чья-то сильная рука преградила ему путь, а другая отбросила в пыль мостовой. Уже падая навзничь, он вспомнил, что вооружен, и машинально нажал на спусковой крючок. Раздался выстрел. Рядом с ним кто-то упал. Остальные побежали. Придя в себя, Лабуд увидел на булыжной мостовой лежащего в луже крови черноволосого юношу. Он чуть не завыл от страха.
Смерть юноши потрясла Лабуда. Сердце его стучало, тело покрылось потом. От удушливого запаха крови ему стало дурно. Широко раскрытые глаза погибшего юноши презрительно взирали на своего убийцу. Милану показалось, что уста юноши шепчут: «За что ты меня убил? Я ведь боролся и за твою свободу. Беги отсюда». Вдруг к убитому подбежала женщина с распущенными волосами и с плачем упала перед ним. Лабуду казалось, что он слышит причитания своей матери. У него перехватило дыхание, к глазам подступили слезы.
Он не спал всю ночь. Ему мерещились глаза убитого, его мучили кошмары, он задыхался. Чувство вины не прошло и на следующий день. Зечевич тогда ему сказал: «Если хочешь освободиться от кошмаров, надо, зажечь свечу в изголовье погибшего».
Пойти на похороны было непросто. Местные власти, боясь новых демонстраций, запретили проведение публичных похорон. Кроме того, родные погибшего, по народному обычаю, могли отомстить убийце по принципу «кровь за кровь, око за око». Но Лабуд, презрев опасность, зашел в церковную лавку, купил за три динара свечу и отправился на похороны.
Дом погибшего юноши находился на далекой окраине, в узком глубоком ущелье с крутыми стенами, — прямо настоящее гайдучье гнездо. Около дома собралась толпа народу. Лабуду казалось, что все на него смотрят с презрением, но он упорно пробивался вперед, и каждый шаг отдавался у него в мозгу. Когда Лабуд пробился к гробу, женщины перестали причитать и воцарилась тишина. Чувствуя, как перехватывает дыхание, Лабуд дрожащей рукой зажег свечу, но пламя едва лизнуло фитиль и исчезло. Он зажег свечу во второй раз и, когда пламя снова погасло, увидел перед собой человека, который гасил свечу. Их глаза встретились. «Мертвый презирает убийцу», — прочел Лабуд в тяжелом взгляде незнакомца. Растерявшись, Лабуд ждал, что же будет дальше. Женщины снова заголосили, еще громче и надрывнее. Незнакомец взял Лабуда под локоть и повел на выход. В толпе, стоявшей у дома, поднялся глухой ропот. Лабуд был ненавистен этим людям вместе со своим королем. За эти тяжелые минуты Лабуд многое понял и осознал. Около дома шныряли жандармы, агенты полиции, бросая подозрительные взгляды на Лабуда. Когда траурная процессия вышла на улицу и запела: «Вы жертвою пали…», Лабуд, хотя и не знал слов этой песни, вместе с другими подхватил мелодию.
Неожиданно из бокового переулка выскочила группа конных жандармов, находившихся в засаде, и врезалась в траурную процессию, пытаясь разогнать ее с помощью резиновых дубинок. Народ разбегался перед жандармами, но сразу же за их спинами шеренги смыкались вновь. Один из полицейских налетел на Лабуда и больно ударил его резиновой дубинкой, едва не свалив с ног. Лабуд весь напрягся, кровь ударила ему в голову, и он ощутил слепую ярость к полиции, которая вчера сделала его убийцей, а сегодня посягнула на его собственную жизнь. Не думая о последствиях, он выхватил из ножен тесак и бросился на полицейских…
…Очнулся Лабуд лишь на следующий день. Он валялся в луже собственной крови, весь избитый, обессиленный, без кокарды и звездочек на погонах. Его карьера закончилась. Он был обвинен в нарушении закона, в оказании помощи бунтовщикам и осужден к шести месяцам каторжных работ. Время, проведенное в заключении, оказалось для Лабуда временем политического прозрения, поворотным пунктом в его жизни. Его упрятали в темницу, чтобы сломить, а он там переродился. Чего не бывает!
Там, как поется в песне, «средь винтовок и штыков, под надзором стражников» Лабуд узнал имя своего учителя и вождя, идеи и образ которого запали ему в сердце на всю жизнь. Это случилось однажды ночью, когда все заключенные спали глубоким сном. Проснувшись, Лабуд увидел, что один из заключенных забрался на табуретку и что-то писал на стене.
— Что ты делаешь? — шепотом спросил его Лабуд.
— Завтра сам увидишь, — ответил тот, не прерывая своего занятия.
Утром, когда прозвучал сигнал «подъем», заключенные, находившиеся в камере, увидели на стене под самым потолком надпись: «Да здравствует Ленин!» Они вопросительно поглядывали один на другого, пытаясь угадать, кто же это сделал.
Когда надпись увидел часовой, он закричал на всю тюрьму, извергая ругательства. Вскоре в камеру ввалился маляр с щеткой и банкой с белилами. Он долго и тщательно замазывал надпись, но, когда стена просохла, на ней еще лучше, чем прежде, читались великие слова: «Да здравствует Ленин!» После бесполезного поиска виновного администрация приняла решение наказать всю камеру — два дня без обеда и без прогулки.
— Скажи, почему они так засуетились? — спросил Лабуд автора лозунга. — Кто такой Ленин? Мне показалось, что надзиратель готов был лопнуть от бешенства, когда прочел это имя.
Заключенный улыбнулся:
— Это, дружище, наш учитель. Да, да, и мой и твой учитель. Учитель всех рабочих и крестьян. Ленин — вождь русской революции, вождь бедняков, наш вождь…
В это время дверь отворилась и в камеру вошел человек с молотком и зубилом в руках. Встав на табуретку, он долго тюкал по стене, вырубая надпись, а когда ушел, заключенные увидели, что имя вождя русской революции не исчезло. Наоборот, оно теперь было выдолблено большими буквами, словно на гигантском памятнике.
— Видно, не стереть им это имя, — глядя на непокорную надпись, заметил Лабуд. — Придется стену ломать.
Из тюрьмы Милан Лабуд вышел зрелым коммунистом. И когда на Космае летом тысяча девятьсот сорок первого года вспыхнуло восстание, Лабуд не колебался: он знал, что следует делать, за что бороться.
Окружной комитет партии поручил ему создать первую партизанскую роту. Это было трудное задание. Положение усугублялось тем, что по приказу Дражи Михайловича
[5], которого король Петр III, находившийся в эмиграции, объявил «верховным главнокомандующим югославскими войсками на родине», район Космая был объявлен местом сбора отрядов четников. Люди горели желанием включиться в борьбу, но они не знали, с кем идти: с коммунистами, союзниками большевистской России, или с четниками Михайловича — за короля. Компартия в то время еще не имела достаточно заметного влияния на селе, и Лабуду было нелегко.
Зато у его противника — Стояна Чамчича — дела шли хорошо. Этот отличавшийся краснобайством офицер запаса королевской гвардии в несколько дней собрал вокруг себя большинство сельской молодежи и сколотил из нее роту. В те дни имя короля в Сербии было еще настолько популярно, что многие крестьяне сами приводили к четникам своих сыновей. Между Миланом и Стояном все чаще возникали препирательства, а иногда и ссоры. Лабуд начинал все более открыто сомневаться в честности Чамчича, в желании четников бороться против фашистских оккупантов.
Влада Зечевич долго колебался, прежде чем принять чью-либо сторону. С Лабудом его связывала старая дружба, а с Чамчичем — военная присяга.
— Я присягнул королю служить верой и правдой, — ответил Влада, когда Лабуд спросил его, на чьей стороне он собирается воевать, — и не имею права нарушать клятву. Мы, военные, и так запятнали себя достаточно, когда во время апрельской войны
[6] побросали винтовки…
— Легче поднять брошенную винтовку, — прервал его Лабуд, — чем вернуть утраченную честь. Только тот, кто возьмется за оружие, защитит свое доброе имя. Понятно?
— Ты прав, я думаю так же. Только не хочу быть предателем в глазах короля.
— Если король предал свой народ, почему же тогда, черт возьми, народ не может предать короля? — спросил Милан. — Сегодня не тот предатель, кто поднимается против короля, а тот, кто выступает против народа.
Зечевич надолго задумался, а затем спросил:
— А что ты намерен делать с Чамчичем? Присягу королю он соблюдает, от его имени поднимает людей, борется…
— Мы предложили ему принять нашу общую присягу.
— Не станет он этого делать. Он против коммунистов, это я знаю точно.
— Мне известны его взгляды, но, пока он с нами в одном отряде, до тех пор мы будем стремиться удержать его и переубедить, так же как и его единомышленников. Если же он будет настаивать на отделении, надо сделать все, чтобы как можно меньше людей ушло вместе с ним.
— Вот теперь мне ясно все, — сказал Влада, избегая встречаться взглядом с Лабудом. — Я подожду, пока вы или разойдетесь или соединитесь. Мне некуда спешить. Делайте вашу революцию без меня. Ты знаешь, что я не люблю совать нос в политику, хочу жить спокойно. Не мешайте только мне, а я вам не помешаю.
Это было уж слишком. Лабуд гневно подступил вплотную к Владе.
— Запомни, приятель, в этой войне за чужой спиной не отсидишься, — произнес он твердым, категоричным тоном. — На войнах вообще нейтральных не бывает. Нам не нужны пацифисты. И я хотел бы знать, кто ты мне — друг или враг. Если друг — вот тебе моя рука, если враг — не сетуй на мою ненависть и не думай, что я тебя буду бояться. Сейчас для нас самые опасные те, кто стремится остаться в стороне от борьбы. Такой «нейтралист» — удар нам в спину. Насколько я тебя понимаю, Влада, ты хотел бы остаться дома, около молодой жены, хозяйством заниматься. Конечно, зачем тебе включаться в жестокую борьбу, подвергать себя опасности? Куда как приятнее нежиться в мягкой постели с милой женушкой, нежели, валяться в лесу на сырой земле. Ну и черт с тобой, держись покрепче за женину юбку, мы как-нибудь без тебя обойдемся. Революция не пострадает. Одним врагом больше или меньше — не важно. Будь здоров! А захочешь меня видеть, найдешь на горе.
Тонкие, сухие губы Влады зашевелились, словно он читал про себя молитву, лицо покраснело, глаза блеснули. Он стал похож на разъяренного быка, готовящегося поднять на рога своего противника.
— За кого ты меня принимаешь?! — обиженно воскликнул он звенящим голосом. — Ошибаешься, коли считаешь, что ради юбки я пожертвую своею честью и позволю запятнать свое доброе имя.
— Ну что ты, Влада, я ничего плохого о тебе не хотел сказать, но ведь ты сам все это говорил.
— Врешь ты, да и ошибаешься к тому же. Я еще не сказал своего последнего слова, а ты уже выводы делаешь. — Влада замолчал, пытаясь взять себя в руки и успокоиться. Он опасался, что Милан может неправильно понять его откровенное признание. — Послушай, Милан, — решился он наконец. — Не все у меня обстоит так, как тебе кажется. Я тебе никогда об этом не говорил, да и сейчас не стал бы, если бы ты не вынудил. У тебя найдется закурить?
Они закурили. Сделав несколько затяжек, Влада продолжил свою речь уже негромким голосом, словно про себя:
— Нет, жизнь моя несладкая. Знаешь, как птица себя чувствует в чужом гнезде? Так и я. За те четыре года, как я женился и пришел к жене в дом, ни разу не почувствовал себя хозяином. В их доме больше слушают мнение Стояна Чамчича, чем мое… Он, мол, хозяин, знает, как вести дела. А я кто для них? Никто и ничто. Слугой был, слугой и остался.
— Ну вот, значит, по тебе в этом доме плакать не будут, если ты уйдешь от них к нам… в партизаны. Бери винтовку и айда с нами, хоть на один день почувствуешь себя человеком, — сказал ему Лабуд. — Так или иначе, а к осени война кончится. Переломят русские немцам хребет, а там посмотрим, кто у нас хозяин, а кто работник…
Надежды Лабуда на то, что война закончится к осени, не сбылись. Война продолжалась, а положение партизан в Югославии с каждым днем становилось вся тяжелее. Побед они давно уже не одерживали. Кроме того, резко ухудшилась погода. Целыми днями дул холодный ветер и моросил нудный холодный дождь. Временами с неба падали уже крупные мокрые хлопья снега. Одежда на бойцах не успевала просыхать. Зима стояла на пороге, а это такой проситель, которого хоть и не любят, но отказать ему в постое не могут. Все последние дни небо так низко висело над землей, что казалось, поднимись на крышу дома — и достанешь облака руками.
От непрерывных дождей дороги Шумадии стали непроходимыми. В определенной степени это было на руку партизанам: немцы не могли напасть на них неожиданно, пользуясь своими автомашинами и броневиками. У партизан же были свои дороги, проложенные через леса и луга. Их дорожки и тропы, казалось, не имели ни конца ни края и тонкими паутинками разрезали всю округу. В этом лабиринте было трудно понять, где прошла рота, где батальон, а где целый отряд. Немцы пытались выискивать свежие следы партизан, чтобы преследовать их. Партизаны со своей стороны всячески маскировались. Так в одном селе километрах в сорока южнее Белграда партизаны «одолжили» у одного богатея отару овец и водили ее за собой, чтобы заметать следы отряда. Многие были почти уверены, что таким образом фашистов удастся обмануть.
— Нашли занятие, — ворчал бывший студент Белградского университета Пейя Лолич, ступая босыми ногами по грязной проселочной дороге. — От него партизанам столько же пользы, сколько студентам от закона божьего. О том, что мы здесь прошли, немцы без труда узнают в первой же деревне. Схватят какого-нибудь работягу, сунут ему в нос винтовку, и тот им как на исповеди все выложит.
Лоличу не ответили. Люди шли молча, уткнув глаза в дорогу. Пейя тоже как-то по-стариковски согнулся и замолчал. Настроение у него было скверное. Тяжелая обстановка угнетала бойцов, они больше молчали, глубоко прятали свою боль и тревогу, и лишь изредка кто-нибудь тяжело вздыхал, словно возвращался с похорон.
— Скоро морозы ударят, а тогда комиссар, наверное, распорядится овец заколоть и приготовить нам жаркое, — нарушил кто-то тягостное молчание. — А знаете, — продолжал боец, — из баранины джувеч
[7] ничуть не хуже, чем из свинины, надо лишь умело приготовить. Я особенно люблю джувеч с картошкой, но можно и с рисом.
— Не околейте, лошадки, от зеленой травки, — с усмешкой произнес Влада Зечевич. — Боюсь, что, когда мороз ударит, некому будет есть твой хваленый джувеч, — продолжил он свою мысль, потирая озябшие руки.
— Честное слово, Влада, ты неисправимый скептик, но люди на тебя почему-то не обижаются, — растягивая каждое слово, сказал Пейя.
— Точно, Лолич, на меня никто никогда не обижается, кроме собственной жены. — И Влада тяжело вздохнул, то ли шутя, то ли серьезно.
— От жены все можно стерпеть, если она стоящая, я так думаю, — сказал Лолич. — А твоя заслужила, чтобы ты побольше уделял ей внимания. У кого еще есть такая жена? Куда бы нас черти ни занесли, она все равно тебя находит. Изо всей роты ты один ходишь в чистой рубашке. И все благодаря ей. Поверь моему слову, не сегодня-завтра она появится снова и накормит нас всех. Если можно было бы угадать такую прилежную жену, я сразу бы женился.
Зечевич, казалось, не слушал Лолича. Взгляд у него был какой-то затуманенный, а вид хмурый.
— Твоя жена поднимает дух всему нашему взводу, — продолжал, однако, развивать свою мысль Лолич. — Ее любовь должна и тебя вдохновлять на подвиг.
— Ты прав, Лолич. Но любовь не только вдохновляет, она и мешает.
— Ты, оказывается, еще и циник, — усмехнулся Лолич.
Влада сердито посмотрел на Лолича, и тот замолчал. Лолич знал, что любое упоминание о жене огорчало Владу.
Лолич за свою жизнь уже успел познать и любовь и разочарование. Были у него успехи и поражения, и он был не из тех, кто избегал любовных приключений. Стоило ему встретить красивую девчонку, как он влюблялся в нее до безумия и после этого долго лелеял ее образ в своих мечтах, пока не встречал следующую, как ему казалось, более красивую.
Лоличу было уже двадцать лет, но выглядел он почти ребенком. Это был невысокий худощавый юноша с угловатыми плечами, на которых болталась блуза защитного цвета, снятая с убитого жандарма. Блуза была ему широка в груди, но коротка в рукавах. Брюки того же защитного цвета, что и блуза, в нескольких местах были прожжены и грубо залатаны. Вооружен он был коротким кавалерийским карабином и тремя гранатами. Его плечи были перекрещены двумя полупустыми пулеметными лентами. За спиной у Лолича находился рюкзак, набитый всякой всячиной, начиная от томика стихов, «плененного» в одной школьной библиотеке, до шерстяных носков — подарка сердобольной селянки. Своим внешним видом Лолич скорее походил на коробейника, чем на бойца, разве что на голове у него была не феска с кисточкой, а пилотка с огромной, размером с детскую ладошку, самодельной звездой, пришитой белыми нитками. Одного луча у звезды недоставало.
Но если не обращать внимания на неказистый внешний вид Лолича, то следовало признать, что он был уже опытный боец, не раз нюхавший запах пороха и крови, а это кое-что значило. Он находился в партизанах шестой месяц — с первых дней восстания на Космае.
Лолич пришел в отряд на четвертый день после воззвания Центрального Комитета Коммунистической партии Югославии, в котором народы Югославии призывались подняться на восстание против фашистских оккупантов. Вместе с ним в отряд пришли несколько парней и две девушки. Одну из них — парикмахершу из Белграда — звали Гордана Нешкович. Она сразу привлекла всеобщее внимание своей красотой. Вторая девушка в отряде не задержалась надолго, и ее вскоре забыли. Правда, Лолич часто ее вспоминал. Она была дочерью директора небольшого частного банка, такая маленькая толстушка с пухленьким личиком. На митинге в одном селе она минут двадцать пламенно призывала крестьян к борьбе, но после первой серьезной стычки с немцами сбежала из отряда. Ее дезертирство возмутило Лолича до глубины души, и он дал слово рассчитаться с ней в первый же день после освобождения Белграда.
В те первые дни восстания, которое развивалось успешно, все думали, что еще до Михайлова дня, самое позднее — до Дмитриева дня, с оккупантами будет покончено. Это была иллюзия, но в нее верили, как в реальность. Без такой веры партизанского движения не было бы. И хотя прошли один за другим оба престольных праздника, народная вера в победу не иссякла, а, пожалуй, даже стала тверже, она закалилась. Лолич понимал, что человек должен верить в то дело, которому он служит, если хочет довести его до победы. Как и другие, Пейя Лолич на первых порах верил в быстрое развитие событий. Но время шло, а освобождение Белграда не только не приближалось, а, наоборот, с каждым днем становилось все более проблематичным. В последние дни партизаны потерпели несколько серьезных неудач и должны были оставить значительную часть освобожденной территории.
По ночам Лолич просыпался от холода и лежал под трофейной шинелью с закрытыми глазами, сжавшись в комочек, словно собачонка. В голову лезли разные мысли, но он тешил себя надеждой, что победа рано или поздно придет, хотя и признавал, что пока дела идут все хуже, а известия с восточного фронта с каждым днем становятся все тревожнее. Он, как и все честные люди, принимал эти вести с огорчением и беспокойством.
У костра, в кругу товарищей, тревога и беспокойство не так мучили: чему быть, того не миновать. Он поджимал ноги по-турецки, протягивал к огню свои длинные, тонкие руки, и на его изможденном, худом лице появлялась блаженная детская улыбка. Когда ветер поворачивал дым в его сторону, из глаз Лолича начинали катиться слезы, оставлявшие светлые дорожки на его покрытом копотью лице. У костра Пейя оживал, словно цветок, вынесенный из мрака темницы на солнце. Даже в желудке у него наступало успокоение, будто он хорошо пообедал. Надо сказать, что за свои двадцать лет Лолич еще не помнил случая, когда бы он был действительно сыт. От постоянного недоедания он превратился в живой скелет. Чувство голода было у него непроходящим, и, когда возникала редкая возможность утолить его, он ел за десятерых, но все равно не ощущал сытости.
Лолич фанатично верил в успех восстания, не помышлял выходить из борьбы. Он вообще всегда знал, чего хочет и как осуществить свои планы. Так еще в предвоенные годы он вознамерился получить образование, хотя был сыном бедного крестьянина, что обрекало его на вечную нищету и прозябание. Его первым успехом было поступление в гимназию, а вторым, решающим, — поступление в Белградский университет. До войны считалось немыслимым, чтобы сын крестьянина-бедняка, которому самой судьбой было предписано служить хозяевам, учился в университете.
Лолич не привык сидеть без дела, и, вероятно, поэтому в дни, когда отряд не вел активных действий, юноша терял терпение. Особенно сильное беспокойство охватило его в конце октября
[8], когда партизанские отряды уходили из-под Белграда, который тогда можно было наблюдать в полевой бинокль. Лолич понимал, что силы партизан и оккупантов были слишком неравны и что иного пути, кроме передислокации, у партизан не оставалось, но свое недовольство он сдерживать не мог. «Опять неудача… Снова потащимся и будем заметать следы», — ворчал он.
Постоянное движение выматывало людей. Отряд шел редкой цепью, чтобы уменьшить потери в случае неожиданной засады противника и чтобы можно было с ходу вступить в бой. Приходилось постоянно быть начеку.
Иногда отряд кружил на одном месте и по нескольку раз проходил через одни и те же населенные пункты. У жителей создавалось преувеличенное представление о силах партизан, а противник впадал в заблуждение. Если учесть, что в деревнях всегда находится немало любителей из мухи сделать слона, то можно представить, какие донесения получало фашистское командование. Десятки партизан превращались в донесениях в сотни, мелкие подразделения — в целые бригады. Но оставалось подлинной правдой то, что в партизанах находились самые храбрые и отважные молодые патриоты, готовые без колебаний вступить в схватку с любым врагом. Поэтому, хотя немцы и не могли никогда точно выявить численность партизан, но их реальную силу они вынуждены были признавать.
Однако серьезное ухудшение положения партизан в районе горы Космай уже ничто не могло скрыть. К концу осени это должны были признать самые заядлые оптимисты. С наступлением холодов в довершение к другим бедам в отряде значительно упала дисциплина. На ее состояние влияли людские потери, болезни, тяжелые бытовые условия. У бойцов завелись насекомые, да и как можно было избежать этого, если о бане нельзя было и мечтать. Белье сопрело от пота и постоянных дождей, а заменить его было нечем. Не было рукавиц, хотя зима уже заявила о себе. Руки у партизан замерзали, кожа на них лопалась и долго не заживала. Не было ни бинтов, ни лекарств. Вместо лекарств раны пользовали мочой, пеплом, травами.
Во время редких привалов бойцы должны были выбирать между желанием немедленно приткнуться где-нибудь поспать или же сначала попытаться найти какую-нибудь еду, обсушиться.
В тот день все очень устали. После ночного боя в окрестностях Рале и на Парцанском Висе партизаны добрались до небольшой деревушки и жаждали тишины и покоя. Жители покинули деревню, почти все ее дома были сожжены или разрушены оккупантами, а то, что осталось и могло гореть, партизаны использовали для своих нужд. Сухие доски от дверей и ворот, остатки оконных рам горели хорошо. Пламя весело перескакивало с одной доски на другую, отбрасывало во все стороны отблески света.
Эта деревушка находилась по соседству с родным селом Лолича, и он знал почти всех ее жителей. Здесь главным образом проживали рабочие местной каменоломни. Теперь никого из них в деревне не осталось, даже собаки и те ушли, за исключением нескольких, уже почти одичавших псов. В тумане встревоженно кричали галки. Когда они затихали, Лолича снова начинали глодать всякого рода неприятные мысли, которые всегда наваливались на него при виде разрушенных сел и деревень. Он переживал их разорение как собственную катастрофу.
«Зря мы тогда так поспешно отступили и не дали им как следует, — сетовал Лолич, вспоминая недавний бой их отряда с немцами и полицаями. — Сейчас бы они сидели, как барсуки, в норах, боясь высунуть нос». Он перешагнул через поваленный забор, который еще не успели пустить на дрова, и оказался перед невысокой могилой, на которой, словно на бруствере траншеи, расположилось несколько бойцов. Перед ними горел костер, в который они подбрасывали сухие ветки и колья. Пламя костра гудело. Размягченные теплом, партизаны тихо пели жалостную песню: «У дороги верба зеленеет, а под вербой мама сидит, плачет…»
Лолич шел сюда с намерением погреться и обсушиться, но, увидев эту низкую могилу, размытую дождями и густо засыпанную сухими листьями, проследовал дальше. Он узнал это место. Здесь был похоронен Аца Паликулич, парень из деревни Лолича. Они хорошо знали друг друга, так как их дома находились по соседству. Они вместе пасли овец, лазили в чужие сады и на бахчи, влюблялись в одних и тех же девчонок, а позднее вместе воевали в одной роте. Но Аца не погиб. Он был расстрелян.
Все произошло тогда неожиданно, буквально в мгновение ока. Аца, будучи часовым, проголодался и завернул в дом к знакомому мужику в надежде чего-нибудь перекусить. И так случилось, что, пока он сидел в избе, по дороге промчался немецкий грузовик с солдатами. Немцев обнаружили, когда они были уже в центре деревни. Завязалась короткая, но ожесточенная схватка. Немцев всех побили, но и партизаны потеряли нескольких человек. После Ацу Паликулича за самовольный уход с поста, повлекший за собой тяжелые последствия для отряда, расстреляли.
«Да, если бы Аца погиб как герой, — думал Лолич, — я сложил бы про него легенду. Правда, может быть, для легенды сейчас не время, но вот песню написал бы. Сейчас очень нужны песни, свои, партизанские. «Космай нарядился в зеленый наряд, герои-партизаны врагов победят…» Сейчас эту песню поет только наш отряд, а придет время — будет петь вся Сербия, а то и вся Югославия». Лолич гордился тем, что партизаны пели его песни, но ему было чуть-чуть обидно, что немногие из них знали автора песни.
В небольшой лощине, склоны которой поросли густым лесом, раскинулось родное село Лолича. «Как приятно видеть знакомые места», — думал он, рассматривая сквозь завесу мелкого дождя редкие постройки, сады и огороды, потемневший от влаги лес. Издали село походило на огромный желтый ковер с большими темными пятнами на нем. Посреди села возвышалась церковь с двумя куполами.
Пейя Лолич ненавидел это сооружение. Церковь строили всем приходом незадолго перед войной. Крестьяне должны были сами таскать на себе камень, кирпич, известь, цемент, железо, копать котлован и возводить стены. Отец Лолича, работая на строительстве вместе с другими верующими, сорвался с купола, когда на него водружали тяжелый бронзовый крест, и разбился насмерть. Пейя в то время только перешел на второй курс университета, и мать, не желая отрывать сына от учебы, не сообщила ему о гибели отца. Она продала последнюю корову и на вырученные деньги похоронила мужа. Лолич узнал о кончине отца лишь через неделю.
Трагическая смерть отца оказалась поворотным пунктом в жизни Лолича. Раньше он, как и большинство студентов — выходцев из крестьян, держался в стороне от общественной жизни университета, считал политическую борьбу привилегией студентов-горожан. Он считал своей главной задачей побыстрее получить образование и вернуться в деревню, но уже в положении новоиспеченного господина. Теперь он вдруг обнаружил, что ненавидит существующие порядки, и у него даже появилось желание открыто выступить против них.
Обстоятельства способствовали росту политического сознания Лолича. В это время в университете готовилась студенческая демонстрация, которая должна была пройти под лозунгом предоставления свободы слова. Во время демонстрации Лолич неожиданно для себя оказался в голове колонны со знаменем в руках.
Когда полиция окружила демонстрантов, Лолич, возбужденный всем происходящим, и не помышлял о капитуляции. Наверное, целых пять минут он отбивался древком знамени от наседавших на него жандармов. Все в нем кипело и негодовало. И когда на его руках щелкнули металлические наручники, когда его били прикладами, он не застонал, не запросил пощады. Он отказывался говорить на допросах и лишь на суде дерзко заявил:
— В этой проклятой стране надо все изменить, абсолютно все!
— Что же вам не нравится? — с усмешкой спросил его судья.
— Все, начиная от законов и кончая правительством.
— Вы отдаете себе отчет в том, какое наказание грозит вам за такую пропаганду?
— Да, я знаю, что меня ожидает. Но я также знаю, что недалек день, когда мы все перевернем в этой стране.
Правда, о содержании такового переворота он в то время имел самое смутное представление.
Лолича осудили на пять лет строгого заключения. Приговор он выслушал внешне спокойно, стараясь ни одним движением не выдать своего тревожного состояния. «Никогда не надо показывать врагу, насколько ты его боишься. Это первая заповедь для тех, кто хочет победить в борьбе», — думал он. Лолич не сожалел о своем поступке, наоборот, он им гордился. Это чувство раньше не было ему известно.
В тюрьме Лолич пробыл недолго. 6 апреля 1941 года фашистская Германия и ее союзники напали на Югославию. Вражеские самолеты бомбили Белград. От взрыва бомбы, упавшей поблизости, в стене камеры Лолича образовалась дыра, сквозь которую показалось голубоватое небо, пересеченное полосами, дыма и пыли. Небо манило свободой. Ударившая в лицо тугая взрывная волна как бы напомнила Лоличу, что надо поскорее бежать отсюда, пока тюремная стража не взяла под охрану обвалившуюся стену.
Оказавшись на свободе, Лолич бросился в гущу событий, которые подхватили его и понесли своим мощным потоком. Он сознавал теперь величие дела, за которое боролся.
Лолич настолько увлекся воспоминаниями, что не сразу понял, что его зовет Лабуд. Сильный ветер свистел в ушах, огромное серое небо, без единого просвета в мощных тучах, навалилось на землю всей своей тяжестью. С порывом ветра в нос ему ударил сладковатый запах табачного дыма, и только после этого он поднял глаза и увидел рядом с собой командира роты. Лабуд делал энергичные затяжки, словно у него не было времени покурить спокойно.
— Ты хочешь дать мне какое-то задание? — обернувшись к Лабуду, спросил Лолич. — В чем дело, говори!
Лабуд хотел было затянуться еще раз, но передумал и щелчком отбросил окурок далеко в сторону.
— Ты член Союза молодежи, — начал он задумчиво, — я тебе доверяю… Видишь, какая трудная сложилась обстановка.
— На меня можешь положиться.
— В этом я не сомневаюсь. Понимаешь, какое дело… Командование решило закопать часть оружия, но об этом не должны знать бойцы во избежание лишних разговоров.
Лолич вырвал свой локоть из руки Лабуда, глаза его гневно блеснули, а губы искривились в подозрительной гримасе.
— Что такое, товарищ командир? Разве мы прекращаем борьбу?
Лабуд с досадой посмотрел на разбушевавшегося Лолича и укоризненно произнес:
— Ну что ты, как ты мог такое подумать! — Он снова закурил. — Дело в том, что сейчас в отряде образовался большой излишек оружия. Если мы его не спрячем, оно может попасть в руки фашистов, чего допустить нельзя. Мы добыли это оружие, ценой собственной крови и должны его сохранить. Оно нам еще очень пригодится.
— Нет, нет, ты не прав, Лабуд! — Нижняя губа Лолича дрожала. — Я не согласен с вашим решением. Если у нас имеется лишнее оружие, то почему бы не провести мобилизацию молодежи по селам?
— Для мобилизации сейчас не та обстановка. Ты же видишь, что многие из крестьянских парней, добровольно пришедших к нам летом, сейчас деморализованы нашими неудачами и большими потерями. Посуди сам, в сентябре в нашей роте было свыше восьмидесяти человек, а сейчас не осталось и половины. За последний месяц потери больше, чем за все лето.
Лабуд выглядел усталым, как никогда, он с трудом передвигал ноги, говорил нервно и быстро, будто хотел высказать до конца все, что наболело.
— Мы очень нуждаемся в пополнении, — продолжал Лабуд. — Нам сейчас очень трудно, а будет, вероятно, еще труднее. Но мы не намерены принуждать народ к борьбе за свободу. Наша борьба — дело добровольное. Я убежден: тот, кто сегодня бежит от нас, завтра вернется. Время работает на нас. Время льет воду на колесо нашей мельницы, надо лишь иметь немного терпения… Ну вот, договорились? А теперь иди к старой ветряной мельнице, там ждет комиссар. Я приду следом за тобой. Крепись, юноша, что нос повесил? Не все еще потеряно. Надо уметь не только одерживать победы, но и переносить поражения.
Недалеко от ветряной мельницы Лолич увидел группу бойцов с лопатами. Среди них была и Гордана Нешкович. Она стояла, держа в левой руке лопату, а правую спрятав в карман куртки. Лицо ее было хмурым. При виде Горданы Лолич непроизвольно расправил плечи. «Радость моя, как я тебя люблю», — мысленно обратился он к девушке, хотя и знал, что она к нему совершенно равнодушна. Лолич старался не смотреть на Гордану, однако она не замечала его стеснения и вообще вела себя так, словно Лолича не существовало.
Настроение у собравшихся было как на похоронах — все стояли понурив голову. Перед ними на плащ-палатках лежали кучки осиротевшего оружия, владельцы которого погибли в боях. На многих винтовках и карабинах еще виднелись следы запекшейся крови. Все знали, что только в последних боях осиротело тридцать винтовок, два автомата и один пулемет. Но и это не все, так как некоторых бойцов похоронили вместе с их оружием.
Решение закопать часть оружия было принято комиссаром отряда Стойковичем, который и приказал выделить для этой цели десять наиболее сознательных бойцов и командиров. Были приняты строгие меры, чтобы сохранить эту акцию и место хранения в тайне. Оружие хорошо смазали, завернули в брезент и опустили в специально выкопанную яму, дно которой было устлано сеном. Яму затем зарыли и тщательно замаскировали. Все это было проделано молча, без единого слова.
«Все кончено, — грустно размышлял Лабуд. — Вчера похоронили людей, по пять человек в одной могиле. Сегодня — их оружие. А что будет завтра?» Ему не хотелось возвращаться в роту, и он долго бродил по сонному лесу, потом остановился на берегу ручья. Нагнувшись, чтобы напиться, он, словно в зеркале, увидел свое отражение, но с трудом узнал себя. Даже губы, когда он коснулся воды, показались ему чужими. Это впечатление немного его отвлекло, но стоило отойти от ручья, как вновь навалились тяжелые мысли.
«Сколько можно отступать и терпеть поражения? Мы столько месяцев ждем наступления русских, а они все отступают и отступают. Обещали нам помочь партизаны Черногории, но где-то затерялись. А фашисты давят все сильнее. Сейчас им на помощь пришли четники и полицаи. Да и среди партизан нашлись трусы, перебежавшие на сторону предателей. А отряд Стояна Чамчича растет… В чем здесь причина? Когда он порвал с нами, с ним ушло немногим более сорока человек, а сейчас в его отряде насчитывается уже свыше двухсот бойцов. Черт разберет, почему так получается. Почему крестьяне, весь свой век страдавшие от гнета монархии и короля, сейчас переходят на сторону четников? Не может быть, чтобы они так любили своего короля… Или же они привыкли, чтобы их угнетали, а свобода их пугает? Богатых я еще могу понять, но почему беднота с ними заодно? И чем все это закончится?» — спрашивал себя Лабуд и не находил убедительного ответа.
Размышляя так, он забрался на вершину довольно высокой и крутой скалы. Внизу, в лесу, стояла тревожная тишина, полная загадочной таинственности. Лабуд смотрел на ломаную линию горизонта, и ему казалось, что он видит перед собой чью-то чужую землю, опустошенную непрерывными бурями. Дождь то переставал, то начинал моросить вновь. Земля напиталась влагой до такой степени, что стала напоминать медузу. Стоило резко надавить ногой, как из-под сапога брызгали грязные струйки. Туман опускался все ниже, дальние холмы постепенно исчезали из виду, дома близлежащих сел как бы удалялись, а линия горизонта приближалась. Лабуд постоял еще немного и стал спускаться вниз по узкой и скользкой тропинке, держа путь к деревне, в свою роту.
Дремотную тишину вдруг нарушила далекая глухая дробь тяжелых пулеметов. Вслед за этим донеслось несколько артиллерийских выстрелов. Лабуд решил, что это ведут бой партизаны в горах Рудника и Овчара. От этой мысли ему стало легче. Может быть, удастся в скором времени объединиться с другими отрядами. Лабуду было ясно, что на Космае восстание терпит поражение, можно сказать, угасает, но у него и в мыслях не было прекращать борьбу. Он был убежден в справедливости своего дела и неизбежности его торжества.
На опушке леса Лабуд остановился. Ему показалось, что за ним наблюдают. Впереди, шагах в ста, начиналась сожженная деревенька. Между пепелищами домов и строений сновали фигуры бойцов, в нескольких местах горели костры. В селе, расположенном за оврагом, слышался лай собак, крик гусей, мычали коровы.
Лабуд внимательно осмотрелся и увидел Лолича. Он сидел на стволе поваленного бурей дерева в состоянии глубокой задумчивости. По его лицу было видно, что он недавно плакал.
— Пейя, ты что раскис, возьми себя в руки, не ребенок!
Лолич закрыл глаза и снова их открыл. Несколько секунд смотрел на Лабуда таким взглядом, словно видел перед собой незнакомца.
— Теперь уже все в порядке, — продолжая сидеть как изваяние, вяло ответил Лолич. — Конечно, это глупость, но бывает так, что не в силах себя сдержать. Не думай, что я дрожу за свою шкуру, нет. Все куда сложнее.
— Понимаю тебя. И мне нелегко, всем тяжко, но надо держать себя в руках.
— Конечно, надо, кто возражает? И я вел себя спокойно, даже когда отходили наши главные силы; держался нормально, когда хоронили наших товарищей. Но сегодня; когда закапывали оружие, которого нам всегда не хватало, мне почудилось, что я закапываю себя самого. Скажи, до каких пор человек может держаться?
— До тех пор, пока у него есть сила.
— А на что рассчитана, эта, дьявол бы ее побрал, человечья сила?
— Она рассчитана на всю его жизнь. И пока держишь себя в руках, контролируешь свои действия, значит, силы твои не иссякли и ты еще живешь.
— Ты, Лабуд, говоришь так, будто наша сегодняшняя жизнь зависит не от немецких пуль, а от нас самих. Раньше мне и в голову не приходило задумываться над тем, сколько стоит человеческая жизнь. А получается, что цена ей равна стоимости одной пули, десяти граммам свинца. Сколько надо матери затратить сил и времени, чтобы вырастить и воспитать сына! А трудно ли сделать пулю? Да их отливают по миллиону штук в час! На поверку же выходит, что на войне цена жизни человека и цена пули одинаковы.
— Все не совсем так, — мягко возразил Лабуд, пытаясь развеять пессимистическое настроение Лолича. — Мы боремся за счастье, за лучшее будущее, за свободу. А коли жизнь придется за это отдать, то надо стремиться продать ее подороже.
— Легко сказать: «продать подороже». А если я вообще не хочу, ее продавать, а предпочитаю остаться в живых?
— Ну и живи на здоровье, никто не запрещает. Только не кисни и не трави себе душу, а то совсем заплесневеешь.
— Может, ты и прав, Лабуд, нельзя нам раскисать. — Лолич встал, забросил ранец за спину и взял в руку винтовку. Немного помолчав, он заговорил снова, но каким-то необычным для него голосом — таким боязливым, невыразительным: — Хочу попросить тебя, Лабуд. Если меня так тяжело ранят, что я не смогу покончить с собой, сделай это за меня. Не хочу я попадать в руки врага живым. И еще об одном попрошу. После войны найди мою могилу и напиши на надгробье одну из моих песен. Люди ведь любят останавливаться у могил. Идет себе человек, притомится, сядет около моей могилы, песню прочитает, а какая-нибудь старушка и всплакнет при этом.
— Лолич, ты меня удивляешь! Я тебя совсем другим считал…
— Не придавай моим
словам особого значения, это я немного размагнитился, — оживившись, произнес Лолич. — Ты же знаешь, что я добровольно вступил в партизаны и буду бороться до тех пор, пока немцы не пошлют меня к праотцам. Правда, большого геройства от меня не жди. Героем я не стану. Мне больше нравится стихи писать.
— Ты поэт? — удивленный таким открытием, спросил Лабуд. — О чем ты пишешь?
— Обо всем — от лозунгов, что пишут на заборах и стенах домов, до элегий. Как ты думаешь, после войны можно будет напечататься?
— Не знаю, я не очень сведущ в таких делах, — пожал плечами Лабуд, — там видно будет.
— До войны, хотя я уже два года пишу стихи, мне ни разу не удалось опубликоваться. Куда ни обращался — везде отказывали, — сокрушенно признался Лолич.
— Значит, стихи плохие.
— Не в том дело. Мне кажется, я пишу не так уж плохо. В поэзии я не признаю мелкотемье и стараюсь писать о правде жизни, о том, что я люблю или ненавижу. Издателям же подавай побольше сантиментов или такого, чтобы никто ничего не понял. Чтобы напечататься, нужны или деньги, или имя. У меня же не было ни того, ни другого. Могла бы помочь в этом деле женщина, у меня была одна на примете, я даже ее в партизаны с собой привел, но…
— Это та, которая сбежала, дочь директора банка? Помню.
— Да, не выдержала она нашей жизни: кровь, смерть, огонь. Кроме того, она страдает болезнью желудка и не могла есть нашу пищу. — Лолич задумался, вызвал, в памяти образ миловидной девушки из Белграда, что так неожиданно бежала из отряда. — Ну да ладно, — заключил он. — Что там у нас сегодня на обед, не слышал?
Лабуд пожал плечами.
— На печеную баранину не рассчитывай, а капуста и фасоль, наверное, будут.
— Большое спасибо. Очень обрадовал. Вчера было то же самое. Ох, как я люблю фасоль и капусту!
— Что делать, завтра, возможно, и этого не будет. — Лабуд снял пилотку, вынул из-за отворота окурок и закурил. — Хочешь закурить? У меня есть несколько сигарет.
— Спасибо, предложил бы что-нибудь поесть.
Неожиданно в стороне каменоломен застучал тяжелый пулемет. Сразу же раздались и винтовочные выстрелы, ухнул взрыв гранаты. В деревне за оврагом испуганно загоготали гуси, залаяли собаки. С высоты над деревней ударило орудие, снаряд разорвался в разрушенной деревеньке. Резко запахло порохом. Через минуту стрельба началась и в противоположной стороне деревни. Лабуд подумал, что немцы, видимо, хотят взять партизан в кольцо.
— Ну вот, опять догнали нас, — напряженно вслушиваясь в звуки боя, заключил Лолич. Было заметно, что он охвачен тревогой и беспокойством. — Завтра снова придется кого-нибудь хоронить.
В деревушке все пришло в движение. Бойцы суетились, занимая позиции, беженцы, следовавшие за отрядом, торопливо запрягали лошадей в повозки.
Лабуд поспешил в штаб отряда, который располагался в случайно уцелевшей пристройке для скота. Подбегавшие один за другим связные докладывали:
— Немцы и полицейские наступают с трех сторон, окружают.
— Их больше дивизии, честное партизанское, своими глазами видел, — бойко утверждал один неуклюжий с виду юноша, бросавшийся в глаза красным цветом своей одежды и копной рыжих кудрявых волос, на которых нелепо возвышалась красная пилотка. — Мы с Владой первыми обнаружили их и ударили из пулемета. Вы бы видели, сколько их попадало сразу, человек двадцать, если не больше. У них пушка есть, сам видел. Думаю, что нам не устоять, они прут как бешеные.
— А ты, паникер, случайно не собираешься переметнуться на их сторону? Да тебе за такую пропаганду голову надо оторвать! — расталкивая бойцов, собравшихся вокруг болтуна, грозно крикнул Лабуд. — Еще одно такое слово, сукин сын, и я немедленно приму меры.
Этот боец был из роты Лабуда. Появился он около двух недель назад, и Лабуд еще не успел с ним как следует познакомиться, даже имени его не знал. Он, правда, обратил тогда внимание на то, что рыжий парень пришел в роту, когда многие бросали винтовки и расходились по домам.
— Зря ты, товарищ командир, угрожаешь мне расстрелом, — с усмешкой ответил боец. — Я правду говорю. И насчет пушки тоже. Подожди, они сейчас начнут…
— Убирайся отсюда! — Лабуд угрожающе шагнул к бойцу. — Немедленно отправляйся в роту, на свое место.
Боец отскочил в сторону.
— Товарищи космайцы, вперед, за мной, дадим им жару! — крикнул он и со всех ног бросился бежать в направлении леса на северной стороне деревни. Несколько человек поспешили за ним следом.
Теперь стрельба слышалась почти со всех сторон. Но она была еще редкая, как бы пробная. В строении, где располагался штаб отряда, было дымно и людно — здесь собрались почти все командиры и комиссары рот. В большинстве своем это были молодые, жизнерадостные люди. Но, несмотря на молодость, они уже имели боевой опыт, что чувствовалось по тому, как деловито обсуждали они план обороны. На их лицах не было видно и тени паники. Можно сказать, что они выглядели даже чуточку веселыми.
— Ты где пропадаешь? — услышал Лабуд обращенный к нему вопрос.
Навстречу ему шагнул человек в кожаной куртке и черном берете, сбившемся на затылок. На поясе у него висел пистолет в кобуре.
— Был в лесу, — ответил Лабуд, останавливаясь перед командиром отряда.
— Со своей ротой займешь оборону по южному склону высоты, перед ветряной мельницей, — сказал командир отряда. — Станковым пулеметом прикроешь левый фланг Янковича, а также будь готов оказать помощь четвертой роте, если немцы прорвутся в каменоломни. Одно отделение выдели в мой резерв.
— Кого же я дам тебе в резерв, если у меня в роте всего сорок три штыка? Возьми у кого-нибудь другого. Да потом сомнительно, чтобы кто-либо из моих бойцов согласился без дела сидеть здесь, в штабе.
— Торгуешься, как на базаре, — прервал его командир. — Можно подумать, что войны уже нет и ты бостон продаешь.
Слова командира вызвали веселый смех у присутствовавших. Но Лабуд не обиделся. Он привык к такой манере речи командира, а на добродушный смех товарищей обижаться тоже не было причины.
— Ну хорошо. Тогда скажи, почему ты посылаешь меня к мельнице, когда немцы идут с противоположной стороны? — недоуменно спросил он.
— Пока ты здесь будешь гадать, немцы займут все высоты, а отдавать их нам нельзя, понял? — Он взял Лабуда за руку выше локтя и направил его к выходу. — Жди нас, мы скоро всем отрядом переберемся туда же, к ветрякам.
Выйдя на улицу, Лабуд обнаружил, что стрельба заметно усилилась. Слышались разрывы гранат. Он осмотрелся вокруг. В нескольких местах вспыхнул пожар — горели уцелевшие остатки деревни. Черные клубы дыма низко стлались над горемычной землей, закрывали горизонт. Со всех сторон доносились крики детей и женщин. Беженцы беспорядочной толпой двигались в сторону ветряной мельницы. В той стороне еще было спокойно. День был довольно прохладный, один из тех ноябрьских дней, когда природа замирает в ожидании бурного натиска кошавы
[9]. Пока Лабуд пробирался к садам, где его ожидала рота, заметно стемнело. Наконец он увидел сквозь серую пелену тумана бойцов, сбившихся в кучки. Ему вдруг захотелось оценить их со стороны, найти на их лицах ответ на мучивший его вопрос — долго ли еще они смогут выдерживать такие муки? Готовы ли они однажды, когда потребует приказ, умереть, отдать свою жизнь без колебаний и сожалений? Есть ли в их жилах кровь солдат Гавриловича
[10], которые геройски погибли «за честь Белграда и Родины» и которым, даже неприятель отдавал почести?
У Лабуда зрела решимость повторить подвиг отважных предков, если потребуется. «Гаврилович не оставил Белград, навечно остался в нем, — думал он. — Меня тоже нелегко заставить уйти с Космая». Лабуд остановился и машинально посмотрел на восток, где сквозь туман виднелась громада горы. Он думал о ней с любовью, как о живом существе. Проходя мимо поваленной садовой изгороди, Лабуд увидел женщину средних лет, лежавшую в луже крови. Она безуспешно пыталась встать, но силы покидали ее. Лицо ее было серым, перекошенным от страха, глаза провалились. В одной руке она держала узелок с вещами, а другой прижимала к себе ребенка лет трех-четырех.
— Родимый, помоги мне встать, — увидев Лабуда, попросила она слабым, едва слышным голосом.
Лабуд остановился и посмотрел на женщину. Судя по ее виду, она умирала.
— Подождите немного, я сейчас пришлю санитарку, она вас перевяжет и перенесет в лазарет.
— Пожалуйста, не забудьте, — просила женщина, и Лабуд еще целую минуту слышал за своей спиной ее мольбы.
Надрывный и горестный крик смертельно раненной женщины перемешивался со звуками все усиливающейся стрельбы. И никто не знал, когда все это кончится.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Неожиданный порыв холодного ветра засвистел в мокрых ветвях деревьев, играючи стряхнул капли влаги с заснувших кустов и, нашептывая грустную мелодию, угас в глубине леса. Это был как бы сигнал к перемене погоды. Глубокая ночь покрыла землю темным мягким покрывалом. Перед рассветом облачная завеса потрескалась, стало проясняться, обозначилась линия горизонта, и наконец небо отделилось от земли. Выглянула луна. Некоторое время она плыла между облаками, словно челн по бурному морю. Но вот совсем разведрилось, и небо усыпали звезды. В сиянии лунного света звезды трепетали, как кусочки золота, хаотично разбросанные по синему бархату. Заметно похолодало. Ветви деревьев и трава стали покрываться инеем. Земля начала потрескивать под ногами. Это была первая осенняя изморозь, предвестница снега.
Лабуд глубоко вздохнул, с наслаждением втянул своими крупными ноздрями свежий, прохладный воздух и зашагал вдоль позиции роты. Вокруг было почти тихо, лишь время от времени со стороны села доносился одиночный выстрел, на который собаки отвечали коротким лаем. Вдали то тут, то там к небу поднимались столбы дыма — это фашистские каратели жгли дома партизан.
После короткого боя с охранением немцы атаковали и взяли деревню, в которой остановился на отдых партизанский отряд. Дальнейшие планы немцев партизанам были неизвестны: то ли они продолжат преследование отряда, то ли вернутся в город. Пока же партизаны с болью в душе наблюдали, как горят их родные села. Рота Лабуда занимала позиции по южному склону высоты шириной по фронту свыше пятисот метров. Правый фланг роты упирался в заросли орешника, но немного не доходил до него, так как Лабуд опасался удара немцев с тыла. Здесь, на этом фланге, Лабуд выдвинул в охранение Владу Зечевича, на которого он полагался, как на самого себя. Еще один передовой пост он выставил на берегу речки.
Подходя к окопу Зечевича, Лабуд почуял запах дыма и печеной картошки. Приглядевшись, увидел, что вместе с Зечевичем и его бойцами находилась женщина, голова которой была повязана белым платком. Конечно же, это жена Зечевича! «Влада жалуется, что Елена его не любит, — с неосознанным чувством зависти подумал Лабуд, — а она все время следует за ним, как мать за дитятей… Хотя, кто их разберет, где правда?..»
Елена, как обычно, появилась в роте совершенно неожиданно, словно из-под земли выросла. Чаще всего она почему-то приходила или перед боем, или сразу же после боя. За последнее время она заметно похудела и от этого еще больше похорошела. Сейчас вместе с мужем Елена копала окоп, и щеки ее пылали ярким румянцем.
«Какие у нас женщины славные! Всегда они, во всех войнах, следовали за своими мужьями, носили им пищу, помогали чем могли, — думал Лабуд. — Но почему Елена так уцепилась за Владу, не похоже, что из-за любви. Она же видит, что под нами земля горит, что всюду немцы, четники, полиция, что нам устраивают бесчисленные засады, и тем не менее не отстает от мужа. Хотел бы я знать, что гонит ее… Сидела бы себе дома и ждала, пока война не кончится».
К слову сказать, Лабуд в свое время был влюблен в Елену, но всегда встречал с ее стороны лишь прохладную усмешку, не оставлявшую ему никакой надежды. После того как она забрала у него друга, он стал испытывать к ней неприязнь. Сейчас же, когда Елена всеми силами пыталась увести Владу из отряда домой, а там передать его четникам, Лабуд почти ненавидел эту женщину. Он видел, как упорно и умело, почти незаметно для окружающих, она делает свое недоброе дело.
Где-то вдали застучал пулемет, и ночное небо прорезала полоска трассирующих пуль. Лабуд не хотел встречаться с Еленой и попытался обойти огневую точку Зечевича стороной, но его заметили.
— Милан, — позвал его Влада, — иди сюда, узнаешь деревенские новости.
— Могу заглянуть, если ты вместо меня пойдешь проверишь охранение у реки, — остановившись, ответил Лабуд.
— Ничего там не случится. Сейчас есть дела поважнее.
— На войне все важно, — отпарировал Лабуд, но ноги помимо его воли уже шагали к окопу Зечевича. Кроме Елены здесь находились еще два бойца, которые сидели около костра.
— Слышал, что творится в Рогаче? — спросил Зечевич.
— Нет.
— Банда Чамчича расстреляла нашего делегата и вместо него назначила председателем общины своего человека.
— И еще создала из молодежи охрану — село сторожить, — добавила с усмешкой Елена, перебив мужа.
— От кого же они собираются охранять село?
— Конечно, от вас, от партизан.
— Узнаю тебя, родное село, — возмущенно произнес Лабуд и резко продолжил: — Ты скажи, Елена, тем ребятишкам из охраны, что мы при первой же возможности заглянем в Рогачу, пусть ждут нас в гости…
Елена загадочно улыбнулась, внимательно оглядела Лабуда с ног до головы, словно пыталась обнаружить в нем какие-то перемены.
— Ты слишком самонадеян, — насмешливо заметила она.
— Не думаю. Эту банду надо поставить на место.
— Ты еще не знаешь, что они заняли школу и укрепляют ее… — начал Зечевич.
— Не укрепляют, а уже укрепили, превратили в крепость, — по своей привычке оставлять за собой последнее слово прервала его Елена. — В каждом окне поместили по пулемету, а окна закрыли металлической сеткой, чтобы гранаты отскакивали.
— Хитро, гады, придумали, ничего не скажешь. Только я сомневаюсь, что им все это поможет, когда мы нагрянем. Так им и передай. Кстати, кто у них сейчас за главного?
— Чамчич, конечно, кто же еще! — ответил Зечевич.
— Стоян Чамчич объявил себя воеводой, а Драже Михайлович назначил его комендантом всего района, — с вызовом и даже, пожалуй, с гордостью заявила Елена. — В Рогаче командиром стражи назначен Жикула. Ты его знаешь, он еще до войны у нас служил.
Лабуд усмехнулся. Влада, опустив глаза, ломал сучья и бросал их в костер. Он явно избегал смотреть на Лабуда. Видимо, этот разговор напомнил ему о слухах про Елену и Стояна, между которыми, как говорили, что-то было, когда прошлой весной Влада был мобилизован в армию.
— Стоян поклялся своему дяде Драже Михайловичу до рождества очистить весь район Космая от партизан, — пояснила Елена. — Ну а теперь сами решайте, что делать. Я вас предупредила. — Глаза ее открыто смеялись.
«Тебя, суку, уж не Стоян ли засылает к нам в отряд? — раздумывал Лабуд, глядя то на Елену, то на Владу. — Жаль, что ты жена твоего друга, не то я давно бы с тобой рассчитался… Ну подожди, доберемся мы до твоего Стояна».
— Когда ты последний раз видела Стояна? — спросил Лабуд Елену.
— Какое твое дело? — сердито ответила она. — Только муж имеет право меня спрашивать.
— Хорошо, не настаиваю на ответе, но запомни и передай Стояну: если он не прекратит бесчинства, мы найдем способ с ним рассчитаться.
Елена насторожилась.
— Это что, угроза или предупреждение?
— Пусть понимает как хочет, — ответил Лабуд и уже повернулся, чтобы продолжать свой путь, как один из бойцов взял его за рукав. Только сейчас Лабуд узнал в нем того юношу в красном, который запаниковал при появлении немцев.
— Товарищ командир, задержись на минуту, поешь печеной картошки, — предложил боец, глядя на Лабуда преданными глазами. — Ты наверняка голоден, а картошка очень вкусная.
Он быстро разгреб костер, вытащил из-под углей несколько почерневших картофелин, выбрал самую крупную и стал подбрасывать ее на ладонях.
— Опять где-нибудь пошарили? — сердито спросил Лабуд.
— Что ты, товарищ командир! Честное слово, картошку Елена принесла. — Боец по-детски наивно улыбнулся, — Если бы мне такую жену, я бы на нее молился.
— Перестань, Жика, — сердито прервал его Зечевич. — Надо знать, когда шутить.
Дуя на горячую картофелину, Лабуд очистил с нее ногтями кожуру.
— Что ты сердишься, Влада? — обратился он к Зечевичу. — Товарищ прав. У тебя действительно заботливая жена. Сколько у нас в роте женатых, но лишь твоя Елена всюду нас сопровождает. Пока она с тобой, голод тебе не грозит.
Елена широко улыбнулась, обнажив ровные белые зубы.
— Может быть, и твоя бы за тобой так же ходила, если бы ты ее имел и коли она бы тебя любила… Или тебе больше нравится волочиться за чужими бабами? Почему ты до сих пор не женился?
Лабуд пожал плечами.
— Не знаю. Как-то все было недосуг, да и обстоятельства складывались неблагоприятно. А потом, зачем бедноту плодить, ее и так хватает. Вот после войны…
— После войны ты уже будешь как тряпка, и за тебя ни одна приличная девушка не пойдет… На днях я видела среди вас одну молодуху в штанах. Может, ей удастся тебя прибрать к рукам. Такие бабы…
— Елена, ты несешь вздор, — не глядя на жену, сердито оборвал ее Влада. — Гордана очень порядочная девушка.
— Что, разве и ты уже переспал с ней и знаешь, что она «порядочная»? — ревниво воскликнула Елена. — Или боишься, что я скомпрометирую твоего дружка, карьеру ему испорчу, помешаю занять министерское кресло?
— Мы не за кресла воюем, — резко возразил ей Лабуд, — а за свободу и лучшую жизнь.
— Вот как! За лучшую жизнь! А моему мужу она не нужна. И министерское кресло — тоже. А вот про тебя на селе говорят, что ты спишь, и видишь себя министром.
— Оставь в покое мои сны и мечты.
Елена прищурилась и иронически произнесла:
— Хорош будет министр в драных штанах.
— Почему ты считаешь, что он не смог бы быть министром? — спросил рыжий юноша, вытаскивая из золы очередную картофелину. — А я верю, что Лабуд и все такие же, как он, после войны станут или министрами, или генералами. И Влада, если захочет, тоже может стать генералом.
Елена хотела что-то сказать, но передумала и промолчала. В селе под горой прокричали петухи, и она вдруг заторопилась уходить. Елена всегда исчезала так же неожиданно, как и появлялась.
— Теперь, Влада, скоро меня не жди, — сказала она мужу, поправляя прическу. Затем вопросительно посмотрела на Лабуда и спросила: — Будущий генерал или министр, уж и не знаю, как тебя назвать, не отпустишь ли его со мной?
— Почему не отпущу? Вот через несколько дней придем в наше село…
Он забросил за плечо ручной пулемет, с которым не расставался с первого дня восстания на Космае. Сделав несколько шагов, остановился и сказал:
— Влада, проводи жену, только не задерживайся долго. Пусть она идет через Зоролину. В той стороне, мне кажется, немцев еще нет.
Зечевич стал собираться без видимой охоты. Он взял у рыжего партизана винтовку, а ему оставил пулемет.
— Я сама дорогу знаю и не привыкла к провожатым, — сердито сказала Елена, заметив настроение мужа. — А если мужик потребуется, найду сама.
— Помолчи, нам надо спешить! — прикрикнул на нее Влада. — Мне следует до рассвета вернуться назад.
— Товарищ командир, разреши мне сопровождать их с пулеметом? — спросил Жика Марич.
— Обойдутся без тебя. Любовь не терпит свидетелей.
Жике Маричу было шестнадцать лет. Он, пожалуй, был самым молодым бойцом в роте, чем очень гордился. Всякий раз при вступлении отряда в населенный пункт Марич выпрашивал у Зечевича ручной пулемет, опоясывался пулеметными лентами, на поясной ремень цеплял бомбу и свысока поглядывал на своих сверстников из местных, жаждавших поглазеть на партизан. Внешне Марич был неказист: небольшого роста, с большими оттопыренными ушами, курносый, с копной непокорных рыжих волос, торчавших во все стороны. Единственное, чем он мог похвалиться, — это выразительные серые глаза, которые были особенно хороши, когда он смеялся.
От ветра и холода лицо у юноши задубело, руки были совсем не детские — короткопалые, мозолистые. В просторной армейской куртке, перекрашенной в красный цвет, в такого же цвета брюках, он пламенел, как знамя под лучами солнца, и его нельзя было не заметить. Обут Марич был в опанки
[11] с большими загнутыми носами, точно в такие, какие до войны носили в деревнях Сербии, хотя мечтал он о немецких трофейных сапогах и немецком автомате.
В бою Марич преображался. Как и все подростки, он отличался бесстрашием и презрением к смерти. Страх обычно приходит с возрастом, когда человек научится ценить жизнь. Для ребенка жизнь представляется цветком, который осенью может завянуть, чтобы весной снова возродиться. У Марича был друг по имени Космаец, так зовут большинство людей, уроженцев района горы Космай. Они были одногодки и почти одинакового роста. Но Космаец воевал уже четвертый месяц и считался опытным бойцом. Они познакомились во время отступления главных сил партизан, оказавшись в одном взводе. С тех пор юноши всегда стремились быть вместе, будто чувствовали себя вдвоем безопаснее. Это было не что иное, как инстинкт самозащиты. Ребятам же казалось, что своим поведением они вдохновляют других.
Вечером, когда рота оставила деревню и заняла оборону на высоте, они опять сошлись вместе. Потирая озябшие руки, Космаец уселся рядом с Маричем.
— Вот сейчас бы нам тех цыплят, которых прошлый раз выбросили. Я так проголодался, что, наверное, собаку бы съел. Говорят, итальянцы едят лягушек, и ничего, слышал?.. Да, а где ты выбросил цыплят, не помнишь? — спросил Космаец.
— Ты лучше помолчал бы об этом, — предупредил Марич. — Смотри, если об этом узнает Лабуд, не поздоровится.
— Чего ты боишься? Ничего нам не будет, даже если все откроется. Цыплят-то воровал Аца Паликулич, а его уже расстреляли.
— Это мне известно, — ответил Марич, — но будет лучше, если об этом случае никто не узнает. Всякое бывает. Коль Лабуд дознается про кражу, он потеряет к нам доверие и возьмет под подозрение.
— Я об этом как-то не подумал. Теперь вижу, что будет лучше помалкивать, — согласился Космаец. — До сих пор помню, до чего же вкусны были цыплята. — Он провел языком по потрескавшимся губам. — Знаешь, хорошо бы после войны построить птицеферму, чтобы есть курятину до отвала. Я бы тогда нашел того крестьянина и вернул бы ему «долг». Вот удивился бы старик!
Этот случай произошел дней десять назад. Отряд уже два дня вел непрерывные бои против карателей. Все это время у бойцов буквально маковой росинки во рту не было. После боя Паликулича, Марича и Космайца послали в сторожевое охранение за околицу села, в котором расположились партизаны. Ночь была темная, тяжелые облака нависли над самой землей. Несмотря на темноту, Аца Паликулич нашел дорогу в чей-то птичник и утащил оттуда пять цыплят. Поджаренные на вертеле, цыплята были одно объедение, но, несмотря на голод, партизаны смогли съесть только по одному цыпленку, а двух оставшихся Марич завернул в полотенце и сунул в вещмешок, не думая о возможных последствиях.
Рано утром следующего дня, когда бойцы только просыпались, к комиссару отряда пришел старик крестьянин и заявил, что его обокрали.
— Ну пусть бы взяли одного цыпленка, даже двух, ладно, черт с ними, но пять — это разбой, — жаловался он.
— Не верю, чтобы мои бойцы могли совершить такое, — ответил комиссар. — Но если нашелся такой, мы разыщем вора, будьте спокойны. И расстреляем его в вашем присутствии.
— Расстреляете? За что, сынок? — испугался старик.
— Как за что? За воровство. У нас такие вещи запрещены и строго караются.
Крестьянин совсем растерялся и после короткого раздумья пошел на попятную.
— Вы знаете, товарищ комиссар, я что-то не уверен, что это сделали ваши бойцы. У нас в деревне своих воришек хватает.
Тем не менее комиссар приказал обыскать всех, кто был ночью в охранении. Начали осмотр с Ацы, но в его вещмешке и не пахло курятиной. У Космайца вообще не было ранца, а в подсумке, пристегнутом к поясному ремню, лежали одни патроны.
Марич в это время находился на скотном дворе, который временно превратили в пристанище для партизан. Он собирался чистить карабин, когда услышал громкий разговор, доносившийся с улицы… Предчувствие беды заставило его насторожиться. Выглянув на улицу, он сразу понял, в чем дело. Кровь ударила ему в голову. В мгновение ока Марич засунул сверток с цыплятами под ясли в солому. После этого на дне мешка он нашел головку зеленого лука и черствую кукурузную лепешку. Сев по-турецки на солому, Марич стал демонстративно есть лепешку с луком. От горького лука у него заволокло слезами глаза, и он почти не видел, когда кто-то вошел внутрь двора. Услышал лишь чей-то незнакомый голос, обратившийся к комиссару:
— В этом ребенке грех сомневаться. Тот, кто ночью ел жареных цыплят, не станет утром грызть лук с кукурузной лепешкой.
Марич пришел в себя лишь после того, как остался один.
— А что ты сказал бы комиссару, если бы он нашел у тебя цыплят? — спросил его Космаец. — Выдал бы нас?
— Ну вот еще! — Марич взглянул на него сердито. — Я никогда не был трусом.
— Я и не считаю тебя трусом, но здесь особые обстоятельства.
Неожиданно перед бойцами возник силуэт командира роты. Лабуд вообще имел привычку появляться тогда, когда его меньше всего хотели видеть.
— Вы можете помолчать? — сердито потребовал он. — Кричите на всю, роту, только вас одних и слышно.
— Извини, товарищ командир, больше не будем, — еще не успокоившись, ответил Марич и показал Космайцу кулак из-за спины Лабуда.
— Зечевич еще не вернулся? — спросил Лабуд на ходу.
— Нет еще. Когда вернется, пошлем его к вам, если надо…
Несмотря на то что еще была ночь, высота уже жила шумом и гамом беженцев, следовавших за отрядом. Многие из них так и не сомкнули глаз, толкаясь и греясь около костров, тщательно замаскированных разным тряпьем, солдатскими одеялами, плащ-палатками, брезентом. Лабуд неторопливо переходил от костра к костру, вслушивался в разговоры, всматривался в лица людей, словно кого-то искал. Все пространство около ветряной мельницы было заполнено повозками, около которых расположились лошади, коровы, овцы и прочая живность. В темноте пропел петух, но на его крик никто не обратил внимания, как будто это было обычным явлением в жизни партизанского отряда. Около самой мельницы, в которой разместился штаб отряда, у едва тлеющего костра, Лабуд заметил бойца своей роты Младена Поповича. Он сидел на большом камне, зажав коленями карабин, а на руках у него был ребенок, завернутый в солдатскую шинель. К плечу Младена прильнула молодая женщина, одетая в шерстяную куртку. На голове у нее был повязан черный платок. Женщина одной рукой обняла мужчину за поясницу, в другой держала над огнем джезву
[12].
— Малый у нас заболел, — увидев ротного, объяснил Младен. Он опасался, как бы Лабуд не обвинил его в самовольном уходе с огневой позиции. — Вот я и пришел их проведать… У ребенка жар, все время что-то бормочет в бреду. Я только немного побуду с ними — и сразу же в роту.
Лабуд понимающе кивнул.
— Оставайся пока, но не надолго. Немцы подтягиваются к реке и утром, наверное, пойдут в атаку.
Женщина, глядя на Лабуда снизу вверх, торопливо заговорила:
— Прошу вас, не ругайте Младена. Он скоро уйдет. Кофе вот только сварю ему. Может быть, и вы выпьете чашечку?
— Вот глупая женщина, да что там спрашивать! — воскликнул Младен. — Налей, и дело с концом, выпьет. Хоть и не сладко, зато горячо.
— Спасибо, не беспокойтесь. Я очень спешу в штаб. Скоро и без кофе будет жарко.
— Да, чувствуется, что днем будет нелегко. Крестьяне, что вчера бежали из села, говорили, будто у немцев появилось два танка.
— А у врача вы были? — спросил Лабуд. — В нашем отряде есть хороший врач. Надо было к нему обратиться.
Младен неопределенно пожал плечами.
— Надо бы, конечно, но ведь он занят с ранеными. Едва ли он захочет…
— Правду сказать, у нас и денег-то нет, чтобы ему заплатить, — вытирая краешком платка слезы, сказала жена Младена. — Сами знаете, что бывает, когда дом сгорел и вынести ничего не успели. Даже одежды нет другой, кроме той, что на себе.
— Так говорите, что денег нет? — спеша побыстрее покончить с кофе, сердито спросил Лабуд.
— Ни динара, — ответила женщина. — И не знаем, где можно достать.
— За что же тогда твой муж воюет, если он еще должен платить лекарю, чтобы тот прослушал его ребенка? Не хочешь ли ты сказать, что мы боремся и принимаем такие муки, чтобы все оставить по-старому? Сейчас же, Младен, иди и, пока не найдешь доктора, в роту не возвращайся. Скажи ему, что я послал тебя, понял?
Лабуд допил кофе и резко поднялся. На душе у него было горько.
«Ну ладно, нам, мужикам, вроде на роду написано страдать на войне, а дети? В чем они виноваты? — думал он, не в силах забыть озабоченное лицо Младена, тревожные, полные боли и печали глаза молодой матери. — А у меня самого что хорошего? Младен если погибнет, у него сын есть. А кто останется после меня?»
Наверное, впервые в жизни Лабуд посетовал на свою судьбу, на то, что не женился в свое время, хотя и мог, если бы был более дальновидным. Сейчас наверняка уже имел бы ребенка, а возможно, и не одного. Почему-то на ум пришла Гордана Нешкович. Если бы она понимала его, если бы ответила взаимностью! При мысли о ней его всегда охватывало волнение. Он знал, что это чувство зовется любовью и выше его в жизни ничего не бывает.
Саркастическая улыбка заиграла на губах Лабуда. С чего это он размечтался? Разве по плечу ему, крестьянскому сыну, городская девушка? Между ними такая пропасть, которую ему никогда не преодолеть. «Всяк сверчок знай свой шесток», — говорит народная пословица. Лабуд помнил об этом и в то же время не мог заставить себя не думать о Гордане, Он мысленно пытался представить выражение лица девушки, если бы она услышала от него признание в любви. Она являлась ему в сновидениях, полных буйной фантазии и восхищения, которое возносило его, словно океанские волны, ввысь, а затем бросало в холодную пучину. Гордана была нужна Лабуду, как глоток воды умирающему от жажды. Не раз он думал о ней, как о своей жене, и испытывал при этом огромное счастье.
Лабуд сделал несколько шагов по залитой лунным светом поляне и остановился около ветряной мельницы, из которой доносились возбужденные голоса. Он хотел было повернуть назад, чтобы разыскать Гордану. Нет, он не собирался заговорить с ней, просто посмотрел бы на девушку, и все, — как делал это не раз. Он уже повернулся спиной к мельнице, но в это время чья-то рука взяла его за локоть и увлекла за собой. Это был командир врачаровской роты, с которым он был знаком уже несколько месяцев.
— Идем послушаем новости Белградского радио, — предложил он.
В углу, недалеко от двери, прямо на земляном полу мельницы горел костер. В помещении было дымно и тихо. Все слушали радио. Первым от двери сидел командир отряда Бранко Аксентич, в прошлом учитель. Прислонившись спиной к старому мельничному жернову и подперев рукой широкий подбородок, он смотрел куда-то вверх, под крышу, сквозь дыры которой виднелось холодное, серое небо.
— Товарищ Бранко, я пришел посоветоваться, — начал Лабуд, опускаясь на землю рядом с командиром отряда. — Сам знаешь, что в роте нет…
— Давай об этом после поговорим, — прервал его Бранко, не меняя позы. — А сейчас слушай известия.
— Что, плохие?
— Смотря для кого… Если им верить, мы уже уничтожены и нас больше не существует. Сейчас они передают экстренный выпуск — репортаж их корреспондента с места событий. Слушай внимательно.
— «В результате успешного продвижения союзных войск Германии и сербской армии под командованием генерала Недича, с которыми взаимодействуют войска четников Дражи Михайловича, весь район очищен от партизан. При отступлении воры и грабители, одетые в красную форму, сожгли более двадцати сел, уничтожили много скота и насильно увели с собой большинство населения…»
— Вот врут, «волочи, — не выдержал Лабуд. — Наверно, неплохо на этом зарабатывают, раз так стараются.
— Да, они врать мастера, дело-то не трудное, — усмехнулся Бранко Аксентич.
Лабуд вынул из-за отворота пилотки три окурка и, скрутив из них цигарку, закурил. Он был так разгневан, что часть табака просыпал на землю.
— «Партизаны несут большие потери в районах Валева и Крагуеваца. В Руднике и в окрестностях Ужицы четники уничтожили главные силы большевистских войск. Вчера вечером снова освобождена Ужица. Захвачено большое количество боеприпасов и оружия русского производства. Взяты в плен шестьдесят два комиссара. Допрос показал, что до войны все они сидели в тюрьмах за кражи и убийства… Ведется следствие…»
Лабуд бросил взгляд на командира отряда. Пораженный беспардонной ложью, Бранко был мрачен как туча, по его лицу градом катился пот, но он не замечал его и сидел неподвижно, полуприкрыв веки.
— «…В результате короткой, молниеносной атаки в окрестностях Стойника и Дучины, под Космаем, уничтожена большая группа партизан, — вещал уже женский голос. — Как и в других местах, здесь взяты большие трофеи, а также пленен комиссар отряда по прозвищу Шумадинец, известный нашей уголовной полиции как взломщик. До войны он дважды был осужден на пять лет каторги за грабежи… На допросе он признался, что в трех селах лично расстрелял двадцать два крестьянина за отказ вступить в партизаны».
— Шумадинец, вроде о тебе говорят? — спросил командир отряда. — Оказывается, ты довольно известный грабитель? Вот не знал, с кем связал судьбу, надо же!
— Как ты слышал, я и сейчас продолжаю заниматься этим ремеслом, — ответил комиссар, ни единым движением не выдавая своего гнева.
— Утверждают, что ты у них в руках, что с тобой покончено.
— Пусть себе хоронят меня, значит, еще поживу, есть такая народная примета.
В отряде мало кто знал о том, что Шумадинец бежал из-под расстрела. Он не любил вспоминать этот случай, едва не ставший для него трагедией. Все плохое, что было в его жизни, он стремился забыть, стереть из памяти. Слишком много было текущих дел, чтобы предаваться воспоминаниям. Работы было столько, что он порой забывал свое подлинное имя, будто его никогда не было. Да и немудрено, ибо каждый, кто вступал в отряд, брал себе кличку. Это было вызвано тем, чтобы по возможности уберечь семьи партизан от репрессий оккупантов и их прислужников.
Семья комиссара жила в селе Орашац под Букулем. Уже много лет он был оторван от нее. Комиссар принадлежал к той части пролетариата, которая уже пускает корешки в городской почве, но главным корневищем еще сидит в деревне.
Комиссар, подлинное имя которого было Никола Стойкович, а кличка — Шумадинец, был известен тем, что его предки были активными участниками первого сербского восстания против турецкого ига.
Когда Карагеоргий Петрович
[13] в 1804 году собрал свою дружину, то среди других повстанцев находились и два брата Стойковича. Вскоре один из них, прапрадед Шумадинца, был объявлен воеводой Орашаца и стал грозой турок. Он погиб в бою, когда ему было уже свыше шестидесяти лет, и оставил после себя восемь сыновей — восемь воинов. В подушной книге усопших, которые ведутся во многих сербских семьях, у Стойковичей записано, что дед Шумадинца погиб в бою в 1876 году, его отец и дядя погибли на фронте в первую мировую войну, а другой дядя потерялся в вихре русской революции. Еще один дядя вернулся с войны без ноги, чтобы растить и воспитывать новых воинов. Старший брат Шумадинца (кстати, единственный брат у него) в тридцать седьмом году поехал помогать республиканцам Испании, и с той поры о нем не было никаких вестей. Такая это была семья.
Вскоре после начала восстания против немцев Никола Стойкович был назначен комиссаром первой шахтерской роты. До войны он много лет работал на военном заводе в Крагуеваце, откуда и ушел в партизаны. Сейчас ему было немногим более тридцати лет, но выглядел он гораздо старше. Высокого роста, плотный, он походил на витязей девятнадцатого века, что изгоняли турок из Сербии. Несмотря на молодые годы, Шумадинец был совсем седой. Его волосы напоминали снежную шапку, и почти никто не знал, какая страшная трагедия скрывается за этим преждевременным вестником старости.
Крагуевацкая трагедия потрясла весь мир, заставила плакать небо и камни. За один день, за один час этот югославский город пережил судьбу Освенцима и Бабьего Яра, Лидице и Ковентри. За один день в Крагуеваце было расстреляно семь тысяч школьников, студентов, преподавателей, рабочих. Семь тысяч молодых, здоровых, ни в чем не повинных людей. Никола Стойкович был среди тех, кого расстреливали, но ему чудом удалось остаться в живых.
Трагедия произошла двадцать первого октября тысяча девятьсот сорок первого года, в день святого Сергия, в субботу. Для семи тысяч молодых крагуевчан это была последняя суббота.
В середине октября связь между оккупированным Крагуевацем и освобожденной территорией прервалась. Связной от партизан погиб на пути в город, а связь нужна была как никогда. Требовалось найти на военном заводе в Крагуеваце несколько специалистов и убедить их перебраться в город Ужице, находившийся в руках партизан, для работы на военном заводе. Тогда Стойкович вызвался пойти на это задание. За четыре дня, проведенных в Крагуеваце, он успешно выполнил задание, но неожиданно город был блокирован со всех сторон. На улицах непрерывно патрулировали темные привидения с автоматами.
Никола удачно избежал встречи с патрулями, так как знал в городе каждый закоулок, и, казалось, уже добрался до безопасного места. Миновав Палилилу, он вышел к цыганскому поселку Лицика, переплыл реку Лепеницу, лесом обошел город с запада и направился в горы.
Ночь была на исходе, начинало светать, когда Никола увидел впереди красное зарево пожара. Это немцы жгли пригородные села: Дивостин, Кутлово, Баре, Люляци, Грошницу и другие, вплоть до самого города Горни Милановац. Казалось, пожар поднимался из недр земли и жаждал охватить как можно большее пространство. Зрелище было жуткое. Одновременно горело свыше десяти сел и деревень. Отовсюду доносилась беспорядочная стрельба.
Оценив обстановку, Стойкович изменил маршрут и пошел в сторону Рудника, где внешне все было спокойно. Но когда рассвело, Шумадинец увидел перед собой стрелковую цепь, протянувшуюся, насколько мог видеть глаз. Шумадинец рванулся было назад, но и там уже были фашисты. Он метался из стороны в сторону, словно зверь в клетке.
Когда стало совсем светло, Шумадинец увидел сквозь деревья дома селения Мечковац. Он бросился под их защиту, но и оттуда грянули выстрелы. В это время новая цепь показалась со стороны Грошницы. Кольцо сжималось, мышеловка вот-вот должна была захлопнуться.
На лугу между лесом и деревней был загон, в котором находилось стадо коров. Больше укрыться было негде, и Шумадинец бросился в гущу животных. Сердце его бешено стучало, смертельная опасность была рядом. Первая цепь немцев прошла немного в стороне и не обратила внимания на загон. Шумадинец уже было вздохнул с облегчением, как появилась еще одна, которая, видимо, занималась сбором трофеев. Солдаты погнали стадо к дороге и сразу же обнаружили Шумадинца. Его попытки объяснить немцам, что он всего лишь пастух и готов отдать им стадо, лишь бы оставили его в покое, оказались безрезультатными. Вместе со стадом его выгнали на шоссе и здесь втолкнули в колонну заложников, следовавшую в направлении Крагуеваца.
Заложники шли молча, понурив головы, время от времени бросая ненавистные взгляды на конвоиров, охранявших колонну.
Шумадинец осмотрелся и незаметно придвинулся к одному молодому здоровому парню в военном кителе и легких крестьянских опанках. Шумадинец не смог бы объяснить, чем его привлек парень, но рядом с ним он чувствовал себя спокойнее.
— Где вас взяли? — спросил Шумадинец парня, улучив момент, когда конвоира не было рядом.
Тот осторожно осмотрелся и шепотом ответил:
— Недалеко отсюда. Сволочи, живодеры, придет и их черед, поплачут тогда их матери, — начал он грозить. — Они нас всех хотят расстрелять, а меня первым: дознались, что я был в партизанах. Вы не считаете, что нам надо бежать? Я попробую при первой же возможности. Меня этой осенью дважды хватали, и оба раза я бежал. Попробую и теперь. Вот как только сравняемся с тем лесочком…
— Я не советую, — предостерег его Шумадинец. — Они здесь кругом, и вы не успеете сделать десяти шагов, как будете убиты.
— Но я не намерен безропотно им покоряться! Они дотла сожгли наше село, а жителей, больше половины, расстреляли. Теперь, выходит, и я должен подставить им свою голову?
Шумадинец, признаться, не знал, что делать. Хотелось надеяться, что их гонят в лагерь или на какие-нибудь работы. Охрана там все же не очень сильная, можно будет как-нибудь изловчиться и бежать. Сейчас бежать бессмысленно: верная смерть. Фашисты торчали на каждом шагу. Всюду: на шоссе, на обочинах дороги — стояли немецкие танки, орудия, грузовики. По шоссе одна за другой ехали повозки с награбленным имуществом. И по мере приближения к городу число немцев и полицаев увеличивалось.
Как только колонна сравнялась с первым лесочком, парень в кителе сделал резкий прыжок в сторону, сбил с ног конвоира и перемахнул через кювет. Всего несколько шагов отделяло его от леса, где он надеялся скрыться, как с разных сторон застучали автоматы. Шумадинец видел, как парень перевернулся в воздухе, упал, снова вскочил, а затем, раскинув руки и наклонив вперед голову, сделал несколько шагов и замертво рухнул на землю. Немец, которого сбил парень, подошел к нему и, давая выход злобе, выпустил в него, уже мертвого, очередь из автомата. По оцепеневшей колонне прокатился тяжелый вздох.
В городе трагедия была еще страшнее. Немцы врывались в школы и гимназии, выводили на улицу учащихся и учителей и сгоняли в бараки. Четыреста четвертая немецкая пехотная дивизия на протяжении целого дня хватала людей на фабриках, в учреждениях, в частных домах. Когда Стойковича загнали в барак, там уже негде было повернуться. А немцы приводили все новых и новых людей и буквально втискивали их в бараки. Каждый барак охраняли десять часовых. День тянулся бесконечно,
казалось, он никогда не кончится, но ночь, страшная варфоломеевская ночь двадцатого века, была еще тяжелее.
Когда ночь пошла на убыль, недалеко от города началась кровавая оргия. Палачи приступили к своему делу. Об этом известили длинные пулеметные очереди, доносившиеся из низины, где протекала речка Сушица. Зловещие жернова смерти начали перемалывать свои жертвы. Колонну за колонной штыками пригоняли на место кровавой бойни. Пулеметы вели огонь почти непрерывно. Люди с ужасом слушали их смертоносную музыку.
Подготовка к расстрелу начиналась еще во дворе бараков. Заложников осматривали, обыскивали и отбирали все, что представляло какую-нибудь ценность.
Стойковича вывели из барака, когда уже рассвело. Их группу ожидал свой, «домашний» немец, выросший в Воеводине на сербском хлебе
[14]. На нем была черная униформа, которую носили югославские немцы, перешедшие на службу к оккупантам. На рукаве кителя была желтая полоса с нарисованной на ней фашистской свастикой, а на плечах — белые погоны капитана. Немец произнес перед заложниками высокопарную речь, словно напутствовал их защищать отечество:
— Вы должны знать, что рейх велик и непобедим. Он покорил всю Европу. Отныне Европа больше не существует. Есть лишь великая Германия. В настоящее время наши войска захватывают Азию. Через несколько дней большевики сложат оружие. Россия находится при последнем издыхании. Немецкая армия сейчас в расцвете своих сил. Наша армия уже вышла к Москве. У нас неисчерпаемые резервы. Никто не в состоянии противостоять нашей великой нации.
Люди не слушали капитана, у них были свои заботы. Капитан понял их состояние и заговорил громче, словно хотел разбудить:
— Вы знаете, что немецкие войска во многих местах воевали без потерь. А в вашей дикой стране наших солдат убивают бабы. Вы разрушаете дороги и мосты, взрываете поезда, рвете связь. Вы осмелились нанести ущерб великой Германии. Мы больше этого не потерпим. Предупреждений было достаточно. Вам известен приказ: за каждого убитого немца расстреливать сто сербов. Мы будем уничтожать вас, сжигать ваши города и села. Мы уничтожим вашу нацию, уничтожим всех коммунистов.
Немец замолчал на мгновение, словно проверял, какое впечатление произвели его слова.
— Немцев убивают коммунисты, — раздалось из толпы, — вы их и ловите. За что убиваете невинных?
— Среди вас нет невинных. Все вы на один лад и поэтому будете расстреляны! — злобно крикнул немец.
В нескольких шагах от себя Шумадинец увидел молодую женщину. Он знал ее. Это была учительница средней школы, с которой он часто встречался на молодежных собраниях. Учительница плакала. Немец заметил ее.
— Не плачь, госпожа, — саркастически обратился он к ней. — Сербы не плачут. Ты же не плакала, когда коммунисты уничтожали наших сыновей.
Учительница подняла голову, посмотрела на капитана глазами, полными ненависти, и, почти не разжимая губ, гневно произнесла:
— Не дождешься, бандит, чтобы мы плакали по вашим щенкам.
— Замолчи! — нервозно крикнул капитан и угрожающе положил руку на кобуру пистолета. — Всех уничтожим! Сербия превратится в пустыню. Фюрер никого не пощадит… А сейчас, коммунисты и евреи, выйти из строя!
Никто не шевельнулся. Капитан переводил взгляд с одного лица на другое и вдруг увидел среди заложников попа.
— А вы что здесь делаете, святой отец? — спросил он, подходя к попу.
— Господин капитан, меня ваши солдаты взяли по ошибке, — прерывающимся голосом ответил поп.
— Выйдите и встаньте вон в ту группу, — приказал капитан, указав попу на небольшую группу людей, отобранных из других колонн. — Мы сохраним вам жизнь, если вы укажете коммунистов.
— Господин капитан, я гарантирую вам, что здесь нет ни одного коммуниста. Можете мне верить. Все эти люди из моего прихода, клянусь вам.
— Заткнись, старый пес, а своей гарантией можешь утереть свой толстый зад. Он тебе больше не пригодится… Становись обратно в строй. Ты и есть коммунист. Если коммунисты не трусы, пусть выйдут, чтобы на них можно было посмотреть. И тем, у кого родственники в партизанах, — тоже выйти из строя!
Строй качнулся, будто под порывом ветра, и перед капитаном появился человек средних лет, в очках, в коротком пальто, отороченном мехом.
— Я врач Крстулович, — сказал он голосом человека, решившегося на все. — У меня в партизанах сын и дочь. К сожалению, они уже погибли. Теперь можете убить и меня.
Капитан ухмыльнулся:
— Убьем, убьем непременно.
— Коли вы так кровожадны, можете и со мной делать что вам угодно! — донеслось из колонны.
На середину из строя вышел еще один человек. По одежде он походил на рабочего. Голову он держал высоко, и было видно, что горд своим поступком.
— У меня два сына в партизанах, — подойдя к капитану, крикнул он сильным голосом. — Они отомстят за меня. Найдутся люди, которые за все вам сполна отплатят.
— Мы уничтожим и вас и ваших сыновей, — жестко произнес капитан.
— Меня можете, а их — руки коротки. Они коммунисты.
Немца словно передернуло.
— Кто еще коммунист? — крикнул он. — Выходи!
Шумадинец заметно наклонился вперед. Многие из окружающих знали, что он член партии, и сейчас он не мог допустить, чтобы в последний момент они потеряли к нему уважение и стали презирать. С намерением выйти из строя он зашевелился, но стоявший рядом человек крепко схватил его за руку и потянул назад. Взгляды их встретились, и Шумадинец прочитал в глазах соседа осуждение. Незнакомец был одет в добротное зимнее пальто из ратина, на голове у него была меховая шапка, на носу блестели очки в золотой оправе. Шумадинец обратил внимание, что капитан уже несколько раз смотрел на человека в очках, словно пытался вспомнить, где он его видел.
Пройдя еще раз вдоль строя, капитан подошел к соседу Шумадинца.
— Кто вы по специальности? — спросил он.
— Я? — Человек в очках выступил вперед и прикрыл собой Шумадинца. — Я горный инженер.
— Почему ты плохо говоришь по-сербски?
— Потому что я не серб. Я русский. Русский я! — почти крикнул он, как будто немец его не слышал.
Капитан громко рассмеялся.
— Ну раз ты русский, тогда становись на то место, где был. Пусть тебя спасают твои большевики.
— И спасут, всех спасут большевики, слышишь, кроме тебя.
Немец прикусил нижнюю губу. Рука его потянулась к русскому.
— Снимай пальто, быстро. Шапку тоже. Здесь не Сибирь, да они тебе больше не понадобятся. И очки снимай.
— Но…
— Молчать!
Горный инженер выполнил приказание. Офицер перекинул его пальто на левую руку, очки бросил в карман и, когда увидел, что на шее русского красивый шерстяной шарф, потянулся к нему правой рукой. Русский машинально прижал шарф к груди, но, встретившись глазами с офицером, опустил руки. Сопротивление было бесполезно.
Врача, рабочего и русского инженера поставили во главе колонны, и она тронулась.
Со стороны речки Сушицы порывы ветра доносили тяжелый запах пороха и крови. Злобно тявкали пулеметные очереди. Там происходило массовое уничтожение людей. Под колесами фашистской машины смерти погибали югославы. Запущенная еще на заре, машина работала без остановок. Люди предчувствовали близкую гибель, но не теряли человеческого достоинства. Их лица словно окаменели, они двигались небыстрым шагом, будто надеялись таким способом продлить жизнь. Вдоль всей дороги, через несколько метров друг от друга, стояли немецкие солдаты с оружием наготове. Всем своим видом они хотели внушить людям страх и ужас, сломить их волю, растоптать.
Вдруг в этой жуткой атмосфере, как призыв колокола, зазвучал голос Шумадинца. В полную силу он запел национальный гимн. Обреченные на смерть люди вздрогнули и распрямились, на их безжизненных лицах сверкнула искра возрождения. Колонна подхватила слова гимна, сначала нестройно и тихо, а затем все дружнее и громче. «Гей, славяне, еще жив в нас дух наших дедов…» — разносилось по городу, будило народ. Взбешенные немцы били людей прикладами, выкрикивали угрозы, требовали прекратить пение, но были не в силах остановить воспрянувший духом народ. Крагуевац гремел, как во время грозы. Это его сыны прощались с ним.
Вдоль улиц, по которым следовали заложники, стояли их матери, жены, сестры, которых немцы специально выгнали из домов. Женщины голосили, раздирали на себе одежду, задыхались от слез и рыданий, падали в обморок, но, как только заслышали слова гимна, узнали голоса своих близких, перестали причитать, распрямились и подхватили песню. Сквозь слова гимна из колонны доносились выкрики: «Да здравствует свобода!.. Россия… Победа…»
Колонна, в которой находился Шумадинец, медленно приближалась к конечному пункту пути. Сейчас они шли буквально по трупам, по людской крови. Страшная буря смерти бесновалась над порабощенной землей. Пулеметы, казалось, задыхались в слепом бешенстве.
Люди один за другим падали как подкошенные. Шумадинец не хотел умирать безропотно, без борьбы. В последнее мгновение ему вспомнились его товарищи по партизанскому отряду, которые, конечно, ждут его с нетерпением. Настанет время, и они отомстят за него.
Он уловил момент, когда пулеметная очередь ударила по нему, и опередил ее на мгновение, резко бросившись на землю. Рядом с ним и прямо на него падали убитые товарищи, падали медленно, не спеша, как сползают снопы с заваливающейся скирды. Словно в бреду, он различал глухие и тяжелые удары мертвых тел о землю, слышал предсмертные возгласы, и ему казалось, что это умирает он сам, умирает вся его любимая Сербия, умирают все честные люди земли.
Кровь заливала Шумадинца. Она была у него на лице, на одежде, во рту, и он не мог понять, чья на нем кровь — своя или чужая. Чтобы не задохнуться, Стойкович немного приподнял голову, подсунув руку под подбородок. С их колонной было покончено. Теперь стреляли уже в другом месте: Раздавались лишь одиночные выстрелы — это добивали раненых. Шумадинец подумал, что такая судьба ждет и его, если он себя обнаружит. Совсем близко послышались шаги, и Шумадинец неожиданно открыл глаза. В двух-трех метрах перед собой он увидел широко расставленные ноги в ботинках, забрызганных кровью… На слух определил, что немец перезаряжает автомат.
Вдруг Шумадинец увидел совсем близко от себя змею, которая ползла к нему по окровавленной траве. В октябре змеи обычно уже спят, а эта, видимо, была потревожена в своем убежище стрельбой и запахом крови. Шумадинец оцепенел, не в силах оторвать взгляда от гадюки. Сердце у него замерло, дыхание остановилось. Надо было пережить весь ужас бойни, чтобы умереть от укуса ядовитой змеи! Она между тем приближалась. Сейчас он отчетливо видел ее стеклянные глаза, мелкие зубы, острое жало. Он открыл рот, чтобы закричать, но голос не повиновался ему…
Немец, перезарядив автомат, шагнул в его сторону и оказался на пути змеи. В то мгновение, когда Стойкович ждал автоматной очереди, раздался отчаянный вопль на чужом, непонятном языке. Змея ужалила фашиста. Он как подкошенный упал и придавил своей тяжестью змею. Шумадинец на секунду встретился с ним взглядом. В глазах немца стоял смертельный испуг, мольба о пощаде. В стороне послышались чьи-то торопливые шаги. Стойкович понял, что немец сейчас его видит, медленно закрыл глаза и потерял сознание.
…Он очнулся от какого-то тупого удара. Со страхом открыл глаза. Шел дождь. Труп, лежавший на Шумадинце, вдруг сполз с его спины. Затаив дыхание, Шумадинец немного приподнял голову. Смеркалось. Горизонт почти не различался в мутных волнах серых облаков. По лощине полз туман. Города не было видно. Шумадинец осторожно повернулся на бок и вдруг увидел девушку. Ее руки и пальто были в крови, волосы распущены, лицо посинело от холода.
— Где немцы? — спросил он, оглядываясь по сторонам.
— Ушли. Они свое дело сделали… А нашим здесь запретили появляться.
— А ты зачем рискуешь? Убить же могут.
— Авось бог милует, — ответила девушка. С ее длинных темных волос стекали дождевые капли. — Они на сегодня досыта настрелялись, сейчас шляются по городу, орут песни, пьют… — Девушка замолчала, а затем продолжила, с трудом сдерживая слезы: — Я своих ищу. Убили у меня отца и двух братьев. Младшего нашла среди школьников. — Девушка заплакала.
Глядя на девушку, Стойкович подумал, что она напоминает ему ту легендарную девушку из сербской истории, которая после поражения сербской армии на Косовом поле
[15], искала среди погибших своего отца и девятерых братьев. «Что же это за судьба такая у сербских женщин! Почему им всегда приходится оплакивать своих родных и близких?! Те искали на Косовом поле и на Дрине, эта ищет в Сушицкой долине. Еще одно место войдет в историю».
— Прошу тебя, сестрица, помоги встать, — попросил Шумадинец девушку и протянул к ней руку. — Выведи меня поскорее отсюда. Голова кружится… А мне срочно надо быть в отряде.
Она помогла ему подняться. Он чувствовал себя истощенным и физически и морально. Едва переставлял ноги. Недалеко от ручья начинался лес. Отсюда было недалеко до Букуля, где он должен был присоединиться к отряду. В другое время и в другом состоянии он добрался бы туда за одну ночь, а сейчас ему потребовалось двое суток.
В отряде его узнали не сразу. Все помнили его молодым, с черными как смоль волосами, а перед ними предстал почти старик, убеленный сединами. Потребовалось еще несколько дней, прежде чем он окончательно пришел в себя. Молодой и сильный организм в конце концов преодолел кризис, к Шумадинцу вернулась прежняя сила, лишь улыбаться он научился не скоро.
После того как он поправился, его назначили заместителем комиссара отряда, а еще через некоторое время он стал комиссаром отряда. Теперь на его плечи легла вся ответственность за жизнь отряда.
Исполнять новую и, признаться, довольно неожиданную, для него обязанность было очень непросто, но работа есть работа, ее надо делать. И он трудился не покладая рук.
Люди восхищались своим комиссаром. Даже когда немцы в начале ноября предприняли наступление и захватили у партизан часть освобожденной территории, Шумадинец не впал в уныние. В нем было столько внутренней силы и убежденности в правоте своего дела, что он ни минуты не сомневался в будущей победе.
Сейчас, сидя у костра и слушая передачу «новостей» из Белграда, он ни единым движением не выказал своего внутреннего возбуждения. Не меняя позы и устремив взор куда-то в глубину мрака, словно его больше не интересовала радиопередача, он напряженно думал о чем-то своем. Поэтому он не сразу откликнулся, когда к нему обратился Лабуд.
— Да ты меня совсем не слушаешь, товарищ комиссар! — обиделся Лабуд.
Шумадинец поднял веки и как-то очень по-молодому, быстро повернулся к Лабуду.
— Ну что ты, говори, слушаю тебя.
Лабуд снял с плеча ручной пулемет и прислонил его к стене.
— Я уже третий раз обращаюсь к тебе, — начал он. — Говорил и с командиром. Вы оба хорошо знаете, что в моей роте не хватает командира взвода.
— Ну и что в этом особенного? У нас две роты без командиров и три без комиссаров, а у тебя всего лишь нет командира взвода. И брать командиров негде… Академий своих у нас еще нет, поэтому обходись собственными кадрами. Дай лучше закурить, целый день не курил, даже скулы сводит.
Лабуд протянул ему сигарету и улыбнулся.
— Я тоже вижу, что ждать какого-либо расфранченного выпускника академии не приходится. А что делать?
— Поступай так же, как делаем мы с командиром, — с удовольствием выпуская дым через нос, ответил Шумадинец.
— Вы имеете право назначать на должности. Кроме того, у вас есть выбор.
Комиссар провел рукой по седым волосам, поправляя прическу.
— Посмотри на него, — вмешался в разговор командир отряда. — У нас есть выбор! Где он? Да еще несколько таких дней, и у нас вообще резервов не останется. Разве не видишь, сколько опытных бойцов гибнет, а молодые медленно созревают.
Командир встал, застегнул куртку, взял винтовку и, уже готовый выйти, сказал:
— Ты на сегодня в лучшем положении, чем другие, тебе грех жаловаться.
— С чего ты взял, что я в лучшем положении? Разве не из моей роты взяли пятерых лучших бойцов командирами взводов в другие роты?
— И еще возьмем. Почему Зечевича не выдвигаешь? Насколько я знаю, он служил в армии и в партизанах прошел уже хорошую школу. Или этот твой студент, Лолич?
— Влада Зечевич беспартийный.
— Что вам мешает принять его в партию? Мы ведь говорили об этом много раз, — сказал комиссар.
— Он говорит, что еще не готов в партию. И взвод не хочет принимать, дескать, образования необходимого не имеет.
— Зато у него природный талант. Если будет отказываться, пошли его ко мне. Кстати, у тебя ведь тоже нет среднего образования?
— Имею четыре класса начальной школы и шесть месяцев университета в тюремной камере, — ответил Лабуд. — Плюс пять лет подпольной партийной работы.
— С таким образованием в партизанском войске можно бригадой командовать, — заметил Шумадинец.
— Правильно, комиссар, — поддержал его командир отряда. — Послушайте, кажется, немцы проснулись. Пора расходиться по ротам.
Когда Лабуд и командир отряда вышли с мельницы, на высоте стали рваться гранаты. Небо на востоке светлело. Наступал новый день, полный тревоги и неизвестности. Беженцы, напуганные огнем орудий и минометов, поспешно гасили костры, собирали свои жалкие пожитки и уходили на север, в сторону леса. У костра, где Лабуд минут двадцать назад пил кофе, сидела лишь женщина, склонившаяся над больным ребенком, завернутым в отцовскую шинель.
Высота за несколько минут превратилась в кипящий гейзер. Воздух наполнился смрадом порохового дыма. Канонада становилась все сильнее, но немцы еще не переходили в атаку.
Лучи солнца, поднявшегося из-за горизонта, терялись в густом дыму. Лес, едва пришедший в себя за время ночной тишины, вновь задышал тяжело, как взбесившийся океан, принимая на себя грохот разрывов снарядов и свист пуль. На возвышении около лесочка лежал Зечевич, прильнув к ручному пулемету. Лабуд взглянул в его сторону и поразился выражению лица Зечевича, которое одновременно было и напряженным и оживленным.
— Молодец, Влада, что вовремя вернулся, — сказал Лабуд, опускаясь на бруствер окопа.
— Неужели подумал, что я могу не вернуться? — Он резко повернулся к Лабуду, и лицо его приняло обиженное выражение.
— Да нет, что ты! Я верю тебе. Решил предложить тебе взвод. Об этом я уже договорился с комиссаром.
Зечевич грустно улыбнулся.
— Милан, я просил не заводить об этом разговор.
— Очень жаль, Влада, — после небольшой паузы произнес Лабуд, а затем продолжил: — Тогда бери отделение Лолича, а он станет командиром взвода.
Зечевич задумался.
— Раз ты так навалился, ладно, согласен. Но ты же знаешь, что я всегда предпочитал не отвечать за других, — нервозно подчеркнул он.
Влада глубоко вздохнул и, как рассердившееся дитя, опустил глаза и низко наклонил голову. Лабуд видел, как у него подергивались скулы, хотел было сказать ему что-то, но передумал. Видно, у Влады был неприятный разговор с женой. Всякий раз после встречи с Еленой Влада долго ходил сам не свой, хотя вообще-то он отличался уравновешенностью.
— Если не выдержим атаки немцев, я дам сигнал к отступлению, — сказал Лабуд.
— Может быть, до этого дело не дойдет? Сегодня их огонь заметно слабее, чем был вчера.
Лабуд кивнул в знак согласия и поспешил на другой фланг. Над его головой взвизгивали пули, секли ветки на деревьях и вместе с ними падали на землю. Бойцы лежали в неглубоких окопах или просто на земле в естественных выемках, укрывались за деревьями.
Стрельба усиливалась. Со стороны Дучинских рудников начали бить минометы. Заговорили автоматы. Они тявкали, как испуганные лисицы. Небо очистилось от облаков, и лишь хлопья порохового дыма ползли над землей. Со стороны Космая светило солнце, и каждый его луч рассыпался на мириады искр в холодных кристаллах белого инея. Солнце, похожее на торжественный факел, пламенело и окрашивало землю в красноватые тона. Ветки деревьев слезились таявшим инеем. Одна капля упала Маричу на щеку и заставила его очнуться. Он зашевелился, протер глаза. Ему показалось, что он спал долго, так как с трудом приходил в себя. Вдруг он увидел, что из леса на той стороне реки показалась цепь немецких солдат. Они двигались ускоренным шагом. Солнечные лучи ярко вспыхивали на металлических частях их снаряжения, на касках и автоматах.
— Влада, смотри, идут! — воскликнул Марич несколько испуганно. — Чего ждешь? Сейчас самая пора ударить из пулемета.
— Отсюда мы их больше напугаем, — ответил Влада, не отрывая глаз от немцев. — Пусть подойдут поближе.
— Они и так недалеко.
Всегда, завидев противника, Марич сначала ощущал страх. Но как только враг приближался на расстояние броска гранаты, страх у юноши проходил, и он не мог объяснить, почему так получалось. «Почему Влада медлит, почему все наши молчат?» — беспокоился Марич. Указательный палец, который он держал на спусковом крючке, дрожал.
Немцы уже перешли через речку, и условной границы между ними и партизанами больше не существовало. Теперь их разделяло открытое пространство метров в двести, не более. Марич кипел от возбуждения. Прямо на него шел высокий сухопарый немец с ручным пулеметом на изготовку. Он делал короткие остановки и, не целясь, стрелял небольшими очередями. Разрывные пули с треском взрывались в кроне деревьев.
— Влада, не трогай пулеметчика, я беру его на себя, — тихо произнес Марич и только сейчас заметил, что у него стучат зубы. Ему нестерпимо хотелось выстрелить, возможно; чтобы прогнать страх.
— Хорошо, только смотри не промахнись… Гранаты приготовь, — кратко приказал Зечевич. — Боеприпасы береги. Каждая пуля должна пойти в цель.
Солнце светило немцам в глаза. Марич отчетливо видел их лица. Ему казалось, что они усмехаются. «Думают ли они о смерти? Присущи ли им человеческие чувства? Какая сила поднимает их и бросает в атаку на людей, которые не сделали им ничего плохого? Плачут ли их матери, когда получают извещения о гибели сыновей?» Марич не мог себе этого представить. Иногда он вообще сомневался в том, есть ли у фашистов матери, родственники, родной дом. Они казались ему сродни животным, которые безразличны к своей жизни, не несут в сердцах ни любви, ни жалости, двигаются, словно заведенные машины, до тех пор, пока не лопается пружина, толкающая их вперед. Увлекшись своими мыслями, Марич упустил момент, когда Зечевич открыл огонь из ручного пулемета. На мгновение ему вдруг показалось, что он видит перед собой киноэкран, с которого молниеносно исчезают действующие лица. Он не сразу сообразил, что это падают скошенные пулями фашисты. Они словно проваливались в некую пропасть. Первая пуля Марича прошла мимо, но после второго выстрела он увидел, что попал: длинный немец дернулся вперед, затем остановился и будто сломался пополам. Неестественно вскинув одну руку вверх; а другой словно выискивая, на что бы опереться, немец медленно опустился на землю. Затем еще один солдат выронил из рук винтовку и, шатаясь, подался назад, запрокинув вверх голову. Но оставшиеся в живых не остановились, а даже ускорили шаг.
— Гранаты бросай, гранаты! — крикнул Зечевич, когда немцы были так близко, что можно было различить их лица.
Одновременно прозвучало несколько взрывов. Клубы дыма окутали немецкую цепь, и она дрогнула.
Эхо разрывов гранат еще не умерло в ущельях и оврагах, когда Марич, охваченный азартом боя, рванулся вперед. Страха у него больше не было, как не было для него и его самого. Земля мелькнула у него под ногами, а его голос, воскликнувший: «Вперед, товарищи, в атаку!» — показался ему чужим и незнакомым. И он сам подчинился этому призыву, не думая о том, где и когда надо будет остановиться. Топот быстрых тяжелых ног за спиной подхлестывал и воодушевлял его. Он не видел Зечевича, но чувствовал, что тот рядом. Справа около куста акации мелькнул Космаец с высоко поднятой винтовкой. Добежав до речки, он остановился, а затем перемахнул через нее и помчался к небольшому лесочку, утопавшему в розоватом свете осеннего солнца.
Марич, заметив вдали немца, скользнул на колено и начал прицеливаться, выискивая момент, чтобы наверняка поразить врага. Целился он слишком долго и не успел нажать на спусковой крючок, как ощутил острый удар в шею. Кровь брызнула на подбородок, полилась на грудь теплой тошнотворной массой. Марича охватил внезапный холод, но ему не было страшно. Он прижал ладонь к ране на шее и определил на ощупь, что она была небольшой и скорее походила на ссадину.
Отбив первую атаку, партизаны возвратились на прежние позиции. Но не прошло и получаса, как фашисты снова пошли в наступление. Потом была третья атака, затем четвертая, и с каждым разом они становились все упорнее и злее.
Когда партизаны, отразив пятую атаку, перешли в контратаку, погиб Младен Попович. Увидев, как он падает на землю, прижав руки к груди, Лабуд подбежал к нему, но помочь ничем уже было нельзя. Самой раны не было видно, но суконная куртка Младена быстро намокала кровью. Он лежал неподвижно, а кругом продолжался бой: раздавались винтовочные выстрелы, гремели взрывы гранат и мин, возбуждая ударную волну.
В глубине расположения немцев слышался шум движущихся танков. Несколько раз они появлялись на горизонте и исчезали, как привидения. Сейчас они находились на другом берегу реки и время от времени выплевывали из своих пушек снаряды.
Лабуд ненавидел эти стальные чудовища и, чтобы ослабить у бойцов страх перед ними, демонстративно расхаживал в полный рост, отдавая себе отчет в том, что в любую секунду может быть убит.
Все в нем дрожало от ненависти к жестокому врагу, и сейчас он с удовольствием смотрел на трупы фашистов, разбросанные, как снопы ржи на стерне. Он разглядывал их так внимательно, будто видел впервые, и угрожающе шептал: «Всех вас постигнет такая участь. Пощады не ждите. Хотели нас сломать, не выйдет!»
На небольшом холме, похожем на продолговатый стол, под раскидистой липой с оголенным стволом сплелись два мертвых тела: среднего возраста немец с короткими рыжеватыми усами и совсем молоденький безбородый партизан. На них не было видно ни следов от пуль, ни крови. Только на лицах застыли гримасы смерти. Они схватились врукопашную и задушили друг друга голыми руками. Их оружие валялось в стороне. На сырой земле хорошо виднелись следы отчаянной борьбы.
После отхода немцев на исходные позиции, когда стрельба поутихла, Лабуд отправился на фланг, который оборонял взвод Пейи Лолича.
Взвод Лолича понес чувствительные потери: трое убитых и четверо раненых. Но Марич после перевязки вернулся в строй. Так же поступили еще два бойца, у которых ранения оказались легкими.
Наступившую передышку бойцы использовали для сбора оружия, боеприпасов и других трофеев. В ранцах убитых немцев вместе с боеприпасами попадались хлеб, консервы, печенье, сахар, сигареты, табак, шерстяные носки, женские головные платки и платья, а также всевозможные изделия из стекла, серебра, меди. В большинстве своем содержимое ранцев составляло награбленное имущество.
Все, что могло пригодиться, партизаны забирали и делили между собой. Во взводе Лолича каждый боец пополнил запасы патронов и гранат, получил по банке консервов и по куску хлеба, а также по четыре сигареты. Выделили долю и для Лабуда. Он уже три часа не курил и сейчас с наслаждением затягивался немецкой сигаретой. Космаец свои сигареты засунул было за отворот пилотки, но сразу же передумал и роздал их поштучно бойцам. Из-за трофейного табака и сигарет бойцы никогда не спорили, чего нельзя сказать о боеприпасах. Без курева можно было потерпеть, без патронов партизан становился беззащитным, и поэтому каждый стремился получить их как можно больше.
Воодушевленные успешным боем, бойцы требовали перейти речку и продолжать преследование противника. Их трудно было удержать на месте, тем более что они не знали задачи отряда, которая держалась в глубокой тайне и была известна лишь командиру и комиссару. По решению партийного комитета района партизанский отряд Бранко Аксентича должен был обеспечить отход главных сил, госпиталя и беженцев из Посавины, Смедерева и с Космая. Для этого ему было приказано сковать как можно больше вражеских сил, отвлечь их на себя. Надо было пожертвовать частью, чтобы спасти целое, другого выхода не было. В отряде никто не знал, когда поступит приказ об отходе, и поступит ли вообще. Одно было ясно: надо держаться, и как можно упорнее, изо всех сил. И они делали все, что могли. Даже после обеда, когда немцы подбросили подкрепление и ввели в бой танки, отряд не отступил. Свыше тридцати минут продолжалась огневая подготовка фашистов перед атакой. От прямых попаданий снарядов сгорела мельница, в которой располагались штаб отряда и лазарет. Сухие доски вспыхнули, как порох, и партизаны не успели даже вынести из здания всех раненых.
Танки форсировали речку и осторожно продвигались к позициям роты Лабуда. За ними следовало свыше сотни фашистов. Среди партизан наступило замешательство: встреча с танками не сулила ничего хорошего. В отряде не было ни одной, даже плохонькой, противотанковой пушки. Гранаты отскакивали от танковой брони, как орехи, не нанося ей никакого ущерба.
Неожиданно ручной пулемет на левом фланге роты замолк. Лабуд посмотрел в ту сторону и заметил, что три бойца из взвода Врачара, прикрываясь кустарником, побежали назад. Момент был критический, могла подняться паника. Лабуд бросился наперерез паникерам, стреляя на ходу поверх их голов. Один из них обернулся в сторону командира роты, громко выругался и продолжал бежать, немного изменив направление. Прозвучал выстрел, и он упал. Остальные двое торопливо вернулись на свое место в цепи роты.
А танки все приближались. Что, если партизаны не выдержат? И кто первый рискнет остановить эти грохочущие чудовища? Перебегая от дерева к дереву, Лабуд открыл огонь из автомата по пехоте. О танках надо было хотя бы на время забыть.
Танки, в это время разделились. Один из них продолжал идти прямо на центр позиции роты Лабуда, а второй свернул налево и стал обходить высоту с запада. Танковые пулеметы вели беспрерывный огонь. Чтобы произвести выстрел из орудия, танки делали короткие остановки.
Во время одной из таких остановок Лабуд, не думая об опасности, отчаянным прыжком вскочил на танк. Оказавшись на броне, Лабуд сначала растерялся. Он еще не бывал в такой ситуации. Прижавшись к башне, Лабуд попытался открыть крышку, но она была закрыта изнутри. Тогда он соскреб со своих сапог жидкую грязь и замазал ею перископ командира танка и смотровые щели. Вдруг башня резко повернулась вокруг своей оси, и Лабуд едва не слетел под гусеницы танка. В это же время крышка люка башни стала медленно подниматься и оттуда показался ствол автомата. Лабуд не слышал выстрела, так как все вокруг грохотало. Он лишь почувствовал, что ему опалило лицо. Лабуд мгновенно просунул свой автомат под крышку люка и нажал на спусковой крючок. Из танка донеслись крики и стоны. Не теряя времени, Лабуд схватил круглую ручную гранату, ударил предохранителем о броню и бросил гранату в люк. Мощный взрыв потряс танк. Он резко дернулся в сторону, наскочил на какое-то препятствие и завалился набок. Лабуда сбросило на землю. Он больно ударился при падении и потерял сознание.
Когда Лабуд пришел в себя и осмотрелся, он обнаружил, что лежит недалеко от сгоревшего танка, из щелей которого еще ползли слабые струйки дыма. Солнце клонилось к западу. Сильно пахло паленым. Лабуд чувствовал себя настолько плохо, что не мог подняться. Он лежал, положив голову на скрещенные руки. Все тело пронизывала боль. Сильно хотелось пить.
Повернувшись на спину, Лабуд увидел сквозь редкие, голые ветки деревьев холодное осеннее небо, далекое, как вода в глубоком ущелье, если на нее смотреть сверху, прозрачное и чистое, подсвеченное желтоватыми солнечными лучами, а по краям, по горизонту, окаймленное обручем из облаков. Никогда еще Лабуд с таким вниманием не смотрел на небо — бескрайнее и какое-то нереальное, независимое от людской воли. Люди — это проходящие тени неба, которые на нем самом не оставляют никаких следов. От этой мысли Лабуду вдруг стало страшно. У него закружилась голова и темные круги поплыли перед глазами. Клонило ко сну, но он боялся закрыть глаза, опасаясь, что больше никогда их не откроет и не увидит эту глубокую синеву, такую нежную и мягкую, полную мерцающего сияния.
Вдруг, словно грязное пятно на белом полотне, в небе появился орел-стервятник. Не обращая внимания на стрельбу, орел кругами спускался в направлении Лабуда.
«Почуял запах смерти, — устало подумал Лабуд, наблюдая за орлом. — Видно, и моей крови захотел напиться? Э нет, шалишь, не дождешься».
Напрягая каждую мышцу, собрав воедино остатки сил, преодолевая тошнотворную слабость и боль, которая пронизывала все тело, Лабуд медленно поднялся. Ноги у него дрожали, земля, казалось, плясала под ними и стремилась уйти куда-то в сторону. Деревья и кусты качались, как на волнах. Стиснув зубы и раскинув руки, Лабуд сделал один шаг, хотел сделать еще один, но не смог, ноги его не слушались. Лабуд протянул руки в поисках опоры… Долго плавал он в удушающей пене черного мрака. В моменты, когда сознание возвращалось, он пытался ползти, звал на помощь. Сейчас он видел уже не небо, а лишь кусочек мертвой, опаленной земли, от которой исходил смешанный запах спелой пшеницы, скошенной травы, прелой соломы и лесных фиалок. Лабуд судорожно хватался за землю, но, сделав несколько движений, терял сознание. Он не помнил, сколько времени пролежал без сознания, но того момента, когда ощутил на своем холодном лбу теплую руку Горданы, не забудет вовек.
Лабуд вдруг почувствовал, что к нему начинают возвращаться силы, а боль, наоборот, ослабевает. Особенно обрадовался он тому, что теперь он не один. Не отрывая взгляда от глаз Горданы, вглядываясь в изгиб ее бровей, он думал о своей любви к ней. Его охватило искушение взять ее руку и поцеловать. Он шепотом произнес ее имя и был в отчаянии, что не может сказать ей о своих чувствах. Словно музыку, слушал Лабуд ее мягкий, мелодичный голос, хотя и не понимал, о чем она говорит. Он никак не мог преодолеть застенчивость, которая мешала ему открыто признаться в своих чувствах. Да и зачем, чего ради он будет об этом говорить с ней? Лабуд ни минуты не сомневался в том, что она его не любит. В ее поведении он видел лишь проявление естественной заботы санитарки о раненом. Ему хотелось сказать ей что-нибудь приятное, но нужные слова не шли на ум. «Она меня никогда не поймет, — думал он, — еще посмеется надо мной, если я скажу ей о своей любви… Но почему она смотрит на меня с такой заботой, или мне это кажется? Лучше не думать о любви, пока идет война. Вот когда война кончится, те, кто останется жив…» Он вздрогнул, когда она провела своей ладонью по его лбу, чтобы вытереть пот, и инстинктивно накрыл ее руку своей ладонью и крепко прижал. Так продолжалось несколько мгновений.
Солнце близилось к закату. На западе облака пурпурно пламенели, а на востоке становились все более темными. Вершина Космая постепенно терялась вдали. По долинам полз легкий туман. Бой закончился, и всюду господствовала мертвая тишина. И в этой тяжелой, гнетущей тишине, словно легкий ветерок, прозвучали ее слова: «Я люблю тебя, Милан». Но она сказала это так тихо, что Милан ничего не понял и продолжал лежать неподвижно, глядя в небо. Его внимание привлекли глухие крики, доносившиеся откуда-то из глубины облаков. Вскоре он понял, что слышит запоздалых журавлей. Сколько тоски было в их голосах! Они покидали насиженные места и улетали в чужие края. Лабуд подумал, что вот и их отряд скоро превратится в блуждающую стаю и будет бродить по чужим краям в поисках новой жизни. Ему стало жаль оставлять знакомые места. Где бы ни приходилось ему бывать, он нигде не видел такого красивого и благодатного края, как Шумадия.
Лабуду вспомнилась Босния, с ее высокими горами и глубокими ущельями. Интересно, добрались ли туда главные силы партизан или нет? Через несколько дней они двинутся туда же и, может быть, навсегда расстанутся с Шумадией. У Лабуда к предстоящей передислокации было двойственное отношение. С одной стороны, он испытывал неприязнь к предстоящему длинному пути, а с другой — хотел начать его как можно скорее. Только бы Гордана была с ним, а трудностей он не боится. Он чувствовал, что находится на пороге какого-то важного события, которое перевернет всю его жизнь.
Похолодало. Ветер быстро крепчал. Губы Лабуда пересохли. Голова, замотанная бинтом, потяжелела. Он чувствовал, что через марлю еще пробивается кровь, но не беспокоился. Гордана смотрела на его бледное красивое лицо. Глубокие морщины на лбу и у рта придавали ему значительность и серьезность.
— Тишина. Какая невероятная тишина, — сказал он, потирая лицо сухими, костистыми руками. — Отвыкли мы от тишины, и мне кажется, что она действует на меня сильнее, чем стрельба. Почему никто не стреляет? — спросил он. — Где наши, неужели нас осталось только двое?
Гордана посмотрела на него и улыбнулась.
— Там они, — кивнула она головой.
— Не знал, что могу так долго проспать. И это во время боя. Что обо мне подумают теперь товарищи? — Он с трудом поднялся и сел. — Приснилось мне, будто все мы погибли. Жуткое зрелище.
Она взяла его за руку и посмотрела в глаза.
— Успокойся. Сны никогда не сбываются. Тебе надо лежать, кровь еще не совсем остановилась.
— Все это пройдет. Рана уже почти не болит, значит, неглубокая, — ощупывая забинтованную голову, произнес он. — С такими пустяковыми царапинами бойцы в атаку ходят, а я раскис. Стыд и позор. — Он попытался встать.
— Тебе нельзя двигаться, — отпуская его руку, сказала Гордана.
Лабуд недоуменно посмотрел на нее.
— Скажи-ка, а кто же лишил меня этого права? — спросил он с усмешкой.
Она смотрела на него, и одна мысль не давала ей покоя: а полюбит ли Лабуд ее когда-нибудь или их жизни так и будут идти, как две параллельные линии, не пересекаясь и не перекрещиваясь? «Что с того, что я его люблю, когда он меня не замечает, словно я не существую».
— Сейчас придут санитары с носилками, — сказала она после небольшой паузы. — Я уже послала за ними.
— Оставь их в покое, — не поднимая головы, проговорил он. — Пока у меня ноги целы и здоровы, носилки мне не требуются. Да и чувствую я себя совсем хорошо. — Он стиснул зубы, оперся руками о землю и, преодолевая боль и слабость, решительно встал.
Гордана с тревогой наблюдала за Лабудом, который, шатаясь, словно пьяный, с трудом передвигал ноги.
Она видела, сколько сил стоил ему каждый шаг. Он не хотел сдаваться, но… пришлось. Шагов через двадцать он остановился около дерева и прислонился к нему плечом. Исподлобья посмотрел назад, как бы измеряя пройденный путь.
— Теперь ты сам убедился, насколько ослаб, — сказала Гордана, беря его под руку. — Я не имею права приказывать тебе, но я прошу послушаться меня.
Он освободился от ее руки, сердито сказал:
— Хватит об этом. Я не ребенок и в помощи не нуждаюсь.
— Но ты ведь сам требуешь, чтобы к раненым относились внимательно, — скрывая улыбку, сказала Гордана. — И я не могу понять, что с тобой происходит. Мне хорошо известно, что ты привык к трудностям, что ты не избалован жизнью. Но все это к данному случаю не относится. Ты ранен и, значит, нуждаешься в помощи.
Стараясь быть серьезной, Гордана взяла Лабуда под локоть, и они продолжили свой путь. Лабуд ступал тяжело, каждый шаг болезненно отдавался у него в голове. Он старался идти самостоятельно, но руку Горданы не отстранял. Солнце опустилось почти до самой линии горизонта и, словно не желая прятаться за нее, задержалось на границе дня и ночи. Издалека доносилось тяжелое уханье орудий. Мимо них прошли четыре бойца, несшие на плащ-палатке убитого партизана. Они шли медленно, низко опустив голову, и всем своим видом выражали печаль. Лабуд проводил эту процессию тяжелым вздохом.
— Не слышала, Гор дана, сколько человек мы потеряли сегодня? — спросил он, когда партизаны скрылись за холмом.
— Точно не знаю, но немало. И командир отряда погиб, — ответила Гордана дрогнувшим голосом.
У Лабуда перехватило дыхание от этой жуткой вести. Он так любил Аксентича, стольким был ему обязан…
— Как же так? Это же невозможно! Его ведь некем заменить. Неужели нельзя было его поберечь?! — воскликнул он, хотя и понимал всю нелепость своих вопросов.
— Командир пожертвовал собой, чтобы спасти отряд. Когда танк прорвался к нашим позициям, Аксентич бросился под него со связкой гранат. Другого выхода не было.
— Что-то много ошибок мы допускаем последнее время, все обороняемся, а нападать совсем отвыкли.
— Почему ты не скажешь об этом комиссару?
— Теперь скажу. И ему и другим. Но хотел бы, чтобы и ты поняла меня.
— Я-то тебя понимаю, может быть, лучше, чем другие. — Она взяла его руку и ладонью прислонила к своей щеке. — У тебя очень горячая рука, наверняка температура поднялась. Знаю, что опять взбунтуешься, но я должна направить тебя в лазарет. В роте тебе нельзя оставаться.
— Нет и еще раз нет, — решительно возразил Лабуд. — Что это будет за пример для бойцов, если командир, коммунист с пустяковой раной идет в лазарет?
— Раз ты так ставишь вопрос, я вынуждена буду доложить комиссару отряда. Его тебе придется послушаться.
Лабуд высвободил свою руку из руки Горданы.
— Смотри-ка, комиссаром стращает. Что ж, жалуйся! Только не слишком ли часто ты обращаешься к нему последнее время! — воскликнул он ревниво и, не подумав о том, что незаслуженно обижает девушку, наговорил ей массу всяких глупостей.
Гордана не знала, что ответить. Лицо ее побледнело, губы дрожали, казалось, она вот-вот расплачется. «Почему он так несправедлив ко мне? — спрашивала себя девушка. — Чем я не угодила ему?» Ей казалось, что Лабуд догадался о ее любви к нему и теперь стремится с помощью обидных слов разрушить ее любовь. Почему так поступал человек, за которого она была готова пожертвовать собственной жизнью, она не знала. Ее любовь к нему была такой сильной, что она готова была все ему простить. Покорно выслушивая его нелепые слова о том, что она, мол, городская барышня, изнеженная и избалованная, не знавшая настоящих трудностей, она вдруг подумала, что он не говорил бы так, если бы хоть немного знал ее жизнь.
Когда ей было пятнадцать лет и она училась в пятом классе гимназии, началась гражданская война в Испании. Гордана
участвовала в сборе пожертвований для детей погибших бойцов республиканской армии и за это была исключена из гимназии. С того времени ее имя, как человека неблагонадежного, было внесено в досье полиции.
Испания! Страна сказочной экзотики и рек, красных от крови. В ночных сновидениях ей слышались твердые шаги и влекущие песни бойцов интернациональных бригад. Немало югославов находилось в их рядах. Почему не была она немного постарше — пошла бы дорогой отца… Он не вернулся из Мадрида. Остался там, как памятник в пустыне, хранящий воспоминания о прошлом. Лабуд тоже похож на тех, что не вернулись из Испании, но останутся вечно живыми.
В то время Гордане было легче, чем сейчас. Тогда она твердо знала, что надо делать, как себя вести.
«В будущем, когда у нас вспыхнет революция, — бесстрашно сказала она в лицо директору гимназии, который сообщил ей об исключении, — вы обо мне вспомните. Мы еще рассчитаемся. Напрасно вы улыбаетесь, господин директор. Наш день ближе, чем вы предполагаете. Прислушайтесь, он уже стучится в ворота».
Перед дерзкой девчонкой были отрезаны все пути к отступлению. Ей осталось одно — идти вперед. И она пошла, гордо вскинув голову. Сквозь туманную даль она видела зарождение своей звезды и шла на ее мерцающий свет. Она зажигала вокруг все новые факелы — создавала свои кометы, переносила огонь от сердца к сердцу, совершала небольшие рискованные подвиги и расплачивалась за них большими неприятностями; она узнала, что представляли собой шпики, доносчики, провокаторы, испытала на себе силу полицейской дубинки. Такова была ее юность. Захваченная идеями революции, она не думала о личной жизни, все ее интересы были связаны со служением своему народу.
Из родного дома Гордана ушла сразу, без раздумий и колебаний, лишь только узнала, что на Космае началось восстание. Она не боялась трудностей и совершенно точно знала: все выдержит человек, если имеет перед собой благородную цель. Не боялась она и смерти.
Вдруг, совершенно неожиданно для себя, находясь в партизанском отряде, Гордана влюбилась в своего командира роты. Он же словно не замечал ничего, держался с ней вызывающе грубо. Его поведение заставляло ее нервничать, сомневаться, вводило в заблуждение.
В своем воображении она наградила любимого и несказанной красотой, и огромной силой, и умом, и добротой. Но действительность все опрокидывала. В его поведении отчетливо просматривалась лишь суровость, которая вызывала у нее недоумение и страх. Его властный взгляд и резкий, непререкаемый голос преследовали ее на каждом шагу.
Когда он исчезал из отряда на какое-то время, ее охватывала тоска и беспокойство, в груди образовывалась какая-то ноющая пустота. Среди ночи она вдруг просыпалась и ходила от костра к костру в надежде услышать его голос, увидеть блеск его глаз. То, что пугало ее в нем, одновременно было и предметом ее любви. Она не могла понять, почему полюбила человека, которого считала недостижимым. Всякий раз при встрече с ним ее охватывал трепет.
В последнее время Гордана заметно похудела, все реже слышалась ее песня у партизанских костров.
«Почему он меня так не любит? — спрашивала она себя, вглядываясь в извилистую линию горизонта. — Если бы я могла сказать ему о своей любви, о том счастье, которое охватывает меня при виде улыбки на его лице… Я бы с огромной радостью приняла на себя всю боль его ран, если бы это было возможно».
На поляне около сгоревшей ветряной мельницы Гордана увидела большую группу партизан. Они стояли без головных уборов, усталые и озабоченные. Сюда сносили тела погибших товарищей. Их складывали один к другому около свежевырытой могилы. Рядом с ними бросали в кучу их автоматы, карабины, сумки с гранатами. Всего погибло свыше двадцати человек.
У старой акации с иссеченными ветками и голым стволом стояла на коленях молодая крестьянка с переброшенным через плечо черным шерстяным платком. Перед ней на раскинутой шинели лежал Младен Попович, боец двенадцатой роты, рядом с которым притулился мертвый ребенок. В их изголовье горела тонкая восковая свеча, ее пламя трепетало от дуновений холодного ветра. В ногах Младена лежал короткий кавалерийский карабин и пустая клетчатая сумка с длинными белыми кисточками, вся в крови. Славка, жена Младена, низко опустив голову, негромко причитала.
Свечи горели еще в нескольких местах. Их неровный свет выхватывал из сумрака ночи скорбные лица овдовевших женщин. На самом краю, отдельно от остальных, лежал командир отряда. Лицо его было спокойно, как у человека, который отдыхает после работы. Взрыв гранат пощадил лишь голову командира отряда. Все остальное было разнесено на части.
Гордана знала всех погибших. Одних она принимала в Союз молодежи, с другими встречалась на собраниях и заседаниях, третьим оказывала медицинскую помощь. Еще вчера они мечтали о победе, о новой жизни, а сегодня для них все кончилось. Лабуд остановился перед мертвыми товарищами, чтобы отдать им последний долг, а Гордана, чувствуя, как на глаза навертываются слезы, низко опустив голову, пошла вдоль ограды к ложбине, где находилась ее рота.
Около небольшого ручейка сидел на камне Пейя Лолич и примерял желтые альпийские ботинки.
— Ты не видел Владу? — спросила Гордана, остановившись около Лолича.
Он поднял голову и улыбнулся.
— Зачем тебе Влада, если есть я?
— Мне не до шуток. Мне нужна его помощь.
— Разве я не могу его заменить? Прикажи только, все сделаю.
Гордана с сомнением покачала головой.
— В этом деле ты едва ли был бы полезен. Лабуд тебя не послушает, а с Владой они старые товарищи… Лабуд тяжело ранен. Пока я нашла его я перевязала, он потерял много крови…
— Ты хочешь, чтобы мы дали ему свою кровь?
— Нет, это пока не требуется, но надо уговорить его пойти в лазарет.
— С удовольствием помог бы тебе в этом, но сомневаюсь в успехе. Всем известно его упрямство.
— О каком упрямстве можно говорить, когда речь идет о жизни человека? Вы с Владой должны его уговорить.
Лолич помолчал некоторое время.
— По-моему, — сказал он, — всех раненых надо из отряда убрать. Они только мешают. Но я не знаю, куда можно было бы их отправить. Поблизости нет ни одного нашего госпиталя. В Посавине немцы захватили шестьдесят раненых и всех расстреляли. Госпиталь, что был на Космае, несколько дней назад эвакуирован в Рудник. Не думаешь же ты отправить его туда?
Она пожала плечами.
— Я еще не думала о том, куда можно его отправить, но я уверена, что в отряде ему оставаться нельзя: он не выдержит.
— Лабуд вынослив, как все крестьяне. Их непросто одолеть. — «Зачем я говорю ей все это? — подумал он вдруг. — Она и так без ума от него. Вот если можно было бы его куда-нибудь услать. Наверняка они больше не встретились бы, и Гордана его забыла. Все, как известно, забывается». Лолич обул ботинки и встал. — Брось ты особенно беспокоиться о нем. Чему быть — того не миновать. Послушай-ка лучше мои стихи. Из них многое поймешь.
— Что ты, Пейо, только не сейчас, — удивленная его предложением, ответила Гордана.
— Все так говорят «в другой раз», а он никогда не приходит, — грустно произнес Пейя.
— Почитаешь, когда у меня будет хорошее настроение. О любви, хорошо?
— О любви? Тебе? Это что-то новое!
— Что ж ты думаешь, я не верю в любовь?
— Любовь существует независимо от того, верим мы в нее или нет. Но когда о любви говоришь ты, я верю в нее вдвойне.
Гордана ничего ему не сказала. Она смотрела на него безразличным, отсутствующим взглядом, не пытаясь вникнуть в смысл его слов. «Как может кто-либо говорить ей о любви, когда она любит Лабуда? Только злой демон понуждает одних людей вмешиваться в чувства других!»
— Первая любовь всегда безответна, — начал Лолич, видя, что Гордана хранит молчание. — Мне тоже не везло в любви. Вижу, очень хорошо вижу, что ты безнадежно влюбилась в Лабуда, и мне тебя жаль. Я даже не мог бы сказать, люблю ли я тебя больше или жалею. Пожалуй, первое вернее. А ты…
— Прощу тебя, прекрати, — прервала его Гордана.
— Извини, если обидел, я не хотел.
«Глупый, вот глупый-то», — подумала Гордана, блуждая взглядом по лесочку, который затягивало туманом.
— Ну, мне пора, оставляю тебя в покое, тем более что и Лабуд легок на помине, — понизив голос, произнес Лолич. — Я был прав, ты беспокоилась зря. Лабуд жилистый и выносливый. Разве не правда? Смотри, каким молодцом он держится на коне!
Через несколько минут подъехал Лабуд верхом на лошади. Гордана при виде его заволновалась, но не показала виду. Не слезая с коня, Лабуд приказал, чтобы рота готовилась к маршу. Бойцы, как всегда в таких случаях, засуетились, навьючили на себя все свое походное имущество и быстро построились в колонну. Лишь Гордана осталась стоять на прежнем месте, словно не расслышала команду. Она чувствовала на себе взгляд Милана и от этого не могла поднять глаз. Щеки ее пылали. Вдруг она поняла, что Лабуд оказался здесь не случайно, что он пришел из-за нее, в надежде увидеться поскорее. От этой мысли ее сердце учащенно забилось. Когда наконец она подняла глаза, то сразу же встретилась взглядом с Лабудом.
— Я виноват перед тобой, и ты вправе на меня сердиться, — сказал он, немного согнувшись в седле. — Приношу тебе глубокие извинения.
— Ну что ты! — воскликнула Гордана и еще больше покраснела.
Он не нашел в себе силы, чтобы прямо, раз и навсегда, сказать ей: «Счастье мое, я люблю тебя». Вместо этого он еще ниже склонился в седле, взял ее руку, поднес к своим губам и поцеловал.
— Я не могу ложиться в лазарет, пойми, — тихо сказал он. — Идет война, и все мы сейчас немного сумасшедшие. Ты сама видела, сколько сегодня потеряли товарищей. Сейчас каждый боец на счету.
Заходящее солнце угасало за ломаной линией гор, а со стороны Космая наползали тяжелые темные облака. В направлении Космая, навстречу темноте, вытянулась длинная колонна партизан, готовых к любой неожиданности.
Небо все больше затягивалось облаками. Из долины тянуло холодом. Бойцы проходили мимо Лабуда молча, но он не замечал на их лицах особой озабоченности. Наоборот, они выглядели так, словно отправлялись к новой жизни, которая ждет их сразу же за первым перевалом. Надо лишь до него дойти, и он укроет их от всех невзгод.
— Пора, Гордана, — сказал Лабуд, когда мимо них проследовали бойцы, замыкавшие ротную колонну. — И не думай обо мне плохо.
— Пошли, — ответила она.
На небе зажигались первые звезды, а свечи на могилах погибших воинов догорали; бойцы проходили мимо места захоронения своих товарищей молча, обнажив низко опущенные головы. Только звуки удаляющихся шагов нарушали глубокую тишину. У могилы Аксентича Лабуд придержал коня. В ее изголовье трепетала алая осенняя роза, укрепленная на армейском штыке, воткнутом в землю. В отблеске свечи роза пламенела, как только что пролившаяся кровь.
Лабуд опустил поводья и тронул коня. Его рота последней уходила с этой высоты, изрытой взрывами гранат, снарядов и мин, покрытой сетью стрелковых окопов и ячеек. Рота все еще носила двенадцатый номер, который получила при формировании отряда. Сейчас в отряде осталось всего лишь четыре роты.
В хвосте колонны Лабуд увидел жену Младена — Славку Попович. На одном плече у нее висел карабин погибшего мужа, на другом — патронная сумка. Одетая очень легко и бедно, она дрожала от холода, несмотря на то что спешила, стараясь не отставать от колонны. Лабуд с сожалением посмотрел на убитую горем женщину, снял с себя шинель и молча протянул ее Славке. Она так же молча взяла шинель, поспешно надела ее на себя и заспешила, догоняя бойцов.
Женщина, у которой война отняла все, шла мстить врагу.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Сквозь густой осенний туман все шли и шли поредевшие отряды и роты, устало тянулись потерявшие своих одиночки. Сверху непременно что-либо или лилось, или падало: дождь сменялся снегом, и наоборот. Дороги и тропы превратились в месиво из грязи, которая чавкала и хлюпала, стаскивая с ног обувь. Многие бойцы шли босыми или в намотанных на ноги кусках одеял и мешковины. Всюду слышалось беспокойное бормотание, стоны раненых, плач детей, причитание женщин, грубая брань мужчин, резкие приказания командиров. Опечаленные, напуганные, потерянные, как птицы без гнезда, брели люди с Космая и из Посавины, от Белграда, Смедерева, Валева. Колонны держали путь на Рудник, а оттуда в Санджак, в Боснию или еще бог знает куда.
Восстание в Сербии быстро шло на убыль. Партизаны покидали родные места. Вместе с ними уходили семьи, иногда целые села, не желая быть под властью немцев и четников. По разбитым и размытым дорогам или прямо по целине двигались десятки телег и двуколок, брели навьюченные лошади, тянулись гурты овец и свиней. На телегах громоздились ящики, корзины, мешки с продовольствием, узлы с вещами. С каждым днем положение повстанцев ухудшалось, их колонны редели, на обочинах все чаще появлялись свежие могильные холмики. Но ничто не могло остановить и повернуть вспять их великое движение.
После ухода партизан села и деревни пустели, жизнь в них замирала, и только бездомные псы рыскали около домов с закрытыми ставнями на окнах. Снова каждую ночь полыхали зарева пожаров. Это четники предавали огню дома партизан. Партизаны отвечали им тем же.
По утрам крестьяне, не покинувшие своих домов, находили на перекрестках трупы расстрелянных с дощечками на груди. На одних дощечках было написано предупреждение: «Это ожидает каждого, кто сотрудничает с партизанами». На других: «Смерть фашизму — свобода народу!» Партизаны действовали, опровергая довольно широко распространившееся мнение о том, что с ними якобы покончено.
Не прекратил своего существования и Космайский отряд. Ожидаемого из Верховного штаба партизан приказа об отступлении все не было, и отряд продолжал сражаться. В последние дни, чтобы создать у противника преувеличенное представление о своей численности, отряд действовал рассредоточенно — ротами, взводами, отдельными группами. Партизаны всегда действовали неожиданно, стремительными налетами громили отряды четников, полицейские участки, сжигали здания местных органов власти, взрывали бункера и мосты.
«Смерть оккупантам!», «Долой предателей!», «Да здравствует Красная Армия!» — пестрели лозунги в селах, через которые проходили партизаны. На стенах зданий вместо фашистских свастик и королевской короны появлялись красные звезды с серпом и молотом. В селении Рогача под носом у полицаев над малым куполом церкви ночью был водружен алый стяг.
Всюду в районе Космая по ночам гремели взрывы.
Партизаны незаметно проникли в местечко Раля и заминировали тоннель. В Джуринце рота Лабуда подорвала немецкий эшелон, в Сопоте и Курачице разогнала полицаев. Небольшие группы партизан проникали даже в города и уничтожали немецкие комендатуры, ликвидировали предателей, жгли автомашины, бросали бомбы в помещения городских управ, минировали и разрушали склады… Для того тяжелейшего периода, каким был для патриотов Югославии конец сорок первого года, это были очень важные акции. Народ видел, что борцы за свободу не сдались, что они продолжают сражаться, что они неодолимы.
Сербская земля была перед угрозой гибели. Враги разрывали ее на части, грабили, насиловали, уродовали, продавали оптом и в розницу. Из грязных щелей выполз весь змеиный сброд. Генерал Милан Недич, продавшись немецко-фашистским оккупантам, создал марионеточную армию и занес над Сербией кровавый нож под предлогом ее «спасения» от «красной чумы». Из отбросов общества, бродяг, проходимцев, жуликов и пьяниц полковник Драже Михайлович создал банду четников. За то, что он бросил клич: «Сербы за короля», югославское эмигрантское правительство в Лондоне объявило его «главнокомандующим вооруженными силами Югославии на родине». Михайловичу было приказано вступить в сотрудничество с немецкими и итальянскими оккупантами и их прислужниками в целях подавления освободительной борьбы югославского народа. Четники Михайловича в знак траура по «погибшей» Сербии отрастили длинные бороды и волосы. Но это было лицемерие. Они не собирались ее спасать. Вооруженные немецкими тесаками, итальянскими гранатами, английскими винтовками, четники «именем короля» вешали и убивали патриотов, забирали у народа все, что осталось не разграбленным оккупантами.
В Хорватии Анте Павелич, фашиствующий националист, который долгое время находился в эмиграции в Италии и вернулся в Загреб в обозе оккупантов, провозгласил лозунг создания «независимой великой державы Хорватии». Призыв был быстро подхвачен усташами и всей «пятой колонной», и уже в октябре тысяча девятьсот сорок первого года в Хорватии было сформировано несколько дивизий, которые были брошены против партизан.
Через Альпы на помощь великосербским шовинистам и хорватским националистам спешили эшелоны с корпусом генерала Бема. Со стороны голубой Адриатики, рассекая Черногорию, в ворота Сербии ломились дивизии итальянского дуче, в Южную Сербию через перевалы Старых Планин двинулся в поход болгарский «народный» добровольческий корпус. С севера пробирались войска Хорти, усиленные Дунайской флотилией, а через Вардар ворвалась дикая мусульманская дивизия, укомплектованная местными наемниками. Вражеская армия общей численностью свыше трехсот восьмидесяти тысяч человек пыталась окружить и уничтожить восемьдесят тысяч партизан. На стороне оккупантов было подавляющее превосходство в силах и средствах. На одного партизана приходилось пять вражеских солдат. На каждые четыре миномета партизан у противника имелось по семь орудий. Враг располагал четырьмя авиационными полками, партизаны — тремя зенитными пулеметами. Двести шестьдесят танков расчищали путь войскам противника. У партизан не было ни танков, ни противотанковых орудий.
Несмотря на это, командующий немецко-фашистскими войсками на юго-востоке генерал-фельдмаршал Лист просил у Берлина дополнительной помощи танками, артиллерией, пехотой, бронемашинами. Гитлер обещал Листу прислать несколько горных дивизий «по мере их высвобождения на восточном фронте». Но, к счастью для партизан, дивизии на восточном фронте не высвобождались. Наоборот, он требовал новых сил, и не случайно Кейтель направил генералу Бему директиву, в которой говорилось:
«Примите самые строгие меры для ликвидации партизанского движения в кратчайшие сроки. Любая акция против немецких оккупационных войск должна квалифицироваться как исходящая от коммунистов. Должны быть применены все средства для утверждения авторитета оккупационных властей и для воспрещения дальнейшего распространения недовольства… Необходимо иметь в виду, что в этой стране человеческая жизнь не ценится и оказать устрашающее воздействие можно лишь посредством необычной жестокости. В качестве отмщения за одного погибшего немецкого солдата следует казнить сто — двести коммунистов».
Генерал Бем стремился пунктуально выполнить указания вышестоящего командования. Со своей стороны, он пытался придать зверствам своих солдат и офицеров ореол мести за жертвы германской армии на сербской земле в годы первой мировой войны.
«Вы призваны отомстить за кровь своих отцов, — писал он в одном из приказов войскам. — Уничтожайте их как можно больше. Я снимаю с вас всякую ответственность».
Начальник штаба немецко-фашистских войск в Сербии генерал Турнер требовал:
«Занятые населенные пункты следует разрушать и сжигать. Членов семей партизан, непригодных к отправке на работы в Германию, расстреливать на месте».
Истерзанная, поруганная, несчастная Сербия задыхалась в дыму пожаров. Всюду на каждом шагу встречались виселицы. Земля сотрясалась от взрывов. Вода в реках становилась красной от крови. Села и целые города превращались в кладбища. Кровавая оргия не прекращалась ни днем ни ночью. Стоило партизанам оставить населенный пункт, как сразу же в нем появлялись цепные псы фашистов — четники. Они сгоняли народ на сходку и часами запугивали людей, рассказывая всякие небылицы о партизанах, запрещали под страхом смерти вступать с ними в контакт.
В таких «операциях» особенно отличался новоиспеченный воевода Космайского района Стоян Чамчич. Верхом на белом коне, одетый в крестьянскую одежду, заросший бородой, он переезжал из одного села в другое, изображая из себя «защитника свободы, короля и родины».
В тот день Чамчич приехал в село где-то около обеда и без долгих размышлений приказал собрать народ. Крестьян охватило беспокойство. Они собирались на сходку как на казнь, озирались вокруг, словно боялись неожиданного нападения. Два добрых знакомых встретились на перекрестке, молча поздоровались, посмотрели друг другу в глаза, как бы говоря, что-то будет, и без слов пошли дальше к корчме — месту сходки. Здесь уже разъезжал на своем белом коне Чамчич. Гарцуя на лошади, Чамчич каждую новую группу крестьян встречал одними и теми же словами:
— А ну признавайтесь, кто давал хлеб партизанам? Только имейте в виду, что мне уже все известно, но я хотел бы услышать об этом от вас самих.
Крестьяне пугливо пожимали плечами, а те из них, что были в первых рядах, старались улизнуть назад, но их встречали прикладами и гнали на прежнее место. Чамчич еще больше распалялся:
— Еще раз спрашиваю, кто же испоганил село и превратил его в русскую колонию? Разве вы сербы, если забыли нашего короля и променяли его на большевистских комиссаров? Позор!
Исчерпав весь запас угроз и ругательств и видя, что никто из крестьян не собирается отвечать на его вопросы, Чамчич перешел к следующей части своей карательной программы.
— Ну хорошо! — угрожающе крикнул он толпе. — Теперь не жалуйтесь, что я не просил вас по-хорошему. Пусть за ваше упрямство ответят ваши задницы. Райкан, начинай, — обратился он к своему коноводу, здоровому рыжебородому четнику. — Покажи-ка, парень, свое искусство, выбери десяток подозрительных типов и отделай так, чтобы от них даже собаки отворачивались.
Напуганные крестьяне сбились в тесную кучу, но четники врезались в толпу со всех сторон как бешеные собаки, выдергивали первых, кто попадался им под руку, и тащили на крыльцо корчмы. Не прошло и минуты, как перед Чамчичем стояли девять мужчин и женщина в красном платке.
— Мужчинам по двадцать пять розг, а этой потаскухе выдайте все тридцать. Раз она так любит красный цвет, пусть у нее и низ будет такой же, как верх, — объявил Чамчич.
Три четника схватили женщину и, невзирая на ее отчаянное сопротивление, втащили на крыльцо. Один из палачей прижал ей голову и руки, другой сел на ноги, а третий, рыжебородый, начал бить ее тонкой розгой из кизилового дерева. Первый удар был настолько сильным и резким, что люди, услышав свист розги, подумали, что бедная женщина будет рассечена пополам. Пронзительный крик разнесся далеко вокруг. Толпа заколыхалась, но осталась стоять на месте. С каждым ударом крики женщины слабели и наконец совсем прекратились. Теперь слышались лишь глухие удары и свист розги в воздухе.
— Эй ты, осел! — закричал Чамчич на своего коновода, когда ему показалось, что тот нанес недостаточно сильный удар. — Разве так бьют? Или хочешь, чтобы я на тебе самом показал, как такие дела надо делать?
Рыжий палач на мгновение остановился, перевел дыхание, поплевал на ладонь и с новой силой стал наносить удар за ударом. Женщина уже не шевелилась. Из первых рядов было видно, что ее юбка промокла от крови.
— Хватит с нее! — крикнул Чамчич, насчитав тридцать ударов. Он сам следил за счетом и никому этого не передоверял. — Теперь можно быть уверенным, что в этом селе никому больше не захочется печь хлеб бандитам и чинить им одежду… Уберите бабу, давайте следующего.
С мужчинами было проще. Они не сопротивлялись и не кричали, а некоторые из молодых, что посмелее да позадиристее, подходили к палачам с презрительной усмешкой на губах, сами спускали штаны и всем своим поведением как бы говорили четникам: «Мы-то выдержим, а вот что вы запоете, когда окажетесь в наших руках, еще не известно».
После порки «подозрительных элементов» Чамчич сошел с коня и взобрался на крыльцо, чтобы произнести речь. Он всячески поносил партизан и призывал крестьян присоединиться к четникам.
— Кто такие коммунисты? — вопрошал Чамчич. — Это русские платные агенты и предатели. Большинство среди них составляют люди не нашей веры — мусульмане и католики. А если попадется какой-нибудь серб, то это изменник, который хочет, чтобы Сербия попала под иноземное господство. Вспомните пятисотлетнее турецкое иго, когда Сербия стонала под чужим гнетом, когда убивали наших жен и детей, уводили в рабство самых красивых девушек, когда непокорных сажали на кол. Коммунисты ничем не отличаются от турецких янычар. Они хотят уничтожить нашу православную веру, разрушить церкви, осквернить святые места. Коммунисты не признают ни бога, ни семью. Для них не существует ни сестер, ни братьев, ни матерей, ни отцов. Они хотят, чтобы все спали под одним одеялом. Это же дикари! А вы, потомки великих борцов за свободу и независимость Сербии, посылаете своих детей в партизаны, принимаете этих безбожников в своих домах, снабжаете их продовольствием, одеждой и даже оружием. Вы совершаете великий грех перед богом и королем. Вам придется платить за свои грехи, если вы раскаетесь слишком поздно. Мы посланы богом и королем, чтобы очистить нашу святую землю от коммунистов. Нам дано право расстреливать всякого, кто выступает против нашей веры. И мы честно выполняем свои обязанности. Сколько дней уже вы не слышите выстрелов партизан? Под Космаем должно развеваться только наше знамя. Партизаны уничтожены, а тех, кого вы прячете, мы быстро переловим и повесим. Сегодня здесь, — он указал рукой на место порки крестьян, — мы вас лишь предупредили. Но если мы узнаем, что хоть один партизан оказался в вашем селе, мы вернемся и повесим столько ваших людей, сколько посчитаем нужным. Мы будем вешать и…
Чамчич поднял сжатую в кулак руку и замер на полуслове. Его прервали звонкие винтовочные выстрелы, прозвучавшие совсем недалеко от моста сходки. Вслед за ними послышалась очередь из пулемета. Стрельба быстро приближалась. Один за другим раздались взрывы нескольких гранат.
Люди в панике бросились врассыпную. Четники, стреляя наугад, стали в беспорядке отходить по узким переулкам, хоронясь за изгороди и деревья. У корчмы остались лишь жертвы экзекуции, лежавшие без сил прямо на мокрой земле. Около них валялись розги из кизилового дерева и несколько папах четников, забытых при бегстве.
Стрельба за селом еще продолжалась, когда рота Лабуда вышла к корчме, где несколько минут назад четники проводили сходку. Будто по заранее разработанному плану, партизаны разбились на группы и стали обходить дома зажиточных крестьян. Отделение Влады Зечевича свернуло к одному из таких домов, отличавшемуся широкими окнами и окруженному крепким высоким забором. Над домом торчали две трубы и из обеих валил дым. Так бывает, когда хозяева ждут гостей. На лай собак, преградивших путь партизанам, из дома вышел плечистый человек в новой куртке из грубого сукна и меховой шапке, довольно старый на вид. У него было мясистое лицо с кожей синеватого оттенка, тяжелые, набрякшие веки и густые седые брови. Водянистые глаза были покрыты сеточкой красноватых линий. Открыв калитку и увидев непрошеных гостей, хозяин от неожиданности вздрогнул, но сразу же взял себя в руки и, изобразив на лице некое подобие улыбки, сказал:
— А, это вы! Благодарение богу, входите, сынки, входите.
Зечевич вопросительно посмотрел на хозяина, как бы желая определить, действительно ли они были здесь желанными людьми.
— В вашем доме есть четники? — спросил Зечевич, внимательно наблюдая за окнами.
— Какие там четники! — ответил хозяин. — Нечего им у меня делать. Я в политику не вмешиваюсь. Человек должен заниматься своим делом и своим домом.
— Мы тоже любим свой дом, — вмешался в разговор Марич. — А все же скажи, отец, за кого ты: за короля или за партизан? Мы предпочитаем знать, с кем имеем дело.
— Правильно, юноша, я придерживаюсь того же мнения. Поэтому и сказал вам, что я ни за кого. Меня ничто не касается, я крестьянин.
— Ладно, это твое право, кого признавать, а кого не признавать, но то, что мы попросим, обязан исполнить, — сказал Зечевич и, сняв с плеча ручной пулемет, поставил его прикладом на землю. — Наша армия еще не имеет собственных складов, поэтому, как говорится, с миру по нитке — и… нам достаточно.
— Красиво у вас получается: «с миру по нитке», — начал ворчать крестьянин, отводя глаза в сторону. — А что я вам могу дать, если уже забрали все подчистую?
— Ну хотя бы хлеб-то есть?
— Побойся бога, сынок, откуда он?
— Совсем нет, ни крошки?
— Ни крошки. Все…
— Тогда откуда во дворе столько свежей соломы? Где же зерно?
— Все забрали.
— Ну хорошо, значит, хлеб отобрали. А картошку?
— Какая картошка, помилуй бог? Даже на семена ничего не оставили.
— Слушай, хозяин, мы не требуем у тебя жареных поросят. Но фасоль-то должна у тебя быть.
— Честное слово, нет ни зернышка, богом клянусь.
— И кукурузной муки не найдется на мамалыгу?
— Ничего нет. Да если б имел, разве мне жалко?
— Надо же, бедный хозяин, все у него отобрали. Но, думаю, ракию-то не могли всю забрать. Стоит, наверное, где-нибудь бочоночек?
— Да что вы?! Ее в этом году совсем не было, на фрукты неурожай.
— Ну а коров доишь? Сыр, масло есть?
— Какое там! Детишки голодные ходят.
Марич с трудом сдерживал смех, слушая разговор с хозяином и удивляясь долготерпению Зечевича.
— Послушай, хозяин, а вода, чтобы напиться, у тебя есть? — спросил он неожиданно.
— Что ты, что ты, откуда она у меня?! — по инерции отказал хозяин и спохватился, поняв, что переиграл.
Партизаны дружно рассмеялись.
— Ну и скряга ты, однако! Или ты жадный только по отношению к партизанам? — повысил голос возмущенный Зечевич. — Сейчас посмотрим, действительно ли у тебя ничего нет!
Он отстранил старика от калитки и направился к дому. За ним последовало еще несколько бойцов. Хозяин, по-прежнему пытаясь держаться независимо, тем не менее как-то сразу сник и, опустив голову, пошел за Зечевичем и его бойцами.
Дом был двухэтажный. На первом этаже размещались кухня, кладовая и другие подсобные помещения. Когда Зечевич открыл дверь в кухню, в нос ударил острый запах разных яств. У него буквально закружилась голова. К тому же здесь было жарко как в бане. Он увидел перед собой большую железную плиту, в топке которой бушевал огонь. На плите стояло несколько кастрюль, в которых что-то варилось. Из одной кастрюли вырывался пар, и крышка на ней подрагивала. Через открытую дверцу духовки виднелся круглый противень с уже готовым слоеным пирогом.
Иронически улыбаясь, Зечевич молча отодвинул локтем женщину, хлопотавшую у плиты, и заглянул в каждую кастрюлю. Он был поражен количеством пищи. В одной кастрюле тушилась капуста вместе с различными пряностями, Другая была доверху забита голубцами, а в широких низких кастрюлях румянились плов, картофель и жареные цыплята. Возмущенный открывшейся ему картиной, Зечевич схватил с одной из кастрюль крышку и швырнул ее на земляной пол, под ноги хозяину.
— Как же понимать твои слова, что тебе детей нечем покормить? А это для кого? Или все это приготовлено для четников? Для них, выходит, и пироги, и плов, и жареные цыплята, и голубцы, а партизанам воды жалеешь?
— Сила милостыню у бога не просит, — прогундосил хозяин себе под нос, вытирая рукавом вспотевший лоб.
— Хорошо, хорошо, коли так, бог нас тоже силой не обидел, и мы не меньше других любим пироги и цыплят. — Он повернулся к бойцам, стоявшим за его спиной: — Ребята, осмотреть весь дом, и что найдете из продовольствия, несите сюда.
— Как думаешь, Влада, может, и его с собой заберем? — предложил Космаец, озорно улыбнувшись и кивнув головой в сторону хозяина. — Лабуд любит такие трофеи.
Зечевич строго посмотрел на юношу.
— Делай, что приказано. Остальное — не твоя забота.
Бойцы разошлись по дому выполнять приказание. На втором этаже было несколько комнат, хорошо прибранных, богато обставленных, с картинами на стенах и иконами по углам. В комнате, служившей для приема гостей, партизаны увидели длинный стол, по одну сторону которого стояла дубовая скамейка, а по другую — венские стулья. Стол был уже накрыт к обеду. По центру стола между многочисленными тарелками с закуской возвышались бутылки ракии. Все это, видимо, было приготовлено для четников, которых в этом доме принимали как дорогих гостей. Конечно же здесь должен был обедать новоиспеченный воевода Космайского края Стоян Чамчич. Рядовых четников так не принимают. Для них не пекут пирогов, им не ставят стопки и дорогие тарелки.
— Ракию оставить хозяину, — сказал Влада, когда Марич и Космаец поставили перед ним четыре бутылки ракии, — а еду всю забирайте. Хозяйка, приготовь-ка нам свои кастрюли, — сказал он женщине, которая все это время стояла в сторонке, засунув руки за фартук, и не проявляла особого беспокойства. — Может быть, нам понравится, как ты готовишь, и бойцы будут тебе благодарны.
— Буду рада, если вам понравится, — ответила женщина. — Теперь мне не будет жаль своих трудов.
— Ты, наверное, не первый раз этим занимаешься, думаю, что и не последний.
Женщина осторожно обернулась и, увидев, что никого из домашних в кухне не было, сказала:
— Какое там первый! Свекор ненавидит меня из-за брата и всякий раз, когда наезжают четники, требует, чтоб я им готовила… Откуда вы?
— Из здешних краев, отсюда недалеко.
— Может быть, знаете Лунета? Это мой брат. Он в партизанах. Если встретите, скажите ему, что я накормила вас хорошим обедом.
— Обязательно скажу, если встретимся, — заверил ее Зечевич. Он позвал Космайца и попросил его найти хозяина, который незаметно куда-то исчез. — Хочу поблагодарить его, — сказал Зечевич, — такого обеда у партизан еще никогда не было.
Когда партизаны уходили из дома, уже смеркалось. Короткий декабрьский день приближался к концу. Из леса надвигался белесый туман. Ветер утихал, но теплее не становилось. Пожалуй, даже похолодало.
Конфискованный обед партизаны отнесли в корчму, где расположилась рота. Корчмарь сбежал, когда услышал стрельбу, и сейчас здесь хозяйничали сами бойцы. Они быстро приспособили помещение для отдыха: столы вынесли на улицу, а стулья расставили вдоль стен. На пол постелили толстый слой соломы, взятой из ближней скирды. После обильного ужина, который был для них одновременно и обедом — последнее время партизаны все чаще «соединяли» завтрак, обед и ужин, — бойцы в хорошем настроении готовились ко сну. Только молодежь, несмотря на усталость, не хотела угомониться, и вот уже в одном углу кто-то затянул песню. Ее подхватили, и в корчме сразу возникла веселая, бодрая атмосфера, освобождающая души людей от усталости и тоски по дому, по родным и близким. С песней забывались невзгоды, жизнь казалась милее.
На улице, напротив корчмы, догорало здание местной управы, которую подожгли партизаны роты Лабуда. Иногда кое-где в селе лаяли собаки. Была уже темная безлунная ночь.
В печи горел несильный огонь. Космаец поддерживал его, время от времени бросая в печь сухие доски. В помещении, которое освещалось керосиновой лампой с закопченным стеклом, стоял полумрак. Песня так же неожиданно закончилась, как и началась. Большинство бойцов спало. За два последних дня рота прошла свыше пятидесяти километров, имела несколько стычек с немецкими патрулями и с четниками, взорвала железнодорожный мост, сожгла три управы, захватила и расстреляла нескольких предателей. Бойцы заслужили право на отдых. Отделение Зечевича в эту ночь несло караульную службу. Часовые выходили на посты по двое: так было надежнее. Влада, как командир дежурного отделения, спать не имел права. Сейчас он сидел перед печью, спиной к дверце, и ремонтировал свои опанки. Дело не клеилось, и он что-то недовольно бормотал.
— Не могу понять, почему ты мучаешься с этим старьем, когда у тебя в ранце есть отличные ботинки? — наивно спросил Марич, собираясь на пост.
— Время не пришло ходить в новых, — ответил Влада, не отрываясь от своего занятия, — пока можно походить и в старых.
— Знаешь, почему он бережет новые ботинки? — вмешался в разговор Павле Чарапич, боец отделения Зечевича. — Он хочет показаться в них в своей деревне, когда вернется. — Глаза Павле лукаво блеснули.
Чарапичу было за тридцать. Это был вялый, болезненный на вид, худощавый человек с редкими прилизанными волосами, заостренным подбородком и горбатым носом. Чарапич был из той категории людей, которые толком не знали ни городской, ни сельской жизни. В партизанах он оказался в то время, когда немцы стали хватать всех подряд и помещать в концентрационные лагеря. Лучше быть солдатом, чем рабом, решил Чарапич. Кроме того, он считал, что война не протянется долго и он вернется к своему прежнему занятию: весной он уходил из деревни в город на заработки, а осенью обязательно возвращался назад.
Когда четники порвали с партизанами и образовали собственное войско, Павле ушел с ними, чтобы бороться за короля. «Как всякий настоящий серб, я обязан служить королю, — говорил он. — Я ему присягал и обязан отдать за него свою жизнь». Возможно, Чарапич так и «умер бы за короля», если бы в первый же день его службы у четников некий капрал не выбил ему два верхних зуба и тем самым не вызвал у Павле ненависти к королевскому войску. Он почувствовал себя свободным от присяги и перешел к партизанам.
К партизанам Чарапич пришел, имея при себе ручной пулемет, сумку с патронами и белую офицерскую накидку. Она, правда, немного пожелтела от дождей, но Павле гордился ею как самой большой драгоценностью.
— Знаешь, Влада, я одолжу тебе накидку, когда придем в твое село, — предложил вдруг Чарапич. — Ты воюешь уже бог знает сколько месяцев, а ходишь все еще в опанках и старых штанах. Стыдно показываться землякам в таком виде. Что они о тебе подумают?
— Меня это не беспокоит, пусть думают, что хотят, — ответил Влада.
— Ты не прав, Влада. Крестьяне такой народ, что их всегда надо чем-то удивлять. Я, когда возвращался домой с заработков, всегда покупал себе новую шляпу. Хорошая шляпа — большое дело. А однажды я приобрел пенсне, какие господа носят. Так веришь, настоящие чудеса начались. Крестьяне стали мне кланяться, как будто я был налоговый инспектор, а поп, когда я пришел показаться ему, сказал: «И ты, Павле, стал человеком». Вот что сделало со мной пенсне. Не зря ведь говорят: «Человек создает одежду, а одежда человека».
— Сейчас для крестьян не важно, во что ты одет и обут. Для них важнее, как ты вооружен, — отмахнулся от него Зечевич.
— Одно другому не мешает, поверь мне, особенно когда дело касается женщины, жены например. Ей совсем не все равно, в чем ты покажешься народу.
— А меня ее мнение не интересует. Все они одинаковы: только и ждут момента, чтобы запустить в мужа свои когти и наставить ему рога.
Чарапич раскатисто рассмеялся.
— В этом ты прав на сто процентов, но так случается только у тех мужей, которые находятся у жен под каблуком. Что касается меня, то, по-моему, жена должна знать свое место и не забывать, что хозяин в доме — мужчина.
— А как этого добиться? — спросил Марич, не скрывая острого любопытства.
— Очень просто. Надо почаще напоминать ей об этом. Допустим, собираюсь я в корчму, а она спрашивает, когда я вернусь. Зачем ей это знать? Незачем. Поэтому надо ее как следует проучить, чтобы в другой раз не совала нос в чужие дела.
— Вот ты какой отсталый человек, Павле, жаль, не знал я этого раньше! — воскликнул Лолич, до сих пор молча лежавший около печки на приставленных друг к другу стульях. — Теперь мне понятно, почему Лабуд требовал отчислить тебя из роты. Значит, он давно раскусил тебя. Вот смотрю я на тебя и думаю: откуда в тебе эти байские замашки? Посмотри на себя, что ты можешь без жены? Слабый, хилый, разболтанный. С весны по осень мотаешься по чужим местам в поисках заработка, а жена в это время и вспашет поле, и посеет, и урожай соберет, да еще успеет ребенка тебе родить. Ты же заявляешься к зиме на все готовенькое и, вместо того чтобы поблагодарить ее за кров и ласку, измываешься над ней, как последняя скотина.
— На то она и жена, чтобы хозяйство вести и детей рожать, — настаивал на своем Павле. — У нас, у деревенских, на этот счет свои порядки, и не вам, городским, нас учить.
— Мы, между прочим, боремся и за то, чтобы изменить положение женщины и в государстве и в семье. С прежними порядками будет покончено, — подчеркнул Лолич.
— Что же, и в правительстве они будут?
— Не исключено. Если бы меня спросили, я бы отдал женщинам самые высшие посты. Тогда, наверное, скорее удалось бы уничтожить войны и кровопролития, ибо нет такой матери, которая хотела бы послать свое дитя на погибель.
Павле задумался. Он уважал Лолича и одновременно побаивался его острого языка. В это время часовой, находившийся на улице, застучал по оконному стеклу, требуя смены. Марич и Чарапич начали собираться, так как была их очередь. Павле скрутил папиросу, чтобы покурить перед уходом. Руки у него дрожали, бумага не слушалась пальцев, рвалась, и табак просыпался.
— Поторопитесь, ребята! Погрейтесь еще чуток, и пошли, — сказал Зечевич и, отодвинувшись на свободное место, начал обуваться.
Время приближалось к полуночи, когда Чарапич и Марич заступили на пост. Мороз усилился. С неба падали крупные, но редкие хлопья снега. Сквозь старую и легковатую для зимы одежду холод пронизывал до костей. В селе было тихо, лишь вдали, видимо в соседней деревне, лаяли собаки. Со стороны Рудника время от времени доносились взрывы гранат. В ночной тиши звуки боя казались ближе, чем на самом деле, и это нагоняло на Чарапича страх. Медленным шагом он прошел по узкому, кривому переулку и оказался на полянке, покрытой снегом. Земля подмерзла. Там, где днем была жидкая грязь, сейчас похрустывал ледок.
Чарапич остановился и прислушался. Было тихо. Он всматривался в темноту, за которой угадывались горы. Отсюда до его дома было рукой подать — часа два пешком, не более. От этой мысли словно волна теплого воздуха ударила ему в лицо, он буквально физически ощутил запах родных стен. Искушение было велико, и он долго стоял, борясь сам с собой. Ноги и руки у него закоченели. А снег все шел и шел,
покрывая деревья, дома и землю белой простыней. Чарапич не мог вспомнить другой такой ранней зимы. На его памяти еще не было столь холодного декабря. Вдруг послышались чьи-то осторожные шаги — и Чарапич насторожился. Сквозь снежную пелену показалась фигура Марича. Он держал винтовку под мышкой и дул на озябшие руки.
— Никого нет. Все спят, даже собаки попрятались, — сказал Марич просто так, чтобы не молчать. — Ты, оказывается, тоже без варежек? А у меня дома есть хорошие шерстяные варежки. Мама вязала. Как только до дома доберусь, обязательно их возьму. Думаю, что к рождеству удастся побывать дома.
— До рождества надо еще дожить, — нехотя произнес Чарапич и повернул голову в сторону горы, откуда снова донеслись взрывы. — Слышишь, как гремит? Не к добру, если пушки ночью стреляют.
— На Дрине идут тяжелые бои, — задумчиво сказал Марич. — Лабуд вчера говорил, что там создаются пролетарские бригады. Вероятно, наши главные силы готовятся к контрнаступлению. Может быть, вскоре опять сюда вернутся.
— Не будь таким наивным! Разве можно верить всему, что говорит Лабуд?
— Почему же ему не верить? Лабуд никогда не врет. Вспомни, как на днях он говорил о том, что русские побили немцев на восточном фронте, а мы ему не поверили сначала. После немцы это сами признали.
— Может быть, русские сломают в конце концов хребет германскому фашизму, но мы этого не дождемся. До той поры нас перестреляют как зайцев. Когда я вступал в партизаны, Лабуд пел сладкие песни о нашей победе и даже срок называл — не позднее рождества.
— Что и говорить, не получилось так, как хотелось, война пошла по-другому, чем предполагалось. И все же наше положение было бы несравненно лучше, если бы не предательство четников, перешедших на сторону немецких фашистов.
Чарапич глубоко вздохнул. Он не был расположен спорить, но не мог и молчать. В его груди поднялась волна гнева и горечи, которую ему не терпелось выплеснуть наружу.
— Еще месяц назад сколько в отряде было людей! Где они сейчас? А что впереди? Вот как только снег ляжет по-настоящему, они нас передушат, как слепых щенят… Когда я пришел в отряд, мы занимали два села, в которых имели общественную власть: своих депутатов, секретарей, штабы. Где все это? Ничего не осталось. Мы же бродим, как заблудившиеся стада овец, которые ждут, чтобы на них напали голодные волки и сожрали.
— Ты не совсем прав, — возразил ему Марич. — Тебе хорошо известно, что наши главные силы ушли в районы, где более благоприятная обстановка. Сейчас главная задача состоит в том, чтобы сохранить главные силы.
Чарапич злорадно усмехнулся.
— Удивляюсь, как это тебя до сих пор не назначили комиссаром, — сказал он с издевкой. — Любишь ты повторять их слова. Только ваши главные силы мне ни к чему, если меня убьют, да и всех нас вместе.
— Не преувеличивай силы немцев, не смогут они нас всех поубивать, кто-нибудь да останется.
— Меня не интересует, останется кто в живых или нет. Для меня важно уцелеть самому. Думаю, и тебе не будет легче, если все выживут, а ты погибнешь.
— Не знаю, я не думал об этом. С одной стороны, ты вроде прав, а с другой — не могу с тобой полностью согласиться.
— Придет время, поймешь, что Чарапич был прав, да поздно будет.
Разговор иссяк. На другой стороне села залаяли собаки, и часовые насторожились: собаки редко лают напрасно. Со стороны Рудника снова донесся звук взрыва, а в вышине послышался шум самолета.
— Пошли, скоро смена должна выйти, — сказал Павле и, повернувшись, зашагал в сторону корчмы.
Когда снег прекращался, из ночного мрака выступали деревья, казавшиеся Чарапичу призраками. Они нагоняли на него страх, и он старался ступать как можно осторожнее и тише. Раскидистые ветви деревьев представлялись Чарапичу длинными штыками, нацеленными в его грудь.
До рассвета оставалось сравнительно немного времени, но для часового последние минуты перед сменой кажутся вечностью. Чарапич очень устал. Ему хотелось спать, и он мечтательно предвкушал тот момент, когда плюхнется на хрустящую солому и заснет мертвым сном.
Дождавшись наконец смены, Чарапич в два шага перемахнул через высокое крыльцо корчмы. Он уже взялся за ручку двери, но она отворилась сама, и на улицу один за другим стали выходить бойцы. Их было пять человек, и через минуту они скрылись в ночи.
Чарапич знал, что это были за люди, — ему самому приходилось не раз вместе со своим отделением ходить в разведку. Это занятие, по справедливости, считалось одним из самых опасных в боевой деятельности партизан. Поэтому Чарапич возмущался про себя поведением Зечевича, когда тот добровольно предлагал командованию роты послать его отделение в разведку.
Места кратковременного отдыха рота всегда оставляла неожиданно, без раскачки и долгих сборов, обычно задолго до рассвета. До последнего момента никто не знал предстоящей задачи и маршрута движения. Это было известно лишь Лабуду, и поэтому он стал для бойцов чем-то вроде проводника, без которого они бы заблудились и разбрелись кто куда. Они опасались, как бы он не исчез, и во всяком случае каждый боец инстинктивно стремился держаться поближе к командиру роты, словно он был непробиваемой стеной, за которой можно схорониться в минуту опасности. А обстановка все ухудшалась и ухудшалась. В последнее время, чтобы не попасть под удар противника, рота не задерживалась на одном месте более суток. В особо опасные периоды приходилось менять дислокацию по два-три раза в течение одного дня.
Задание, которое выполняла рота сейчас, приближалось к концу. Лабуд уже получил приказ из штаба от комиссара Шумадинца пробиваться на Космай и присоединиться к отряду. Но об этом было известно самому узкому кругу лиц. Знала об этом и Гордана Нешкович. Во время ночевки в корчме Лабуд сказал ей, что они должны еще до рассвета пересечь шоссе и железную дорогу, чтобы днем выйти к своему отряду.
Она лежала, прислонив голову к его плечу, и смотрела на него долгим взглядом.
— Когда ты рядом, я не боюсь ничего: ни дорогу пересекать, ни бункер атаковать, — шептала она, едва шевеля губами. — За последнее время мы уже трижды пересекали и шоссе и железную дорогу, и каждый раз все обходилось благополучно.
— Надеюсь, что и сегодня ночью ничего плохого не случится, — осторожно заметил Лабуд. — Хотя, конечно, война есть война, что ни говори, особенно партизанская.
— Раз ты уверен в успехе, можно спать спокойно, — сказала Гордана и закрыла глаза.
— Отдыхай, ты устала. Я заметил днем, что ты едва держишься на ногах.
— А ты разве не устал? — Она нежно провела ладонью по его лицу. — Как вышли из отряда, ты еще ни одной ночи не отдыхал как следует. Удивляюсь, чем ты держишься!
— Обо мне не беспокойся. Я буду отдыхать после войны. Тогда найдется время и для меня, — с какой-то грустью и тревогой ответил Лабуд. Он, казалось, предчувствовал, что после войны его ожидали долгие и тяжелые годы ссылки, когда у него будет действительно достаточно времени и для сна и для размышлений о пережитом.
Гордана подняла голову и посмотрела на него удивленно. Его голос показался ей незнакомым, да и все лицо как-то резко изменилось. Он лежал на спине, подложив руки под голову и устремив задумчивый взгляд в потолок. За последние дни Лабуд заметно похудел, глаза у него ввалились, а нос, казалось, стал крупнее. Даже губы как-то утончились и обесцветились. Рана, которую он получил в бою на Дучинской горе, быстро затянулась, и уже через несколько дней Гордана сняла с его головы повязку. На правой щеке, однако, остался большой шрам, и теперь, когда Лабуд улыбался, эта часть лица оставалась неподвижной. Лабуд знал об этом и старался реже смеяться.
— Милан, сколько времени прошло, как мы познакомились? — спросила Гордана, прикоснувшись осторожно кончиками пальцев к крестообразному шраму на щеке Лабуда.
— Много. Мне кажется, что мы знаем друг друга с детства.
— И ты меня любишь с тех пор?
— Конечно. Мы полюбили друг друга еще до нашей встречи. Поэтому мы и встретились. Так нам предписано судьбой.
— Я всегда с ужасом думаю о том, что мы могли бы разминуться.
— Я тоже часто думаю об этом…
Она улыбнулась. Ей было приятно слышать, что они с Миланом думают одинаково. Как бы хотела она объяснить ему свои чувства, но ей все казалось, что нужные слова или не находятся, или приходят на ум с опозданием. Прижавшись к плечу Милана, Гордана почувствовала, что ее охватывает приятная слабость. Ей казалось, что она парит в воздухе, а навстречу ей дует легкий теплый ветерок, откуда-то пробиваются лучи заходящего солнца и все вокруг исчезает, теряет реальные очертания. Сон одолел ее сразу. Она уже спала, а мозг еще продолжал работать, правда уже абстрактно, без прямой связи с действительностью. Но нередко она разговаривала во сне, и тогда Милан ее будил, опасаясь, чтобы другие не услышали то, что было предназначено только ему одному.
Сквозь сон Гордана услышала голоса людей, стук сапог по деревянному полу, звяканье оружия и снаряжения. Она не сразу пришла в себя. Сон уже отлетал, но усталые веки еще не хотели открываться.
— Сколько времени? — спросила она, почувствовав, что Лабуд опустился около нее.
— Скоро час ночи, — ответил он, подавив зевоту.
— Не рано?
— Боюсь, что уже немного опаздываем. Надо спешить, чтобы успеть до рассвета пересечь железную дорогу.
Гордана быстро поднялась и начала собираться.
— Ты пойдешь вместе с ранеными, в середине колонны.
Гордана согласно кивнула.
— Лолич, сегодня очередь твоего взвода нести раненых, — сказал Лабуд. — Выдели также одного автоматчика в тыловое охранение.
Лолич назначил четырех бойцов нести тяжело раненного, у которого был перелом позвоночника. Кроме него в роте было еще несколько легко раненных. Крестьяне, наслышавшись о поражении партизан, стали неохотно оставлять у себя раненых бойцов. Немцы, четники и полицаи рыскали по деревням как гончие псы и, если находили раненого партизана, село сжигали. Приходилось возить раненых с собой, что затрудняло маневренность роты, замедляло темпы ее движения, усложняло преодоление зон, занятых противником.
На этот раз роте повезло. Шоссе она проскочила незамеченной, и лишь на железной дороге ее передовое охранение встретило сопротивление немецкого патруля. Вспыхнула перестрелка. Рота рассыпалась в цепь и, не останавливаясь, пошла в стремительную атаку. Патруль был смят, рота без потерь пересекла железнодорожное полотно и оказалась в сравнительной безопасности.
На железнодорожной насыпи, между рельсами, Лабуд увидел мертвого немца, на котором уже не было ни сапог, ни шинели. Немного в стороне лежал еще один немец, раненный, а рядом с ним сидело двое пленных со связанными руками. Пленные дрожали от испуга. Один из них плакал и умолял пощадить и взять его в партизаны. Пленные тоже были разуты и раздеты. Им завязали глаза, чтобы они не видели направление движения партизан, и оставили в покое.
Начинало светать. Где-то впереди послышалось пение петухов. Небо на востоке светлело. Занималась заря. Рота была уже на приличном расстоянии от железной дороги, когда со стороны Влашкова Поля донесся шум моторов грузовых автомобилей. Вероятно, немцы узнали о нападении партизан.
Лабуд приказал ускорить движение. Но осиное гнездо уже было потревожено. Со стороны Сопота заговорил пулемет. Над станцией Джуринца вспыхнула ракета. Небо прорезали длинные очереди трассирующих пуль.
Однако немцы опоздали. Рота ушла достаточно далеко и быстро продвигалась в направлении Космая.
Рота вступила в село, которое только-только просыпалось. В окнах появлялись, чтобы тут же исчезнуть, испуганные лица. Космай приближался. Это был край Лабуда, и он чувствовал себя здесь спокойнее и безопаснее. Немцы и полицаи не рисковали соваться сюда малыми силами. Стрельба в тылу постепенно ослабевала и удалялась.
Небо за горой все больше светлело. Линия горизонта постепенно уходила вдаль. Облака стремились запеленать солнце в свою пышную шубу. Бойцы, едва дождавшись рассвета, дружно задымили цигарками, и над колонной потянулся беловатый табачный дым. Ночью курение было запрещено. Земля, за ночь слегка подмерзшая, снова стала превращаться в жидкое месиво. В небольшой долине был сделан десятиминутный привал, а затем снова марш в том же порядке — колонной, один боец от другого на расстоянии десяти шагов.
Сейчас в роте насчитывалось около восьмидесяти человек. Кроме винтовок и карабинов она имела девять автоматов, легкий итальянский миномет, несколько пистолетов-пулеметов и четыре ружейных гранатомета. По тем временам рота была вооружена отлично. Но это объяснялось тем, что рота выполняла особое задание и была усилена как личным составом, так и оружием.
В последних боях рота потеряла около десяти человек, но почти столько же новичков влилось в ее ряды. Бойцы возвращались в отряд в хорошем настроении, как домой.
Дорога пошла под уклон. Космай оставался слева. Над колонной зазвучала песня: «Сколько на Космае листьев — столько же и коммунистов». Слова песни были совершенно новыми, а распевалась она на мотив известной народной песни. Партизаны в то время еще не имели собственных композиторов, и новые песни у них были на мотив или народных песен, или русских революционных песен, которые еще до войны пели югославские коммунисты.
Космай постепенно уходил назад и влево. На его вершине сияла снежная шапка. Вдали виднелись другие горные вершины, затянутые туманной дымкой и кое-где также покрытые снегом, а внизу, в долине, расположилось село, окруженное со всех сторон лесистыми холмами. Рота двигалась по широкому грязному шляху, огороженному с обеих сторон живым забором. Лабуду был известен здесь каждый кустик. В этих местах прошли его детство и юность.
Когда на Космае вспыхнуло восстание, оно сначала получило широкую поддержку у населения. Но затем наступил спад, объяснявшийся многими причинами, в первую очередь превосходством сил противника. Зверства оккупантов и четников сделали свое дело. Партизан стали избегать. Теперь стоило раздаться возгласу: «Партизаны идут!» — многие крестьяне старались не показываться из домов.
От села доносился запах жареной картошки и свежеиспеченного хлеба. Он ударял в нос и вызывал у проголодавшихся бойцов повышенный аппетит. Лабуд посмотрел на родную деревню, и его охватило чувство стыда за своих земляков, за то, что они шли на поводу у четников, предававших народ.
Картины родного села возникали перед Лабудом, как на экране кино, — сначала в дымке дали, а затем все яснее и четче. С внутренним волнением ждал он момента, когда из-за поворота покажется его дом. Мысль о доме вытеснила на время все остальное. Почти месяц он не слышал ничего о матери и сестре. Сколько бурь пронеслось над ними за это время, что им пришлось пережить?
Пока спускались к селу, приплыли низкие облака и пошел снег с дождем. Кто-то не ко времени затянул: «Текла река от берега до берега», но запевалу не поддержали, и он затих. Слышалось лишь чавканье липкой грязи под ногами бойцов.
На дороге, у моста через реку, партизаны увидели запряженную телегу, груженную мешками с пшеницей. Когда, подошел Лабуд, Зечевич уже осмотрел поклажу на повозке и вытащил из-под соломы новенький немецкий карабин и две сумки с патронами.
— Узнаешь упряжку? — спросил он Лабуда. — Это кони Чамчича. Уверен, что отец и сын работают на пару: младший грабит по селам, а старый продает награбленное. Деньги гребут лопатой.
— Если ты в этом уверен, тогда чего ждешь? Поворачивай повозку. Зерно вернем крестьянам, а лошади нам пригодятся.
— Подожди немного. Мои ребята отправились догонять возницу. Сейчас должны вернуться. Он не мог уйти далеко.
Действительно, через несколько минут появились Марич и Космаец, ведя перед собой довольно пожилого, но еще крепкого мужика в черной суконной одежде, в меховой островерхой шапке и в желтых немецких сапогах. Человек старался держаться независимо и открыто выражал свое презрение к партизанам. Однако кнут, который он держал в руке, заметно дрожал.
— Ну и что, что везу зерно? Свое везу, не краденое, — не глядя ни на Лабуда, ни на Зечевича, начал он. — У меня и еще есть, слава богу, урожай был хороший.
— У тебя урожай всегда хороший, это нам известно, — сказал Влада.
— Конечно, у хорошего хозяина всегда земля родит.
— Хороший хозяин о сиротах не должен забывать, — прервал его Лабуд властным голосом. — Все это мы забираем себе, и на том делу конец.
— Как это себе? Вот когда будете законной властью, тогда можете делать, что душе угодно, — воспротивился старый Чамчич, — а пока не имеете права. Вы не смеете грабить честных людей, которые…
— Если мы не законная власть, то чья же законная? — рассердился Зечевич.
— Такой в нашем селе пока нет, но скоро будет.
— Не твой ли сыночек установит?
— Мой сын такой же, как и вы, — глядя себе под ноги, ответил Чамчич, — все вы одинаковы. Он же вместе с вами ушел.
— Не притворяйся дурачком, ты отлично знаешь, где находится твой сын. Ты же его к четникам отправил и коня ему дал самого лучшего.
Старик поднял голову. Казалось, он только сейчас узнал Зечевича и теперь смотрел на него с испугом.
— Влада, ты же знаешь, что Стоян летом вместе с вами ушел, — начал Чамчич глухим голосом. — Вы были заодно, помнишь?
— Ты не хуже меня знаешь, что уже более двух месяцев твой Стоян служит немцам, — прервал его Зечевич, — и не притворяйся, тем более что ты сам ничем не лучше своего сына. Вам обоим придется еще держать ответ перед народом!
— Побойся бога, почему я должен отвечать, если я здесь ни при чем, — заглядывая Лабуду в глаза, запричитал старик. — Ничего я не знаю.
— Не знаешь? Так я напомню! Разве не ты пришел тогда в отряд и увел с собой сына, а после послал его к четникам?
— Я не говорил ему, чтобы он дрался против вас. Это он все сам. Он сам себе и советчик и ответчик, в армии служил, знает, что делает. Для чего ему мои советы?
— Если, как ты утверждаешь, он принял решение уйти в четники без твоей подсказки, тогда почему ты принимаешь на свой склад зерно, которое четники отбирают у крестьян? Мало того, ты ведь продаешь это зерно и набиваешь свои карманы. Люди от голода гибнут, а ты богатеешь. Или, может быть, деньги сыну отдаешь, чтобы он покупал у немцев оружие для борьбы с партизанами? Что молчишь?
Старик озирался вокруг в явной растерянности.
— Милан, не виноват я в том, что вы со Стояном ненавидите друг друга. Ты же знаешь, что он меня не слушается. — Увидев, что партизаны уже завладели его повозкой, взмолился: — Коней хотя бы оставьте. Кони мои собственные. Я купил их еще перед войной.
— Нам тоже лошади нужны, а тебе твой сынок других приведет, — сердито оборвал его Лабуд. — Нам раненых приходится на руках носить, поэтому повозка нужна позарез.
— С чем же я останусь? Немцы приходят — забирают все, что им понравится; четники берут все, что найдут; а теперь и партизаны берут все, что им требуется. Оставьте мне хотя бы повозку. Такую повозку сейчас нелегко справить.
— То, что мы берем, это еще не все, — сухо сказал Лабуд Чамчичу. — Сейчас отправляйся домой и распорядись приготовить обед на сорок человек. Через час обед доставишь в школу. Понял?
— Обед на сорок человек?! — Глаза у Чамчича полезли на лоб, а нижняя губа задрожала. — Моя кухня не проходной двор.
— Не хочешь накормить сорок человек, тогда приготовь на пятьдесят и не вздумай противиться моему приказу.
— Милан, будь справедлив. В нашем селе найдется немало домов побогаче моего. Возьми ты Павичей, Платаничей, они могут целый полк накормить одним махом. За что же ты меня разоряешь?
— Отказываешься на пятьдесят — приготовь на шестьдесят. Все, я не шучу.
Чамчич открыл было рот, но так и не произнес больше ни слова. Его лицо позеленело, руки дрожали. Колонна партизан прошла, повозка Чамчича скрылась за поворотом.
Сельская улица была пустынна. Во дворе дома Ачимовича лаяли собаки. За оградой первого по правой стороне улицы дома, опершись руками на решетку забора, стоял мужчина средних лет и внимательно всматривался в лица партизан. Он ожидал увидеть своего младшего сына, который без его, отцовского разрешения ушел в леса. Колонна проходила, а его сына по-прежнему не было видно. Так же напрасно ждали своих сыновей и во многих других домах.
Когда партизаны вышли к центру села, из расположенной здесь корчмы выскочила какая-то странная фигура, одетая в лохмотья, с деревянным ружьем на плече. Это был сельский чудак, придурковатый Пера Банкович, известный Лабуду с детства. Пера никого не боялся и всегда, когда в село приходили военные, первым выходил их приветствовать.
Он встал навытяжку перед партизанами, приложив руку к полям своей старой соломенной шляпы. Сколько помнил Лабуд, Пера носил эту шляпу и зимой и летом. Шляпа давно уже прохудилась, и сквозь ее дыры виднелись седые свалявшиеся волосы.
— Привет бойцу Салоникского фронта! — поздоровался Лабуд со стариком. — Все еще не демобилизовался, служишь понемногу?
На старом, заплатанном зипуне старика красовалась звезда Карагеоргия, которой он был награжден в годы первой мировой войны.
— Пера Банкович служит королю и отечеству! — подняв над головой указательный палец, воскликнул старик тусклым голосом.
— А не надоело тебе, Пера, проливать кровь за короля?
— Никак нет, и не может надоесть. Мы, сербы, без короля, что овцы без пастуха, — всюду блуждаем, а хорошего пастбища не находим. — Он подошел к Милану и зашагал рядом с ним. — Ты, Лабуд, народ говорит, в генералы пробиваешься? Дай тебе бог удачи, юноша! Наше село каждую войну кого-нибудь наверх выдвигает. Еще во время войны с турками воевода Янко Кайтич был произведен в князья. В прошлую войну Светолик Павич вырос от капрала до капитана, а после войны стал председателем общины. А сейчас ты — генерал. Не думал, что ты так быстро преуспеешь. Я шесть лет провел на войне, звезду Карагеоргия заслужил, но звания мне так и не дали. Обещали сначала присвоить звание фельдфебеля, а потом, видно, забыли. А я бы и капралом был доволен, не такой уж я жадный до чинов. Ты же — генерал! Здорово! Только люди говорят, что ты со своей армией против короля и против церкви поднялся… Неужели?
— Правильно люди говорят, отец, мы и против короля и против церкви.
— Теперь понятно, почему тебя бог наказал, — произнес старик.
— Что ему до меня, мы с ним разошлись.
— Ты с ним, может быть, и разошелся, а он с тобой еще не хочет расставаться. Поэтому и приказал Стояну сжечь твой дом. И мне тоже. Я целый день Стояну помогал.
У Лабуда пересохло в горле. Он повернулся к старику, схватил его за грудь и приподнял над землей.
— Вы со Стояном сожгли мой дом?
— Сожгли, я тебе уже говорил, — ответил старик, ничуть не испугавшись гнева Лабуда. — Чамчич привел свое войско, то, которое борется за короля, и приказал именем бога и отечества сжечь твое хозяйство. Видел бы ты, какой был кострище! Когда дом сгорел, четники на углях испекли твоих поросят и съели. Всех четырех. Меня тоже угостили. Здорово, когда дома жгут, а потом свиней в углях пекут. Не помню точно, но кто-то мне говорил, что в Дучине, когда сожгли дома партизан, женщин в костер бросали. Видишь ли, там животных не нашлось. Я потому держу в запасе двух овец. Если придут жечь мою хату, пусть не меня, а овец в огонь бросают. Только они меня не тронут, поскольку я за короля.
Лабуд плохо слушал бормотание старика. Все в нем клокотало.
— Гады, бессердечные гады! — повторял он беззвучно. — Четники приказали сжечь дома всех партизан, а их семьи уничтожить.
— Что они сделали с моей матерью и сестрой? — спросил Лабуд, готовый услышать самое худшее.
— А что они могли с ними сделать, если я их вовремя спрятал? — хитро улыбнувшись, ответил старик. — Пока четники рыскали по селу, они сидели в моем подвале. Да, да, в моем. Хотя люди и говорят, что ты безбожник и против короля, но твою родительницу я уважаю. Помнишь, Милан, как в детстве я тебя катал на повозке? Не забыл? Хорошее было время. Только все хорошее быстро проходит. Ты в те времена декламировал стихи про короля, а сейчас воюешь против него. Что делать, может быть, так и надо. Будь я помоложе, тоже, наверное, пошел бы с тобой. Король оставил нас здесь, чтобы мы дрались и погибали за него, а сам сбежал. Как же так? Придется, видно, и мне свою армию против него поднимать. Ты только подожди немного. Видишь, какую я себе винтовку смастерил? Дай мне патронов для нее, и я пойду тогда убивать всех, кто против меня, и твою сестру убью. Она сейчас живет в Белграде и разъезжает с немцами в автомобилях. Ее уже два раза видели с ними.
— Не может этого быть, это ложь! — протестующе воскликнул Лабуд. — Моя сестра никогда не будет за фашистов.
— Стыдно тебе не верить старому человеку, — рассердился Пера Банкович. — Я никогда не вру. Мне все обо всех известно. Когда придет наш день, мы каждому воздадим по заслугам.
Лабуд шагал прямо по лужам, спеша к своему дому и не слушая старика. Слабость охватила его, ноги подкашивались. Ему не хотелось верить словам Перы, но отдельные крестьяне, встречавшиеся на пути, казалось, подтверждали рассказ старика. Они опускали глаза, отворачивались, чтобы не встретиться с ним взглядом, старались свернуть в сторону. Жидкая грязь хлюпала под ногами. На заборах кричали галки и сороки, бесстрашно перескакивали с места на место, не боясь людей. Поразительная живучесть: люди каждый год разоряли их гнезда, а они размножались как ни в чем не бывало, и нет им ни конца на края.
Дом Лабуда находился почти на самом краю села, рядом с рощицей. Лабуд своими руками отвоевал у леса небольшой участок, выкорчевал его и посадил фруктовый сад. Весной сад бурно цвел, радуя глаз. Сейчас все было поломано, загажено, уничтожено. На месте дома осталось темное пепелище, валялось несколько обгоревших бревен. В центре, словно памятник, торчала печная труба. В ней было похоронено прошлое Лабуда, его счастье, его мечты, плоды его тяжелых трудов.
От огня уцелела лишь ограда. Калитка был закрыта на задвижку. Милан ткнул калитку ногой и вошел во двор. Нигде ни души. Только на противоположной стороне забора сидела сорока, словно сторож. Под ногами хрустела битая черепица, словно песок на зубах, скрипело мелкое стекло. В воздухе стоял горьковатый запах гари; он бил в нос, проникал в кровь, леденил душу.
Много раз видел Лабуд сожженные дома, целые деревни, превращенные в пепелища. Но еще никогда он так глубоко не ощущал это горе людское, как сейчас. Прислонившись к ограде, окаменевший и отрешенный, он смотрел на останки своего прошлого и думал о том, что теперь у него остался лишь один путь — тот, который он выбрал давно и которым должен следовать до конца.
«Теперь мне все равно, — сказал он себе. — Поправить здесь ничего нельзя». Его ноги дрожали, когда он обходил свое бывшее хозяйство. Во дворе ничего не уцелело. Дерево, росшее недалеко от дома, все обгорело. Его почерневшие ветки жалобно шелестели. Лабуд понимал бессмысленность своего кружения по пепелищу родного дома, но поделать с собой ничего не мог. Не так просто было ему повернуться спиной ко всему этому, и уйти. Вся прошлая жизнь Лабуда, все его надежды были связаны с кусочком этой земли, и трудно было бросить то, с чем всегда были связаны мечты, что толкало его идти вперед.
Когда рота вошла в село, начал моросить дождь. Вскоре он перешел в снег. Небо стало таким низким, что казалось, легло на макушки деревьев. Местами снег уже накрыл землю. Но Милан не чувствовал холода. Только ненависть, яростная и беспощадная, клокотала у него в груди, туманила сознание. Он блуждал по участку, останавливался около каждого дерева, переворачивал камни, словно искал следы разыгравшейся здесь трагедии. Подойдя к колодцу, Лабуд ощутил жажду. Но ни бадьи, ни цепи, к которой она была привязана, на колодце не было: кто-то из крестьян все это уже унес. «Если бы могли, они и землю, наверное, утащили бы на свои участки, — с горечью подумал Милан. — Вечно им ее, проклятой, мало. За нее идут на гибель, бьются друг с другом, отнимают ее один у другого как самое дорогое сокровище».
Мысли Лабуда были нарушены звуком приближающихся шагов. Из снежной пелены показалась чья-то согбенная фигура с винтовкой в руке. Лабуд инстинктивно схватился за пистолет, но узнал в незнакомце старика Перу Банковича.
— А я вижу, ты не такой уж храбрый, генерал, коли меня испугался, — весело залопотал старик и захлопал своими восковыми ладонями с длинными высохшими пальцами, запрыгал вокруг Лабуда, словно раненый воробей. — Ну ничего, не тушуйся. Меня сам Гитлер боится. Хоть он и свиреп, но дядюшку Перу боится. Только я один никого не боюсь. И тебя не страшусь, хотя ты держишь в руке пистолет. Вижу, ты хотел напиться из своего колодца, а бадьи-то нету, украли. Время такое ныне, Милан, раздолье для воров. На войне всегда так: одни богатеют, другие все теряют. Сейчас не крадут лишь те, кому нечего красть.
Старик положил свою деревянную винтовку на плечо и вытер губы ладонью.
— А ты, Милан, должен будешь после войны мне что-нибудь заплатить, — сказал он, — потому что я двор твой стерегу. Никого сюда не пускаю. Не будь меня, твоего сада давно бы уже не было. Вчера целый день ограду здесь поправлял. Не люблю, когда забор не в порядке. Видишь, вон в том углу новые рейки прибил. Жаль, грамоты не знай, а то написал бы, как вы пишете на стенах и заборах, что это хозяйство коммуниста и никто не смеет взять отсюда ни одной дощечки. Потерпи, пока война кончится. Соберемся тогда всем миром, Стояна тоже прихватим с собой, и поставим тебе новый дом, лучше прежнего. — Старик снял шляпу и перекрестился. — С божьей помощью доживем до весны, будет тебе новый дом. Говорил я Стояну, чтобы пощадил твой дом, но он взял грех на свою душу. И пса твоего убил. Такой был пес! Я похоронил его и даже крест над могилой его поставил. Попа хотел позвать, чтобы отпел, но ныне и попы испортились, все ударились в политику.
Лабуд почти не слушал старика, но при этих словах сомнительно на него посмотрел.
— Клянусь тебе, Милан, — плаксивым голосом начал причитать старик, — все, что я сказал тебе, правда. Пусть ворон мне глаза выклюет, если вру. Я все хорошо помню. Помню и как твоя мать, Даринка, убежала в город. Днем не решилась, четники были кругом. А как ночь настала, она и ушла. Я ее проводил почти до Тресни. Пера все помнит и после войны обо всем народу расскажет.
Лабуд молча курил. А его лицо посинело от холода. Докурив папиросу, он бросил окурок на землю, придавил его носком сапога и, отворив калитку, вышел на улицу. Пера Банкович, словно хозяин, запер калитку на щеколду и, спотыкаясь, заспешил за Лабудом, ни на минуту не закрывая рта.
Только Лабуд не слушал старика, он ничего не видел и не слышал. Он даже не обращал внимания на встречных людей, которые торопливо шмыгали мимо.
— Стыдно им смотреть тебе в глаза из-за того, что трусят перед Стояном, — говорил старик, поспешая следом за Лабудом. — Они боятся и четников и немцев, а сейчас особенно, потому что вы ослабели и не можете их побить… Завтра, как только вы уйдете, вернется Чамчич и снова будет жечь дома партизан. Он бывает здесь каждый день. Когда вы появляетесь, он убегает. Силы он боится. Ему лишь с бабами воевать. Никак не возьму в толк, почему бы вам не помириться. Вам надо сообща против, немцев действовать, а вы между собой деретесь. Это для народа вред. Если бы меня поставили королем, я бы навел порядок. Крестьяне считают меня дурачком, но они ошибаются. Король ничуть меня не умнее, он лишь одет лучше. Если бы я был королем, я бы перво-наперво запретил сербам междоусобную резню. Люди говорят, что ты красный воевода. Значит, вся власть в твоих руках. Тебя все боятся. И Стояна все боятся. Все боятся всех. Чамчич обещает десять тысяч динаров за твою голову. Как бы я хотел получить такую бешеную сумму. Только не знаю, мне кажется, ее никто не заработает. Но все об этом думают, все подкарауливают…
На другом конце села прозвучало несколько винтовочных выстрелов. Затем еще и еще.
— Снова сербы убивают сербов, — сокрушенно сказал старик. — Как вам только не надоест.
Одна за другой взорвались три гранаты. Над колокольней поднялась стая ворон и галок. Ветер донес запах гари. Стрельба прекратилась. Тишину теперь нарушали лишь гомон встревоженных птиц и лай собак. Перестрелка заставила людей спрятаться по домам. Улицы были пустынны. Вдали, за снежной пеленой, появился над домами столб черного дыма.
— Смотри, пожар! — воскликнул старик. — Идем посмотрим, что горит. Как, ты не хочешь? — удивленно спросил он, увидев, что Лабуд, дойдя до перекрестка, повернул в сторону школы. — Ну как хочешь, а я должен знать, что там произошло. — И, не оборачиваясь, старик заспешил на пожар, что-то выкрикивая на ходу.
Оставшись один, Лабуд вздохнул с облегчением и сбавил шаг. Надо было собраться с мыслями, навести в голове порядок. Шагая по улице, Лабуд видел и чувствовал, что за ним наблюдают. То в одном окне, то в другом поднимались уголки занавесок, но стоило Лабуду посмотреть в ту сторону, как занавески мгновенно опускались. Лабуд хорошо знал односельчан и без труда определял, кто из них мог бы рискнуть заработать за его голову десять тысяч динаров.
Ближе к центру села наблюдателей в окнах становилось меньше, зато все чаще попадались вооруженные партизаны. В самом центре все сохранилось по-прежнему, за исключением здания общины. Партизаны сожгли его еще в начале восстания. Это была их первая победа. Перед домом, что стоял напротив сгоревшей управы, Лабуд увидел незнакомого ему часового. Из помещения старой корчмы слышались громкие голоса, а за корчмой стоял еще один часовой, вооруженный винтовкой с примкнутым штыком. У церковной ограды было привязано несколько лошадей, а в летней кухне поповского дома горел огонь и виднелись чугуны и кастрюли. Лабуд сообразил, что в село прибыло еще одно подразделение отряда. В школе, где расположилась его рота, царило оживление. Бойцы уже вынесли парты на улицы и теперь вносили внутрь помещения солому, забивали досками разбитые окна.
В школе было четыре комнаты: две большие и две поменьше. Уже к третьему классу около половины школьников бросало ходить в школу. «Дети, как только подрастут, должны работать, а не болтаться без дела» — такова была суть психологии сербского крестьянина той поры. В помещении для четвертого класса, который в свое время окончил Лабуд, было тепло, пахло свежей соломой. В круглой железной печке бушевало пламя. На стене висела шинель Горданы, а стол, придвинутый к окну, был завален медицинским имуществом. Двери класса открывались ежеминутно. Люди входили и выходили с таким видом, словно что-то искали и не могли найти.
Лабуд не обращал внимания на это беспрерывное хождение. Но Гордана все видела и понимала. Она знала, что в роте давно считают ее любовницей Лабуда. И сейчас бойцы, как бы желая убедиться в этом лично, заглядывали к ним без всякого дела, просто так, из любопытства. Гордану это сначала раздражало и сердило, но вскоре она махнула на все рукой: пусть думают, что хотят.
— Гордана, закрой, пожалуйста, дверь, я хочу побыть один, — попросил Лабуд. Он стал у окна, бесцельно блуждая взглядом по холмам, которые начинались прямо от школы.
Гордана вопросительно посмотрела на него:
— Мне тоже выйти?
— Зачем? Я не о тебе. Меня раздражает, когда они заходят сюда без всякой нужды.
— Вход сюда никому не запрещен. Люди приходят на перевязку или за какой-нибудь другой помощью. В этом нет ничего странного.
Лабуд резко повернулся к Гордане и сердито посмотрел на нее.
— Это относится далеко не ко всем. Кстати, мне кажется, что ты напрасно расходуешь столько бинтов, — заметил он. — Смотрел я, как ты перевязывала сейчас этого быка. Израсходовала на него целый пакет, а завтра нечем будет настоящего раненого перевязать. Поверь мне, этот мужик нарочно бередит рану, не дает ей заживать. Он рассчитывает на то, что я отпущу его на лечение домой. Воюет всего два месяца, а уже весь в шрамах, словно старый фронтовик. Пуля первым делом дураков выбирает.
— Милан, ну как можно так говорить, побойся бога! Не виноват этот товарищ.
— Значит, по-твоему, я виноват в том, что он подставляет свою глупую башку под немецкие пули? Я его как-то спросил: «О чем ты думаешь в бою?» Знаешь, что он мне ответил? «Посеяла ли жена пшеницу, и не сожгли ли четники мой дом».
Гордана весело рассмеялась.
— Не вижу в его словах ничего плохого. О чем же еще думать простому крестьянину? Тебе это должно быть особенно понятно, так как ты ведь сам из крестьян.
— Ты хочешь сказать, что и я такой же отсталый? — обиделся Лабуд.
— Как ты можешь говорить такое, надо же! — воскликнула Гордана, подходя к Лабуду.
— Или ты хотела бы видеть меня другим?
— Если бы ты был другим, я бы тебя никогда не полюбила. Я знаю, что тебя ничто не может заставить измениться, хотя и не возражала бы, если бы ты немного по-другому относился ко мне.
— А ты попробуй изменить мой характер.
— Не имею желания бороться с силами природы, бесполезно.
— На этот раз ты, пожалуй, ошибаешься, — сказал Лабуд.
Он не мигая смотрел в ее смеющиеся глаза, наслаждаясь их сиянием. Они согревали его, словно солнечные лучи. «Если когда-нибудь, в счастливый час своей жизни, — мысленно обратился он к Гордане, — ты вспомнишь мое имя, пусть оно возродит в твоей памяти грозные годы нашей молодости. Сейчас мы боремся за счастливое будущее и отдаем ему все наши силы. Наше будущее — не пустая мечта, а реальная действительность. Наша жизнь — это борьба, борьба вечная, иногда смертельно опасная. Но, невзирая ни на какие преграды, испытания и искушения, мы должны дойти до цели. Любовь помогает мне в борьбе, и я хотел бы, чтобы через нашу любовь рождалась для людей новая жизнь. Ох как хочется жить! Но знаю также, что нас на каждом шагу подстерегает смерть…»
Лабуд грустно улыбнулся. Гордана смотрела на него с недоумением. Ей все казалось, что она его не понимает и никогда не поймет. Будучи не в силах разобраться в причине его долгого молчания, она прильнула к нему, положила голову ему на плечо. Его куртка была влажной и холодной. Гордана посмотрела ему в глаза. Они были какие-то погасшие.
— Ты насквозь промок, на тебе сухого места нет, — сказала она. — Почему ты совершенно не заботишься о своем здоровье? Сходил бы домой, это же твое родное село. Наверное, не скоро сюда вернемся снова.
— Кроме тебя, у меня никого не осталось больше, — ответил он, вздохнув, — ни дома, ни родных — все пропало. Четники сожгли мой дом.
Гордана, пораженная новостью, замолчала. Они стояли рядом, касаясь друг друга плечами, и смотрели через окно на дорогу, бегущую по холму, по которой сейчас шла колонна беженцев. Люди едва тащились по грязи. За время нахождения роты Лабуда на задании число беженцев в отряде заметно сократилось, но еще оставалось значительным. Смерть подстерегала беженцев на каждом шагу. Лабуд с душевной болью смотрел на их нестройную, рваную колонну. Он знал, что стоит ударить морозам или немцам посильнее навалиться на партизан, как положение беженцев станет катастрофическим.
Колонну беженцев замыкало охранение в составе десятка бойцов. Четверо из них несли раненого и производили впечатление траурной процессии. Колонна еще не успела скрыться за поворотом, как на холме появилась еще одна, правда меньшая по размеру, чем первая, но еще более жалкая.
Так продолжалось до вечера. Группами и группками, отделениями и взводами, а иногда и ротами собирался к месту сбора партизанский отряд. Штаб отряда прибыл после обеда и разместился в каменном здании, которое было окружено траншеей с укрепленными огневыми точками и проволочным заграждением. Этот дом принадлежал раньше местному попу, который с началом восстания уехал в город. Сменивший его новый поп примкнул к четникам и сейчас мотался где-то вместе с ними. Здание постепенно было превращено в опорный пункт. Крестьяне обходили этот дом стороной.
Лабуд нашел комиссара в большой комнате с закопченными стенами, хранившими на себе следы всевозможных лозунгов. Все: и партизаны, и четники, и недичевцы, сменявшие друг друга в селе, — оставляли на стенах этой комнаты память о своем пребывании. Посередине комнаты стоял длинный стол, также весь исписанный и исчерченный. По обе стороны стола находились длинные деревянные скамьи.
Комиссар сидел за столом в наброшенной на плечи шинели, подперев подбородок руками, и, казалось, вчитывался в слова, вырезанные ножом на поверхности стола. Рядом с ним лежали автомат, кожаная сумка и подсумок с двумя гранатами.
— Смерть фашизму! — с порога произнес Лабуд партизанское приветствие и поднял на уровень виска сжатый кулак правой руки.
Комиссар медленно поднял голову, протер кулаками глаза и уставился на Лабуда так, будто его появления живым и здоровым он уже не ожидал.
— Свобода народу! — ответил комиссар, быстро поднялся, вышел из-за стола и крепко обнял Лабуда. — Наконец-то мы опять вместе. Как я рад видеть тебя! Теперь весь наш отряд в сборе.
Лабуд чувствовал себя как человек, который после длительного отсутствия вернулся в отчий дом.
— Надеюсь, теперь надолго соединились? — спросил он.
Шумадинец неопределенно пожал плечами.
— Во всяком случае, какое-то время будем вместе, а как будет дальше — не знаю. — Он вынул сигареты, угостил Лабуда и закурил сам. Выпуская дым через нос, комиссар продолжал: — Сейчас ничего не могу сказать наверняка. Ясно лишь одно, что, куда бы мы ни повернули, они идут следом. Мы им как бельмо на глазу, и они спешат от него избавиться. Чтобы им успешнее противостоять, мы решили отряд собрать вместе.
Лабуд задумался.
— Хотя вы уже приняли решение, я все же должен сказать, что не считаю его удачным в создавшейся обстановке. На данный момент, ввиду особо тяжелого положения, отряду было бы лучше действовать мелкими группами.
— Трудно сказать, кто из нас прав. Например, в бою на шоссе под Степоевцем нам очень не хватало твоей роты.
— Как вы оказались под Степоевцем? До него более пятидесяти километров отсюда.
— Нам сообщили из Белграда, что немцы посылают два батальона на Дрину для проведения карательной операции. Мы и решили устроить им засаду. Все прошло как нельзя лучше, жаль только, что у нас не было сил, чтобы уничтожить их полностью. Но те, кто уцелел, долго будут помнить нашу засаду. Опять же четники нам помешали. От Степоевца сюда отряд шел рассредоточенно, подразделениями. Так было безопаснее… За твоей ротой наблюдали постоянно, регулярно получали
донесения. Твои действия одобряем. Правда, мы удивились, когда узнали о бое в Лапове, — это не входило в задачу роты.
— У нас не было иного выхода: на каждого бойца оставалось по пять патронов и ни одной гранаты. И в это время мы узнали, что в Лапово прибывает эшелон с боеприпасами для восточного фронта. Решили рискнуть.
— Немцы объявили по радио, что во время налета на станцию вы понесли большие потери.
— Мы потеряли четырех убитыми и пятерых ранеными. Один из раненых позднее умер, двух раненых оставили на излечение у верных людей. Кстати, должен заметить, что в деревнях с каждым днем все труднее находить у крестьян убежище: боятся четников.
— Что поделаешь, крестьян тоже надо понять. На каждом шагу видишь, как горят их дома.
Лабуд невольно вспомнил пепелище родного дома, и ему даже почудился запах гари.
— Везде одно и то же… У вас были дезертиры? — спросил он, чтобы сменить разговор. — У меня на днях убежали двое.
Комиссар вопросительно посмотрел на него и вялыми движениями руки потер заросший подбородок. Лабуд знал, что комиссар очень тяжело воспринимает такие случаи, но не имел права скрывать от него правду.
— Не удалось поймать? — спросил комиссар.
— Нет. Они убежали ночью, когда вся рота отдыхала, а они находились в карауле.
— Скажи спасибо, что они четников на вас не навели. Сейчас дезертиры редко домой возвращаются, а идут от нас прямо к четникам, надеясь спастись и не ведая, что пули им не миновать. На днях получена директива Окружного комитета партии усилить борьбу с дезертирством, не останавливаясь перед применением крайних мер. Как только люди немного отдохнут, соберем собрание. Обсудим этот вопрос, да и другие важные проблемы имеются.
Комиссар помолчал немного, как бы размышляя над тем, надо ли уточнять, что он имел в виду.
— Ты, вероятно, слышал о том, что сформирована первая пролетарская бригада?
[16] — спросил он Лабуда. — Жалею, что меня там не было. Наше радио передавало, что эта бригада является зародышем будущей армии. Думаю, что и наш отряд со временем превратится в регулярное подразделение, надо только нынешние трудности пережить. Кстати, получен приказ идти в Санджак, но прежде надо уничтожить виадук на Лапаревской высоте.
Лабуд, прижмурив левый глаз, удивленно посмотрел на комиссара.
— Думаешь, будет легко уничтожить этот виадук?
— Конечно, не легко. Но это приказ окружкома.
Лабуд уже пытался однажды самостоятельно, действуя на свой страх и риск, взорвать этот виадук. Но потерпел неудачу и потерял несколько человек. В памяти отчетливо всплыли бункера, окопы, тяжелые минометы, минные поля, проволочные заграждения, по которым был пропущен электрический ток, — так немцы охраняли виадук. Девять мин, выпущенных бойцами Лабуда из легкого миномета, оказались для виадука словно плевки на бетонную стену. А динамита ни в роте, ни в отряде не было.
Комиссар тоже знал о мощной охране виадука. Поэтому вопрос Лабуда заставил его задуматься над этой проблемой еще раз. В это время в комнату вошло несколько человек. Расположившись на скамье, они дружно закурили.
Лабуд настолько глубоко задумался, что едва заметил этих людей. Наконец он пришел к выводу, что виадук можно взорвать, лишь проникнув на него.
— Товарищ комиссар, послушай мое мнение, — начал Лабуд. — Моя рота однажды пыталась уничтожить этот проклятый виадук и больше едва ли захочет…
Комиссар не дал ему договорить:
— Коли ты так напугался, обойдемся без тебя. Не на тебе одном отряд держится.
Лабуд почувствовал, как его прошиб холодный пот.
— Ты не понял меня, — поспешно заговорил он. — Когда я говорил, что моя рота больше не пойдет на виадук, я не имел в виду себя. Ни роте, ни даже целому отряду там делать нечего, кроме как бесславно погибнуть. Голыми руками бетонированные бункера не поднять в воздух. Кроме того, немцы пристреляли там каждую кочку — заяц не проскочит.
— Все это мне хорошо, известно, и тем не менее я считаю, что виадук должен быть взорван. Эта дорога — важная артерия, идущая на восток, и мы обязаны хотя бы на зиму вывести ее из строя.
— Я тоже понимаю значение виадука и поэтому прошу разрешить мне попробовать уничтожить его, но одному, без роты. Мы с Зечевичем не раз об этом думали, но у нас не было взрывчатки.
— О взрывчатке позаботятся товарищи из окружкома. Завтра к вечеру она будет доставлена.
— Тогда, я думаю, все в порядке, и прошу тебя поручить мне это задание. — Голос Лабуда звучал несколько громче, чем ему хотелось бы.
— Ты пойдешь один, без роты? — В голосе комиссара звучало искреннее удивление. — Разве это возможно? Я не понимаю.
— У меня есть план, я все продумал.
В комнате стало тихо.
— Скажи, товарищ Лабуд, — спросил один из тех, что пришли недавно и теперь внимательно слушали разговор комиссара с Лабудом, — ты уверен в успехе? Это же пахнет авантюрой.
Вопрос задал командир Рудничской роты. Две недели назад он был ранен в шею, которая еще была плотно забинтована. Чтобы повернуть голову, ему приходилось поворачиваться всем телом.
— Если у тебя есть план, почему ты до сих пор не осуществил его?
Лабуд насмешливо посмотрел в его сторону и только приготовился ответить, как дверь с шумом отворилась и в комнату стремительно влетела Гордана. Она была без головного убора, вид у нее был очень встревоженный.
— Милан, скорее, они пошли Чарапича расстреливать!
Удивленный неожиданным появлением Горданы, Лабуд не сразу понял смысл ее слов.
— Какого Чарапича?! — воскликнул он.
— У нас в роте всего один Чарапич, а если ты не поспешишь, и его не будет, — ответила она сердито.
Лабуд пулей выскочил из помещения штаба отряда. Несколько человек, и среди них комиссар, устремились было следом за ним, но передумали и вернулись в комнату.
Шумадинец подошел к столу и сел на прежнее место.
— Что, черт возьми, происходит в вашей роте? — нахмурившись, спросил он Гордану. — Ты же секретарь скоевской организации
[17]. Как могла ты позволить такое самоуправство? Я был о тебе лучшего мнения и даже собирался предложить твою кандидатуру на должность комиссара роты.
Гордана смотрела на Шумадинца широко открытыми глазами.
— Что я могла сделать? — сказала она тихим голосом. — Когда я пришла в роту, Чарапичу уже был объявлен приговор, и они не стали меня слушать. А Зечевич даже обвинил меня в том, что я защищаю воров.
— Воров? А что Чарапич украл?
— Он съел пайку хлеба и кашу Славки, пока она была на посту. Когда товарищи ехали его упрекать за это, он вышел из себя и заявил, что ему надоело таскаться с нами и что он собирается перейти к четникам.
— Конечно, это серьезный проступок, и Чарапич, видно, из числа нестойких, колеблющихся. Но все равно, без суда расстреливать человека нельзя. Точно ли установлено, что он съел порцию Славки?
— Да, он сам признал это. Правда, сначала отрицал. Дело в том, что он помогал каптенармусу распределять обед между бойцами и ему было поручено выдать порции тем, кто во время обеда стоял на посту…
Славка Попович осталась в роте после смерти мужа и сына. Это была молодая красивая женщина, которой природа дала все, кроме счастья. Убитая горем, она медленно возвращалась к жизни. Трудности партизанской жизни Славка переносила безропотно. Скромная и спокойная, как большинство молодых крестьянок, она старалась быть незаметной. Часто можно было видеть, как, задумавшись, она смотрела вдаль, словно кого-то ожидала. Когда Лабуд предложил Славке стать санитаркой, она отказалась под предлогом того, что не выносит вида раненых и что должна отомстить за своего мужа и сына.
Свои обязанности Славка выполняла безукоризненно. Она добровольно шла на самые трудные задания, а во время остановок и отдыха первой вызывалась идти в охранение. Это было самое трудное из всех дежурств. Нелегко после трудного перехода, когда все тело ломит от усталости и требует отдыха, идти на пост.
В тот день Славка сменилась с поста после обеда. Она очень замерзла и, вернувшись в роту, сразу приникла к печке. Смертельно хотелось спать, и она чувствовала, как глаза закрываются против ее воли.
— Славка, ты не обедала? — спросил ее Зечевич, который следил за сменой часовых. — Тебе обед оставили.
Зечевич повертел головой, ища глазами Чарапича, который спал в отдалении, накрытый своей белой накидкой.
— Павле, где Славкин обед? — подойдя к Чарапичу и растолкав его, спросил Зечевич.
— Какой сейчас может быть обед? Все давно поели, — сонно ответил Чарапич. — Все, что каптенармус мне оставил, я роздал.
— Не мог каптенармус забыть, сколько у него людей на посту. Я сам напоминал ему об этом. Мне кажется, что ты хитришь.
— Влада, я совсем не голодна, — почувствовав, что может вспыхнуть ссора, негромко произнесла Славка. — Оставь его в покое. Мне бы лишь согреться и поспать.
— Нет, я этого так не оставлю, я выясню, где твоя порция, — ответил Зечевич и отправился искать каптенармуса.
Каптенармус спал в соседней комнате. Влада так громко начал его будить, что бойцы, находившиеся в комнате, испуганные, повскакивали.
— Чего ты кричишь, пожар, что ли? — протирая глаза, сердито спросил каптенармус. — Можно бы и потише. В чем дело?
— Дело в том, товарищ каптенармус, что сам ты поел, а часового оставил голодным. Как тебе не стыдно! Я доложу об этом командиру.
— Ничего не пойму. Или я сплю и не могу уразуметь, о чем ты говоришь, или ты пьян и не знаешь сам, что болтаешь. Ты знаешь, Влада, что я всегда часовым оставляю пищу в первую очередь. Пошли спросим Чарапича, что он с ней сделал.
Пока Влада разговаривал с каптенармусом, Чарапич взял карабин и вышел из помещения. Хотел ли он сбежать совсем или же намеревался отсидеться где-нибудь, пока обстановка в роте не успокоится, никто точно не знал.
Зечевич, обнаружив исчезновение Чарапича, схватил винтовку и выскочил на улицу. Следом за ним бросилось еще несколько бойцов, любителей острых ситуаций. В коридоре они едва не сбили с ног Гордану, которая, заслышав шум, вышла из своей комнаты.
Чарапич был уже довольно далеко. Ему оставалось пройти метров пятьдесят до лесной опушки, но его быстро настигли и взяли в кольцо. Бледный и растерянный, стоял он среди партизан, судорожно сжимая в руках свой карабин.
— Что вам от меня надо?! — закричал он. — Что я вам сделал? Дайте мне уйти, куда я хочу!
— Куда же ты направился, хотел бы я знать? — спросил его один из бойцов.
— А тебе какое дело? — возмутился Чарапич. — Я свободный человек и могу идти, куда хочу.
— Хорошо, мы отпустим тебя, но сначала примешь наказание, которое заслужил, — с трудом сдерживая себя, чтобы не перейти на крик, угрожающе произнес Зечевич. — Коль сумел оставить товарища без обеда, умей и наказание за это принять.
— Не оставлял я никого без обеда, меня оболгали. Я взял лишь то, что мне следовало, — ответил Чарапич нервозно.
— Замолчи, враль! — крикнул подбежавший каптенармус. — Ты украл чужой паек! Разве не тебе я его оставил на сохранение? Надо тебя к комиссару отвести, пусть он сам разберется.
— Что ты пугаешь меня комиссаром? Видел я начальников и повыше. — Глаза Чарапича воровски бегали. Вдруг он взорвался: — Надоело мне голодать, не могу больше, понятно? Не верю я больше в ваши выдумки! Сколько раз комиссар обещав, что до рождества с немцами будет покончено и что придут русские. Вы все врете и живете одной ложью. Русских-то нет никаких. Немцы их столицу взяли. А я жить хочу, можете вы это донять?
На мгновение все остолбенели. Бойцам стало как-то нехорошо от слов Чарапича, а некоторые из них даже отвернулись, словно были в чем-то виноваты. Эти люди были готовы пожертвовать собою ради победы, ради торжества идеи. Но они не питали зла к тем, кто отворачивался от них и уходил из отряда. Они понимали, что не у каждого доставало мужества выдержать тяжелые испытания, добровольно пойти на смерть.
Но Чарапич нарушил одну из заповедей партизан: обокрал своего боевого товарища.
— Не придется тебе жить больше, несчастный! — распаляясь, произнес Зечевич. — Уничтожим тебя, как гниду.
— Не имеете права, — храбрился Чарапич, — без суда не имеете права.
— Ты вор, ты нас опозорил.
— Я больше не хочу быть с вами, с меня хватит.
— Может быть, ты намереваешься вернуться к четникам?
— Это тебя не касается! Захочу — к ним пойду, не захочу — брошу винтовку и вернусь домой. Куда пожелаю, туда и пойду, только с вами, свиньями, больше не хочу оставаться. Сыт я от ваших помоев.
— Э, да ты из тех, по кому веревка плачет! — воскликнул Жика Марич, пробившись через толпу бойцов. — Что вы уговариваете его? Разве не видите, что он рехнулся? На такую сволочь ржавого патрона жалко.
Сразу стало тихо. Все замерли в напряженном ожидании.
— Марич дело говорит, — повернувшись к Зечевичу, сказал каптенармус. — Лучше мы его сейчас шлепнем, чем он потом нас будет из-за угла разить.
— Отберите у него винтовку и свяжите! — приказал Зечевич.
— Винтовку не отдам, она моя! — Чарапич сделал шаг в сторону и угрожающе взял винтовку на изготовку. Но на него навалились со всех сторон и вмиг разоружили.
— Не хочется боевой патрон на тебя тратить, не стоишь ты того! — гневно посмотрел Зечевич на Чарапича.
— Зачем тратить патроны? — крикнул кто-то в толпе. — Такого гада надо вешать!
— Не найдешь добровольцев руки о него марать, — возразил ему боец с перевязанной ладонью.
— Самая легкая смерть — от пули: чирк — и готово.
— Пули побереги для четников.
— Этот ничем не лучше четников. Он обошел все армии, какие есть в нашем государстве. Удивляюсь, почему его к нам приняли.
Пока бойцы рассуждали таким образом, Зечевич смотрел на Чарапича и его стало охватывать сомнение, правильно ли он поступает.
— Слушай, Влада, если надо, я готов отвести его до первого поворота, — предложил один из бойцов, заметив, что Влада заколебался.
— Хорошо, пусть будет так, — отбросив сомнения, решил Зечевич. — Только отведи его подальше от деревни, чтобы народ не говорил, что партизаны убивают друг друга.
В горле у Чарапича вдруг булькнуло, словно он пытался что-то проглотить, и он глухо зарыдал. По его щекам потекли слезы.
Зечевич в последний раз посмотрел на Чарапича и зашагал к школе. Навстречу ему бежала Гордана в расстегнутой куртке и без шапки.
— Влада, ты что делаешь? Разве так можно? Нельзя без разрешения комиссара.
— Все можно, когда надо, Гордана, — ответил Зечевич, — возвращайся назад и занимайся своим делом.
— Смотри, отвечать придется.
— За кого? Черта с два! — Зечевич повернулся к бойцам, которые все еще стояли вокруг Чарапича, и крикнул нервно: — Долго будете возиться? Или вам, интеллигентикам, руки не хочется пачкать?
Один из бойцов снял с Чарапича брючный ремень и завязал ему руки. Павле больше не сопротивлялся. В его глазах заледенел страх. До сих пор ему все казалось, что с ним шутят.
Когда Чарапича повели к лесу, Зечевич продолжил свой путь к школе. На душе у него было неспокойно. «Надо ли расстреливать человека за сто граммов хлеба и ложку постной фасолевой каши? — спрашивал он себя и, немного поколебавшись, ответил: — Надо. Тот, кто сегодня оставил товарища без обеда, завтра может послать ему пулю в спину. С паразитами следует поступать решительно».
Зечевич оглянулся и опять посмотрел на фигуру Павле, которая безвозвратно удалялась, становилась все меньше в сероватом свете позднего дня.
Близился вечер. Ландшафт менял свои дневные краски, и создавалось впечатление, будто все вокруг погружается в бездонную пропасть. Линия горизонта, придавленная низкими облаками, терялась из виду. Несколько бойцов о чем-то спорили около школы. Зечевич миновал их, поднялся по ступенькам крыльца и, когда взялся за ручку двери, услышал глухой звук одиночного выстрела.
Этот выстрел слышал и Лабуд, бежавший со всех ног к лесу.
«Опоздал», — подумал Лабуд, но не остановился, пока не оказался лицом к лицу с Чарапичем. Тот был еще на ногах. По его лицу текла кровь. Когда Лабуд встретился с ним взглядом, ему показалось, что Павле презрительно усмехнулся.
— Кто стрелял?! — крикнул Лабуд. — Я спрашиваю, кто стрелял? — повторил он, словно на данный момент это было самое главное. — Развяжите его, — приказал он.
Боец, который только что произвел злосчастный выстрел, вытащил нож и покорно разрезал ремень, которым были связаны руки Чарапича.
— Бинт есть у кого-нибудь? Быстро позовите санитарку, надо кровь остановить.
Один из бойцов направился к школе. Он не спешил.
— Не надо, Лабуд, — сквозь стиснутые зубы с трудом прошептал Павле. — Так будет лучше… Я не хочу… Дважды не умирают.
Голова Чарапича обессиленно упала на грудь, левая нога подогнулась, он захрипел и ткнулся лицом в снег.
Наступила тишина. Партизаны бесстрастно и равнодушно смотрели на расстрелянного. Кто-то принес лопату, молча разгреб снег, под которым стояла вода, и начал копать могилу. Земля была мягкая.
Лабуд машинально смотрел, как быстро углубляется могила, затем повернулся и пошел назад, к школе, думая о том, что, возможно, рота в последние дни нуждалась в чем-то подобном, вроде этого выстрела. А что, если этот выстрел убил у людей последнюю надежду? Все могло быть. Это был первый случай самосуда не только в роте, но и в отряде, и никто пока не мог предвидеть его последствий. Может быть, он выведет людей из состояния депрессии, которая, как паутина, незаметно опутывала их, или, наоборот, усилит сомнения и колебания.
В роте никто не спал. Бойцы, разбившись на группы, возбужденно переговаривались, вспоминая все прегрешения Чарапича. Уловив по настроению бойцов, что они осуждают Чарапича и категорически отделяют его от себя, Лабуд не стал вмешиваться в их разговор. «Они все понимают как надо, — с удовлетворением подумал он. — Если кликну добровольцев на трудное дело, уверен — все пойдут, как один».
Лабуд незаметно вышел на улицу. Низко над школой плыли темно-серые облака, набрякшие от веды и снега. В углу школьного двора у навеса Космаец колол дрова и складывал их в поленницу. Он выполнял эту работу с явным удовольствием. Ему было жарко, и он снял куртку, оставшись в одной рубашке. Рядом, по другую сторону забора, наблюдая за Космайцем, стоял часовой и время от времени перебрасывался с ним фразами.
— Послушай, парень, зачем тебе столько дров? — с усмешкой спросил часовой. — Не думаешь ли ты здесь зимовать?
Космаец отложил топор и ладонью отбросил прядь волос с мокрого лба.
— Какая зимовка? — Космаец поплевал на ладони и вновь взялся за топор. — Знаешь, как положено у православных: после похорон обязательно бывают поминки. Для того и дрова.
— Богатые ли будут поминки?
— Каков поп — таков и приход. Каков покойничек — таковы и поминки, — ответил Космаец и продолжил свое дело с еще большим усердием.
Лабуд наблюдал за Космайцем и думал о том, почему он так любит этого озорного, всегда веселого и не по годам зрелого юношу. «Как он здорово ему ответил! Каков покойник — таковы и поминки». Лабуду хотелось подойти к Космайцу и обнять его. Всегда при виде Космайца он вспоминал свои юношеские годы, себя в шестнадцать лет.
«Прошлое не вернешь, — думал Лабуд. — Оно быстро забывается. Случай с Чарапичем — тоже уже прошлое. Завтра о нем уже не вспомнят, как не вспоминают о грязи, которую счищают с сапог перед входом в дом».
За одной из школьных парт, вынесенных из школы на улицу, в глубокой задумчивости сидел Влада Зечевич, подперев щеки ладонями. С первых слов разговора с ним Лабуд понял, что Влада считает себя правым и не намерен каяться.
— Поступил так, как требовалось, — не поднимая головы, резко сказал он. — Деморализацию надо пресекать в зародыше, и предателей нечего жалеть. Если мы с тобой станем подлецами, пусть и нас расстреливают.
— А ты уверен, что он был нашим врагом? — спросил Лабуд.
Влада гневно посмотрел на Лабуда.
— Сам знаешь, что тот, кто не верит в нашу победу, — тот наш враг!
— Трудно, да и рано еще говорить о победе. Все видят сейчас, что мы терпим поражение, несем большие потери, отступаем, — сказал Лабуд. Он не намеревался поколебать Зечевича в его взглядах, ему хотелось вызвать его на откровенность. — Должен заметить тебе, — продолжал он, — что даже среди коммунистов некоторые стали терять надежду. Кроме того, на людей неблагоприятно действуют разговоры о том, что отряд на днях должен покинуть этот район. Далеко не все уверены, что им удастся когда-нибудь вернуться назад.
— А ты сам веришь, что вернешься?
— Если бы не верил, остался бы здесь, невзирая ни на что. Мы должны уйти отсюда. Необходимо сохранить отряд. Здесь с каждым днем становится все труднее, а будет еще хуже. Многие этого не могут понять и поэтому начинают сомневаться в правильности действий командования.
— Я не признаю тех, кто колеблется, и не желаю иметь с ними ничего общего. Мы должны освободиться от балласта, сейчас для этого самое время. Видел, наверное, не раз, как фасоль варят. Когда она закипает в котле, наверх выбивается густая пена, которую хозяйка аккуратно собирает поварешкой и выбрасывает. Так и мы должны поступать, чтобы очистить наши ряды. Пусть нас останется меньше, зато мы будем сильнее. Увидишь, что после расстрела Чарапича все колеблющиеся уйдут сами. Даже если их окажется десять человек, мы от этого только выиграем.
Влада долго еще говорил в том же духе, и Лабуд его не прерывал. Он понимал, что Влада нуждался в том, чтобы излить душу, оправдать свой поступок, очистить совесть. В конце концов, Зечевич неплохо тянул лямку войны и не собирался бросать ее на полдороге. Сегодняшним поступком он окончательно определил свое место в этой войне. Кроме того, он перешагнул и через ту межу, которая раньше казалась ему неодолимой, — он покинул жену. Точнее говоря, она порвала с ним. Влада узнал об этом, когда утром пришел в родное село. Он до сих пор еще не преодолел полностью того уныния, в которое его повергло это известие.
— Послушай, Милан, — обратился Влада к Лабуду в надежде, что тот поймет его состояние, — придумай мне какое-нибудь задание, чтобы я ни минуты не оставался больше в этом селе. Пошли туда, откуда мало кто назад возвращается.
Лабуд удивленно посмотрел на него.
— Ничего не понимаю. Все эти дни, что мы блуждаем по Поморавлю, мне казалось, что ты жаждал побывать дома!
— Так оно и было на самом деле. А сейчас хочу уйти отсюда как можно дальше и никогда не возвращаться. Разве ты не слышал, как поступила Елена?
— Нет.
На лице Влады мелькнуло подобие усмешки.
— Она ушла с четниками. Чамчич ее увел.
— Не может быть, это невозможно! — воскликнул Лабуд, пораженный новостью.
— Почему? В такое время всякое случается. Разве мало случаев, когда сын борется в партизанах, а отец у четников? И видят они друг друга только через прорезь прицела. Ну а жена против мужа и подавно может воевать.
Влада не ощущал к жене особой ненависти. Он привык в жизни со многим мириться. Ему казалось, что он легко перенес бы и этот удар, нанесенный в спину, если бы мог понять, что побудило Елену изменить ему с человеком, который смертельно ненавидел его и лишь выискивал удобный момент, чтобы вцепиться мертвой хваткой в его горло. Сейчас, глядя на свою жизнь с Еленой как бы со стороны, Влада подумал о том, что она похожа на встречу двух человек на железнодорожной станции, следующих разными поездами. Подошли поезда, и они поехали в разные стороны. И никто из них еще не знает, какому поезду суждено наскочить на мину и взлететь на воздух.
Лабуд предложил Владе пойти с ним на задание. Зечевич согласился без малейшего раздумья.
— На меня можешь положиться, как на самого себя, — заверил он Лабуда, когда тот изложил ему свой план. — Даже если не найдется других добровольцев, пойдем вдвоем.
Лабуд был рад видеть Зечевича вновь полным сил и уверенности в себе.
— Задание очень опасное. Наверняка можно сказать, что без потерь не обойдемся, — сказал он. — Поэтому будем брать одних добровольцев.
— Для меня лично опасность задания не имеет значения. Сейчас мне безразлично — жизнь ли, смерть ли, — заявил Влада.
— Ну, ты не прав. Я, например, не собираюсь расставаться с жизнью, я ее люблю.
— А кто ее не любит? Дураки и те боятся смерти, не желают умирать. Я говорю о другом: если придется умереть, так надо умереть достойно.
Лабуд расстался с Владой в твердой уверенности, что легко найдет добровольцев, готовых пойти с ним на виадук, тем более что требовалось их немного — человек пять, не более. Это должны были быть люди смелые, бесстрашные. Мысленно перебирая фамилии бойцов, Лабуд с удовлетворением отмечал, что большинство из них таковыми и являются. Однако на фамилии Лолич он запнулся.
Когда наступили трудные времена, Лолич как-то сразу сник. Лабуд пытался ему помочь, но безрезультатно. С лица Пейи не сходила тень страха. Слепой инстинкт самосохранения оказался у него сильнее доводов Лабуда об ответственности, лежавшей на плечах партизан, о необходимости быть готовыми пожертвовать собой ради победы революции.
— Знаешь, Милан, что я тебе скажу, — неожиданно прервал Лолич Лабуда. — Мне кажется, ты сам не веришь в то, что говоришь. — Он помолчал немного, как бы давая Милану время осмыслить услышанное им, и продолжал: — Весь твой план взрыва виадука напоминает приключенческий эпизод из плохого кинофильма. Я убежден, что тебя никто не поддержит, не говоря уже о том, чтобы пойти с тобой на это задание.
Лабуд с яростью посмотрел на него и даже приподнялся с места, словно собирался его ударить, но затем овладел собой.
— Если ты трус, не думай, что все остальные такие же… — несколько повысив голос, ответил Лабуд.
Пейя скупо улыбнулся.
— Я не хотел никого обижать. Можешь кричать на меня, сколько тебе заблагорассудится, я не рассержусь, — произнес он, с трудом выговаривая слова. — Сейчас не то время, чтобы тратить силы на обиды. Но бьюсь об заклад, что выполнить твой замысел нельзя. Это план самоубийства.
— Ты ошибаешься, Пейо. Я не собираюсь умирать. Я хочу жить и бороться.
— Так и живи, черт бы тебя побрал! Не суйся в дела, которые тебя не заставляют делать.
— На виадук я иду добровольно, меня никто не принуждал. И со мной пойдут одни добровольцы.
— Где те ты их найдешь?
— В нашей роте!
— Думаешь, кто-нибудь пойдет с тобой? Или ты забыл о том, что случилось с Чарапичем?
— Все я помню отлично. Поэтому и уверен, что, если надо, моя рота пойдет со мной туда, куда я скажу.
— Может быть, ты думаешь, что и я брошусь за тобой очертя голову?
— Пошел бы и ты, я в этом не сомневаюсь. Только я тебя на сей раз не возьму! Оставайся, живи, черт с тобой. И пусть тебя всю жизнь грызет твоя собственная совесть.
Лабуд резко повернулся и направился в штаб отряда, где должно было состояться партийное собрание. Он был возмущен тем, что приходилось таким людишкам, как Лолич, доказывать очевидные истины.
Самочувствие у Лабуда было неважное. Прошлую ночь он спал плохо. Стоило ему немного забыться, как перед глазами возникало или пепелище родного дома, или предсмертная презрительная усмешка Павле Чарапича, его лицо, пересеченное кровавой полосой. Так он промучился до зари и, когда луна, смотревшая в окно, побледнела, окончательно отказался от попытки заснуть.
Лабуд с детства привык наблюдать зарождение нового дня. Он не помнил случая, когда бы восход солнца заставал его в постели. С непередаваемым наслаждением он ждал появления из-за Космая золотистого веера солнечных лучей и радостно подставлял им свое лицо. Ему нравилось наблюдать за свежим утренним ветерком, пригибавшим посевы и быстро терявшим свою силу в лесной чаще. Его волновало журчание небольших ручейков, протекавших через село. От вида этой первозданной красоты все его существо наполнялось радостным ощущением счастья.
На ветке акации в лучах утреннего солнца прихорашивался скворец, а рядом, на заборе, не обращая на него внимания, грелась кошка. День обещал быть ясным и безветренным, что в начале зимы большая редкость. На полянах еще лежал снег, но с крыш уже начинало капать. Небо было безоблачным, воздух — звонким и чистым. На ясном фоне Космай казался словно нарисованным.
На школьном дворе в две шеренги выстроилась двенадцатая рота. В отряде уже прослышали о том, что Лабуд будет отбирать добровольцев для какого-то важного и опасного задания, поэтому во дворе было много бойцов из других рот, жаждавших посмотреть на храбрецов, готовых сознательно рисковать собственной жизнью.
— Товарищи! — обратился к бойцам своей, роты Лабуд, взобравшись на школьное крыльцо. — Товарищи! — повторил он, сдерживая волнение. — Окружной комитет партии приказал нашему отряду уничтожить виадук на Лапаревской горе. Большинство из вас хорошо знает это сооружение. У многих на строительстве этого моста пострадали родные и близкие. Можно сказать, что виадук построен потом и кровью наших людей, и, конечно, очень жаль уничтожать это творение рук человеческих. Но сегодня виадук несет нам смерть. Через него немцы гонят эшелоны с танками, боеприпасами, снаряжением на восточный фронт, чтобы уничтожать наших русских братьев. По этой железной дороге фашисты перебрасывают войска для борьбы с партизанами, для уничтожения наших сел и деревень. От вашего имени я обещал на партийном собрании, что мы взорвем виадук и выведем из строя железную дорогу. Уверен, что среди вас найдутся люди, готовые добровольно пойти со мной на это задание. Мы — внуки и правнуки героев сербского народа — Косантича Ивана, воеводы Дучи, Янки Катича, Ильи Бирчанина и Карагеоргия Петровича. Они не знали страха, смело шли на врага и громили его. Так будем же и мы достойными наследниками наших великих предков!
Лабуд на мгновение остановился, чтобы перевести дыхание. Он видел обращенные к нему напряженные лица бойцов.
— Товарищи! — продолжал Лабуд. — Я иду первым на это задание и заявляю вам, что без колебаний пожертвую жизнью, чтобы поднять виадук на воздух. Но мне нужны пять помощников, пять добровольцев. Тех, кто готов пойти со мной, кто не страшится умереть за нашу революцию, за ее победу, прошу выйти из строя, сделать на три шага вперед.
Лабуд замолчал и весь подался вперед, словно намеревался взлететь. Мгновения казались ему вечностью. Не может быть, чтобы никто не откликнулся на его призыв! Он переводил взгляд с одного фланга на другой и остановился на середине строя. Вдруг строй качнулся сначала в одну, затем в другую сторону, изогнулся дугой и вновь выпрямился, только сейчас он был на три шага ближе к своему командиру. И к смерти тоже.
Лишь несколько бойцов замешкались и сейчас спешили занять свои места. Лабуд вздохнул с облегчением. Рота оправдала его надежды, он не ошибся в своих бойцах.
— Спасибо вам, товарищи, всем спасибо за единодушие, за преданность нашему общему делу, спасибо за храбрость.
Лабуд спустился с крыльца. Шеренги сломались, и бойцы окружили своего командира.
— Мне требуются пять человек, — обратился он к ним. — Всей роте там нечего делать.
— Товарищ командир, послушай, что я скажу! — крикнул боец Синиша Маркович, пробираясь поближе к Лабуду. — Я родился и вырос на Лапаревской горе и знаю те места как свои пять пальцев. Грех тебе не взять меня. К тому же я сапер. И опыт у меня в таких делах есть. Помнишь, как я заминировал туннель в Рале? Никто не мог к нему подобраться, а я смог.
Лабуд посмотрел на Марковича и задумался на мгновение. Перед ним стоял совсем молоденький паренек, лет семнадцати, не больше, среднего роста, худощавый и светловолосый. Он действительно уже несколько раз участвовал в диверсиях на железной дороге, взрывая составы и мосты. Лабуд не сомневался, что на него можно положиться, и он согласно кивнул.
— Верю, что ты хочешь пойти на задание, — сказал он юноше. — Но хватит ли у тебя сил умереть без звука, если потребуется?
— Подумаешь! Я все могу. Если надо будет умереть, значит, умру, о чем там говорить!
Лабуд улыбнулся. С Марковичем вопрос был решен, тем более что без сапера в этой операции нечего делать. Но с подбором остальных было труднее. Одним Лабуд отказывал сразу, другим обещал, что подумает и ответит позднее.
— Не обижайтесь, товарищи, всех желающих все равно взять не смогу. Вот если первая группа не выполнит задания, тогда сформируем вторую. Кроме того, — шутил Лабуд, — война еще не кончилась, и каждому представится случай отличиться. А жизнь, между прочим, надо беречь. После войны тоже немало дел будет.
— Сколько война продлится, мне не известно, но я знаю, что ты обязан взять меня в свою группу! — крикнула из толпы бойцов Гордана Нешкович.
Партизаны относились к девушке с подчеркнутой уважительностью, и поэтому они расступились перед ней и пропустили к командиру.
— Конечно, санитарку обязательно надо взять, — раздался чей-то голос. — В такой операции всякое может случиться.
Милан был озадачен и смущен. Возможно, впервые он не знал, что ей ответить. Он всегда стремился к тому, чтобы Гордана была в поле его зрения и он мог помочь ей в трудную минуту. Но сейчас он считал, что ей лучше бы остаться в роте.
— Когда ты кликнул добровольцев, я шагнула первая. Ты же сам видел.
— Понимаешь, Гордана, здесь ты больше нужна, — избегая ее взгляда, ответил Лабуд.
— Я одинаково нужна и здесь и там! — Ее глаза блестели, а голос был твердым.
Гордана сделала еще шаг и подошла к Лабуду вплотную. Он ощущал ее взволнованное дыхание на своем лице.
Лабуду вдруг вспомнился тот памятный вечер, когда они притаились в лесу и ждали глубокой ночи, чтобы перейти железную дорогу. Гордана сидела около него, прислонившись головой к его плечу. Их губы непроизвольно сблизились, и они поцеловались. Этот первый поцелуй был плодом большой любви, которая уже захватила их обоих. Лабуд сознавал, сколько беспокойства приносит с собой любовь, но сопротивляться ей у него больше не было сил. Когда его спрашивали: «Разве сейчас время для любви?» — он со смехом отвечал: «Для любви всегда есть время».
— Иди собирайся, — решительно сказал он, обращаясь к Гордане.
Бойцы одобрительно зашумели, соглашаясь с решением командира. Но сам Лабуд через минуту уже жалел о содеянном, о том, что, удовлетворив просьбу Горданы, он подвергает ее жизнь огромной опасности. Насколько Лабуд не жалел себя, настолько бережно он относился к своим подчиненным. Особенно в предстоящей операции, которая была им задумана и успех которой в решающей степени зависел от него самого. Если люди погибнут, а задание не будет выполнено, его не спасет от осуждения товарищей даже собственная смерть. Он знал, куда и зачем он поведет людей, знал, что́ их там ожидает. Назад пути не было. Оставался только один путь — вперед.
О плане операции, кроме комиссара и еще нескольких людей, никто не знал. Потом все, конечно, о нем узнают, но пока было лучше держать все в тайне.
Лабуд направился в штаб отряда, чтобы узнать пароль для получения динамита и мин. Задумавшись, он не заметил, что его догоняет Лолич.
— Однако, Лабуд, ты держишь свое слово, — услышал он сердитый голос Лолича. — Значит, не хочешь брать меня в свою группу, не доверяешь?
— Дело не в том, что я тебе не доверяю, а в том, что ты сам фактически отказался, когда мы с тобой об этом говорили.
— Но я мог передумать.
— Возможно. Но где гарантия, что ты снова не передумаешь, когда обстановка потребует пожертвовать собственной жизнью? — ответил ему Лабуд. Их глаза встретились, и Лабуд понял, что он был несправедлив и незаслуженно обидел Лолича. — Извини, я погорячился, — сказал Лабуд. — Не можем же мы все пойти на это задание. Ты останешься за командира роты до моего возвращения. А сейчас мне надо спешить. Нам понадобится немецкая и, на всякий случай, полицейская форма. Поэтому возвращайся в роту и приготовь нам все это. Кроме того, направь несколько человек в обоз, пусть приведут нам лошадей. Сразу после обеда мы отправимся.
День, с утра солнечный и ясный, к обеду стал хмуриться. Солнце скрылось за громадными облаками, которые вырастали словно из земли. Переодетая в немецкую форму и вооруженная самым лучшим оружием, какое удалось найти, группа Лабуда после обеда покинула расположение роты. Настроение у всех было приподнятое. Они двинулись проселочной дорогой, обходя деревни, чтобы не наткнуться на четников. Лабуд шел впереди и выполнял роль разведчика. Ехали без остановок. Тишина, стоявшая вокруг, не внушала Лабуду доверия. Озадачило его и напутствие комиссара, который на прощание сказал: «Милан, будь осторожен. Мины и динамит привезут немцы. Смотри не наделай глупостей».
К вечеру группа вышла к дому лесника в Дучинском Гае. Дом был полуразрушен и разграблен. Вместо окон и дверей зияли черные дыры, крыша была разобрана. Лабуд приказал коней укрыть в лесу в стороне от дороги, а бойцам расположиться в засаде за холмиком недалеко от дома.
Примерно через час, когда уже стемнело, на дороге послышался шум автомобильного мотора. Партизаны насторожились, готовые к любой неожиданности. Автомобиль медленно приближался, с трудом пробираясь по грязной дороге. Вот он остановился и трижды мигнул фарами. Лабуд вышел из-за укрытия и ответил тремя вспышками карманного фонарика. После этого от автомобиля отделилась женская фигура и направилась в сторону партизан. Когда она подошла на расстояние нескольких шагов, Лабуд направил ей в лицо свет своего фонарика и остолбенел: перед ним стояла его родная сестра, одетая в пальто из немецкого материала защитного цвета и обутая в резиновые сапоги. Не в силах произнести ни слова, Лабуд резко взял девушку за руки и привлек к себе.
— Что это такое, я не на свидание пришла! — возмутилась девушка, пытаясь вырваться из объятий.
— Златия, это же я, — произнес наконец Лабуд, еще сильнее обнимая сестру.
Девушка резким движением освободилась от объятий и заслонила лицо от света ладонью. Она все еще не узнавала брата. С той поры, как они расстались, у Лабуда изменился не только голос, но и весь облик. Он так похудел и осунулся, что даже стал казаться ниже ростом.
— Это же я, Милан, неужели не узнаешь?
Златия смотрела на брата широко раскрытыми от удивления глазами.
— Братец, откуда ты здесь? Мы думали, ты ушел в Боснию.
— Скоро уйдем, но пока здесь еще имеются кое-какие дела.
— Это на тебя похоже. Ты не можешь без дела. Всегда чем-нибудь занят.
— Я ни при чем, такова жизнь. Как видно, ты тоже не сидишь сложа руки.
Златия улыбнулась. Она все еще переживала неожиданную встречу, которая казалась ей фантастичной и невероятной.
— А где мама, ты знаешь? — спросил он. — Я был дома, на селе. Тебе туда лучше не показываться.
— Мне сейчас не до этого, — ответила она. — А за маму не беспокойся. Она занята своим делом, мы своим. Ты себя береги.
— Действительно, каждому свое. — Он вспомнил вчерашний разговор с придурковатым Перой Банковичем и спросил: — Злата, верно ли мне сказали, что ты служишь у немцев?
— Да, Милан, тебе сказали правду, — ответила она с улыбкой. — Разве не видишь, что я прибыла повидаться с тобой на их машине. Ничего не поделаешь, — вздохнула Златия, — выполняю задание Окружного комитета партии. А как бы я хотела быть вместе с вами!
Лабуд еще раз обнял и поцеловал сестру. Теперь он видел, что она уже совсем не такая, какой запомнилась ему в последний раз. Тогда, в шестнадцать лет, она была полной и крепкой, и, когда они в шутку боролись, ему приходилось трудновато, так как она отчаянно сопротивлялась. Сейчас от прежней Златы осталась одна тень.
— Как я счастлив, что ты с нами, — сердечно сказал он сестре.
— Иначе и быть не могло. Сам знаешь, что я всегда думала так же, как и ты. За меня не беспокойся, я сделаю все, чтобы выполнить задание партии.
— Не боишься? Страшно, наверно, жить среди этих зверей?
— Что из того? Сейчас везде страшно. И у вас в отряде тоже.
Она провела кончиками пальцев по его щекам, как бы проверяя, насколько сильно он похудел, и вызвала у него целый ворох воспоминаний об их довоенной жизни.
— Когда увидишь маму, передай, чтобы обо мне не беспокоилась, — сказал Лабуд, прощаясь. — Со мной ничего не случится. Я уверен, что все выдержу и одолею.
У их ног лежали противотанковые мины и ящик с динамитом. Над головами мирно дремали ветви дуба. Они тоже замолчали на минуту. Лабуд чувствовал, что это была их последняя встреча.
— Уже поздно, надо возвращаться, — сказала Златия, поправляя волосы, выбившиеся из-под головного платка. — Бог даст увидимся.
Она шагнула в темноту, обернулась и помахала ему рукой.
Лабуд стоял неподвижно, задумчиво глядя вслед автомобилю, пока его сигнальные огни не скрылись за поворотом.
Времени для раздумий не было, следовало спешить. Вдали раздался гудок паровоза. Лабуд не чувствовал ни усталости, ни страха, только одно внутреннее напряжение. Он снова ехал впереди группы, спешил, и следовавшие за ним бойцы старались не отстать от него. Цель приближалась, но достичь ее было не так просто, как это могло показаться на первый взгляд.
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
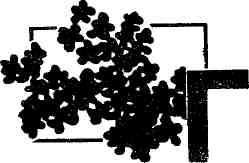
Где-то внизу, под горой, пропел последний вечерний петух. Тявкнула несколько раз собака, и село погрузилось в полную тишину. Свет в домах нигде не зажигали, и окна смотрели на улицу темными, провалившимися глазницами. Даже в корчме было пусто, темно и тихо. На улицах ни души. Лишь время от времени по улице, словно призраки, проходили патрули.
Шумадинец проводил Лабуда до горы Храбрецов, которая подковой опоясывала село с запада, обнялся с ним на прощание и долго смотрел вслед, пока последний конник из группы Лабуда не скрылся в лесу.
Расставшись с Лабудом, Шумадинец загрустил. Ему не хотелось сейчас ни с кем встречаться. Такое с ним иногда случалось.
Весь склон горы Храбрецов был занят старым, запущенным виноградником. Кое-где на голых ветках еще висели забытые гроздья. Шумадинец хорошо знал это место. Здесь, на пологих холмах, разделенных живыми изгородями на мелкие делянки, в августе сорок первого его рота приняла первый бой с немцами. Тогда все было в новинку: и выстрелы, и запах пороха, и свист пуль, и первые раненые, и первые убитые. Сейчас все это стало обычным делом, хотя привыкнуть к войне было невозможно. Сколько времени прошло с той поры, сколько старых товарищей, свидетелей первых боевых успехов, погибло за это время! А сколько людей еще погибнет до конца войны! Вот и с этими
товарищами, которые несколько минут назад скрылись в лесу, возможно, никогда не придется больше встретиться. На то и война, с нее не все возвращаются: кому как суждено.
Шумадинец долго стоял на вершине холма, любуясь панорамой местности. Вдали за селом темнела массивная громада Космая, подернутая туманной дымкой. Слева от села открывался широкий простор холмистой лощины, изрезанной многочисленными оврагами, между которыми располагались возделанные поля и перелески. В этом направлении завтра или послезавтра двинется партизанский отряд в свой далекий путь.
С заходом солнца заметно похолодало, усилился ветер. Снег под ногами начал похрустывать, словно битое стекло. Когда комиссар возвратился в штаб, почти совсем стемнело. В большой комнате поповского дома несколько человек дремало около горячей печки. В углу на соломе в полном снаряжении спали связные. Едва комиссар перешагнул порог, как от печи отделился среднего роста человек и направился ему навстречу. Вместо сапог на ногах у него была намотана мешковина, опутанная веревками. У него было две винтовки — одна за спиной, вторая в руке. На куртке виднелись следы свежей крови.
— Плохо дело, товарищ комиссар, — нервозно начал он, не глядя на Шумадинца. — Четники и недичевцы наваливаются со всех сторон. Слетаются как стервятники к своей добыче.
— Что поделаешь, на то и враг, чтобы мы не дремали, — спокойно ответил комиссар. — Если потребуется, встретим их как надо.
— Легко сказать: «встретим как надо», — прогундосил боец. Это был старший патруля из пятой роты. Патрулю было дано задание разведать путь в направлении Раниловича, куда предполагалось направить партизанский отряд.
— Где вы встретились с четниками? — спросил комиссар, испытующе глядя на бойца.
— Да они везде, товарищ комиссар! Куда ни ступишь ногой — всюду натыкаешься на их бараньи папахи.
Шумадинец расстегнул ремень, бросил его на стол и опустился на скамейку.
— А где другие твои разведчики? — спросил он после небольшой паузы.
Старший патруля сокрушенно развел руками.
— Вот, видишь, — он приподнял винтовку, что была у него в руке, — это все, что от них осталось. Мы попали к четникам едва ли не в самые лапы. Они нас преследовали от самого Ралинского Глоговца. Хотели мы было замести следы, повернув на Венчан, а там четники и недичевцы прочесывали местность. Двинулись к Дрлупе, а там их еще больше. Только мне одному и удалось уйти. Как видишь, всюду, куда бы мы ни направлялись, они нас уже ждали. Сжимают нас со всех сторон, сжимают так, что не шевельнешься.
— Ну раз они нас, то и мы их сожмем, — попытался улыбнуться комиссар, но улыбка не получилась. — Как думаешь, собираются они снова атаковать нас? — спросил он.
— Трудно сказать что-либо определенное. По всей вероятности, готовятся к этому, раз столько войск нагнали.
Доклад разведчика лег камнем на сердце Шумадинца. Он долго расхаживал по комнате, размышляя над сложившейся обстановкой. Хотя он сильно устал, спать ему не хотелось. Несколько раз он выходил на улицу, прислушивался, не слышно ли стрельбы. Больше всего его волновал вопрос о том, не узнали ли четники о плане отхода отряда. Так или иначе у партизан все равно остается лишь два пути: или через лощину, где их уже ждут четники, или через гору Космай, но в этом случае придется оставить на произвол судьбы беженцев. Из двух зол надо было выбрать меньшее.
Комиссар сел на скамейку, устало опустил голову на скрещенные руки и закрыл глаза. «Что делать? — думал он. — Выдержит ли отряд, если четники перейдут в наступление? Или не ждать этого, а заранее сняться с якоря, поднять паруса, и незаметно выскользнуть из мышеловки? Затем дождаться возвращения Лабуда и начать пробиваться в Санджак мелкими группами».
Наиболее сложной была проблема беженцев. С каждым днем они все больше затрудняли деятельность отряда, снижали его маневренность и боевые возможности. Вопрос о беженцах неоднократно обсуждался на партийных собраниях, но единства среди коммунистов не было. Одни считали, что беженцы должны вернуться по домам, другие решительно возражали.
Шумадинец считал своим долгом заботиться о беженцах так же, как и о бойцах: помогал им доставать продовольствие, размещаться на отдых, организовывал их охрану на марше, приказал выделить им одного медика и лекарства. Но он понимал, что эта проблема требует кардинального решения. После долгих и трудных дискуссий ему удалось добиться принятия партийным собранием решения об отправке части беженцев по домам. Но беженцы отказались подчиниться. Они заявили, что готовы терпеливо переносить любые муки, голод и холод, лишь бы не возвращаться к своим разрушенным очагам. У большинства беженцев были близкие родственники среди партизан.
Чтобы окончательно решить этот вопрос, а следовательно, и судьбу всего отряда, Шумадинец распорядился срочно созвать на совещание комиссаров и командиров рот.
В ожидании их Шумадинец стоял у окна, вглядываясь в белеющий снег. «Как-то дела у Лабуда?» — подумал он. По его расчету, группа должна была уже быть на подходе к цели. Комиссар отчетливо представил, как под покровом ночи крадутся партизаны к виадуку по хрустящему снегу.
Дверь в комнату непрерывно открывалась и закрывалась. Через двадцать минут все были в сборе, за исключением Джордже Вишнича, рота которого располагалась дальше всех — в двух километрах от штаба отряда. В полумраке, царившем в комнате, лица людей почти не были видны. Некоторые уже требовали начинать совещание, но Шумадинец не спешил, ожидая прихода Вишнича, которого считал своим единомышленником в вопросе о беженцах.
Вишнич влетел в комнату словно ветер, немного запыхавшись. Было видно, что он очень спешил. Это был еще молодой человек, крепкого сложения, аккуратно и опрятно одетый. Не было случая, чтобы он позволил себе остаться небритым. Даже в самой тяжелой обстановке он находил время следить за своим внешним видом. Такой же опрятности и порядка он требовал от своих бойцов. В нем счастливо сочетались огромная физическая сила и беспредельная храбрость, командирская суровость и отеческая забота о подчиненных. Бойцы роты любили его как родного брата, но и боялись, как строгого старшины. Еще до войны Вишнич прошел хорошую военную подготовку: он служил подофицером в гвардейской части. В партизанах, учитывая его опыт, ему сразу доверили командовать ротой.
Джордже Вишнич был фантазер и мечтатель. Бойцы с удовольствием слушали его рассказы о несуществующих землях или о странах, о которых они раньше ничего не знали. Они удивлялись тому, как много имен писателей, художников и скульпторов упоминал их командир, словно он провел не один день вместе с ними. Джордже любил конные скачки, соревнования, был знаком с футболистами и боксерами. Боксом он даже сам одно время занимался. «Коммунистам я никогда не симпатизировал, — чистосердечно признавался он, — и пришел в партизаны ради мести кровопийцам. После апрельской катастрофы мне, как военному, стыдно было людям в глаза смотреть. Стал избегать друзей и знакомых, временами даже сожалел, что не погиб на войне. Не зря говорят: «Лучше геройская смерть, чем трусливая жизнь». Особенно мерзко себя чувствовал, когда приходилось на улице уступать дорогу оккупантам и их прислужникам. Поэтому, как только услышал о восстании, сразу помчался на Космай. Меня не интересовало, какая партия поднимает восстание, для меня было важно одно: против кого оно направлено. Всякая партия хороша, если она за народ».
Вишнич быстро доказал свою преданность идеалам освободительной борьбы. Хорошее знание военного дела еще больше повышало его авторитет в отряде.
Взяв слово, Шумадинец старался говорить как можно спокойнее. Его слушали внимательно. Собравшиеся знали, что комиссару приходилось работать и за командира, так как Окружной комитет партии так и не выполнил своего обещания прислать замену Аксентичу.
Единственным источником света в компасе был огонь в печке, дверца которой была открыта. Все сидели молча, подавленные тревогой за судьбу беженцев. Неожиданно загорланили полуночные петухи, и люди сразу оживились; кто-то сладко зевнул, словно проспал все совещание.
— Так что же, товарищи, — первым взял слово после комиссара Джордже Вишнич, — а комиссар-то прав. Если сегодня ночью не уйдем, завтра будет поздно. В моей роте боеприпасов осталось по десять патронов на винтовку и по сто — на автомат.
— У других еще хуже. У меня, например, по шесть патронов на винтовку, — поддержал Вишнича голос из угла комнаты.
Комиссару было хорошо известно положение с боеприпасами, но он решительно пресекал предложения отдельных партизан по причине нехватки патронов распустить отряд и прекратить борьбу. На самый крайний случай у него был неприкосновенный запас — три ящика патронов.
— Действительно, с боеприпасами положение тяжелое, — сказал он. — Более того, нам неоткуда ждать помощи, так как немцы заняли город Ужицу, где, как известно, находился наш военный завод. Выход у нас остался один: добывать боеприпасы у противника.
— Как понимать тебя, комиссар? Значит ли, что мы должны остаться здесь и принимать бой четников, чтобы обеспечить себя патронами?! — нетерпеливо воскликнул Вишнич, вскочив со скамейки. — Это же надо совсем головы не иметь!
— Ты что, спал, когда я говорил? — сердито ответил ему комиссар. — Я же ясно разъяснил, что надо немедленно уходить, но для этого следует решить проблему беженцев. Для этого мы и собрались. Если вы согласны со мной, то…
— Послушай, комиссар, а куда же нам уходить, если ты сам сказал, что мы окружены? — крикнул командир четвертой роты Славка Костич, крестьянин из Барнаева.
— Можно выйти из окружения через Космай, — ответил за комиссара Джордже Вишнич. — Это единственная отдушина, которой еще можно воспользоваться. Завтра и ее закроют. Поэтому отправляться надо немедленно.
— А как же мы пойдем через Космай с повозками? В моей роте их девять, да еще две двуколки.
— Придется оставить их здесь. Что-нибудь одно: или воевать, или на повозках разъезжать — выбирай!
— Джордже прав, — поддержал его комиссар. — Рано или поздно, но беженцам придется расходиться по домам. С нами их ждет неминуемая гибель, так как мы больше не в состоянии их защищать.
— Что ты говоришь, комиссар? Разве можем мы бросить свои семьи? Этого ты не дождешься от меня, да и от других тоже, — заявил Славка Костич. — Уходите, если хотите, а моя рота останется здесь и будет пробиваться назад, в родные места. Нам нечего делать в Санджаке, куда ты собираешься нас вести. Мы поднялись на борьбу, чтобы освободить свой край, защитить свои дома и семьи, а не Черногорию и Боснию. Пусть они сами о себе позаботятся:
— Это предательство! — Вишнич вскочил со своего места и шагнул в направлении Костича. — Это прямое предательство!
— Если бы я был предателем, то давно бы перебежал к четникам, — с крестьянской сдержанностью ответил ему Костич.
Рота Костича влилась в отряд в районе Посавины в сентябре. Тогда в ней было свыше ста человек, а сейчас из-за понесенных потерь и по другим причинам в строю осталось менее сорока. Почти все бойцы и командиры роты были из крестьян, поэтому ее так и называли — «крестьянская рота». Бойцы роты хорошо дрались, когда воевали в родных местах, но стоило отряду передислоцироваться, как боеспособность роты заметно падала. В настоящее время в роте господствовало мнение, что в создавшихся условиях избежать полного разгрома можно, лишь распустив отряд до весны. Так считали даже некоторые коммунисты. Почти каждую ночь из роты кто-нибудь исчезал вместе со своей семьей. Правда, потом, как правило, их находили на дорогах мертвыми.
— Всех женщин и стариков надо от отряда отделить, — твердо стоял на своем Джордже. — Они связывают нас по рукам и ногам. Из-за них мы несем неоправданные потери. А если Костичу женина юбка дороже судьбы отряда, пусть отправляется, куда желает. Он и ему подобные только мешают нашей борьбе и революции.
Атмосфера накалялась. Вишнич страстно доказывал свою правоту. Костич недовольно смотрел на него, не зная, что сказать в ответ, и лишь презрительно усмехался. Жизнь приучила его держать язык за зубами. По характеру он был упрямым и редко менял свое мнение.
В самый критический момент спора из темноты раздался голос Лолича. Он говорил от имени двенадцатой роты как ее временный командир. Эта рота была самой сильной в отряде, и с мнением ее представителя нельзя было не считаться.
— Среди беженцев у меня лично нет никого, — начал он развязным тоном, — поэтому мне безразлично, оставите вы их при себе или прогоните. Тем не менее должен сказать, что, по моему мнению, от них надо избавиться. Но я не согласен и с Джордже насчет отступления. Двенадцатая рота не хочет отсюда отступать.
Заявление Лолича вызвало замешательство среди присутствовавших на совещании. Раздались разноречивые возгласы, стало шумно.
— Вы должны принять во внимание, — Лолич начал объяснять причину своего решения, — что Лабуд с группой выполняет ответственное задание. — В действительности Лолич думал лишь о Гордане. — И мы не имеем возможности известить их о том, что уходим отсюда. Следовательно, когда Лабуд вернется, то попадет прямо в руки четников. Поэтому двенадцатая рота до возвращения Лабуда никуда не пойдет.
Большинство было согласно с Лоличем. Люди тешили себя иллюзией, что положение еще не такое опасное, каким оно видится комиссару, и что Вишнич преувеличивает, когда пугает катастрофой. В то время у партизан ни комиссары, ни командиры не имели права единолично принимать решения. Все важные вопросы решались голосованием. Шумадинец был бессилен что-либо изменить, и поэтому ему часто приходилось идти на компромисс, поступать не так, как он считал правильным. Однако сейчас, когда опасность, нависшая над отрядом, была особенно велика, он подумал было о том, чтобы нарушить решение, принятое совещанием, и взять всю ответственность за судьбу отряда на себя. Но, поразмыслив, пришел к выводу, что его действия могут еще больше усложнить ситуацию, вызвать озлобление и расколов отряде, подорвать доверие бойцов и командиров к комиссару отряда. «Будь что будет, — решил он. — Если суждено умереть, надо умереть, сохранив честь и достоинство в глазах товарищей. Но мы так просто не отдадим свои жизни, будем бороться до последней капли крови!»
Шумадинец распорядился принять самые тщательные меры, чтобы подготовиться к круговой обороне. Под покровом темноты роты заняли все подходы к селу, устроили засады, выслали во все стороны разведдозоры и стали ждать появления противника.
Перед рассветом еще больше похолодало. Бойцы сидели съежившись, засунув руки в рукава шинелей и курток. Каждый думал о своем. Многие размышляли о России, о русских. Они слышали из передач радио, что в России стоят сильные морозы, и удивлялись людям, которые живут и воюют в таких условиях.
«Только нас и русских немецким фашистам не удалось одолеть. Всю Европу растоптали, а на нас споткнулись!» — думал Шумадинец. Он был глубоко убежден, что в грандиозной битве победит тот, кто ведет справедливую войну, кто защищает правое дело. Он обходил роту за ротой, внимательно и неторопливо осматривал позиции, перебрасывался короткими репликами с бойцами, отдавал командирам необходимые распоряжения. Снег похрустывал под ногами. Вдали виднелся Космай, вершина которого была окружена туманной дымкой. Лес на его скатах грозно гудел под напором усиливавшегося ветра. Местные крестьяне знали, что так бывает всегда перед переменой погоды. В близлежащих селах стояла тишина. Четники ничем не выдавали своего присутствия, казалось, их совсем здесь не было. Комиссар даже засомневался в правильности своей речи на совещании. Может, он зря поднимал тревогу, может, разведчики пятой роты ошиблись в оценке сил четников и приняли за большой отряд их мелкие группы, имевшие обыкновение рыскать по селам в поисках добычи?
Однако его сомнения продолжались недолго. Со стороны ближнего села, Дрлупы, донеслась длинная пулеметная очередь. Видимо, четники заметили какой-нибудь партизанский дозор и открыли по нему огонь. Патронов они не жалели, это чувствовалось сразу.
Четники обычно стреляли наугад — партизаны открывали огонь лишь по очевидной цели. Ни одного лишнего выстрела, каждая пуля должна была сделать свое дело — таков был непреложный закон партизанской войны. За короткое лето и долгую дождливую осень партизаны неплохо научились драться, научились и побеждать, и переносить поражения. Все имеет свои причины, подчиняется своим законам — и победы, и поражения. На войне не бывает, чтобы все было гладко. Но на сей раз Шумадинец был уверен, что позиция отряда выбрана наилучшим образом. Если бы были в достатке боеприпасы, здесь один взвод мог задержать и уничтожить целый батальон.
Двенадцатая рота разместилась в промоине выше дороги. Перед ней возвышались отвесные скалы, в разрыве между которыми пролегала извилистая щебеночная дорога. Именно оттуда грозила наибольшая опасность — в любую минуту здесь могла появиться немецкая механизированная пехота. Надо было что-то срочно предпринять, чтобы закрыть противнику путь.
Подумав, Шумадинец решил перекопать дорогу канавой, а наверху, на скалах, создать запас камней, чтобы в нужную минуту столкнуть их вниз. Разве не так дрались сербы против турок? Каменная лавина грозное оружие в горах, пожалуй, опаснее гранаты и пули, так как от нее некуда ни укрыться, ни убежать.
«Если Лабуд взорвет виадук, — размышлял Шумадинец, — фашисты бросятся его преследовать. Следовательно, их надо достойно встретить. Для этого лучшего места, чем это, — не найти». И он приказал двенадцатой роте осуществить его замысел.
Место для засады было выбрано там, где почти отвесная крутая скала прижимала дорогу к самому краю глубокой пропасти. В расщелинах скалы можно было удобно расположить огневые точки.
Чтобы ускорить оборудование засады, комиссар перебросил сюда два взвода из роты Вишнича, но этого оказалось мало — было очевидно, что к утру засада не будет готова. Тогда комиссар, взяв с собой нескольких бойцов, отправился в ближайшее село за помощью, и уже через полчаса оттуда начали подходить крестьяне с кирками, ломами, лопатами.
Темп работ сразу возрос. Одна группа бойцов и крестьян перекапывала дорогу глубокой поперечной канавой, другая возводила на уступе скалы длинную стену из крупных камней, которые в нужный момент должны были рухнуть вниз, на головы вражеских солдат.
Шумадинец трудился вместе с «каменщиками». Время от времени он останавливался и всматривался в сторону Лапаревской высоты, где находился виадук. Но там все было неподвижно и тихо. В голову комиссара лезли тревожные мысли. Он пытался представить себе действия группы Лабуда, и перед его глазами возникала картина мощного взрыва, взметающего ввысь бетон и железо. В противном случае придется посылать новых людей, если не весь отряд, чтобы выполнить приказ Окружного комитета о выводе виадука из строя.
— Какая тишина, словно нет никакой войны, — прервал его мысли подошедший Лолич. — Что-то Лабуд не дает о себе долго знать, не случилось ли чего?
Шумадинец пожал плечами.
— До рассвета еще часа два, — как можно спокойнее произнес он и вновь принялся таскать камни.
А стена между тем быстро росла и в длину и в высоту. Глядя на нее, комиссар радовался, как ребенок, которому удалось своими руками соорудить что-то интересное и трудное. Будет, чем фашистов угостить!
Когда стена была готова, комиссар распорядился разбить крестьян на десятки и на каждую группу выделить по одному бойцу в качестве старшего. Задача десяток состояла в том, чтобы по команде столкнуть каменную стену вниз, когда немцы будут вынуждены остановиться перед канавой на дороге.
С приближением рассвета беспокойство все больше охватывало не только крестьян, но и бойцов. Некоторые, правда, храбрились и даже пытались шутить, а то и песню затянуть. Но шутки выглядели надуманными, невеселыми, а песни никто не подхватывал, и они обрывались сами собой. Ночь понемногу отступала, мрак развеивался, постепенно начала вырисовываться ломаная линия горизонта. В это время, словно раскат далекого грома, ухнул мощный взрыв на Лапаревской высоте. Небо над высотой прорезала яркая вспышка красного света. Бойцы повскакали со своих мест и зашумели.
— Ура-а-а! — кричал ошарашенный Космаец, перебегая от одного бойца к другому. Он бросался на них с разбегу, обнимал, стискивал своими тонкими, словно веточки, руками. — Я был уверен, — возбужденно говорил Космаец, — что они вернутся не с пустыми руками. Стоит нашему Лабуду что-нибудь задумать — обязательно осуществит.
Космаец едва не столкнулся с комиссаром отряда.
— Никак и меня хочешь обнять, юноша? Ну что ж, давай! — И впервые за эти дни Космаец увидел глаза комиссара веселыми.
Комиссар протянул руки к юноше и крепко прижал его к своей груди.
— Товарищ комиссар, вернутся они, как ты считаешь? Ведь среди них мой друг. Я очень хочу, чтобы все возвратились невредимыми.
— Мы все этого хотим, — ответил комиссар и, прищурив глаза, посмотрел в сторону Лапаревской высоты. — Да и почему бы им не вернуться? С ними Лабуд, а он умеет беречь не только свою голову. Чужие жизни он бережет даже больше, чем собственную.
Сказав это, Шумадинец про себя подумал, что сейчас судьба Лабуда и группы зависела не столько от них, сколько от сложившейся в районе виадука обстановки.
— Как только Лабуд вернется, мы уйдем отсюда? — тихо спросил Космаец.
— Разве ты так хочешь покинуть родной край?
— А почему бы нет? Многие ведь уходят. Кроме того, интересно повидать, как живут в других местах. Говорят, Босния очень красива.
Космаец чувствовал себя окрыленным. Все вокруг казалось ему прекрасным. Он наслаждался видом первого снега, укрывшего вчера еще грязные дороги и тропинки. С восторгом и гордостью думал он о товарищах, взорвавших виадук.
После взрыва на Лапаревской высоте вся округа ожила. В близлежащих селах поднялась ружейно-пулеметная стрельба. Тихо было лишь на Космае и на горе Храбрецов. Создавалось впечатление, что четники как бы подсказывали партизанам выход из окружения. Но в действительности пойти этим путем означало попасть в ловушку. Всего в пяти-шести километрах от горы Храбрецов, в Сопоте, располагался немецкий гарнизон. Небольшой по численности, но хорошо вооруженный, он наглухо закрывал партизанам путь в этом направлении. Что касается прохода через Космай, то, по данным партизанской разведки, он был перекрыт крупными силами четников. Пробиться здесь было очень трудно, если не невозможно.
С каждой минутой обстановка становилась яснее и тревожнее. К рассвету все уже знали, что Венчан, Ранилович и Дрлупу занимают четники; Дучин и Иванчу — недичевцы. Ожидаемого ранним утром нападения противника почему-то не последовало: видимо, он готовился как никогда тщательно. Его замысел был очевиден — не выпускать из окружения партизанский отряд, уничтожить его полностью.
Перед восходом солнца комиссар вновь начал обходить боевые позиции рот. Все подразделения были в состоянии полной боевой готовности. У бойцов, как говорится, чесались руки. Но пока, кроме стычек патрулей, нигде ничего не отмечалось. И снова Шумадинец возвращался мыслями к трудному положению отряда. Особенно его беспокоила судьба беженцев. Всю ночь он ломал голову над этой проблемой, но так ничего и не придумал.
Шумадинец так глубоко задумался, что не сразу услышал шум моторов грузовиков. Через мгновение наблюдатель доложил, что видит на дороге три грузовых автомобиля. Бойцы поспешно заняли огневые позиции. Они хорошо знали свои задачи в предстоящем бою. Все с нетерпением всматривались в ленту дороги, напряженно прислушивались. Оружие было взято на изготовку, пальцы лежали на спусковых крючках винтовок и автоматов. На снегу поблескивали желтой медью капсюли для бомб. Шумадинец последний раз прошелся по позиции, напоминая бойцам: «Без сигнала не начинать», и в несколько прыжков забрался на вершину скалы. Здесь были огневые позиции двух пулеметов — тяжелого и ручного. Стволы пулеметов смотрели прямо на дорогу, которая была видна на протяжении метров двухсот. Немного запыхавшись от быстрого подъема, комиссар лег за ствол толстого бука.
— Цели выбирайте основные, бейте длинными очередями, патронов не жалейте. Возьмем их у немцев, сколько потребуется, — поучал он пулеметчиков. В одной руке комиссар сжимал карабин, в другой — бомбу. Сердце его билось учащенно.
Грузовики двигались, словно на волнах, то появлялись, на возвышениях, то пропадали в низинах. Перевалив последний гребень, они пошли под уклон и заметно прибавили скорость. Наконец первый грузовик показался из-за поворота. Комиссар почувствовал, что лоб у него покрылся испариной. Раздался резкий скрип тормозов, и первый грузовик остановился у самого края канавы, перерезавшей дорогу. Немцы повскакали со своих мест и насторожились, почуяв опасность. От них до комиссара было каких-то тридцать метров. Он хорошо различал их перепуганные лица, напряженные, опасливые взгляды.
Комиссар одним движением приподнялся с земли и выпрямился в полный рост. Он совсем не чувствовал тяжести бомбы в руке, когда размахивался, чтобы бросить ее вниз. Бомба попала в кузов первого грузовика и взорвалась. В мгновение ока все вокруг заговорило голосами смерти. Взрывы бомб и гранат, хлопки винтовочных выстрелов, сердитый стук пулеметов — все это смешалось с грохотом падающих камеей. Каменная лавина оказалась настолько мощной, что в течение минуты наполовину завалила грузовики. Немногие уцелевшие немецкие солдаты метались, словно волки, попавшие в западню. Но их положение было безвыходным. Когда нескольким солдатам из первого грузовика удалось добраться до канавы на дороге, они были сразу же раздавлены и засыпаны падающими сверху камнями. Немцы, подбегавшие к краю дороги, падали в пропасть, сраженные пулями. На уничтожение всей группы фашистов ушло столько времени, за которое не выкуришь даже полсигареты. Трупы убитых валялись на каждом шагу. Как только стрельба прекратилась, крестьяне, участвовавшие в засаде, спустились на дорогу и начали стаскивать с убитых фашистов обмундирование и обувь, опоражнивали их ранцы, забирали оружие и боеприпасы. Этими трофеями они намеревались хотя бы частично компенсировать поборы фашистов в селах. Поэтому, когда Лолич потребовал у нескольких парней отдать бойцам трофейное оружие, те возмутились:
— Ты что же, приятель? Думаешь, мы напрасно торчали здесь всю ночь? Это оружие наше. Мы его честно заслужили и никому не отдадим до самой смерти.
В основном это были молодые парни, лет по двадцати. Под влиянием легкой победы они тут же заявили о своем желании присоединиться к партизанам. Их односельчане постарше, кажется, не одобряли решения молодежи, но промолчали, понимая бесполезность споров в такой обстановке.
Шумадинец приказал поторопиться со сбором трофеев и вновь занять огневые позиции. А трофеев было как никогда много. В каждом из грузовиков нашлось по десятку ящиков с боеприпасами. Это было как раз то, в чем партизаны испытывали постоянную нужду.
Захваченные у немцев грузовики подожгли. Черный дым затянул ущелье, словно густой туман.
Отдав необходимые распоряжения, комиссар отошел в сторону и присел на камень. Он вдруг почувствовал сильную усталость, будто весь день провел за плугом. Шумадинец не любил смотреть на убитых. Неторопливо покуривая и расслабившись, он прислонился спиной к каменной стене и прикрыл глаза.
Однако отдыхать ему пришлось недолго. На противоположном конце села вспыхнула яростная перестрелка. Комиссар вскочил, взял с собой один из взводов роты Вишнича и поспешил к месту боя. Они успели вовремя и помогли четвертой роте отбить атаку четников. Но через полчаса атака возобновилась, теперь уже в другом месте. Четники действовали очень напористо и заняли две высоты, где немедленно установили по пулемету и открыли огонь по селу. Стоявшие на окраине села стога соломы и сена загорелись. Огонь перекинулся на близлежащие дома и постройки.
Пожар послужил для беженцев сигналом отхода. Возбужденные и напуганные стрельбой, они поспешно запрягли телеги и коляски и двинулись в сторону Космая. Село быстро пустело. Густые клубы дыма плавали между домами, усиливая нервозность и страх у тех, кто еще не ушел.
На выходе из села движение колонны беженцев вдруг застопорилось. Многие поспешили вперед, чтобы выяснить причину задержки. Оказалось, что головная повозка провалилась в яму, заполненную под тонким слоем льда густой, липкой грязью. Две тощие коровенки, впряженные в повозку, были бессильны стронуть повозку с места. Грязь доходила коровам до колен. Рядом с повозкой стоял и молча глотал слезы маленький, щуплый мальчик лет десяти. Здесь же суетилась женщина средних лет, без обуви, в одних шерстяных чулках, повязанная ситцевым платком. Подол ее суконной юбки с одной стороны был заткнут за пояс. Сзади между тем напирали все сильнее. Несколько женщин, понукая коров криком и ругательствами, пытались заставить их сдвинуться с места, но безрезультатно. Тогда кто-то крикнул, что повозку надо сбросить с дороги. Подхватив этот призыв, женщины набросились на повозку и стали торопливо сбрасывать с нее все подряд. Мальчик, видя, как в канаву полетели ящики и мешки, заплакал еще сильнее. Обезумевшая от горя хозяйка повозки вдруг схватила обеими руками топор и бросилась на толпу.
Шумадинец, сопровождаемый несколькими бойцами, появился в самый критический момент. Он начал было наводить порядок, но это было нелегким делом. Его появление словно подлило масла в огонь. Отчаявшиеся, озлобленные женщины оставили в покое застрявшую повозку и набросились на комиссара. Гневно взметнулись вверх сжатые кулаки, послышались ругательства. Шумадинец попытался было воззвать к совести и благоразумию женщин, но ему рта не дали раскрыть. Посыпались обвинения, словно он один был в ответе за то, что идет такая тяжелая война, что люди, оставив дома, скитаются по белу свету, не зная, к какому берегу пристать, куда направить свой путь.
— Хватит, наслушались мы твоих басен, теперь послушай нас! — крикнула в полный голос молодая женщина с младенцем, привязанным за спиной. — И не затыкай нам рот! Подумаешь, какой умник! Коли ты все знаешь, скажи, куда нам теперь деваться? Куда вы собираетесь нас вести?
— А я хотел вас спросить, куда вы направились?
— Мы идем вместе с вами, ты это хорошо знаешь. Вы же обещали народу, что закончите войну к зиме, а мы, глупые, поверили, пошли за вами. Теперь вы думаете лишь о том, как бы улизнуть, а нас бросить на произвол судьбы. В Боснии надеетесь спасти свои шкуры? Только запомните: если вы нас оставите, то и наши мужья останутся здесь, с нами. Они не такие дураки, как вы о них думаете. Им в Боснии нечего делать. Они должны охранять свой родной край, свои дома, свои семьи.
— Ваши мужья, где бы они ни воевали, сражаются за свой родной край, защищают свои дома и свои семьи.
Женщина с ребенком подошла к комиссару совсем близко и положила руку ему на плечо. Лицо комиссара невольно растянулось в улыбке, когда он посмотрел женщине в глаза. Они были прекрасны, а слезы придавали им еще большее очарование. Гнев комиссара как рукой сняло, и он на время даже отключился от реальной обстановки. Ему казалось невозможным сердиться на такую женщину, и он почти не слушал, о чем она ему говорила. Вдруг женщина рухнула перед ним на колени, сложив руки, словно перед иконой.
— Что вы, встаньте, — смутился комиссар и, протянув руку, помог женщине подняться.
— Комиссар, богом прошу, отпусти моего мужа домой, — начала женщина, с трудом прерывая рыдания. — Вы без него обойдетесь, а я нет. У вас вон сколько людей, а он у меня один. С ним я бы домой возвратилась, а без него мне некуда идти.
Комиссар растерялся. От слов женщины, произнесенных с глубокой тоской и болью, у него мурашки побежали по телу.
— Нет, то, что вы просите, невозможно, — наконец решительно произнес комиссар каким-то незнакомым для него самого голосом. — Мы не имеем права никого отпускать. У нас не добровольная пожарная команда, а армия, войско. Понимаешь? А для вас дальнейшее пребывание с отрядом стало опасным, более того, катастрофичным. Вам надо возвращаться по домам. И как можно быстрее, немедленно.
— Куда же мы пойдем, некуда нам возвращаться! — воскликнула владелица повозки, оторвавшись от сбора своих разбросанных пожитков. — Ты же знаешь, что наше село немцы спалили, а имущество разграбили. Ничего не оставили, ни одной животинки. Скоро рождество, а мы еще не сеяли. Всю осень семена с собой возим, съели уже почти все. С чем домой-то возвращаться, если даже хлеба не будет?
— Нам тоже нечем вас содержать. Мы уходим в горные районы, где не только хлеба — воды нет. Там вас ждет голодная смерть. Война не скоро кончится, теперь это яснее ясного. Нам предстоит далекий и трудный путь, и не известно, кто его выдержит. Одно очевидно — женщинам, старикам, детям такой жизни не вынести. В этой обстановке вам лучше всего покинуть отряд и поискать себе кров в селах, пока настоящие морозы не ударили. Подумайте, женщины, над тем, что я вам говорю.
— Нет, мы не согласны. Мы пойдем вместе с мужьями! — крикнули из толпы женщин. — Как они будут жить без нас? Мой наверняка без меня пропадет. Он даже поросенка на базаре продать не может. Без меня он ничего не стоит. Вам от него пользы, что от яловой коровы молока.
— Что ты мелешь, Смиляна, зачем наговариваешь напраслину на своего мужика? — обидевшись за мужской род, вступил в разговор высокий худой старик с густыми белыми бровями. — Он не хуже других и, как все, обязан воевать, здесь уж ничего не поделаешь.
— Был обязан, когда у нас имелась своя держава, а теперь ее нет, значит, и служить некому, — возразила старику Смиляна.
— Как это нет у нас державы? Куда же она делась?
— В Англию подалась, вот куда!
— Если король уехал в Англию, это не значит, что у нас больше не стало государства. Держава — это народ, а не король. Народ же должен сам себя защищать. Так ведется испокон веков. И всегда было так, что мужчины воюют, а женщины ведут хозяйство. Теперь все стало шиворот-навыворот. Это непорядок. Поэтому я и говорю: пусть мои сыновья воюют, я им мешать не стану. И вам скажу: не имею права просить у комиссара того, что вы хотите.
Женщины сразу угомонились. Ни у кого не нашлось смелости возразить старику. Сербки уважают мужскую седину, глубокие морщины и веское мужское слово, особенно слово. Вообще мужчина для сербки — авторитет. Так уж повелось исстари.
— Допустим, комиссар послушается ваших глупых советов и отпустит ваших мужей по домам, — сердито продолжал старик. — Что вы будете с ними делать? Где спрячете их от четников и немцев? Всем ведь известно, где они были. А сейчас и не за такие дела рубят сербские головы.
— Они и нас перебьют, если мы вернемся домой, — сказала женщина в желтом кожухе.
— Это как бог даст. Ваша вина невелика. Вы ни в кого не стреляли, а убежали из села, потому что его сожгли. — Старик помолчал немного. Его брови почти сомкнулись на переносице, глаза смотрели строго. — То, что мы делаем сейчас, — непорядок. Мы мешаем нашему войску. Без нас им было бы легче воевать, да и вражеской нечисти они уничтожили бы больше. Для любой армии такой обоз, как наш, смерти подобен. А для нашей в ее нынешнем состоянии — тем более. Этой ночью я говорил со своими сынами, да и с вашими мужьями тоже. Большинство за то, чтобы мы развязали отряду руки. Поэтому я решил вернуться домой. И вам советую поступить так же. Надо подождать денек-другой, укрыться пока в местных деревнях, а потом отправляться назад, к себе, дети мои. Вот вам мое слово, а поступайте так, как сами считаете нужным.
Все молчали, словно в молчании можно было найти спасение. Со стариком никто не спорил, хотя мало кто был с ним согласен. Тишина держалась несколько минут, затем снова поднялся гам. К этому времени подошли бойцы из резерва отряда, они быстро вытащили застрявшую повозку, которая, не ожидая остальных, двинулась дальше, к Космаю. Несколько женщин повернули свои повозки назад, в деревню. Пять-шесть других женщин, в основном девушки, еще не обремененные ни семейными обязанностями, ни детьми, побросали свои узлы с пожитками и пошли с партизанами. Женщина с младенцем за спиной села на обочину и запричитала без слез, выражая накипевшую боль и тоску. Комиссару она сказала, что будет сидеть здесь, пока не умрет, и что он ответит перед богом за ее смерть. Несколько старух, одетых во все черное, затянули жалобную песню, словно на похоронах.
После полудня четники усилили атаки. Наступая с нескольких сторон, они вынудили партизан отходить и вскоре заняли полсела. Стреляли повсюду. С колокольни непрестанно вел огонь пулемет партизан. Комиссар видел, как он посек группу четников, попытавшихся прорваться к центру. Одновременно комиссар обнаружил, что с другой стороны приближается новая группа вражеских солдат. Сколотив из связных, обозных, остатков штаба и резерва группу, комиссар устроил засаду и ударил по четникам с фланга. Ему на помощь неожиданно пришли бойцы «крестьянской роты». Четники, застигнутые врасплох, разбежались, оставляя на снегу убитых и раненых.
Когда четники выдохлись и затихли, комиссар приказал захоронить погибших бойцов: партизан даже мертвым не должен попадать в плен. Бойцы торопливо рыли могилу. Каждую минуту можно было ожидать новой атаки, но на сей раз четники почему-то медлили. Партизаны, не теряя времени, восстанавливали в своих рядах порядок, оборудовали новые позиции, словом, собирались с силами.
Между тем приближался спасительный вечер. Комиссар очень рассчитывал на него. Уставший и грязный, он прислонился к какому-то забору и на прикладе карабина писал распоряжения командирам рот. Около него сидели и лежали связные в ожидании приказаний. Отправив последнего связного, комиссар направился к небольшому ветхому домишке, куда снесли раненых. Вдруг он остановился как вкопанный: прямо на него шел Лабуд. От нахлынувшей радости у комиссара захватило дух. В пылу боя он совсем забыл про группу Лабуда.
Лабуда было трудно узнать. За одну ночь он постарел на несколько лет. На лбу и под глазами появились морщины, щеки ввалились, подбородок заострился, нос вытянулся, на заросшем, небритом лице стал заметнее рубец от старой раны. Но глаза у Лабуда были веселыми. Несколько мгновений они молча смотрели друг на друга.
— Товарищ комиссар, — начал Лабуд усталым, сиплым голосом, — приказание Окружного комитета партии выполнено. Виадук больше не существует.
— Слышали, все слышали! — Комиссар крепко обнял Лабуда. — Спасибо вам всем. Мы очень о вас беспокоились.
— Сделали все, что было в наших силах.
Шумадинец хотел было что-то спросить, но передумал и промолчал. Однако Лабуд понял его.
— Ничего не поделаешь, на войне без жертв не обходится, — печально сказал он. — Синиша Маркович погиб на самом виадуке, а Марича потеряли уже на обратном пути — на полицаев наскочили. Сейчас всюду или немцы или полицаи. В Сопот прибыл немецкий пехотный батальон с двумя танками. В любую минуту они могут перекрыть нам последний выход из этой мышеловки. Ты должен был вывести отряд отсюда еще ночью. Не понимаю, чего ты ждал?
— Куда, черт возьми, выводить-то? — рассердился было комиссар, но быстро взял себя в руки. — Мы обсуждали этот вопрос на совещании, и голоса разделились. Большинство высказалось за то, чтобы ждать твоего возвращения и, если потребуется, принять бой.
— Послушай меня, комиссар. До тех пор, пока все вопросы мы будем решать голосованием, толку не будет. Ты избран комиссаром, у тебя власть, в обстановке ты разбираешься лучше, чем остальные, следовательно, и поступай так, как считаешь нужным. Вы, комиссары, чрезмерно демократичны.
— Возможно, ты прав. Но так уж повелось: вы, командиры, действуете силой приказа, а мы, комиссары, — силой убеждения.
— Но в данный момент ты одновременно и комиссар и командир. Не забывай об этом. От тебя сейчас зависит многое, если не все.
На противоположном конце деревни снова началась редкая стрельба, и комиссар прислушался, пытаясь понять, что там происходит.
— Что было, то прошло, — сказал комиссар, возвращаясь к прерванному разговору. — Ночью я много размышлял о наших делах и решил, что сразу после твоего возвращения созову партийное собрание и предложу твою кандидатуру на пост командира отряда. Не вздумай отказываться. Мы не можем больше ждать, пока Окружной комитет пришлет нам командира. Да и лучшего, чем ты, он едва ли найдет.
Лабуд нервно курил сигарету, делая частые затяжки. На его губах блуждала смущенная улыбка. Как и многие люди, он не был лишен честолюбия, но не сознавал этого.
— Не знаю, комиссар, тебе виднее. Если ты считаешь, что я потяну такой воз…
— Знаешь, как старики говорят: лучше идти правильным путем с плохим полководцем, чем плутать с гениальным.
Оба дружно рассмеялись.
— Так или иначе, — продолжал комиссар, — но ты служил в кадровой армии. Конечно, чин сержанта, который ты имел, не звание полковника, но все-таки кое-что ты в армии узнал. Здесь в отряде ты уже много месяцев командуешь ротой. Люди тебе верят. А сейчас, сам видишь, насколько нам трудно. Отряд находится на краю гибели, и его дальнейшая судьба в наших руках. Я уже принял некоторые меры: несмотря на многочисленные возражения и протесты, освободил отряд от беженцев.
— Куда же они подевались?
— Мы договорились, что они расходятся по своим домам. — Голос у комиссара был не очень уверенный. — Взять их с собой в Санджак мы не имеем никакой возможности. Да они этот путь не выдержали бы.
Они помолчали. Лабуд вытащил из кармана табакерку и начал сворачивать цигарку из газетной бумаги.
— Где достаешь такой душистый табак? — спросил комиссар.
— Пока у немцев есть, будет и у меня. — Лабуд протянул ему табакерку и вернулся к разговору о беженцах. — Ты правильно поступил. Слышал местную поговорку: «Кто в Санджак пешком не ходил, тот мук не видал»? Мы, мужчины, не все до него доберемся, а женщины, дети и подавно. Однако и здесь им будет не сладко. Если они попадутся в руки четников, те их не пощадят.
— Не знаю, Лабуд, не знаю. Может быть, меня за это когда-нибудь будут судить, из партии исключат, скажут, что я совершил преступление, но пойми: в данный момент у нас нет другого выхода. Нам остается или взять с собой беженцев и погибнуть вместе с ними, или освободиться от
них и спасти отряд.
— Что ты передо мной оправдываешься? Я-то все понимаю, а вот поймут ли бойцы, у которых среди беженцев имеются родные, не знаю. Некоторые из них могут перебежать на сторону четников, не исключено.
— Думал я обо всем этом. — Комиссар прикурил от зажигалки Лабуда и глубоко затянулся табачным дымом. — Заранее могу сказать, что мы лишимся двух-трех десятков бойцов, но отряд, костяк отряда спасем. Вспомни, как начинали мы летом, с чего? Сначала нас было немногим более двадцати человек, а через несколько дней отряд насчитывал свыше тысячи человек! Поэтому, если сейчас сохраним главные силы отряда, то будущей весной он станет бригадой. Наши песни слышны будут не только на Космае, но и во всей Шумадии, во всей стране, да что там говорить — во всем мире, увидишь.
Лабуд одобрительно смотрел на комиссара.
— Я в этом никогда не сомневался. Надо лишь выдержать, пока придут русские. Тогда дела пойдут по-другому.
— Конечно. Погоним фашистов и в хвост и в гриву.
— Придет тот день. Не так он и далек. Слышал, как русские перемалывают немецкие кости под Москвой?
Начинало смеркаться. Первым пропали из виду вершины далеких гор. Затем серая туманная мгла стала окутывать близлежащие скалы, укрывая от взоров людей их первозданную красоту и величавость. День таял, растворялся, словно весенний снег под воздействием теплого южного ветра. Окуталась туманом и вершина Космая. Облака, целый день висевшие над землей, сгустились и разразились снегом с дождем. Все вокруг стало покрываться белой пеленой. Четники прекратили атаки, и партизаны в полном порядке, без суматохи, оставляли свои позиции и небольшими колоннами следовали в направлении горы Храбрецов, а оттуда на Космай.
Бойцы роты Лабуда ежились от холода, который своими невидимыми иголками легко проникал сквозь одежду. После боя, в ожидании своего командира, они разложили костры и занялись приготовлением ужина. Разговоров почти не было слышно. Люди то и дело с тревогой смотрели в сторону Лапаревской высоты. Какова же была их радость, когда появились Лабуд, Гордана и Зечевич. Бойцы оставили свои места у костров и окружили их плотным кольцом. Вопросам не было конца. Но многие вопросы оставались без ответа. Людям, вернувшимся из когтей смерти, не хотелось снова переживать тяжелые мгновения. Поэтому они или отмалчивались, или отнекивались. Бойцы понимали состояние товарищей и не обижались.
Лабуд, сказав, что должен доложить комиссару о выполнении задания, сразу ушел. Куда-то исчез и Зечевич, словно ему хотелось побыть одному. В роте осталась лишь Гордана. Беспредельно уставшая, с тяжестью на сердце от гибели двух товарищей, она присела у костра, прижавшись спиной к большому камню, и закрыла глаза. Блики пламени освещали ее лицо. Время шло, а она продолжала сидеть не шевелясь, и никто не пытался досаждать ей.
С другой стороны костра, скрестив ноги, сидел Лолич и, точно верный страж, охранял покой девушки. В каждом его жесте чувствовались любовь и нежность. Глядя на девушку, он с новой силой ощутил, как недостает ему ее взаимности. Однако где-то в глубине души у него шевелилось подозрение, что его сердце слишком непостоянно, чтобы даже такая девушка, как Гордана, смогла заполнить его до краев.
— Ты очень устала, — прошептал Пейя Лолич, — тебе надо поспать.
— Уже отдохнула, — тоже шепотом ответила Гордана, будто сообщала тайну.
— Знаешь, сколько я думал о тебе сегодня, сочувствовал тебе.
— Сочувствовать, конечно, лучше, чем на себе чувствовать, — насмешливо ответила она, немного приоткрыв глаза.
Усталость у Горданы действительно прошла быстро: молодому здоровому организму не требуется много времени на восстановление сил. Вскоре она сидела уже с открытыми глазами и, словно путник, вернувшийся из странствия, пыталась понять, изменилось ли что-либо за время ее отсутствия. Когда на лицо стали падать крупные хлопья мокрого снега, она окончательно проснулась, но еще продолжала сидеть неподвижно, не реагируя на вопросительные взгляды товарищей. Они о многом хотели ее спросить, и она понимала их желание.
— Сестрица, раз ты проснулась, — первым набрался храбрости Космаец, — скажи, а что, Жика не вернется?
Гордана печально посмотрела на юношу. Она знала, как он любил Жику.
— Не терзайся, Рада. Всем нам тяжело, всем его жалко.
— Значит, он никогда не вернется?
— Нет, никогда, — с трудом произнесла девушка.
Космаец печально опустил голову. Изредка, отворачиваясь от костра, он украдкой вытирал набегавшие на глаза слезы.
— Ты плачешь, Рада? — спросила Гордана Космайца, когда они остались одни у костра.
— Сейчас уже нет, — ответил он.
Она нежно погладила его по голове. Рада посмотрел на девушку и заметил у нее в волосах прядь седых волос. «Сколько надо пережить, чтобы появились седые волосы у молодой девушки!» — подумал Космаец.
— Почему, сестрица, не хочешь рассказать мне, как погиб Жика? — негромко спросил Космаец.
Она передернула плечами.
— Расскажу как-нибудь в другой раз, когда буду в другом настроении. А сейчас не проси, не надо.
Она гнала от себя воспоминания о вчерашней ночи, но они были еще настолько свежи и сильны, что невольно будоражили и волновали и не думать о них было невозможно.
Прошлое обычно скоро забывается. Забудет многое и Гордана, но только не эту ночь. Много лет спустя она расскажет о событиях этой ночи в своих воспоминаниях, поведает о ней точно и кратко, словно о дне рождения, без которого ее биография была бы неполной.
…Им удалось незамеченными проникнуть на тихую, маленькую, погруженную в глубокий сон железнодорожную станцию и захватить пустой товарный состав. Локомотив был под парами, готовый отправиться в путь в любую минуту. Перед ним уже горел зеленый глаз светофора. Машинист локомотива выслушал приказ Лабуда молча, без излишних эмоций. Пистолет в руке Лабуда выглядел достаточно убедительно. Смерть не любит, когда взрослые дяди начинают играть с ней в жмурки. Партизаны не любят, когда их приказам противятся. Осужденные на смерть в последний миг своей жизни обычно забывают о том, что другие хотят жить. У них на это не остается времени, им надо не опоздать на встречу со своей судьбой.
Состав тронулся, набирая скорость. Виадук еще скрывался за поворотом, но партизаны знали, что до него осталось проехать всего несколько километров. Весной, в апреле, когда фашисты напали на Югославию, немецкие самолеты несколько раз бомбили виадук, теперь те же немцы берегли его как зеницу ока.
Лабуд стоял у окна будки машиниста и отдавал распоряжения: «Убавь скорость… Еще немного… Еще…» Останавливать состав на виадуке было рискованно: это сразу насторожило бы охрану. «Дай один гудок… еще один… Прибавь скорость!» Вот паровоз миновал поворот и вышел к виадуку, который был переброшен с одной стороны ущелья на другую. Вокруг вздымались высокие горы. По обе стороны ущелья были оборудованы железобетонные огневые точки, прикрывавшие подходы к виадуку. На окружающих высотах расположились зенитные пушки и пулеметы. Казалось, все было предусмотрено. Но глубокий овраг, выходивший в ущелье, немцы не охраняли. Им и решили воспользоваться партизаны для отхода после выполнения задания.
На виадуке поезда должны были следовать на малой скорости: таков порядок. По требованию Лабуда машинист еще замедлил ход, и группа Лабуда, кроме самого командира, спрыгнула на виадук. Состав как ни в чем не бывало проследовал своим путем.
Наступил самый ответственный этап операции. Один неверный шаг мог стоить жизни. «Пока нам сопутствует удача», — подумала Гордана. Синиша Маркович и Влада Зечевич закладывали взрывчатку, а они с Маричем вели наблюдение за бункерами. От тишины и разреженного горного воздуха немного закладывало уши. Гордане казалось, что Маркович и Зечевич слишком копаются. «В любую минуту на виадуке может появиться немецкий патруль, и тогда… — При этой мысли ей стало страшно. — Лучше не думать об этом. Как-то дела у Лабуда, ведь он остался один на паровозе?»
Через несколько минут состав должен был вернуться. Ему была отведена роль детонатора: своими колесами наехать на мины, прикрепленные к рельсам.
На войне всегда приходится жертвовать малым ради большого. Под большим подразумевалось одно слово — Свобода. Где-то там, на Дрине, на Руднике, громыхают тяжелые орудия. Каждый занят своим делом. Вот и эти герои, повисшие над пропастью, уже целых пять минут играют со смертью. Все их действия подчинены одной цели — как можно лучше исполнить свой долг. Вдалеке раздался свисток паровоза. Это Лабуд подавал сигнал, напоминая: «Побыстрее заканчивайте, всем покинуть виадук, я иду-у-у!»
Колеса вагонов постукивали на стыках рельсов. Шум приближавшегося поезда нарастал с каждой секундой, заполняя собой все ущелье. Свисток паровоза зловеще ломился сквозь мрак ночи. Влада спешил закончить минирование. У них оставалось всего несколько минут. Наконец мины и взрывчатка были установлены.
Влада приказал Марковичу наблюдать за бункерами, а сам взял Гордану за руку и подвел ее к железным перилам виадука, к которым была привязана веревка, уходящая в темную бездну ущелья. «Не бойся, Марич уже там, внизу. Давай живее!»
Гордана стиснула зубы, крепко ухватилась за веревку обеими руками и стала опускаться на дно ущелья. Земля быстро приближалась. Невдалеке темнела каменная стена ущелья. На фоне ночного неба проступали силуэты бункеров. Гордане показалось, что спуск никогда не кончится и она так и зависнет между небом и землей. Но внезапное прикосновение к лицу холодных и острых веток кустарника вернуло ей способность сознавать действительность. Она устало рухнула на землю и на мгновение расслабилась. Никогда ранее не ощущала она так глубоко запах земли. У ее ног беззаботно журчал горный ручей. Она не знала, что там, на виадуке, уже произошло то, чего они опасались больше всего: появился немецкий патруль.
Влада Зечевич еще не закончил спуск, когда между металлическими фермами виадука грянули выстрелы. Это Синиша Маркович открыл огонь по немецкому патрулю. Помочь Марковичу было невозможно. Как по сигналу, почти одновременно открыли огонь из пушек и пулеметов все огневые точки немцев в районе виадука. Совсем близко послышался очередной свисток паровоза. От вспышек выстрелов, разрывов гранат и снарядов темнота расступилась. Немцы вели огонь наугад, во все стороны. Поезд был уже рядом. Зечевич дал команду отходить и вместе с Горданой и Маричем побежал по оврагу. Только Синиша Маркович не мог выполнить приказание Зечевича. Он остался на виадуке навсегда.
Поезд с грохотом влетел на виадук, и мощный взрыв сотряс горное ущелье. Металлические фермы моста лопнули и рухнули вниз. Следом за ними один за другим падали в пропасть локомотив, вагоны и платформы. Вагоны загорелись, и черный дым пополз по ущелью.
Партизаны возвращались назад с сознанием выполненного долга, им не стыдно будет посмотреть в глаза товарищам. Они шли, соблюдая все меры предосторожности, так как всюду был враг. И все же не убереглись. В Дучинском Гае наскочили на патруль недичевцев и в стычке потеряли Марича. Юноша был убит пулей в сердце и даже не вскрикнул, падая из седла. Смерть Марича потрясла всех, особенно Зечевича. Несколько километров он вез тело юноши в своем седле, пока не выбрал место, где бы его захоронить. Могилу копали штыками и руками. Зечевич завернул тело юноши в шинель, а когда все было кончено, он еще долго стоял над холмиком земли, вытирая рукавом слезы. Всю дорогу он не проронил ни слова, а по возвращении в роту сразу же уединился на вершине холма, и долго сидел там, бессмысленно глядя на ленту дороги. Горечь от утраты боевых товарищей усиливалась от предчувствия какой-то беды. В груди у него было пусто и одиноко.
Вечерело. Время от времени со стороны гор налетал свежий ветерок. Влада почувствовал, что начинает зябнуть, и встал, чтобы направиться в роту. Вдруг на дороге он заметил женщину, которая двигалась в его направлении. Он сразу узнал ее — это была Елена. В черных резиновых сапожках, в шерстяной вязаной юбке и желтом кожухе, расшитом орнаментом, в своей обычной шерстяной шали, она шла спокойно и неторопливо.
Влада не мог понять, почему Елена оказалась в этих местах. Что она здесь делает? Он долго не решался окликнуть ее. Мысли о жене терзали его душу. Сколько ни убеждал он себя забыть о ней, ничего не получалось. Наоборот, его любовь к ней, казалось, становилась все сильнее. Легче, видно, человеку обуздать горную реку, перегородив ее плотиной, чем свои чувства. Любовь и ревность перемешались в его сердце, и он не мог сказать, что одержит верх.
Елена в одной руке несла корзинку, а другой придерживала подол юбки, чтобы не запачкать ее в дорожной грязи. Зечевич наконец совладал с собой и окликнул жену.
Она прошла несколько шагов и лишь после этого повернулась в его сторону.
— Это ты, Влада? — с полным безразличием спросила она. — Вот не ожидала тебя встретить.
Влада, внешне суровый и насупленный, внутри весь разрывался от противоречивых желаний. Ему хотелось одновременно и броситься к ней с распростертыми объятиями, и убить ее. Но он переборол себя и внешне сохранял спокойствие и достоинство. В его взгляде Елена прочитала глубокое презрение. Она хотела смягчить мужа, подошла к нему ближе и протянула руку, намереваясь дотронуться до его груди.
— Сколько дней ищу тебя, — фальшивым, неискренним голосом произнесла она, — во всех селах побывала, все леса обошла.
В груди у Влады словно что-то оборвалось. Он вздрогнул и отпрянул от ее протянутой руки.
— Не подходи, потаскуха! Врешь все! Не меня искала. Мне все известно.
Она остановилась, рука ее повисла в воздухе. В глазах мелькнул страх, но в уголках губ еще блуждала холодная усмешка.
— Наслушался сплетен? — начала она спокойным, ровным голосом. — Ты же знаешь, сколько у меня недоброжелателей. Мне завидуют, что я молода, богата и красива, что у меня такой муж, как ты. Перестань сердиться, Влада. Ты должен верить только мне. Все остальные хотят нам лишь зла.
— Отныне я никому больше не верю, и тебе в первую очередь, — мрачно проговорил Влада. — Ты обманула меня, с четниками ушла.
Она усмехнулась, еще не решив, надо ли оправдываться. Неожиданная встреча с мужем выбила почву из-под ее ног, но она решила не сдаваться.
— Ты ведешь себя как ребенок, — сказала она после минутного замешательства. — Я люблю только тебя, и ты напрасно шумишь и сердишься. Тебя просто обманули. Конечно, это все шуточки твоего Лабуда, который обманывает тебя на дню по пять раз. Он тебе мозги засоряет своими идеями, а ты слушаешь его развесив уши. Дом бросил, жену оставил, и все для того, чтобы стать его коноводом. Опомнись, пока не поздно, подумай, с кем ты связался. Лабуд тебя до добра не доведет.
— Он мой друг, и я запрещаю так о нем говорить.
— С каких это пор твой поденщик стал твоим другом? Он годится, чтобы чистить твою конюшню и пахать твою землю, а для друга поищи человека, достойного тебя. Разве не видишь, что еще несколько дней — и с вами будет покончено. Всех коммунистов переловят, и его тоже. Послушайся меня, уходи от них, уходи, слышишь! Иначе будет поздно. А сейчас ты можешь на этом своем «друге» даже неплохо заработать. Четники объявили, что за Лабуда, живого или мертвого, они дадут двадцать пять тысяч динаров.
— А сколько ты получишь за мою голову? — негодующе спросил Влада. Его глаза гневно блеснули.
— Влада…
— Замолчи! Сколько же Чамчич пообещал тебе за мою жизнь, за мою голову?
— Я спасти хочу тебя. — Она схватила мужа за руку и повисла на ней всей своей тяжестью. — Я сказала правду. Вы окружены. Вам отсюда не выйти. Всюду немцы, четники, недичевцы. Когда к вам сюда шла, видела под Кошутицем отряд четников. Они устроили там засаду, вас ждут… Стоян тебе привет передавал и сказал, что, если ты перейдешь на его сторону, он тебя простит.
Владе хотелось завыть, броситься на жену и задушить ее, но он не мог пошевелиться. И руки и ноги словно налились свинцом, голова помутилась от гнева.
— Ты дешево меня продаешь, жена, — прохрипел он, чувствуя, что освобождается от ее тяжких оков. — Как-никак могла бы запросить у четников и подороже.
Елена увидела, что глаза Влады наливаются кровью, и испуганно отпрянула. Холодок страха пополз по ее телу, перехватило дыхание. Она еще пыталась сказать ему что-то в свое оправдание, но Влада больше не слушал ее. Его любовь к ней умирала у нее на глазах.
Влада чувствовал, как сердце его заполняется пустотой, тяжелым отчаянием и одиночеством. Ему казалось, что в груди у него все сгорело и превратилось в пепел, который постепенно терял тепло и превращался в лед. Рана на сердце перестала кровоточить, боль в груди исчезала, стало легче дышать. Но место любви заняла дикая ревность. Влада знал, что́ надо было ему делать, но не мог решиться. Не было сил ни смотреть на нее, ни прогнать от себя. Он был бы рад, если бы она исчезла, испарилась, как пропадает тень с заходом солнца за облако, но она продолжала маячить перед его глазами, живая, зовущая, готовая принять его. Было невероятно трудно сделать этот последний шаг.
— Уходи, между нами все кончено, — наконец произнес он слова, которых всегда страшился. — Я не могу любить женщину, которая продает мою жизнь, как старое тряпье.
— Ты меня прогоняешь? — Она хотела изобразить усмешку.
— Я тебя ненавижу. Отныне и навеки.
— Хорошо, я ухожу. Скажу Чамчичу, что ты отклонил его предложение… Тебе недолго осталось жить.
Влада сжал винтовку, чувствуя дрожь в пальцах.
— Уходи! — мертвыми губами прохрипел он.
Елена прошла несколько шагов, затем вдруг остановилась и крикнула:
— Завтра со всеми вами будет покончено!
— Ты что, к Чамчичу идешь? Расскажешь ему, где мы находимся?
— Скажу ему, что ты меня прогнал. — Она повернулась к нему спиной и быстро пошла вниз по дороге.
С каждой минутой Елена удалялась. Влада понял, что теряет ее навсегда. Сейчас она придет к четникам и расскажет им об отряде. Перед мысленным взором Влады возникла картина: Елена в объятиях Чамчича, — и его руки непроизвольно вскинули винтовку. В прорезь прицела он в последний раз увидел ее красивые ноги, гибкий стан. По спине Елены двумя черными змеями спускались длинные косы. Мушка прицела уперлась в промежуток между косами и замерла. Времени на размышление не оставалось. Через секунду она скроется за уклоном дороги. Вот уже исчезли ноги, и теперь лишь верхняя часть туловища осталась на виду. Палец нажал на спусковой крючок. Резкий звук выстрела разорвал холодный вечерний воздух. Когда дымок от выстрела развеялся, Елены уже не было видно.
Влада побежал вниз. Елена лежала неподвижно. Легкий ветерок шевелил кончики ее шерстяного платка. Сквозь пулевое отверстие сочилась кровь, ее становилось все больше, и она постепенно заливала полушубок. Елена была красива и мертвой. Влада упал на колени перед ней. Слезы текли по его лицу, застревали в усах.
Когда Влада пришел в себя, шел снег. Он ровным белым слоем укрывал лицо Елены от посторонних взглядов. По дороге шли бойцы роты. На Владу и Елену никто из них не обращал внимания. Они лишь на какое-то мгновение замедляли шаг, а затем обходили Владу и следовали дальше. Когда рота скрылась за ближайшим лесочком, Влада встал и, не оглядываясь, медленно побрел вслед за своими.
Он напряженно размышлял о случившемся, искал оправдание для Елены и не находил. Она изменила ему как жена, изменила делу, за которое он дрался, хотела предать его самого и его боевых товарищей. Сейчас они рассчитались — что сделано, то сделано. Вскоре Влада обнаружил, что он ненавидит не столько свою жену, сколько того, кто отнял у него Елену. Эта мысль пробудила его от шокового состояния. Завтра, когда встретится с четниками, он уж постарается, чтобы не продешевить, взять с них подороже. Двадцать пять тысяч динаров — разве это цена за человеческую голову? Нет, он ценит свою жизнь гораздо дороже, и враги убедятся в этом.
— Не вы, а я буду назначать цену, — бормотал Влада, — моя голова, моя и цена. Двадцать пять ваших — за одну мою. На том и порешим, конец аукциону. Денежки свои оставьте при себе — пригодятся на похороны.
— Влада, ты о чем? — спросил подошедший Лабуд.
Зечевич остановился.
— Все о том же. Спрашиваю себя, сколько стоит наша жизнь, — ответил он нехотя.
— Смотри не просчитайся. Двадцать пять против одной будет маловато.
— Я знаю, сколько стою, не беспокойся.
— Отныне ты подорожал — тебя назначили командиром нашей роты.
— Коли так, придется повысить ставки, — после небольшой паузы произнес Влада. — Они нас ожидают в засаде у Кошутицы. Разреши мне пойти первым. Руки чешутся. Хочется этим скотам рога обломать и показать, за сколько мы продаем наши головы.
Уже более часа отряд поднимался по горной тропе, но до перевала было еще далеко. Бойцы шли молча, часто спотыкались в темноте о скользкие камни, падали, но двигались безостановочно. Тропинка была покрыта снежной кашей, с каждым шагом идти по ней становилось все труднее. Шел снег с дождем. Изредка налетали порывы холодного ветра, от которого перехватывало дыхание и выступали слезы на глазах. Одежда на бойцах намокла, стала тяжелой и неприятной. Вскоре люди буквально перестали узнавать друг друга, так как превратились в одинаковые, запорошенные снегом статуи. В разреженном воздухе было трудно дышать. Когда падали кони, груз с лошадей распределяли между бойцами.
Зечевич больше не выглядел подавленным. На его худом, заросшем щетиной лице не было видно и тени усталости. И все потому, что он знал, куда идет и зачем. Вообще это очень важно для человека — иметь перед собой цель. Мысли Влады перескакивали с одного на другое. В нем уже совершился внутренний перелом, хотя он этого еще не сознавал. Тот, кто ныряет в горный поток, не думает о подводных камнях. Плыть по реке смерти и думать о спасательном береге — наивно, смешно и недостойно воина. Однако, кто не надеется выплыть, тот не прыгает в волны, а остается на берегу наблюдать борьбу других со стихией. Легко не дается ничто в жизни, особенно свобода.
От холода и ветра люди совсем закоченели. Наконец на небольшом плато был сделан привал, и бойцы бросились разжигать костры.
Влада сбросил с плеч ящик с патронами, который он взял после того, как пала одна из лошадей, и уселся на него, пытаясь отогреть закоченевшие руки. Не успел он немного отдохнуть, как его позвали — комиссар созывал членов партии.
На небольшой поляне собралось около тридцати человек. Их лиц не было видно, и они различали друг друга по голосам. Вопросов, ждавших решения, было много, а времени мало. Поэтому требовалось излагать свои мысли кратко, говорить о самой сути. Жизнь диктовала свои условия, учила смотреть на опасность трезво, без страха и паники, как на естественное явление.
— Действия комиссара считаю правильными, — услышал Влада сильный голос Милана Лабуда и подумал о том, что сейчас, на этом месте, решается судьба их отряда, а может быть, и более того. — Комиссар действовал от имени партии. Каждый из нас на его месте поступил бы так же. Раз взяли в руки винтовки, значит, надо оторвать себя от домашнего порога, от жениной юбки и от коровьего хвоста. Нельзя победить сильного врага, если будешь разрываться между винтовкой и плугом, как нельзя спасти свой дом от пожара, если не защищаешь от огня дом соседа. Я думаю, что вы все такого же мнения?
— Хватит об этом, надоело, давай ближе к делу! — сердито крикнул Славка Костич. — Мы не для того собрались, чтобы болтовню слушать.
Лабуд повернулся в сторону Костича.
— Разве я не о деле говорю? Мы сегодня бросаем старый обычай, оставляем свои села, свой край и уходим в незнакомые места — в горы Рудник, а оттуда будем пробиваться в Санджак, на освобожденную территорию… — Лабуд на миг остановился, словно размышлял, стоит ли раскрывать все, что он думал и знал. — Мы не скоро вернемся назад, а многие из нас вообще не вернутся. Сегодня мы только начинаем новый этап нашей великой и трудной борьбы. Впереди долгий и тяжелый путь. Каждый должен твердо усвоить, что тот, кто не желает идти с нами, — тот против нас. Такова на сегодня обстановка. А тот, кто против нас, тот против своего народа, тот — предатель. И его ожидает смерть. Я говорю об этом потому, что между нами есть люди, которые не знают, как им поступить: пойти с нами или остаться. Эти трусы ставят личные интересы выше интересов нашей борьбы. В первую очередь это относится к товарищу Костичу, который хочет развалить отряд, посеять у бойцов сомнение, то есть довести отряд до гибели. Он испугался трудностей, потерял веру в победу.
— Коли так, чего с ним возиться? — крикнул кто-то из темноты. — Такого надо гнать из партии.
Получив поддержку, Лабуд еще смелее продолжал:
— Костич встал на путь предательства. Мы должны осудить его поведение, а его роту расформировать и по частям влить в другие подразделения отряда.
— Ты врешь! Все, что ты сказал, неправда. Спроси сначала моих бойцов, согласны ли они с твоими предложениями! — озлобленно крикнул Костич. — Не имеешь права самовольничать. Где ты был, когда создавалась наша рота?
— Когда отряд формировался, тебя в нем тоже не было. Так что вопрос о том, кто где был летом, ничего не меняет. Считаю дело решенным. Вы утвердили меня командиром отряда, дали мне власть, и я буду поступать исходя из обстановки и как считаю нужным для дела. Вы доверили мне свои жизни, и я сознаю свою ответственность. Если же придется отдать нам свои жизни, то я сделаю все, чтобы враг дорого заплатил нам за них, чтобы и в самую последнюю минуту мы сохранили честь и достоинство борцов за свободу. А теперь объявляю, что с рассветом идем на прорыв в направлении Кошутицы. Я пойду впереди. С собой возьму с десяток гранатометчиков, у кого рука потверже, и в качестве прикрытия несколько пулеметчиков. Не сомневаюсь, что пробьемся.
— И мы не сомневаемся! — крикнул Зечевич. — Записывай меня в передовой отряд.
После полуночи мороз усилился. Снег шел не переставая. Внизу, в долине, выли волки. «Итак, решено, — думал Зечевич, — отряд оставляет Космай». Все остальное казалось несущественным в сравнении с этим событием. Поэтому он плохо слушал выступления коммунистов, обсуждавших поведение Славки Костича, и машинально проголосовал за исключение его из партии. После собрания Зечевич вдруг обнаружил, что с удовольствием спешит вернуться в роту, которая стала для него всем: и домом и семьей. Без нее жизнь теряла смысл.
Бойцы сидели у костра, грелись, сушили одежду и обувь. Почти никто из них не спал.
— Влада, на собрании случайно не было разговора о том, дадут ли нам чего-нибудь поесть? — спросил Космаец, когда Зечевич расположился рядом с ним.
— Что ты болтаешь? — не принял шутки Влада и нахмурился. — На войне, дружище, приходится иногда потерпеть.
— Я понимаю, но что поделаешь, если есть хочется, — грустно произнес Космаец.
— Ничем не могу помочь, хлеба нет ни крошки, и вообще ничего из еды нет. — Влада почувствовал, что напрасно стал читать нотации Космайцу, и добавил участливо: — Потерпи до утра, чего-нибудь найдем, когда выберемся отсюда.
— Один бы кусочек чего-нибудь. — Космаец низко опустил голову.
Гордана, сидевшая невдалеке, вытащила из-под себя вещевой мешок и долго рылась в нем.
— Возьми! — Она протянула Космайцу кусок сахара. — Это мне на праздник дала одна старушка… Было четыре кусочка, но три я уже отдала раненым, а этот тебе, Рада.
Космаец протянул было руку, чтобы взять сахар, но тут же отдернул ее, словно обжегся.
— Нет, я не могу его взять, я же не раненый. — Он отвел глаза в сторону, чтобы побороть искушение. — Ты ведь тоже голодна, вот и съешь его сама.
— Кто тебе сказал, что я голодна? Я, правда, устала немного, и голова еще болит, но есть я не хочу.
Она взяла Космайца за руку и положила сахар ему на ладонь. Он, наверное, целую минуту смотрел на него, не зная, как поступить. Затем вынул нож, расколол сахар на мелкие кусочки и, взяв один себе, раздал товарищам.
— А это тебе, Гордана, — протянул он девушке ее долю.
Она рассмеялась и крепко обняла мальчика, прижав его к своей груди. Космаец не сопротивлялся и не возражал против таких нежностей, но щеки его густо покраснели.
— А ты знаешь, какой сегодня день? — спросила Гордана.
Космаец неопределенно повел плечами. Он давно потерял счет времени, словно жизнь проносилась где-то в стороне от него.
— Ну вот, а еще православным зовешься! — весело воскликнула Гордана. — Сегодня же рождество! До войны я очень любила этот праздник, — продолжала она негромко. — Соберемся, бывало, компанией и идем ночью на Калемегдан
[18] костер жечь. Разведем большой-большой и играем вокруг него, песни поем. Веселились до самого утра. Да, а теперь кажется, что все это было очень и очень давно… Компания распалась, а многих из друзей и знакомых и в живых уже нет… Попробую заснуть, может, во сне увижу кого-нибудь из старых друзей.
Она прислонилась спиной к холодному стволу бука, закрыла глаза и вытянула затекшие ноги. Гордана была без сапог. Сквозь прохудившиеся чулки виднелись пальцы ног. Ее сапоги совсем развалились, и Лолич в очередной раз пытался хоть как-нибудь отремонтировать их.
— Пейо, да брось ты это бесполезное занятие, немного подлатал, и хватит, — сказала Гордана, щурясь от пламени костра. — Эти сапоги свое отслужили. У них от древности теперь не кожа, а что-то вроде бумаги: ткнешь сучком — и дырка. Как только в следующий раз четников разобьем, что-нибудь поищу для себя. Должна же у кого-нибудь из них быть маленькая нога! Спасибо тебе, Пейо, отдохни лучше.
— До рассвета еще далеко, успею выспаться, — ответил Пейя.
— Придется тебя разочаровать насчет сна, — вступил в разговор Зечевич. Он едва дождался, пока Пейя кончит возиться с сапогами Горданы. — Лабуд приказал отправить твой взвод в разведку. Идти надо немедленно.
— Вот так всегда: ты полагаешь, а тобой располагают, — полушутя, полусерьезно сказал Лолич.
Он взял винтовку, смахнул с нее снег, протер патроны и вставил их в магазин.
— Задание получишь от Лабуда… Если что, не беспокойся, мы будем поблизости, одного не оставим… Костер гасить не надо. Наоборот, наберите дров потолще, перед уходом бросим их в огонь. Четники наверняка наблюдают за нами — пусть думают, что мы еще здесь. Надо попробовать обмануть их и ударить по ним неожиданно.
Снег все падал и падал. Снежинки кружились в холодном воздухе, словно рой потревоженных пчел. Колонна партизан быстрым шагом спускалась вниз по склону горы, поросшей лесом. Причудливые силуэты деревьев мелькали перед глазами, будто тени. Опасность грозила отовсюду. Но пока лес молчал. Его тишину нарушало лишь поскрипывание снега под ногами.
Лолич со взводом шел впереди отряда метров на двести и регулярно докладывал Лабуду об обстановке. Он понимал, что сейчас от него зависело многое — надо было обнаружить четников, не открывая себя. Снег слепил глаза. Вытирая лицо от налипшего снега, Лолич в который уже раз отмечал, что его руки до сих пор хранили запах кожи сапог Горданы, которые он только что ремонтировал.
«Конец иллюзиям, — с горечью и сожалением подумал он, — конец мечтам и приятным сновидениям. Жизнь все ставит на свое место. Все вокруг меняется, и я тоже. Когда-то я мог смотреть на нее целыми днями, но не ценил этого. Теперь же счастлив, если увижу ее хотя бы издали. Все напрасно… О Гордане надо забыть, она предпочла другого. Как бы я хотел выбросить ее из головы, если бы мог! Видеть их вместе — выше моих сил. Но может быть, еще есть какой-нибудь выход?»
Лолич ломал голову над тем, как бы завоевать расположение и любовь Горданы, но все его варианты упирались в одно препятствие — в Лабуда. Пока Лабуд с Горданой, решил Лолич, ему нечего рассчитывать на успех. Он остановился и посмотрел назад в надежде увидеть Гордану. Мимо проходили, словно тени, бойцы его взвода. А на горе все еще пылали костры, оставленные партизанами. Они пурпурно пламенели на черном бархате ночи. Снизу казалось, что пожаром охвачена вся гора. Четники не давали о себе знать. Трудно было сказать, куда они подевались: то ли снялись со своих позиций и ушли совсем, то ли спрятались от мороза и снегопада в селах. Лолич подождал Лабуда, чтобы поделиться с ним своими соображениями, хотя видеть Лабуда ему не хотелось.
— Пока не знаю, что нам следует предпринять, — сказал Лабуд, выслушав Лолича. — Мимо села пройти незаметно нам, конечно, не удастся. Значит, надо бы напасть на них, пока они спят. Но они разместились в крепких домах, и так легко до них не добраться.
— Я думаю, надо выманить их на открытое пространство и заставить там принять бой, — предложил комиссар.
— А как это сделать?
— Надо послать в село взвод Лолича, и пусть они там начнут бой. Четники сразу поймут, что противник малочислен, и у них должно появиться желание прикончить его. Мы же всем отрядом устроим им засаду на высотке за селом.
— Пожалуй, ты прав. Другого выхода я не вижу, — согласился Лабуд. — Пейо, теперь все зависит от тебя. Подумай до рассвета, как все это осуществить.
— Задание понял, — ответил Лолич и растворился в темноте.
Вместе со взводом в село ушла и Гордана.
Пока все шло по плану. Лабуд убеждался в этом, обходя высоту, по гребню которой располагались роты его отряда. Одна из рот во главе с комиссаром ушла за овраг и там устроила отсечную позицию, чтобы ударить четникам во фланг.
— Без команды не стрелять! — предупреждал Лабуд, переходя от бойца к бойцу. — Ждите красную ракету. Подпустим их как можно ближе, забросаем гранатами и ударим в штыки… Проверьте оружие, приготовьтесь.
Лабуд старался казаться спокойным и уверенным. Волнение перед боем — дело обычное. Зато с началом боя он всегда ощущал прилив новых сил, а возникавшие вопросы решал быстро и четко. Лабуд все чаще посматривал на часы, но время, казалось, остановилось.
Между тем начинало светать. Вдруг из села донеслись первые выстрелы. Через минуту стрельба охватила уже все село, небо рассекали сотни трассирующих пуль.
Расчет комиссара оказался верным. Четники, решив, что им в руки идет легкая добыча, бросились преследовать взвод Лолича.
Лабуду было хорошо видно, как, отстреливаясь на ходу, отступал взвод Лолича. Вскоре он вышел к позиции отряда. Потерь у Лолича не было, за исключением одного раненого, которого Лабуд приказал отправить в лазарет.
— Едва ноги унесли, — рассказывал Лолич. — Когда мы открыли огонь, они повыскакивали из домов. Ну и паника поднялась! Слышишь, до сих пор орут.
Лабуд стоял на одном колене, укрывшись за кустом. В одной руке он держал ракетницу, в другой — гранату. Рядом с ним лежал ручной пулемет. Голоса четников приближались. Пули, как злые осы, свистели над головой, секли ветки кустарника. Справа и слева от Лабуда лежали в цепи партизаны, но он их не замечал. Сердце у него билось учащенно. Окружающая обстановка казалась какой-то нереальной. Время и пространство сплелись в единый узел. Напряжение достигло предела. Все его существо было охвачено стремлением одолеть врага и выжить. В сознании Лабуда то и дело возникал образ Горданы. При виде врага страх с Лабуда как рукой сняло. Он сразу успокоился и стал самим собой.
«Еще рано, еще не время, — говорил он себе, не отрывая взгляда от темных фигур неприятеля. — Надо подпустить их как можно ближе».
Четники продвигались быстро, почти бегом, а Лабуду казалось, что они стоят на месте. Свет наступавшего дня только-только коснулся неба и еще не очень четко отделил небосвод от земли. Четники шли группами человек по десять и представляли собой отличную мишень для гранатометчиков и пулеметчиков. Когда они приблизились к позиции отряда на расстояние пятьдесят метров, Лабуд выпустил ракету. Над высотой повис огненный купол, оттеснив темно-серое небо. Стали отчетливо видны черные силуэты четников, казалось, до них можно-достать рукой.
В мгновение ока гребень высоты превратился в огненный гейзер. Перед четниками пролегла смертельная преграда. Больше ничего не существовало, кроме взрывов гранат, ливня свинца, предсмертных криков и стонов раненых. Лабуд видел, как падали четники. Они валялись, словно снопы пшеницы, разбросанные по полю для просушки. Повсюду на снегу чернели темные пятна земли, выброшенной взрывами гранат.
— Товарищи, в атаку, вперед! — крикнул во весь голос Лабуд, заметив, что четники стали отползать назад.
Первым призыв командира поддержал Космаец. За ним поднялась вся цепь. Снег сыпал крупными хлопьями, словно спешил поскорее стереть с лица земли следы кровавой схватки. Космай почти не был виден, но Лабуд ощущал его присутствие, как понимал он и то, что опасность еще не миновала. Поэтому он спешил и требовал, чтобы бойцы шли как можно быстрее.
Не останавливаясь, отряд проскочил село, миновал поле неубранной кукурузы, спустился в овраг, а оттуда начал подниматься по склону горы. Лабуд потерял представление о времени. Он был весь мокрый от пота, плечо ныло от ремня пулемета. Ему уже казалось, что они в безопасности, когда рядом взметнулся столб камней и снега, поднятый взрывом гранаты. Другую гранату он успел поймать в воздухе и отбросить в сторону.
Немцы выскочили из тумана, словно привидения, всего в пятидесяти метрах от партизан и обрушили на них ливень из пуль и гранат. Лабуд бросился в ближайшую яму и открыл ответный огонь. В двух шагах от себя он увидел Владу Зечевича. Его лицо было залито кровью. Между ними лежало еще два неподвижных тела. Немцы не давали поднять головы, их пули вздымали снежную пыль. Вдруг Лабуд услышал выстрелы минометов и понял, что дела отряда совсем, плохи. Но он не собирался умирать и плотнее прижал к плечу приклад ручного пулемета.
— Отходите, я вас прикрою! — крикнул он бойцам, и в то же мгновение его ослепил свет разорвавшейся мины. Взрывной волной его перевернуло и отбросило в сторону. Ткнувшись лицом в снег, он потерял сознание.
Когда Лабуд пришел в себя, бой давно уже кончился. Небо по-прежнему было затянуто облаками, но снег прекратился. Кругом стояла тишина. Лабуд повернул голову и увидел рядом с собой нескольких раненых бойцов, сидевших около костра. Повсюду валялось оружие и снаряжение, на белом снегу выделялись кровавыми пятнами использованные бинты.
Собравшись с силами, Лабуд встал. Ноги дрожали от слабости, в голове шумело.
— Гордана, где мы находимся? Где комиссар? — спросил Лабуд. Но Гордана была занята перевязкой раненого и не слышала его вопроса.
— Комиссара больше нет, — вместо Горданы ответил Космаец. — Мы его похоронили вон у того дуба, — показал он рукой в сторону высокого дерева метрах в сорока от костра. — Эх, не увидим мы больше нашего любимого товарища Шумадинца.
Лабуд, шатаясь словно пьяный, добрел до могилы комиссара и сел на землю, обхватив голову руками. Все его существо протестовало против случившегося. Но отрицать очевидное было невозможно — отряда больше не существовало. От него осталась горстка людей, к тому же в большинстве своем раненных и контуженных. Лабуду казалось, что бойцы и командиры смотрят на него с презрением и укором, что ему больше не доверяют. Их молчание он воспринимал как осуждение.
Его приговор самому себе был скор и решителен. Лабуд вытащил из кобуры пистолет и посмотрел на него долгим взглядом как на спасителя. Темное дуло пистолета обещало освобождение от всех тягот и забот. Лабуду не было страшно — он чувствовал какое-то беспредельное опустошение. Холодный металл ткнулся в висок, и в этот же момент щелкнул курок. Звук удара спускового механизма о патрон прозвучал для Лабуда как выстрел. Но самого выстрела не последовало. Осечка! Лабуд, сохраняя самообладание, перезарядил пистолет и даже посмотрел на траекторию испорченного патрона и место его падения. Но проделывать все во второй раз ему было нелегко. Сейчас в патроннике находился последний патрон. «А если и он откажет? — пронеслось в мозгу Лабуда. — Нет, такого не бывает!»
Действительно, второй патрон был исправен, и Лабуд не понял сначала, что же произошло. Он, казалось, сделал все, как надо: поднес пистолет к виску и нажал на спуск. Прогремел выстрел, но Лабуд не ощутил ни удара, ни боли. Ему показалось, что сердце его не выдержит и разорвется. Он открыл глаза и увидел около себя Гордану. Она была бледная как полотно. В самый последний момент ей удалось отвернуть в сторону ствол его пистолета. Сейчас она смотрела на Лабуда с укором.
— Милан, разве нет другого выхода? Зачем же так?
Лабуд в сердцах бросил пистолет в снег.
— Не знаю, видно, нет, — ответил он негромко. — Зачем жить, если отряда больше нет? Ты же видишь, сколько нас осталось.
Гордана опустилась на колени и взяла его руки в свои.
— А мы разве не отряд? — спросила она со слезами на глазах. — Действительно, нас осталось мало, но это совсем не означает, что с нами покончено. Вот увидишь, отряд снова возродится… А тебя я не понимаю. Как ты мог решиться на такую глупость! Это непохоже на тебя. Ты должен жить хотя бы ради меня, ради нашей любви, если ничего другого у тебя не осталось!
— Лабуд поступил правильно, — вступил в разговор Пейя Лолич, сидевший недалеко от Лабуда, к нему спиной. — На его месте каждый сделал бы то же самое… Как хотите, но рано или поздно он свое получит. Такие вещи безнаказанно не проходят.
Гордана гневно посмотрела на Лолича, почувствовав, как у нее перехватило дыхание.
— Сколько народу погибло, и кто-то должен за это отвечать, — продолжал Лолич. — Я не знаю, кто в этом виноват, и не хочу быть никому судьей, но уверен — придет время и виновного найдут, даже если к тому времени его не будет в живых.
Лабуд посмотрел на Лолича и усмехнулся. Он не стал ничего ему говорить, так как видел его насквозь. Беспричинные обвинения Лолича пробудили Лабуда, вызвали у него желание действовать. Лабуд встал. Перед ним была жуткая картина минувшего боя. Но он снова был самим собой и знал, на кого ему следует опираться. Угрызения совести больше его не терзали — все это отошло на задний план. Сейчас надо было действовать, продолжать борьбу.
Несильным голосом Лабуд отдал команду готовиться к движению. Бойцы, словно давно этого ждали, начали собираться и вскоре построились в две шеренги.
Наступал вечер, когда остатки отряда двинулись в далекий путь. Лабуд снова шел впереди, неся на плече ручной пулемет. Слова Лолича не выходили у него из головы, больно ранили душу, но он не искал оправдания. Полностью сознавал свою вину и, когда пришло время, без ропота принял наказание.
…И вот теперь, много лет спустя, уже искупив вину, Лабуд часто возвращался мыслями к прошлому. В долгие часы тяжелого одиночества он лежал с закрытыми глазами и возрождал в памяти давно минувшие события, образы боевых друзей и товарищей. Люди, с которыми ему пришлось воевать, возникали откуда-то из глубин небытия, следовали в его памяти один за другим. Их было много, очень много — десятки сотен. Но самыми дорогими остались для него те, с которыми он провел первые дни и месяцы войны, с которыми пережил первые поражения и первые победы: Гордана, Зечевич, Шумадинец, Марич, Космаец, Лолич тоже… Чаще, чем других, Лабуд вспоминал Космайца. Когда отряд Лабуда вырос в бригаду, которая отважно сражалась с врагом в каменистых теснинах Боснии, Космаец все мечтал вернуться в родные места, на свою любимую гору. И он добился своего, правда уже в конце войны, будучи командиром роты. После этого следы его затерялись, и теперь с Лабудом осталась лишь Гордана.
В открытое окно врывался шум города. Пахло молодыми листьями и цветами. С каждым днем листья на деревьях увеличивались и вскоре почти полностью закрыли голубое небо, видимое из окна комнаты Лабуда. Шепот листьев Лабуд воспринимал как последнюю песню.
Осталась за порогом еще одна зима, последняя для него. Он знал это и не терзал себя напрасно. Его увядшее лицо и потухшие глаза были спокойны и, казалось, говорили, что все идет так, как должно было идти. Маятник настенных часов неторопливо отсчитывал секунды. Солнце клонилось к закату. Это был его закат. Когда в комнату поползли предвечерние тени, перед Лабудом снова стали возникать картины минувшего. В жизни бывают события, о которых человек не может вспоминать без отвращения, но забывать которые он не имеет права. Всякий раз, стоило ему закрыть глаза, откуда-то, словно из другой жизни, до него доносился холодящий душу вопрос: «Признаете ли вы себя виновным? — Этот лицемерный голос ему не забыть никогда. — Обвиняемый, вы должны сказать суду, признаете ли вы, что, будучи солдатом старой армии, убили руководителя молодежной организации?..»
Лабуд понимал, что тень от преступления сохраняется дольше, чем сияние подвига, и что за преступлением рано или поздно следует наказание.
«Да, признаю…»
«Вы признаете, что в тысяча девятьсот сорок первом году совершили предательский акт в отношении своего народа? Вам вменяется в вину то, что вы, намереваясь деморализовать отряд, бросили беженцев, которые в тот же день попали в руки четников и все погибли…»
Он ничего не отрицал, не пытался защититься, не сваливай вину на тех, кого уже не было в живых, и в глубине души гордился тем, что имеет возможность принять часть вины погибших на себя. Он помнил, что те, погибая, не пытались делить одну смерть на двоих. Теперь Лабуд так же принимал приговор, как они приняли смерть.
«Да, признаю…»
«Вы признаете, что по вашей вине в сорок первом году был уничтожен партизанский отряд, оставленный Верховным штабом для выполнения специального задания?»
«Да, признаю…»
«Суд удаляется на совещание…»
И пока судьи совещались, он сидел в холодном зале суда, где все кресла, были пусты, и думал о Лоличе. Пейя был единственным живым свидетелем, ему принадлежало решающее слово. И его голос громко звучал на суде. Лолич ничего не прибавлял, ничего не преувеличивал и не приглаживал: он хотел быть объективным. Лабуд не обиделся на него.
Последний раз они встречались вскоре после окончания войны. Лабуд в то время командовал бригадой. Лолич был редактором одной газеты. В тот день им вручали награды: Лабуду — орден «За заслуги перед народом» с золотыми мечами, Лоличу — медаль. Он еще сказал тогда с недоброй усмешкой: «Интересно, за какие заслуги тебе дали такой орден?»
Сейчас все ордена были подшиты к делу. Шесть орденов и две медали. На кителе от них остались дыры, словно рубцы от ран. За каждым орденом — десятки подвигов, за каждой медалью — по три ранения, но сейчас это не принималось в расчет. Все это кануло в бездну, которой некоторые боятся и обходят далеко стороной… И там, на острове, где все залито солнечным светом, для него был один мрак. Независимо от того, закрывал он глаза или открывал, мрак не рассеивался.
За окном пробуждалась весна, сияло солнце, было тепло, а его пробирал холод, и не было возможности согреться. Он очень любил жизнь, страстно хотел жить, но смерть была уже на лестнице. Только он сам, и никто другой, слышал ее шаги. С каждым часом она подходила к нему все ближе и ближе, уже постучалась в дверь, но он не хотел ее впускать.
— Завтра я встану, и мы пойдем в парк, — каждый вечер говорил Лабуд Гордане, которая не отходила от него ни на шаг. — И будем гулять целый день. Я нарву тебе сирени.
Она знала, что этого уже никогда не будет. Действительность опровергала иллюзию. Гордана брала его холодную руку, прижимала ее к своей груди, целовала без слов. Он устало смотрел куда-то мимо нее, словно всматривался в даль.
— Дорогая моя, помнишь ли ты?.. — начинал он тихим голосом. Это «помнишь ли» было теперь стержнем их жизни. Всего остального просто не существовало. Для них теперь все было в прошлом. Они так и говорили: «до войны», «до нашей встречи», «до нашего расставания» — и ни слова о своей жизни теперь. Сегодня, как и завтра, рисовалось им в каких-то неясных, размытых контурах. Все чаще Лабуд впадал в меланхолию и позволял себе всякие несуразности. Гордана понимала его состояние и не сердилась. Когда женщина действительно любит, она никогда не сердится на мужчину.
— Ты меня прогоняешь? Хочешь, чтобы я вернулась к нему?
— Да, тебе со мной не по пути. Нам надо расстаться.
— Значит, не любишь больше? А ведь как клялся…
Слабыми пальцами он брал ее за руку, но сжать не мог: не было сил.
— Я люблю тебя больше, чем раньше. Но одной тебе будет трудно.
Она смотрела на него нежно, с глубоким уважением и любовью.
— Я никогда не буду одна, я всегда буду с тобой. Мы не расстанемся вовек.
Лабуд смотрел на нее непонимающим взглядом.
— Отныне мы с тобой неразлучны, — после краткого молчания заговорила она проникновенным голосом. — Ты всегда будешь со мной, рядом со мной, во мне… У нас будет ребенок, и я счастлива. Я буду матерью, слышишь? Это твой ребенок, твоя кровь, твое семя. Что бы ни случилось, я воспитаю из него настоящего человека, чтобы был такой, как ты, — порядочный и смелый. Самое главное для человека — порядочность. Я ненавижу и презираю подлецов. Мне только недавно стало известно, что мой муж подлец и мерзавец. Он сам мне признался, что оболгал тебя, что написал на тебя донос, в котором все факты извратил. А после дал объявление в газете, будто ты погиб. Я так его возненавидела после этого, что не могу на него больше смотреть. И что бы ни произошло в дальнейшем, к нему я не вернусь. Буду жить ради нашего ребенка, буду жить твоей любовью. — Она говорила быстро, словно боялась не успеть сказать все, что хотела.
— Что же ты мне раньше не сказала, что у нас будет ребенок?! — потрясенный новостью, воскликнул Лабуд.
Она пожала плечами. Лабуд улыбнулся ей благодарно. Он смотрел на нее с любовью широко открытыми глазами.
Он умирал без мук и страданий, уходил из жизни незаметно и безболезненно. Перед ним отворились врата бездны, и он постепенно в нее погружался. Свет уступал место сумраку, который все больше сгущался, пока не превратился в непроглядную темень. На рассвете следующего дня сердце его остановилось. В комнате на втором этаже стало совсем тихо. Только время от времени, словно из глубин небытия, доносились тяжелые вздохи одинокой женщины. Положив голову на грудь покойного и закрыв глаза, она прощалась со всем, что у нее было с этим человеком. Все дни до похорон она ходила как в тумане, ничего не видела и не слышала. Встрепенулась лишь в последний день. На улице было солнечно и шумно. Впереди следовал черный катафалк, запряженный парой белых лошадей. Размеренный стук тяжелых подков напоминал ей шаги партизанской колонны, спускающейся с горы. Одетая в черное, она шла за гробом одна. За ней шли несколько их близких друзей, как и тогда, в ночь после поражения. Все повторялось: он — впереди, она — за ним, за нею — те, кто остался в живых. Далеко, словно в тумане, синела вершина горы, той горы, где ковалась свобода, омытая кровью. Они шли к ней. Ноги устало шагали по угловатым камням. И Гордане казалось, что звуки шагов складываются в припев песни «Пади, сила и неправда», теперь уже давно забытой. Временами ей даже казалось, что она слышит голос Лабуда. Когда уходили в Санджак, в отряде было всего несколько десятков человек. Оттуда вернулись с тысячами. Долго и трудно шли они к свету и солнцу. Сейчас, когда всюду грело солнце, а город жил новой бурной жизнью, Лабуд возвращался в свои горы, на свой Космай, возвращался в прошлое.
После того как траурная процессия вышла из города, к Гордане подошел мужчина и пошел рядом с ней. Она не сразу его заметила. Лишь когда он попытался взять ее под руку, она посмотрела на него и вздрогнула. Слегка ускорив шаг, она решительно оставила его позади. Теперь она знала все о том, кто отнял у нее любовь, а у Лабуда — жизнь. Знала и не хотела прощать. С прошлым было покончено. Она так решила. И не жалела об этом.
1969 г.
Белград — Москва
В ТЕНИ УЩЕЛЬЯ
Повесть
Танюше

© Издательство «Маяк», 1977

Он достал из внутреннего кармана куртки потрепанную карту, разложил на выступе скалы, похожем на стол, и внимательно вгляделся в нее. Вся округа была знакома и без карты, но Марко Валетанчич хотел еще раз проверить себя, правильна ли он движется. После кого как овладели хутором Грофовия, его рота нигде не задерживалась. Дорога все время шла по узкой долине, обрамленной невысокими горами, и люди двигались гуськом. Потом перешли небольшую речку и стали подниматься по склону с выгоревшим лесом. И здесь теми марша не снизился.
Марко удивлялся выносливости людей. И еще дивился тем переменам, какие произошли здесь с прошлой осени. Когда выгорел лес? Еще в прошлом году он был зеленый, сочный, красивый, а теперь остались одни почерневшие, покрытые копотью пни. Камни разворочены, земля вспахана снарядами и побурела. Везде налет сажи, зола. Небольшая речка, вытекающая из ущелья Мишлевац, в нескольких местах оказалась заваленной камнями, и на месте старого русла образовались небольшие озера. В горах все еще таяли снега, и ручьи журчали без умолку. Вода в озерах была прозрачной, но никто к ней не прикасался, потому что кое-где, у самого берега, плавали трупы людей. Видно, некому было захоронить погибших в осенних боях. Всю зиму они пролежали под снегом и льдом, а теперь вздулись и всплыли на поверхность. Трупы встречались и в горах, и в ущельях; они разлагались, и повсюду воздух был удушливый, как в газовой камере. И чем ближе партизаны подходили к ущелью, тем чаще попадались трупы.
Горы в этих местах небольшие, но ущелья между ними открывались мрачные, глубокие и опасные. В войну эти ущелья часто становились кладбищами как для одной, так и для другой стороны. И вот Марко увидел широко разинутую пасть ущелья Мишлевац. Он считал здешние места самыми отвратительными в этих горах.
В Мишлевац никогда не заглядывало солнце. Скалы из серого гранита отвесными стенами нависали над небольшим ручейком, образуя своеобразный коридор, по которому трудно было двигаться даже в хорошее время. Местами коридор раздвигался, но нигде не имел в ширину больше ста метров. Завязывать бой в этой мышеловке было неумно. Марко и раньше несколько раз бывал здесь, даже два раза проходил ущелье с начала до конца, но тогда он был простым бойцом, шел туда, куда вели. А теперь он командовал ротой и не хотел напрасно рисковать жизнью шестидесяти семи человек.
Разглядывая карту, подпоручик Валетанчич пытался понять, почему немцы, отступая, двинулись по ущелью, а не обошли его. Потом решил, что их подвела дорога, наезженная подводами. Крестьяне по ней вывозили лес, и теперь немцы пошли по этой дороге, рассчитывая кратчайшим путем выйти на плато и там занять позицию. Но Марко знал, что эта дорога доходит только до середины ущелья, а потом превращается в козью тропку.
Марко собрался уже свернуть карту, но тут увидел, что к нему подходит комиссар.
— Как ты думаешь, Ранка, куда нам лучше двинуть? — повернув голову в сторону девушки, спросил подпоручик.
Ранка не сразу ответила.
— Нам следует поторопиться. — Голос у Ранки был спокойный, но усталый. — Мне кажется, нам лучше пойти по этой вот тропинке. — И она повела ногтем большого пальца по карте вдоль черной прерывистой линии, петляющей по склону горы. — Из ущелья, ты это прекрасно знаешь, имеется только один выход. — Ее палец споткнулся и остановился у небольшого черного квадратика. — Если мы раньше немцев выйдем вот сюда и закроем выход из ущелья, тогда будем считать, что нам повезло.
— Нам и так сегодня здорово повезло. — Марко свернул карту и затолкал в задний карман брюк. — Если бы тебя не ранили и не убили Мирко и Драгутина, я бы этот день считал одним из самых удачных дней войны.
— День, считай, только начался, — пояснила Ранка. — До вечера еще столько может произойти.
— Если воевать с умом, ничего страшного не произойдет. Ты видела, как немцы драпанули, когда мы поднялись в атаку? Они даже не успели унести минометы.
Ранка Николич улыбнулась, не разжимая обветренных губ. Это была обаятельная и еще очень молодая девушка. Она уже два года партизанила, но до сих пор не могла привыкнуть к мужской жесткости и прямолинейности, краснела всякий раз, услышав ругань.
— Ты права, нам надо торопиться. — Взглянув на трофейные часы и обнаружив, что они не идут, Валетанчич выругался. — Эти гады могут успеть вылезти из ямы, пока мы решаем, куда двигаться и как двигаться.
Ранка перестала улыбаться и недружелюбно посмотрела на подпоручика.
— Ты несносный человек. Сколько раз я тебя просила не выражаться в моем присутствии, — сказала она. — И как я такого тебя еще полюбила!
— Это твоя самая ужасная ошибка в жизни, — ответил он, соскакивая со скалы.
Бойцы лежали на земле, уставшие и потные, грелись на весеннем солнце. Сколько Марко помнил, март еще никогда не был таким теплым. Солнце припекало. Ночи были лунные и прохладные, а дни солнечные и теплые. «Прекрасная весна», — подумал Валетанчич.
На вершинах гор еще был виден снег, а в долинах на кустарниках распускались листья, цвели боярышник и дикая слива. Марко помнил из рассказов стариков, что после цветения боярышника холода не возвращаются, и потому он несколько дней назад сбросил шинель. В войну он так намерзся, так возненавидел зиму, что с приходом весны удивительно преобразился внутренне, из каждой его клетки будто бы струилось весеннее солнце. Сейчас он был в куртке из английского сукна, в брюках, снятых с болгарского фашистского офицера, а на ногах имел тяжелые башмаки — из экипировки немецкой горной дивизии «Эдельвейс». Хотя и наступила весна, но Марко ходил с туго замотанным горлом. После ранения, случившегося два года назад, горло у него часто простуживалось, болело, и ему приходилось все время заботиться о нем.
Собственно, о его горле больше заботилась комиссар роты, чем он сам.
Марко был старше своего комиссара на два года и на год раньше стал партизаном, но все равно почти всегда считался с ее мнением, даже если она иногда явно капризничала. Ранка успела до войны закончить четыре класса гимназии в Аранджеловаце и знала такие вещи, о которых Марко не имел и приблизительного понятия. Когда Валетанчича ранило, все считали, что он на всю жизнь потеряет голос. Но Ранка нашла тогда в горах какую-то траву и стала прикладывать к его ране. «Пелагич этими травами лечил людей от ран, укусов собак и ядовитых змей», — говорила Ранка. И через месяц к Марко вернулся голос. Но когда ему приходилось долго и громко кричать при атаке, голос у него снова пропадал. Сейчас он тоже заметно охрип.
— Марко, как у тебя горло? — спросила Ранка, когда рота вытянулась в длинную колонну. — Пожалуйста, постарайся меньше кричать. И когда пойдем в атаку, не ори как сумасшедший.
— Горло у меня в порядке, — ответил он, поднимаясь по склону и держа автомат в правой руке. — Ты лучше подумай о своей ране. — Он остановился над самым обрывом. — Ведь рука все еще болит?
Ранка отрицательно покачала головой. Марко знал, что она обманывает. Он видел, что рука у нее посинела и затекла, и понимал, как нестерпимо болят свежие раны.
— Не люблю, когда ты меня обманываешь, — сказал он.
— Тебя никто не обманывает, — ответила девушка, избегая его взгляда. — У меня все в порядке, рана не так болит, как утром… — Она приподняла руку и пошевелила пальцами.
Утром во время первой атаки пуля зло впилась в мякоть ладони, и теперь рука лежала у нее на груди, забинтованная и подвешенная на марлевой повязке.
— Напрасно ты меня не послушалась.
Ранка не дала ему договорить.
— Какой ты все-таки вредный, — с упреком сказала она. — Ты не хочешь, чтобы я была рядом даже в такое трудное время, как сейчас. — В ее голосе звучала обида. — Я могу совсем уйти из роты. Меня и так уговаривают перейти в политотдел штаба бригады…
— Зачем ты так? Ведь знаешь же, что я тебя люблю! — Рассердившись, Марко повысил голос. — Если бы не любил, в лазарет идти не уговаривал бы.
Она подошла к нему поближе, здоровой рукой взяла за локоть и крепко сжала, головой потерлась о плечо.
— Честное слово, это даже не рана, а пустяковая царапинка, и рука уже совсем не болит, — сказала Ранка, — а если чуть-чуть и ноет, так это совсем не так страшно… Скоро война закончится. Это должен быть очень красивый день, и в этот день я хочу быть рядом с тобой.
— Пока война закончится, ты еще успеешь вернуться в роту.
— Кто знает, может, и не успею. Конечно, не успею. Война может закончиться в любой день. Говорят же, что войны кончаются так же неожиданно, как и начинаются.
— Но эта война неожиданно не кончится. Фашисты не капитулируют до тех пор, пока не сломаешь им последний позвонок.
— Все равно, сколько бы это ни длилось, а я не хочу уходить из роты и расставаться с тобой. Ты должен это наконец понять.
Марко улыбнулся ей. У него было неплохое настроение. Они быстро продвигались вперед. Слева и справа доносилась стрельба, а его рота больше часа не встречала сопротивления. На рассвете их бригада штурмом прорвала фашистские укрепления.
Почти месяц топтались на одном месте, пока наконец не прорвались. И теперь немцы поспешно отступали. Люди подпоручика Валетанчича несколько раз их догоняли, но каждый раз стоило им подняться в атаку, как немцы сворачивали удочки и убегали. Только на хуторе Грофовия пришлось туго. Хутор располагался на двух небольших возвышенностях и был укреплен по всем правилам, обнесен колючей проволокой и траншеями. Противник здесь решил оказать сопротивление. Марко два раза пытался поднять бойцов в атаку, но каждый раз они пробегали всего несколько шагов и снова ложились, прижатые к земле сильным пулеметным огнем.
— Послушай, Марко, почему же ты не вызываешь артиллерию на помощь? — спросила его ротный комиссар. — Мне кажется, без пушек нам не удастся овладеть хутором. Видишь, как они огрызаются.
— Сейчас вся артиллерия на марше, меняет свои позиции, — ответил Марко, — и пока они установят свои пушки, пока пристреляются, мы потеряем уйму времени.
— Сколько бы мы его ни теряли, оно все же намного дешевле, чем жизнь бойцов.
Он хотел выругаться, но сдержался.
— Нет, мы еще раз должны попробовать. И в сорок втором, и в сорок третьем, и даже в сорок четвертом году мы не только хутора, но и города брали без пушек. И этот хутор возьмем.
Это было не лучшее решение, но он знал, что партизаны привыкли любое укрепление брать грудью. Со стороны хутора стрельба не прекращалась. Стоило только кому-нибудь пошевелиться, как его захлестывал дождь свинца. От сильной стрельбы солнце сделалось тускло-желтым, а горизонт заволокло серым дымом. Несколько человек было ранено. Совсем недалеко от командира роты упал, скошенный пулей, лучший пулеметчик из первого взвода, которого Валетанчич хотел назначить командиром взвода.
— Нас всех так перебьют, — с волнением сказала Ранка, — надо что-то делать.
Она с ужасом смотрела на убитого пулеметчика. За два года войны никак не могла привыкнуть к виду мертвых.
Валетанчич послал связного к артиллеристам. Он уже больше не делал попыток захватить хутор штурмом. Пришлось ждать минут тридцать, пока не подошли пушки и минометы. Снаряды и мины сперва рвались далеко за высотами, потом стали падать удачнее, и хутор Грофовия скрылся из виду за клубами дыма. Когда артиллеристы накрыли одну за другой несколько целей, ответная стрельба вдруг прекратилась.
— Друже подпоручик, швабы драпают! — закричал во весь голос пулеметчик из второго взвода Жика Прокич. Дым стал постепенно рассеиваться. — Смотрите, как они пятками себе зады отбивают. — Жика громко рассмеялся, и его смех утонул в новом залпе разрывов.
Марко короткими перебежками взобрался на холмик, где лежал Прокич. Оттуда было видно все, что творилось далеко за хутором.
— Чаруга, почему не стреляешь? — спросил подпоручик Прокича, наблюдая, как гитлеровцы поспешно отходят.
— Мне их, бедняжек, жалко, — ответил пулеметчик, оскалив крупные зубы. — У меня рука не подымается стрелять по людям, когда они убегают, даже если это швабы.
«Сукин сын, — подумал Марко, — никак не поймешь, когда он говорит правду, а когда врет». В душе Марко всегда спорил с Чаругой, но никогда на него не обижался.
— С каких это пор ты стал таким добродушным?
— Я всю жизнь таким был, ты должен бы это знать, — ответил тот.
— Вот уж не подозревал, что ты такой сердобольный.
— Тем хуже для тебя, если не знаешь своих бойцов.
— Вас слишком много, а я один, и мне распознать всех трудновато, тем более что каждый день вы меняетесь. Сегодня к вечеру, наверное, снова прибудет пополнение.
— Но я уже целый год в роте. И таких бойцов, как я, у тебя не больно много. Во всей бригаде Чаруга только один, а это кое-что значит.
— Да, скромностью ты не страдаешь.
Жику Прокича еще в школе прозвали Чаругой, по имени известного гайдука, до войны гулявшего по Шумадии. Прокич гордился этим прозвищем и носил его с таким достоинством, с каким герои носят свои награды.
О Чаруге говорили в роте, что он рожден в панцирной рубашке, не пробиваемой фашистскими пулями. За два года, которые он провел на войне, его ни разу не поцарапало пулей или осколком, и это давало ему известное преимущество перед остальными. Когда нужно было кого-то послать на самое рискованное задание, Валетанчич всегда назначал Чаругу. «С тобой и так ничего не случится, — говорил ему Марко, — ты заговорен от фашистских пуль, только смотри, под свои не попади…»
Когда роте бывало очень трудно, Марко находился поблизости от Жики Прокича-Чаруги. Хотел, что ли, заслониться его пуленепробиваемой спиной? Делал это бессознательно, но это было так. Вот и сейчас он очутился возле Чаруги, и это означало, что роте угрожает серьезная опасность. Рота Валетанчича успела довольно далеко оторваться от батальона. Если судить по стрельбе, которая доносилась сзади, они были на километр впереди своих войск, в глубине фашистской обороны. Коридор, который они себе проложили, в любую минуту мог захлопнуться. Тогда — окружение. Правда, после взятия хутора Грофовия рота нигде не встречала организованного сопротивления. На ее пути попадались лишь одинокие солдаты, которые или пытались убежать, или сдавались в плен без боя. В большинстве своем это были обозники из тыловых частей или связисты.
У некоторых, когда их забирали в плен, уже не было оружия.
Валетанчич ругался, когда к ному приводили пленных.
— Какого черта вы привели их ко мне? — багровел Марко. — В роте и так мало людей, а тут еще с этими гадами надо возиться!
На левом фланге образовалась порядочная колонна из солдат в мундирах зеленого цвета. Валетанчич приказал привязать их ремнями друг к другу, чтобы они не разбежались и чтобы сопровождать их мог один человек. Несколько немцев пытались убежать, но были остановлены меткими выстрелами и так и остались лежать у дороги, как вешки.
Дорога была отвратительная. Она петляла по крутому откосу и неуклонно поднималась все выше и выше к плато. Это была даже не дорога, а обычная горная тропка, и по ней невозможно было идти вдвоем рядом. Рота растянулась почти на целый километр, если не больше, и подпоручик Валетанчич с беспокойством думал, как он поступит, если окажется, что немцы заняли позицию на плоскогорье и встретят роту шквальным огнем.
— Нам никак тогда не удастся развернуться в цепь, — поделился он своими мыслями с комиссаром, — и они нас могут очень даже легко забросать гранатами раньше, чем мы окажем сопротивление.
— Об этом и я всю дорогу думаю, — ответила озабоченно Ранка.
— Какая мне польза от того, что ты думаешь? — рассердившись, почти выкрикнул Марко. — Все вы умеете думать, а когда надо принять решение, смотрите мне в рот, ждете, что я скажу. И ты тоже, комиссар…
Лицо Ранки покраснело от волнения.
— Марко, что с тобой сегодня? — спросила она спокойно, не подавая виду, что задета. — Возьми себя в руки. Что подумают бойцы? Ты им подаешь не лучший пример.
Невозмутимость Ранки, спокойный тон ее речи застали Валетанчича врасплох. Лучше бы она накричала на него, оскорбила, наговорила кучу гадостей, чем вот так невинно улыбалась.
— Извини, Ранка, но ты сама понимаешь… — начал он оправдываться, сетуя про себя на свою глупую выходку.
— Конечно, понимаю, какие могут быть разговоры. Знаю, тебе трудно, но нельзя так распускаться. Может, мне еще труднее.
Они посмотрели друг на друга так, будто впервые встретились.
— Знаю, дорогая, что тебе трудно, но ты сама в этом виновата, — сказал Марко.
— Сейчас не об этом разговор — кто в чем виноват… Нам надо принять какое-то разумное решение, чтобы фашисты не застали нас врасплох там, на плоскогорье.
— Надо что-то предпринять, — согласился подпоручик. — Как ты полагаешь, почему это человек никогда не знает, что его ждет в этих проклятых горах?
— Если бы мы знали, что фашисты думают, нам бы легко было воевать, — с иронией заметила Ранка.
— Немец ни о чем не думает. Жика говорит, что немец не умеет думать. Ему дана голова лишь для того, чтобы носить каску и чтобы иметь глаза. Ведь надо было где-то поместить ему глаза… Фюрер их отучил думать.
— Ты уверен, что они не умеют думать?
— А ты в этом сомневаешься? — вопросом на вопрос ответил Марко. Он любил иногда вместо ответа ставить вопросы.
В это время донесся четкий дробный стук пулеметных очередей. Стреляли не так далеко. Марко с Ранкой переглянулись. На высотах восточнее Мишлеваца разорвалось несколько снарядов. Было ясно — это стреляла дальнобойная артиллерия. Они увидели сперва серые расцветающие клубы дыма, а потом до их слуха докатились звуки разрывов. Марко подумал, что рота легко может попасть под огонь своих пушек. Стрельба была слышна и на юге, где, по мнению подпоручика, должен был наступать их батальон. Они молча поднялись еще на несколько изгибов тропинки, снова приостановились и посмотрели на высоту по другую сторону ущелья.
— На той стороне наступает первая бригада, — сказала Ранка, проследив за взглядом Марко. — Наши выкуривают фашистов.
Валетанчич достал цейсовский бинокль, навел его на дальние высоты, и перед ним ожила и задвигалась изломанная цепь бойцов. Это были партизаны, в этом Марко не сомневался. Он очень легко и безошибочно узнавал своих на любом расстоянии.
— Сейчас наши наступают на всех участках, — сказал он.
— Давно пора было начать общее наступление, — пояснила Ранка. — Без общего наступления мы никогда не победим.
Марко продолжал наблюдать в бинокль. Он теперь смотрел через большую прогалину в ущелье Мишлевац. Бинокль так приблизил ущелье, что Валетанчичу в первое мгновение показалось, будто туда запросто можно добросить гранату.
Заглядывая в ущелье сверху, подпоручик вдруг увидел немцев. Они шли таким же порядком, как и партизаны, — солдат от солдата в десяти шагах.
— Посмотри, с кем нам придется иметь дело, — сказал Марко, передавая бинокль комиссару.
Ранка несколько минут молча смотрела в бинокль. Лицо у нее было напряженное.
— Это подразделения дивизии «Принц Евгений», — сказала Ранка. — Мы с ними встречались на Дрине.
— И на Неретве тоже. И на Ибре, и в Санджаке. Уже больше двух лет наши дороги все время скрещиваются.
— Когда-то должна быть и последняя. Слишком долго мы шли к этому. Знаешь, Марко, а фашисты, наверное, и не догадываются, что мы собираемся устроить им мышеловку в этом ущелье. Если нам удастся это сделать, тогда они точно проведут свой последний бой.
— Может, они попытаются выбраться из ущелья.
— Не знаю, но мне говорили: кто попадает в Мишлевац, тот оттуда уже не выбирается. Если помнишь, в прошлом году один наш взвод в этом месте уничтожил целую роту фашистов.
— Сейчас их вошло в ущелье побольше, чем рота. Удивительно, как они легко дали загнать себя в эту дьявольскую мышеловку.
— Если бы мы их не загнали туда, нам самим теперь трудно пришлось бы. А пока мы идем, словно прогуливаемся.
Марко промолчал. Лицо у него было усталое, а на открытом лбу выступили крупные капли пота. В горах было прохладнее, чем в долине, и чем выше они поднимались, тем становилось холоднее. Они поднялись еще немного. Теперь были видны две цепи гор, затянутые синеватой дымкой; оттуда тоже доносились голоса пушек. Совсем близко, за первым кряжем, послышалась целая серия разрывов ручных гранат. Не иначе как какая-нибудь из рот вырвалась вперед и устроила немцам засаду. Эта мысль обеспокоила Валетанчича. Он не любил, если в бою кто-нибудь опережал его.
— Мы совсем раскисли, едва ползем, — сказал Марко комиссару, — а немцы не будут сидеть в ущелье и ждать, пока мы закроем выход.
— Что ты предлагаешь? — спросила его Ранка.
— Нужно взять один взвод, может даже отделение, и попытаться с ним вырваться вперед. Одно отделение свободно может блокировать выход из ущелья.
— Первый взвод не участвовал в атаке на хуторе Грофовия, — сказала Ранка, — и теперь его можно послать туда, пусть искупает свою вину.
В воздухе пролетел снаряд и упал там, где всего несколько минут назад рвались гранаты. Потом еще и еще. Валетанчич озабоченно взглянул на небо, как бы пытаясь увидеть пролетающие там снаряды.
— В первом взводе командир, конечно, подкачал. Если он не исправится, его придется заменить, — пояснил Валетанчич. — Сейчас я пойду и попытаюсь его расшевелить.
— Нет, Марко, раз надо кому-то идти, то лучше я пойду, а ты оставайся с ротой. Твое место там, где главные силы роты, — уточнила Ранка. — А насчет того, что первый взвод надо расшевелить, так это я сделаю не хуже тебя.
Марко не успел ничего ответить — она быстро пошла вперед, чуть пригнувшись, здоровой рукой придерживая пистолет, висевший у бедра. Минут через пять Ранка оторвала первый взвод от роты, и еще минут через десять она показалась на выступе скалы, почти на самой вершине горы, и оттуда помахала рукой. Снизу она была похожа на монумент, изваянный из меди и освещенный лучами прожекторов. Марко пожалел, что отпустил ее. «Бедняжке и так нелегко с раненой рукой», — подумал он, и когда снова поднял голову и посмотрел на скалу, Ранки уже не было видно. В просветах между голыми ветками деревьев торчали серые, угрюмые скалы, изрезанные причудливыми складками.
Чем выше поднимались люди, тем дорога становилась труднее. За первыми высотами вдалеке снова вставали горы, и на них было очень много снега, они сливались с горизонтом. Их можно было принять за серые тучи.
— Удивительная девушка — наш комиссар, — проследив за взглядом подпоручика, сказал Чаруга, переставляя пулемет с одного плеча на другое. — Хороший человек!
— Да, хороший, — согласился Марко. — И не только она одна, а все девушки у нас хорошие.
— Если бы не эта война, — помолчав немного, снова заговорил Чаруга, — представляешь, какая бы Ранка была большая госпожа. А теперь она такая же, как и мы все. Странно!
Марко взглянул на него. Лоб у Чаруги вспотел, а нижняя губа, толстая и потресканная, устало отвисла.
— Ты уверен, что Ранка была бы большой госпожой, если бы не война? — спросил его Марко.
Чаруга усмехнулся. Он устал, с трудом карабкался вверх и не сразу ответил.
— Уверен, — начал он, выбравшись на более ровный участок дороги. — Она, говорят, закончила гимназию. А эти гимназистки хуже любой другой твари. У меня в этом деле небольшой опыт имеется. До войны мы с отцом часто возили в город на рынок помидоры, огурцы, арбузы, а потом, когда созревал виноград, и виноград возили. И повидал я этих мещаночек столько, будь здоров… Прежде чем купят, скажем, кило помидоров или гроздь винограда, они тебе душу вымотают. Все требуют, чтобы руки у тебя были чистые. А как у крестьянина могут быть чистые руки, если он всю жизнь в земле и навозе копается? Они даже не понимают, хоть и ученые, что на чистой земле ничего не растет, без навоза не растет ничего.
— Ну, я думаю, Ранка понимает, как тяжел крестьянский труд, — заступился за девушку Марко. — Ее отец — обычный рабочий.
— Смотря какой рабочий. Мне всяких людей в жизни приходилось встречать. Нигде, скажу тебе, такой разнокалиберной публики не увидишь, как на рынке и еще в партизанах. И напрасно ты улыбаешься. В правоте своей я имел возможность убедиться.
Марко посмотрел на пулеметчика, и тот понял его взгляд, но не замолчал.
— Нет, друже подпоручик, ты на меня не смотри так. Если я что-то говорю, значит, это так и есть. Все эти городские… вот где у меня застряли. — Он ребром ладони провел по своей толстой шее. — И я просто удивляюсь, почему такая образованная барышня, как наш комиссар, пришла в партизаны. Ну, мы пошли бороться, это понятно, а она?.. — Чаруга пожал плечами. — Странно, разве нет?
— Ничего странного в этом нет, — ответил Марко. — Наши сербские девушки отлично себя показали в этой войне. Чем они хуже бойцов-мужчин?
А про себя подумал: «Какой же ты еще политически безграмотный, несознательный тип… Но — ты храбрый, бесстрашный парень, на тебя можно положиться, и потому я не сержусь, когда ты несешь разную ересь».
— Они себя умеют показать не только на войне… Страсть люблю баб, которые умеют в постели показать, на что они способны.
— Ты, несчастный болтун! У тебя голова чем набита? Грязью?
— Почему грязью? Ты, друже подпоручик, не обижайся, но все знают, какие у тебя с комиссаром отношения.
— Говори прямо!
— Разве ты с ней не спишь?
— Кто это тебе сказал?
— Все в роте об этом знают. Не думаешь ли ты, что мы слепые?
— Лучше ты, Чаруга, придержи свой язык. — Валетанчич уже не смотрел на пулеметчика. — А когда подойдем к первому ручью — постарайся хорошо прополоскать его в воде. Можешь даже песком отдраить, — посоветовал ему он.
— Хорошо, командир, сделаю, как советуешь, — пообещал Чаруга, и его лицо, обросшее черной щетиной, расплылось в улыбке.
Валетанчич прижался к краю тропинки, остановился и, пропуская мимо себя бойцов, поторапливал их, хотя и знал, что они изрядно устали и с трудом карабкаются вверх.
Солнце припекало, но жарко не было. Со стороны ущелья Мишлевац тянуло таким сквозняком, будто там работали продувные установки. А люди забрались уже высоко, и многим казалось, что они вот-вот коснутся головой неба. Но они все поднимались и поднимались, а небо удалялось.
Там, откуда они пришли, в нескольких местах встали плотные столбы дыма, и Марко подумал, что всегда после боев еще долго не гаснут пожары. Дым стелился по долинам, полз по ущельям, а вершины холмов выглядывали из дыма, как островки из морского тумана.
Стрельба не прекращалась, но она уже была не такой интенсивной, чтобы поглощать другие звуки. Сквозь захлебывающийся грохот далеких пушек и минометов Марко уловил нечто, доносившееся, как ему в первое мгновение показалось, из самой утробы земли. Сперва оно было похоже на эхо, затихающее в горах, потом на шум водопада, и наконец все ясно различили гул самолетов. Те летели настолько низко, что Марко отчетливо увидел летчиков в шлемах и красные звезды на фюзеляжах. Это были партизанские самолеты. Только партизаны могли летать так низко над горами. Марко помахал им рукой. Самолеты быстро скрылись за кромкой высоты. Не прошло и минуты, как впереди послышались разрывы бомб.
— Это они нам помогают, — сказал кто-то из партизан, — расчищают дорогу.
Взрывы бомб на миг прекратились, потом снова и снова повторились. Зенитки тоже стреляли. Марко приказал бойцам ускорить шаг.
— Мы и так все время бежим, — отозвался парень, который минуту назад восхищался работой летчиков.
Марко посмотрел на бойца таким взглядом, будто пытался проникнуть в его душу и мысли одновременно, но не успел ничего сказать, так как совсем неподалеку защелкали карабины, потом затарахтел пулемет, а вслед за ним разорвалось несколько гранат. Это был неважный признак. Марко не понравилась эта стрельба. Он с тревогой подумал, не попал ли взвод в засаду. А как теперь Ранка управляется без него? Ее совсем недавно назначили комиссаром роты, и она медленно и осторожно входила в свою роль, будто прикасалась к чему-то незнакомому.
Ранке было трудно сразу привыкнуть к новой должности, но она не показывала виду, что ей трудно. Наоборот, у нее всегда было отличное настроение. «Это самый труднющий экзамен из всех, какие мне в жизни приходилось сдавать, — думала она часто, — но я его сдам». Первый экзамен на зрелость Ранка Николич сдала еще два года назад, когда пришла в бригаду и вскоре попала в бой. Ей тогда действительно было ужасно страшно, но она держалась, не показала никому, как испугалась, когда совсем недалеко, на опушке леса, увидела немцев с автоматами на груди. У Ранки тогда был карабин и к нему — всего семь патронов, а командир взвода строго приказывал: «Из семи патронов не имеешь права ни одного выпустить в воздух! Каждая пуля должна найти свою цель». До этого она никогда не стреляла в человека, не могла даже смотреть, как режут курицу, а теперь нужно было убивать людей. От этой мысли она цепенела. Ранке чудилось, будто она очутилась на гигантских качелях, и земля то удалялась от нее, то снова приближалась, а вместе с ней приближались и немцы, становились темнее леса, превращались в чудовища. Качели не останавливались. Земля все быстрее и быстрее кружилась. Она зарядила карабин и начала целиться. Вдруг ей показалось, что немцы превратились в маленьких букашек, в которых совсем невозможно попасть. В прорези прицела появлялись то затуманенный лес, то серое небо, то какие-то неясные фигуры, в которые нужно стрелять. И она стреляла, не очень заботясь, попадает или нет. И удивилась похвале командира взвода: «Честное слово, Ранка, ты настоящий боец. Многие парни могут тебе позавидовать».
У нее тогда было бледное лицо, подбородок дрожал, а зубы слегка постукивали. И она знала, что командир взвода говорит неправду, но не стала возражать. Так надо было, и он так говорил. Только Марко она сказала правду. От него Ранка ничего не скрывала.
«Если бы ты знал, как мне было страшно, — после боя призналась она Валетанчичу. — Я думала, что сердце разорвется».
«Всем было страшно. И мне тоже», — ответил он.
«И тебе? Разве ты до сих пор не привык? Мне казалось, ты совсем не боишься».
«Только дураки не боятся. К страху нельзя привыкнуть. Можно просто отупеть и не чувствовать ничего».
«А я все думала, что ты храбрый такой и ничего не боишься».
«Я считаю, что бояться нечего, — подумав, сказал Марко. — Если суждено быть убитым, тебя пуля и в постели найдет… Конечно, найдет. У меня был близкий товарищ, и, когда я шел в партизаны, он сказал, что пристал бы ко мне, если бы знал, что его не убьют. Потом, ровно через месяц, он погиб. Немцы забрали его работать в рудник, а там произошел обвал. Первым погибает тот, кто очень трусит. Можно бояться, но нельзя быть трусом».
«Как же отличить простую боязнь от трусости?» — спросила Ранка.
«Отличить можно. Нормальный человек испытывает страх в бою, но не теряет рассудок. Трус опасен тем, что теряет рассудок и пытается внести панику».
Но как ни пыталась она взять, себя в руки, однако всю ночь не могла уснуть. Ей повсюду мерещились немцы. Стоило только смежить веки, как слышала взрывы гранат, трескотню пулеметных и автоматных очередей, крики людей. Ранка старалась не думать о прошедшем бое, но он назойливо вставал перед ней, и от таких ужасных видений нельзя было избавиться. Ночь была прохладная, тихая, без облаков. Ранка лежала на спине, подложив руки под голову, все время смотрела между ветками деревьев на звезды. Думала о своем отце, пыталась понять, как бы он отнесся к тому, что она стала бойцом. В сорок первом году, во время апрельской войны, ее отец добровольно ушел на фронт, и с тех пор от него не было никаких известий. Он был солдатом, думала Ранка, а когда страна разваливается и армия капитулирует, солдату ничего не остается, как погибнуть или сдаться в плен. Это ясно. Ее отец, конечно, не был виноват в том, что король, развалив государство, сбежал, как дезертир. Но отец, солдат, был обязан взять на себя часть вины короля. Ведь это был его король. А потом — это была его страна. Это был он сам. За его спиной были его горы, его земля, могилы его предков, наконец, была его семья, и за все это надо было бороться. И помнить об этом надо было.
В первые же дни войны дом, в котором они жили, пострадал. В него попала бомба. Восстанавливать его не было ни сил, ни средств, ни смысла. В войну люди ничего не строят, а только рушат, опустошают.
Когда в город стали просачиваться слухи о восстании в Шумадии, люди насторожились. Участились аресты. Жизнь с каждым днем становилась все более напряженной, наполненной страхом и опасностью. По ночам все чаще улицы пробуждались от разрывов гранат, от выстрелов.
Оккупационные власти совсем перестали снабжать население продуктами. И мать Ранки решила, что им надо обязательно переехать в село, к своей дальней родственнице.
Но и в селе было не лучше, чем в городе. Бедным везде живется плохо. Чтобы пропитаться, ей с матерью приходилось с утра до ночи работать в поле. Ранка быстро освоила нехитрое крестьянское ремесло, окучивала картошку, полола кукурузу, собирала сено и даже научилась жать серпом пшеницу.
В середине лета сорок третьего года, во время
жатвы, на ближних холмах неожиданно поднялась стрельба. Жнецы рассыпались во все стороны. Ранка бросила серп и побежала к ближайшей роще, но не успела добежать до нее. Среди нескошенного поля увидела партизана. Он лежал, перегнувшись через пулемет, из горла у него струилась кровь. Партизан пытался пальцами зажать рану, но кровь все равно сочилась сквозь пальцы.
Увидев бойца, Ранка остановилась как вкопанная, а он рукой показал ей, что надо лечь, потому что кругом все еще свистели пули. Боец поднял голову, и Ранка, заглянув в его лицо, отшатнулась. В его глазах скапливался предсмертный страх. Ей хотелось закричать, позвать ли помощь, но голос окаменел. Чувствуя, как все тело наливается свинцовым страхом, она упала на колени, несколько минут сидела неподвижно, потом подумала, что если сейчас не поможет этому человеку, то он скоро умрет и смерть его всю жизнь будет ее преследовать.
Шум стрельбы удалялся в сторону гор. Лицо бойца и его глаза с каждой минутой становились все более неподвижными и безжизненными. Он хотел что-то сказать, но вместо голоса из его горла вырывались лишь невнятные звуки да свежая струя крови. Ранка догадалась, что нужно сделать перевязку, но у бойца не оказалось бинта, и она, не раздумывая, разорвала на себе рубашку. Только недавно она читала книгу народного доктора Васии Пелагича, где давались советы, как останавливать кровотечение, и, вспомнив об этом, Ранка тут же, в пшенице, нашла листья подорожника, приложила их к простреленному горлу бойца и перевязала его. Через несколько минут кровь в ране свернулась, и боец мгновенно уснул.
Весь остаток дня Ранка не отходила от бойца. Ей казалось, стоит только отойти на шаг, как он обязательно умрет. Потом, поздно вечером, когда поля опустели и на землю спустилась ночь, Ранка с матерью перенесли раненого на заброшенный хутор и там спрятали его. Дней десять она ухаживала за бойцом, а когда поблизости снова появились партизаны, она пошла к ним и рассказала, где находится раненый пулеметчик Марко Валетанчич. За ним пришло целое отделение. Бойцы положили Марко на самодельные носилки и понесли его в свой госпиталь. Он на прощание молча пожал ей руку, и она почувствовала, что в его руке появилась сила. Минуту девушка стояла на опушке рощи и смотрела, как люди удаляются с носилками, а потом, когда они уже скрылись в лесу, Ранка вдруг побежала за ними.
«Марко, не бойся, я тебя не оставлю, — сказала Ранка раненому, когда догнала их. Он с благодарностью посмотрел на нее. — Я буду с тобой все время, я тебя вылечу».
Потом, когда Валетанчич выздоровел, они вместе направились из госпиталя в отряд. Шли по знакомым местам. Была осень. По утрам над полями стелился туман, а за облаками все чаще слышался крик улетающих гусей. Крестьяне убирали кукурузу. Ранка еще издали узнала свою мать. Она стояла в конце поля в белом платке, с подогнутым подолом юбки, устало скрестив руки на животе. Она смотрела на колонну с большой заинтересованностью и все же дочь свою не узнала. Ранка шла с карабином через плечо, он висел у нее стволом вниз. Так обычно носили оружие бывалые партизаны. На ней была мужская куртка из болгарского сукна, итальянские галифе, а на ногах — тяжелые башмаки из обмундирования горного стрелка. Ранка подстригла свои длинные прекрасные косы и теперь была совсем похожа на мальчишку, Увидев мать, Ранка сделала бессознательное движение, будто намеревалась побежать к ней, но вдруг передумала. «Нет, нет, я не подойду к ней, — думала она, — так будет лучше. Она не выдержит, обязательно расплачется, и я тоже расплачусь…» Когда мать осталась далеко, Ранка остановилась, еще раз долгим взглядом посмотрела назад, и Марко в ее покрасневших глазах увидел слезы. Он взял девушку за руку и пошел рядом с ней.
«Не надо, — сказал Марко, — пожалуйста, не плачь. У твоей матери все в порядке, раз она в белом платке. Ты же знаешь, если горе или беда, сербские женщины платки не носят».
«У меня такое ощущение, будто я отреклась от нее, — сказала Ранка, все еще поглядывая через плечо назад, но колонна ушла далеко, и мать не стало видно. — Я такая одинокая, такая беспомощная…»
«Не говори глупостей! Ты совсем не одинокая — я же с тобой, — рассерженно сказал Марко. — Ты знаешь, что я тебя люблю! Напрасно такие слова говоришь».
Рана у Валетанчича уже зажила, но прежний голос, раскатистый и звонкий, еще не вернулся, он говорил тихо, так, что слова его были едва слышны в пяти шагах.
«Ты меня любишь? — Она пыталась улыбнуться своими красивыми заплаканными глазами. — У меня предчувствие, что ты меня совсем разлюбишь».
«Ты мне должна верить, а не какому-то глупому предчувствию».
«Если ты меня любишь, я обещаю быть очень хорошей. Ты даже не знаешь, какой я могу быть хорошей, если захочу».
Ветер гнал вдоль дороги вместе с пылью увядшие листья. В воздухе пахло осенью. Вороны собирались в стаи и оглашали поля крикливым гомоном. За облаками днем и ночью слышались трубные журавлиные песни.
«Я еще никого так не любил, как тебя, и никого больше не полюблю, — снова заговорил Марко, когда воронья орава исчезла. — Запомни, если с тобой что-либо случится, я этого не перенесу. Так я тебя люблю…»
«Ничего ни со мной, ни с тобой не должно случиться, — приблизившись к нему, сказала Ранка, — потому что мы любим друг друга».
«Нас охраняет наша любовь», — сказал он.
Ранка посмотрела вокруг себя и, убедившись, что к ним никто не прислушивается, все же понизила голос, стараясь придать ему загадочность и таинственность. «Ты, пожалуйста, не обижайся, но я вчера три раза гадала на тебя, и всегда выходило, что ты будешь долго, очень долго жить и что мы обязательно поженимся».
«Я бы и сейчас на тебе женился, — сказал Марко, краснея, — но ты же прекрасно знаешь, что нам не разрешается жениться. Потом, когда война закончится, этот закон отменят…»
«Жаль, что нам сейчас не разрешают жениться, — с грустью произнесла Ранка. А потом сама себя принялась успокаивать: — Но все равно, мы и так любим друг друга, и нам никто не может в этом помешать. Даже комиссар не может запретить нам любить друг друга, если мы этого хотим. Только ты должен меня крепко любить, потому что я, честное слово, хорошая, и я всегда буду такой хорошей, еще лучше буду, если мы поженимся, и больше никогда не буду плакать. Даже если станет тяжело, я буду себя сдерживать: правда, ведь я могу себя сдерживать?»
И потом, всякий раз, когда ее душили слезы, Ранка вспоминала об этом обещании. Нередко и тогда, когда мужчины не выдерживали и раскисали, она старалась казаться бодрой. Сейчас, когда раненая рука ныла до самого плеча, она не показывала, что ей больно, напротив, шагала так напористо, что бойцы едва поспевали за ней. Она слышала, что люди позади тяжело дышат, но не останавливалась, даже не поворачивалась назад.
Близ вершины горы перед партизанами распростерся роскошный альпийский луг. Здесь было гораздо холоднее, чем в долине, но трава все равно успела оторваться от земли и зеленела нежным изумрудом; такую траву можно видеть только ранней весной. Ранке захотелось опуститься на землю, уткнуться лицом в зеленый ковер, ей казалось, что она обязательно услышала бы, как растет трава. Так уже бывало в детстве, когда выходили всем классом в поле и слушали, как дышит природа. Ей вспомнилось детство далеким смутным сном, и Ранка подумала: было ли оно на самом деле, это детство? В чем только человек не усомнится, когда ему трудно. Порой Ранка задавала сама себе вопрос: жива ли она или это существует только ее плоть, а ее давно уже нет? Иногда она переставала ощущать свой вес. Все вокруг теряло форму, цвет, запах, превращалось в мираж, и она пушинкой неслась в этом окаменелом мире, утопая в блаженной невесомости. Если бы на нее накричали или она к кому-нибудь обратилась, это помогло бы ей выйти из такого состояния.
Ранке ужасно хотелось пить, но, будучи партизанкой, она научилась отказываться от своих желаний. Теперь она стояла, прислонившись спиной к холодному стволу одинокого дуба на вершине горы. Стояла пошатываясь. Ей нужно было отдышаться и подождать, пока все бойцы выберутся на плато. В ее распоряжении было не более трех-четырех минут. Надо было за это время о многом подумать, решить, куда лучше повести взвод — прямо через плато или идти вдоль кряжа, в конце которого виднелись развалины пастушьей избы; развернуть взвод в цепь или двигаться колонной до тех пор, пока не выйдут к горловине ущелья. Она удивлялась, как долго собирается взвод, но медлительность бойцов ее вовсе не расстроила, даже обрадовала.
Командир взвода Мирко Лазаревич пытался что-то объяснить комиссару, но она почти не слушала его. Лазаревич сидел на камне напротив Ранки и пытался заглянуть ей в глаза, но это ему никак не удавалось. Ее взгляд блуждал где-то вдали. Она любила стоять на самой вершине торы и любоваться селами, разбросанными по выгоревшим склонам, и при этом каждый раз испытывала такое ощущение, будто мир расширялся до бесконечности. Сейчас эта бесконечность ее и волновала, и радовала. Все вокруг, что охватывали глаза, до самого горизонта — все эти горы, леса, речушки и села считались уже свободной территорией. И Ранка всем своим существом гордилась тем, что она была не простым созерцателем прихода этой свободы, а ее непосредственным созидателем. Она своими руками, своей жизнью возводила это новое здание, называемое во всех военных сводках освобожденной территорией.
Вдоль всего кряжа выстроились в ряд редкие сосенки с перекошенными и обломанными ветками. Какие они здесь уродливые, жалкие, беспомощные! Между сосенками лежат кусты можжевельника. Они прибиты к земле зимними наносами. И хотя снег уже давно сошел, кусты все еще не могли подняться. Здесь, в зарослях можжевельника, и терялась тонкая нить тропинки, и теперь пришлось идти напрямик, пробираться через заросли. Ноги все время натыкались на камни, замаскированные прошлогодней травой. В конце широкой поляны, над самым обрывом, стояла небольшая пастушья изба. Ранка вспомнила, как их рота прошлой осенью здесь ночевала. С начала войны в избе никто не жил, и она постепенно разваливалась. Все, что можно было сжечь, успели спалить, даже крышу не пощадили. Сейчас от избы остались лишь каменные стены да высокая закопченная труба. За избой когда-то были кошары для овец. Еще прошлой осенью часть кошар стояла, а теперь на их месте виднелся бугорок золы. От кошар к горловине ущелья была проложена тропинка. Отсюда пастухи ходили в ущелье за водой.
— Если поторопиться, то минут через пятнадцать мы подойдем к ущелью, — сказала Ранка командиру взвода, когда они миновали развалины. — Все зависит от того, кто первым захватит выход из ущелья, немцы или мы.
— Ты прекрасно видишь, товарищ комиссар, — недовольно откликнулся Мирко Лазаревич, — мы и так все время почти бежим.
Это был молодой парень, какой-то нерешительный, явно не созревший для этой должности. Его назначили командиром взвода потому, что некого было больше назначить. В последний год партизанская армия настолько выросла, что остро испытывала голод в командирах и комиссарах.
— У меня бойцы с ног валятся, — продолжал рассуждать, как бы сам с собой разговаривая, взводный. — С самого рассвета мы все время в движении. Уже два часа прошло, если не больше, как мы не делали привала. Если так продолжится, мы все свалимся с ног.
Лазаревич был худой, среднего роста, с загорелым лицом и испуганным взглядом. Казалось, война выгнала из него все мужское достоинство, и он теперь шел крадучись, будто двигался среди ульев, испытывая страх и думая, что пчелы могут в любой момент услышать его и накинуться на него.
— Может, ты разрешишь нам сделать на пять минут привал? — спросил Лазаревич, когда вдали показались верхушки деревьев, росшие у выхода из ущелья. — Во мне все дрожит от усталости. — Он протянул руки комиссару. — Видишь, как они дрожат, — это от усталости.
— Это они дрожат у тебя от страха. У мужчин они дрожат только от страха, — сердито ответила Ранка. — Ты, оказывается, трус, и мне обидно, что я предлагала назначить тебя взводным.
— В бою я не дрожу, — ответил Лазаревич. — Усталость нельзя сравнивать с трусостью. Усталость есть усталость.
— Не только ты один устал, — сказала Ранка. — Может, и я устала…
«Какой смысл в том, что мы устали и рискуем жизнью, бросаясь головой в омут? — думал Лазаревич. — Только идиоты и фанатики с таким энтузиазмом лезут в петлю. Важно сохранить силы, сохранить себя ради той цели, во имя которой мы сражаемся. Если человек умирает, он должен знать, за что умирает…»
— Когда кончится война, тогда и отдохнем, — помолчав, сказала Ранка, осуждающе глядя на Лазаревича. — А пока идет война, надо воевать и ни о чем больше не думать. Запомни, Мирко, на войне очень вредно думать о мелочном и постороннем.
— Откуда ты знаешь, о чем я думаю? — У Лазаревича выступил пот на лбу. Лицо у него было изжелта-бледным, а взгляд настороженным.
— У тебя все на лице написано…
Лазаревич промолчал. Ранка еще раз посмотрела в его сторону. Его флегматичность начинала выводить ее из терпения. Минуту она шла молча, потом сказала:
— Я хочу взять человек пять добровольцев и пойти с ними в разведку.
— Не знаю, вряд ли кто сейчас пойдет добровольно, — ответил взводный неуверенно. — Люди устали.
— Не думай, что все бойцы такие, как ты…
Они шли по тропинке вдоль обрыва, и в одном месте Ранка увидела вдруг дно ущелья. Оно было еще в тени, но все равно просматривалось большим участком. В ущелье показалась немецкая колонна. Она двигалась осторожно и медленно, как бы прощупывая каждый шаг. Голова колонны пряталась где-то впереди за выступом большой скалы. Ранка подумала: если голова колонны уже успела выбраться из ущелья, тогда партизанам придется туго.
— Друзья, кто добровольно пойдет со мной в разведку? — останавливаясь, обратилась Ранка к бойцам. — Нужно всего пять человек. Если есть желающие, пусть пройдут вперед.
— Разведка ничего не даст, — сказал Лазаревич, — только людей напрасно погубишь.
— Мне бы очень хотелось послать тебя в разведку, но я знаю: ты смалодушничаешь и не выполнишь приказ. Потом тебя за это придется ставить перед строем и расстреливать, а мне уже не хочется смотреть, как свои своих убивают. Мы и так слишком много потеряли людей.
Лазаревич вытер вспотевший лоб. За одну минуту, казалось, состарился на целых десять лет. Минуту он шагал молча, что-то соображая, потом остановился, повернулся лицом к комиссару и заговорил скверным усталым голосом, причем стараясь казаться бодрым.
— Можешь не бояться, товарищ комиссар, что придется писать донесение о моем малодушии, — гордо сказал он. — За два года меня еще никто не видел бегущим с поля боя.
Ранка уже не слушала его. Она теперь думала совсем о другом, и Лазаревич ее больше не интересовал. Из колонны вышли пять человек и торопливо стали продвигаться вперед. Потом к ним присоединился еще пулеметчик со своим помощником. Один пулеметчик уже вышел раньше, и второго Ранка вернула назад, сказав, что одного пулеметчика ей вполне хватит. Увидев, что боец пригорюнился, она ободряюще ему улыбнулась и с группой добровольцев быстро пошла вперед. У партизан было неписаное правило: кто вызвался добровольно идти на задание, тот не имеет права ни на что жаловаться, если даже его станут жарить на костре, он должен быть доволен, потому что сам на это напросился.
Ранка сознавала, что взяла на себя ответственность за жизнь этих бойцов, но старалась об этом не думать. Голову сверлила теперь одна-единственная мысль — быстрее дойти до намеченной цели.
На вершине горы было прохладно, и бойцы бежали за своим командиром и разогрелись настолько, что им казалось, будто вернулся далекий август. Перед наступлением почти все, кто имел шинели, побросали их, чтобы облегчить себя, и теперь двигались быстро. От такой ходьбы у Ранки еще сильнее разболелась раненая рука. Стало совсем трудно шевелить пальцами. Она бежала и, поворачиваясь назад, отчетливо слышала, как бегут за ней бойцы. Один из них буквально наступал комиссару на пятки, не отставая ни на шаг, потом обогнал Ранку и пошел впереди, как бы показывая, что своей грудью он всегда защитит ее, если враги вдруг откроют по ним огонь. Он знал, что в таких случаях первым погибает тот, кто идет впереди, и он не хотел, чтобы погибла комиссар. Мысленно этот боец подсмеивался над собой, своим показным героизмом и все думал: если надо умереть, я умру, никуда не денешься, но жить все-таки больше хочется. Умереть я всегда успею. И мысль о смерти не вызвала в нем никаких эмоций — ни плохих, ни хороших. В войну бойцы обычно думают о смерти как об отвлеченном предмете, который на самом деле существует, но который к ним не относится.
Есть ведь столько вещей на этом свете, недосягаемых для них, созданных для кого-то другого. Всегда есть что-то, к чему человек стремится и до чего никак не может добраться. Сейчас бойцу, бегущему впереди, самым нереальным и далеким казалось то ущелье, к которому они должны были выйти.
— Товарищ комиссар, ты уверена, что мы идем туда, куда надо? — Боец вытер рукавом куртки вспотевший лоб, повернул свое лицо к Ранке и, встретив ее взгляд, смутился и подумал: «Как глупо я себя веду, задавая такие вопросы».
— Мы идем туда, куда надо, — ответила Ранка. — И в частности, то есть сегодня, и вообще.
— И я тоже так думаю, — поспешно согласился боец.
Она не продолжила разговор, не было настроения. Иногда, в напряженные моменты, Ранке нравилось, если люди вокруг молчали, никто не лез в ее запутанные и противоречивые мысли, громоздившиеся в мозгу, как камни в скале. Бойцы двигались цепочкой, и со стороны могло показаться, что их в колонне не шесть, а больше двадцати человек. Местность была пересеченной, каменистой, тропинка едва угадывалась под старой высушенной травой и полегшими кустами можжевельника. Местами ее совсем не было, и они, как серны, прыгали с камня на камень, и эти прыжки утомляли еще больше. Бойцы часто теряли равновесие и падали. Увидев пулеметчика, который рухнул на землю и разбил себе лицо, Ранка с опасением подумала: «Только бы не упасть, не задеть раненую руку».
— Еще немного осталось, совсем немного, — сказала она мужчинам.
Теперь отчетливо видны были деревья, росшие кучей у выхода из ущелья. Только бы не споткнуться, не упасть, добраться до этих деревьев, остановиться, занять позицию, укрепиться, почувствовать землю под всем телом! Ей очень не хотелось, чтобы кто-нибудь из бойцов догадался об этих ее мыслях, и потому она даже не отрывала глаз от земли, двигалась как в тумане, на пределе сил. Ранка все еще шла второй, но вскоре ее обогнали еще двое, и она даже не заметила этого. От пота, стекающего в глаза, впереди ничего нельзя было разглядеть, и ей казалось — земля незаметно убегает из-под ног, становится на дыбы, и поэтому так трудно двигаться по этой восходящей тропе. Сердце напряженно стучало в груди, и она думала, что своими ударами оно расколет ей грудь. Пилотка у нее сбилась в сторону, ремень с кобурой отвис, перекосился пряжкой на бок, куртка на плечах взмокла от пота. Ранка слышала, как за спиной позвякивает оторванная подковка на башмаке у бойца, и она с раздражением думала: когда же эта подковка наконец совсем отвалится! Назойливый звук все больше и больше раздражал ее, но вдруг он исчез. Ранка почувствовала удивительную пустоту. Она оглянулась назад посмотреть, куда девался боец, и вдруг обнаружила, что стоит одна.
— Ложись, товарищ комиссар, — тихо, но решительно сказал партизан, все время шедший впереди нее. — Ты разве не видишь швабов? Живо спрячься, а то заметят тебя и откроют огонь.
И вдруг все вокруг изменилось. Камни исчезли, деревья раздвинулись, сделались еще меньше, чем были на самом деле, а горизонт придвинулся настолько, что в первое мгновение показалось, будто в десяти шагах проходит та черта, через которую человек только один раз в жизни переступает. Она уже ничего не чувствовала, словно сердце в ней высохло, и лишь ощущала, как холодный, пот катится под мышками и по спине. Целую минуту Ранка стояла, не имея сил даже пошевелиться. Стояла и застывшими глазами смотрела, как немцы выходят из ущелья. Они двигались довольно свободно, будто считали свой переход интересной прогулкой. Впереди шел рослый мужчина, одетый в шинель, увешанный сумками, с ранцем за спиной и автоматом на груди. К ранцу была приторочена каска, и он был похож на горбатого клоуна. За ним шел солдат ростом поменьше, без шинели, с каской, надвинутой на самые глаза, и без ранца. Потом показался еще один и еще. Цвет их одежды почти сливался с зеленью травы, но фигуры отчетливо выделялись на фоне низких кустарников. Один немец нес ручной пулемет. За ним шел солдат-подросток со штыковой лопатой на плече. На лопате, висела железная коробка с патронами. У коротышки был вид крестьянина, отправляющегося на свою ниву. Ранка подумала: если кому-то из разведчиков не удастся сразу снять пулеметчика, тогда партизанам без жертв не обойтись. Вряд ли они смогут захватить выход из ущелья.
— Ты целься в пулеметчика, — шепнула Ранка бойцу, лежавшему впереди нее, — и смотри не промахнись.
Она знала, что он был отличным стрелком, и подумала: «Если боец с первого выстрела убьет пулеметчика, надо будет сразу подняться в атаку. Нельзя мешкать ни секунды».
— Ты очень долго целишься, — сказала комиссар с упреком. — Мы теряем время.
Все затаили дыхание. Было слышно, как в высушенной прошлогодней траве копошатся на солнце жучки.
— Мне торопиться некуда, — ответил боец. — Я люблю делать свое дело с толком.
У него был деловой, сосредоточенный вид. Он действительно неплохо знал свое ремесло, и замечание Ранки на него не подействовало. Комиссар не отводила взгляда от фашистов, и ей казалось, что секунды тянутся как вечность. Она смотрела, как немцы, повернувшись к ним спиной, стали удаляться. Даже не услышала, как рядом раздался выстрел, как эхо от него разбудило тишину, как взлетели вороны над их головами и тревожно закричали. Только увидела, как немецкий пулеметчик остановился, сделал шаг назад, зашатался, потом опустился на левое колено, секунду задержался в такой позе, словно собирался молиться богу, потом пулемет упал с его плеча, и он, перегнувшись через него, ткнулся головой в землю. Еще один солдат упал рядом с пулеметчиком. Остальные повернули назад и стали отходить к ущелью, откуда только что вышли.
— Драгутин, ты оставайся на месте и прикрой нас огнем, — сказала комиссар пулеметчику. — Остальные за мной!
Голос у нее был твердый и уверенный. Бойцы поднялись и побежали вперед. Из ущелья раздалось несколько выстрелов, но пули пролетели высоко, никого не задев, и их писк был похож на писк птенцов, вывалившихся из гнезда.
— Приготовьте гранаты, — скомандовала Ранка, когда все приблизились к ущелью. — Гранаты приготовьте!
В это самое мгновение над ее головой что-то прошуршало, словно пролетела большая птица, и Ранка, подняв голову, видела, как, очерчивая большую дугу, по воздуху скользит граната, брошенная кем-то из ее бойцов. Это была трофейная граната с длинной деревянной ручкой, которая при полете всегда создавала неприятный шум. Еще несколько взрывов прогремело в том самом месте, куда скрылись немцы. Справа и слева от комиссара раздались выстрелы. Пулемет сзади строчил не переставая. Пули, касаясь веток, разрывались в воздухе, и создавалось впечатление, будто кто-то стреляет с неба. Горловина ущелья впитывала в себя весь грохот стрельбы, и внизу, наверное, казалось, что наверху засела целая рота. Немецкий дозор успел откатиться назад, и когда Ранка со своими товарищами подошла к ущелью, он был довольно далеко. Партизаны бросили ему вдогонку еще несколько гранат, затем стали наблюдать, как фашисты отходят.
Если смотреть в ущелье Мишлевац сверху, то оно кажется вечно мрачным, пугающим, вызывает леденящую дрожь. Сюда, по сути дела, никогда не заглядывало солнце. Из его глубины веяло той таинственной загадочностью, какая прельщает людей до тех пор, пока они не прикоснутся к ней. Неотразимая тень высоких скал, поросших мхом, даже в летние дни прятала дно ущелья под своим непроницаемым крылом. Зимой холодные восточные ветры наносили сюда столько снега, что он таял все лето, а бывали годы, когда лето выдавалось холодным и снег, почерневший, утрамбованный дождями и временем, оставался неоттаявшим до следующей зимы. И сейчас на дне ущелья лежал толстый темноватый слой снега, и от него веяло той пугающей прохладой, какую люди ощущают только при встрече со смертью.
Ранка смотрела вниз и видела маленькие зеленые фигурки, испуганно застывшие в полутьме ущелья в ожидании страшного свершения. Когда партизаны появились с той стороны, откуда их сейчас совсем не ожидали, немцы заметались, как затравленные звери, стали окапываться в снегу, чтобы принять бой, еще не сознавая всего трагизма своего положения. Сколько раз в войну партизаны загоняли их в такие вот ловушки! И потом истребляли, как насекомых. Эти, видимо, совсем недавно появились в крае и еще не имели опыта ведения войны с партизанами, не знали, какие напасти их ждут в горах.
— Подождем, — сказала Ранка своим бойцам. — Немцы скоро сами поймут, что попали в западню. Теперь они отсюда уже не выберутся живыми, если не сдадутся в плен.
Ранка еще раз глянула вниз и вдруг увидела немца, укрывавшегося за скалой, тот готовился открыть огонь из пулемета.
— Эй вы! — крикнула Ранка по-немецки. — Не вздумайте стрелять! У вас нет никакого шанса спастись. Если вы сделаете хоть один выстрел, мы вас закидаем гранатами.
Немец на ее угрозу ответил длинной очередью. Пули защелкали совсем рядом. Комиссар пригнулась и спряталась в укрытие. Отсюда ущелье просматривалось еще лучше. Оно было похоже на гигантскую трещину, образованную в горах. На дне этой трещины виднелись чужеземные солдаты. Они лежали, распластавшись на снегу, и Ранка подумала, что сейчас самая пора накрыть их огнем минометов.
Пулемет опять заработал, и пули теперь прожужжали немного ниже, чем в первый раз.
— Прекратите стрельбу! — снова выкрикнула Ранка. — Приказываю всем сложить оружие! Мы гарантируем вам жизнь, если сдадитесь без сопротивления. Вы в ловушке, слышите? У вас нет иного выхода. Даю пять минут на размышление.
Такие длинные фразы было трудно выкрикивать, и ее лицо сделалось совсем красным, лоб вспотел, а на шее вздулись багровые жилы.
— Скажи ты им, — обратилась она к бойцу, который все время находился рядом с ней как телохранитель, — если через пять минут не сдадутся, мы начнем обстрел ущелья минометами и артиллерией и что им не выбраться тогда отсюда живыми. — Она посмотрела на свои часы, подумала, успеет ли Марко за эти пять минут прибыть сюда с ротой. Может, она поторопилась, не подумала, может, надо было дать врагам не пять минут на размышление, а немного больше.
Тут подошли остальные бойцы первого взвода, и Ранка почувствовала себя более уверенно. Вскоре ей доложили, что подпоручик Валетанчич развернул в цепь остальные два взвода роты и приближается к ущелью. От немцев еще никакого ответа не было, но стрельба прекратилась, и Ранка решила, что они, наверное, сейчас совещаются. Из своего укрытия она отлично видела немцев. Они не подавали никаких признаков жизни. Солдаты лежали неподвижно, как трупы. Впервые Ранка видела вражеских солдат в положении, когда они не стреляли.
— Как ты думаешь, комиссар, они сдадутся или еще вздумают палить по нас? — спросил боец у Ранки. — Может, нам не надо ждать этих пяти минут, а прямо сейчас открыть огонь?
— Нет, мы должны выждать, пока кончится срок ультиматума, — ответила она и добавила: — А вскоре подойдет и вся наша рота.
— Разве что подождать, пока вся рота подойдет. А то я не верю, что швабы так легко сдадутся. Если бы они хотели сдаться без боя, они могли это сделать и в прошлом и в позапрошлом году.
— В позапрошлом году они еще верили, что победят, и в прошлом тоже надеялись выиграть войну. Сейчас же им не на что надеяться. Советская Армия уже ведет бои в Германии.
— Все равно фашисты — такие твари, и я не верю, что они возьмут и так просто сдадутся.
Ранка взглянула на часы и обнаружила, что прошло всего три минуты, как она предложила немцам сдаться. Ей показалось, что еще никогда время не тянулось так мучительно долго. Скорее бы кончались эти пять минут, тогда бы все знали, что делать. Нет ничего хуже неизвестности. Она раньше никогда не представляла себе, как это можно стоять лицом к лицу с врагами и не стрелять в них. И это безмолвие ее тревожило. Оглянувшись, Ранка увидела, как ее бойцы занимают места поудобнее и готовятся к бою. Это ободрило и вдохновило ее. Она на всякий случай приказала всем приготовить по две гранаты и по истечении времени ультиматума по ее команде бросить их в ущелье. В южном направлении, в стороне, откуда они только что пришли, слышались частые выстрелы. С высот по другую сторону ущелья стреляли тяжелые пулеметы.
— Товарищ комиссар, смотри — они бросают оружие! — закричал один из партизан. — Они на самом деле хотят сдаться.
— Это они умышленно сейчас бросают винтовки, чтобы ввести нас в заблуждение, — пояснил боец, все время находившийся рядом с комиссаром. — Они думают, что мы поверим им, войдем в ущелье, и тогда они схватят оружие и расстреляют нас в упор. Фашистам никогда нельзя верить. Они самые подлые твари, какие только существуют на этой земле.
— На войне никому нельзя верить… Смотрите, смотрите, вон у той скалы, на которой растет сосна, поднялись пять человек и идут сдаваться. Они, наверное, хотят сдаться первыми.
— Если они решили сдаться, то будут сдаваться все сразу.
— Ничего подобного. Где ты видел, чтобы немцы все сразу сдавались в плен?
— У этих белый флаг. Они, конечно, идут сдаваться.
Ранка снова посмотрела на часы. Пять минут были на исходе. Срок ультиматума истекал. Она стояла за каменным выступом, положив руку на кобуру пистолета, и смотрела вниз, в ущелье, как в пропасть, в которую можно сорваться и из которой нет выхода. Ей стало жутко от этой мысли, мурашки поползли по телу. Через несколько секунд она должна приказать своим бойцам открыть огонь. Ей было страшно, но она не хотела отступать от своего слова. Перед тем как отдать приказ бойцам открыть огонь, комиссар еще раз внимательно посмотрела на немцев в ущелье и вдруг увидела, что несколько человек с белым флагом приближаются к ней. Впереди шел солдат с флагом, за ним еще два человека, а сзади, шагах в трех от них, двигался немецкий офицер. Они были еще далековато, но все равно Ранка без труда разглядела погоны на его плечах. Офицер шел при полной экипировке, даже с пистолетом на боку. Метров за семьдесят от партизан, в том месте, где лежал его последний солдат, офицер остановился, что-то сказал своему эскорту, те тоже остановились и дальше не пошли. Офицер поправил свое снаряжение, будто шел не сдаваться в плен, а собирался идти к своему генералу на доклад. Он слишком долго, как показалось Ранке, приводил себя в порядок. Наконец, закончив приготовления, повернулся лицом к партизанам, поднял руки так, что его ладони оказались на уровне глаз, и уверенно зашагал вверх по узкой тропинке. Солдаты, прежде сопровождавшие его, теперь сидели на земле, как болванчики, и заинтересованно смотрели в спину офицеру. Ранке очень хотелось понять, о чем они сейчас думают, какое у них, должно быть, отвратительное настроение. Еще недавно им внушалось, что они станут властелинами мира, а теперь их берут в плен даже без боя. Сдаваться в плен всегда отвратительно.
У Ранки было тоже неважное настроение. Она едва дождалась, когда подойдет рота. Но вот совсем рядом увидела Марко и услышала его голос. Он подоспел: в последний момент, был весь взмокший, дышал прерывисто.
— Слава богу, что у вас тут все в порядке, — сказал он, опускаясь прямо на землю позади комиссара. — Когда началась стрельба, я подумал, что вы угодили в засаду.
— Почему ты не догадался, что засаду устроили немцам мы? Ведь оно так и есть. Они не ожидали нас, когда мы накрыли их огнем. Видишь, двое лежат убитые. А теперь остальные сдаются в плен. — Ранка показала Марко на немцев с белым флагом. — Я им спустила ультиматум, и они его как миленькие приняли.
— У них не было другого выхода, кроме как сдаться или погибнуть, — заметил Валетанчич.
Ротный встал, подошел ближе к обрыву и посмотрел в ущелье. Оно было битком набито немецкими солдатами.
— Приведи себя в порядок, — сказала ему Ранка. — Неудобно в таком виде принимать капитуляцию. Мало ли что они могут подумать.
Подпоручик Валетанчич засмеялся.
— Меня ничуть не беспокоит, что они подумают о нас. Мы берем их в плен, и это вынуждает немцев думать о нас самое лучшее.
— Они никогда о нас не будут лучшего мнения.
— Мы им доказали, что с нами надо считаться и нас надо уважать. Они могут думать о нас что угодно, но обязаны признать, что мы их победили, а не наоборот. И теперь ты будешь принимать капитуляцию. Пусть этот гад паршивый увидит, что наши сербские девушки храбрее их мужчин. Вот будет потеха! Будет ему что рассказывать, когда вернется к себе домой: сербская девушка вместе со всеми солдатами взяла его в плен.
— Марко, ты с ума сошел! Как я буду принимать капитуляцию? Ты командир, ты и принимай. Я даже не знаю, что делать, какие слова сказать.
— Ничего, научишься. Я где-то читал, что войну проигрывают командиры, а капитуляцию подписывают политики. А ты у нас политический командир, вот и действуй. Мне просто хочется посмотреть на этого швабского вояку, какая у него будет рожа, когда придется сдавать тебе оружие.
— У меня прямо ноги стынут… Если я что-нибудь не так делать буду, так подсказывай, — попросила Ранка.
— Ты все будешь делать как надо, и нечего напрягаться. Вот он подходит, и ты не красней, держи себя с достоинством.
Немецкий офицер был уже в двадцати шагах от них, и Валетанчич не спускал с него глаз. Это был капитан, среднего роста, довольно упитанный, загорелый, с большим толстогубым ртом и небритой рыжей щетиной на мясистых щеках. У него было красное, вспотевшее от волнения лицо. Коротко подстриженные усы топорщились. Он шел пошатываясь, будто успел уже выпить, и Марко заметил, что его поднятые руки дрожат. Одет немец был во все новенькое, точно вернулся недавно с парада и совсем не участвовал в боях. Марко прикинул, подойдут ли ему капитановы сапоги. Ведь тот уже отвоевался, может и босиком в лагерь топать, а Валетанчичу еще предстояло воевать. Марко заметил также, какие у капитана красивые очки в золотой оправе. Может, именно потому, что в партизанской роте никто не ходил в очках, Марко они и бросились в глаза. Капитан перехватил взгляд подпоручика, на мгновение приостановился, торопливым движением снял очки, но, сделав несколько шагов, снова их надел. У него дрожали губы, глаза слезились, как в ветреную погоду. Марко едва сдерживал себя, чтобы не рассмеяться. Он каждый раз испытывал удовольствие, когда видел немцев с поднятыми руками. Эта картина воодушевляла его и вдохновляла. Вражеский капитан, сделав еще несколько шагов, остановился, затравленным взглядом прошелся по стоявшим перед ним партизанам, как бы отыскивая достойного человека, которому можно сдаться в плен. Наконец в глаза ему бросились позолоченные треугольники на воротнике куртки Марко и звездочки на его рукавах.
— Господин офицер, — сказал капитан на довольно понятном сербском языке, вытягиваясь в струнку перед подпоручиком, — я уполномочен штабом своего батальона…
Марко разбирал смех, и он едва владел собой.
— Какой я тебе господин, — перебил он немца. — У нас нет господ. Мы все только бойцы.
— Пардон, камрад, камрад офицер. — По тому, как он запинался на каждом слове, было ясно, что ему непривычно произносить эти словосочетания.
— Ищи себе товарища среди своих гадов. Партизан фашисту не товарищ, запомни.
Красный от гнева и страха, офицер стоял с открытым ртом, похожий на обезьяну, попавшую в западню.
— Мой штаб принял решение сдаться в плен, — уже без всяких преамбул сказал капитан. — И меня уполномочили сделать это, — пояснил он, снимая с себя снаряжение. — Разрешите выполнить эту формальность…
— Пожалуйста, сдай свой батальон нашему комиссару, вот девушка стоит. — Марко показал капитану на Ранку. — Она у нас уполномочена штабом принимать всякие капитуляции.
Немец растерянно посмотрел на Ранку, потом перевел взгляд на подпоручика и снова взглянул на комиссара. Во взгляде светилось явное недоверие. Он попытался улыбнуться, но у него ничего не вышло. За одну минуту, казалось, немец состарился на целых десять лет. На лице появились пучки свежих морщинок.
— Но я желаю сдать свой батальон офицеру, который бы… — подумав минуту, начал немец, но комиссар не дала ему высказать свою мысль.
— Ты правильно желаешь. Тебе надо было сделать это еще в прошлом и даже в позапрошлом году, — сказала ему Ранка.
— Раньше я воевал в Африке и занимался снабжением водой передовых частей.
— Все равно ты мог сдаться в плен.
Немец вытер скомканным платком вспотевшее лицо.
— У меня раньше не было такой возможности, — ответил он. — Сегодня такая возможность представилась, и я добровольно решил сдаться.
Комиссар покачала головой и улыбнулась.
— Конечно, ты решил добровольно сдаться, когда попал в западню и понял, что вам из нее живыми не выбраться.
Он промолчал. У него сильно вспотело лицо, капли свисали даже с коротких рыжих усов. Фашист с первых минут встречи с партизанами почувствовал, что невидимая петля сжимает шею, дыхание приостанавливается. Еще ни в одном бою он не испытывал такого холодного удушливого страха. В каждом движении партизан, в каждом шорохе за спиной немец улавливал звуки смерти. Острие ужаса все глубже и глубже вонзалось в его сознание. Он всматривался в лица партизан и ощущал, наверное, то же самое, что испытывают маленькие дети, очутившись вдруг среди ночи в лесу без родителей. Всю войну этот капитан провел на африканском фронте, служил в тыловых частях и только месяца два назад попал на балканский фронт в Югославию. После госпиталя в Италии его направили командовать батальоном, который в это время вел бои против партизан. В батальоне было очень много ветеранов, которые здесь провели по два года и больше, по нескольку раз попадавших в порядочные переплеты. Они рассказывали жуткие вещи о партизанах. И сейчас капитану казалось, что с него обязательно снимут кожу, а потом эти полудикие балканцы станут танцевать вокруг его умирающего тела.
— Перестань трястись, — сердито, сказал Валетанчич, увидев, что немец все еще дрожит. — Здесь тебя не собираются жарить на костре. Мы не людоеды, хотя вы нас именно такими изображаете.
— Да, да, нам именно так и говорили о вас, — согласился офицер.
Подпоручик весело рассмеялся.
— Мы знаем, что вы о нас думаете, но вот мы уже целых пять минут разговариваем с тобой и до сих пор не начали кусаться.
Капитан сжался под взглядами партизан. Незадолго перед этим он выпил немного коньяку и теперь ощущал привкус желчи во рту. Ему очень хотелось снова хлебнуть, но он боялся протянуть руку к фляге, висевшей у него на ремешке через плечо.
— О вас говорили ложь, — сказал немец. — Честные люди это понимают. Порядочные понимают…
Ранка посмотрела на него с иронией:
— Жаль, что среди вас, фашистов, очень мало таких людей найдется.
Она приняла у капитана его пистолет, бинокль, полевую сумку и военную карту.
— Жаль это сознавать, но вы правы, — согласился капитан.
Он впервые так близко столкнулся с партизанами, и теперь они вдруг показались ему совсем неплохими ребятами. Капитан решил, что сейчас самый подходящий момент высказать им свою просьбу.
— Война испортила не только нас, немцев, — сказал он. — Мне приходилось в последние годы встречаться с разными народами, и, несмотря на то, что нам о вас говорили, несмотря на всю пропаганду, вы, насколько я понимаю, сумели еще сохранить человеческий облик. Я и раньше знал многих коммунистов, у меня даже многие друзья коммунисты. И я очень рад, что вы оказались именно такими, какими я вас представлял. Поэтому, зная вашу гуманность, мне хочется раньше, чем мои солдаты сдадутся в плен, поставить вам одно условие…
— Послушай, ты слишком много болтаешь, — рассердившись, прервала его Ранка. — Мы никаких условий тут не принимаем. Твои солдаты должны сдаться без всяких условий. С этой минуты ты и твои солдаты являетесь военнопленными и не имеете права ставить какие-либо условия.
Бойцы лежали на земле и смотрели на фашистского капитана. Он скомканным платком вытирал пот с лица и шеи. В жизни он, видно, никогда не испытывал такого унижения. Сдаваться в плен всегда унизительно, а сдаваться женщине унизительно вдвойне.
— Камрад комиссар, — не отрывая взгляда от земли, снова заговорил капитан, — очень прошу вас оставить мне очки и часы. У меня слабое зрение. Мне трудно без очков. Часы — это подарок жены в день двадцатилетия нашего бракосочетания.
— Никому из нас твои часы не нужны, а очки тем более, — ответила ему комиссар. — Это вы, когда берете в плен наших товарищей, все сдираете с них, вместе с кожей.
Капитан закивал головой, соглашаясь с ней. Его лицо ничего не выражало. Оно было серым и бесцветным.
— Скажи ему, пусть приказывает своим гадам быстрее складывать оружие, — сказал подпоручик комиссару. — У нас очень мало времени, а вы тут уж очень разговорились.
У немца первое напряжение спало. Он успел овладеть собой, поняв, что партизаны с ним сейчас ничего плохого не сделают, заметно оживился.
— Камрад, — обратился он к Валетанчичу, — позвольте спросить вас…
— Ты сдаешь свой батальон этой девушке, — напомнил ему подпоручик. — Она уполномочена нашей партией принимать капитуляцию, и ты с ней можешь вести переговоры.
Капитан еще раз с любопытством посмотрел на Ранку.
— Камрад комиссар, — сказал немец, — мои солдаты желают сдаться в плен, но при условии, что вы оставите им личные вещи, ранцы…
— Это уже теперь наше дело, что мы оставим твоим солдатам, а что нет. Пусть скажут спасибо, что мы оставляем им жизни.
— Спасибо, камрад комиссар, — ответил капитан, вытирая вспотевшую шею. — У нас других условий нет.
— В таком случае сейчас же командуй своим солдатам, пусть оставят оружие там, где находятся, и выходят сюда, — сказала Ранка.
Капитан торопливо подошел к обрыву, остановился на выступе скалы, но потом передумал, отошел назад, точно испугался, что его снизу могут снять выстрелом из винтовки. Солдаты теперь стояли и смотрели снизу вверх. Капитан сложил ладони рупором и три раза прокричал одни и те же фразы.
— Ты правильно им сказал, что мы
никого расстреливать не собираемся, — сказала Ранка, — но ты им не объяснил, что нельзя брать с собой что-либо из оружия. Ты им не скомандовал бросить оружие.
— Нет, камрад, я им не скомандовал бросить оружие, — согласился немец. — Мои солдаты, кроме ранца, в плен ничего с собой не берут.
— Все-таки ты им скомандуй бросить оружие, — настаивал Валетанчич. — Мне очень нравится, когда вы командуете своим солдатам бросить оружие. Эта ваша команда мне очень нравится.
— Камрад…
Валетанчич выругался, и капитан понял, что с этими дикими горцами спорить опасно. Он опять подошел к обрыву, снова сложил ладони рупором и принялся выкрикивать команды. Подпоручик Валетанчич стоял на один шаг позади офицера и наблюдал, как вражеские солдаты бросают оружие, каски, сумки с противогазами, лопаты… Партизаны выстроились вдоль обрыва в цепь, несколько минут молча наблюдали, как немцы покорно бросают на землю свою амуницию. И каждый в это мгновение, видно, думал, что не хотел бы видеть себя на месте тех, что в ущелье.
— Отвоевались, гады, — первым заговорил Жика Чаруга. Он стоял рядом со своим пулеметом, лицо его неистово пылало. — Теперь их погонят в те лагеря, которые они настроили для нас. Умно говорят старые люди: никогда не рой яму другим.
— Если бы меня спросили, я бы вырыл одну большую яму и всех фашистов туда поместил, — сказал боец с забинтованным лбом.
— И я такого мнения, только нужно бы предварительно поснимать с них обувь, — поддержал его боец по прозвищу Гибаница, поглядывая на свои ноги, замотанные в мешковину, и подмигивая комиссару. — Сколько дней я ждал подходящего случая, чтобы разжиться сапогами.
— У меня брюки совсем прохудились, — заметил партизан с перебинтованным лбом. — Но у пленных не возьму ничего, у них все ведь воняет…
— Сапоги не воняют, — пояснил Гибаница. — И оружие тоже не воняет. Кроме сапог я возьму еще и автомат.
— Все фашисты воняют, и все фашистское воняет, — настаивал боец с забинтованным лбом.
С ним никто не спорил. Бойцы успели перестроиться и теперь стояли сплошной стеной вдоль тропинки, которая выползала из ущелья.
Пленные шли мимо с поднятыми руками и опущенными глазами. Немецкий капитан стоял рядом с подпоручиком. Он с напряжением и страхом прислушивался к стрельбе. Снаряды рвались на другой стороне ущелья. Когда получался недолет, взрывы раздавались в самом ущелье. Немцы выходили медленно и выстраивались на небольшой ровной поляне.
Марко приказал Лазаревичу выставить сзади них пулемет. Пленные со страхом поглядывали на этот пулемет, будто боялись, что он может в любой момент заговорить. Солдаты знали, как это делается. Стоило только нажать на спусковой крючок, и смерть немедленно заработает. Она выслеживала свои жертвы, ждала подходящего момента.
И этот момент наступил.
В ущелье раздалось несколько пистолетных выстрелов. Валетанчич и капитан одновременно повернулись и посмотрели вниз. На том месте, где кончался снег и начиналась стена деревьев, недалеко друг от друга валялись двое. Они лежали поперек тропинки, и солдаты поспешно обходили их.
— Застрелились, — пояснил капитан Марко.
— А почему же ты не застрелился? — спросил его Валетанчич. — Во всяком случае, для порядочного человека смерть более почетна, чем плен. И я бы застрелился, если бы попал в подобную ситуацию.
— Германия потерпела поражение, гитлеровская Германия. Вот фашисты пусть и стреляются. Им ничего больше не осталось делать. Они рассчитывали иметь все, но ничего из этого не вышло.
— Ты говоришь: «Фашисты пусть стреляются», а ты разве не фашист? — спросил его Марко.
— Нет, конечно, не фашист, даже не немец.
— Даже! Это очень плохо, когда человек отказывается от самого себя, от того, кто он есть.
— Я ни от чего не отказываюсь. На самом деле я не немец, а австриец. Я родом из Вены.
— Для нас, партизан, это не имеет значения — из Вены вы или из Берлина, — ответил ему Марко. — Мы смотрим на человека вот с какой точки зрения: враг он нам или друг.
Капитан кивнул.
— Вас нетрудно понять. Вы имеете право всех нас презирать, всех, кто носит форму немецкого вермахта, и не верить нам. И если я скажу, что я антифашист, вы, конечно, не поверите мне, и вас можно понять. Но это так. Я никогда не разделял взглядов фашистов, даже будучи офицером их армии.
Спокойное выражение лица подпоручика изменилось.
Он с презрением посмотрел на капитана и иронически улыбнулся. Валетанчич всеми клетками своего тела ненавидел фашистов, их ложь и лицемерие. И у него были все основания относиться к ним подобным образом. Когда он ушел в партизаны, каратели сожгли его дом, убили мать, а отца увезли к себе, в Германию.
Марко вдруг захотелось сразу же расстрелять капитана. Его лицо перекосила судорога, и он весь сделался жестким, кипящим. Глаза налились кровью, а взгляд помутнел. Он положил руку на кобуру, расстегнул ее, но пистолет не достал.
— Когда врут молодые, им сам бог велел половину прощать, — перебивая капитана на полуслове, сказал Марко, — но врать в твои годы — это не дело.
Офицер смутился, но не растерялся.
— Мне, к сожалению, нечем подтвердить свои слова. У меня с собой нет никаких документов, но, если вам когда-нибудь доведется быть в Вене, вы очень легко сможете убедиться, что я вам не соврал.
— Даже если это так, тогда… Тогда вы просто неглупый человек, — не без иронии подчеркнул Марко. — Вы предвидели, что ждет Германию, и запаслись нужными документами.
— Нет, это не так. Я честный австриец, а честные австрийцы, так же как и честные немцы, ненавидят фашистов.
Марко молчал, смотрел исподлобья на капитана, только что трясшегося в судорожном страхе. Он с трудом сдерживал желание немедленно расстрелять его. Закусив губу, Валетанчич наблюдал, как пленные выходили из ущелья, едва волоча ноги, будто шли на каторгу, затем строились в две шеренги. Партизаны уже обыскивали их, забирая себе то, что им нужно.
Пленные стояли молча, то и дело поглядывая на партизан. Капитан все еще пытался что-то объяснить Ранке.
— Тебе не кажется, что он слишком разболтался? — спросил Марко комиссара, увидев, что она заинтересованно слушает офицера. — Мне так и хочется закрыть ему рот пулей!
— И ты уверен, что тебе от этого полегчает?
— Во всяком случае, душа станет на место. Ты же прекрасно знаешь, как я люблю фашистов, когда они выдают себя за коммунистов или антифашистов. Ха-ха! Только что трясся, как пес побитый, а теперь — смотри ты! — в антифашисты метит.
— Напрасно, камрад, не верите мне, — упавшим голосом сказал офицер. — Честное слово, я порядочный австриец. В этом вы можете убедиться… И… всякий человек растеряется в ситуации, подобной этой. Я не трус, уверяю вас! Я не трус… Если мне представится случай… Поверьте мне, ради бога. Просто меня убивала мысль, что я могу погибнуть от рук коммунистов, так ничего и не объяснив им.
— Чем ты можешь доказать свою порядочность? — спросила его Ранка.
— Частично я уже доказал тем, что сдал вам свой батальон, — ответил капитан и, бросив тревожный взгляд на подпоручика, на мгновение замялся. — Если бы вы были настолько добры и приняли меня к себе в партизаны, я смог бы практически доказать свою порядочность.
Марко засмеялся так громко, что пленные посмотрели на него с испугом. Сколько раз в войну он брал в плен вражеских солдат или жандармов разных национальностей — венгров, итальянцев и немцев. Многие из них пытались доказать свою принадлежность к коммунистической партии, просили принять их в партизаны, уверяли и клялись, что будут честно бороться, убеждали, будто фашисты насильно забрали их в свою армию. Но Марко никому не верил.
У него было основание не верить им. Он был убежден: никаких настоящих антифашистов в фашистских армиях нет и быть не может.
По его мнению, антифашисты или сидели в концентрационных лагерях, или с оружием в руках сражались против фашизма. И поэтому всякий раз, когда кто-нибудь из пленных заявлял, что он коммунист, Марко чаще всего без зазрения совести расстреливал такого как предателя.
И у него рука не дрожала.
— Камрад подпоручик, — снова заговорил капитан, обращаясь к Марко, — я взываю к вашей гуманности и прошу у вас снисхождения…
— Фашистам никакой пощады быть не может и никакого снисхождения. Вы столько наделали зла сербам, что, если бы каждого из вас по три раза расстреливали, все равно бы вы своими смертями не оплатили всех преступлений.
— Эти преступления делали фашисты.
— Ты считаешь, что отличаешься от них?
— Камрад, я честный австриец, инженер, и меня зовут Георг Штраус. Вы должны мне поверить.
— Ты вражеский офицер, и для меня этого достаточно, чтобы тебя расстрелять.
Пленный понурил голову и замолчал.
— Ты не родственник того, известного Штрауса? — спросила его Ранка.
Капитан заметно оживился.
— Нет, фрейлейн, к сожалению, только однофамилец…
— Я очень люблю вашего Штрауса.
Валетанчич с недоумением посмотрел на своего комиссара.
— Перед войной я была в Вене. Она мне очень понравилась. Мы были в вашей опере.
— К сожалению, она пострадала. Американцы ее разбомбили.
Марко уже злился на Ранку. Он не мог понять, о каком Штраусе идет разговор.
— Это какого Штрауса ты любишь? — спросил Марко, когда они остались одни, всматриваясь в нее долгим, испытывающим взглядом.
— Ты ревнуешь? Мне всегда казалось, что ты совсем не умеешь ревновать, — таинственно заговорила она, улыбаясь.
— В последнее время ты ведешь себя немного странно. — Он проглотил комок, застрявший в горле, и продолжал: — Ты совсем отбилась от рук. Что бы я ни предложил, ты обязательно все делаешь наоборот. Тебе доставляет удовольствие дразнить меня.
Ранка улыбнулась. У нее была ободряющая, спокойная улыбка.
— Пожалуйста, не говори глупостей. — Голос у нее был такой же спокойный, как и улыбка. — Ты прекрасно знаешь, как я тебя люблю, и в этом нечего сомневаться.
Марко минуту молчал. Выражение его лица изменилось.
— Может, ты все-таки скажешь, кто этот немец, которого ты знаешь? — спросил он и покраснел.
— Ты о Штраусе? — Она спрятала улыбку на своем лице. — Это известный австрийский композитор.
— Где же ты с ним познакомилась?
— Он умер раньше, чем мы с тобой родились. Осталась жить только его музыка. Я очень люблю его музыку.
— И я люблю музыку, — сказал Марко, — но только не немецкую, а нашу, сербскую. Лучшей музыки для меня нет. И знаешь, Ранка, любить швабскую музыку — это позор, а для комиссара — позор вдвойне!
— Не говори глупости, Марко. Музыка Штрауса общенародная. Это великий композитор.
Лицо Марко стало мрачным.
— Не ведаю, каким он был композитором, но знаю: все они — наши враги. У шваба врожденная ненависть к славянам, ты это должна помнить.
— Среди них тоже имеются порядочные люди, — заметила Ранка. — Их только надо уметь отличать. Ты говоришь не то, совсем не то.
— Может, ты скажешь, что и этот капитан порядочный человек? — Он кивнул головой в сторону офицера.
Ранка пожала плечами.
— Нет, я этого пока не сказала, но вполне возможно, что в свое время он состоял в антифашистской организации. — Она минуту помолчала, потом спросила: — Почему ты думаешь, что ему нельзя верить?
— Верить немцу, фашисту?
— Во-первых, он не немец, а австриец.
— Это одно и то же. Все они — одинаковые твари! Все они — наши заядлые враги. Ты знаешь, сколько раз австрияки пытались покорить Сербию? У меня прадед и дед погибли от австрийских пуль. И все не на ихней, а на нашей земле.
— А это важно, где они погибли, на чьей земле?
— Запомни, это очень важно. Ведь они погибли, защищая свой очаг, а не лезли к ним в дом. Такие вещи ты должна различать. Или в гимназии это не изучали?
С грохотом совсем недалеко от них разорвались один за другим несколько снарядов. Они переглянулись. Ничего нет более ужасного, как попасть под огонь своих пушек. Марко подумал, что, может, артиллерийские наблюдатели обнаружили выстроившихся немцев и теперь стараются накрыть их огнем. Он приказал связному выпустить в воздух зеленую ракету — сигнал обозначения линии передовых частей. На его ракету ответили такой же ракетой по другую сторону ущелья. Где-то там была слышна пулеметная перестрелка. Она была неинтенсивной и неорганизованной, видимо, передовые подразделения обозначали стрельбой рубеж, на который вышли.
Из ущелья уже поднимались последние пленные. Они шли устало, не оглядываясь. Ранка посмотрела вниз — тати было уже пусто, только кругом валялось брошенное снаряжение: ранцы из телячьей кожи, каски, ручные гранаты, лопаты, патронные ящики, противогазы, ручные пулеметы, винтовки и множество всяких бумаг. Так всегда бывает, когда солдаты сдаются в плен. Они стараются освободиться от всего, что так долго и упорно хранили долгие годы. Еще в ущелье было видно несколько навьюченных лошадей, привязанных к кустам. Валетанчич приказал, чтобы скотину тоже вывели сюда. Солнце уже было в зените, но в ущелье не заглядывало. Высокие скалы далеко отбрасывали непроницаемые тени.
— Камрад подпоручик, предупредите своих людей, пусть будут осторожны с белой лошадью, — сказал капитан Марко. — У нее дурная привычка — кусается. Мы о ней имели много хлопот.
Комиссар взглянула на капитана и вдруг почувствовала к нему какую-то жалость. Она не понимала, почему ей стало жаль этого пожилого человека. Если судить по морщинам, избороздившим лицо, и седым волосам, он был не моложе ее отца. Подумав об этом, она вдруг захотела чем-то помочь капитану. А что, если Марко согласится оставить его в роте? Она еще раз посмотрела на офицера. Штраус стоял как вымокший под дождем, усталый, осунувшийся, преждевременно постаревший, повернувшись спиной к своим солдатам. Он понимал, что они сейчас думают, и не хотел встречаться с ними даже взглядом.
— Куда прикажете отправиться моим солдатам? — спросил он наконец у Валетанчича, когда последняя группа немцев вышла ив ущелья.
— В лагерь дойдете, куда же еще?
— Печальная участь людей, потерпевших поражение. — Капитан пытался улыбнуться, но на лице проступила лишь тупая боль. — Назначите нам конвой или мы сами пойдем, куда прикажете?
Марко не сразу ответил. Ему очень не хотелось выделять конвой для отправления пленных. У него и так было мало людей в фоте.
— У меня нет свободных людей, — сказал подпоручик, — я выделю только двух бойцов.
— Можете выделить и одного. Уверяю вас, его никто не тронет. Мои солдаты сами пойдут, куда прикажете.
Через минуту длинная колонна пленных вытянулась через плато.
Шли пленные медленно, тяжело стуча коваными сапогами, тихо переговаривались между собой. Для них война закончилась.
Солдат увели, а капитан остался на прежнем месте. Партизаны занялись трофеями, и никто на него не обращал внимания, будто его и не существовало. А он не хотел снова обращаться к подпоручику, чтобы не казаться слишком назойливым.
Пленные солдаты медленно удалялись. Через несколько минут они скрылись из виду, а Штраус все стоял, чувствуя, как под лопаткой заныло остро и больно. В этот батальон он попал недавно, но уже успел завести несколько друзей, с которыми теперь не хотелось расставаться.
На войне всегда так — никогда человек не знает, сколько дней проведет вместе с теми, кто ему дорог. Нужно было чем-то отвлечься от тяжелых мыслей, и Штраус принялся срывать отличительные знаки со своей куртки. Осторожно снял погоны, чтобы не повредить материю, а наградные колодки разломал на части и отбросил в сторону.
— Слушай, а ты почему не ушел со своими подонками? — круто спросил его Валетанчич. — Кто разрешил тебе остаться?
Штраусу захотелось закричать от обиды, но он промолчал, только покраснел, как школьник перед учителем. Он продолжал на глазах стариться, плечи опустились, руки вытянулись по швам, и он уже смахивал на рекрута, впервые увидевшего офицера.
— Камрад подпоручик, позвольте мне поблагодарить вас: вы так гуманно отнеслись к моим солдатам. Когда я принял решение сдать вам батальон, многие боялись, что вы их расстреляете.
— Твоих солдат я пощадил, но тебя во всяком случае придется расстрелять, — рассвирепел Марко.
Штраус увидел его глаза, налитые злобой, и онемел. Почувствовал, как на миг в нем погас огонь жизни, понял, что наступил критический момент. Казалось, что земля под ним вогнулась и он очутился в глубокой яме, из которой нет выхода. Бесконечно долго тянулась эта минута: всякие мысли вереницей проносились в голове, отдаваясь резкой болью во всем теле. В душе была холодная пустота, ничего больше, и из этой пустоты, как из тумана, все-таки возродилась зыбкая надежда. Ему вдруг захотелось поспорить с партизанским командиром. Штраус весь зарделся, лоб покрылся испариной.
— Ваша воля, камрад. Вы можете меня расстрелять, но я продолжаю верить, что вы этого не сделаете. У вас рука не поднимется убить безоружного солдата.
— Ты плохо меня знаешь! Я могу убить и своего брата, если он встанет против меня.
— Конечно, — сказал Штраус, всеми силами стараясь подавить в себе дрожь. — Если брат идет против… согласен… и хотел просить вас: примите меня в партизаны. Клянусь, что буду честно бороться…
— Ты слишком многого захотел. — Марко минуту помолчал, что-то обдумывая, потом сказал: — Если я оставлю тебя в роте, ты все равно, пройдя через оставшиеся бои, не смоешь с себя всей грязи. Она у вас, у немцев, проникла так глубоко, что вас очень долго надо скоблить изнутри.
— Вы правы, камрад! Немцы в этой войне опозорились как никогда, и свой позор им будет трудно смыть. Но я же вам говорю: я не немец, я австриец. Можете поверить мне. И потом… не надо всех немцев считать фашистами. Это было бы глубокой ошибкой…
Штраус умолк. Потом пошел за партизанами молча, понурив голову, жалкий и ничтожный. Он был похож на утопающего, ищущего ту соломинку, за которую можно было бы уцепиться и выплыть на поверхность, но такой соломинки он не находил. Штраус взглянул на Ранку. Она шла в колонне и на него не смотрела. Колонна стала спускаться по склону горы. Все эти горы походили одна на другую. Светило солнце, и было тепло, намного теплее, чем в Австрии в это время. Штраус шел опустошенный, старался ни о чем не думать. Впереди слышался гул фронта. В нескольких местах склон горы перерезали траншеи. После отхода с хутора Грофовия его батальон должен был здесь занять оборону. То тут, то там торчали колпаки бетонных огневых точек. Их не успели занять подразделения из резерва фронта, и они стояли на фоне голых веток как памятники на заброшенном кладбище.
— Дальше надо идти осторожно, — предупредил Штраус. — Вся долина заминирована.
Валетанчич приказал роте остановиться.
— Ты уверен, что долина заминирована?
— Да, камрад. Минные поля обозначены на карте. Она там, в сумке, — можете проверить. Здесь мой батальон должен был занять оборону после отхода на вторую позицию.
— В таком случае ты пойдешь впереди.
Они взглянули друг на друга, потом посмотрели на долину. Обоим было известно, что значит идти впереди колонны через минные поля.
— Спасибо за доверие, — сказал Штраус, скупо улыбаясь.
Валетанчич тоже улыбнулся. Он снова взглянул на долину. На северной стороне раздалось несколько взрывов. Марко подумал о тех, кто успел подорваться на минах. Стоя на пригорке, он еще раз окинул взглядом местность: голая, унылая, она таила в себе смертельную опасность. Колонна роты вытягивалась в тонкую цепочку и спускалась в низину. Впереди шел Штраус, а за ним Чаруга с пулеметом. Его ствол почти упирался в спину австрийца. А тот шел осторожно, будто ступал по битому стеклу и боялся порезать ноги. Дышал глубоко и напряженно, чувствуя, как страх пульсирует в глубине его существа. Страх медленно нарастал и захлестывал каждую частицу тела. Только бы не запутаться, не сбиться. Один неверный шаг мог стоить не одной жизни. Только сейчас Штраус оценил добросовестный труд своих солдат. Минное поле было довольно широким, а проход в нем очень узким. Он был обозначен белыми колышками, торчавшими из земли сантиметров на десять. Когда колышки кончились, Штраус остановился и с облегчением вытер вспотевший лоб.
— Эй ты, уберись с дороги, — сказал ему Чаруга. — У нас нет времени прохлаждаться.
Штраус поднял голову и теперь впервые посмотрел на пулеметчика.
— Извините! — Штраус смутился. — Впереди, после траншеи, должно быть еще одно минное поле, — сказал он, — но я не знаю его расположения. Оно поставлено саперами и держалось в тайне от полевых частей.
— Это неважно, кем оно поставлено, все равно мы должны его пройти, — сказал пулеметчик. — Не будем же мы из-за какого-то минного поля срывать наступление.
— Конечно, не будем…
Они держались все время вместе. Штраус был неплохим солдатом и безошибочно нащупывал безопасную дорогу. Ему не хотелось подорваться на минах, установленных его армией. «Если суждено погибнуть, надо устроить это в другом месте и при других обстоятельствах», — думал он.
Когда колонна вышла из опасной зоны и пошла вдоль опушки обгорелого леса, Штраус увидел могильные холмики, уже размытые дождями, и вспомнил: дней двадцать назад, когда его батальон находился в резерве дивизии, на них напали партизаны. Передний край обороны был вынесен далеко вперед, и они выставили небольшое охранение. Партизаны подкрались к батальону незаметно. Они появились на рассвете, когда все крепко спали. Штрауса разбудили взрывы гранат и трескотня автоматов. И пока он натягивал сапоги, а потом искал в темноте оружие, стрельба и крики совсем приблизились. Он выскочил из своей палатки в туман, как в молочный кисель. Голоса нападающих слышались совсем близко. В воздухе пахло селитрой и грозой. Капитан растерялся и сперва не знал, в какую сторону следует бежать. Мимо пронеслось несколько черных теней, похожих на привидения, и он кинулся за ними. От тумана его лицо сразу сделалось влажным. Ноги тонули в грязи, словно в вате. Кое-где, упав плашмя, его солдаты пытались оказать сопротивление, но партизаны гранатами заставляли их отходить. Штраус только недавно прибыл сюда и еще не знал, как вести себя в подобной ситуации. В этой стране никогда никто не знал, как себя вести. Партизаны нагоняли на немецких офицеров ужасающий страх. Штраус в ту ночь понял, что ему здесь тоже долго не продержаться. Многих из его знакомых по африканскому фронту перевели в эту страну, и почти никто из них не уцелел. Эти горцы охотились за вражескими офицерами, как за жемчугом. В ту роковую ночь его батальон потерял больше двадцати солдат и троих офицеров.
Штраус повернулся к Чаруге, хотел спросить, не был ли он в ту ночь здесь, но вовремя спохватился. У Чаруги черные густые брови наседали на самые глаза, и от этого он казался мрачным, угрюмым. «С таким человеком нужно быть предельно осторожным, — подумал Георг Штраус, — ему ничего не стоит пристукнуть бывшего противника…»
Во второй половине дня, когда рота действовала уже в составе всего батальона, когда партизаны перешли долину и стали подходить к новому горному массиву, их обстреляли с ближних высот. В первую минуту Штраус растерялся, не зная, что ему предпринять. Он замечал, что один из партизан все время не спускает с него глаз, но делал вид, будто ничего не видит. Служба в немецкой армии научила его ничего не замечать. В эти минуты он чувствовал себя бездомной собакой, приставшей к чужим, непонятным людям. Рота поднялась и побежала в атаку. Штраус побежал тоже. В первом занятом партизанами окопе ему на глаза попался брошенный карабин, но он побоялся поднять его, чтобы не навлечь на себя подозрение. Потом было еще несколько убитых солдат, и оружие лежало возле них.
После первой атаки последовала еще одна, потом еще одна, и австриец удивлялся, как эти люди выдерживают такой темп наступления. Он испытывал голод и усталость. Голод на него действовал страшнее усталости. Желудок скручивала судорога. Утром, когда ему принесли завтрак, партизаны подняли стрельбу, и теперь он старался припомнить, что было подано на завтрак. В последнее время их кормили отвратительно. Хлеб был наполовину с опилками и застревал в горле. Ему хотелось узнать, чем кормят партизан, но уже приближался вечер, а им ничего не приносили. Занятый мыслью о еде, Штраус сразу и не заметил, когда на горизонте показались два танка. Это были легкие немецкие танки из танкового батальона дивизии. Они разворачивались для контратаки. Георг вспомнил, что минуты три назад в осыпавшейся траншее он видел брошенный фаустпатрон, и побежал назад. Оружие оказалось исправным и заряженным. Немного в стороне лежало еще два снаряда. Счистив с них крошево земли, австриец вернулся назад и занял место в цепи партизан. Танки успели приблизиться метров на двести. Вслед за ними двигалась жидкая цепь пехоты. Увидев солдат, Штраус вспомнил: сюда на случай отступления должен был отойти второй батальон десятого Бранденбургского полка из дивизии «Принц Евгений». Этим батальоном командовал баварец, награжденный двумя Железными крестами за героизм, проявленный в боях с партизанами. В Югославии он воевал больше двух лет и успел заработать два чина — капитана, а потом и майора. В десятом Бранденбургском полку служили исключительно арийцы, но в последнее время сюда стали направлять «всякий сброд», и в офицерской среде создалась невыносимая атмосфера. Между Штраусом и баварцем с первого дня выросла стена отчужденности, и она, эта стена, с каждым днем становилась все более ощутимой. А дней пять назад, когда партизаны ночью прорвали оборону полка в двух местах и отбросили их на запасные позиции, баварец стал в этой неудаче обвинять офицеров неарийского происхождения, назвал их предателями. Призывал убрать их из полка и предать военно-полевому суду. Гестапо завело на Штрауса дело, но не успело закончить расследование. И теперь Штраусу очень хотелось насолить баварцу. Эти танки принадлежали его батальону, и, если их партизаны спалят, командиру батальона обязательно достанется за то, что оставил их без надежного прикрытия. Штраус прекрасно знал, как в армии, которую он бросил, строго взыскивали за такие вещи.
Партизаны вели интенсивный огонь по пехоте, пытаясь отрезать ее от танков. Штраус занял выгодное место и терпеливо выжидал, когда танки подойдут к зоне действия фауста. Это было неплохое оружие. Он с ним впервые познакомился в сорок третьем году в Сицилии, когда ему пришлось отбивать атаку английских танков, прорвавшихся глубоко в тыл немецкой армии. Тогда из фауста он подбил два легких танка, и за этот подвиг ему бросили звание «капитан». Это было его первое звание, полученное в германской армии. Когда немцы мобилизовали его в сороковом году, Штраус был обер-лейтенантом австрийской армии. Его призвали из запаса и смотрели на него как на недоучку, держали в тыловых частях и послали на фронт только в последний момент, когда уже ощущалась явная нехватка строевых офицеров.
Сейчас, очутившись под дулами танков, австриец испытал знакомый холодок. Он опять находился над пропастью, ждал, когда свалится в нее, но пятиться назад не собирался. Штраус увидел ствол чудовища, направленный на него. Времени на размышление не оставалось. Партизаны, занятые своим делом, даже не заметили, когда Штраус вернулся в строй с фаустпатронами, не слышали и выстрела, только с удовольствием увидели, как танк, идущий впереди, сперва остановился, завертелся на месте, словно собака, когда ей наступят на ногу, и потом выпустил из своей утробы густой столб дыма.
— Так их! — весело закричал партизан, оказавшийся рядом с австрийцем. — Так их, сукиных сынов!
Штраус выстрелил по второму танку, но промахнулся:
— Не спеши! Зачем ты спешишь? — спросил его все тот же боец.
Распираемый гордостью, Штраус весь сиял и улыбался. Его выцветшие глаза лучились тем светом, который льется с предзакатного неба, хотелось кричать и прыгать от счастья. Он поднял голову и взглядом поискал Валетанчича, но тут снова в поле его зрения мелькнул второй танк. Зайдя за небольшую высотку, он открыл огонь по наступающим. У Штрауса оставался еще один фауст. Он выждал удобный момент, выскочил из своего укрытия, пробежал несколько шагов и снова залег. Вокруг него запрыгали комочки земли, поднятые пулями.
— Жалкий урод, — крикнул ему Чаруга, — спрячься! А то они тебя издырявят, как старое ведро.
После того как австриец подбил первый танк, партизаны сразу стали относиться к нему с уважением.
— Давай назад, в укрытие, — приказным тоном сказал ему Чаруга, когда снаряд разорвался совсем близко. — Вы, швабы, потому и гибнете, как мухи, что, безголовые, лезете под пули, словно овцы за солью.
— У меня еще один фауст остался…
В это время танк стал откатываться назад. Штраус с сожалением посмотрел ему вслед. Пехота тоже отступила. Партизаны поднялись и пошли вперед.
Подбитый Штраусом танк все еще дымился. От него тянуло горелой резиной. Было безветренно, и дым поднимался высоко в небо. Казалось, где-то начала тлеть сама земля. Дым заслонял солнце, и оно тускнело на глазах. С утра по тылам работала партизанская авиация, и теперь во многих местах виднелись разрушения и пожары.
Впереди показалась небольшая деревушка, а за ней в закатных лучах солнца блестела лента реки. Она подействовала на бойцов успокаивающе. Деревня выглядела почти вымершей; мост через реку был разрушен, а дорога перед ним разворочена разрывами бомб. В канаве и на полотне дороги лежали перевернутые тягачи, в воде, зацепившись за сваленные фермы моста, плескалось несколько трупов. Солдаты, видимо, были убиты недавно, так как еще не успели раздуться. Штраус, узнав убитых немцев, подобрался ближе к ним, внимательно стал разглядывать, потом вдруг торжествующе вознес вверх руки:
— Генрих Шнейдер, командир второго батальона!
Валетанчич бросил на него быстрый взгляд. Он уже знал о выстреле Штрауса и теперь отметил, что смягчился по отношению к австрийцу.
— Не задерживайся! — сказал Марко.
Партизаны быстро разувались, закатывали штаны и переходили реку. Марко запустил руку в воду и покачал головой. В горах таял снег, и вода была холодной и грязной.
— Мне не очень хочется лезть в эту грязь, — сказала Ранка.
Она сидела на берегу и смотрела, как бойцы переправляются на другой берег. К вечеру раненая рука разболелась еще больше. Лицо у нее сделалось серым, взгляд вялым, ей ужасно хотелось спать.
— Не разувайся, — подошел Марко, когда она принялась расшнуровывать ботинки. — Я перенесу тебя на тот берег.
Ранка расхохоталась и никак не могла остановиться.
— Я не такая легкая, как ты думаешь.
— Думал, что ты иного мнения о моих силах… Идем, рота уже переправилась.
— Не надо, неудобно! Ребята начнут зубоскалить. Скажут: комиссар едет верхом на командире.
— Они и так зубоскалят…
Вода была очень холодная, обжигала ноги, а острые камни до боли врезались в ступни. Они были на середине реки, когда с высоты напротив застрочил пулемет. Пули пролетели высоко над их головами. И рота, не дожидаясь, пока командир с комиссаром выйдут на берег, развернулась в цепь.
— Ты, оказывается, очень тяжелая, — признался Марко, выходя из воды. — Тебя трудно нести на себе…
Ранка засмеялась.
— А как же мы, женщины, всю жизнь носим вас, мужчин, и на себе и в себе?
— Вы привыкли носить тяжести, а мы нет.
— Эх ты, Аполлон!
— Кто я тебе?
— Аполлон ты! Это бог солнца, герой греческой мифологии.
— Знаю! В своем селе мы тоже часто собирались и читали всякую дребедень.
— Все, что человек читает, — это полезно.
— Не сказал бы.
Она посмотрела на него с улыбкой:
— Какой ты все-таки странный… Никогда ни в чем не соглашаешься со мной…
— Чего тут соглашаться? Кому нужен сейчас твой Аполлон? Если бы раньше я знал, что будет такая война и я в ней стану командиром, я бы читал такие книги, которые бы мне теперь пригодились.
— Никогда не надо жалеть о том, что прошло, что потеряно. Всегда будь доволен тем, что сделал.
— Я и так доволен, а сегодня тем более. Не каждый день берем в плен по целому батальону.
— Если бы год назад рота совершила такое, нам бы всем ордена дали, а теперь и не вспомнят. Еще и неприятности могут быть.
— Какие неприятности?
— Зачем, спросят, оставил этого австрияка у себя?
— Ты уверена, что будут неприятности? Так его же не поздно и сейчас расстрелять.
— Этого делать нельзя, но ты знаешь, что комиссар батальона не терпит, когда пленных мы оставляем у себя.
— Мало ли чего он не любит. У нас в роте и так мало людей. Уже некого ставить на место погибших пулеметчиков.
В этот день, как никогда, партизанское наступление шло довольно успешно. Батальон успел продвинуться километров на двадцать в глубину немецкой обороны, и к вечеру партизаны подошли к небольшому городку, обнесенному минными полями, колючей проволокой, сплошными траншеями и бетонными огневыми точками. Овладеть городком с ходу не удалось. У партизан сложилось преувеличенное представление о силах гарнизона, и они стали ждать, когда изрядно поработают жернова пушек.
Роту Валетанчича к вечеру вывели в резерв. Днем она отлично поработала, и ей дали отдых. Солдаты ждали ужина и чистили оружие. Неподалеку догорал взорванный элеватор. Надвигался вечер. Сумеречные полутона быстро сгущались. Небо темнело, предметы удалялись. Стрельба в городе выдыхалась, и все понимали, что сегодня наступать больше не будут. Но по дороге еще продолжали двигаться военные колонны.
За элеватором артиллеристы устанавливали пушки. На обочине дороги стояли русские танки, и от них пахло жаром раскаленных двигателей, маслом и бензином. Штраус впервые видел русских солдат и теперь с любопытством смотрел на них. Потом его сморил сон, он упал и задремал.
Спал он недолго, проснулся от громкого разговора. Открыв глаза, Георг Штраус увидел рядом с Марко и Ранкой незнакомого офицера с тремя звездами на рукаве. Позже он узнал, что это был комиссар батальона Никола Марич.
Комиссара батальона нельзя было назвать красивым, но он обладал статной фигурой, в которой сочетались сила и ловкость. Одет он был, как и все командиры, в трофейную куртку из итальянского сукна и английские шаровары, заправленные в сапоги. Ему было не больше двадцати пяти лет. Среднего роста, коренастый, выглядел он старше своего возраста. От уголков губ и от глаз веером расходились пучки неглубоких морщин. Глаза у Марича заметно слезились, и он постоянно щурился. После ранения в голову комиссар терял зрение. До войны Марич учился в мореплавательной школе, но в период мартовских событий сорок первого года был отчислен из нее с последнего курса. А через десять дней, когда началась война, Никола добровольно вступил в армию и чуть было не попал в плен. За несколько дней на войне он повзрослел на десять лет, и, когда в Сербии второго июля вспыхнуло восстание, он не колебался в выборе пути.
Комиссаром батальона он стал еще прошлой осенью, сразу же после освобождения Белграда. В это же примерно время Валетанчича назначили ротным. До этого они были неплохими друзьями, но потом между ними как кошка пробежала. Если встречались, вели разговоры только служебного порядка. Зимой, когда Марко расстрелял двух пленных немцев, Марич рассвирепел и стал угрожать исключением из партии, но свою угрозу так и не осуществил.
— Знаю, мне уже доложили о вашем подвиге, — встретившись с Марко и Ранкой, сказал комиссар. Он поздоровался с ними за руку, что делал довольно редко, и этим как бы отдавал дань признания их успеху. — Когда мне донесли, что вы пленили целый батальон, я не поверил… Поздравляю! Двести пятьдесят солдат — это не шутка…
— Двести восемьдесят четыре человека и двенадцать лошадей, — уточнил Марко, — и еще один подбитый танк…
— И о танке наслышан. Только не знаю, куда вы девали командира батальона. Почему его не сопроводили в штаб?.
— Я оставил его в роте, — ответил Марко.
— Оставил в роте? Зачем он тебе понадобился? — Комиссар смотрел на Марко, сильно прищурив глаза. С наступлением темноты он почти ничего не видел, и ему приходилось постоянно напрягать зрение. — Его нужно было допросить и вместе с его подонками отправить в лагерь.
— Он мне нужен!
— Он тебе нужен? — Марич еще сильнее прищурил глаза.
Ранка посмотрела на комиссара батальона, потом перевела взгляд на Марко.
— Марко, почему ты не скажешь комиссару, зачем оставил этого австрияка в роте? — спросила она.
И потом Маричу:
— Мы его оставили потому, что он антифашист.
— Антифашист? — Марич с недоверием улыбнулся и так посмотрел на Валетанчича, словно старался заглянуть в самую глубину его души. — С каких это пор ты стал верить фашистским офицерам?
— Могу я хоть раз поверить противнику? К тому же он, кажется, не фашист.
— На тебя это не похоже… Ты задумал скверную игру.
— Какую игру?
— Не прикидывайся простачком. Я знаю, ты этого немца тоже хочешь расстрелять.
— Он уже участвовал с нами в бою, — пояснила Ранка, — и даже успел отличиться. Уничтоженный танк — его работа.
— Все равно его надо отправить в штаб, — сказал комиссар Марич.
Марко упрямо покачал головой:
— Никуда я его не отправлю!
Марич прекрасно знал Валетанчича и не стал спорить с ним — это было бесполезно. Они поговорили еще минут пять довольно мирно. Собираясь уйти, комиссар предупредил подпоручика:
— Смотри, если офицер сбежит, ты будешь отвечать.
— Никуда он не сбежит, — ответил Марко. — Ну а если что, тогда и пристукнем.
Вокруг толпились бойцы. Они успели привести себя в порядок. Ужин все еще не привозили, и никто не хотел голодным ложиться спать. Штраус хоть и был голодный, но о еде сейчас не думал. У него кружилась голова. Обрывки разговора, случайно подслушанные, действовали на него удручающе. Его тошнило, хотелось плакать от бессилия. Лицо помрачнело, глаза сузились. Опасность, висевшая над ним с самого утра, все еще не проходила. Гадкий страх опять овладевал сознанием.
— Герр подпоручик, — обратился он к Валетанчичу, когда тот проводил комиссара батальона, — я слышал разговоры — прошу отправить меня в штаб.
— Ты уже успел разочароваться в партизанах? — не без иронии спросил подпоручик.
— Мое место — в лагере. Так будет лучше. — Он чувствовал себя опустошенным.
— У меня нет свободных людей, — сухо ответил ему Марко. — Мои бойцы слишком устали, и вряд ли кто из них захочет тащиться с тобой в штаб.
Штраус минуту помолчал, понурив голову.
— В таком случае можете меня сейчас расстрелять…
— Это мы всегда успеем сделать, особенно если ты будешь вести себя как последний идиот.
По тону подпоручика Штраус понял, что опасность быстрой смерти миновала. И он без страха посмотрел прямо в глаза командиру роты.
— Камрад подпоручик, вы на самом деле решили меня оставить в роте? — Он с надеждой уставился на Валетанчича.
— Запомни раз и навсегда, — назидательно заговорил Марко, — мы слишком порядочны, чтобы бросать слова на ветер.
— В этом я уже успел убедиться… Спасибо вам! Я слышал… Вы спасли мне жизнь…
— Спасаться теперь будешь от фашистов, а сейчас пойдешь во второй взвод на должность помощника пулеметчика. Но запомни, Штраус, мы можем быть и добрыми, и злыми.
— Во мне можете не сомневаться. — Лицо у пленного пылало. — Я еще сумею себя показать. Уверяю вас, вы не пожалеете, что оставили меня в роте.
Штраус и в самом деле оказался неплохим бойцом. Всеми силами стараясь оправдать доверие, он отлично справлялся с должностью помощника пулеметчика. И в глубине души был охвачен странным, неодолимым волнением, смутно ощущая, что его жизнь приобретает новый оттенок, что в нем пробуждается сознание безграничной ответственности за свои поступки, вызванное плотным соприкосновением с возвышенной правдой.
Штраус с каждым днем все глубже пускал корни в новой среде, срастался с ней, стремился всеми силами души слиться, быть с партизанами заодно. Увлекаемый бурными волнами событий, он часто испытывал замешательство от всего прежде незнакомого, с чем теперь нужно было сжиться. В его сознании порой царили беспорядок и суматоха — уходили одни и приходили другие мысли, и среди всей этой неразберихи он слышал пробуждающийся голос совести, призывающий его быть последовательным, не колебаться, держаться до конца новой дороги.
Сейчас бывший пехотный капитан был частицей новой машины, движущейся вперед, и нужно было удержаться в ней, не вылететь в тяжелое прошлое, а то и из жизни. Эти люди, против которых еще неделю назад он поднимал батальон в атаку, теперь стали ему близкими, и Штраус пытался мыслить их мыслями, воспринимать жизнь так, как они ее понимают. Труден был путь перерождения. Иногда он испытывал страшное ощущение, как человек, выброшенный из самолета и не понимающий, где приземлится. Особенно трудно было ему по ночам, когда все вокруг спали, а он лежал, уткнувшись головой в солому, и пытался из разрозненных кусков мыслей слепить одно целое, очертить контуры новой картины…
Тем временем партизанская бригада сошла с гор, и ее дальнейшее продвижение было остановлено немцами на границе Славонской равнины. Здесь лежала голая земля, и было трудно за нее зацепиться. Немцы предпринимали отчаянные попытки выбить партизан с занятых позиций, отбросить их назад, в горы. Фронт на всем протяжении грохотал.
В конце марта начались дожди. Земля размокла, поползла и превратилась в непроходимое месиво. Солнце не проглядывало. За три дня партизаны успели основательно слиться с мрачным пейзажем, и теперь даже танки не смогли их выбить с запятых позиций. На четвертый день полил такой дождь, будто начался всемирный потоп. Но немцы все равно атаковали. Люди вывалялись в воде и грязи, стали неузнаваемыми. В последних контратаках многие бывалые партизаны погибли, а оставшиеся в строю едва двигались от усталости. Роту два раза выводили с переднего края, пополняли новобранцами и снова возвращали в траншею. Всю ночь лил дождь, а утром немцы открыли ураганный артиллерийско-минометный огонь. Партизаны стали ждать атаки, но она не последовала, и бойцы принялись восстанавливать траншею.
— Удивляюсь, какая сила заставляет немцев так отчаянно драться, — сказала Ранка, когда артналет кончился. — Ведь уже всем ясно, что они войну проиграли.
— Этим сукиным детям приказано стоять насмерть. У них на Сремском фронте двенадцать дивизий, и если мы здесь прорвемся, тогда тем дивизиям крышка, — пояснил Марко.
— Все равно мы прорвемся, и все дивизии на Сремском фронте окажутся отрезанными.
— В начале апреля наши войска на Сремском фронте должны перейти в наступление. Говорят, в Далмации
наш фронт уже двинулся вперед, и в Боснии вторая армия прорвала их оборону в двух местах.
— Откуда у тебя такие сведения?
— Из штаба бригады. Мы тоже в ближайшие дни должны перейти в наступление. На наш участок уже начали прибывать части второй пролетарской дивизии. Как только она сосредоточится, так мы и двинем.
— Наступление будет жарким, — заметила Ранка.
— Не хотел бы я быть на той стороне, когда все это начнется, — сказал Марко. — Поговаривают, что к нам должны прибыть русские «катюши». Будет весело, когда они примутся за дело. — Ты думаешь, сюда пришлют и «катюши»?
— Не сомневаюсь, раз русские обещали — они слово сдержат.
В обед выглянуло солнце, и гитлеровцы начали атаку. Но шли они без танков, и партизаны без труда их остановили. В этот день атаки не возобновлялись, но снаряды продолжали рваться по всей линии фронта. Еще утром, во время артналета, осколком снаряда убило пулеметчика, и взводный на его место назначил Георга Штрауса. В последних боях опытных бойцов погибло так много, что теперь все труднее стало искать им замену. Австрийца новое назначение и не огорчило, и не обрадовало — старого солдата, видно, ничем нельзя было удивить.
— Очень прошу вас назначить мне помощником парня покрепче, — попросил Штраус взводного. — Я люблю иметь в запасе патронов побольше. У меня сейчас семь лент, набитых до отказа, и еще две коробки…
Штраус в новой должности продержался ровно двое суток. При очередном налете его ранило в плечо. Рана была не очень серьезной, и он отказался идти в госпиталь. Обстрел продолжался больше часа, а когда он прекратился, по траншее поползли слухи, будто тяжело ранен командир роты. Этот слух скользил быстро, как ветер по поверхности озера, ни за что не цепляясь, и когда дошел до Штрауса, тот почувствовал себя опять отвратительно.
— Будем надеяться, что подпоручик скоро поправится, — сказал он Ранке Николич, когда та появилась в траншее.
Она грустно посмотрела на него.
— Не думаю, что Марко скоро вернется в роту, — сказала она. — У него прострелена грудь, и врач боится, что задет позвоночник.
Ранка настолько изменилась за эти дни, что ее трудно было узнать: лицо посерело и сделалось похожим на старый пергамент, глаза провалились, полные невыплаканных слез. После ранения Марко она временно исполняла и его должность. В штабе каждый день обещали прислать нового командира, но все не присылали, и она одна, без смены, круглые сутки находилась на переднем крае и боялась, что вот-вот повалится наземь от усталости. Наконец из батальона поступил приказ: роте подготовить свой участок обороны к сдаче другому подразделению. Узнав об этом, Лазаревич довольно улыбнулся:
— Давно пора нас сменить. Ни одна рота не выдерживала здесь шесть дней, в траншее, без смены.
— Наша выдержала…
— Нам за это все равно награды не дадут.
— Кто пошел воевать за награды — тот уже отвоевался, — ответила Ранка. — А мы не за ордена воюем, и ты это прекрасно знаешь.
— У меня за эти дни всю память отшибло, и теперь я ничего не знаю, кроме того, что хочу спать.
— Когда нас сменят, постарайся хорошо выспаться, — посоветовала Ранка. — Скоро начнется общее наступление, и тогда до конца войны не придется спать.
К вечеру на их место прибыл пролетарский батальон. Это уже был хороший признак. Пролетарские части всегда присылали перед наступлением. Их роты сняли с передовой и отвели в тыл, но не очень далеко от переднего края.
— Эта деревня бывает под обстрелом? — спросил Штраус у одного бойца, когда они очутились в тылу.
— Не думаю, чтобы снаряды сюда долетали, — ответил тот. — Мы тоже только утром сюда прибыли.
— Здесь не видно больших разрушений, — сказал Штраус, осматриваясь вокруг.
— Это ты днем посмотришь, потом скажешь. — Боец закинул винтовку за плечо, зевнул раз-другой и удалился.
Бойцы минут тридцать сидели на дороге и ждали, пока их распределят на постой. На небе разгулялись облака, а луна светила как через запотевшее стекло. Из темноты выступали сутулые контуры построек.
Взвод, к которому был причислен Штраус, разместили на отдых в конюшне. Одну половину помещения занимали две лошади и одна корова, а вторую отвели бойцам. В соломе было тепло, но Штраус никак не мог уснуть. Его очень мучил голод, еще больше, чем усталость. На рассвете их накормили, а потом целый день ничего не привозили. Он надеялся на ужин, но его почему-то не было. Еще ему сильно хотелось курить: если партизан хоть изредка, но кормили, то табак вовсе не выдавали. Многие умудрялись курить дубовые листья, но Штрауса от них тошнило. Утром Чаруга дал ему щепотку высушенного мха, он набил им трубку, несколько раз затянулся, а потом целый день ощущал горечь во рту, словно жевал полынь. Вдобавок ко всему разболелось раненое плечо, и он теперь уже жалел, что отказался уйти в госпиталь. Боль отдавала в висок, и голова разрывалась на части. Бойцы рядом с ним спали мертвым сном, их посапывание начинало Штрауса раздражать. Невыносимым сделался воздух — от испарений навоза, лошадиного пота и мокрой одежды. Штраус понял, что здесь ему не уснуть, и осторожно встал, чтобы выйти на улицу.
Недалеко от конюшни стоял часовой. С переднего края доносилась стрельба. Штраус остановился и прислушался. Ему ни о чем не хотелось думать.
Голова была пустой, словно из нее вытекли все мозги.
— Что, не спится? — спросил часовой.
Штраус покачал головой. Одежда на нем была влажной, а на улице свежо, и он поеживался, как на морозе.
— На месте командира я бы часовыми назначал в первую очередь тех, кому не спится…
— У меня разболелось плечо, — пояснил Штраус. — Днем меня ранило.
— Извини, я не знал, что тебя ранило. — Это был молодой боец, совсем недавно мобилизованный в армию. — Отчего ты не пойдешь в лазарет?
Штраус промолчал. Он и сам удивлялся, почему не пошел в лазарет. Может, поддался общему энтузиазму. Люди и с более серьезными ранами оставались в роте.
— Георг, правда, что ты немец? — после небольшого молчания спросил часовой.
— Нет, я австриец, — ответил Штраус без охоты.
— Но ты служил в немецкой армии?
— Служил.
— Говорят, был офицером?.. Как же это ты? Как посмотришь — на вид вроде порядочный человек, а пошел служить фашистам… Этого я не понимаю.
— Выхода другого не было. — Голос у Штрауса был совсем вялым.
— Как так — не было выхода? Разве там, в Австрии, нет гор? Можно же было уйти в горы, организовать партизанский отряд, как наши люди делали, когда вы нас оккупировали. Вот уж кому-кому, а швабам вонючим никогда бы не стал служить. Мой отец два года был в четниках, но это хоть и враги народа, но все же свои люди.
— Все враги одинаковые — что свои, что чужие, — сказал Штраус.
— Ну, ничего подобного, — возразил боец. — Свои есть свои, а чужие остаются чужими. В Южной Сербии, откуда я родом, оккупантами были болгарские фашисты, так четникам и не снились такие варварства, какие вытворяли те ублюдки. Моя сестра симпатизировала партизанам, оккупанты схватили ее, привязали к скирде соломы и подожгли. Ты, наверное, тоже такие экзекуции устраивал нашим людям?
— Я воевал на африканском фронте, потом в Италии.
— В Италии вы были своими людьми.
— Итальянцы тоже немцев не любят!
— Удивительно! Они же были союзниками, как мы с русскими. Как это можно не любить союзников?
— Можешь мне поверить.
— Я тебе верю. Ты старше меня, и я тебе верю. Ты, наверное, очень образованный.
— До войны я работал инженером…
— После войны тоже будешь инженером?
— Может быть. Конечно, буду.
— Жаль, что тебя ранило под самый конец войны. Может, я могу тебе чем-нибудь помочь?
— Нет, никакой помощи мне не нужно… Если бы у тебя нашлось хоть немного табака…
— Нет у меня табака. Я некурящий.
— Жаль…
Штраус ощупал раненое плечо и поморщился от боли.
— Если у тебя так болит рана, ты должен пойти в лазарет, — посоветовал ему часовой.
— Да, я так и сделаю, — ответил Штраус, хотя уже точно знал, что в лазарет не пойдет.
Он решил побродить по селу в надежде встретить кого-нибудь из крестьян. У них всегда имелся табак. Хлеба могло и не быть, но табак всегда находили.
— Георг, послушай, напрасно ты идешь без оружия! — крикнул ему вслед часовой. — Наш взводный приказал никого никуда без оружия не отпускать. Всякое может случиться.
— Ничего со мной не случится, — ответил тот. — Я только схожу в лазарет, перевяжусь и вернусь обратно.
Он отошел еще на несколько метров, потом решил, что без пароля ходить ночью еще опаснее, чем без оружия, и вернулся назад спросить у новобранца пароль.
— Разглашать пароль часовому запрещено, — ответил боец.
— Но ты же знаешь, что я иду в лазарет. Кругом стоят часовые, меня могут задержать.
Боец минуту колебался.
— Понимаешь, мне его не жалко тебе сказать, но взводный строго наказывал держать в секрете… Лазаревич, не любит, когда его не слушаются… Если не станешь болтать, так я скажу…
С паролем Штраус почувствовал себя увереннее. Он сперва шел медленно, потом незаметно прибавил шаг. Небо разъяснилось, тучи разошлись, и луна светила ярко. Лужи на дороге блестели, словно были покрыты тонкой коркой льда. Опасаясь, что его остановят часовые, он шагал осторожно, напряженно прислушивался к звукам и слышал, как пульсирует кровь в висках. Лоб его пылал, кажется, у него нешуточно подскочила температура. Он уходил все дальше в ночь…
С приближением утра на переднем крае стрельба усилилась. Осветительные ракеты все чаще расписывали небо. Изредка тяжелые снаряды залетали и рвались на окраине деревни.
В пять часов утра роту подняли на завтрак. Как и на передовой, здесь раздавали пищу в темноте. Тяжелая артиллерия противника часто обстреливала деревню, и, чтобы избежать ненужных потерь, командование приказало кормить людей пораньше и на день вывести всех за деревню, в сосновый лес. Жика Чаруга обнаружил отсутствие Штрауса.
— Кто его последним видел? — спросил Чаруга бойцов.
Неделю назад он был назначен на должность заместителя командира взвода и все еще входил в круг новых обязанностей.
— Он ночью ушел в лазарет, — подал голос один из бойцов. — Я как раз стоял часовым.
— Идиот, ты ему так и поверил. — Чаруга почувствовал, как у него заколотилось сердце.
Партизаны видели, какой злостью отливали его глаза. Он вошел в конюшню и через минуту вернулся с пулеметом в руке. Еще автомат повесил на шею и, не посмотрев в сторону бойцов, словно все они были повинны в исчезновении Штрауса, пошел докладывать о случившемся комиссару роты. Ранка только закончила завтракать и одевалась, когда он постучался и вошел в комнату. За ночь комиссар отдохнула, заметно посвежела, даже появился румянец на щеках.
— Товарищ комиссар, у нас чертовски большая неприятность, — еще с порога сказал он, — шваб смылся. Выждал подходящий момент и драпанул к своим.
По лицу Ранки скользнула мрачная тень.
— Ты уверен, что он сбежал?
— В этом нечего сомневаться. Он обманул часового, сказал, что идет в лазарет на перевязку, а сам драпанул.
Она взяла чашку с недопитым кофе, торопливо сделала два глотка и, отставив чашку в сторону, выглянула в окно. Туман рассвета путался в ее роскошных черных волосах.
«Без пилотки она куда красивее», — подумал Чаруга, ощущая, как его обволакивает нежность к своему комиссару.
— Ты допивай кофе, — сказал он ей, — теперь ничего не поделаешь, не пойдешь догонять его.
— Почему бы и не попытаться его догнать? — Ранка повернулась к Чаруге и, встретившись с его взглядом, улыбнулась. — Не мог же он далеко уйти. Ведь впереди везде стоят наши войска.
Она вытащила пистолет из кобуры, вынула обойму, пересчитала в ней патроны. Рана на руке у нее уже затянулась, но боль изредка еще появлялась.
— Мы с Марко оставили его в роте, поверили ему…
— Ну, товарищ комиссар, разве швабам можно верить? Все они гады!
— Ему теперь далеко не уйти. Скоро начнется общее наступление, и он снова попадется. Как бы хотелось, чтобы он попался именно нам.
— Тогда бы уж я его прикокнул, подлеца… Ты не расстраивайся, все равно он попадется.
— Откуда ты взял, что я расстроилась?
— Мне кажется, ты переживаешь. Но это не твоя вина, что он, гад, утек. Мы все довольны, как ты командуешь ротой. У тебя неплохо получается.
Ранка пристегнула ремень, надела пилотку, повесила через плечо полевую сумку. Чаруга еще раз с интересом взглянул на нее, но она не обращала на него внимания. Ранка привыкла к мужским взглядам и не сердилась да ребят. Даже тогда, когда они пытались заглянуть ей в самую душу: ведь людям надо как-то себя успокоить…
Когда Ранка с Чаругой вышли на улицу, снова стал накрапывать дождь. На дороге показались две колонны: одна держала направление в сторону фронта, вторая — к лесу. Они выждали, пока обе колонны прошли. У бойцов было великолепное настроение — все успели выспаться и позавтракать. Как только тронулись с места, кто-то запел.
Чаруга, распираемый гордостью, шел впереди своего взвода, размахивая руками в такт песне. За последние дни замковзвода заметно похудел, и куртка свободно свисала с его плеч. На, новой должности Чаруга старался показать себя с хорошей стороны, и Ранка предложила штабу утвердить его вместо погибшего командира второго взвода. Он знал о предложении комиссара и теперь смотрел да нее, как верующий больной смотрит на икону. Заметив, что комиссар увязала в грязи по щиколотку, Чаруга вдруг почувствовал, что и ему от этого стало труднее шагать.
Дорога была разбита подводами, машинами, гусеницами танков. И всюду непроходимая грязь. Ноги утопали в этой жиже, как в плохо замешенном тесте. Местами виднелись следы телег, оставленные крестьянами еще осенью, но сейчас они тоже смешались с грязью. По обеим сторонам дороги стояли серые, давно не беленные дома с черепичными крышами. Несколько домов было изрешечено снарядами, а в двух местах над развалинами еще стелился дымок. Вокруг толпились люди. У них был удрученный вид. Когда мимо них проходила колонна, они всматривались в нее, надеясь увидеть среди партизан своих родных и знакомых.
В центре села грязи было меньше: под нотами заскрипел щебень, бойцы повеселели, подтянулись, строй выровнялся, и прерванная песня возобновилась. Вскоре рота свернула с главной дороги в узкий переулок, и, когда стала подниматься к лесу, ей навстречу попалась группа крестьян, вооруженная вилами и топорами. У них был такой вид, словно они поймали большого медведя и теперь ведут показывать его на ярмарке.
Взглянув мимоходом на крестьян, Чаруга заметил, что они ведут кого-то, связанного веревками, и смутная догадка зашевелилась в нем. Эта догадка поднялась из самой глубины души. Он хорошо знал своих крестьян, верил в их надежность. В первое мгновение люди показались ему хмельными. Они так шумели, словно стремились обратить на себя внимание.
Впереди шел мужик средних лет, в резиновых сапогах, черной домотканой куртке и старой выцветшей шляпе, так согнувшись, будто за спиной нес вязанку дров. Через плечо он тащил веревку, которой был связан человек, идущий шагах в трех позади него. Вокруг толпы, как мухи, носились несколько подростков. У них был торжественный вид.
Приблизившись к партизанам, процессия остановилась, чтобы пропустить колонну. Поравнявшись с крестьянами, Чаруга отделился от колонны и подошел к ним поближе; ему хотелось увидеть, какого такого зверя они изловили. Разглядеть его издали почти не было возможности, ибо крестьяне плотно обступили своего пленника. С одной стороны стояла женщина с вилами, вперенными пленнику в бок, с другой — мужик с топором через плечо. Связанный был без головного убора, в немецкой форме без всяких знаков отличия. С него успели стащить сапоги, и он стоял в одних носках. Волосы цвета спелой пшеницы закрывали ему лицо. Увидев партизан, он еще ниже опустил голову.
— Это мы поймали шваба, — сказал крестьянин, снимая с плеча топор. — И сопровождаем его к вам в штаб.
Чаруга отодвинул в сторону мужика с топором, подошел ближе к пленному, взял его за волосы и, подняв опущенную голову, заглянул в лицо. В первое мгновение его трудно было узнать. На шее и лице виднелись кровоподтеки, один глаз опух и заплыл. Одежда в нескольких местах была порвана.
— Он сопротивлялся, вот мы его и жигосали
[19], — сказал мужчина с топором.
Чаруга отпустил пленника, поплевал на ладони и вытер их о штаны.
— Ну, попался, сукин сын? — зло сверкая глазами, спросил он пленного и, увидев приближающегося комиссара, через голову крестьян сказал ей: — Вот он, гад! Теперь-то мы его прикокнем, как пить дать.
Штраус стоял, не поднимая головы. Он понимал, что оправдываться бесполезно, хотя никак не мог осознать, в чем его преступление.
— Где же вы его схватили? — спросила Ранка у крестьян.
Женщина с вилами повернулась к комиссару лицом. У нее были толстые ноги и громадные бедра.
— У меня в доме его накрыли, — сказала она. — Муж ночью вышел проверить корову. Она должна отелиться. Жду, его нет. Я тоже поднялась, иду в хлев и вижу: они сидят возле фонаря и курят. И я сразу в нем распознала шваба, но, чтобы не спугнуть, дала ему попить молока, а сама позвала соседей.
— Прикончить его надо, — вмешался в разговор мужчина, который вел Штрауса на веревке. — Нечего с ним возиться.
— Это ты сейчас такой храбрый, а ночью дал ему табак. Самому скоро курить будет нечего, а ему, извергу, дал.
— Ну, человек попросил, как же, сказался партизаном, — робко пояснил мужчина. — И на пилотке звезда была.
— Звезда? Это он, наверное, нашего человека убил и пилотку взял у него.
— Конечно, убил нашего человека. Может, этот человек из нашего села был.
— Откуда бы он ни был, все равно он наш, а это чужой. Но разговору сразу видно, что чужой…
— Отдайте его нам, — оказала Ранка женщине. — Мы потом решим, что с ним делать.
— Мне кажется, тут должно быть одно решение, — подал голос старик с пушистой седой бородой, — его, изверга, нужно сдать в штаб, а там умные люди уже придумают…
Комиссар посмотрела на Штрауса. У него был такой вид, какой бывает у человека под ураганным обстрелом. На минуту ей стало жаль этого растерянного, перепуганного человека.
— Нас просили остерегаться диверсантов, приказали ловить их, — сказал мужчина в полувоенной одежде.
— Это никакой не диверсант, — ответила комиссар мужчине. — Это боец нашей роты, — решила она внести ясность. — Он уже месяц находится у нас.
— Чем вы докажете, что он ваш боец? — спросил все тот же мужчина в полувоенной форме. — После всего — он их боец! Так я вам и поверил.
— Его зовут Георг Штраус, и он ранен в левое плечо. Можете проверить. Он ушел из роты, сказал, что пойдет в лазарет перевязать рану.
Кое-кто из крестьян разочарованно замычал. Особенно огорчился мужчина в полувоенной форме. Он, видимо, занимал какой-то ответственный пост в селе и согласился отпустить пленного в том случае, если комиссар даст им письменное подтверждение, что они, он и его односельчане, «поймали» диверсанта и отдали партизанам.
— Но ведь он же не диверсант, — начала комиссар.
— Нам все равно, кто он, но нам нужен такой документ, — перебил ее мужчина.
— Хорошо, раз вы настаиваете, я вам дам такой «документ». — Она достала блокнот из сумки и написала расписку. Отдавая ее крестьянину, Ранка сказала: — Развяжите его. И сапоги придется вернуть.
Это была более важная проблема, и Ранке пришлось долго спорить с мужчиной в полувоенной форме, пока не выспорила назад сапоги.
Штраус стоял рядом с опущенной головой. Он долго надевал сапоги на босые ноги — грязные носки ему пришлось сбросить. Весь он излучал уныние оттого, что все так получилось. По тому, как комиссар настойчиво добивалась возвращения ему сапог, Штраус понял, что его уже не расстреляют. Если бы решили расстрелять, то сапоги не были бы нужны.
— Товарищ комиссар, я понимаю… — первым заговорил Штраус, когда крестьяне разошлись. — В последний раз прошу вас поверить мне.
— Мы тебе уже раз поверили… Можешь благодарить господа бога, что Валетанчича нет. Он бы с тобой не стал возиться.
Штраус все еще не мог прийти в себя, медленно тер ладони, как бы счищая с них грязь.
— Вы можете меня сами наказать самым строгим образом, но, пожалуйста, оставьте в роте. Если вы меня выгоните, я совсем пропаду. Мне сейчас деваться некуда.
— Каждый человек за свой проступок должен нести наказание, — пояснила ему комиссар.
— Теперь я понял, почему наши… то есть германская армия с вами так и не смогла справиться, — сказал Штраус. — С вами был ваш народ, а с кем народ — тот непобедим.
— Это мы и без тебя знаем!
Штраус улыбнулся грустно. Щеки у него вздулись, один глаз был совсем закрыт. Он все время прикладывал к нему платок, смоченный в воде. Раненое плечо тоже давало о себе знать, и все тело ломило. Крестьяне изрядно поколотили его, когда он пытался оказать сопротивление, но теперь, думая о них, Штраус в своих мыслях не уловил ни капли горечи. «Слава богу, что все так удачно кончилось», — думал он. В груди саднило от сознания, что его могли убить в этом проклятом хлеву, куда он зашел, увидев свет фонаря.
Уже совсем рассвело. Угрюмое небо посветлело и поднялось над землей, только над лесом за селом еще плыл жидкий туман. Это был, когда-то очень красивый лес, но недавно здесь прошли бои, и лес изрядно пострадал. В стороне от дороги стояли тягачи с орудиями на прицепах, замаскированные ветками, в нескольких местах были видны грузовики, накрытые брезентом, подводы с боеприпасами. Еще дальше стояли танки с расчехленными стволами. По опыту Штраус знал, что такое большое количество войск и техники обычно скапливается перед большим наступлением. Он поделился этой мыслью с комиссаром, но Ранка вдруг оставила его и быстро отошла от колонны. Она скомандовала роте остановиться, вызвала к себе командиров взводов и стала им что-то объяснять.
В лесу было многолюдно, а зелень только-только распускалась. Большое скопление людей могло быть замечено вражескими наблюдателями. Одно успокаивало Штрауса — их скоро двинут вперед.
Между ветками блестела натянутая паутина. Уткнувшись в нее лицом, Штраус остановился, несколько минут стоял, чувствуя, что пульс постепенно утихает, потом побрел по узкой тропинке в сторону высоты, куда направился его взвод. Этот день он считал самым мрачным в своей жизни. Ему очень хотелось, чтобы как можно быстрее их снова послали на передовую. Правда, об этом мечтали многие бойцы, особенно те, чьи семьи еще находились на оккупированной территории.
К середине дня, когда облака разбрелись, выглянуло солнце. Земля сразу начала просыхать. Рота училась преодолевать минные поля, каждый боец был занят своим делом, и никто не заметил связного из штаба батальона, пока тот не подошел совсем близко.
— Ребята, кончайте это занятие! — не слезая с коня, закричал связной развеселым голосом. — Слушайте новость — наши войска сегодня утром прорвали Сремский фронт. Первая армия форсированно наступает… Штаб бригады приказал вашему батальону немедленно сняться отсюда и выступать в направлении Левенты. Это теперь будет последнее наше наступление в этой войне, можете мне поверить.
Связной оказался прав. Через несколько дней бригада встретилась с частями Первой армии, взламывающей немецкую оборону, словно камышовую плотину. Война стремительно катилась к своему закату. Так камень, брошенный с вершины горы, несется к ущелью. И чем быстрее война приближалась к завершению, тем глубже Ранка Николич ощущала свою растерянность. Все последние дни, во сне и наяву, она терзалась мыслями о Марко. Где он сейчас? И жив ли вообще? Из роты его увезли без сознания, дни проходили, а от него не было никаких вестей.
Когда в бригаду принесли весть об окончании войны, Ранка не выдержала, разрыдалась, точно ребенок. Это были одновременно и слезы радости, и слезы от боли разлуки.
Потом несколько дней у нее страшно болела голова. Она никак не могла собраться с мыслями, унять истерзанное сердце. Вступала в свои права весна. Ветер любви дул все сильнее, и ее качало. Точно одинокий тополь в поле, она гнулась и распрямлялась в надежде и ожидании. Все чаще и чаще у нее зарождались мысли подать рапорт комиссару бригады с просьбой отпустить ее из армии. Как-то она поделилась своей мыслью с Николой Маричем, а тот отрубил: «Никуда мы тебя не отпустим! Ты еще здесь нужна».
Измученная переживаниями, утомленная службой, Ранка по вечерам едва добиралась до своей постели. Их бригада осела в небольшом городке, и девушек разместили в местной гостинице. У нее была чистая комнатка на втором этаже с окном в сад, В саду было тихо, цвели тюльпаны, пахло маргаритками, а плющ оплетал небольшую беседку в античном стиле. По вечерам в беседке допоздна сидели девушки со своими возлюбленными, и Ранка закрывала окно в своей комнате, чтобы не слышать их веселого смеха. Утомленная дневными хлопотами, она, засыпала сразу же, как только прикасалась к подушке.
Однажды она не помнила, сколько спала, а очнулась, когда в комнате зазвонил телефон. Это звонил ее хороший знакомый, офицер связи бригады.
— Ранка, извини, что я так рано разбудил тебя, но у меня для тебя важная новость.
От волнения у нее сдавило горло. Сон сразу улетучился.
— Откуда ты звонишь? Какая новость, говори быстрее, не мучай…
— Я только что приехал из командировки, звоню прямо с вокзала. Нам надо поскорее встретиться.
— В чем же дело?
— Тебе письмо от Марко. Я нашел его в госпитале. Он лежит в Вуковаре.
Минуту Ранка молчала. Слезы душили ее.
— Ранка, ты меня слышишь? Что же ты замолчала?..
— Милан, прошу тебя, подожди, я только оденусь… Через пятнадцать минут я буду на вокзале. Жди меня перед главным входом, слышишь, я уже бегу…
Это был, кажется, один из самых счастливых ее дней после окончания войны. Ранка уже четвертый раз перечитывала письмо, которое излучало теплоту и нежное волнение любви. Ее маленькое счастье оживало и возрождалось с утренним рассветом. В каждом слове Валетанчича было столько тепла! Он писал:
«У меня все цело: и руки, и ноги, и голова, а это для человека главное. Осколок только задел легкие и сломал два ребра, но врачи удачно заштопали меня, и я уже почти на ногах. Вчера мне даже разрешили выйти в госпитальный сад и сказали, что если буду вести себя хорошо, то скоро могу пойти в город. Здесь лежит несколько человек из нашей бригады, и мы вместе коротаем время. В госпитале очень хороший уход, но это меня не радует — лучше бы я по три дня не имел хлеба, а только каждый день видел тебя, моя любимая. Каждый раз, когда открывается дверь в палату, я поворачиваюсь и смотрю: мне все кажется, что это ты входишь. Все мои мысли заняты только тобой, счастье мое. Как ужасно долго тянутся дни, как хочется быстрее увидеть, обнять и расцеловать тебя. Эта канитель стала хорошей проверкой моих чувств. Сейчас я понял, что без тебя моя жизнь будет серой и неинтересной, и, если бы не было тебя, моя рана не так быстро бы заживала. Врачи обещают через месяц меня выписать. Любимая, ты не представляешь, с каким нетерпением жду я этот день. Мне могут после госпиталя дать отпуск на месяц, но я им не воспользуюсь…»
Ранка прижала письмо к горячим щекам и, под пальцами почувствовала слезы. Они скатывались густо, как капли дождя, и их нельзя было остановить. Внутри у нее все трепетало. Ей хотелось петь и плакать, и эти чувства просто душили ее, как неосознанная боль. Все старалась представить себе, как долго может длиться один месяц, и у нее ничего не выходило. Если мерить его меркой войны, он может никогда не кончиться. Порой на войне день бывает длиннее года. Еще она знала, как мгновение, принесенное пулей, превращается в вечность. Но теперь вокруг не свистели пули, не рвались мины и снаряды и не нужно было дни превращать в мгновения, а жизнь в вечное ожидание. Сейчас, когда она знала, что Марко жив, ей легко было ждать его возвращения. Тяжелее ждать безнадежно.
Вся во власти радостного возбуждения, Ранка бодро шла по улице. Сердце ее трепетало, щеки горели румянцем. В легком голубом платье в белых ромашках и сандалиях на босу ногу она была похожа на школьницу, успешно выдержавшую последний экзамен. Невдалеке от своего дома Ранка встретила незнакомую женщину, улыбнулась ей, как старой приятельнице, и сказала: «Доброе утро».
Незнакомка молча отвернулась и прошла мимо. Поведение женщины Ранку ничуть не огорчило. Она весело рассмеялась и бегом направилась к себе. Дверь в комнату оказалась незапертой, в спешке она забыла ее закрыть. В комнате, сидя на постели, Ранка снова развернула письмо, принялась его перечитывать.
Над ее столом висел календарь. Девушка взяла авторучку и зачеркнула первый день. Потом она вменила себе в обязанность каждый вечер перечеркивать прожитое число. Почта работала еще отвратительно, и письма от Марко приходили с большим опозданием. Иногда они поступали на четвертый, а то и на пятый день. Когда их долго не было, Ранка сама справлялась на почте.
Уже пошел второй месяц со дня получения первого письма, а Марко все не приезжал. Потом вести от него совсем перестали приходить. Уже третий раз Ранка заходила на почту и возвращалась оттуда с глазами, полными слез.
Ночью поднялась буря, сверкали молнии, дождь хлестал по стеклам окна. Проснувшись, Ранка испуганно сжалась в постели. Гроза не прекращалась. Когда сверкали молнии, в комнате становилось светло, точно зажигалась лампа, потом наступала кромешная тьма. Так длилось долго. Наконец, когда все успокоилось, Ранка, измученная и перепуганная, словно и не бывавшая в переделках посложнее, уснула глубоким сном. Разбудил ее осторожный стук в дверь. Очнувшись, она не сразу сообразила, где находится. Стук снова повторился. На этот раз он был более настойчивым.
— Кто там? — спросила она, накидывая на плечи легкий халатик.
За дверью с минуту было тихо.
— Это я! Открой, не бойся!
Она подумала, что ослышалась. Выждала немного, потом осторожно приоткрыла дверь. Марко стоял боком, и она не сразу узнала его. На нем был костюм цвета морской волны, золотые погоны и фуражка с высокой тульей и черным козырьком.
— Это… это ты? — У нее сдавило горло.
Марко улыбнулся и шагнул к ней.
— Здравствуй!
Они обнялись прямо в проеме, двери. Марко прижал ее к себе, оторвал от пола и поцеловал. Ранка заплакала.
— Ну вот, мы снова вместе, — сказал он.
Ранка улыбнулась сквозь слезы. Волосы у нее заметно отросли, лицо загорело, и в домашнем халате она показалась ему совсем еще девочкой, почти ребенком.
— Какая я глупая! — Она всхлипнула, потом вытерла глаза и улыбнулась. — Я не буду больше плакать. Это все нервы, все потому, что я так долго тебя ждала… Как ты меня отыскал в такую рань?
Марко снова прижал ее к себе.
— Очень просто! На вокзале нанял такси и сообщил шоферу твой адрес.
— Господи, какое счастье! Скажи, как ты себя чувствуешь?
— Отлично! Я всю ночь в поезде спал.
— Ты, наверное, проголодался?
Он отрицательно покачал головой.
— Офицерская столовая открывается только в семь. Сейчас у нас совсем другая жизнь, не походная, хотя и живем по законам регулярной армии. И в батальоне много новых товарищей. Я тебе писала, на твое место временно назначили Лазаревича. Теперь мы занимаемся с бойцами по семь часов в день, а потом для командиров и комиссаров в штабе бригады организуются лекции. У нас столько всего нового, что не сразу все припомнишь.
— Почему же ты мне самую важную новость не сообщаешь? — спросил Марко, улыбаясь. — Ты даже не писала, что стала подпоручиком.
Ранка покраснела как школьница.
— Откуда ты узнал? — У нее на лице мелькнула улыбка.
— Мне написали друзья.
В комнате стало совсем светло. На полу под окном блестела лужа, и редкие капли все еще стекали с подоконника. Валетанчича шатало от избытка счастья. Маленькая комнатка Ранки показалась ему тем уголком рая, о котором простой человек может только мечтать. Голос у него сделался хриплым от волнения.
— Ты не написал, когда приедешь, — с укором сказала Ранка, — и я даже не привела себя в порядок.
— И такой я тебя люблю. Ты даже не знаешь, как я тебя люблю! В госпитале ты мне снилась почти каждую ночь.
— И ты решил поэтому, что мне можно и не писать, — с упреком сказала она. — От тебя я уже шесть дней ничего не получала…
— Не сердись, пожалуйста, я хотел нагрянуть неожиданно.
— Если бы ты написал, когда приедешь, я бы тебя встретила на вокзале. Я ужасно люблю встречать поезда. Ты не доставил мне даже такого маленького удовольствия.
— Зато я что-то решил. Это будет для тебя сюрпризом…
Ранка вопросительно посмотрела на него.
— Я решил, что мы поженимся. Мы это можем сделать в ближайшее воскресенье.
— Не знаю, сможем ли. — Лицо у комиссара сделалось пунцовым, как спелая вишня, а глаза заблестели. — Чтобы пожениться, надо подать рапорт комиссару бригады и получить от него разрешение. Сейчас такой закон. Без разрешения комиссара бригады нас нигде не зарегистрируют.
— Мы все равно поженимся, и мне очень хочется, чтобы у нас была великолепная свадьба — мы пригласим всех наших друзей!
— У нас так мало осталось старых друзей, — с грустью сказала Ранка.
Минуту они молчали. Марко обнял Ранку, прижал ее голову к своей груди. У нее было красивое лицо, и она все время улыбалась. Марко поцеловал ее, и она так покраснела, будто это был их первый поцелуй. Потом Ранка попросила его отвернуться, пока она переоденется.
— Если тебе неудобно, я могу выйти.
— Нет, не надо выходить. Ты просто смотри в окно, только не подглядывай.
— Можешь считать, что ты, моя жена, и если я буду подглядывать — это не преступление.
— Все равно ты не должен подглядывать. Это нехорошо!
— Ранка, ты будешь чудесной женой.
— Не знаю! Я ничего не умею делать. Смотри в окно…
— Научишься. Кто умел хорошо воевать, тот всему научится.
— Ты так думаешь?.. Сейчас можешь повернуться, я уже оделась.
Она успела переодеться и перед небольшим круглым зеркалом в позолоченной рамке приводила в порядок волосы. Одета она была в белую летнюю куртку и серые брюки из трофейного сукна. На рукавах поблескивали звездочки подпоручика и золоченые нашивки.
— Теперь мы спустимся вниз и позавтракаем, а потом пойдем в роту, — сказала Ранка. — Свои вещи можешь оставить здесь.
— Мне тоже, наверное, дадут комнату?
— Конечно! Всем дали, и тебе дадут. А когда поженимся, нам выделят двойной номер. У нас несколько пар уже обвенчалось, и им дали сразу же двойные номера.
— Мы сегодня отдадим рапорта комиссару бригады, — сказал Марко. — Нечего тянуть.
Владелец гостиницы сбежал, и она стала собственностью местной народной власти. Ресторан при ней превратили в офицерскую столовую. Здесь кормили вкусно, по желанию можно было заказать и вино. Они выпили за встречу. Вино оказалось прекрасным. Ранка все время счастливо улыбалась. От вина ей сделалось совсем весело, и она всем знакомым при встрече говорила, что они решили пожениться.
— Нет, сегодня мы не пойдем в роту, — сказала она. — Могу я иметь хоть один выходной за все лето? Сегодня мой самый большой праздник.
— Но я хотел встретиться с товарищами. Они подумают, что я о них забыл.
— Поэтому я не хочу туда идти. Ты встретишься с ними и обо мне забудешь. Сегодня я ни с кем не хочу тебя делить.
Марко обнял ее за плечи, прижал к себе и головой потерся о ее волосы. Она смущенно отстранилась. Было уже около девяти часов. Ночная гроза принесла свежесть. Солнце светило, но жары не чувствовалось. Сразу за городом поднимались высокие горы, с них тянуло легким ветерком. Марко впервые оказался в этих краях, и ему казалось, что он попал в совершенно иной, незнакомый мир. Здесь почти не было видно разрушений, словно война прошла стороной: улицы убраны, газоны подстрижены, росли цветы. Воздух мира благоухал в тишине.
Штаб бригады располагался почти в самом центре города. Он занимал красивое двухэтажное здание. Вплотную к нему примыкал крытый гараж. У ворот штаба Марко увидел пожилого бойца, одетого в совершенно новую форму, только недавно введенную в армии. На груди у него было две медали. В первую минуту боец показался знакомым, но Валетанчич никак не мог вспомнить, откуда его знает, и уже хотел пройти мимо, но боец, улыбаясь, с вытянутыми вперед руками направился к нему.
— Здравствуйте, товарищ подпоручик! — закричал боец еще издали. — Как я рад, что вы вернулись. Надеюсь, у вас все в порядке?
— Штраус?.. Вот какой ты стал! — Марко был больше удивлен этой встречей, чем обрадован. Он еще раз осмотрел его, задержал взгляд на медалях. — У тебя награда?.. Когда же ты успел ее заработать?
Штраус смущенно опустил глаза. Он прекрасно понимал, что партизанам награды давали редко. Многие бойцы, воевавшие года по два, с трудом получали и по одной медали.
— После войны меня перевели в автомобильную роту, — сказал он, — а теперь отправляют домой.
— Ну что же, поезжайте. Надеюсь, пребывание в партизанской бригаде вас кое-чему научило.
— Как же, конечно! Я многое понял. Вы были так добры ко мне, и теперь я всю жизнь буду благодарить вас и товарища комиссара.
— Что ж, больше всего вы сможете отблагодарить нас тем, если и в Вене будете продолжать делать то, что начали у нас, — сказала Ранка.
— Для этого меня туда и зовут. Завтра уезжаю.
— А мы в воскресенье женимся, — сообщила ему Ранка. — У нас будет свадьба.
— Поздравляю! Желаю вам удачи, счастья, здоровья! Жаль, что я должен уехать и не увижу партизанской свадьбы. Для меня вы самые близкие люди. О вас буду помнить всю жизнь, а чтобы вы обо мне помнили… — Он снял с руки обручальное кольцо и протянул Марко. — Это вам на память! — Потом отцепил часы. — А это вам, Ранка. Вы должны взять…
Они хотели отказаться, но Штраус был настойчив. Он надел Марко кольцо, а Ранке часы. У него покраснело лицо — так он волновался. А глаза все время улыбались.
Светились улыбками Ранка и Марко Валетанчичи.
Апрель 1975 г.
Ялта
Примечания
1
Космай — гора в Сербии.
(обратно)
2
Шумадия — район Сербии южнее Белграда.
(обратно)
3
Санджак — район Западной Сербии.
(обратно)
4
Лабуд — лебедь
(сербскохорв.).
(обратно)
5
Михайлович Драже — полковник бывшей югославской армии, летом 1941 года из лиц, сторонников короля, создал отряды четников, которые на первом этапе восстания иногда взаимодействовали с партизанами. Однако вскоре, по указке из Лондона, Михайлович вступил в сотрудничество с оккупантами и развернул борьбу против национально-освободительного движения.
(обратно)
6
Имеется в виду война Югославии против агрессии Германии и ее союзников в апреле 1941 года, закончившаяся капитуляцией Югославии. —
Прим. ред.
(обратно)
7
Джувеч — блюдо из мяса, риса и овощей.
(обратно)
8
1941 года. —
Прим. ред.
(обратно)
9
Кошава — северо-восточный ветер.
(обратно)
10
Гаврилович Драгутин, майор, командир батальона 10-го пехотного полка сербской армии, герой боев за оборону Белграда во время первой мировой войны.
(обратно)
11
Опанки — простая крестьянская кожаная обувь.
(обратно)
12
Джезва — сосуд для варки кофе по-турецки.
(обратно)
13
Карагеоргий, Георгий Черный, собственно Георгий Петрович (1752—1817) — один из вождей сербского восстания против Турции конца XVIII — начала XIX века. —
Прим. ред.
(обратно)
14
До войны в Воеводине, ныне автономном крае Сербии, проживало значительное число лиц немецкой национальности. —
Прим. перев.
(обратно)
15
На Косовом поле в 1389 году произошла битва между турками и сербами. —
Прим. ред.
(обратно)
16
День создания 1-й пролетарской бригады — 22 декабря 1941 года — считается днем рождения югославской Народной армии. —
Прим. перев.
(обратно)
17
СКОЮ — Союз коммунистической молодежи Югославии.
(обратно)
18
Старая крепость в Белграде.
(обратно)
19
Жигосали — поставили клеймо.
(обратно)
Оглавление
ЛИСТОПАД
Роман
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
В ТЕНИ УЩЕЛЬЯ
Повесть
*** Примечания *** 







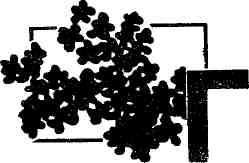


Последние комментарии
2 часов 24 минут назад
4 часов 55 минут назад
5 часов 2 минут назад
1 день 16 часов назад
1 день 20 часов назад
1 день 22 часов назад