Кто не боится молний [Владимир Сергеевич Беляев] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
В. Беляев КТО НЕ БОИТСЯ МОЛНИЙ Повести и рассказы

ПОВЕСТИ
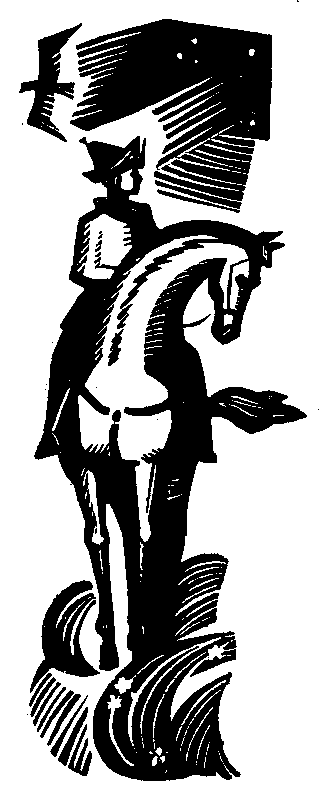
ЕГОРЬЕВНА (Солдатская мать)


Страшная ночь
1
Ульяна Егоровна Демина неподвижно лежала в темноте на жесткой подстилке. Издавна знакомые предметы растворились в холодном мраке, обволакивающем Ульяну липким, вязким месивом, из которого она устала выкарабкиваться, и, обессиленная, притихла в углу на старом деревянном топчане. Непроглядная темнота заполнила всю ее душу, и ей казалось, что весь дом, и деревня, и все, что было вокруг, погрузилось в беспросветный, угнетающий мрак, из которого нет и не будет исхода. В разных концах деревни лаяли и выли собаки. Временами порывистый ветер раскачивал голые старые яблони, и жесткие ветки стучали по замерзшим стеклам. Тогда одинокое женское сердце еще больше сжималось в тоскливой тревоге. Где-то хлопали выстрелы, чей-то отчаянный крик разрывал тишину. В трубе протяжно и надрывно выл ветер. В холодном сарае тихо мычала корова, давно не евшая досыта. Гнетущее чувство не покидало Ульяну уже много месяцев, с тех пор как началась война. В первые же дни погиб ее старший сын Иван. Не успела она оплакать своего первенца — пришла новая беда. Немецкие самолеты налетели на станцию, где ее муж Ефрем работал на погрузке колхозного зерна, забросали бомбами эшелоны и склады. В этот час Ульяна с младшим сыном Петром была на молочнотоварной ферме и, как увидела дым на станции, сорвалась с места, побежала по путям. Пробралась через обломки разбитых вагонов и тут же, на развороченной черной земле, смешанной со щебнем, увидала распростертое тело мужа. Бросилась к нему, перевернула на спину, в отчаянии закричала: — Вставай же, Ефрем! Подымайся! Пыталась поднять тяжелое тело, подложила колено под спину, смахнула рукой землю с окровавленного лба Ефрема. Муж приоткрыл глаза, посмотрел на Ульяну. Из его рта вырвался стон, на губах запузырилась кровавая пена. И тут подбежал испуганный и растерянный сын Петя. Пока Ульяна краем юбки вытирала кровь с лица и губ мужа, Ефрем угасающим взглядом смотрел на жену, на сына, пытался что-то сказать, но изо рта вырывался только свистящий хрип, вспенивались и пузырились красные хлопья. Ефрема похоронила на сельском кладбище, где вечным сном спали его отец, мать и дальняя родня. В день похорон в деревню пришли немцы. Соседи едва оттащили Ульяну от свежей могилы, увели в избу, где осталась она со своим неизбывным горем. ...С тех пор Ульяна стала жить в каком-то затаенном страхе. Боялась не за себя — за сына, страстно хотела как-нибудь пережить лихолетье и сохранить живым своего Петю — единственную ветвь деминского рода. По ночам вслушивалась в темноту настороженно, чутко, со страхом. Ловила каждый шорох и вздох в соседней комнатке. Вот и теперь ей послышался глухой кашель, скрипнула железная кровать. Это Петя — не спит, ворочается. Мать словно видит его через стену. Чует, как он встал с кровати, прошлепал босыми ногами по полу, подошел к окну и смотрит в ночную темь. Опять скрипнула кровать — Петя лег на свое место. И снова все затихло. Мать знала, что мучает сына. Несколько недель назад пришел он с работы бледный, с искусанными губами. Помыл руки, сел к столу, долго не притрагивался к еде и в ответ на вопрошающий немой взгляд матери сказал: — Я больше так не могу, мама. Он положил ложку на стол, отвернулся. Мать подошла к нему, сжала шершавыми ладонями теплую голову. А он, будто винясь за свою слабость, пояснил: — Немчура все гонит и гонит эшелоны на фронт — с танками, снарядами!.. А в Германию — наших людей... в рабство. — Уходить тебе надо со станции, сынок, — глотая слезы, шепотом произнесла мать. — Найдем другую работу, авось не пропадем. Подальше от глаз этих извергов. Сын больше не притронулся к еде, повалился на кровать, уткнулся лицом в подушку. Утром он снова собрался на станцию, где работал уборщиком путей. Наскоро съел картошку, запил молоком. Накинул теплый бараний полушубок, подпоясался ремнем, чтобы теплее было. — Не ходил бы ты к ним, сынок, — с мольбой сказала мать, остановив его на пороге. — Боюсь я за тебя. Они вон как лютуют. — Нельзя мне иначе. — Сын виновато отвел глаза в сторону. — Понимаешь, мама, нельзя не идти. Надо мне на станции быть. И хотя мать не поняла, почему сыну нельзя бросить работу на станции, его виноватый взгляд убедил ее в чем-то. Она отступила с порога, и, пока смотрела ему вслед, в ее голове мелькнули смутные догадки, но тут же растаяли, как бы вытеснились внезапно вспыхнувшей тревогой и страхом за Петину жизнь. Он же молодой, запальчивый, как покойный отец, ничего не побоится, не стерпит неправды... Он мается так все ночи, не спит, сердечный. Никогда он не вставал столько раз за ночь и не подходил к окну! Скоро рассвет, а он и глаз не сомкнул. Не дай бог натворил чего-нибудь там, на станции. На соседнем дворе прокричал петух. Значит, скоро рассвет, еще одна ночь кончится. От этого петушиного крика будто стало чуть легче на душе Ульяны. Но пока в другой комнате за стенкой слышались шорохи, сухой кашель сына и поскрипывание железной кровати, она не смела шевельнуться. Уснул бы хоть на часок, с утра же опять на работу!.. Вместе с этими мыслями в сердце вдруг хлынула острая боль, и Ульяна чуть было не застонала. Но сдержалась, только глубже вздохнула и стала терпеливо ждать, когда боль отступит. Отдышавшись от приступа, она расстегнула кофту, повернула голову к окну. На дворе было все так же темно, и в этой темени слышалось легкое дребезжание стекла да медленное нарастание дальнего шума. Этот шум был знаком ей давно, еще с тех пор, как она вышла замуж за Ефрема и поселилась здесь, в доме. Это был шум поезда, приближающегося к мосту через речку, и привыкла она к нему так же, как к ударам часов на стене. Но нынче далекий шум — глухой, надвигающийся — был для Ульяны так же тревожен, как кашель и шаги сына в соседней комнатке. За окном свистел ветер. Ульяне будто виделось, как клубятся и наплывают друг на друга тяжелые облака. Сквозь разрывы облаков пробиваются маленькие точки звезд, поблескивающие холодным светом. А под обрывом крутого берега глухо шумит темная лента реки, криво огибающей притихшие в ночи селение и станцию. Через реку широко шагнул, поставив свои ноги на разных берегах, железнодорожный мост, выгнул большое железное тело, и будто видит Ульяна, как вдоль темного леса бегут и бегут к мосту вагоны. И долетает до ее чуткого уха тяжелый тревожный гул, заглушая извечный шум леса и речной воды, побеждая свист ненастного, беснующегося ветра. Но что это?.. Нет, не почудилось... За окном вдруг раздвинулась ночь. Темень мгновенно сожгло яркой вспышкой... И тут же темная ночь опять сомкнула свои вязкие руки и угрожающе зарычала могучим громом, от которого колыхнулась земля вместе с избой... Жалобно зазвенели стекла в рамах...
2
В это мгновение Петр вскочил с кровати, бросился к осветившемуся окну, отдернул край занавески. Он увидел, как от всполоха пламени река будто сделалась огненной лавой, которая поглотила упавшие в нее вагоны и рваные пролеты моста. Радостный крик вырвался из груди Петра. Он прижался лицом к холодному стеклу, продолжая стоять у окна. К нему вбежала мать. — Отойди, сынок! — Она быстро задернула занавеску, оттолкнула Петра от подоконника. Сын тихо засмеялся и снова приподнял край занавески. — Радуйтесь, мама! Это наши. — Какие такие наши? — Партизаны... ей же богу... Неужели не понимаете? — Откуда ты знаешь? Может, и правда, что партизаны, да твое-то дело какое? Не суйся ты, богом прошу. Сиди в своем углу, не суйся в драку. Сын опустил занавеску, радостно зашептал: — Это же я передавал им сведения о поездах. Через тетку Лизку. Внезапно ощутив слабость в ногах, Ульяна тяжело опустилась на лавку. — Господи!.. Что теперь с тобой будет, сынок? — А ничего!.. Я законспирированный!.. — Уходи в лес!.. Слышишь? К ним, к партизанам, беги! — Нельзя уходить, должен быть, где прикажут. — Да кто тебе приказывает?.. Никого же кругом не видать! Весной слыхала, будто в Ольховке смельчаки перебили немецкую охрану, освободили пленных красноармейцев и с ними в леса убежали, говорят, к партизанам. Да где же они, кто знает? Она плотнее прикрыла занавеской окно, тревожно засуетилась: — Ложись спать, сынок... Ой, боюсь, начнутся облавы, станут искать виновных... Не нагрянула бы к нам беда. На другом конце улицы послышались глухие выстрелы и крики. Где-то взвизгнула собака, снова щелкнул выстрел, и все стихло. — Господи! — Ульяна перекрестилась. — Ложись, Петя. За окном уже брезжил рассвет.
Немецкие солдаты бежали по глухому оврагу, по огородам, за кем-то гнались, громко кричали. Стреляли в темноту, падали, снова срывались с места. Преследуемый солдатами человек перемахнул через забор, пробежал вдоль него, пригибаясь к земле, упал в канаву, притих. Немцы пробежали мимо. Крики их уже доносились издали — со стороны железнодорожных складов. Человек выполз из канавы, на четвереньках перебрался к кустам, пролез под изгородь во двор Ульяны, спрятался за сараем. Выждав минутку, перебежал к крыльцу дома, осторожно толкнулся в дверь. За дверью послышались шаркающие шаги. — Кто там? — тихо спросил женский голос. Человек перевел дыхание, зашептал в щель: — Откройте... Свой... Русский... За дверью — долгое молчание. Потом тихо взвизгнул засов, заскрипели несмазанные петли. Дверь осторожно приоткрылась, и в просвете сверкнули большие темные глаза Ульяны, уставились на незнакомого человека, который с трудом переводил дыхание. Где-то у реки опять раздался выстрел. Вслед за ним грянули второй и третий. Ульяна шире приоткрыла дверь, впустила незнакомца в сени и тут же крепко заперлась на засов. Войдя в избу, партизан остановился у порога. Увидел ведро с водой, схватил ковшик, стал жадно пить. Ульяна ждала, когда он напьется, на окровавленном лице партизана лихорадочно сверкали глазные белки. — Проходите туда, — указала на дверь в горницу. Он не успел сделать и шага, как дверь горницы резко отворилась, на пороге появился Петр. — Это мой сын, — сказала Ульяна. — Не бойтесь его, идите в комнату. Незнакомец смотрел на молодого парня, не выказывая ни малейшего беспокойства. Устало улыбнулся ему, дружески сказал: — Извини, брат, другого выхода нету. Вечером уйду. — Проводи человека в подпол, — сказала мать сыну. — Возьми лампу, посвети. Она поднесла тусклый светильник и всмотрелась в лицо незнакомца. Он был молод, лет двадцати пяти, с небритыми впалыми щеками, в старой крестьянской шапке, потертой и плешивой, в порванной темной фуфайке. Правую руку все время держал в кармане, где, видимо, был пистолет. Глаза темные, слегка раскосые, нос приплюснутый, брови густые, черные, лоб большой, круглый. — Ранен? — спросила Ульяна. — Обойдется. Куда идти? — заторопился незнакомец. — Сразу же тушите свет и ложитесь. В случае чего прикиньтесь, будто спали, ничего не знаете, никого не видели. Петр проворно сдвинул на полу коврик, открыл люк в подпол. Нащупал ногой лестницу, стал спускаться, Вслед за ним шагнул незнакомец. Спустились на дно подпола, протиснулись в дальний угол, где стояли кадки, горшки, стеклянные бутылки. — Снимайте сапоги, — приказал Петр, глядя на мокрую, грязную обувь мужчины. — Я принесу сухие. И фуфайку давайте, шапку тоже. Мужчина покорно и торопливо разделся. Петр забрал перепачканную одежду, поднялся по стремянке наверх. Партизан остался один, окинул взглядом тесный подпол, освещенный чахлым светильником. В открытый люк упали сухие сапоги, полушубок, теплая ушанка. — Одевайтесь! Вот спички на всякий случай, — сказал Петр, свесив голову в проем подпола. — Тут хорошо, будьте спокойны. Партизан протянул руку за спичками, приказал Петру: — Завтра иди на работу как ни в чем не бывало. Скоро перебросим тебя в другое место, ты сделал большое дело. — Это вы рванули мост? — доверчиво сверкнул глазами Петр. — Вы и есть командир партизанского отряда? Партизан помедлил с ответом, потом сказал: — Много вопросов задаешь, отвечать некогда. Нажми-ка плотнее крышку и накрой ее половиком. Если что случится, не суйся в подпол, у меня оружие. — Одевайтесь потеплее, — сказал Петр. — В кадушке есть сало, подкрепитесь маленько. И хлеба дадим. — Ладно, закрывай. Петр опустил крышку, плотно прижал ногами, накрыл ковриком. В волнении несколько раз прошелся по комнате, выглянул в прихожую, где на топчане лежала мать. Она не шевельнулась, ни о чем не спросила сына. Петр лег на свою кровать, долго не мог уснуть, прислушивался к стуку сердца. Гнетущая мгла медленно и незаметно разбавлялась скупым предутренним светом. Слышно было, как стучали ходики на стене. Мать лежала на топчане не смыкая глаз. Внезапно за окном хлопнула калитка, послышались тяжелые шаги, глухой мужской голос. И тут же резко и настойчиво постучали в дверь. Петр выскочил из своей комнаты к матери. Она бросилась к сыну, решительно толкнула его назад. — Спрячься в горнице. Я сама. Он закрыл дверь с другой стороны, опустил крючок. Мать подошла к иконе, перекрестилась: — Защити нас, царица небесная. В дверь застучали сильнее. — Сейчас! — крикнула она и отвернулась от иконы. Распустила волосы, накинула на плечи платок, будто только проснулась и поднялась с постели. Пошарила спички, зажгла ночник, пошла открывать. В избу ввалились четыре немца, грубо оттолкнули Ульяну с порога. — Руки вверх! Всем оставаться на месте! Ульяна подняла одну руку и отступила назад, к горнице. В другой руке она держала светильник. — Да что же это вы так, господь с вами. Тут никого нет, я одна. Ее осветили фонарями, на миг ослепили глаза. Лязгая оружием и топая тяжелыми сапогами, прошли вперед. — Куда спрятала партизана? Ну?! — Я ничего не знаю, никого не видела. Я спала. Она присела на постель, разбросанную на топчане. Немец ткнул автоматом в подбородок Ульяны. — Вставать! Вставать! Она поднялась, сдерживая страх. А в соседней комнате Петр торопливо надевал на себя партизанскую шапку, натягивал мокрые грязные сапоги, прислушиваясь к голосам и крикам. Никак не мог попасть в рукав мокрой фуфайки, торопился, наконец оделся, сдернул занавеску с окна, тихо открыл раму, будто только что влез в дом с улицы. Подошел к дверям, прислушался. Немцы кричали на мать: — Ты врешь, баба! К твоему дому бежал русский бандит. Показывай, куда спрятала партизана! — Я ничего не знаю, — твердила Ульяна. — Никого не видала, не понимаю, о чем вы говорите. — Не притворяйся, чертова ведьма! Открывай дверь в ту комнату! — Да нет же у нас чужих людей! За что мне такое наказание? Немцы с опаской посматривали на дверь. — Ну! Ну! Открывай! Подталкиваемая стволом автомата, Ульяна подошла к дверям. — Закрыто же тут, я ключ потеряла. Дозвольте, я поищу. — Ульяна попятилась назад, но в спину ткнули автоматом. — Иди вперед, баба, застрелю! Она не двинулась с места и не притронулась к двери. Немцы сердито кричали: — Открывай, или пулю в лоб! В эту минуту дверь заскрипела и распахнулась. Из комнаты появился Петр, переодетый в одежду партизана. Мать вскрикнула и попятилась назад. — Хальт! Стой! Руки вверх! — закричали немцы и набросились на Петра, который, к их удивлению, не оказывал сопротивления. Он спокойно стоял, вытирая испачканное лицо рукавом фуфайки. Нарочно широко распахнул дверь, чтобы немцы увидели раскрытое окно. Один из немцев сразу же заметил это и подбежал к окну, понятливо кивнул другим. — Не трогайте эту женщину, — сказал Петр немцам. — Я влез в окно. Она не знала, что я в ее доме. — Ты есть партизан? — обступили его немцы, связывая ему руки. Едва держась на ногах, мать прислонилась к стене. Смотрела на сына, стараясь понять, что он задумал. — Это ты взорвал мост? — впился в лицо Петра злобным, колючим взглядом один из карателей. — Отвечай, не молчи! — Да. Это я... — Почему не поднимаешь руки вверх? — У меня все равно нет оружия. — Хенде хох! Петр с иронической усмешкой смотрел на немца. — Побереги свои нервы, рыжий. Я не признаю себя побежденным и рук поднимать не буду. Понял? Я на своей земле, и никто не смеет приказывать мне, я сам себе хозяин. Немец побагровел, с размаху ударил Петра по лицу. Но Петр даже не вздрогнул. Немец ударил еще и еще. — Сволочь ты, — сквозь зубы процедил Петр. — Ползучая гадина. — Будешь висеть на веревке! — визгливо закричал немец. — Сегодня же утром, когда поднимется солнце. Забирайте его! Марш! Дюжие руки солдат схватили Петра, вытолкнули из избы. Он оглянулся на мать, увидал ее бледное, суровое лицо. Она стояла в углу, под иконой, прижимала руки к груди, не шевелилась. Когда глаза сына и матери встретились, Ульяна сорвалась с места, бросилась к Петру, отталкивая немцев. — Не трогайте его, изверги! Немцы отшвырнули Ульяну. Она упала, но тут же поднялась, снова бросилась к немцам. — Стойте! Не уводите! Рослый краснощекий немец схватил ее за плечи. — А там никого больше нет? — показал он на дверь в соседнюю комнату. Ульяна сильным рывком столкнула немца с порога, выбежала во двор за Петром. Конвоир угрожающе нацелил на нее автомат. — Не трогайте ее! — крикнул Петр немцам. — Она ни в чем не виновата. Ульяна все-таки пробралась к Петру, сняла с себя теплый платок, дрожащими руками накинула его на шею сына. Мать и сын в последний раз посмотрели друг другу в глаза... Она осталась стоять посреди двора — неподвижная, будто окаменелая. Не было слез, только черная боль рвала ей сердце и подступившие к горлу рыдания душили ее, рождая перед глазами вспышки черных молний. Со стоном упала Ульяна на мокрую землю, завыла — страшно и безысходно.
3
Утром на площади люди увидели раскачивающееся на виселице тело Петра. К груди его была прикреплена фанерка с крупной надписью «Партизан». Посредине площади, перед виселицей, стояла неподвижная фигура женщины в черном платке. Это была Ульяна... Нет страшнее боли, чем сердечная боль матери по утраченному ребенку. И взрослый, Петр всегда оставался для нее ребенком, ибо она думала о нем как о своей жизни, которая без него — вначале крохотного, а потом взрослого, — казалось, не имела ни радости, ни смысла... И вот нет Петра. И нет слез... Только пекучая черная боль в груди... Как дальше жить ей без сына?.. Нет, дело не в ней самой. Острая жалость к Пете, ужас от понимания того, какие вынес он муки, прежде чем расстался с жизнью, рвали сердце матери на куски. Словно ветром принесло из прошлых времен тихий напев колыбельной песни. Ульяна не отрывала глаз от свесившейся набок русой головы сына, от его спокойного лица с закрытыми глазами... Вместо развевающихся светлых кудрей сына мать увидела перед собой ржаное поле. Она шла по ржи и несла на руках крохотного Петю.. А потом вспомнила, как с ведрами в руках, босоногая, стояла на берегу речки, любовалась трехлетним Петей, который резвился в стайке ребятишек, с разбегу бросался в воду, взметая сверкающие брызги. Ульяна очнулась в холодном ознобе, тревожно оглянулась, увидела позади себя толпу односельчан. Люди сурово молчали. В этом молчании, в потемневших скорбных лицах мужиков и баб, в светящихся болью их глазах Ульяна почувствовала сострадание к себе... И еще увидела ненависть — к тем, кто лишил жизни ее сына. Прощальным взором посмотрела Ульяна на мертвого Петра, медленно поклонилась, повернулась и неторопливо зашагала прочь. Люди расступились перед Ульяной. Даже немецкий солдат, охранявший виселицу, опустил автомат, посторонился, отвел в сторону глаза. Ульяна прошла мимо немца, как проходят мимо столба или камня. Над ее головой проплывали провода, по сторонам чернели обгорелые крыши домов с высящимися трубами, тихо взмахивали руками-ветвями деревья. То сверкнет клочок ясного неба, то падет темная тень густых ветвей. Свет — тьма, свет — тьма, свет — тьма. Чаще и чаще сменяли друг друга свет и тьма, свет и тьма. Женщина шла, окунаясь в темноту, появляясь на свет, и снова пропадала в темноте. Ночью Ульяна плотно занавесила в доме окна, зажгла коптилку. Прошла в комнату Петра, подняла коврик, открыла вход в подпол. Бледное пятно света упало в черную яму. Ульяна наклонилась над ямой, сказала в темноту: — Выходи, если живой. Заскрипела стремянка, и вскоре из подпола высунулась черная лохматая голова партизана. Раскосые глаза чуть-чуть виднелись в узких щелочках под густыми темными бровями. — Уже вечер? — спросил партизан, задержавшись на стремянке. Она кивнула, молча распрямилась. — Пронесло, значит, — облегченно вздохнул мужчина, щурясь на свет. Она молча ждала, когда он поднимется, потом захлопнула крышку подпола. Пошла с ночником вперед, как бы приглашая его следовать за собой. Он сразу доверился ее решимости и спокойствию, прошел за ней в переднюю комнату. На столе дымились щи в серой эмалированной миске, лежал кусок черного хлеба. — Ешь, — спокойно сказала Ульяна, ставя коптилку на стол. Он сел и сразу же принялся за еду. Ел торопливо, но без жадности, как проголодавшийся работник. Ульяна сидела напротив, разглядывала незнакомого человека, непрошеного гостя, принесшего ей самое страшное горе. — Куда вести тебя? Какую дорогу показывать? — спросила полушепотом. — До Семеновского переезда доведешь, а там сам доберусь. Откусывая хлеб, он продолжал хлебать щи. — В лесу живете? — тихо спросила она. — Живем где придется. Она смотрела на него и ждала, когда он наестся. Кажется, он еще совсем молодой, глаза теплые, зоркие, лицо доброе. Рот больно широк и губы толстые, как у теленка, зубы белые, как крупные фасолины. Вот он съел последние крохи хлеба, наклонил миску, выпил через край все до капли, слизнул языком прилипшую капустинку. Перевел дух, улыбнулся. — Спасибо, хозяюшка. Наелся за всю неделю. Он посмотрел на женщину и только теперь, кажется, увидел на ней черный платок. Что-то дрогнуло в его лице. — А где сын?.. — спросил он с нарастающей тревогой. Ульяна просто сказала: — Ушел вместо тебя. — Вместо меня?.. Куда ушел?.. Ульяна смотрела на незнакомца в упор. Перед ее глазами вдруг все поплыло, и она почувствовала, что сейчас упадет на землю, завоет во весь голос. Собралась с силами, отвела глаза в сторону, тихо простонала: — Повесили немцы моего Петечку. Лицо партизана застыло, стало бледным. Потрясенный услышанным, он с трудом поднялся с табуретки, не зная, что сказать, что сделать. Томительные мгновения напряженно и страждуще смотрел ей в глаза, затем взял ее руку, припал губами... Она склонилась над его головой, вытерла слезы краем платка, позвала: — Пойдем, пока час. Темной ночью двое отправились в путь. Молча пробирались огородами, спустились в овраг. Только по одной ей ведомой тропинке она шла чуть впереди, он — сзади. Уже близко шумела черная стена леса, справа мелькнула полоска речной глади. Путники свернули влево, нырнули в лесную чащу. Шли без остановок, пересекая небольшие поляны и порубки с поднявшимся молодняком. Дошли до белого камня на перекрестке лесных дорожек, остановились. Прислушались к мерному шуму деревьев. Наконец она спросила: — Дальше сам пойдешь? — Сам. Но ни он, ни она не двинулись с места. Молча смотрели друг на друга. Будто не решаясь высказать что-то очень нужное и важное, чему никак не подберешь слова. Он стоял перед ней беспомощный и виноватый в том, что невольно причинил ей великое горе и что должен через минуту оставить ее одну среди темного страшного леса... Что сказать ей такое, чтобы хоть чуть-чуть ослабить боль в ее израненном материнском сердце? Она первая сделала шаг к нему. Застегнула пуговицу на полушубке, поправила воротник. Это был полушубок ее сына. Руки матери двигались неторопливо, спокойно. Она медленно, только один раз погладила меховую оторочку сыновнего полушубка, которую сама когда-то выкраивала и любовно пришивала. — Как зовут-то тебя? — Беспощадный... — Командир партизанского отряда? — Сын рассказывал? — Раньше догадывалась, а теперь сама вижу. Петя мой про тебя знал, да от меня скрывал. А что я знала, от него тоже в тайне держала. Не так надо было нам жить. Ах, Петя, Петя... — Я никогда не забуду его. — Партизан склонил голову. — А родом откуда ты? — тихо спросила она. — Из Омской области я, из Сибири. С трех лет остался сиротой. Отец утонул в реке, мать умерла. Воспитывался в детском доме, работал на заводе, служил в армии. Потом попал в окружение и вот — воюю. Это я тут назвался Беспощадным, а по правде меня зовут Василий Хлынин. Запомнишь? Хлынин Василий Андреевич. — Запомню, — тихо проговорила Ульяна. — Хлынин Василий Андреевич. Васей, значит, прозываешься. Партизан кивнул. — А какое же ваше имя-отчество будет? — спросил он у женщины. — Демины мы. Ульяна я, Егорьевна по отчеству. Нас тут все знают. — Ульяна Егорьевна? — повторил Василий. — Теперь мы с тобой на всю жизнь связаны. Не проклинай меня, мать. — Разве твоя вина? Ступай, горемычный, свою-то головушку береги. В лесу крикнула ночная птица. Крик повторился еще и еще. Хлнынин заложил палец в рот и точно так же прокричал три раза в ответ. Поправил шапку, сказал: — Прощай, Ульяна Егорьевна. Спасибо тебе за твое человеческое сердце. Не имей на меня зла, все живем, как солдаты. Она припала к нему, обхватила за шею, прильнула к груди. — Да хранит тебя бог и даст силы до полной победы. Прощай! Он долго не мог оторвать взгляда от ее лица, им трудно было расстаться. — Навещу тебя, если сумею. А кончится война, обязательно приеду. Хоть на край земли забросит судьба, найду к тебе дорогу. Опять прокричала птица в темной лесной чаще. Женщина еще раз обняла партизана, трижды, по-русски, поцеловала. — Прощай, Василий. — Прощай, мать. Он мягко разнял ее руки. Медленно пошел и все оглядывался на нее, пока не скрылся в темноте. Ульяна долго стояла под деревом, прислушиваясь к тревожному шуму темного леса. А сквозь рваные облака пробивался тонкий серп луны, поглядывая на далекую землю, на ее тревожную таинственную жизнь.
Ожидание
1
Одна незатихающая боль терзала Ульяну Демину, жгла, как раскаленное железо. Ни о чем не думалось, ничего не хотелось. Кругом пустота, как темная ночь за окном. На что надеяться, чем жить? Ждать возвращения того, кто непрошеным гостем ворвался в ее дом и погубил единственного сына? Не приди этот человек тогда, ее Петр остался бы живым и не было бы теперь такой пустоты в душе матери, в ее избе, во всем мире. Думая о Петре, вспоминая, каким был ее сын, она ругала чужого человека, переступившего ее порог ради своего спасения. В ее глазах он один был виновником гибели сына, и жгучая боль вспыхивала в ее душе, когда она вспоминала нежданного пришельца. А вспоминала она того человека всегда, каждую минуту, и днем, и ночью, и во сне, и наяву. Ненавидела его, и жалела, и думала о нем, может, потому, что больше не о ком было думать, ждала его оттого, что больше некого было ждать. Не было ни дня, ни часа, когда бы она не думала о нем, хоть и знала, что он не придет, пока не кончится война. Порой ей казалось: остановилось время. В избе притаилась тишина, смирно висели на стене покосившиеся ходики, уже давно их никто не заводил. Ульяна сидела за столом, погруженная в думы. Перед ней стояла миска с молоком, лежала корка черствого хлеба. Не шелохнувшись и не притронувшись к пище, Ульяна тупо смотрела в окно, подперев рукой голову. На дворе весна. С прозрачных сосулек под крышей капает вода, покосившаяся и промерзшая за долгую зиму новая изба плачет крупными алмазными слезами. По черной земле в голубой луже топчутся красными лапками сизые голуби и мелкими неторопливыми глотками пьют воду. Из соседнего двора выбегает деревенская девчонка Настя. Ей всего тринадцать лет, но она хочет казаться взрослее, выпустила челочку из-под старенькой чистенькой косынки, ловко перепрыгивает через канавки, улыбается. Бежит прямо через лужу, разбивает голубую воду дырявыми отцовскими сапогами. Испуганные голуби разлетаются и, покружившись над двором, снова опускаются к луже. Настя подбежала к окну, опасливо оглянулась по сторонам и крикнула сквозь стекло: — Скоро наши придут, тетка Ульяна! Девочка приветливо закивала русой головой и скрылась за углом. Ульяна очнулась от своих дум, поднялась из-за стола, накинула платок, пошла покормить коровенку. По ночам было слышно, как весенние ручьи с глухим воркованьем сбегали с бугров и размывали рыжие глинистые морщины оврагов. Теплый ветер раскачивал черные деревья, с протяжным посвистом гулял в голых ветвях, сливаясь с вороньим криком и гамом. Где-то за лесом бухали взрывы, и трудно было понять, далеко или близко стреляли пушки. С тех пор как по деревне от избы к избе поползли слухи о том, что наши подходят с востока и теснят немца, Ульяна не запирала дверь в избе, то и дело высовывалась на крыльцо, подолгу стояла в темноте, прислушивалась к гулу орудий. На третий день не утерпела, надела пальто, закуталась старым платком, пошла на станцию, где еще недавно работал ее сын. Авось что-нибудь увидит или услышит, может, хоть словечко скажут добрые люди. Подошла к бакалейной лавчонке, посмотрела на висячий замок на дверях, побрела дальше к пустому перрону. На путях кряхтел старый паровозик, подталкивая вагоны, лязгал тарелками буферов. Измазанные как черти тут же суетились сцепщики, ныряя под колесами. Крикливый немецкий солдат резкой и громкой бранью подгонял рабочих, занятых сцеплением состава, а другие солдаты громоздились на открытых платформах с пушками и танками. — Уходи, матка! — крикнул солдат Ульяне, резко махнул рукой и отвернулся. Ульяна надвинула платок на глаза, укутала подбородок, пошла с перрона. Шла медленно, не оглядываясь, досадуя на то, что не встретила никого из знакомых. Неожиданно услышала чьи-то шаги за спиной. Кто-то догнал ее и, поравнявшись, сбавил шаг, пошел рядом. — Ступай домой, Егорьевна, — тихо сказал ей мужской голос. — Опасно тебе, опознают — не пощадят. Она скосила глаза на идущего рядом, узнала железнодорожного стрелочника Степана Фомичева. — Что это они так суетятся? — спросила Ульяна. Степан зажег спичку, прикурил цигарку, тихо сказал, не глядя на Ульяну: — Драпать собираются. Чуют, что наши вот-вот нагрянут, пятки смазывают на дорожку. — А ты почем знаешь про наших? — Знаю, коль говорю. И тебе советую остерегаться, неровен час, такое начнется — белого свету не взвидишь. Ты, слышь, корову свою спрячь, а то немец всю скотину угонять начнет, вон уже вагоны готовит. Она остановилась, откинула край платка с лица и тревожно спросила: — Господи! Неужто правду говоришь? — А чего мне врать? Закройся, говорю тебе, и ступай домой. Жалко мне, если тебя убьют, я с твоим мальцом вместе работал, хороший был хлопец. Она вздохнула, внимательно поглядела на Фомичева: — А сам что же? Смотреть будешь на немца? — Что я могу сделать? Пристрелят как собаку. Предупредил тебя, ты и ступай. Она прошла вперед, потом остановилась и с мольбой заглянула в глаза Фомичеву: — А того, что в лесу партизанит, не встречал? Фомичев отрицательно покачал головой, отвернулся, ступил на боковую дорожку и пошел не оглядываясь.
2
Какая-то внезапно нахлынувшая сила подхватила Ульяну, легко понесла по улице. Будто прорвалось из души все, что она так усердно и давно подавляла в себе, старалась удержать, усмирить, теперь бурно хлынуло на волю. Первым завидела дом Лизки Скворцовой, напрямик зашагала во двор. С Лизкой они еще в молодости дружили, вместе с парнями гуляли, ходили в клуб на танцы. В одну осень выходили замуж и десяток годов сообща работали на молочнотоварной ферме. Совсем недавно, перед войной, летом сорокового года, ездили в Москву на Сельскохозяйственную выставку, получили медали за коров-рекордисток. До войны в колхозе была хорошая молочнотоварная ферма, а как стал подходить немец, люди разобрали колхозных коров по домам, чтобы спасти и сохранить общественное стадо. Помнится, как доярка Лизка раздавала коров женщинам и всем строго наказывала беречь их, как самое дорогое добро. Отчаянная, смелая баба была эта Лизка, не боялась ни бога, ни черта. Ульяна постучала в окно, приникла лицом к стеклу: — Выдь на минутку, Лизавета. Всполошенная Лизка выскочила в сени, тихим шепотом запричитала: — Не торчи ты на улице, иди сюда. Чего тебе? Ульяна переступила порог, притворила за собой скрипучие двери, в полутьме наклонилась к лицу Елизаветы: — Слышь, подружка, дело есть. Скоро наши придут, а немцы драпать собираются. Завтра будут сгонять всю скотину, к себе на неметчину увезти хотят. И чтобы такого не было, мы этой ночью должны угнать всех коров в лес, в Волчьем овраге спрячем. Помнишь дорогу? Лизка испуганно замотала головой: — А если узнают? — Бог не выдаст, свинья не съест, — строго сказала Ульяна. — Сама гони и всем людям на твоей улице скажи. Поняла? — Не сомневайся, Ульяна. Все сделаем, как же иначе. Не сомневайся. — Бывай здорова, подружка, а я побегу на другой порядок, по хатам, — сказала Ульяна. — До вечера всех обойду. Не чувствуя ни страха, ни усталости, она ходила со двора на двор, шепталась с бабами и к наступлению темноты оповестила всю деревню... На следующий день с утра горластые люди с автоматами и плетками появились на улицах, останавливались возле каждого двора, громко кричали: — Эй, хозяйка, выгоняй корову! Хозяйки открывали сараи, показывали пустые стойла. — Нет у меня коровы, давно подохла без корма. Сколько ни шарили по дворам реквизиторы чужого добра, никакой поживы не находили. Со всей деревни согнали пять-шесть захудалых коровенок, взяли у тех, кто побоялся или не захотел спрятать свою скотину. Добрая же сотня колхозных племенных коров была угнана женщинами в лес и надежно спрятана в глубоком Волчьем овраге, закрытом со всех сторон густыми зарослями орешника. Целый день женщины не выходили из оврага и на ночь остались там вместе с коровами. Когда наступила темнота, Ульяна собрала ведра, раздала женщинам и тихо скомандовала: — Всем идти за мной, не шуметь и не стучать ведрами. — Понятно, — ответила Лиза за всех. Женщины притихли, пригнулись. Низкой лощиной прошли к реке, набрали воды в ведра и так же молча и неслышно вернулись обратно в Волчий овраг. Ведер было мало, и каждой женщине пришлось раз десять сходить на реку. Наконец, все коровы напились, полегли на землю. Женщины выбрали дежурных, стали располагаться на отдых. Одни сразу захрапели от усталости и пережитого волнения, другие тихо шептались. Усевшись на пеньке, Ульяна долго не могла уснуть, обняла рукой шею своей подружки, изредка вздыхала: — Спишь, Лиза? — Нет, какой теперь сон? В полночь совсем близко, за лесом, загремели орудийные залпы, и над самыми верхушками деревьев со свистом пролетели снаряды. Женщины всполошились, сбились в кучу, как овцы в грозу. Тревожно и глухо замычали коровы. — Слышь, девки, — скомандовала Ульяна, — ползите к своим коровам, держите их, не давайте реветь! Женщины бросились к скотине, стали гладить коровам бока, почесывать шею, успокаивали животных и самих себя. Тревожно загудела деревня, то там, то тут затрещали ружейные и автоматные выстрелы. Потом начали стрелять из орудий, с треском раскалывался воздух у станции, неслись раскаты со стороны школы, бухали глухие удары из заречья. Видно, немцы уже успели переправить орудия и теперь вели огонь с возвышенного берега. Где-то вспыхнуло, пламя, и его багровый отблеск подсветил низкие тучи, медленно плывшие над лесом. И тут же стали падать и взрываться снаряды. Коровы притихли от страха, смирно лежали на земле. Только одна, белолобая, вскакивала на ноги, порывалась перепрыгнуть через повалившееся дерево, но бойкая отчаянная бабенка схватила скотину за рога, повисла всем телом, тянула коровью морду к земле, визгливым голосом причитала: — Уймись-ка ты, Касатка! Смирно лежи, убьют же, господи. Замри, неразумная! Касатка выпучила красные глаза и так отчаянно мотнула головой, что хозяйка с испуганным криком отлетела в сторону. Корова тут же метнулась в густые заросли, в клочья раздирая себе бока колючими сухими ветками. Совсем рядом хлопнуло несколько взрывов. Загудела земля, сверху посыпались комья глины. Взобравшаяся на пригорок Касатка жутко взревела и медленно рухнула, убитая осколком снаряда. Женщины ахнули, еще теснее прижались к земле. Ульяна превозмогла страх, подняла голову и при мгновенной вспышке орудийного выстрела окинула взглядом весь Волчий овраг. Распластавшись на земле, смирно лежали коровы. За их крутыми боками прятались женщины. Вспышка погасла, и в темноте те дался голос Ульяны: — Все живые, бабы? Никто не ответил, только справа фыркнула и тяжело вздохнула корова. Потом испуганный женский голос прошептал: — Я живая. — И я, — прохрипела Лизка. — Я тоже, — сказала Матрена. — Все живые, — заголосила Касаткина хозяйка Дуська. — Только вот Касатку убили, лучше бы меня, ей-право. Чем я теперь детей кормить буду? — Молчи, прокормишь, — строго остановила ее Ульяна. — Пока мать жива, жизнь не замрет. Опять загремела канонада и. не смолкала до рассвета. Теперь снаряды взрывались далеко за рекой. В деревне все притихло. За лесом, откуда наступали наши, гул подкатывался все ближе, кажется, слышны стали голоса, солдаты кричали «ура». "Сидеть в овраге было уже не опасно. Женщины одна за другой поднимались с земли, оправляли платки, обнимались, смеялись и плакали от радости. Все обступили Ульяну. — Как думаешь, конец нашему горю? Пришли. освободители? Молодая красивая Дуська склонилась над убитой Касаткой, гладила лоснящуюся шею коровы, всхлипывала и причитала, как над человеком: — Кормилица наша сирая, на кого ты нас покинула? Как же мы без тебя? Не уберегла я, глупая. — Да перестань голосить! — неожиданно прикрикнула на Дуську Ульяна. — Живы будем, и ты не пропадешь, и детей твоих никому в обиду не дадим. Немца с нашей земли гонят, а ты плачешь, дура этакая. — И то сказать, корову жалко, — вздохнула Лизка. — Да и черт с ней, половину молока от моей брать будешь. При всех бабах слово даю. Дуська обняла Лизку, спрятала лицо в широкий край платка, вытирая слезы и всхлипывая. — Слушайте меня, бабы, — продолжала Ульяна. — Берегите коров, а я пойду в деревню, узнаю, как там. — И я с тобой, — вызвалась Лизка. — А как убьют? — испуганно сказала Дуська. — Можно взять твою корову, Ульяна? Все одно у тебя никого не осталось? — Дура ты, дура, — вздохнула Ульяна. — Да кто же меня убьет, коли наши пришли? Ждите нас, бабы, вернемся.
3
Ульяна повязала платок и широким шагом пошла из оврага в сторону леса. Торопливо поспешая за ней, следом засеменила Лизка. Раздвигая колючие кусты, пригибаясь к земле, женщины добежали до березовой рощицы. Пробрались на огороды и вскоре остановились на задах Ульяниного двора. Кинулись в канаву, проползли вдоль изгороди, затаились за старым покосившимся сараем. Тяжело дышали, прислушивались. Лизка смотрела на Ульяну перепуганными круглыми, как пуговицы, глазами и краем платка вытирала потное расцарапанное сухими ветками, исполосованное кровавыми бороздками лицо. Ульяна стояла в полный рост, стараясь заглянуть за угол сарая, откуда видны были улица и река. До слуха женщин доносились лязг железа, рев моторов и человеческие голоса. Однако ни одного слова нельзя было разобрать. — Пригнись, Улька! — испуганно шептала Лизавета, хватая подругу за подол. — А если немцы? — Молчи! — оборвала ее Ульяна. — Спрячься за деревом. Женщины замолкли, стали напряженно вслушиваться в голоса, доносящиеся с улицы. Вдруг рев моторов стих, и зычный мужской голос отчетливо прокричал: — Остановитесь, товарищи! Тут нет дороги, впереди река. — Глубокая? — спросил другой голос. — Говорят, глубокая. Надо строить переправу. Ульяна выскочила из своей засады и, радостная, побежала через двор на улицу, откуда доносились голоса. Недалеко от своего дома у берега реки она увидела колонну запыленных танков с красными звездами и советских танкистов, которые суетились между танками, сбегали к реке, кричали. Не обращая внимания на опасность, не помня себя от радости, Ульяна подбежала к самому ближнему танкисту, бросилась ему на шею. Мешая слезы со смехом, ткнулась мокрым лицом в его измазанную щеку и, как долгожданному своему товарищу, сказала: — Пришли, слава господу. А мы-то вас ждали, так ждали! Спасибо вам, сыночки, прогнали их, гадов! Сильные руки танкиста мягко коснулись ее плеч и тут же оттолкнули на обочину. — Уйди, мать, с дороги, а то убьют. Лучше скажи нам, глубокая тут река? — Зальет ваши танки, потонете. В сорок первом как раз тут красноармейская пушка с лошадьми потонула. Ее обступили танкисты, наперебой расспрашивали: — А брод близко есть? — Тут кругом глубина. До войны была переправа за лесом, да немец спалил. — Не знаешь ли, где есть бревна, чтобы навести переправу? — Близко ни у кого нет. Может, на станции найдете. — Нам искать некогда, того и гляди, немец огонь откроет. Поскорее бы перескочить через реку, мы бы ему задали перцу. — Значит, нет ни у кого готовых бревен? — уточнил пожилой танкист со шрамом на правой щеке. — Где же им быть? — Придется рубить лес. — Разрешите, товарищ командир? — спросил у человека со шрамом молодой голубоглазый танкист. — Мы мигом, чего ждать? — Начинайте, — сказал ему командир и, повернувшись ко всем, громко крикнул: — Рубить лес, наводить переправу! Живо! В одно мгновение застучали топоры, завизжали пилы. С треском валились деревья, шмякались о землю. Саперы и танкисты обтесывали стволы, отсекали ветки, тащили бревна к реке, спускали на воду. — Р-раз-два, взяли! Еще — раз! Е‑ще — два! Ульяна тем временем сбегала в избу, разыскала под лавкой зазубренный старый топор, поспешно вернулась к танкистам. — Айда со мной, помогать будешь, — бросила она Лизке, подталкивая ее со двора. Ульяна вместе с танкистами рубила лес, а Лизка хваталась за бревна, помогала носить к реке, где быстро, как в сказке, строилась переправа. — Несите еще! — кричали с переправы рубившим лес. — Давай, не задерживай! Ульяна без устали размахивала топором, била тупым лезвием по стволу, отламывала белые щепки. Когда зарубка становилась глубокой, она нажимала на дерево плечом, а то и двумя руками и всей тяжестью тела, раскачивала ствол. Раздавался треск, дерево с шумом валилось набок ипадало на землю. Ульяна на минутку разгибала спину, вытирала пот с лица, шла к другому дереву и снова вскидывала топор, рубила по стволу: — Э-ах! Э‑э‑аах! Э‑а! — Давай еще! Давай! — требовали с реки новых и новых стволов. Ульяна рубила и рубила до тех пор, пока не подошел к ней танкист, ударил раза два топором по стволу с другой стороны, повалил дерево и сказал Ульяне: — Отдохни, мамаша. Кончились деревья, больше рубить нечего. Она оглянулась и увидела вокруг себя пустую, вырубленную поляну на месте веселой березовой рощицы. — Что делать, товарищ командир? — спрашивал сапер у человека с рассеченной щекой. — Не хватило лесу. Где брать? Командир ищущим взглядом смотрел по сторонам. — Видали? — показал он танкистам на небо. — Вон летит немецкий разведчик, засечет нас — и через час-два жди обстрела. Как пить дать. Над серыми пухлыми облаками в это время действительно пролетел немецкий самолет и скрылся за дальней полосой леса. Кто знает, засек он переправу или нет, но танкистам нельзя было терять ни минуты. Переправа должна быть наведена, танки должны уйти на тот берег. Командир вскочил на бугорок, осмотрелся вокруг и громко скомандовал: — Ломай, ребята, заборы, бери доски и горбыли! — Есть, ломать заборы! Однако заборов было немного, их разобрали в один момент. — Да что в них толку, товарищ командир, одна трухлятина. Командир нервно ходил вдоль берега, поглядывал на небо и на часы. — Разбирайте, разбирайте! — поторапливал он саперов и танкистов. — Вон там, за углом, еще торчит забор. — Это же только для видимости, — сказал пожилой сапер с обвислыми усами. — Еще бы настоящих бревен десятка два. — А где взять? — То-то и оно, что негде. А надо бы. Из-за леса снова появился немецкий самолет, видимо, разглядел переправу, быстро развернулся и улетел к своим. — Засек, чертяка! — ругнулся молодой танкист. Не успел командир ответить на эти слова, как послышался визжащий свист снаряда, который шлепнулся в глинистый берег слева от переправы метров на сто и разбросал в стороны мокрое желтое месиво. — Торопись, ребята! Ломай еще забор, кончай переправу! — Бревна нужны! — взмолился пожилой сапер. — Прикажите, товарищ командир. Командир махнул на него рукой, рванулся с места, сам побежал за угол, где стоял еще один неразобранный заборишко, и начал выдергивать колья. Танкисты бросились за командиром, старый забор затрещал под их напором, рассыпался в одну минуту. Ульяна выронила из рук топор и, тяжело шагая через взрыхленную танками песчаную дорогу, торопливо подбежала к командиру. Остановилась перед ним, поклонилась в пояс и как о большой милости попросила: — Окажи мне услугу, дорогой товарищ. Прикажи валить мою избу, берите бревна, наводите переправу. — Да где же твоя изба? — спросил растроганный командир. — А вон, крайняя, у самой реки. Прикажи своим солдатам, сделай милость. — А ты как же? Где жить будешь? — После войны построим новую. Ломай, не сомневайся. Командир быстрым, живым взглядом окинул стоящую перед ним простую русскую женщину, вдруг сделавшуюся чем-то похожей на его родную мать; с суровым лицом, с решительным, смелым взглядом и горделивой осанкой, она всем своим видом требовала от командира немедленного действия. Без колебаний он с благодарностью принял ее дар. Сорвавшись с места, почти на ходу, крепко обнял женщину и побежал к избе, крикнув танкистам: — За мной! Разбирать избу, живо! Как муравьи, танкисты и саперы облепили Ульянину избу, рванули крышу, стали сбрасывать тяжелые бревна и оттаскивать к реке. Ульяна проворно бегала по двору, покрикивала на танкистов: — Ударь-ка топориком. Сильнее, вот так! Пока танкисты орудовали топорами да ломами, Лизавета, как ошалелая, успела раз десять сбегать в избу и по частям вытащить Ульянины вещички, припрятать их в сарае. Вынесла сундучок с барахлишком, горшки, миски, старую швейную машину, патефон, мужскую одежду, железную кровать. Даже ухитрилась выкатить бочонок с квашеной капустой, вынести ржавую жестяную банку с керосином и мешочек с пшеном. Танкисты навели переправу, сели по машинам, завели моторы. Командир крепко пожал руку Ульяне, откозырял по-военному и еще раз поблагодарил ее: — Не обижайся, мать, что без крыши оставили. Извини. — Не пропаду, — успокоила его Ульяна. — Избы нет, так вон сарайчик остался. Проживу. С ревом и гулом танки один за другим прокатились по переправе и уползли в лес. Ульяна счастливым взглядом проводила танкистов в трудный, далекий путь. Через час немцы обстреляли переправу из дальнобойных орудий. Прямым попаданием в щепки разнесли мост, но наши танки были уже далеко на западном берегу, преследовали отступающие немецкие части. Ульяна и Лизавета сидели на бугре, смотрели на реку. Они видели, как ударило снарядом по мосткам, как разлетелись бревна от Ульяниной избы. Лизка прижалась к Егорьевне, тихо заплакала. — Чего ты? — удивилась Ульяна. — Не реви. — Избу твою жалко. Все прахом пошло в твоем дому. Одна ты теперь осталась, как в поле былинка. Лизка захлюпала носом, обливаясь слезами и прислонясь мокрой горячей щекой к щеке Ульяны. А Ульяна сидела неподвижно, гордо, не склонив головы, не уронив ни слезы. Потом поднялась и тихо приказала подруге: — Пойдем.
4
Они поднялись в гору, пошли к Волчьему оврагу. Шли во весь рост, не пригибаясь, не прячась. Когда взошли на холм перед спуском в овраг, Ульяна задержалась на миг, посмотрела вокруг. С высоты увидала даль синего леса, чернеющее внизу широкое поле. За перелеском высовывались крыши изб с печными трубами, из которых кое-где вился сизый дым. Прямо над головой медленно клубились белые облака, толкаясь боками, расходились в стороны. В причудливых разрывах облаков открывалось такое высокое, такое синее небо, что при одном взгляде на него кружилась голова. Ульяна быстрыми шагами стала спускаться в овраг. Приближаясь к кустам, громко крикнула: — Ступайте по домам, бабы! Немца прогнали! По оврагу прокатился всполошенный женский гомон. — Гэй! Ге‑эй! — поднимали женщины коров, помахивая лозинками. — Вставай, Буренушка. — Подымайся, глупая! — Ну, ты, Пеструха! Пошла! Коровы с мычанием и ревом поднимались с земли, опасливо вытягивали шеи, жались друг к дружке, уходили к лесу через расщелину глинистого обрыва. Ульяна и Лизка шли последними позади своих тощих коровенок. Остановившись у опушки леса, может быть, у того самого камня, где она когда-то темной ночью расставалась с партизаном, Ульяна долго смотрела на полегшую прошлогоднюю траву, тяжело вздохнула. — Идем же! — звала ее Лизка. — Что стала? Ульяна не отзывалась, стояла, опустив голову, задумавшись. Лизка вернулась к подружке, толкнула ее: — Оглохла, што ли? Ульяна повернулась к Лизке, обессиленно оперлась на ее худое острое плечо. С болью в голосе спросила: — Теперь-то он скоро придет? — Про кого это ты? — недоумевала Лизка. — Да про сына моего, — странно сказала Ульяна и виновато улыбнулась Лизке. — Его же повесили немцы, — с трудом прошептала Лизка. — Как же он вернется? — Я про другого спрашиваю, — вздохнула Ульяна и пошла за коровой. — В партизанах он был, а после войны ко мне обещался, теперь, чай, не долго ждать. Лизка смотрела ей вслед, жалостливо качала головой. «С ума сошла», — думала она, не зная, как утешить подругу. Ульяна пригнала коровенку домой. Это была ее собственная скотина, которую они купили с мужем лет пять назад, чтобы не носить с колхозного двора молоко, а то люди от зависти скажут, сама, мол, доярка, берет сколько хочет. Им, слава богу, хватало своего. Коровенка словно в недоумении остановилась у ворот, не узнавая подворья. С грустью смотрела вокруг и Ульяна. Избу словно ветром снесла война, и только мусор да взрыхленные комья земли остались на том месте, где раньше стоял дом. Ульяна пошла в сарай, остановилась у порога, стала прикидывать, как приспособить эту постройку под жилье. Корову можно поставить в курятнике, который давно опустел. От избы остался только погреб, его надо огородить и прикрыть от дождя. Ульяне теперь ничего и не нужно, вполне хватит того, что осталось, тужить не о чем. Достала из колодца ведро воды, напоила корову, бросила ей охапку соломы, закрыла калитку и торопливо ушла со двора. Она почти бежала по улице, нока добралась до площади. Долго стояла, не замечая, что за ее спиной молча толпились односельчане. Пришло много людей: и старики, и молодые, и дети. На том самом месте, где при немцах была виселица, на которой повесили ее сына, солдаты с утра поставили белый, сверкающий на солнце обелиск с красной пятиконечной звездой наверху. На обелиске написали слова: «Вечная память героям, павшим в боях за честь и свободу нашей Родины!» И ниже высекли имена погибших, среди которых было имя младшего сына Ульяны — Петра Демина. Целый день, до захода солнца, стояла Ульяна с опущенной головой, смотрела на обелиск, и рядом с ней стояли с таким же выражением лиц такие же матери, молодые женщины, старухи, солдаты, девчонки с мальчишками, старики. Стоял непобедимый народ, вынесший на плечах великое горе.
5
С тех пор Ульяна пошла к людям, трудилась в поле, ходила за плугом, подгоняла запряженных худых лошадей, водила за налыгач тощих коровенок, плетущихся в ярме. Вместе со стариками, деревенскими бабами и детьми вручную сеяла рожь на черной, вспаханной ниве. Бывало, усталые руки Ульяны опустят на землю лукошко с зерном, отдыхают. Ульяна разгибает натруженную спину, поднимается на бугор, смотрит и смотрит на дорогу. — Кого ждешь, Егорьевна? — спрашивают ее люди. Но Ульяна молчит, не отвечает. А люди больше не спрашивают, сами знают, какая тяжкая боль на душе этой женщины. Вон как состарилась за эти годы, вся почернела от горя, лицо сморщилось, покрылось глубокими складками, волосы поседели. Так прошло много дней и ночей, сменялись времена года, зеленели и вяли травы, замерзала и отогревалась земля, вырастали и опадали листья на деревьях, улетали и возвращались птицы. Уже далеко в Берлине окончилась война, и наступило первое послевоенное мирное лето. Сухой горячий ветер развевал выбившуюся из-под платка Ульяны седую прядь волос. Она стояла на бугре, откуда хорошо видна дорога, уходящая к лесу. Далеко за поворотом показались два человека, они шли к селу, поднимая сапогами дорожную пыль. Ульяна поспешно спустилась к дороге, всматриваясь в приближающихся людей. Теперь можно ясно различить, что это солдаты. Один с вещевым мешком за плечами, другой — с чемоданом. Ульяна срывается с места, бежит навстречу идущим. Увидев бегущую Ульяну, женщины тотчас побросали работу и тоже заторопились к дороге. Впереди всех заспешила Настя, в белом платочке, проворная и легкая, как горная козочка. Ульяна внезапно остановилась, смотрит то на одного, то на другого солдата, опускает голову в поклоне, уступает дорогу путникам. Напрасно она бежала, нет среди них того, кого она ждет. — Здорово, Ульяна Егоровна! — весело крикнул ей усатый солдат. — Не признаешь, что ли? Это же мы, Евсей Миронов и Василий Кравцов. Живые вернулись с войны. Ульяна опустилась на землю у края дороги, заплакала. А подоспевшие бабы окружили солдат, обступили их, запричитали. Настя бросилась на шею Евсею с радостным криком: — Братка! Братка вернулся! На Василия Кравцова тут же налетела его жена, рыжая, веснушчатая Фроська, завыла и заголосила на все поле. Ульяна тяжело поднялась с земли, вытерла слезы, улыбнулась чужому счастью и пошла к одинокому своему лукошку с семенами.
Пришла зима. В Ульянином сарайчике, приспособленном под жилье, пусто и тихо. За единственным маленьким окном все покрылось белым снегом, над крышами соседних домов поднимаются сизые столбы дыма, долго не тают в морозном воздухе. Ульяна стоит на табуретке, вытирает тряпкой пыль с карточек, развешанных по стене в рамках под стеклом. Тут вся семья Деминых: на одной карточке Ульяна с мужем Ефремом, а на отдельных два сына — Иван и Петр. Младший сын сфотографировался, когда ему было лет четырнадцать, совсем мальчишка, весело смотрит со стенки, улыбается. Ульяна не заметила, как распахнулась дверь и в комнату вошла жена солдата Василия Кравцова рыжая Фроська с раскрасневшимся лицом, в старой овчинной шубе. — Здорово, подружка! Слышь? Это я, Ефросинья. Ульяна обернулась, слезла с табуретки. — Садись, коль пришла. Чего надо? — Опять за тобой притащилась, — сказала Фроська. — Председатель говорит, всем нужно на работу, а то хозяйство развалится. — Оно и так развалилось, — махнула рукой Ульяна. — Ноне дела, должно быть, лучше станут. Евсея Миронова в председатели выбрали, он на войне старшиной был и в партизанах служил, да и ранее честным человеком считался. Он и послал меня за тобой. Вы, говорит, бабы, большая сила, помогайте, без вас беда. Верно понимает нашу жизнь, ей-право. — Эх, Фроська, перебили хороших мужиков, и некому за дело взяться. Твой-то Васька что делает? Чай, не калека, живой с войны воротился. Вместе с Евсеем пришел, вместе и за дело брались бы. Фроська подсела поближе к Ульяне, вздохнула. — Слабый он, никак не может отоспаться, — сказала она про мужа. — Да и что мы на мужиков надеемся? Нам бы все взять в свои руки. Иди на ферму, как до войны работала. — Не та я теперь стала. Под самый корень подрезали. Фроська вздохнула и принялась рассматривать фотографии. — А партизан-то твой пишет? Ульяна долго молчала, глядя за окно, где на голой осине сидели вороны. Потом ответила нехотя: — Дала я себе зарок — ждать, пока снег растает. А не объявится к тому времени, сама искать стану. — Да зачем он тебе, коль забыл? — спросила Фроська. Ульяна с укоризной посмотрела на подругу. — Либо убило его в конце войны, а может, еще что случилось, иначе непременно пришел бы. Раз сам не является, надобно мне идти по его следу. — Забудь ты его, Ульяна, ей-право, — жалеючи сказала Фроська. — Устраивай свою жизнь сама, зализывай раны, живи. Да коли б не этот партизан, небось Петенька твой живой бы остался. Фроська, молча повернулась к окну, поковыряла пальцем намерзший иней, подышала на стекло, пока оттаял кружочек под теплыми губами. Ульяна с ненавистью посмотрела на Фроську, сжала белые губы. — Уходи. Нечего тебе тут делать. Фроська пожала плечами, двинулась к дверям. — На ферму пойдешь ли? — спросила она, не поворачиваясь к Ульяне. — Нет, не пойду. Так и скажи Миронову, без меня управитесь. Фроська затянула узел платка и ушла с чем явилась.
Оттепель наступила рано, и снег начал таять дружно. Кажется, совсем недавно за окном свистел морозный ветер, а нынче уже журчат ручьи и над высокой осиной под окном вьется стая грачей. На огородах уже стаял снег, просыхают черные грядки. Сильные ноги налегают на край лопаты, отваливают жирные пласты земли. На перекладине забора повисли старая стеганая фуфайка и теплый вязаный платок. Нога в сапоге снова и снова налегает на лопату. Перевертываются черно-рыжие пласты на грядках, поблескивают обшарпанные бока нехитрого орудия крестьянского труда. Ульяна копает грядки на огороде, разбивает острым ребром лопаты комья влажной земли. Темные руки крепко держат шершавый черенок, ловко орудуют. Весенний ветер треплет концы выгоревшей старенькой косынки. К калитке подкатил на велосипеде почтальон. — Эй, Ульяна! Иди-ка, получай письмо. Ульяна перестала копать, разогнула спину, поправила волосы, торопливо пошла к почтальону, переступая через грядки. Вдруг словно опомнилась, помчалась бегом, спотыкаясь о рыхлую землю. На бегу вытерла руки о фартук, потянулась к письму. — Слава тебе господи. Дождалась. Почтальон, сухонький горбатый мужичишка с бородавкой на носу и маленькими веселыми глазками, отвел руку с письмом за спину, засмеялся щербатым ртом: — Знаешь, кто прислал? Угадай-ка. — Да ну тебя! Не гадалка я, давай! Ульяна вырвала из рук почтальона письмо, прижала к груди и медленно, почти торжественно пошла к избе. Старичок смотрел на нее моргающими глазками, покачивал сивенькой головкой в старом картузе, крикнул скрипучим голосом: — Прочти при мне, скажи, что пишут! Ульяна не обернулась, торопливо поднялась на крыльцо, захлопнула дверь.
Встреча
1
Ульяна долго вертела в руках письмо и, прежде чем распечатать конверт, внимательно разглядывала его. Почерк был совсем незнакомый, а на обратном адресе указано, что прислано письмо из города Вольска, Саратовской области, от Беспрозванных Богдана Парменовича. Сроду у нее никого не было в этих местах и никакого Богдана Парменовича Беспрозванных она вовсе не знала. Подумала-подумала, взяла да и распечатала конверт. Письмо было написано разборчиво, крупными буквами на двух листках из школьной тетрадки в три линейки. Бумага пожелтела от сырости, сильно пахла махоркой и дустом. Ульяна, подсев ближе к окошку, принялась читать. «Здравствуйте, Ульяна Егорьевна, пишет к вам с берегов Волги из далекого города Вольска незнакомый вам человек Богдан Парменович Беспрозванных, так как после тяжелого ранения лежу в госпитале: вместе с известным вам Василием Андреевичем Хлыниным и хочу сообщить кое-что. У меня тяжелая рана в груди, одно легкое отрезали и другим чуть дышу. А Василию перебило позвоночник, он не встает с постели и тяжко мучается. Врачи у нас хорошие, лечат, как медициной положено, однако против природы ничего не сделаешь. Я знаю, что мы безнадежные и скоро помрем. Я все время верил в жизнь, а теперь не верю. Пишу я вам про Васю, чтобы вы к нему приехали, как у него больше никого нет, а про вас он мне рассказывал и адрес сообщил. Сам писать вам отказывается, сколько я ни советовал, все говорит, ни к чему это. На что, мол, я ей такой калека, совсем беспомощный. Вот если выздоровлю, встану на ноги, тогда и без письма заявлюсь, как и обещал Ульяне Егорьевне. Да как же ему надеяться, если совсем не жилец, хоть и гордость в душе большая, а здоровья нисколько нет и врачи давно не обещают?! Погибает он тут, вот и все. А ухаживает за Василием медицинская сестра Зинаида, которой он тоже не велит писать вам. Она душевная и добрая, на фронте всю войну провела, нашу солдатскую братию спасала, да и сама с пулями и осколками не раз встречалась, смерти в глаза заглядывала. А как кончилась война, эта медсестра Зиночка приехала с поездом раненых из самого Берлина и дала нам клятву, пока не выздоровеет последний раненый, она не уйдет из госпиталя на мирную жизнь. Так и бедует с нами наша медсестра, хоть нас совсем мало осталось, тяжкие давно померли, а кто покрепче был, по своим домам разъехались, как война давно кончилась, а нас она, проклятая, до сего дня за горло душит. А как Василию никакие лекарства не помогают, врачи разрешили Зине взять его к себе на квартиру, как она сама просила, чтобы день и ночь за ним смотреть, за его жизнь до конца биться. И помогают ей старушки-сиделки, все на бога надеются, а кой бог поможет, если медицина не в силах. Так наш Василий в чужом доме лежит, как дитя беспомощное, и заступиться некому, потому у него отца и матери давно нет, а жена Вера погибла от пули врагов, и остался у них маленький сынок-мальчишка, и приютила его в своей семье солдатская жена Варвара Суворова из деревни Смолярное, Смоленской области. Вася любил свою жену Веру, а теперь ее нет. Простите, что я написал про это дело, а только вам лучше приехать, пока он живой. Сказал это все мне Василий по секрету, когда еще со мной рядом в госпитале лежал, а теперь я чую, что мне конец приходит, не желаю уносить такую тайну в могилу. Василий помрет, не скажет, а мальчишка должен знать, что отец его был герой. Пишу вам истинную правду, все равно мы с Васей не жильцы на этом свете. С низким поклоном и приветом к вам Богдан Беспрозванных. Не обижайтесь на меня, что я прислал такую весть, делайте, как знаете». Ульяна с трудом дочитала письмо. В глазах потемнело, дышать было нечем, казалось, сердце остановилось. Хотелось закричать, завыть, но в горле все пересохло, не было сил. Голова закружилась, все поплыло перед глазами. Опомнившись и придя в себя, она еще несколько раз перечитала письмо. Забросила работу в огороде, не пошла на колхозное поле, весь день сидела дома одна. Все думала о Василии, о его жене — незнакомой Верочке, и как-то с особой болью — об их ребенке, неведомо куда занесенном ветром войны. Ночь не спала, надеялась на чудо. Все ей мерещилось, будто кто-то стучит в окошко, не то скребется в дверь. Часто вставала с постели, спрашивала через дверь: — Кто там? В ответ — ни звука. Тогда она снимала крючок, выходила на крыльцо. Обняв босые ноги, сидела на холодных ступеньках до рассвета, смотрела на калитку. На другое утро пошла к Лизке. Позвала рыжую Ефросинью, красивую Дуську, которая брала у них с Лизкой молоко для своих детей. Прочитали письмо вслух, поохали, погоревали. — А все же это не факт, — сказала Лизка. — Может, и не умрет. Чего убиваться? — И то правда, — вздохнула Дуська. — Вон у нас в магазине один приезжий солдат рассказывал: дома похоронную на него получили, а он вдруг явился. Говорит, контуженый был, целый год без памяти лежал в госпитале. — Да как же он без меня? — вздохнула Ульяна. — И ребеночек, бедный, все время из головы не выходит, будто плачет, дитё безутешное, и ручонки протягивает. — Что он тебе дался? Чужой же! — успокаивала Ефросинья. — Нет, бабы, — сказала Ульяна, складывая письмо. — Еще с вечера решилась я ехать. Об одном пришла просить вас: покараульте мою хибарку да за коровой приглядите. Бери, Дуня, себе все молоко, у тебя детишки малые. — Спасибо, Ульяна. Не беспокойся ни об чем, догляжу твою корову и все сохраню. Поезжай, с богом. В воскресенье Ульяна пошла на базар, продала патефон, шевиотовый костюм мужа и собралась в дорогу.
2
Ехать пришлось долго, с пересадками, а под конец даже плыла на пароходе по быстрой и широкой Волге-реке. Сколько разных людей живет в России, какими невиданными полями, лесами украшается ее просторная земля. Едешь, едешь, и все нет конца и краю твоей дороге. Спросит Ульяна у добрых людей, скоро ли такой-то город? «Скоро», — отвечают ей люди, а конца пути все нет и нет. «Ничего, что далек путь, — думает Ульяна. — Я-то не устану, лишь бы он живой был, а то хоть на край света приду». Сидя на палубе старого потрепанного пароходишки, Ульяна не смыкала глаз, всматривалась в окрестности. В рваных просветах меж облаками проглядывала луна, в холодных голубых отблесках прорывалась полоса реки, туманно маячил крутой берег, а на его вершине вставал серо-хмурый старинный волжский городок с характерными незатейливыми постройками. Пока пароходишко добирался к городу, разворачивался и подходил к пристани, наступил рассвет, стало всходить солнце. От белой высокой колокольни старинного собора доносился звон, плывущий над мирными дремлющими берегами. Голос церковного колокола перебивался гудками заводов, пароходными свистками. Звуки просыпающегося города долго перекликались, словно соперники, стараясь пересилить друг друга. В это утро в одиноком домике на окраине, в тихой комнате, в углу, стояла на коленях старая женщина, молилась перед маленькой иконой. Печальная богородица с младенцем на руках молча смотрела на желтый язычок лампадки, а сквозь него — на преклонившую колена молящуюся старуху. Сложив руки на груди и крепко сцепив худые желтые пальцы, она шептала иконе рвущиеся из души слова: — Пресвятая богородица, матушка милосердная, услышь мою молитву и сотвори чудо. Укрепи веру в душе болящего воина Василия, не дай ему умереть, ниспошли исцеление и здравие на многие лета... А в другой комнате на кровати лежал больной Василий. Его лицо, худое и измученное, покрылось морщинами, щеки ввалились. На висках белела ранняя седина. Откинувшись на белые подушки, он тяжело дышал. Сбросив с себя одеяло и раскинув руки, он пытается встать с постели, неловко задевает стоящий рядом стул, со звоном роняет на пол стакан с водой и склянки с лекарствами. С порога к Василию бросается встревоженная Зина: — Что тебе, Вася? Я подниму, успокойся. Она стала поднимать склянки с пола, помогла Василию повернуться на бок, прикрыла его одеялом. Поправила подушку, вытерла вспотевший лоб, погладила дрожащей рукой его волосы. — Потерпи, Васенька, потерпи. Василий замотал головой. — Лучше под пули идти, чем так жить. Какой нынче год? Почему так долго никто не возвращается с фронта? Она молча упала на колени, прижалась щекой к его голове. Он закрыл глаза, затих. Дыхание его успокаивалось, руки, вытянутые вдоль тела, лежали неподвижно. Склонившись над постелью Василия, Зина долго вглядывалась в его лицо с темными кругами под глазами, с ввалившимися щеками и заостренным носом. Стояла безмолвно, не шелохнувшись, ждала, когда он успокоится. Наконец он уснул. Она взяла пустой стакан и бесшумно вышла из комнаты на веранду. Здесь она готовила завтрак Василию. Дом, в котором поселилась Зина, принадлежал ее тетке — отцовой сестре, женщине одинокой, миролюбивой. Ей не на кого было излить женскую ласку и заботу, и она от всей души приняла самое горячее участие в судьбе племянницы, искренне желая Зине добра и счастья. И на «болящего воина Василия» смотрела как на ниспослание судьбы, молилась за него, верила, что бог пошлет ему здоровье, и сыграют они с Зиной свадьбу, и заживут молодые, да будут детей растить, да добра наживать. Зина сердилась на теткины богомолья и однажды с фронтовой запальчивостью чуть было не выбросила лампадку и иконы, но сдержала себя, не захотела обижать старую женщину. — Только смотри, — строго наказала она тетке, — чтобы Василий ни слухом ни духом не узнал о твоих молитвах. — Не ему молюсь, а богу, — сказала тетка. — Для вас же стараюсь, добра хочу. Не беспокойся, не узнает. Сама Зина была человеком стойкого характера, упрямой солдатской натурой. С тех пор как попала на фронт, ее девизом и верой стали слова: сам погибай, а товарища спасай. Этой верой Зина жила и теперь. Вся высохла и измучилась, но не отступала и не поддавалась сомнению, шла и шла по трудной, крутой дороге, которую выбрала для себя сама. В сорок втором году ее отца убили на фронте, и она, шестнадцатилетняя девочка, оставила школу, подруг, простилась с матерью и упросила военкома, чтобы ее отправили в действующую армию. Зину послали работать в госпиталь, а через несколько недель она оказалась на передовой. Она была смелая девушка, не только выносила раненых с поля боя, но и сама бросалась в атаки, метко стреляла. Судьба наносила ей удар за ударом. Вскоре после отъезда Зины на фронт погибла ее мать в аварии на заводе. Девушка еще не успела пережить этого горя, как новая тяжкая беда обрушилась на нее. На фронте под Ленинградом был убит ее жених. После войны, сопровождая из Берлина группу тяжелораненых, Зина прибыла в город Вольск, дала себе слово оставаться в госпитале до тех пор, пока излечатся все фронтовики. Хотя в этом городе жила ее родная тетка, единственный близкий ей человек из оставшейся в живых родни, Зина чувствовала себя страшно одинокой. Убегая от этого гнетущего чувства, она все свое время посвящала работе в госпитале и уходу за больными. Тут она и сблизилась с Василием Хлыниным. Зинаида заметила Василия еще в санитарном поезде и потом всю дорогу не выпускала его из внимания, а когда приехали в Вольск, выбрала его своим подопечным. Тяжелое ранение в позвоночник уложило Василия в постель. Его усиленно и упорно лечили, вызывали профессоров из Саратова и Куйбышева, прилетал знаменитый хирург из Казани, консультировались с Москвой, а Василий все не мог встать на ноги. Позже врачи стали поговаривать, что он безнадежен, и, хотя скрывали от него правду, Зине все было известно. В бесконечных тревогах и волнениях Зина не отходила от Василия, крепко привязалась к нему, по-настоящему полюбила и не могла представить, что когда-нибудь они должны будут расстаться. Правда, она никогда не выказывала ему своих чувств. Однако, узнав, что у Василия была жена, которую он любил и которая погибла на фронте, подумала, что, видно, судьба не напрасно свела ее с Василием: ведь она потеряла жениха, а он — жену. Зина с глубоким страданием наблюдала, как у врачей опускались руки от отчаяния, как постепенно исчезала у всех надежда на выздоровление Василия, и даже тогда она не теряла веры. Она надеялась на психологический перелом в сознании самого больного, внушала ему, что кризис прошел и теперь дело пойдет на поправку. Зина уговорила врачей выписать Василия из госпиталя и разрешить ему переселиться к ней в дом, где она обеспечит больному хороший уход. И сам Василий, для которого Зина стала близким человеком, преданной сестрой милосердия, ухватился за последнюю надежду, согласился переехать к ней. Зина, однако, вскоре с горечью стала замечать, что ее дом постепенно становился тюрьмой для Василия. Хотя в доме никогда не было пусто, Зинина тетка и ее сверстницы-старухи помогали Зине во всем, приходили к Василию, старались, ободрить его, развлечь, Василий становился все более угрюмым, настроение его часто менялось, он впадал в глубокую меланхолию, прогонял из комнаты всех, кроме Зины, ни с кем не хотел разговаривать. Зина окружила его заботой, выполняла все его желания, она стала для него не только сестрой милосердия, но и ревностным охранителем. За дверями его комнаты шла жизнь, в дом часто приходили старухи, приносили в узелках гостинцы. Василий не знал, что они вместе с Зинаидиной теткой молятся о ниспослании ему здоровья. У Зинаиды не хватало духу прогнать старух и прекратить их моления.
3
В то теплое утро в саду было тихо, свежо, легко дышалось. Василий лежал на своей койке, рассеянно смотрел в небо, на белые облака, похожие на лебедей. Облака тихо плыли и убаюкивали. Зинаида принесла стакан молока, поставила на табуретку и, не тревожа Василия, вернулась в дом. Василий закрыл глаза. А когда открыл, снова увидел небо, где все плыли и плыли облака. За кустами глухо стукнула калитка, послышалось шуршание песка на дорожке. Кто-то медленно шел по саду. Василий встревоженно повернул голову, посмотрел на дорожку. Не сразу поверил тому, что увидал: от калитки по песчаной дорожке шла Ульяна Егоровна Демина, в темном платке, с узелком в руках. Присматриваясь к незнакомому месту, она медленно приблизилась к Василию, с тревогой посмотрела в его лицо. Василий приподнялся на подушке, с тихим вздохом облегчения улыбнулся на ее привет. Прерывисто дыша, сказал: — Вот и пришла, Егорьевна, не оставила меня. Что уже стоишь? Садись, отдохни. Ульяна уронила к ногам узелок, опустилась перед кроватью. — Господи! Сынок! Она припала к краю постели, гладила седеющие волосы Василия, пристально вглядывалась в его лицо, словно хотела до конца удостовериться, что это он. — Вот и свиделись, сынок. Пошто так долго лежишь? Вставать бы пора. Василий взял руку Ульяны в свои горячие руки, дрожащим голосом зашептал, глотая слова: — Я все время думал о тебе. Много раз видел во сне и тебя, и твой дом. И Петю твоего никогда не забуду. Он моргнул, глаза его налились влагой. — Ну, полно тебе, полно, — тихо сказала она. — Полно вспоминать. Он прикрыл глаза, вытер ладонью. — А ты как? Жива? Ульяна молча кивнула. — Жива и здорова, сынок. И все люди теперь дома, работают. Долго ждала весточки от тебя, не верила, что больше не свидимся. — А меня вон как ранило. И умереть не могу, и жить тошно. Он попытался подняться и сморщился от боли. — Лежи, авось все обойдется, отстанет хворость. Ты вон не из такой беды выкручивался. И теперь как-нибудь. — Куда там, — махнул он рукой. — Теперь все, конец. Врачи говорят, буду плясать, а я знаю, что врут. Вон Богдашку Беспрозванных на прошлой неделе похоронили. Скрывают от меня, а я знаю, ребята с улицы через забор сказали. Ульяна, стараясь быть спокойной, опустилась на табуретку, выдержала мученический взгляд Василия. Он ждал от нее утешения и, не дождавшись ответа, схватился за руки Ульяны, уронил лицо в ее жесткие ладони. Потом неожиданно затих, будто уснул. Ульяна не шевелилась, молчала. Василий поднял голову. Слез уже не было в его глазах, он взглянул на женщину, которая была бесконечно дорога ему, заговорил о прошлом. — Когда последний раз бежал в атаку, я думал о тебе и о твоем сыне Петре. И о Верочке тоже. Ты не знаешь Верочку? Я тебе потом расскажу. Это было в Берлине, в конце войны. Я бежал п о улице, потом упал и словно провалился в какую-то глубокую яму.Кажется, и сейчас еще лежу в этой яме, никак не могу выкарабкаться. — Теперь обязательно выкарабкаешься, — сказала Ульяна. — Самое страшное осталось позади. Мертвых не воскресишь, а живым надо жить. В мире творятся такие дела, никому не хочется стоять в стороне. Все работают, строят дома, пашут землю. А дорог сколько намостили, да все широкие, гладким асфальтом покрытые. И машины по ним бегут, и все люди едут и песни поют... В это время на крылечке появилась Зинаида. С удивлением и тревогой посмотрела на незнакомую женщину, тихо подошла к кровати, остановилась за спиной гостьи, слушала ее, не решаясь перебить. — И на поездах везут лес, кирпич, железо, — продолжала говорить Ульяна. — Много разных машин: и сеялки, и трактора, и станки. На плечах у мужиков все больше выгоревшие гимнастерки, а иные сшили себе новое платье и на работу идут, как на праздник. Поехал бы ты со мной да посмотрел на всю эту красоту... Пружинистая фигура Зины тревожно метнулась вперед, встала между Ульяной Егоровной и Василием. Заслонив собой Василия, Зинаида сверкнула глазами на Ульяну: — Что вам тут нужно? Кто вы? Ульяна посмотрела на Зину, улыбнулась ей, спокойно сказала: — Извиняй меня, доченька. Прости, что заявилась без уведомления. Спасибо, не оставила Василия в тяжкой беде... — Вы говорили здесь какой-то вздор, — резко прервала ее Зинаида, — приглашали Василия куда-то ехать. — Это не вздор, девушка. Я действительно хочу, чтобы он уехал отсюда со мной. Там ему будет лучше. — Да кто вы такая?! — вспылила Зинаида. — Да Демина я, Ульяной Егорьевной зовусь. Может, слыхала? За тридевять земель пошла, как услыхала про недуг Василия. Зинаида растерялась, вспомнив рассказ Василия о страшной ночи. — Не шуми, Зинаида, — улыбнулся Василий. — Это и есть Егорьевна. Принимай гостью. Зина, словно окаменелая, стояла перед Ульяной и лихорадочно думала: что сделать? Как поступить? Уговорить эту женщину, чтобы не искушала Василия, не звала к себе, не трогала. Пусть все останется как есть. И, выдавив улыбку, Зина миролюбиво поклонилась Ульяне: — Милости просим в наш дом. Пожалуйте на веранду, с дороги попейте чайку, не побрезгуйте. А Вася пускай отдохнет, ему тяжело. Ульяна переглянулась с Василием, пошла с Зинаидой. Женщины пили чай на веранде. Хозяйка, сидя у самовара, смотрела на гостью, та внимательно приглядывалась к ней. — Умаялась с ним? — спросила Ульяна о Василии, — Едва на ногах стоишь. Трудно тебе? Зинаида кивнула. Налила чаю, долго держала чашку в руках, будто не знала, что с ней делать. Разные думы одолевали ее. За много лет впервые почувствовала смертельную усталость, хотелось броситься к этой женщине, уткнуться ей лицом в грудь, дать волю слезам, как бывало в детстве, когда в трудную минуту прибегала к матери. Поймав себя на этой мысли, Зинаида тут же стала казниться за проявление минутной слабости, насупилась, тяжелым взглядом посмотрела на Ульяну, которая спокойно пила чай, прикусывая крепкий рафинадный сахар. Чашка вдруг выскользнула из Зининых рук, упала на пол, со звоном разбилась. Зина вскрикнула, закрыла лицо руками. — Что с тобой, девушка? — забеспокоилась Ульяна и, поставив чашку, бросилась к Зинаиде. Материнским жестом дотронулась до ее плеча, ласково погладила. Зина, как ужаленная, вскочила с места, истерически забила себя в грудь сухими кулаками: — Зачем вы хотите увезти его? Не дам! Вы жалеете одних и казните других! Зачем приехали? — Успокойся, милая, не ожесточайся против людей, — мягко остановила ее Ульяна. — Натерпелась ты, бедная. Зина заплакала. Ее лицо сделалось неприятным и некрасивым, щеки покрылись белыми пятнами, губы задрожали. — Не плачь, девушка, главное, чтобы он был жив. Доктора-то ходят к нему? — спросила Ульяна. Всхлипывая, Зинаида опустилась на пол, встала на колени, начала механически собирать черепки разбитой чашки, вдруг вскинула на Ульяну взгляд, полный отчаяния: — Бессильны доктора против такой болезни. Разбилась его жизнюшка, как эта вот чашка, не склеишь теперь. Ульяна рассудительно и твердо продолжала свою мысль: — Стало быть, я сама к докторам пойду. Как же без них? Если разрешат с места трогать, увезу Василия домой. У нас и воздух иной, и забором высоким от людей не отгораживаемся. Может, найдется ему доброе лекарство в нашем краю. Зинаида пружинисто поднялась во весь рост, кинулась к столу, готовая схватить что попало под руку и ударить непрошеную гостью. Ульяна с жалостью глядела на девушку. Она подошла к ней, положила руку на плечо, желая успокоить, мирно сказала: — Если ты хочешь ему добра, зачем же со мной воюешь? — Вы старше меня, поймите, — заголосила Зинаида. — Как буду жить без него? Разве не видите, что я люблю его? Не приглашайте его к себе, он согласится, а я не в силах помешать. — Да коли тяжко тебе тут оставаться, езжай с нами. Разве лишняя будешь? Ты же сестра медицинская, вдвоем легче нам будет спасать Василия... В тот же день Ульяна сходила к докторам, все разузнала о болезни Василия. Врачи не скрыли от нее, что он безнадежен и что они давно удивляются, как он до сих пор держится. По просьбе Ульяны врачи еще раз внимательно осмотрели Василия, подбодрили, а Ульяне наедине сказали, что по-прежнему плох, никаких улучшений не наблюдается. Однако не возражали против того, чтобы Ульяна увезла его, — конечно, со всеми предосторожностями. В его положении, сказали они, весьма желательны новые впечатления. И если у самого больного есть такое желание, не следует препятствовать. — Перемена обстановки, — сказал врач, — в данном случае может оказаться полезной.
4
С большим трудом Ульяна, Василий и Зинаида добрались до места. Часть пути летели на самолете, потом ехали поездом, а под конец пришлось с великой предосторожностью передвигаться на бричке, устланной мягким душистым сеном. Усталые, измученные, они въехали на бедный Ульянин двор и поселились в ее тесном жилище. Путешествие и перемена мест немного взбодрили Василия, он заметно оживился, проявлял интерес ко всему. После нескольких дней отдыха Ульяна решила не ограждать его от людей и от жизни села. — В запертой избе он опять заскучает, — сказала она Зинаиде. — С людьми ему нужно, чтоб жизня шумела. Оставив Василия с Зинаидой дома, Ульяна пошла к людям. Появилась на картофельном поле, где работала колхозная бригада, шла вдоль высоких рядов увядающей ботвы, ловко и легко держала лопату на плече. Люди с удивлением смотрели на Ульяну, почтительно кланялись, останавливались, заговаривали с ней. — Жива-здорова, Ульяна? — кричал озорной старичок Харламов. — Милости прошу к нашему шалашу. Показав другим, где надо выбирать картошку и куда сносить, старик Харламов опять подошел к Ульяне. — Сказывают, нашелся твой вояка. Будто больной? — Авось поправится. Я надеюсь. К ним подходили председатель колхоза Миронов и агроном Севастьянов. — Эй, председатель! — крикнул Харламов Евсею Миронову. — Смотри, кто явился. Миронов протянул руку Ульяне, радушно сказал: — Доброе здоровьечко, Ульяна Егоровна. Как там твой крестник? Ты бы показала, что за сокол. И кто таков? — Да разве я хоронюсь от кого? Для всех дом открыт, заходите, милости просим. — Мы не гордые, зайдем, — пообещал председатель и пошел с Севастьяновым дальше, в другой конец поля. — Берегись! — кричал тракторист Ленька, подъезжая на тракторе к работающим женщинам. — Задавлю! Женщины с визгом разбежались в стороны, побросав корзины с картошкой. Ленька лихо остановил трактор, заглушил мотор, спрыгнул на землю. Не обращая внимания на девок и баб, подошел к Ульяне, осклабил белые зубы: — Ну что, Егоровна, нашла партизана? Какой он? — А ты приходи, сам увидишь, — пригласила Ульяна. — И приду, в самом деле. Может, он мне знакомый какой, если правда, что в наших краях партизанил. Вот дядя Евсей помнит, как я мальчонкой к ним в отряд приходил, от покойного секретаря райкома передавал секрет. Заучил три слова и передал: «Дятел долбит дерево». А что это значило, до сих пор не знаю. — Это шифер, — серьезно сказала рябая женщина в темной косынке. — Тайна. — А то как же! Я понимаю. Старик Харламов не отходил от Ульяны. Прикурил цигарку от окурка, подставленного конюхом Матвеем, затянулся горьким дымом, закашлялся до слез, сплюнул на землю, растер ногой. Растолкал баб и девок, ближе подошел. — Слышь, Егорьевна, — сказал он писклявым голосом. — Наши ребята, кажись, помнят твоего крестника, может, и я в партизанское время встречался с ним на глухой дорожке, любопытно знать. — А приходи и ты, сам расспросишь, — позвала и его Ульяна. — Приходите все, люди добрые. — Приду, посмотрю на сокола. Обязательно приду, любопытно даже. Весть о том, что отыскался герой-партизан, названный сын Ульяны, быстро облетела село и станцию. В первую же субботу к Ульяниному двору потянулись люди. В сенях зашумели, загудели незнакомые голоса, заскрипели половицы, беспрерывно хлопала дверь. В тесный сарайчик, который был кое-как обставлен и приспособлен к жилью, один за другим вошли старик Харламов, Ленька-тракторист, Евсей Миронов, хромой пастух, почтальон Гаврила. За ними ввалились молодые женщины в пестрых платках, старушка в черной шали. — Принимай гостей, — с тайной радостью говорила Ульяна Василию, который сидел в чистой выглаженной рубашке, гладко выбритый, расчесанный на пробор. — Ну-ка, народ, проходи вперед. Здравствуйте, люди добрые! Василий с волнением зорко вглядывался в лица, будто стеснялся, что не мог подняться и встретить гостей по-военному, стоя навытяжку. — Многие про тебя в войну слыхали, а иные и в глаза видели, — поясняла Василию Ульяна. — Пришли вот проведать да потолковать про житье-бытье. Первым к Василию приблизился Ленька. Сразу узнал партизана, смущенно засмеялся, оскаливая зубы, протянул загорелую руку. — Здравствуйте, пожалуйста. Не признали? Я — Ленька. Помните, приходил к вам в лес с донесением «Дятел долбит дерево»? На мне тогда был отцовский полушубок и валенки вот такие большущие. А сам я был от горшка два вершка. Прямо как у Некрасова: «В больших сапогах, в полушубке овчинном, в больших рукавицах, а сам с ноготок». Василий вспомнил Леньку, в волнении схватил протянутую им руку, крепкозатряс. — Какой мужичище вырос! Ни за что не признал бы, если бы не нос пуговкой. Как не помнить. Помню! Он дотянулся рукой до Ленькиной головы, потрепал буйную шевелюру. Евсей Миронов остался у порога, с волнением смотрел на Василия, едва сдерживался, чтобы не броситься к партизану. Кинул взгляд на Ульяну, на товарищей, поправил ремень на гимнастерке, словно готовился к разговору с самим генералом или иным важным чином. А Василий все еще разглядывал паренька, похлопывал его по крепким мужицким плечам, любовался складной фигурой. — Молодец! Значит, целый остался? — Ага! Теперь трактористом в колхозе работаю. — Говоришь: «Дятел долбит дерево»? Это о наших подпольщиках. Работа, мол, продолжается, дело идет своим чередом. Понял? — А я до сих пор не знал, какой это дятел, — удивился Ленька. — Вот конспирация, елки-палки. Они оба засмеялись и обнялись. — А еще кто из наших есть? — спросил Василий, оттесняя Леньку и приглядываясь к гостям. Увидел знакомый прищур лукавых маленьких глаз, спрятанных в морщинистых ямочках на стариковском лице. Старик тоже вглядывался в Василия и терпеливо ждал, узнает его партизанский вожак или нет. Но вот он нетерпеливо выступил вперед, стянул с головы шапку, пригладил ладонью сбившиеся сивые волосы. Василий наклонился к старику и тихо засмеялся. — Ты, Харламыч? Сычевский лесник, так, что ли? — И с напускной строгостью крикнул: — Подходи-ка, обнимемся. — Истинный бог, угадал, — закивал Харламов, вытирая кулаком слезящиеся глаза. — Сычевский лесник я, Харламов по фамилии, а по-народному Харламыч. Да я же тебя, орла, сколько разов в лесу прятал, с председателем райисполкома свидание устраивал, царствие ему небесное. Ох, и боевые же были ребята, ничего не боялись! Они обнялись и трижды поцеловались. Потом Харламыч почтительно отступил от Василия, стал в сторонке и все смотрел на него, мотая сивой головой. — Эв-ва, чудеса какие! — Помнишь то место, где была наша землянка в лесу? — спросил Василий старика. — И нашу песню: «Шумел сурово Брянский лес»? — Все помню, как же, — отвечал Харламыч. — На месте землянки теперь памятник стоит, обелиск называется. Мы с тобой поедем туда, все покажу. А как же! Вот он постарался насчет обелиска, наш председатель. Харламыч отступил от стола и показал на Миронова, топтавшегося на месте в большом нетерпении. Миронов резким взмахом руки отстранил людей и четким военным шагом пошел к Василию. Смеясь и плача от радости, обхватил руками своего боевого товарища, крикнул дрожащим голосом: — Это же я, Васька! Василий обнял его голову большими руками. — Миронов? Евсей? Вот радость какая, скажи-ка! Смотрите, это же Евсей, мы с ним сто раз под пулями были. Евсейка, живой? Миронов поднялся во весь рост и отдал честь. — Так точно, товарищ командир отряда, живой. Когда вышли из леса, подался в саперную часть. Вернулся с войны невредимый и теперь служу на мирном фронте. Председателем меня выбрали, колхозную жизнь налаживать пытаюсь. Ох, тяжкая доля! Василий потрепал волосы на голове Евсея, подергал друга за усы. — Чертяка усатый. Гвардеец? — Так точно! Гвардии старшина! — отрапортовал Евсей. Ульяна, довольная тем, что так хорошо удалось расшевелить Василия, молча стояла в сторонке и посматривала на Зинаиду. А медсестра сидела в углу, за спиной Василия, с переменным чувством тревоги и радости ловила каждое его слово, следила за малейшим движением. Ульяна тихо радовалась, видя, как заблестели глаза Василия, как он весь оживился, будто воскрес. Да и сама она все вертелась и двигалась по избе как заводная и ничто не могло ускользнуть от ее живого взгляда. — Ты погляди-ка сюда, сынок! — крикнула Егорьевна Василию. — Кто же это рядом со мной стоит? Усадив рядом с собой Евсея, Василий повернулся на голос Ульяны и увидел стоящего там старика-бакенщика. — Гаврила Игнатьевич! — радостно вскрикнул Василий, протягивая руки. — Наш знаменитый партизанский проводник. А собака жива? Гаврила проворно обтер свои ладони о штаны, потянулся к Василию, встал на цыпочки, так как был очень мал ростом, приговаривал хриплым баском: — Собаке чо делается? Она крепче нас с тобой, жива. — Здорово, верный наш следопыт, Фенимор Купер, — обнял старика Василий. — Истинный Фенимор Купер. Гаврила укоризненно закачал головой, словно обиделся. — И все ты упомнил, ей-богу. Как тогда называл, так и теперь вспомнил. И что ето за такое ругательство, скажи хоть зараз, коли не военная тайна. Все фениморкупер да фениморкупер. Даже вроде стыдно при бабах. Раздался дружный смех. Василий тоже громко засмеялся, заливался до слез. — Был, понимаешь, такой американский писатель, про следопытов хорошо писал, — пояснил он старику, когда умолк смех. — А ты обижался? — Я думал, ругательство какое, — ответил старик. — Оно выходит — писатель, фениморкупер. Вроде, значит, порядочный человек, язви его в маковку. Изба наполнилась до отказа народом, зашумела, загудела как улей. Ульяна сияла от радости, не знала, куда усадить гостей, суетилась. — Да вы садитесь, гости дорогие, садитесь. Гаврила разволновался не на шутку, полез за стол в красный угол. — Гляди, командир, цельный отряд собрался, боевой народ, — балагурил дед, указывая на собравшихся. — Вот хоть и она, Настенька, была в нашем строю. Хоть и мала, а помогала. Теперь видишь, какая невеста выросла. Чудо! Ты, Евсей, смотри за сестрой, украдут ее в другую деревню, а то и в город увезут. Ей-право, самая лучшая в нашем районе невеста. — Ну что вы такое плетете? — вспыхнула Евсеева сестренка Настя и кинулась к дверям, чтобы спрятаться в сенях, но ей преградили дорогу. Зинаида настороженно нахмурилась, сурово окинула взглядом бойкую смазливую девчонку. А Василий только теперь заметил Настю, обрадовался в душе, что она пришла. — Настя — твоя сестренка? — радостно спросил Василий Евсея. — А я и не знал. Вот такая была, совсем махонькая. Теперь в самом деле невеста. — Красавица, в девках не засидится, — похвастался Евсей. — А это кто с тобой? Познакомил бы. Евсей откровенно разглядывал Зинаиду, и непонятно было по его лицу, одобрял он ее или нет. — Не нашенская? С собой привез? — Зинаида Ивановна, — сказал Василий. — Медицинская сестра. Без нее я совсем пропал бы. Она меня лечит. Тоже на фронте была. — У нас будете жить? — обратился Евсей к Зинаиде. — Не прогоните? — Места хватит, работа тоже найдется. Милости просим! — Спасибо, — сказала Зина строго и сдержанно, не поднимая глаз, нервно покусывая губы. Бабы переглянулись между собой и тихо зашушукались. — Что же это у нас музыка молчит? — спохватилась Ульяна и включила репродуктор. — Садитесь, гостюшки, садитесь, милые, будем пить чай и музыку слушать. Из сеней появилась широкоплечая, краснощекая Ефросинья с горячим самоваром, поднесла к столу, легко подняла и поставила на край, где была загодя положена новая дощечка. Ульяна стала доставать из шкафчика чашки и тарелочки, а Настя ловко расставляла посуду, считая про себя гостей и соображая, хватит ли всем чашек. В дверях появились Лизка Скворцова и ее муж в больших солдатских сапогах. — Можно к честной компании? — пропела ласковым голосом Лизка. — Небось не опоздали к самовару? — Проходите, милости просим, — пригласила Ульяна и стала искать места, куда бы посадить пришедших. Лизка пропустила мужа вперед и, подталкивая его в спину, проплыла за ним к столу. Они по очереди представились Василию, поздоровались за руку. Чаепитие длилось долго, разговорам и воспоминаниям не было конца. Гости гремели чашками, шумно разговаривали, перебивая друг друга. Старик Харламов громко объяснял Лизкиному мужу: — Ты, брат, в армии воевал, а мы тоже не смирно сидели. В леса ушли, немца со всех сторон уязвляли. И вот он был наш командир. Беспощадным тогда назывался. — Да я ж про это слыхала! — воскликнула Лизка. — Ей-право, слыхала. — Слыхала, да не видала! — гордо сказал Гаврила. — Война, скажу вам, бабы, не женское дело. — И окинул взглядом женщин. Те молча держали чашки, с достоинством пили чай. Ульяна все время не спускала глаз с Василия, замечала, как он переменился, будто на него повеяло целительным ветром. — Ты еще не видал нашего колхоза, сынок, — с гордостью сказала она Василию. — Я работаю в бригаде Харламыча, а Леня трактористом у нас. — Ты, брат, непременно наведайся в поле, — радушно пригласил Василия Евсей. — Все хозяйство тебе покажем как на ладони. — Сделай милость, — сказал Харламыч. — Ради бога! Настенька украдкой взглянула на просветленное лицо Василия и, не дождавшись, когда он ответит на приглашение Евсея, торопливо вставила: — А прими́те его в колхоз. Он теперь наш, местный житель. Люди одобрительно зашумели. — Да кто же супротив скажет? — горячо кипятился старик Харламыч. — Горло тому перегрызу, который возразит. Слышь, председатель? Командира в колхоз принимать надо. — Куда же ему от нас? — засмеялся Евсей. — Голосуем единогласно. Теперь будет полноправный с нами. Чаепитие затянулось. По домам расходились на рассвете. Выбираясь из тесного сарайчика, где поселился Василий, колхозники останавливались перед развалинами Ульяниного дома, покачивали головами. — Сколько же домин сожрала проклятущая война. Какие огнем слизала, а какие снарядами снесла, одну пылюку оставила. И тут Лизавета вспомнила, как во время боя они с Ульяной прибежали на подворье, увидали наших танкистов, которые строили переправу. Какая отчаянная была Ульяна в тот день, прямо как полководец Суворов, честное слово. — А помнишь, Ульяна, как ты подошла к командиру и сказала: «Ломайте мой дом, берите бревна для переправы. А война кончится, новый построим»? Об этой истории Лизавета и раньше рассказывала людям. Но Ульяна не любила, когда вспоминали при ней. — Чего уж там говорить! — махнула рукой Егорьевна. — Что было, быльем поросло. — Однако доброе дело и вспомнить не худо, — возразил Харламов. Он затянулся цигаркой, закашлялся, захрипел, засверкал влажными красными глазами. — Вот оно и пришло, времечко, новый дом строить. Подсобим-ка Ульяне всем миром, ребята? Он обвел взглядом мужиков, сдвинул шапку на затылок, будто собирался бежать или прыгать через канаву. — С каждого по бревнышку, а Егорьевне изба. И командиру нашему партизанскому тоже будет хорошее человеческое жилье. — Оно что же, можно! — сказал кто-то басом. — Сообща все легко. — Заслуженное дело. Мужики обступили Миронова. — Как думаешь, председатель? — Моя думка такая же, как и ваша, — твердо сказал Миронов. — Отныне объявляю стройку дома для Ульяны всенародной. Чтобы все до одного работали. Слыхали? — Чего говорить! — Хорошее дело! Все тут же согласились строить Ульяне дом без всякой платы, так сказать, в знак благодарности от общества.
5
На другой день колхозники дружно взялись за топоры и пилы, застучали молотками, зашуршали рубанками. Тесно стало на Ульянином подворье, с веселыми криками и озорными песнями кипела работа от зари до зари. Сверкали на солнце мокрые коричневые спины мужиков, поднимающих бревна под дружный раскат задорного русского крика «Э‑эй, ухнем!». Бойко пританцовывали белые упругие женские ноги, с хлюпаньем и чавканьем месили желтую глину с навозом для обмазки стен. И даже подростки старались изо всех сил, не отставали от взрослых, таскали ведрами воду, подносили горбыли, взбирались на чердак и на крышу. Дом рос как на дрожжах, к концу второй недели намечалось новоселье. Ульяна смотрела на все и радовалась. На ее глазах, словно диво дивное, не по дням, а по часам вырастал на старом пепелище новый дом, точь-в-точь похожий на тот, в котором когда-то жила Егорьевна со всей своей дружной семьей! Уже был поставлен конек, ложилась последняя доска на крыше, вершился последний венец на печной трубе. Новый дом приветливо манил Ульяну, и она готова была переступить порог. Но пока стучали молотки и звенели топоры, нежданно-негаданно нагрянула беда.
Прощание
1
Ночью Ульяна внезапно проснулась в тревоге. Услышала тихий стон Василия, встала, зажгла лампу. Василий метался в постели. — Тяжко тебе? — наклонилась Ульяна к Василию. — Сердце, — прошептал он. — Оборвалось, дышать нечем. Воды! Она метнулась к ведру, зачерпнула кружкой воду, поднесла Василию. Он потянулся губами, но не мог поднять голову и плеснул воду на подушку. Воспаленные глаза сверкнули в полутьме, напугали Ульяну болезненным тревожным блеском. — Испей, сынок, легче станет, — ласково просила Ульяна, подставляя край кружки к его воспаленным губам. Василий опять застонал. В своем углу проснулась Зинаида, мгновенно вскочила на ноги и появилась перед Ульяной босая, в длинной белой сорочке, простоволосая. Тревожно кинулась к постели Василия. — Что с тобой? Господи! Я так и знала, что доведут тебя до беды. Что с тобой, Васенька? Что болит? — Дышать нечем, воздуху нет, — еле слышно произнес Василий и положил обе ладони на грудь. — Давит, как каменная гора. Зинаида достала пузырек, накапала лекарства в стакан с водой, дала Василию. Он послушно выпил, облизал посиневшие губы. Закрыл глаза, стал ровнее дышать, наконец затих, кажется, уснул. Женщины прислушивались к его дыханию, не отходили от больного, не ложились спать. К утру Василию стало хуже. Зинаида сбегала в поликлинику, позвала врача. Дали другого лекарства, положили теплую грелку к ногам. — Откройте окно, пустите воздух, — приказал врач. Окно в сарае было малюсенькое, без форточки, пришлось вынуть две филенки. Пустили воздух, стало легче дышать. — Что же будет, доктор? — спросила Ульяна врача, который сам был встревожен, от растерянности прятал глаза и отворачивался от Ульяны. Он стал протирать очки, пожал плечами, ничего не сказал. — Да как же это? Идите к нему, сделайте что-нибудь, — настаивала Ульяна. — И ты молчишь, Зина. Надо же что-нибудь делать. — Мы делаем все, что в наших силах, — ответил ей доктор. — Уверяю вас. Все зависит от того, как поведет себя организм. Глубокие хронические явления чреваты неожиданностями. Я буду в поликлинике. Если понадоблюсь, позовите. Доктор помыл руки, вытер полотенцем и ушел. Ульяна вернулась к больному. Колеблющееся пламя в керосиновой лампе тихо покачивало на стенах избы тревожные тени людей. Где-то протяжно выла собака, будто жаловалась и звала на помощь. Когда стало уже невыносимо молчать, Зинаида упала на колени, запричитала: — Ты должен жить! Должен жить! Что мне сделать, чтобы ты жил? Не обращая внимания на причитания Зинаиды, Ульяна склонилась к больному, дала еще одну таблетку, как советовал врач. Поддерживая голову, помогла запить из стакана. Василий безучастно принял лекарство, безвольно опустил голову на подушку. — Усни, сынок, все пройдет, — ласково говорила Ульяна, прикладывая ладонь к его горячему лбу. Василий лежал неподвижно, протянув вдоль тела тонкие иссохшие руки. Его лицо было желтое, как лимонная корка, умиротворенное, измученное тяжкими страданиями и неспособное уже больше выражать ни боли, ни отчаяния. На впалых, худых щеках колюче топорщилась серая щетина, губы посинели, глаза тускло поблескивали в глубоких провалах под взъерошенными бровями. На гладком холодном лбу и на кончике заострившегося носа едва заметно поблескивали мелкие капли пота. Василий долго не просыпался, ни на что не жаловался, не принимал ни пищи, ни питья, и только в биении синей жилки на виске давала о себе знать жизнь, теплившаяся где-то в глубине его тела. Так пролежал он весь день и еще ночь. Ульяна сидела у изголовья, прислушивалась к слабому дыханию Василия. Трудно было понять, жив он или умер, и страшно было пошевелиться, нарушить его покой. Но вот он застонал во сне, повернул голову набок, открыл невидящие глаза и снова опустил усталые веки. Стон повторился, дыхание участилось, послышалось приглушенное хрипение в груди. Начался новый приступ жара, лоб покрылся испариной, сухая кожа на губах еще более почернела. Ульяна смочила ложечку в чае, поднесла к его губам, и он жадно лизнул языком капли влаги. Утром пришли два врача — мужчина и женщина. Зинаида в тревоге смотрела на них. Врач был тот самый, что приходил в первый раз, молодой, здоровенного роста, толстощекий, румяный, улыбающийся. Наклонившись над Василием, он вдруг весело кивнул ему, как старому знакомому. — Слыхал новость? «Динамо» выиграло у торпедовцев. Сказать, какой счет? Пять — один! На эту шутку больной никак не реагировал, продолжал стонать, метаться на подушке и тихо шептал: «Позовите Верочку. Куда же она ушла? Верочку!» Зинаида подбежала к кровати, оттолкнула врача своим острым плечом. Ульяна тоже встревожилась. — Ему очень плохо, доктор, — сказала она. — Он бредит. Доктор жестом подозвал пришедшую с ним женщину с беленькой кудрявой головкой, что-то шепнул ей. Она моментально зажгла спиртовку, поставила кипятить бачок со шприцем. Доктор тем временем достал из коробочки стеклянную ампулу, отломил острый кончик, рассыпав на пол крошки стекла. Женщина подала ему шприц, и он сам сделал укол больному. Больной немного успокоился. Уснул. Но вскоре опять застонал, попросил пить. Ульяна дала ему чаю, Зинаида принесла стакан молока, но Василий отвернулся и неприязненно сморщился. Жар не понижался, биение пульса почти не прощупывалось. Через некоторое время доктор сделал еще укол. Улучшение не наступило ни через час, ни к вечеру, ни ночью. Больному становилось все хуже. И доктор, и его помощница, и Ульяна с Зинаидой не отходили от постели Василия. Ульяна сидела у его изголовья и белым платком вытирала бледный мокрый лоб Василия, приговаривая ласковые добрые слова. — Держись, касатик... Все пройдет, исцелятся твои раны тяжкие... А в доме заканчивали отделку. Работали при свете дня и ночью при керосиновой лампе, старались не стучать, разговаривали тихо. Один за другим в сарай заглядывали люди, молча стояли, сочувственно кивали Ульяне, жалели Василия. Приходили Лизавета, Харламов, Ленька. Миронов долго шептался с врачами, строго наказывал: — Вы смотрите тут, сами знаете, какой человек.
2
На третьи сутки Василию стало совсем плохо. Он умирал. Беленькая врачиха в отчаянии смотрела на своего коллегу, бодрого доктора, как бы взывала о помощи. Доктор, отвернувшись, угрюмо стоял у окна. Ульяна с отчаянием и надеждой смотрела на доктора, терпеливо ждала от него чуда. Он молча пожал плечами, беспомощно опустил руки. Уткнувшись лицом в одеяло, плакала Зинаида, стоя на коленях перед кроватью. — Что же вы стоите, доктор? — крикнула наконец Ульяна. — Он же умирает, помогите ему! Доктор вздохнул, обреченно развел руками: — К сожалению, природа сильнее нас. — Да нет же! Нельзя так, мы же люди! Она бросилась к Василию, разорвала рубашку на его груди, откинула одеяло, резким сильным взмахом руки вышибла последнее стекло в окне. В комнате повеяло ветерком. Больной медленно вдохнул воздух, шевельнул губами, снова вдохнул, но теперь уже глубже, и еще раз — глубоко. Постепенно дыхание становилось равномерным, было видно, что больной спит глубоким сном. Доктор и его коллега с белыми кудрями ушли, оставив необходимые лекарства. Ночью Василий внезапно проснулся, открыл глаза. Обвел взглядом вокруг, посмотрел на Зинаиду, задержался на Ульяне. Улыбнулся, слабым голосом сказал: — Сколько прошу у Зинаиды гречишного меду, а она не дает. Страсть как хочется. — Господи! — встрепенулась Зинаида. — Когда это было! Я же покупала, ты все съел. — Я сейчас хочу. Смерть как хочу меду. Зинаида быстро накинула платок, схватила с полки какую-то посудину, собралась бежать. — Куда это ты? — За медом же! Я мигом! Она выскочила во двор, скрылась в темноте. Ульяна присела к больному, положила ладонь на его горячий лоб. — Спи, сынок, Зина скоро придет. Спи. Зинаида в отчаянии бегала по деревне. Разбудила соседей, обошла все дворы на своей улице, пробралась на соседнюю, стучалась подряд во все ворота, но меду ни у кого не было. Что делать? И тут пришло ей в голову отправиться домой к заведующему продмагом. Подняла его с постели, объяснила свою просьбу. Он молча выслушал Зинаиду, почесал в затылке, сокрушенно сказал: — Вот досада какая, девушка. Нет меду ни в магазине, ни на складе, да и вряд ли во всей округе сыскать можно. Не знаю, что посоветовать. Плохо дело, поверь мне. Зинаида вернулась домой черная как смерть. Встретив ее на пороге, Ульяна проводила Зинаиду в комнату, подвела к Василию, сказала ему ласковым голосом: — Зинаида несла тебе мед, да нечаянно споткнулась и разбила банку. Теперь я пойду, жди меня, я скоро.
3
Ночь была темная и прохладная, шумел ветер, гнал по небу тяжелые тучи. Затянув потуже платок на голове, плотно застегнув пальто, Ульяна быстро шла через огород на другой порядок, к дому колхозного кладовщика. Перелезая через плетень, шлепая по лужам, добралась до светящегося окошка, сильным ударом кулака постучалась в раму. Стекла жалобно задребезжали и затихли. Вскоре изнутри отдернулась занавеска, и мужское усатое лицо спросило: — Чего надо? — Это я, Ульяна. Насчет меду хочу попросить. Может, хоть капля в твоих закромах. Он опустил занавеску и вышел из избы. — Да ведь спрашивали уже. Сказал — нету ни в магазине, ни на складе. Что это вам ночью мед потребовался? — Сын умирает, — сказала Ульяна, — Где хочешь достань, хоть из-под земли, хоть со дна морского. Одну только баночку. — Вот беда! — огорченно покачал головой завхоз. — Ежели так приспичило, иди по Коровьему тракту до самого кургана, а там супротив линии передачи найдешь пасечника. Только у него и разживешься медом, больше нигде нет, говорю тебе ответственно. Коровьим трактом называлась старая, мощенная булыжником дорога, которая вела в другой город. Обычно здесь проходили грузовые машины и проезжали колхозные брички, но в эту глухую ночную пору никого не было. Ульяна шла, спотыкаясь на ухабах, готовая пуститься бегом. Шла долго и не могла понять, сколько еще осталось пути, далеко ли, близко ли? Незаметно стало рассветать. Она увидела, что шагает вдоль неоглядного поля, распаханного под черный пар. Все тонуло в пасмурном мареве, сизый утренний туман не рассеивался, вскоре стал накрапывать дождь. Ветер рвал платок с головы Ульяны, гнал через дорогу перекати-поле. Земля размокла, под ногами хлюпала грязь. Ульяна шла, пока не увидала железные фермы линии передач и обвисшие над Коровьим трактом тяжелые провода. В тумане маячил курган. Осмотрелась по сторонам, заметила небольшой домик у лесной опушки и столбик сизого дыма над крышей. Свернула с дороги, пошла через топкое вспаханное поле. Жирная земля липла к старым солдатским ботинкам, шагать становилось труднее, будто к ногам привязали тяжелые гири. Вскоре навстречу ей выскочила большая желтая собака, хрипло залаяла, оскаливая пасть. Из хаты вышел высокий худощавый старичок в полушубке, с непокрытой седой головой, отогнал собаку. Выслушав незнакомую женщину, повел ее в дом, достал из подпола банку меду, получил деньги и только после этого внимательно посмотрел на гостью. — Продрогла, поди? Хошь, чайком угощу, куда спешить, погода дурная. В обратный путь шагать было еще труднее. Дорога размокла, ухабы и рытвины наполнились холодной дождевой водой, идти было скользко, худые ботинки промокли, ноги зябли, от сырой одежды коченело все тело. Прижимая банку к груди и оберегая ее, как жизнь, Ульяна боялась споткнуться и уронить посуду. Измученная и усталая, она услышала за спиной шум мотора, сошла на обочину, оглянулась. По дороге бежала полуторка, разбрызгивая в стороны жидкую грязь. Ульяна подняла руку, хотела попросить, чтобы подвезли, но машина быстро промчалась мимо. Женщина с досадой посмотрела вслед машине с порожним кузовом и пошла своим путем. К счастью, вскоре показалась еще одна машина, и, когда Ульяна сошла с дороги, шофер притормозил и крикнул из кабины: — Садись, мамаша, подвезу! Ульяна села в кабину, сказала доброму молодому парнишке: — Если можно, сынок, вези меня быстрее. Человека от смерти спасать надо. Паренек включил газ, и старенькая потрепанная машина с грохотом покатилась по мокрой ухабистой дороге. У переезда через железную дорогу машина всеми четырьмя колесами погрузилась в большую мутную лужу, проскочила через нее и у самого края бухнула в глубокую выбоину: От сильного удара об острый камень лопнул передний скат и со свистом и бульканьем выпустил воздух. Машина наклонилась набок, подпрыгнула несколько раз и остановилась. — Вот язви его в душу, — выругался шофер и выскочил из кабины. — Придется загорать, мамаша, скат лопнул. Он достал кисет из кармана, сел на приступку и стал закуривать, не обращая внимания ни на что. — Долго будем стоять? — спросила Ульяна. — А черт его знает? Пока кто-нибудь из проезжих не выручит. На трех колесах не поедешь. Ульяна спрыгнула на землю и пошла, скользя и хлюпая по лужам. К дому добралась в середине дня. Дождь уже перестал, ветер утих, и кое-где в облаках проглядывало небо. Ульяна торопливо толкнула калитку и поспешила через двор к крыльцу. Она увидела собравшихся на крыльце и печально стоящих людей и доктора. Это поразило и испугало ее. Она живо поднялась по ступенькам, прошла сквозь расступившуюся толпу и почти бегом ворвалась в комнату, где лежал Василий. Белокурая докторша остановила ее в дверях, выпучив испуганные глаза и расставив тонкие маленькие ручки. Ульяна оттолкнула ее, перешагнула порог, бросилась к кровати. Там на подушке она увидала покойное, умиротворенное лицо Василия и, к ужасу своему, поняла, что он мертв. И в ту же секунду, как черная птица, взметнулась перед ней Зинаида, стеной встала между Ульяной и тем, кто неподвижно лежал на кровати. — Не дам его, не дам! — истерически закричала Зинаида, отталкивая руками Ульяну. — И мертвого никому не отдам. Он мой! От сильного толчка Ульяна выронила банку с медом. Банка ударилась о твердую половицу, разбилась. Желтый, как расплавленное золото, мед густым пятном растекался по чистым сосновым доскам...
4
Дом был готов, ждал своих хозяев. Василий побывал в новом доме мертвый в желтом сосновом гробу. Здесь люди прощались с Василием, отсюда унесли его на кладбище. После похорон Василия убитая горем Зинаида уехала к своей тетке в далекий городок на Волге. А Ульяна три дня безвыходно просидела в избе, никому не открывала дверь, не раздевалась, не ложилась спать, не принимала пищи. Сидела за тесовым столом на широкой струганой лавке, обхватив руками седеющую голову. На четвертый день открыла Лизавете. — На работу придешь ли? — спросила Лизавета, опасливо поглядывая на старую своенравную подружку. — С коровой что делать-то? Пригнать тебе или пускай Дунькиных детишек кормит? — Пускай пользуется. Мне корова сейчас ни к чему. А вернусь домой — заберу. — Опять куда собралась? — удивилась Лизавета. — Чего искать на чужой стороне? — Ниточка оборвалась, и конец потерялся, — загадкой ответила Ульяна. — А я все одно найду. Не должна же кончаться линия жизни. — Может, пойдешь на ферму? Трудно нам без тебя управляться, ей-право, скажу, брехать не стану. Иди поработай. И меня отпустишь денька на два, мужнины сапоги и пиджак отвезу в Покровское, говорят, там можно сала выменять. — Не гневись, Лизавета, не могу остаться. Об одном прошу: поберегите мою корову, может, неделю, а может, и две. — Ладно уж, — сказала Лизавета подруге. — Езжай куда хочешь, твое дело. Адрес хоть оставь, куда едешь-то. — Скажу, когда возвернусь.
Мать
1
Ульяна решила во что бы то ни стало разыскать сынишку Василия, что остался в селе Смолярном у Варвары Суворовой. Можно было бы сначала написать этой женщине, да разве через бумажку узнаешь все, что могут сказать живые люди? Лучше поехать самой, так будет вернее. Нет уже больше терпения сидеть в неизвестности. Василий сам мечтал разыскать сына, все говорил Ульяне: вот поправлюсь, встану на ноги покрепче и поеду. Однако ж не сбылось его желание. Ульяна в который раз переворошила старые вещички, лежавшие в сундуке, отобрала кое-что годное на продажу, достала самовар, купленный перед войной, начистила его до блеска и все отнесла на базар. Пожалуй, вырученных денег хватит на поездку, а там видно будет, как дальше жить. В вагоне Ульяна уселась возле окошка, молча поглядывала на пассажиров, которых было много, и все везли с собой какие-то узлы, мешки, бидоны, ведра, фанерные чемоданы. Люди неугомонно копошились в тесноте, одни громко спорили, другие тихо разговаривали, пили, ели, считали деньги, играли в карты. Красивая чернобровая баба заплетала косу, качая на сильных коленях распеленутого ребенка, покрасневшего от духоты и беспрерывного натужного крика. Перед лицом этой женщины со второй полки свисала и качалась, как маятник, чья-то нога в старом солдатском сапоге. «Куда ж это едут бедные люди? — думала Ульяна, поглядывая на пассажиров. — Забились в вагон, как овцы в овчарню во время ненастья. Сидели бы дома, работали, так поди ж ты, видно, время такое, нельзя иначе». В вагоне была духота и вонь. Запах рыбы, человеческого пота, детской мочи, самосада и махорки, дегтя, керосина и еще бог знает чего густо смешался и висел над всеми. Табачный дым сизыми хлопьями плавал над головами, окутывал лица. Ульяна пыталась приоткрыть окошко, чтобы глотнуть свежего воздуха, но это ей не удалось: оконная рама была наглухо прибита гвоздем. Поезд шел медленно, часто останавливался и подолгу стоял. Прошел почти целый день, а проехали совсем немного, все еще тащились по Брянской области. На вопрос Ульяны, далеко ли до ее станции, люди отвечали, что близко, и она все время сидела наготове, не выпуская из рук своего узелка. На душе было беспокойно и радостно. Казалось, чем ближе подъезжает она к тому месту, где жил неведомый ей мальчик, тем роднее становился он для нее. Думая о том, что скоро увидится с малышом, она молила бога, чтобы судьба не послала ей какого-нибудь нового крутого поворота. На станцию приехала утром, когда еще только забрезжил рассвет. Тамошние люди указали ей место у сельпо, где каждый день останавливались приезжающие из колхозов и деревень машины да подводы, авось кто-нибудь довезет Ульяну на попутных. На счастье, так и случилось: один из шоферов (видно, недавний солдат, в выгоревшей гимнастерке и начищенных сапогах) сказал Ульяне, что после обеда поедет в свою МТС как раз через село Смолярное и подбросит ее. Здесь, мол, недалеко, километров тридцать. Он усадил женщину рядом с собой в кабине, сам оказался словоохотливым человеком, всю дорогу рассказывал и расспрашивал спутницу. Рассказывал он все больше про войну, особливо про то, в каких краях воевал, какие брал города, сколько было ранений и какие получил награды. Выяснилось, что он освобождал польский город Варшаву и последний раз был ранен в голову осколком снаряда при форсировании реки Одер на германской границе. От этого осколка на всю жизнь осталась отметина повыше правого уха, где белел широкий толстый рубец. — Вот она, пожизненная печать, — весело засмеялся шофер, снимая фуражку и показывая шрам. — И на том спасибо, что голову не снесло. О многом успел рассказать этот говорливый человек, пока машина бежала по тряской пыльной дороге, подпрыгивая и громыхая на буграх и выбоинах. Успел похвалить своих прежних командиров и поругать свое сегодняшнее начальство, сокрушался о колхозных делах, с удовольствием вспоминал о боях и походах, хотя и там «не без урону было», как он выразился. Ульяна слушала его, думая о своем, а когда он умолк и стал прикуривать самокрутку, спросила, не знает ли он Варвару Суворову в Смолярном. Он затянулся горьким дымом, подумал и твердо сказал: — Такой не знаю, не слыхал. Вскоре за лесной полянкой на пригорке показалось село Смолярное. Бывший солдат лихо промчался по улице, разгоняя с дороги кур и собак, остановился в центре села у небольшой церквушки, обнесенной ветхой оградой. — Приехали, — сказал он, весело осклабившись. Ульяна стала развязывать платочек с деньгами, чтобы заплатить шоферу. Он сердито замахал руками и высадил ее из кабины. — Какая богачка нашлась, самой пригодятся. Не обижай солдата. Прохожий старичок с палочкой показал Ульяне избу Варвары Суворовой. — Нынче там, слышь, совсем другие люди живут. Перчихина дочка с мужиком своим поселилась, как он кузнец справный, правление дозволило ему Варькину избу занять. — А сама она где? — встревожилась Ульяна, продолжая идти за дедом, загребающим пыль на дороге большими залатанными калошами, подвязанными к ногам узловатыми бечевками. — Идем в избу, там все узнаешь, — сказал дед, взглянув на женщину грустными слезящимися глазами, спрятанными под сивыми бровями. На крыльцо вышла молодая высокая женщина, с ярким румянцем на щеках, пышными черными волосами, кое-как схваченными на затылке кривым гребешком. Шлепая босыми ногами по деревянным половицам, она выпростала подол юбки, подоткнутый за пояс, пригласила гостей в избу. Выслушав Ульяну и узнав, зачем она приехала, хозяйка с участливой бабьей жалостью подсела к неожиданной гостье и рассказала все, что знала про Варвару Суворову и ее детей. Сидевший на лавке старик, упершись подбородком на сухие костлявые руки, положенные на палку, воткнувшуюся острым концом в щель старого пола, молча слушал рассказ своей односельчанки и слабыми кивками подтверждал ее слова. — Варвариного мужика на войне убили, а сама она захворала и померла еще позапрошлой зимой. И никаких ее родственников в наших местах не сыскалось, а может, кто и есть поблизости, да смекнул, что об детишках малых надобно подумать, так с испугу не заявился, — рассудительно говорила дородная, краснощекая хозяйка, ломая брови над переносицей, чтобы выразить свое сочувствие чужому горю. — Да и то сказать, теперь не знаешь, чем своих детей кормить, а где уж о чужих думать. А у Варвары трое осталось, двое родненьких, кровных, да один совсем чужой мальчонка, партизанский сын. — Как его звали, мальчонку-то? — спросила Ульяна, чтобы убедиться, точно ли напала на след Васиного сына. — Меньшого? Петенькой. Как родная мать, когда еще не была убитая, назвала, так он и остался Петькой прозываться. Петрушкой, значит. Старик закивал и сиплым голосом подтвердил: — Верно, Петрухой кликали. — А девчонка, как березка стройненькая, Дуняшкой прозывалась, и еще старший из них — Федюнька, значит, если по-уличному сказать. По-правдашнему Федор Пахомович, если по отцу величать, — сказала хозяйка и вздохнула так тяжело, будто несла какую-то непосильную ношу. — Теперь они, сердечные, вроде в каком-то детском доме живут, сказывают, их там кормят по три раза в день, а на праздники — по четыре. Мой мужик весной водопровод делал в одном детдоме, там, говорит, все ребятишки гладкие, только синенькие, может, от холоду или от слабости какой. А так ничего, бегают, озоруют. Не знаю, говорит, там ли Варварины дети али в другом каком дому, не успел узнать, некогда было... — Где же этот дом? Далеко от вас? — прервала Ульяна разговорчивую хозяйку. — Да, может, километров двадцать или тридцать. Поедешь на попутных, довезут. Отдохнув у хозяйки, напившись молока, Ульяна осталась здесь ночевать. Вечером в сумерках, сидя в темной избе, женщины долго говорили о Варваре, о ее детях, вообще о жизни и смерти, и о себе вспомнила каждая, поведала свою боль другой. — Господи, какая я дура! У нас же в деревне живет Зимин, тракторист, что в партизанах был. Может, он что-нибудь про твоего сына да про мальчонку знает, у него и фотокарточки имеются, с военного времени сохранил. Пойдем-ка к нему, он сговорчивый, ничего не таит от людей. Поспрашиваем у него для верности. Хозяйка засуетилась, накинула на голову серый полушалок и повела Ульяну по темной деревенской улице к одинокому домику, где светилось окошко.
2
Все это было для Ульяны каким-то чудом. Тракторист сидел за столом, читал с дочуркой какую-то книгу, а его жена Феня хлопотала у печи, готовила ужин. Как только женщины поздоровались и сказали, зачем пришли, Зимин поднялся им навстречу, усадил к столу, внимательно посмотрел на Ульяну. — Кого же разыскиваете, уважаемая? — Мальчонку ищу. Василия Хлынина сыночка. — Партизана Хлынина? — спросил хозяин. — Его, его. В вашей деревне малый родился, в войну было. — Как же, как же, — сказал тракторист, четко произнося каждое слово. — Про мальчонку кое-что слыхал, а Василия Хлынина сам лично помню. Храбрый был офицер. Да вы садитесь поближе, сейчас будем пить чай, я все расскажу. Где он теперь проживает? — В сырой земле лежит, — спокойно сказала Ульяна. Тракторист опустился на табуретку, тяжко вздохнул: — Помер, значит? Царство ему небесное. А ты вот сынка его ищешь, внука то есть? Все расскажу, что знаю. Извините, не слыхал, что Василия уже нет в живых. Эх, беда! Что сделаешь? Он подкрутил фитиль в керосиновой лампе, в комнате стало светлее. И теперь Ульяна увидела крупную бритую голову тракториста, темные усики под длинным заостренным носом и лохматые черные брови, в которых прятались грустно-веселые синие глаза. — И долго ищете? — Да уже потеряла счет дням и ночам. — Такая она, жизнь наша, — мечтательно и грустно покачал бритой головой тракторист. — Лихие были хлопцы. Сколько их прошло перед моими глазами! И многие, многие не вернулись, славные и храбрые. Я сам дважды прощался с жизнью, да вот, как видите, живу. Подрывником был, в разведку ходил, немецкие танки угонял, чего только не делал, теперь и вспомнить страшно. Достань-ка, Фенечка, мой альбом, кажется, там у меня и Вася Хлынин имеется, и другие товарищи. Худенькая маленькая жена тракториста Фенечка уже успела переодеться в какое-то пестренькое платьице, проворно гремела посудой, собирая ужин для гостей. Она вытерла руки, полезла в сундук, достала альбом с фотографиями. — Сам сделал переплет, — похвастался тракторист. — Это как святцы, на память. Авось чего-нибудь найдем и про Василия Хлынина. Зимин медленно перекидывал листы толстого альбома, задерживая взгляд на каждой фотографии. Не притронувшись к чаю и отодвинув чашку, Ульяна с нетерпением заглядывала в альбом через руку тракториста. — Вы точно помните его, не ошибаетесь? — с волнением спросила она, боясь, что в альбоме не окажется фотографии Василия. — Сейчас проверим. Потерпи минутку, мать. Вот, кажется, здесь. Хозяин наконец вынул из альбома фотографию, показал Ульяне. — Взгляни-ка. На фотографии были сняты несколько офицеров и среди них Зимин и Василий Хлынин. Ульяна дрожащей рукой держала фотографию перед глазами никак не могла найти Василия. Но вот увидала его лицо, узнала взгляд. — Он! — со стоном произнесла Ульяна и прижала фотографию к груди. — Он самый, Василий. Тракторист в волнении встал, переглянулся с женой. — Ну вот и свиделись, — сказал он Ульяне, ласково дотронувшись до ее плеча, — хоть погляди на него вволю. Ульяна сквозь слезы смотрела на фотографию. А добрый, участливый голос тракториста гудел ей над ухом: — Лихой был офицер, ох, молодчина! Однако перед самым штурмом Минска попал под артиллерийский обстрел, и больше я его не видал, ничего о нем не слыхал. Мы в ту же ночь ушли в наступление. Через год встретил одного знакомого солдата, спрашивал про Василия. Говорит, был слух, будто его в Германии видали перед берлинским сражением. А теперь вон как вышло. Тракторист опять глубоко вздохнул, смолк. — Жить бы ему да жить. Молодой, — сказала Ульяна. — Да, видать, не судьба, не вынес тяжелых ран. Теперь вот сыночка его разыскиваю. — Человек не иголка, — откликнулась Фенечка от печки. — Только постараться, можно найти. Куда денется? Тракторист поддержал жену: — Конечно, надо искать! Пойдем по следу, найдем, кого ищем. Ульяна протерла глаза краем платка, снова уставилась на фотографию. Зимин продолжал перелистывать свой альбом. Нашел еще одну фотокарточку, показал Ульяне. — А вот еще. Узнаешь? На фотографии были сняты двое, стоящие во весь рост у входа в лесную землянку. И на этом снимке Ульяна узнала Василия. Таким она увидала его в своей избе той памятной ночью, когда он впервые появился перед ней в стеганой фуфайке и бараньей шапке. И на фотографии он был точно такой же, стоял во весь рост, улыбался, повернувшись к молодой круглолицей девушке в крестьянской одежде и сером платочке. — Ровно живой, — прошептала Ульяна, внимательно разглядывая фотографию. — Даже фуфайка та самая, да и шапка, будто снимался в тот день, перед самым приходом ко мне. И не ждал, не ведал, чем кончится наша нечаянная встреча. — Значит, твой сын? — переспросил тракторист и поежился от какой-то неловкости, словно трудно ему было продолжать этот разговор. — Он самый и есть. Да вот беда, стоит себе, улыбается, а слова не скажет. Зимин откашлялся, прикрыв рот широкой ладонью, достал платок из кармана, вытер вспотевший лоб и разгоряченное лицо. — Ну, а ее-то узнала? — выпалил он одним духом, не глядя на Ульяну. — Про кого еще спрашиваешь? — подняла глаза на тракториста Ульяна. — Да про нее же, которая рядом с сыном снятая. Или сразу не разглядела? Ульяна снова уставилась на карточку, стала пристально разглядывать лицо красивой девушки в крестьянской одежде. Внезапно охвативший Ульяну новый прилив душевного волнения мешал ей смотреть и одновременно думать и вспоминать. Такие лица встречались ей в жизни: и улыбка на сомкнутых губах, и лукавство в веселых глазах, и вздернутый кверху нос, и тоненькие брови, и ладная фигурка, все в отдельности как будто знакомое, а человека не узнать. Нет, никогда не встречалась Ульяна с этой девушкой. — Да откуда же мне ее знать? — печально покачала головой Ульяна. — Не доводилось встречаться. Кто это? — Приглядись-ка получше, может, узнаешь. «Никак та самая Вера?» — подумала Ульяна. И тихо сказала: — Нет, не знаю ее. Зимин вздохнул. — Значит, не говорил тебе сын. Это же его жена, Верочкой звали. Красавица, каких мало сыскать. — Про Верочку говорил. Сказали люди, что убили ее. Правда ли? Ты-то про нее что знаешь? — Мой рассказ будет неутешительный. — Не томи душу. Говори всю правду как есть. — Так вот какое дело, мать, — продолжал Зимин. — Была эта Верочка разведчицей в отряде. С твоим Василием по тылам ходила. Оба молодые, полюбили друг друга, стали мужем и женой. И пришло время, когда у Верочки должен был родиться ребенок. А тут как раз немцы пронюхали про отряд и каждый день наскакивали, покою не давали, с насиженных мест гнали. И начались у нас рейды, маневры, бои с противником. Жалко нам стало бедную Веру, мы и пристроили ее здесь вот, в лесной деревушке, унадежных людей. Тут она благополучно родила, а как поправилась, опять пошла в отряд. Васю искать. Да только не довелось им больше свидеться в жизни. Вася с отрядом был уже далеко, в другом месте, а Верочку схватили по дороге полицаи, повели в гестапо. Ну, она видит, дело плохо, попалась в капкан. Вырвала у одного полицая пистолет, двоих мучителей на месте ухлопала и себе пулю в лоб пустила. Отчаянная была девка, живая не сдалась... Ульяна слушала молча и все смотрела на фотографию. — И Варвара тоже померла, — сказал Зимин после паузы. — Ребеночка в детский дом увезли, вместе с ее ребятами поместили. — А в какой дом? — спросила Ульяна. — Не знаешь, как называется? — В точности говорю: детдом имени Дзержинского. Тридцать верст, а может, тридцать пять, не больше. Все, что сказал тебе, истинная правда, спроси любого в нашем селе, каждый скажет. А карточки возьми себе. Кто знает, как жизнь повернется, может, пригодятся. Утром хозяйка испекла хлеб, дала Ульяне целый каравай и проводила ее к дороге, где надо было ждать оказию, в сторону детдома имени Дзержинского. К обеду подвернулась попутная бричка, с двумя бабами и одноногим мужичком с костылями. Они потеснились, подбросили травы в кузовок, усадили с собой Ульяну и отправились в путь.
3
Старая бричка, скрипя и подпрыгивая, медленно катилась через леса и поля, петляла узкими проселочными дорогами. Одноногий усатый мужик изредка подергивал вожжи, покрикивая на тощих лошадок, покорно бредущих в упряжке. К вечеру остановились на краю какой-то деревушки, пустили лошадей пастись на лесной опушке, устроились на ночлег. Утром снова отправились в дорогу, в течение дня два раза останавливались на привал и на закате добрались до того места, где стоял большой старый дом за покривившимся забором. Перед домом тускло поблескивала вода в заросшем грязном пруду, а невдалеке, под старыми липами, приютились два покосившихся деревянных сарайчика. Между сарайчиками был сооружен дырявый навес из тонких жердей, и под ним стояла ветхая одноконная телега с поднятыми кверху оглоблями. Тут же в густой траве паслась рыжая лошаденка, с полным равнодушием к окружающему миру выбирала шершавыми губами мягкие зеленые стебельки и лениво с хрустом срывала их, оскаливая крепкие белые зубы. Ульяна попрощалась со своими попутчиками, взяла вещички и через покривившиеся ворота вошла во двор детского дома. В этот час все дети и воспитательницы были в столовой, ужинали. И на дворе показалась только одна фигура бородатого высокого мужика, в рыжих сапогах, потрепанных галифе из синей диагонали, в подпоясанной белой рубахе. Это был конюх Антон Ревякин. Он выслушал Ульяну, провел ее в пустой кабинет заведующей детским домом, оставил одну, а сам пошел искать начальницу. Едва затихли шаги бородача, как дверь кабинета стала поминутно открываться, из коридора заглядывали любопытствующие детские личики. То одна, то другая стриженая головка высовывалась в просвет, сверкали лукавые глазенки, улыбались то круглые, то вытянутые физиономии. Ульяна ласково смотрела на детей, приветливо кивала им. Дети сразу же осмелели, перестали прятаться за дверью, а одна черноглазенькая, бойкая девочка с родинкой под правым глазом смело прошла в кабинет, подбежала к Ульяне, доверчиво остановилась перед ней и спросила: — Ты моя мама? Ты за мной приехала? Ульяна погладила девочку по стриженой головке, прижала к коленям, с горечью в сердце сказала: — Нет, милая. Я не твоя мама. Ты меня не разглядела, потому что здесь уже темно. Твоя мама совсем не такая. Ты соскучилась по ней? Девочка медленно попятилась назад, резко отвернулась и убежала. Дети притихли за дверью, а сердце Ульяны сжалось от боли. Но вот в коридоре раздались шаги, дети с шумом убежали. В кабинет вошла заведующая детским домом, немолодая женщина, с седыми, гладко зачесанными волосами, с худым, но не болезненным лицом, высокая, с узкими плечами, крупным бюстом, широкими бедрами. Выражение лица у женщины было серьезное, но доброе, серые глаза прозрачно светились, держалась она подчеркнуто строго, с военной выправкой. На ней было простое серое платье с отложным воротничком, перехваченное поясом, и темные туфли на среднем каблуке. — Здравствуйте, — протянула она руку Ульяне и представилась: — Ольга Степановна Журавкина. Всем своим видом она вызывала чувство доверия и с первой минуты располагала к себе. Ульяна сразу же объяснила ей, кто она и зачем приехала в детский дом. Ольга Степановна получала много писем с запросами о детях, потерявшихся во время войны, а многие приезжали сюда сами. У нескольких детей уже нашлись родители или родственники, пятерых малышей усыновили бездетные супруги. Она каждый раз радовалась, когда детей забирали из детдома в семью, и вместе с тем глубоко переживала разлуку, будто отдавала в чужие руки своего родного сына или дочь. Для Ольги Степановны было очень важно, какое впечатление производили на нее люди, бравшие детей в свои семьи. Она была спокойна за тех воспитанников, которые уезжали из детдома к хорошим людям. И на этот раз она внимательно приглядывалась к приезжей. Ульяна Егоровна вызвала расположение Ольги Степановны. Начальница детдома оставила Ульяну ночевать, весь следующий день провела с ней вместе и не сразу показала Петю Хлынина, хотя и понимала, с каким нетерпением Ульяна Егоровна ждала свидания с мальчуганом. Наконец настал час, когда Ольга Степановна и молоденькая воспитательница Нина пошли за Петей, оставив Ульяну одну в кабинете. В эти короткие минуты Ульяна вспоминала рассказ Ольги Степановны о трудном житье-бытье детского дома, о том, что продуктов отпускают мало, что одежонка у ребят быстро изнашивается, словно горит, а заменить нечем. Приходится нянечкам по ночам, пока дети спят, чинить штанишки и рубашки, ставить заплаты на куртки и пальто. Ульяна подошла к окну, посмотрела на капустное поле, где работали старшие мальчики и девочки, бойко орудуя тяпками и лопатами. Веселый гомон доносился со двора, кто-то пел, вихрастый мальчик с разбегу налетел на приятеля, сбил его с ног. Завязалась борьба, оба покатились по земле, приминая капусту, отчаянно барахтались под свист и улюлюканье других детдомовцев, которые мгновенно окружили борцов. Отрадно было смотреть на эту шумную ватагу маленьких жизнелюбов и тружеников. Их веселые крики, не смолкая, неслись по поляне, эхом отзывались в лесу, который вставал за оврагом высокой зеленой стеной. Глядя на детвору, Ульяна думала о том, как привезет маленького Петю в свой дом, что стоит далеко за этим лесом, и мальчуган станет жить у нее. Подрастет, пойдет в школу, потом начнет работать в колхозе вместе с Ульяной, а когда исполнится срок, уйдет в армию. Вернется из армии бравым и статным, мастером на все руки, женится на самой красивой девушке, а она, Ульяна, будет нянчить внуков и рассказывать им сказки и были о войне, о славных людях, о том, что давно отшумело.. И снова наполнится Ульянин двор весельем, человеческим гомоном, и никогда не заглохнет жизнь в ее доме. Ветер резко ворвался в комнату, захлопнул форточку. Ульяна поняла, что кто-то вошел в кабинет, и повернулась. К ней приближалась Ольга Степановна, держа за руку худенького, с большими синими глазами мальчика, с наголо остриженной головой, с выпирающим лбом. Ульяна растерялась от неожиданности, хотя и готовилась к этой встрече. Внимательно смотрела на мальчика, разг лядывая его всего, с ног до головы. Онв нетерпении протянул к ней тонкую руку, улыбнулся и с разбегу уткнулся в подол. Ульяна схватила ладонями круглую колючую головку, подняла мальчика на руки, прижала к себе. По его манере при улыбке скашивать губы на левую сторону, по разрезу глаз и по большому лбу Ульяна с первого же момента узнала в мальчике черты Василия. Без сомнения, это его сын. — Здравствуй, Петенька. Что же ты дрожишь, как зайчонок малый? — приговаривала Ульяна, поблескивая влажными глазами. — А я тебе гостинца привезла, на станции купила. Возьми. Она торопливо вынула из узелка медовые пряники и конфеты в жестких бумажных обертках, дала кулек в руки мальчику, у которого все лицо зарделось и засветилось. Ульяна и Ольга Степановна растроганно смотрели на Петю, усадили на стул, помогая ему развернуть конфету, которую мальчик сразу же сунул в рот, но не стал грызть, а осторожно посасывал. — Ты узнал свою маму? — спросила мальчика Ольга Степановна. — Угу. Сразу признал, — торопливо сказал мальчик и, чтобы подкрепить свои слова, прижался лицом к рукаву Ульяниной кофты. Ольга Степановна в таких случаях считала необходимым с первой же минуты уверить ребенка, что женщина, которая берет его из детского дома, его родная мать, с которой он был временно разлучен. — Поедешь к маме жить? — Поеду. — Петя придвинулся поближе к Ульяне. — Ну вот и хорошо, сынок, — сказала Ульяна. — Дома у нас хорошо. Молочка будешь пить вволю, сметанку и творожок каждый день ешь, сколько хочешь. А в огороде морковка сладкая, репа белая, картошка рассыпчатая. И лес у нас близко, грибов много, ягод тьма-тьмущая. Петя сполз со стула, положил головку на колени Ульяны, доверчиво слушал ее. — А теперь собирайся. Поедем. На лице мальчика появилось какое-то смятение. — И Федюшка поедет? — спросил он, растерянно глядя на Ульяну и на Ольгу Степановну. — Без Федюшки я не поеду, он же мой брат. Ульяна молчала, а Ольга Степановна вопросительно смотрела на нее, не зная, как реагировать на слова мальчика. — Да где же он, Федюшка? — спросила Ульяна, вспомнив, что это сын Варвары Суворовой. — Сходи за ним, приведи его. — Я мигом, — радостно взвизгнул Петя и помчался из комнаты, прижимая обеими ручонками пакетик с конфетами и пряниками. Ульяна и Ольга Степановна остались одни. Ни та, ни другая не смела сказать ни слова о том, как быть дальше. Ольга Степановна перебирала на столе бумаги, а Ульяна смотрела в окно. Вскоре раздался шум, по коридору затопали детские ножки. В комнату вбежал Петя, он вел за собой мальчика лет пяти и девочку лет семи. Это были Федюшка и Дуняшка. Они тоже держали по прянику и сосали конфеты. Петя смело подвел их к Ульяне. — Вот же моя сестренка Дуняшка и брат Федюшка. Видишь, мамка? — Ну как же, Петенька, как же. Вижу Федюшку и Дуняшку, славные детки, идите ко мне. Ульяна обняла всех троих, накрыла их крупными руками, как наседка накрывает крыльями маленьких цыплят. — Собирайтесь все, прощайтесь с товарищами, поблагодарите Ольгу Степановну, всех воспитательниц и нянечек и — поедем домой. Ну-ка, ребятки, живо собирайтесь. Ольга Степановна с удивлением и восхищением посмотрела на Ульяну. Когда были выписаны документы и совершены все формальности, бородатый кучер запряг лошадь, набросал сена в телегу и подкатил к крыльцу. Ульяна посадила малышей, сама села в середину и, провожаемая всем детским домом, тронулась в путь. Бородач стеганул лозиной тощую лошадку, телега со скрипом покатилась по дороге. Десятки ребятишек долго бежали следом, прощаясь со своими товарищами, кричали добрые слова, махали руками. Но вот они стали постепенно отставать, когда кончилось поле и началась накатанная пыльная дорога, убегающая под своды густого тенистого леса. На третий день путешествия, ранним утром, Ульяна вошла в свою деревню с ватагой босых ребятишек, гордая и счастливая повела их в свой двор. Люди выходили на улицу, высовывались из открытых окон, с уважением встречали Егорьевну, с удивлением и любопытством оглядывали доверчиво идущих за нею детей. — Кого ведешь, Ульяна? — Отколь пострелят набрала? — Кто такие? — Не видите разве? Дети. — Да чьи же они? — А мои, люди добрые. Мои это дети. Она широко открыла калитку, сгребла руками детей, пропустила всех в свой двор. Сама легко и твердо шагнула вперед и пошла за детьми к новому дому.
4
Прошли годы. Ульяна Егоровна Демина, окруженная молодыми людьми, стояла на старой площади родного села у белого обелиска на братской могиле, на том месте, где когда-то фашисты повесили её сына Петра и где теперь на зеленом могильном холме росли цветы. Сюда стекались люди со станции и окрестных деревень, с кирпичного завода и паровой мельницы, собралось множество народа, все были нарядны, как на празднике. Ульянина семья провожала в армию старшего — Федора, которого в доме до сих пор называли Федюшкой. Он был высокий как каланча и, когда говорил с Ульяной или слушал ее, пригибал колени, низко наклонял голову. Ульяна чуть-чуть сгорбилась под тяжестью лет, поседела, но все еще не сдавалась. Положив венки у подножия белого обелиска, Ульяна, Дуняшка, Федя и Петрунька направились через площадь к райвоенкомату. Ульяна шла рядом со своими детьми, бодро шагала, не отставала от молодых. От ее зорких глаз не ускользнул ни один девичий взгляд, брошенный на Федора и Петра. Заметила также, как парни посматривали на стройную красивую Дуню. Ульянино сердце переполнялось счастьем. В саду под яблоней заиграла гармошка. Молодежь танцевала и пела. Женщины, глядя на молодых ребят-новобранцев, улыбались, украдкой вытирали непрошеные слезы. Седеющие и лысеющие отцы храбрились, затягивали походные песни, а то и наливали по чарке, воинственно докладывая обществу о своих боевых подвигах. Но вот окончилось веселье, появились командиры, и звучала команда усаживаться по машинам. Председатель колхоза постаревший Евсей Миронов, заглушая людской шум, зычным, слегка напыщенным голосом прокричал напутственную речь, пожелал всем успехов в боевой и политической подготовке, просил не забывать свой колхоз и по истечении срока службы благополучно вернуться в родные края. — А если кто не вернется домой и дослужится до полковничьего или генеральского чина, — сказал Миронов, — на того наше село не будет в обиде. Пусть служит народу и Родине. Наступили минуты прощания, грустные и торжественные. Первой бросилась на шею Федюшке нетерпеливая Дуня, стройная синеглазая красавица. В стороне стоял Петя, долговязый, застенчивый, с широко расставленными синими глазами, похожий на своего отца Василия Хлынина. Он с завистью смотрел на призывников; ему еще целых два года ждать, когда и его призовут в армию и разрешат пойти в танковое училище, о котором он все время мечтал. Наконец Дуня отпустила Федю, и к нему подошел Петр. Крепко, по-мужски, обнял за плечи, пожал его сильную руку. Потом братья еще раз обнялись и подошли к Ульяне. Терпеливо выжидавшая своей очереди, Ульяна молча приблизилась к Федору, потянулась к нему. Взяла его голову в свои натруженные, шершавые ладони, приблизила к себе, посмотрела в глаза. Потом поднялась на носках и поцеловала Федю три раза. — Прощай, сынок, служи как следует и не забывай нас. — До свидания, мама! — Федор ласково обнял Ульяну. — Все будет в порядке. Получу отпуск, приеду в гости. Ждите меня. А ты, Петруха, не забывай свою мечту про танковое училище. — Будь здоров, ракетчик! — весело помахал рукой Петя. — За меня не беспокойся. Машины уже тронулись, Федя вырвался из рук Ульяны, побежал за грузовиком, ухватился на ходу за борт. Ребята втащили его за руки. Петя, Дуняшка и Ульяна провожали грузовик, пока он не скрылся за поворотом. Ульяна проворно выбежала за угол и еще долго смотрела на уходящие машины, поднимая в руке чистый белый платок, стянутый с седой головы. Она стояла так, пока не разошелся народ и пока к ней не подошли Петя с Дуняшкой и не позвали домой.
К ПОЛЕТАМ ДОПУСТИТЬ
(В основу повести положен истинный случай.)

1
Накануне Дня авиации выдалось на редкость погожее утро. Командир части полковник Слива и замполит майор Червонный раньше обычного появились на командном пункте летного поля, откуда были видны самые дальние окрестности. За бескрайней равниной синела лента реки, а за рекой стоял темный лес. На крутом берегу речной излучины белели стены старой городской крепости, кое-где на церковных куполах уже сверкали яркие солнечные блики. Подъезжали служебные автобусы с летчиками и обслуживающим персоналом. Люди торопливо расходились по своим местам. С каждой минутой аэродром становился оживленнее. Поговорив с замполитом о предстоящих делах, командир части взял микрофон, поздравил всех с наступающим праздником и приказал приступать к выполнению заданий. Летчики выруливали самолеты на бетонные дорожки, брали разбег, уходили в воздух. Рев моторов рвал тишину. На ясном утреннем небе то в одном, то в другом месте появились длинные белые полосы, отмечавшие след стремительно летящих истребителей... В день праздника полеты были отменены, полк отдыхал. В военном городке возле Дома офицеров с утра громко играла радиола, торжественно звучали песни, гремели марши. По центральной улице шагал пионерский отряд. Вытянувшись длинной цепочкой, мальчики и девочки в ярких красных галстуках несли цветы к памятнику погибшим летчикам-героям. На стадион собирались физкультурники. На площадке отдыха играл духовой оркестр. День начался оживленно и празднично. Многие жители городка отправлялись в город, спешили к автобусной остановке. Девушка-кондуктор с красной гвоздикой в петлице синей куртки приветливо улыбалась пассажирам и каждого летчика персонально поздравляла с праздником. Заметив двух молодых лейтенантов, медленно идущих по дорожке, девушка озорно высунулась в открытое окошко и шутливо позвала: — Поторопитесь, мальчики, а то уеду! Не нарушайте нам график. Летчики перепрыгнули через кювет, подбежали к автобусу. — Поехали! — скомандовала девушка водителю и улыбнулась офицерам: — Поздравляю с праздником, желаю весело провести этот день. — Спасибо! — ответил светловолосый круглолицый летчик, пробираясь к свободной скамейке. Его товарищ, смуглый, с черной родинкой на переносице, весело подмигнул девушке: — Бросай работу, синеглазая, пойдем с нами. — Не могу, ребятки, поищите других. Она отвернулась, стала продавать билеты. Молодые лейтенанты Андрей Медников и Виктор Киреев появились в воинской части с полгода назад, но еще ни разу не были в городе, видели его только сверху, из заоблачной выси. Закадычные друзья, они вместе учились в высшем летном училище и по окончании его получили назначение в одну часть. В военном городке все называли их неразлучными, они везде появлялись вдвоем и даже поселились в одном номере офицерской гостиницы. С первого взгляда они казались очень похожими друг на друга. Одинаковый возраст, походка, манера держаться, осанка и летная форма словно маскировали разность их характеров. Однако при всей кажущейся схожести молодые люди имели разные привычки и вкусы, нередко расходились в суждениях о книгах, о любви, о девушках, о спорте. Чаще всего различие вкусов и привычек разъединяет людей, в данном же случае все было наоборот: Андрею и Виктору нравилось спорить, искать истину в противоречиях. Каждому было приятно видеть в своем товарище не повторение самого себя, а дополнение к себе, потому что споры и различия никогда не вносили в их отношения враждебного или недоброжелательного оттенка. Словом, они напоминали героев известной песни «Жили два друга в нашем полку». Конечно же, бывало и так, что «если один говорил из них «да», «нет» говорил другой». Светловолосый и синеглазый Андрей Медников родился и вырос на Урале. В этих краях он чувствовал себя как дома. Виктор Киреев, темноволосый, с узким лицом, карими глазами и черной родинкой на переносице, вырос на юге, он многому удивлялся на новом месте. Когда приехали в город и стали выходить из автобуса, Виктор задержался в дверях, шепнул девушке-кондуктору: — А может, пойдешь с нами? Работа не для таких красивых. Отдай билеты водителю, пусть сам продает. Девушка засмеялась и подтолкнула его в плечо: — Не задерживай движение. Будь здоров, дорогой! Молодые люди, не зная, с чего начать осмотр города, пошли по широкой улице и неожиданно попали в густую аллею, которая вела в городской сад. Под вековыми деревьями в приятной прохладе красовались затейливые клумбы, воздух был напоен ароматом цветов. Кругом тишина, безлюдье, лишь кое-где на скамейках старички читали утренние газеты да две или три молодые женщины гуляли с детьми. Летчикам, привыкшим вставать до восхода солнца, казалось странным, что на улицах мало народу в такое «позднее» время: часы показывали половину десятого. А городские жители в этот час воскресного утра не торопились выходить из дому. Андрей и Виктор постояли у небольшого фонтана, посмотрели на гипсового мальчика, который держал в руках крупную рыбу, выпускающую из открытого рта струю воды. Бросили монетку в прозрачную воду, пошли в городской сад. Под высокими старыми липами пестрели яркие свежевыкрашенные стулья и столики летнего кафе. Молоденькая девушка, в синем платье и белом фартуке, вытирала столики, другая, рыжеволосая, хлопотала за стойкой буфета, звякала бутылками и стеклянной посудой. — Доброе утро, хозяюшка, пивком угостите? — спросил Виктор Киреев, остановившись на дорожке и улыбаясь молоденькой девушке в синем платье. — Закрыто еще, рано. Приходите через час, — ответила она, продолжая вытирать столик. — Договорились. Засечем время. — Киреев посмотрел на часы. Андрей вынул из кармана сигареты. — Хотите сигарету? — предложил он официантке. — Спасибо, не курю, — строго ответила она и с еще большим старанием принялась за уборку. Летчики закурили, пошли по саду. — Далеко не уходите! — крикнула им вдогонку рыжая девушка. — Будут свежие раки. Сад был старинный, кругом стояли столетние липы, могучие широкостволые дубы. В центре виднелась небольшая часовня из красного кирпича с зеленым куполом и золотым крестом. Прямо от часовни сквозь зелень деревьев просвечивали белые стены. Летчики подошли ближе и увидели остатки крепостных укреплений с воротами и башнями, с высокими зубчатыми валами. От старой кирпичной стены вниз спускалась полуразрушенная каменная лестница с выщербленными и разбитыми ступеньками. Сама же крепость стояла на круче, на каменистой части берега довольно широкой и полноводной реки. Говорят, в этой крепости долгие месяцы сидел Емельян Пугачев со своим войском и отсюда совершал набеги в равнинную желтую степь. Медников и Киреев спустились к набережной и снизу оглядели крепостные стены. Во многих местах кирпичная кладка рассыпалась, поросла травой. Желтый песок, веками размываемый волнами реки и потоками талых вод и ливневых дождей, ушел из-под основания угловой башни, и, она теперь сильно покосилась, отошла от высоких кирпичных подпорок, державших ее много столетий. Под развалинами старой крепости с трудом угадывались очертания былых строений, деревянные стропила давно сгнили, превратились в труху, в стенных проломах рухнул кирпич, разбился в пыль, которую смыли дожди и развеяли ветры. Новая часть городского сада, выходящего к реке, и сама набережная своим благоустроенным аккуратным видом как бы вещественно отделяли прошлое от настоящего. По широкой асфальтированной набережной с высоким парапетом и узорчатой металлической решеткой тянулись вдоль реки современные здания кинотеатра, летней эстрады, выставочного павильона и ресторана. Летчики остановились у парапета, залюбовались рекой. С парковой набережной приятно смотреть на противоположный отлогий берег. На зеленом лугу паслись коровы и жеребенок, в небольших лужах плавали гуси. Справа у самой воды толпились высокие старые ивы, наклонившиеся над речкой и прикрывавшие зелеными космами маленькие рыбацкие лодки. За ивами виднелись деревенские избы с покосившимися заборами. От противоположного берега плыла широкая неуклюжая плоскодонка. В лодке сидели две девушки — одна в ярком, пестром сарафане, другая в светлом полосатом платье. Та, что в сарафане, гребла, а ее подружка сидела на корме. На середине реки вода неслась быстрее, чем у берегов. Девушки, стремясь скорее переплыть бурное место, обе взялись за весла, гребли изо всех сил, направляя лодку против течения. Река заметно сносила их вниз, к большому трехарочному железнодорожному мосту, и летчикам, наблюдавшим с берега, казалось, что девчата вот-вот сдадутся стихии, поплывут по воле волн. Взмахи весел все учащались и учащались, девушки работали сосредоточенно и упрямо. Несколько сильных дружных рывков подвинули лодку на гребень течения, потом протолкнули дальше. Еще рывок, еще — и быстрина позади. Лодка медленно удалялась от опасного места, входила на мель, где течение было спокойным и плавным. Теперь можно и передохнуть, берег совсем близко. Первой опустила весло девушка в белом. Она вытерла рукой вспотевшее лицо и, прикрыв от солнца глаза ладонью, посмотрела на набережную. Лодка была так близко, что Андрей и Виктор могли хорошо разглядеть девушек и слышали каждое их слово. Девушка в белом поднялась во весь рост, встала на скамью и, делая вид, что никого не замечает, отвернулась, громко запела:
Внезапно лодка качнулась, подружки испуганно вскрикнули, потом рассмеялись. — Греби теперь ты, я устала, — сказала девушка в сарафане. — Хватит прыгать, садись за весла. Девушки стали меняться местами. Лодка закачалась сильнее. Подружки в испуге схватились за руки и разом присели на корточки. — Тише ты, сумасшедшая! — осадила подружку девушка в белом, хотя сама была виновата. — Не ори, Галка! Свалимся. Девушки пытались поменяться местами, равновесие вновь нарушилось, и лодка опять закачалась. — Возьмите нас в компанию! — крикнул им с набережной Киреев. — Веселее будет. Девушки ничего не ответили. — Знаешь что, Тоня, сиди смирно, сначала я перейду, потом ты, — предложила девушка в светлом платье, но опять неловко оступилась, присела, схватилась руками за борт. — Вот дают! — засмеялся Киреев. — Без капитана, девчата, ничего не получится! — громко сказал Медников. — Держите весла, в воду сползут! Девушка, которую подружка назвала Тоней, схватила ускользающее весло, села на скамейку, стала грести торопливо и беспорядочно. — Греби левой! — подсказывал Медников. — Разворачивай к берегу. Но девушка гребла по-своему — одним веслом, крутила лодку. Ее подружка никак не могла подняться на ноги, держалась руками за мокрый борт, взвизгивала: — Не дергайся, Тоня, голова кружится. Остановись. — Испугалась? — спросил Киреев. — Там воробью по колено, не утонешь. — Да вставай ты, в самом деле, — толкнула подружку Тоня. — Не смеши людей, Галька. Галя порывисто поднялась, выпрямилась во весь рост и, демонстративно отвернувшись от летчиков, с вызывающим озорством сказала подруге: — Хочешь, встану на корму и станцую цыганочку? — Очень надо, — засмеялась подружка. — Если нравится, танцуй. Начинается цирковое представление... Тоня развернула плоскодонку кормой к парку, стала грести к отлогому берегу. — Не поймет нас воздушный флот, не выхваляйся, садись на весла, Галя, поплывем назад. Но летчики не унимались: — Куда же вы, девчата? Хоть бы адрес оставили. Давай задний ход! — Ну-ка ты, бойкая, пляши цыганочку. Струсила? — Видать, на словах она бойкая, а в деле нестойкая. Галя горделиво повела плечами, тряхнула головой, отбрасывая на затылок прямые волосы, ловко прыгнула на корму. Лодка качнулась, вздрогнула. Галя подняла руки, балансируя ими, восстановила равновесие и, не обращая внимания на перепуганную подружку, начала плясать цыганочку, лихо постукивая босоножками по хлипкой дощечке, пристроенной на корме. Лодка вновь закачалась, речная волна ударила в накренившийся борт, разбилась о Тонины ноги. — Перестань, Галька! Белены объелась? — Тоня пыталась схватить подругу за подол. — Уймись же ты! Циркачка доморощенная. Но Галя уже закусила удила, вошла в азарт, все быстрее и быстрее перебирала ногами, отбивая бешеный ритм, вертела бедрами, щелкала пальцами, как кастаньетами, звонко подпевала: — Эх, раз, еще раз! Еще много-много раз! — Не дури, Галька! — молила ее подружка. — Утонем, бешеная! Но Галя не слушала, все больше распалялась и бойчее стучала ногами. — Браво! — захлопал в ладоши Медников. — Давай, давай! Галя осмелела, частой дробью застучали ее каблуки по звонкой сухой сосновой дощечке. Не обращая внимания на покачивание лодки, она бойко отбивала удары и в яром азарте так хлястнула по, доске, что та не выдержала и разломилась. Лодка резко качнулась. Галя взвизгнула, вскинула руки и со всего размаху плюхнулась в реку. Тоня похолодела от страха, поползла на коленях по мокрому днищу. — Держись, Галька! Держись! Где же ты, чертяка? В горле застряло что-то твердое, жестокое, слова вырывались с глухим хрипом. — Га-аля! Га-а-а‑ля! Тоня никак не могла сообразить, в каком месте скрылась Галя, не знала, куда прыгнуть, растерялась. Галины руки неожиданно всплеснулись над волной, судорожно хватаясь за воздух, и тут же опять скрылись. С неожиданным проворством Тоня поднялась на ноги, прыгнула с лодки, стала нырять. Но все ее попытки поймать Галю были напрасны, опасность росла с каждой секундой. Андрей Медников мгновенно сдернул с себя китель и ботинки, бросил Кирееву: — Держи! Его товарищ не успел опомниться, как Медников кинулся в воду. Широко взмахивая руками, быстро доплыл до лодки, и в том месте, где ныряла Тоня, он глубоко вдохнул, набрал воздуху и тоже нырнул. Долго не показывался из воды, наконец вынырнул, не найдя Гали, Оглянулся вокруг, встретился взглядом с тревожными Тониными глазами, опять набрал воздуху и пошел под воду. Раза два он всплывал на поверхность и снова нырял. В другом месте за лодкой ныряла Тоня. Спасатели никак не могли найти утопающую, с каждой минутой росло напряжение, положение становилось отчаянным. Вот и Виктор полез в воду, спешил на помощь товарищу. Вдруг над водой едва заметно мелькнуло Галино белое платье, потом показалось ее лицо и рядом — голова Медникова. Тоня оттолкнулась ногами от лодки, быстро подплыла к Медникову, подхватила подружку, тяжело дыша и всхлипывая. Спасатели молча и торопливо подтолкнули Галю к лодке, с трудом подняли через борт и погнали лодку к берегу. Вернувшийся на берег Киреев взял мокрую Галю на руки, отнес на песок, положил на спину, разорвал платье на груди, начал делать искусственное дыхание. Галя лежала бездыханная, лицо ее стало серым, даже позеленело, как бутылочное стекло. Ноги вытянулись, голова откинулась назад. Киреев сильными рывками разводил ее холодные руки в стороны и кверху, потом опускал, прижимал к диафрагме. Девушка не шевелилась, не издавала ни стона, ни вздоха. Тоня выжала подол своего платья, осторожно вытирала лицо Гале. — Давай! Давай! Сильнее жми! — просила она Киреева, который продолжал делать искусственное дыхание, вглядываясь в Галино лицо. Медников стоял на коленях, осторожно нажимал правой ладонью на Галин живот. — Выше закидывай руки, опускай на диафрагму. — Расстегните пуговицы на груди. — Качайте, пожалуйста. С ней что-то случилось, она же умеет плавать, — умоляла Тоня. Киреев настойчиво делал свое дело. Наконец Галины веки чуть вздрогнули, она медленно открыла глаза, тихо застонала. — Жива? — Тоня схватила за руку Медникова. — Галька! Галя! Киреев отпустил Галины руки, наклонился над ней. — Дыши, Галя. Дыши. Когда Галя увидала склонившихся над ней летчиков в мокрых брюках и рубашках, она сразу поняла, что случилось. Закрывая лицо, порывисто рванулась. — Пустите, я сама! Хотела встать, но Медников удержал ее. К парапету подъехала вызванная кем-то «скорая помощь». Санитары уложили бледную Галю на носилки. Пожилой доктор в черных очках склонился над девушкой, пощупал пульс, неопределенно качнул головой. — Несите, — сердито сказал он санитарам. Доктор с удивлением посмотрел на летчиков и, как бы одобрив то, что они сделали, шагнул за санитарами, потом вернулся, молча пожал летчикам руки и ушел к машине. Вместе с Галей в машине «скорой помощи» уехала и Тоня. На берегу остались Медников и Киреев. Вид у обоих был далеко не парадный. Идти в такой одежде в город или возвращаться в военный городок было невозможно. Глядя на мокрого помятого Медникова, Киреев рассмеялся. — Ну и черт с ним, — сказал Медников. — Все-таки спасли девушку. И кажется, весьма симпатичную. — Еще бы. Богиня Афродита, — сострил Киреев. — Веселая ситуация! — Не отчаивайся, — успокоил Медников. — У нас есть выход. Садимся в лодку и плывем на тот берег. В лодке летчики обнаружили старенькие босоножки, маленькую коричневую сумочку и газовую косынку. Переплыли реку, сошли на берег. Вытащили лодку на песок, привязали к дереву. — А трофеи придется взять, — сказал Киреев. — Может, когда встретим девчат, отдадим. Он взял сумочку и косынку, а босоножки повертел в руках и бросил. Взглянул на Медникова, покачал головой. — Ну и вид у летчика в торжественный День авиации. Посмотрел бы на нас полковник Слива. — Будет полный порядок, — спокойно ответил Медников. — Летчик из любого положения найдет выход. Следуй за мной. Он подмигнул товарищу и пошел через поле к одинокому домику. Киреев шагал следом за ним. Солнце уже горячо припекало, и с каждой минутой было заметно, как обсыхает намокшая одежда. Медников остановился возле домика, осмотрел двор. В тени под деревьями дымил самовар, рядом хлопотала пожилая женщина. — Здравствуйте, — сказал Медников, проходя в калитку. — Не выручите нас из беды? — А какая беда? — добродушно посмотрела на летчиков женщина. — Лодку нечаянно перевернули и одежду замочили. Утюжок бы нам одолжили на полчасика, — попросил Медников. — Господи. Да разве жалко? Заходите! Женщина провела летчиков на веранду, где стоял большой стол, велела располагаться, а сама вышла и тут же вернулась с электрическим утюгом. Через час все было начищено, выглажено, летчики привели себя в порядок и вышли за ворота ее домика, одетые по всей форме. К вечеру добрались до военного городка, завалились в офицерскую гостиницу, где они жили в большом номере на втором этаже. Долго не ложились спать, вспоминая неожиданные приключения прошедшего дня. Не торопясь ужинали, пили чай. — А как же с трофеями? — спросил Киреев, раскладывая на тумбочке взятые в лодке вещички. — Мне косынка, а тебе сумочка, поступай с ней, как хочешь, — заявил Медников. — Идет? — Возражений не имею. Киреев открыл сумочку, похожую на маленький кошелек, стал рассматривать содержимое. — Составим акт осмотра имущества? — Давай без бюрократии. Чего там, показывай. В сумочке были расческа, маленькое зеркальце, семьдесят три копейки и синенькая книжечка — пропуск работницы фабрики «8 Марта» Антонины Федоровны Дронкиной. — Смотри-ка. — Киреев сунул Медникову пропуск. — Симпатичная. Медников посмотрел на фотографию, улыбнулся, узнав девушку. — Глазки как в сказке. Возьми. — А зачем мне? — Тебе досталась, ты и возвращай. — Где же я найду эту Дронкину? — Вот чудак! В пропуске все сказано. Завтра поедешь на фабрику и найдешь разлюбезную Тоню. Подробно расспросишь, как живет, в чем нуждается! — засмеялся Медников. — Кстати, о здоровье не забудь справиться и о здоровье ее подружки и передашь привет от меня. — Вас понял, — сказал Киреев. — Это, кажется, главное, что интересует в этом деле лейтенанта Медникова? — И хорошенько возьми в толк, что подружку зовут Галей, — повторил Медников свою просьбу. — Разберешься в двух именах? Меня интересует, как ты справедливо заметил, именно Галя. — И кажется, весьма смазливая, — подколол Киреев товарища. — Я заметил, что тебе везет на брюнеток. — У тебя есть основания так утверждать? — Опираюсь исключительно на факты. Официантка Катя — брюнетка? Факт. Глаз с тебя не сводит, готова весь полковой рацион перед тобой на стол выставить. А парикмахерша Ира? Тоже брюнетка. Как начнет тебя брить, до того млеет и щечки ладошкой поглаживает: «Не беспокоит?» А сама не дышит, на цыпочках вокруг кресла вышагивает. — Брось сочинять, — буркнул Медников. — Брюнетки, блондинки — все они на один манер. — Я не слепой, давно заметил, что любишь ты брюнеток. И Галя тебе понравилась потому, что брюнетка. — Шаткая почва для обобщений. Перейдем к другому вопросу повестки дня? — Задело за живое? Да я не осуждаю, красивая девушка. — Ладно трепаться, ложись спать. Не забудь завтра на фабрику съездить.
Утром во время завтрака офицеры, как обычно, слушали последние известия городского радио. И вдруг в конце диктор сообщил, что вчера некие молодые летчики спасли на реке девушку и скрылись, не назвав своего имени. — Не из наших ли кто? — оживился младший лейтенант Сенявин. — Вчера многие в город ездили. Киреев и Медников переглянулись. — Надо бы выяснить, товарищи, — настаивал младший лейтенант. — Замполит Червонный непременно похвалит за героический поступок и еще благодарственное письмо родителям напишет. Не знаете, ребята, кто бы это мог быть? — Подумаешь, геройство, — бросил Медников и встал из-за стола, провожаемый преданным взглядом официантки Кати. Вслед за Медниковым ушел и Киреев.
2
В свободное время Киреев действительно уехал в город разыскивать фабрику «8 Марта» и работницу Антонину Дронкину, чтобы вернуть ей пропуск. Первый же прохожий, к которому обратился Киреев, объяснил ему, каким автобусом нужно ехать, и даже довел до остановки. Киреев из окна автобуса знакомился с городом. Проехали по широкой улице, потом свернули на зеленый бульвар. Обогнули пруд, поднялись в гору, подкатили к березовой роще, остановились. Киреев, не торопясь, сошел на тротуар, осмотрелся. Увидел кирпичные корпуса фабрики, которые высились на пригорке за березовой рощей. Белые стволы деревьев выстроились, как солдаты, с обеих сторон черной асфальтовой дорожки. Киреев поднялся по крутому склону и подошел к большому двухэтажному зданию, где была проходная. В проходной стояла высокая пожилая женщина-вахтер в синей куртке, подпоясанной широким желтым ремнем, в коричневом берете, сохранившем форму тарелки. — Скажите, пожалуйста, — обратился к ней Киреев, — как бы мне повидать Антонину Федоровну Дронкину? — А никак, — отрезала вахтерша. — Когда сменится, тогда и повидаетесь. — Я не могу ждать, — попытался объяснить Киреев. — Нельзя ли вызвать ее хотя бы на пять минут? — Кто же вы ей будете? — Да как вам сказать, — замялся Киреев, — просто знакомый. — Ежели ко всем «просто знакомым» вызывать наших девчат, фабрику придется остановить. Понимаете? — А как же быть? Дело-то минутное. Хотел передать ей пропуск. Он у меня нечаянно остался. Вахтерша сокрушенно покачала головой: — Ай да молодежь пошла! То-то она утром плела небылицы. Объяснение про потерю пропуска сочиняла. Оказывается, забыла у кавалера. Она многозначительно поджала губы, выпятила грудь и во все глаза уставилась на летчика. — Да вы не так поняли, — пытался объяснить Киреев, чувствуя двусмысленность разговора. — Пропуск у меня оказался, так сказать, по непредвиденному случаю... — Не глупее других, разбираюсь, — оборвала его вахтерша. — Стойте здесь, не сходите с места. Она решительно сняла трубку висевшего на стене телефона. — Товарищ начальник? Боец Чумакова говорит. Тут гражданин какой-то с пропуском Дронкиной. Ну, той самой, Антонины. Уже задержала. Приходите выяснить. Слушаюсь. Она повесила трубку и строго приказала летчику: — Начальник охраны придет, ему и объясняйте. Тут же из другой двери появился начальник охраны — тучный мужчина, прихрамывающий на левую ногу, в зеленой фуражке с малиновым околышем, с подстриженными усами, в роговых очках. — Вот этот гражданин, — доложила начальнику вахтерша. — Слушаю вас, — обратился начальник охраны к летчику. — Я хотел бы повидаться с Дронкиной Антониной Федоровной. — Из прядильного цеха? — Вероятно. Кажется, из прядильного, — неуверенно ответил летчик. — В рабочее время нельзя, — любезно пояснил начальник охраны. — Этак мы всю фабрику без работниц оставим, ежели всех вызывать на свидания. Оно, конечно, к женщинам завсегда тянет мужчину. Однако нельзя. В рабочее время нельзя. — Да я по делу. — А зачем она вам? — Я насчет пропуска. Ну и на словах кое-что передать. Пятиминутное дело, сами посудите. — Свой пропуск она вчера утопила в реке, когда спасала подругу. Между прочим, тоже нашу работницу. Сережкину, ударницу коммунистического труда. — Наврала она все, — вступила в разговор вахтерша. — Не утопила она пропуск, у него он в руках, у красавца служивого. Никого она не спасала. — Это совершенная правда, Чумакова, — строго оборвал ее начальник. — Утром по радио передавали, и сама потерпевшая Сережкина подтверждает, что тонула в реке и что Дронкина спасала ее. Да еще, говорят, какой-то летчик кинулся в воду, а как вытащил Сережкину на берег, убедился, что живая, тут же и скрылся. Пожелал остаться неизвестным. — Так точно, — подтвердил Киреев. — Только пропуск-то Дронкиной не утонул, а вместе с сумочкой остался в лодке, я его после и взял. — Постойте, постойте! — уставился на Киреева начальник охраны. — А вы разве там были? — Ну конечно. Вот я и принес пропуск да хотел узнать о здоровье потерпевшей. Ее, кажется, Галей зовут? Начальник хлопнул в ладоши, засмеялся: — Да как же я сразу не догадался? Голова садовая. Ведь вы летчик, а я-то рассуждаю. Это ты, Чумакова, попутала, шут тебя побери. Я извиняюсь, товарищ. Пойдемте в помещение, мы вам и Дронкину покажем, и кого хотите. Такому человеку разве можно в чем отказать? Пожалуйста. Посторонись, Чумакова. За мной! Начальник охраны провел Киреева в просторный кабинет фабричного комитета, возбужденно говорил каждому встречному: — Познакомьтесь, товарищи. Спаситель нашей Гали Сережкиной. Слыхали по радио? Молодец, ей-право. Скромняга, настоящий герой. Девушки, позовите-ка живее Тоню Дронкину из прядильного! Сережкиной на фабрике нет, а Дронкина в курсе. Покличьте ее. Вскоре прибежала Дронкина, все расступились, освобождая ей дорогу. Красная от смущения, полненькая, невысокая, Дронкина медленно приблизилась к Кирееву и, не поднимая глаз, тихо поздоровалась. — Здравствуйте! — ответил Киреев. — Вот ваша сумочка. Тут все в сохранности. Возьмите. — Большое спасибо! А то мне влетело за пропуск. Пришлось писать объяснение, вон Семену Ивановичу нашему, — смущенно улыбнулась девушка. — Пустяки, — свеликодушничал начальник охраны. — Формальность требует, для порядка. — А как Галя? Она в больнице? —Зачем ей больница? Дома лежит, отдыхает. Надо же такому случиться: заядлая пловчиха чуть не утонула возле берега. Говорит, когда сорвалась с лодки, так стукнулась локтем, что потеряла сознание и камнем пошла на дно. — И на старуху бывает проруха, — пошутил Киреев. — Передайте ей привет от меня и моего друга. — Какая же она старуха? — засмеялась Дронкина. — А как вы добрались домой? Смешно было на вас смотреть, как мокрые курицы. Вот бы на глаза командиру попались! Женщины тесным кольцом обступили Киреева и Тоню, разглядывали летчика, слушали его разговор с девушкой. — У нас полный порядок. Летчики нигде не пропадут, будьте спокойны. — А я боялась, налетите на неприятность в таком виде... — Проводите меня, пожалуйста, до проходной, — нарочно громко перебил ее Киреев, не желая продолжать разговор в присутствии работниц, набившихся в кабинет. — Я тороплюсь. До свидания, товарищи! До свидания, Семен Иванович! Когда Киреев и Тоня вышли в коридор, он тихо спросил: — Когда мы увидимся? — Не знаю, — пожала плечами Тоня. — Может, на танцах в городском саду. В субботу, если хотите. Мы придем с Галей. Между прочим, она даже не заметила, что вы тоже прыгали в воду. Будто, кроме вашего друга, никого не видала. Только о нем и говорит. И глаза у него, мол, выразительные, и лицо одухотворенное. А о вас ни слова. — Какое это имеет значение? Пусть говорит, о ком хочет. — Конечно, Галя может и не говорить о вас, но это несправедливо. Почему она вас не заметила, хотя вы откачивали ее? Я, правда, сама так перепугалась, что не запомнила, кто из вас беленький, а кто черненький. Тоня взглянула в лицо Киреева, глаза их встретились, и она смутилась. Они миновали проходную, пошли по березовой аллее. Киреев неожиданно сказал: — Кроме вашей сумочки в лодке были босоножки и голубая косыночка. Босоножки мы не взяли, а косыночка у моего друга. — Это Галкина. — Тоня засмеялась. — Галкина косынка в руках ее спасителя. Это судьба. Они обязательно должны встретиться, я сердцем чувствую, что что-то будет. Честное слово, это судьба. — Скажите, Тоня, а у меня может быть судьба? — лукаво подмигнул девушке Киреев. — Скажите честно. — У каждого, наверное, должна быть своя судьба. Только человек не сразу узнает какая. — Может, мою судьбу вы носили в вашей сумочке? — Пропуск? — засмеялась Тоня. — Смешнее не придумаешь. — Конечно пропуск. Если бы не он, я ни за что не нашел бы вас. А теперь от меня не уйдете. — Я к вам веревкой не привязана. — Есть чем привязать покрепче веревок. — Скажите какая самонадеянность. Не зря вас, летчиков, называют хвастунами. Напрасно воображаете, что стоит вам поманить, и любая девушка побежит, как собачонка. Мы тоже гордость имеем. До свидания, мне пора в цех. — Извините, если обидел. — Я не обижаюсь, а предупреждаю: начнешь кусаться, сломаешь зубы. — Принял к сведению, — сказал Киреев, не меняя шутливого тона. — В субботу увидимся? Она не ответила, с достоинством повернулась и медленно пошла назад к проходной. Удивленный неожиданным поворотом разговора, Киреев смотрел вслед Тоне. Когда она отошла довольно далеко, он крикнул: — Придете в субботу? Тоня не оглянулась и не ответила. Скрылась за проходной. — Вот черт, — крутнул головой Киреев. — Характер. Он повернулся и быстро пошел прямо через рощу, не ища тропинок, сминая траву.
3
Киреев долго бродил по городу и никак не мог отвлечься от впечатлений, навеянных встречей с Тоней. Ему очень понравилась девушка. Ее привлекательная внешность, простота и сдержанность в разговоре, милое, открытое выражение лица были приятны Кирееву. Однако неожиданно обнаруженная строптивость расстроила и даже рассердила Киреева. Раздражение долго не оставляло его, но исчезло, когда он вспомнил милую Тонину улыбку, ее добрые детские глаза и мягкий грудной голос. Вечером Киреев пошел в цирк, куда настойчиво зазывали рекламы, развешанные на каждом перекрестке. Однако и здесь его душа не развеселилась. Он едва досидел до антракта, выпил пива в буфете и ушел. Домой вернулся поздно. Медников уже лежал в постели и при свете настольной лампы читал какую-то пухлую книгу. — Где загулял? — спросил он, не отрываясь от книги. Киреев молча раздевался, долго не мог развязать шнурки. Наконец, сбросил ботинок на пол. — В цирке был. — А что такой мрачный? — Программа скучная. Все больше лошади да дрессированные собаки. Не понимаю я артистов: сколько же нужно положить труда и терпения, чтобы выучить кобылу танцевать вальс. А зачем? — Нашел Дронкину? — спросил Медников, не слушая рассказ о цирке. — Ага, — сказал Киреев с равнодушным видом. — Большая фабрика, много женщин. — А Галя? — Все в порядке. Из больницы выписали, дома отдыхает. Между прочим, я, как идиот, влопался в это дело. Прихожу на фабрику, объясняю насчет пропуска, что, мол, вчера в лодке остался, а меня принимают за Галиного спасителя. Ну, понятно же, был в тот момент на реке, к тому же летчик. По всем статьям такой, как передавали по радио. Они мне и зааплодировали. — Ну и что? — засмеялся Медников. — Принял цветы и раскланялся? — В чужой славе не примазываюсь. — Почему к чужой? Мы вместе спасали. — А спасенная, представь себе, бредит только одним. Да я и не возражаю. Я человек не тщеславный. — И глупый к тому же. Мог бы использовать ситуацию в личных интересах и очаровать Антонину Дронкину. Когда сказал про цирк, я был уверен, что ты вместе с Тоней ходил. Киреев взял теплый чайник, хотел налить в стакан, но раздумал и поставил обратно на стол. — Да нет, брат, с Тоней осечка получилась. С виду милосердная сестра, а на язык как бритва остра. — Чем же она тебя срезала? — А леший его знает, как вышло. Самонадеянность подвела. Мы, летчики, привыкли к тому, что наша форма действует на девчат неотразимо, как гипноз. Я и веду себя соответственно, мол, никакого сомнения не может быть; раз она мне нравится, значит, все, у моих ног, и должна делать, что я захочу, только пальцем шевельну. — Разве это не так? — спросил Медников. — Перед летчиком никакая красавица не устоит. Верно сказал — наша форма как гипноз. — А эта ласковая не поддается гипнозу. Говорит: предупреждаю — у меня характер. Повернулась и ушла. Медников схватился за живот и залился смехом, подпрыгивая и корчась на кровати. — Ува... ува-жа‑ю такую жен‑скую по‑ро‑ду, — сквозь смех сказал Медников. — Честно‑е сло‑во, такие интереснее покорных, таких ценить надо как редкость. — А если они молча уходят? — Зато, вернувшись, бросаются на шею, как тигрицы. Покорная овечка тускла, как свечка. — Между прочим, насчет косынки ты угадал. Она Галина, можешь лично возвратить. — Каким образом? Где я увижу Галю? — В субботу на танцах. В городском саду. Это твоя судьба, так сказала тигрица. — Что? — не понял Медников. — Тоня, которая молча ушла и вернется тигрицей, как ты сказал. Медников бросил книгу на одеяло и весело засмеялся. Киреев выключил свет.
Неделя показалась друзьям длиннее обычной. Полеты проходили по расписанию, жизнь в городке текла буднично, без чрезвычайных происшествий и сенсаций. Занятия, обед, отдых, политучеба, кино, иногда поход в библиотеку за новыми книгами. Наконец наступила суббота, и друзья отправились в городской сад. На танцевальной площадке уже собралась молодежь, выступал ансамбль местных гитаристов. Парни с длинными волосами бойко пели модные крикливые песни под громкий аккомпанемент электрогитар. Динамики разносили музыку по всему саду. Танцы только начинались. Подруги стояли на самом освещенном месте у кассы, и летчики сразу увидели их. Девушки были нарядны, с модными прическами, оживленно переговаривались между собой. Высокая и стройная Галя что-то рассказывала подружке, наклоняясь, чтобы та могла слышать ее слова, заглушаемые громким пением и шумом эстрадного оркестра. Ее смуглое лицо с живым взглядом синих глаз и озорной лукавой улыбкой выделялось в толпе и запоминалось своей неожиданной красотой. Тоня слушала подружку, весело отвечала ей, и обе смеялись. Тоня посматривала по сторонам, и нет-нет да и поглядывала на аллею, что вела к танцплощадке. Она первая увидела летчиков, толкнула Галю. Та поняла ее, но не переменила позы и продолжала разговор. Летчики подошли к девушкам. — Добрый вечер, девчата. Извините за опоздание — автобус задержался на пять минут. Теперь мы можем по-настоящему познакомиться, — сказал Медников. — Мой друг Виктор Киреев, а Медников Андрей. Вас мы уже знаем: Тоня и Галя. Они пожали друг другу руки. Это как бы сблизило их, внесло простоту и естественность в разговор. — Как самочувствие? — спросил Медников у Гали. — Все в порядке? — Как видите. Даже на танцы пришла. — Что же мы теряем время? Пойдемте танцевать. Медников пошел с Галей, а Киреев — с Тоней. — За что ты обиделась на меня? — спросил Киреев девушку, пробираясь в толпе и переходя сразу на «ты», — Что я такое сделал? — Когда? — А на фабрике. — Я не обиделась, а предупредила. Оркестр заиграл модный танец. Людской поток хлынул на площадку, увлек за собой наших героев. Галя и Медников танцевали. — Почему вы такая грустная? — спросил Медников, склонившись к Гале. — Не любите танцев? — Ну что вы? Как можно не любить танцы? — Она тихо засмеялась. — А вы? — Я люблю тишину. Шум и толпа утомляют. Пойдемте гулять? — предложил он. — Если согласны, я — за. — После третьего танца, — сказал Медников. — Хорошо. Он танцевал с удовольствием, сразу повел партнершу свободно, плавно и все больше входил в азарт. Он считался неплохим танцором, но теперь сам чувствовал, что танцует хуже ее — этой гибкой огневой девушки, легкой, как птица, верткой, как змея. Он любовался ею и с каждым танцем все более подчинялся ей, стараясь угадать ее движения, все меньше ошибался. Танцы по-настоящему захватили его, кружась с девушкой, он испытывал нечто похожее на чувство удовлетворения от хорошо выполненного трудного пилотажного упражнения. Он словно был в полете, хотя всего-навсего — в «полете танца», как говорили в старину. Кончился третий танец. Медников с сожалением остановился. Придерживая Галю за локоть, повел ее к Кирееву и Тоне. — Уговор дороже денег, — сказала Галя, — пошли гулять. — Мне говорили, вы сильно ушиблись об лодку. — Ужасно глупая история. Мне даже стыдно вспоминать, ведь я хорошо плаваю. — Локоть не болит? — Нет, нисколько. Они долго бродили по темным аллеям. Галя и Андрей шли впереди. Тоня и Виктор отстали на несколько шагов. Киреев что-то объяснял Тоне, она часто возражала ему, и тогда ее звонкий голос перемежался с глухим бубнящим говорком Виктора. Галя больше молчала, лицо ее было серьезно, она слушала собеседника. Выходили к набережной, снова возвращались в глубину сада, то серьезно говорили о звездах, книгах, дальних странах, то весело болтали о пустяках. Тоня заговорила о Чехове, Киреев подхватил эту тему, сказал, что он тоже родился в Таганроге, стал вспоминать чеховские места, сохранившийся домик писателя и все легенды и предания, которые еще не стерлись из памяти таганрожцев. — Это мой любимый писатель, — призналась Тоня и с каким-то особым уважением посмотрела на Киреева, будто тот факт, что Киреев неожиданно оказался земляком Чехова, поднял летчика в глазах девушки. Потом Киреев и Тоня переключились на другие темы, особенно усердно они обсуждали новые песни, спорили о певцах и певицах. — Микрофонное пение — это обман, — горячо доказывал Киреев. — Я люблю натуральный голос, так сказать — товар лицом, без всякой маскировки. — Новое всегда пробивается с трудом, — возражала Тоня. — Многие не хотят понять, что современная эстрада без микрофона просто немыслима. — Это как кому. — На вкус и цвет товарищей нет... С тех пор летчики и девушки встречались почти каждый свободный вечер. Чаще всего ходили в парк, бродили по набережной, где было тихо и безлюдно. В ветреную и дождливую погоду спасались в кинотеатре. Чем ближе узнавали друг друга, тем больше хотелось быть вместо. Девчата нравились летчикам, и чувствовалось, что случайное знакомство постепенно перерастает в дружбу. Вскоре в части пошли слухи, что полк переведут на новое место. Ребята забеспокоились: не хотелось расставаться с девушками, встречи с которыми становились более частыми, разговоры — сердечными, тревожно-волнительными. Однажды вечером, когда друзья гуляли по набережной, Медников взял Галю под руку, хотел увести в темную аллею, оставив Киреева и Тоню вдвоем. Вдруг Галя озорно оттолкнула Медникова, побежала к реке. — За мной, ребята! — крикнула она. — Пошли водяного ловить. Гоп-ля! Она соскочила с парапета на песчаный берег. Медников прыгнул за ней. Через минуту на берегу появились и Киреев с Тоней. Спустились к реке. Галя сняла туфли и пошла по воде, шлепая босыми ногами, поднимая платье выше колен, чтобы не замочить подол. Медников схватил ее за руку, хотел остановить, но Галя оттолкнула его. — Эх, искупаться бы! Какая вода! Красотища! — Да ну тебя! — остановила ее Тоня. — Посидим на скамейке. — А «скорую помощь» вызывать сейчас или потом? — пошутил Киреев, но никто не засмеялся, и он понял, как это неуместно. Галя швырнула босоножки на песок, стала быстро расстегивать платье, готовая всем на зло броситься в воду. Медников шагнул к Гале, схватил ее за руку. Она непокорно рванулась, но он крепко держал ее. — Ты извини меня, — подошел к ней Киреев. — Я глупо пошутил, а купаться действительно незачем. Обиделась? Ну, хочешь, ударь меня. Галя полушутя-полусерьезно шлепнула его рукой по плечу, «сорвала злость». Пошли к скамейкам, которые стояли почти напротив того места, где когда-то тонула Галя. Чувство неловкости еще не прошло. — А правда, что у вас, у летчиков, в каждом городе, где вы побываете, остается по одной жене? — с вызовом выпалила Галя и посмотрела сначала на Киреева, потом на Медникова, будто проверяла, насколько сильно задели ребят ее слова. Медников почувствовал задиристую нотку в ее голосе. — Глупости говоришь. Сама придумала или слыхала на базаре? — Чего придумывать? Всем известно, сколько жен у моряков и летчиков. В каждом городе по одной. — Почему же по одной? — Киреев попытался свести разговор к шутке. — Вон у нашего Андрея — по две. Тоня прыснула в кулак, Галя рассмеялась. Андрея, однако, задели эти слова, он рассердился. — Не треплись, как белье по ветру! — раздраженно бросил он Кирееву и повернулся к Гале: — Не знаю, как у кого, а у меня будет одна жена, на все города и на всю жизнь. — Не кипятись, мальчик. На больную мозоль наступили? — подзадоривала Галя, заливаясь звонким и раскатистым смехом. — Скорее поверю Виктору, чем тебе. Ты не такой скромный. — С чего ты взяла? — с обидой сказал Медников. — Нашла тему, перестань. — Знаем вас, летчиков-молодчиков, — не унималась Галя. — По своему двоюродному брату сужу, он тоже летчик. Перед училищем женился, оставил жену с ребенком, а теперь пишет из Оренбурга, мол, полюбил другую, не жди меня, у нас была случайная связь. — Зачем же с одной меркой подходить ко всем? Один меняет женщин, как перчатки, другой влюбится раз на всю жизнь. — Все это сказки — любовь на всю жизнь. Свежо предание, да верится с трудом. Правда, Тоня? — Разве их узнаешь? — в тон ей вторила Тоня. — Мужчины скрытные, у них на языке одно, а на уме другое. — Как это у вас называется? — язвила Галя. — Фигурный пилотаж? Мертвая петля? Разговор становился неприятно опасным, и Виктор встревожился за Медникова. — Я пошутил насчет двух жен, девчата, — попытался разрядить обстановку Киреев. — Андрей еще не знает, что такое жена. И о любви только в книжках читал. Он же ангел, посмотрите на него. — А где же крылья? Дома забыл? — спросила Галя. — В капитальный ремонт сдал, — парировал Киреев. Андрей с раздражением прервал друга: — Хватит! Скажи что-нибудь умное. — Шутки перестал понимать? — удивился Киреев. Медников вспыхнул и схватил Галю за руки. — Пойми, Галя, я не шучу, — упрямо твердил он. — Не ради пустой болтовни, всерьез говорю: у меня будет одна жена, на все города и на всю жизнь. Клянусь вам: будет так, как я сказал! Взволнованный и распаленный, он поднял сжатый правый кулак, торжественно повторил: — Клянусь тебе, Галя! — Ну вот еще! — перестала смеяться Галя. — Так я и поверила! Да и как можно проверить, сколько у тебя будет жен? — А очень просто, — сказал Медников, волнуясь, сжимая Галины руки. — Сама жизнь предоставит тебе возможность проверить. Потому что моей женой будешь ты, Галя. Ты! Только ты! Галя оторопела и растерялась. А Андрей неожиданно схватил сильными руками голову девушки, приблизил к своему лицу и стал целовать в сверкнувшие лунным светом глаза, в губы. Она рванулась, как пойманная лань. Забарабанила кулаками в его грудь, наконец вырвалась и отпрянула. Киреев и Тоня с удивлением смотрели на Медникова: такого откровенного, пылкого объяснения никто не ожидал от Андрея. — Эх ты, герой! Силой хватаешь счастье. — Галя рассердилась на Андрея, но вместе с тем старалась овладеть собой. — Всю прическу измял. Медников снова бросился к девушке, поймал ее за руку и твердо, напирая на каждое слово, повторил: — При всех даю клятву и не отступлюсь: ты будешь моей женой! Галя попятилась к воде. — А я вам, летчикам, не верю. Расшумелся, понимаешь, рукам волю дал! Действительно ангел с крылышками! — Галка! — попыталась остановить ее Тоня. — Он же правду говорит. Не видишь, что ли? — Да ну их, много ты понимаешь, — сердилась Галя. — Мастера руками хватать. Да, может, они и не летчики, а наземная служба. И летать-то не шибко сильны, только насчет женского пола большие специалисты. С ними смотри в оба... — Не смей так, Галя! — крикнул Медников. — А чего хватаешь? По какому праву? — По праву любви! — упрямо твердил Медников. — Докажу свою любовь не на словах, а на деле. Приходи в понедельник в восемь утра на это место, увидишь, какой я летчик. — Почему в понедельник? Зачем? — Дай слово, что придешь? Больше ничего не прошу. Придешь? Смущенная напором Медникова, Галя молча потупилась. — Придет, — поспешно ответила за нее Тоня. — Дает слово, что придет. И я тоже. Ну, скажи ему, Галя. Разве не видишь, он серьезно. — Придешь? — настаивал Медников, стараясь заглянуть Гале в глаза. Галя примирительно улыбнулась, взгляд ее потеплел. Она изучающим взглядом смотрела на Медникова. — Придешь? — тихо повторил он. Галя едва заметно кивнула. — Да придет же она, — громко заверила Тоня. — Ясное дело, придет. Медников сорвался с места и, ничего не говоря, побежал в темную аллею. — Куда ты? — окликнул его Киреев. — Вместе пойдем, сумасшедший. Из темноты никто не отозвался. Галя долго стояла у реки, охваченная странным предчувствием чего-то важного. Отчего так забилось сердце и тревожное беспокойство охватило всю душу? Что значат слова Андрея? Неужели это всерьез? Любовь? Разве можно произносить эти слова так просто, как «здравствуй» и «прощай»? — Ну что ты стоишь, Галя? Беги за ним, верни Андрея. Галя не обратила внимания на Тонины слова, стояла не шевелясь. В этот вечер Кирееву пришлось одному провожать девушек домой.
4
Все воскресенье Медников провалялся в постели. Выходил только в столовую и снова возвращался домой, ложился на бок, уставившись лицом в стенку. Был мрачный, не разговаривал, на вопросы Киреева отвечал не сразу, и однозначным мычанием. — Какая муха тебя укусила? — допытывался Виктор, стараясь выразить дружеское участие. — Налетел на Галю как бешеный, вытаращил глазища. Новый Отелло объявился. Допустим, понравилась она тебе, действительно, красивая, ничего не скажешь. Но зачем же так сразу свою бычью силу показывать? Андре молча смотрел в книжку, сердито посапывал, косился на товарища, как на назойливого, надоевшего собеседника. — Чего в молчанку играешь? Пойдем волейбол побросаем? Ребята с утра зовут. Слышишь, Андрей? — Отстань! — огрызнулся Медников. — Не понимаю, чего ты взвинтился вчера? Закипел и взорвался, как бомба, а нынче лежишь пластом. Всех ошарашил, я ни черта не понял в твоих дурацких клятвах. Какой-то отрывок из спектакля драматического театра, извини меня. — Замолчи же ты! Умоляю! — застонал Медников с неподдельной болью в голосе. — Не понял и не старайся, а меня оставь в покое. — Вот, полюбуйтесь. Зверь на свободе, — продолжал Киреев. Медников угрожающе сжал кулаки. — Молчу, — сказал Киреев. — Пожалуйста, спи, младенец мой прекрасный. Медников отвернулся к стене. Киреев взял электрический чайник, достал из холодильника колбасу, масло, рыбные консервы, уселся за стол. Сделав несколько больших бутербродов, налил в стакан крепкого чая, позвякивал ложечкой, размешивая сахар. Ел с аппетитом, набивая полный рот колбасой и хлебом, запивал еду и причмокивал. — Хочешь чаю? — спросил он друга. — Успокаивает нервы лучше всякого лекарства. Налить? Медников молчал. — Чертовски вкусная колбаса попалась сегодня. Чуешь, аромат по всей комнате? От одного запаха сыт станешь. Честное слово, объедение. Острая, с перчиком. Знаешь, у этой брюнеточки купил, у Лидочки. Она тебе нравится? Медников не отвечал. — Говорят, азиаты совсем не могут без чая. День не попьет, с ума сходит. Без чаю, говорит, никакой силы нет, башка болит, душа ничего не желает. Может, налить стаканчик? И бутерброд с российским сыром? Возьми, а? — Отстань! — огрызнулся Медников. Киреев потерял терпение, бросил бутерброд на стол. — Какой ты бегемот толстокожий, — наконец сказал он другу. — Ничем тебя не проймешь. Завидная выдержка, ей-богу. Тебе бы вчера вот так зажаться, а ты, как серная спичка: р‑раз — и вспыхнул! Я думал, только в книгах или в кино такое бывает. Как Вронский, например, увидел Анну на вокзале и сразу: жить, мол, без вас не могу и прочие такие слова. И что хорошего получилось? Погубил свою жизнь и ее, между прочим, довел до точки. Ты извини меня, но я, ей-богу, тупой человек, ни дьявола не понял в твоих словах. И чего ты назначил ей свидание в понедельник утром, если у нас в это время полеты? Объяснишь этот ребус? Не оставляй меня дураком, просвети. Молчишь, Отелло? Наверное, и сам не сообразил, кровь ударила в голову, взбесился. — Не сверли ты мне дырку в голове! — вскочил с кровати Медников и кинулся на Киреева с кулаками. — Она меня и всех летчиков оскорбила, а я должен молчать? Если бы я ее не любил, растер бы в порошок, а теперь как? Что прикажешь делать? Проглотить пилюлю — и будь здоров? Нет, Витька, я ей докажу, пусть знает, какие люди летчики. — Из-за пустяка в бутылку лезешь. И чем грозишься? Что сделаешь? — Сделаю, — загадочно сказал Медников. — Многие думают, только в книгах бывает любовь, а в жизни ее не увидишь. Ошибаются, может, и увидят. Медников вдруг встал с постели, решительным движением подтянул ремень. — Дай-ка мне твою бритву, у тебя острее. — Что-о? — Да не бойся, — усмехнулся Медников, — не зарежусь. Надо же мне побриться. Моя дерет, как терка. Медников побрился, выпил чаю, съел бутерброды с колбасой и сыром, но так и не разговорился, не оттаял, с мрачным, насупленным лицом лег спать. Утром Медников прибыл на учения, как всегда, подтянутый, бодрый, даже несколько излишне возбужденный. — Как отдыхали? — спросил у летчиков замполит Червонный. — Отлично, товарищ майор, — ответил за всех Медников. — Сегодня чудесная погода. Замполит был в прекрасном настроении, — видно, хорошо в воскресный день отдохнул. — Желаю успехов, товарищи. Он козырнул летчикам, повернулся и пошел по бетонной дорожке с такой легкостью, будто все, что он делал, сегодня доставляло ему истинное удовольствие. Полеты начались. Разорвав тишину, в воздух поднялось звено реактивных истребителей. Через пятнадцать минут взмыло второе звено. После возвращения первого и второго звеньев был дан старт третьему. Самолеты вели Медников и Киреев. Время приближалось к восьми. Небо было чистое, как нетронутый лист бумаги, и только в том месте, где уже прошли первые самолеты, медленно таяли белые полосы, похожие на гигантскую шерстяную пряжу, протянутую по голубому фону. Реактивные истребители с грохотом взмыли в воздух. В их слаженном полете было что-то привлекательно озорное, напоминающее полет ласточек. Самолеты стремительно уходили вверх, как бы врезались в воздушное пространство по наклонной, восходящей линии и, набрав высоту, плавно разворачивались, чуть-чуть наклоняя крыло. На их серебряных боках поблескивали лучи солнца, они все неслись и неслись вперед, удаляясь от земли и исчезая из поля зрения. Горючее заправляли в каждый самолет по строго рассчитанной норме, ровно столько, чтобы его хватило на определенное время. В точно назначенный срок самолет непременно должен вернуться на аэродром. Это правило прекрасно усвоили летчики и придерживались его неукоснительно. Выполнив задание и доложив командиру по радио, истребители третьего звена развернулись и легли на обратный курс. Когда самолеты появились над городом и их уже можно было видеть с аэродрома невооруженным глазом, один истребитель неожиданно стал отклоняться от курса. Отошел вправо, развернулся и полетел в обратную сторону. Это был истребитель лейтенанта Медникова. На командном пункте поднялась тревога. — Лейтенант Медников! Медников! — звал в микрофон полковник Слива. — Что с вами? Доложите, что случилось! Медников не откликался. — Слышите меня, лейтенант Медников? — громче повторял полковник Слива. — Отвечайте, в чем дело? Я командир полка полковник Слива. Приказываю немедленно возвратиться на аэродром. Вы меня слышите, Медников? Идите на посадку! Почему молчите? Отвечайте! Но Медников молчал и продолжал полет по незапланированному маршруту. Далеко за городом он сделал разворот, стал резко снижаться над холмами и полем. Самолет Киреева уже совершил посадку, а Медников все еще был в воздухе. Что такое? В чем дело? Через несколько минут кончится горючее, и самолет разобьется! На командном пункте всполошились. Лицо полковника Сливы налилось краской, покрылось потом. Он продолжал кричать в микрофон: — Медников! Медников! Доложите, в чем дело! Берите курс на аэродром! Горючее на исходе, идите на посадку! Идите на посадку! Медников! Медников не откликался. Его самолет стремительно падал над городом. Оставалось триста, двести, сто метров. Вот он уже пошел бреющим полетом, летел все ниже вдоль реки и скрылся за линией прибрежного леса. Упал? Разбился? Но почему не слышно взрыва? Что же ты натворил, лейтенант Медников? Шлепнулся в реку? Разбился о железнодорожный мост? Вон там видны его фермы, кажется, не задел. Что же случилось с самолетом? Через несколько секунд истребитель вынырнул из-под моста и стремительно взвился над лесной полосой, под крутым углом пошел вверх в сторону аэродрома. — Медников! Медников! Приказываю идти на посадку! — яростно кричал полковник. — Приказываю немедленно идти на посадку! На этот раз Медников откликнулся. — Вас понял, — четко ответил он командиру полка. — Прошел под мостом. Иду на посадку. Все объясню на месте. Истребитель Медникова шел к посадочной полосе. — Немедленно под арест! — приказал полковник, бросая микрофон. — Мальчишка! Полковник Слива вскочил в машину и помчался к месту посадки истребителя. Вслед за полковником на двух других машинах поехали замполит и несколько офицеров. От служебных зданий по полю с воем неслась «скорая помощь». Удачно приземлившись и подрулив к положенному месту, Медников заглушил мотор. Горючее было на нуле. Сдерживая волнение, Медников спрыгнул на землю, четким шагом пошел навстречу полковнику Сливе. Лицо побелело, губы едва заметно дрожали, громким голосом начал докладывать: — Товарищ полковник! Я самовольно пролетел под аркой моста. Полет прошел благополучно, никаких повреждений... — Молчать! — закричал полковник Слива, и лицо его покрылось пятнами. — Немедленно под арест! На гауптвахту. — Слушаюсь, — четко сказал Медников, признавая справедливость полковника. Ни на кого не глядя, он поправил фуражку, пошел прямо через поле по пыльной траве, в сторону строений, где была гауптвахта. Полковник смотрел ему вслед, не обращая внимания на возмущенных офицеров, подъехавших на машине, на сердитое покашливание Червонного. — Отставить тревогу, — сказал полковник. — Все по местам. Он швырнул папиросу на землю, затоптал ее и тут же стал прикуривать другую. Он нервничал, чувствовал, что в запале переборщил. Надо было послать офицера под домашний арест. Хотел переменить свое распоряжение, но был настолько раздражен непослушанием лейтенанта, что не шевельнулся и не остановил Медникова.
5
Чрезвычайное происшествие вызвало переполох не только в полку, а, как позже выяснилось, в дивизии, в округе, и даже в Министерстве обороны... Замполит Червонный экстренно собрал офицеров гарнизона, командиров эскадрилий, звеньев и строго выговаривал всем за снижение дисциплины и политико-воспитательной работы. — Неслыханное дело! — горячился майор Червонный, разбирая случай с Медниковым. — Молодой офицер, комсомолец, воспитанник славного авиационного училища допускает такой безобразный поступок, который граничит с преступлением. Это же форменное безобразие, товарищи, непозволительное лихачество, безответственность и своеволие! Могло кончиться непоправимой катастрофой, потерей самолета и гибелью самого летчика. Можно сказать, чудом не задел мост, а то наверняка были бы человеческие жертвы. Подобные выходки еще и еще раз напоминают нам, товарищи, что нельзя ни на минуту ослаблять воспитательную работу в подразделениях, нужно неустанно разъяснять офицерам и солдатам высокое понимание воинского долга. Политработникам и командирам должно быть стыдно наблюдать подобные явления. Всем ясно, товарищи, лейтенант Медников опозорил нашу воинскую часть, и мы поддерживаем решение командования отдать преступника под суд. Пусть полной мерой ответит за нарушение воинской дисциплины, за неподчинение приказу командира. Этот безобразный факт должен встревожить и мобилизовать весь личный состав, и особенно командира эскадрильи Ушакова, которому, я думаю, совестно смотреть нам в глаза. Плохо занимаетесь моральным воспитанием офицеров, товарищ Ушаков! Не влияете на подчиненных, не знаете, чем живут летчики. — Так точно, товарищ замполит, — ответил Ушаков. — Упущение, конечно, есть, но кто ж его знал? Был дисциплинированный и сознательный, никаких вывертов не допускал, активно выступал на комсомольских собраниях. Не ожидал я от него такого поворота. Разве угадаешь, что у человека на душе? — Мы не гадалки, товарищ Ушаков, — строго оборвал Червонный, — Нужно серьезно заниматься воспитанием офицерского состава, а не гадать. — Разрешите спросить? — поднялся с места младший лейтенант Олег Звонарев. — Мост остался целый? Офицеры засмеялись, зашумели. — А что ему сделается, раз не задел? — ответил Червонный. — Целый. — И самолет невредимый? — снова спросил Звонарев. — За что Медникова так обвинять? Ничего же не случилось особенного? — Неправильно рассуждаете, товарищ Звонарев, — прервал лейтенанта майор Червонный. — И самолет невредимый, и Медников цел, голова на плечах осталась, хотя не знаю, что у него там в голове. Однако это ничего не доказывает. Его поступок надо строго осудить. Ничем не оправданное безрассудство, самовольство и произвол в действиях. Игра с огнем и человеческими жизнями — вот что это значит. Это прямое преступление. Понятно вам, лейтенант Звонарев? — Понятно, — сказал Звонарев и сел на место. — С одной стороны, конечно. — А я все-таки думаю, товарищ замнполит, тут какая-то загадка, — сказал с места командир эскадрильи капитан Ушаков. — Характер у человека такой. Ничего плохого он не хотел, доказать свою отвагу замыслил. — Гаданием занимаетесь, капитан, — пресек Ушакова замполит. — Оправдываете свою плохую работу, философскую базу подводите. Характер, видите ли, у него особенный. Ищите причину в другом, капитан Ушаков. Но Ушаков упрямо настаивал на своем: — Все-таки надо с ним побеседовать, товарищ майор. Пусть напишет объяснение. Кто знает, что он соображал? Великий летчик Чкалов тоже под мостом летал. По залу прокатился шум, в углу кто-то засмеялся. — А ведь верно! — Было такое. Геройством тогда называли. — Тише, товарищи! — остановил шум Червонный. — Неправомерную аналогию выдвигаете. Нельзя сравнивать то время с нашим. Это же малому ребенку понятно, какие самолеты были тогда. Сравнил Медникова с Чкаловым! — Отличный же летчик! — крикнул Киреев. — Я с Медниковым давно летаю, вместе учились, он никогда не допускал нарушений. — Молодой он еще, — сказал белобрысый офицер с красными ушами, — всякое может взбрести в голову, посочувствовать надо. — Прекращаю дискуссию, товарищи. — Червонный поднялся. — Вопрос ясен. Прошу отнестись к этому факту самым серьезным образом. Никакого благодушия. Дисциплина прежде всего. Прошу усилить воспитательную работу в подразделениях, разъяснить вредность и опасность поступка летчика-истребителя Медникова. Каждую среду докладывать мне о проводимых мероприятиях! На узком совещании у комполка долго думали, как постунить с Медниковым и какие принять меры, чтобы не накликать беду на всю воинскую часть. Были разные предложения, но принять решение было не просто. Доложить в дивизию? Но в конце концов все обошлось благополучно, никакой аварии и никаких жертв? Вместе с тем проступок летчика слишком серьезен, простить ни в коем случае нельзя. Может, достаточно приказа по части? Но все равно о подобном происшествии станет известно в дивизии, и тогда строго накажут всех за либерализм, обвинят в сокрытии преступления. Слишком шумное дело, чтобы ограничиться местными мерами. Добро бы, все случилось здесь, на аэродроме, а то на глазах всего города. Того и жди, что завтра в газете появится заметка о героическом поступке летчика. Если местные журналисты пишут о том, как летчики спасают утопающих девиц, так уж непременно напишут о смелых полетах под мостом. Это последнее соображение вовремя пришло в голову замполиту. Он тут же позвонил в редакцию и узнал, что заметка о полете неизвестного смельчака под аркой моста уже сдана в завтрашний номер. Замполит объяснил, в чем дело, и редактор обещал снять заметку. Совещание закончилось кратким сообщением командира полка. — Как командир части, я обязан по закону за неподчинение моему приказу предать офицера суду. Другого выхода нет. Предлагаю послать объективное донесение командованию дивизии и ждать указаний, а до получения указания летчика Медникова отстранить от полетов и держать под арестом...
Выходка Андрея Медникова потрясла и озадачила Виктора Киреева. Он не находил себе места, метался по комнате, не знал, что предпринять, чем помочь другу. «Так вот что он задумал! — ругал Киреев товарища. — Вот зачем просил девчат прийти в понедельник утром в городской сад. Оттуда яснее виден мост, любуйтесь, мол, какой я герой! Эх, Андрюха, Андрюха, заварил ты кашу, не скоро расхлебаешь». Вечером Киреев попытался увидеться с Андреем. Подошел к домику, где была гауптвахта, остановился у зарешеченного окошка, ждал, не выглянет ли Медников. За окном горел свет, и была видна неподвижная тень Медникова, который сидел за столом, подперев ладонями голову, будто думал о чем-то или читал книгу. Киреев свернул за угол, остановился у крыльца, где стоял вооруженный часовой. — Сюда нельзя, — громко сказал солдат. — Пройдите. — Мне лейтенанту Медникову одно слово передать. Скажите, чтобы выглянул в окно. — Не разрешается, я ничего не знаю! — Часовой взял автомат наперевес. — Пройдите. Киреев завернул за угол, но опять остановился и оглянулся на окно с решеткой. К счастью, Медников теперь стоял у окна и сразу увидал Киреева. — Постой минутку! — тихо прошептал Медников, обрадовавшись товарищу, и исчез. Медников быстро написал несколько слов на белом листе бумаги, свернул его и, подойдя к окну, швырнул записку через открытую форточку. Киреев подошел к кустам, куда упала записка, взял ее и, кивнув Медникову, скрылся. В записке было всего несколько слов. «Умоляю, скажи Гале, я сделал все ради нее и люблю ее. Пусть ждет. Андрей». На другой день Киреев отправился в город. В автобусе, на улицах, в магазинах только и разговору было о вчерашнем полете истребителя. Люди судачили о летчике, каждый мерил на свой аршин, — Не перевелись, значит, герои! — Молодец летчик, рисковый! Я сам был таким. — Орденами таких награждать надо. — А лучше снять штаны да по заднице отхлестать. Воздушное хулиганство называется. — Трусы всего боятся, а это смелый летчик. Уважаю таких. Город гудел, обсуждал сногсшибательную новость. Киреев заявился в самое удобное время, подгадал как раз к четвертому часу, на фабрике шла пересмена. Он остановился в тени недалеко от ворот. Прохрипел негромкий гудок. Из проходной стали выходить женщины. Киреев подошел поближе к тротуару и, прохаживаясь по дорожке, поглядывал на работниц.. Вскоре появились Галя и Тоня. Они увидали Киреева, торопливо подошли к нему. На лицах нескрываемое возбуждение. — Это он пролетел под мостом? — с ходу спросила Галя. — А кто же еще? Другого такого не найдешь. — Отчаянная голова! — всплеснула руками Тоня. — А если бы в мост угодил? — Если бы, если бы... — подхватил Киреев. — А все ты, Галя, виновата. Зачем задирала? У человека чертовское самолюбие. Галя не возражала, напротив, ей даже было приятно, что все получилось так необычно. «Вот это парень, — думала она. — Не трепач». Она ничего не ответила Кирееву, лишь вся засияла, засветилась. — Вы приходили в парк? — Еще бы, — сказала Тоня. — И все видели. — Классный номер показал Андрюша, — щелкнула пальцами Галя. — Как сказал, так и сделал. Молодец! — Она даже подпрыгнула легко и резво, совсем по-детски. — Мы чуть было не умерли со страху, — тараторила Тоня. — Пришли к реке и, как дурочки, ищем вас в саду. Чего они, думаем, в такую рань свидание назначили? Потом смотрим, самолет летит... — Я сразу догадалась, что это он, — ввернула Галя. — Да уж по тебе было видно. Как полетел он вниз, ты белее тарелки сделалась. А как порхнул под мостом и вверх взвился, запрыгала, как коза, в ладоши захлопала. — Будет расписывать, — прервала подругу Галя. — А ты почему не полетел? — повернулась она к Кирееву. — Я еще не свихнулся. — Струсил? Киреев окинул ее сожалеющим взглядом. — Это же грубейшее нарушение дисциплины. Преступление. — За смелость не наказывают. Киреев посмотрел на девчат и грустно покачал головой. — Наивные дети. У нас за такие дела не гладят по головке. А вам все нипочем. Вы даже не спрашиваете, почему не пришел Андрей. — А что с ним? — встревожилась Галя. — Под арест посадили, — вздохнул Киреев. — За неподчинение приказу командира будут судить. — Врешь! — вскрикнула Галя. — За что же? Он же отчаянный! Смелый! — Честное слово офицера. Галя застыла, как парализованная внезапным ударом, потом тихо вскрикнула, схватилась за голову, застонала. — Что я наделала! Нарочно дразнила его, с огнем играла. — Она в отчаянии бросилась к Кирееву. — Неужели правда? Ты не шутишь? Скажи, Виктор, правда? Киреев достал из кармана записку. — Убедись сама. Андрей просил передать тебе. Галя торопливо развернула записку, прочла скупые строки, которые обожгли ее. Она покачнулась, сделала шаг в сторону, ухватилась за березу. Не устояв на ногах, медленно опустилась на траву и неожиданно заплакала. Тоня бросилась утешать подругу, а Киреев стоял растерянный и удивленный. — Ну что ты так? Что случилось? — утешала Галю перепуганная Тоня и гладила ее мягкие густые волосы своими маленькими пухлыми руками. — Надо тебе убиваться! Зачем же так? Галя молча протянула Тоне записку. Тоня прочла и все поняла. — Вот она, проклятая любовь. Не только девчата из-за нее страдают, а и парни делают большие глупости. Эх ты, Галя, Галя! Подстерегли тебя беда горькая и счастье великое. Настоящая любовь пришла, радуйся, милая. — Запричитала, как старуха, — недовольно сказал Киреев. — «Беда горькая, счастье великое»! Подумаешь, какое событие, парень записку прислал! — Помолчал бы, если не понимаешь, — повернулась она к Кирееву. Не знаешь ты нашу Галю. Она тоже его полюбила, а для нее любовь — как неизлечимая болезнь. Что теперь будет? Надо же! Тем временем Галя вытерла глаза, поправила прическу. Лицо ее стало спокойным и строгим. — Скажи, Виктор, — проговорила она, — что я могу для него сделать? Его строго накажут? — Самое страшное для него уже совершилось. Его отстранили от полетов. И ты ничем ему не поможешь. — Где он сейчас? — Сидит на гауптвахте. — Меня допустят к нему на свидание? — Думаю, нет. Это может решить только командир полка. Галя теребила в руках носовой платок, подносила ко рту, нервно кусала. На душе было тяжко, не хотелось ни о чем говорить. Молчали. Киреев проводил девушек к старому кирпичному дому, где они жили в рабочем поселке недалеко от фабрики, и уехал в военный городок.
6
Дома Галю, как всегда, встретила мать, позвала обедать. — Садись, доченька. Все готово. Галя молча ушла умываться. Мать работала на той же фабрике уборщицей, приходила домой на два часа раньше дочери и к ее возвращению успевала приготовить обед. Галин отец умер лет десять назад, и мать воспитывала дочку одна, всю свою нежность и ласку растрачивала на нее. — Что так долго возишься, Галя? Остынет же все. Галя умылась, переоделась, явилась на кухню мрачная, угрюмо села к столу. Опустила раза два ложку в тарелку и отодвинула в сторону еду. — Что-то не хочется есть, мама. — Невкусно сготовила? Ты же сама просила борща со сметаной. — Сытая я. Потом съем. — Может, нездоровится? — забеспокоилась мать. — Прилегла бы, небось устала. Я все боюсь, не получилось бы какого осложнения. Шутка ли, чуть не решилась жизни. Сколько лет плавала, и ничего, а тут такой случай. — Ну что ты вспоминаешь, мама? Я и думать об этом забыла. Мать замолчала, но не успокоилась: какая-то странная Галя сегодня, будто подменили ее, невеселая, хмурится и молчит. — Неприятности у тебя на работе, что ли? — осторожно спросила мать. — Я просто немного устала. Пойду погуляю, а может, в кино загляну. Однако гуляла Галя недолго, вернулась домой засветло. Спать легла рано, все ворочалась с боку на бок, вставала, брала книгу и снова гасила свет, пыталась уснуть. Мать несколько раз выглядывала из своей комнаты, где она смотрела телевизор, звала дочку к себе. — Не хочу, мамочка, смотрисама, — отвечала ей Галя. Когда же кончилась передача, мать перед сном еще раз тихо приоткрыла дверь в Галину комнату. Галя спокойно лежала в темноте, но, кажется, не спала. — Знаешь, мама, — тихо сказала она, — меня спас тот самый летчик. — Какой? — Мать задержалась на пороге. — Который пролетел под мостом. Слыхала? — Да откуда ты знаешь, что это тот самый? — Он прислал мне записку. Его арестовали, мама. Голос у Гали сорвался, она замолчала. Мать почувствовала, что Галя заплакала. Присела к ней на кровать, ласково обняла дочку за плечи. В темноте слышалось прерывистое дыхание Гали. — Не принимай ты все к сердцу, доченька, трудно таким живется. Все уладится, если он не виноват. А что наказали его, не тужи, нельзя же без строгости. Само собой обойдется. Солнце взойдет, роса и обсохнет...
Всю смену Галя работала напряженно и нервно. Обычно веселая и разговорчивая, она хмурилась и молчала. Девчата пытались развлечь ее, расспрашивали, что случилось, но она бросала два-три слова в ответ, уклонялась от разговоров. Девчата не могли понять, в чем дело. Только под конец дня Тоня шепотом сказала одной подружке: — Не приставайте вы к Гальке, у ней большое несчастье. У подружки широко раскрылись глаза: — Кто-нибудь помер? — Да нет же! Летчик, который спас Галю, влюбился в нее, для Гальки под мостом пролетел, а его арестовали. — За любовь? — Какая ты! Арестовали за то, что под мостом пролетел, дисциплину нарушил. Поняла?.. Через десять минут все девчата знали, что случилось с Галей. — Выдумки это, — говорили одни. — Правда, девчата, все правда, — утверждали другие. — Разве не видно? Любовь! Галя с трудом дождалась конца смены, торопливо переоделась и бегом бросилась к воротам. Вскочила в автобус, идущий до военного городка. Она твердо решила добиться свидания с Андреем. Подъехав к городку, она нашла каменный домик контрольно-пропускного пункта. Быстро поднялась по ступенькам, открыла дверь — прямо перед ней оказался солдат, преградил путь. — Пропуск! — строго потребовал он, картавя, как Васька Денисов из «Войны и мира». Галя остановилась, пожала плечами, просительно посмотрела в лицо солдату, с наивностью ребенка сказала: — У меня нет пропуска. Можно так? — Так нельзя. Освободите проход. Галя решила объяснить солдату, какое у ней дело, искренне веря, что солдат поймет ее и пропустит. — Мне нужно к командиру полка, понимаете. По важному делу. Я очень прошу вас, товарищ. — Полковника нет, он уехал, — сочувственно сказал «Васька Денисов». — А вы ему звонили? — Как же я могла? Он меня совсем не знает. Вы правду говорите, что его нет? — Правду. — Солдат улыбнулся. Улыбка ободрила девушку. — Может, к замполиту или к какому другому начальнику пустите? Я вас очень прошу, пожалуйста. Солдат покачал головой с выражением глубокого сожаления. — Я ничего не могу сделать, девушка. Замполит тоже уехал. Да они скоро придут. Вы погуляйте в садочке. Он вежливо указал ей на выход и сразу же закрыл дверь, как только она переступила порог. Галя села в скверике на скамейку под высоким старым дубом, немного успокоилась, но долго сидеть не смогла, поднялась, стала ходить от дерева к дереву по узкой мощеной дорожке, считая про себя шаги. Дневная жара уже спадала, в тени становилось прохладно. Галя меряла шаги от березы до сосны, от сосны до березы, прошла восемь раз, двенадцать, двадцать три. Время тянулось медленно, ожидание становилось томительным. Наконец к домику КПП с мягким шуршанием подкатил «козлик». Из машины вышел немолодой, подтянутый и энергичный офицер с крупными чертами лица и добрым выражением глаз. Он мельком взглянул на Галю, быстрым шагом прошел к крыльцу, легко поднялся по ступенькам. Галя поспешила за ним и остановилась в нерешительности. «Васька Денисов» вытянулся в дверях перед офицером. — Товарищ полковник! Вас какая-то гражданка дожидается. Говорит, по важному делу. — Он кивнул в сторону крыльца, где уже стояла Галя. Полковник посмотрел на девушку. — Вы ко мне? — спросил он устало. — Я к командиру части, — заторопилась Галя. — Если это вы, прошу меня выслушать. — Я командир части. Полковник Слива. По какому вопросу хотите говорить? — Насчет лейтенанта Медникова. Я хотела рассказать, ну, словом, объяснить, что случилось. Это же очень серьезное дело. Вы, наверное, не поняли его. — А кто вы такая? — спросил полковник. — Почему вас так интересует дело лейтенанта Медникова? — Я его знакомая. — Ах, знакомая? — Полковник еще раз посмотрел на Галю добрым, необидным взглядом. — Ага, знакомая, — подтвердила Галя. — Ну, даже очень знакомая. Полковник улыбнулся и сделал пол-оборота, собираясь уйти. — Ах, даже очень знакомая! Сожалею, но ничем не могу помочь. Извините! Он шагнул вперед, но девушка, осмелев, преградила ему дорогу. — Вы меня не поняли, товарищ полковник, я не так сказала. Я невеста... Понимаете, невеста. Я очень прошу вас. Разберитесь, пожалуйста, он не виноват. Видя, что от такой настойчивой девушки трудно отделаться, полковник примирительно сказал: — Ну хорошо, пройдите. Часовой, слышавший весь разговор, сделал шаг в сторону, с удовольствием пропустил девушку вслед за полковником и проводил ее сочувственным взглядом.
Кабинет командира полка был небольшой, обставлен простой казенной мебелью. Галя сидела напротив полковника, а он добрыми голубыми глазами внимательно смотрел на нее и слушал сбивчивый рассказ о лейтенанте Медникове. — Он же сделал это ради принципа. Мы поспорили, он хотел доказать мне, что летчики не такие плохие, как я о них думала. — А почему вы плохо думали о летчиках? — улыбнулся полковник Слива. — Да так, по глупости. Сплетня такая есть, а я повторила. В ответ на его слова сказала глупость. Мол, все летчики трепачи. И летать, мол, не умеете, может, по части наземного обслуживания работаете, а перед девушками хвастаетесь. И вышло, что я его лгуном назвала. Вот он и доказал, какой летчик. Сделал так, чтобы я все это видела, свидание на восемь утра назначил. Я пришла в сад, ищу его но аллеям, а он... Все прямо ахнули, когда под мост юркнул. Все это из-за меня, честное слово. По-настоящему меня посадить надо, а вы его арестовали. Голос ее внезапно прервался от волнения, она кашлянула и замолчала. — Понимаю вас, — тихо проговорил полковник. — Очень хорошо понимаю. Как ваше имя? — Галя. — Так вот, милая Галя. Я даже сочувствую вам. Но не могу не указать, что речь идет не о мальчишеской выходке, а о грубом нарушении воинской дисциплины. То, что сделал лейтенант Медников, не героизм, милая девушка. Это преступление, строго наказуемое законом. — Почему же преступление? Весь город восхищается его поступком. — С обывательской точки зрения это выглядит, конечно, геройством. Особенно для восторженных девиц. — Вы ошибаетесь, — горячо возразила Галя. — Не одни обыватели, все жители только об этом и говорят. Может, я преувеличиваю, но таких летчиков ценить надо, а вы его — под арест. Полковник, не повышая голоса, спокойно объяснил: — Лейтенант Медников не подчинился приказу командира и должен понести наказание. Вам же, милая, надлежит сохранять спокойствие и выдержку. Пройдет время, все встанет на свои места. Уверяю вас. В эту минуту в кабинет вошел замполит майор Червонный. — Вот познакомьтесь, — сказал полковник Слива, — невеста лейтенанта Медникова. Галя. Пришла заступиться за лихача. Говорит, Медников — герой, а вы его под арест. Весь город в восторге, а мы не поняли, наказываем. Червонный внимательно посмотрел на девушку. Спокойно уселся за стол, не торопясь закурил и, как бы между делом, начал задавать вопросы: — Наверное, комсомолка? — Даже член бюро. — Где работаете? — На фабрике «Восьмое марта». Прядильщица. — Ударница коммунистического труда? Галя подтвердила. — Как же вы не понимаете существа вопроса, уважаемая комсомолка? Воздушное лихачество, я бы сказал, преступное безрассудство принимаете за геройство. Спросите любого, кто был солдатом, он посмеетея над вами. Червонный встал, Галя тоже поднялась. — Что же все-таки будет с Медниковым, товарищ полковник? — в волнении спросила она. — Судить будем Медникова, — ответил вместо полковника замполит Червонный. — Разрешите хоть повидаться с ним? — попросила Галя, обращаясь к полковнику, который показался ей добрее замполита. — Хоть на несколько минут. — Сейчас не могу. Это исключено. — Ну, может, завтра или послезавтра. — Девушка с отчаянием смотрела в глаза полковника. — Я вас очень прошу. — Может быть. А сегодня нельзя. До свидания. Галя поняла, что больше ничего не добьется, и молча вышла из кабинета. На крыльце остановилась перед часовым. — Вы знаете, где живет лейтенант Киреев? — В гостинице. Направо за углом. В шестнадцатом номере, второй этаж. — Спасибо. — А как насчет лейтенанта Медникова? Что сказал полковник? — Плохо, — сказала Галя. — Судить будут. — Вы не страдайте, может, все обойдется. Мировой офицер, я его знаю. Может, что передать? — Скажите, я добиваюсь свидания с ним и добьюсь. Меня зовут Галя. — Хорошо, Галя, передам.
7
Киреев собрался в столовую и вышел на улицу как раз в ту минуту, когда к гостинице подходила Галя. — Ты зачем здесь? — удивился Виктор. — Была у вашего командира, просила свидания с Андреем. — Разрешил? — Нет. — Кажется, шутки кончились. Тут такое поднялось, керосином пахнет. Они свернули на дорожку, пошли по зеленому скверу, где тихо шумели листвой молодые клены. — Может, ты сходишь к полковнику? Он же знает, что вы с Андреем друзья, расскажешь, как было. Глупая мальчишеская выходка, полковник должен понять, он же умный человек. — Видишь ли, Галя, я не только друг Андрея, но еще и офицер. Я не могу обсуждать и оспаривать приказ командира. Не имею права. — А ты и не обсуждай. Расскажи командиру, с чего все началось и кто виноват. Скажи полковнику, что во всем виновата я. Ведь это же правда! — Все это лирика, Галя, С чего началось... Кого это интересует? Факт есть факт — офицер Медников не подчинился приказу командира. За это его и наказывают. — Да ну тебя! — с досадой сказала Галя. — Я думала, ты меня поймешь. Видно, не зря говорится: друзья познаются в беде. Липовый ты друг, вот что. — Ты это брось! — разозлился Киреев. — За свои слова отвечать надо. — Подумаешь! Настоящий друг поступил бы иначе. Он схватил ее за локоть, сильно сжал руку. — Не говори глупостей. Что я могу сделать? — Не хочешь помочь, не надо, — с обидой бросила Галя, — я сама добьюсь! — Ладно, не дуйся на меня. Зачем нам ссориться? Виктор примирительно посмотрел на Галю. Она опустила голову. — Я завтра пойду к полковнику, — продолжал Киреев, — расскажу про Андрея, постараюсь объяснить, какой он парень. По правилам, должны были ограничиться домашним арестом, но Андрею не повезло, больно рассердился на него полковник за дерзкое неповиновение приказу и сгоряча послал на «губу». Полковник, конечно, отменит арест. Но когда? Вот в чем вопрос. Во всяком случае, не должно дойти до суда. Многое будет зависеть и от того, какое объяснение даст сам Андрей. Я кое-что посоветую, у меня есть соображения, надеюсь, полковник разрешит мне свидание с Андреем... — Скажи Андрею, пусть не боится суда, — перебила Галя. — Пусть вообще ничего не боится. — Да он не из трусливых. — Я не верю, что за такое наказывают. Пускай кто-нибудь другой попробует так! — произнесла Галя, гордясь Медниковым. — Передай Андрею, я обязательно добьюсь разрешения и приду к нему. Подбодри его, Витя. — Ты не переживай, он не кисейная барышня. Беги на остановку, вон автобус уходит в город. Будем держать связь. Они попрощались.
Утром после полетов Киреев получил у командира полка разрешение на свидание с Медниковым и сразу же отправился к другу. Андрей лежал на железной койке, застеленной суконным одеялом, читал газету. Услышав голос Виктора, вскочил с койки, бросился навстречу. — Здорово, чертяка! Без доклада входишь в мой хрустальный дворец? — Ты еще шутишь? — укорил друга Киреев. — Мрачный юмор. Держи, тут колбаса и сыр. Он небрежно бросил сверток с продуктами на чистый сосновый стол. — Зачем? Казенных харчей хватает, это лишнее. — Аппетит пропал? Ешь, поправляйся. — И так не помру. Ну, как там? Какие мои дела? Киреев не спешил отвечать на вопросы друга, прошелся по комнате, внимательно оглядел все. На столе были разбросаны листы чистой бумаги, лежала шариковая ручка. — Мемуары пишешь? — усмехнулся Киреев. — Вчера весь день сочинял объяснение. — Такое длинное? — Исписал кучу бумаги и порвал. В конце концов все вместилось на одной странице. — Объяснение надо сочинять с умом. Дай-ка взглянуть, может, что дельное посоветую. Он протянул руку к бумагам. — Брось, сам справлюсь, — выхватил лист Медников. — Лучше выкладывай, что про меня говорят, какие перспективы? Киреев со вздохом сел на табуретку. — Дела табак, ни к черту не годятся. Был я у Червонного, а потом и к полковнику обращался. Говорят, будем судить Медникова. — А Галю видал? — Да подожди ты с Галей. Видал. О твоем «геройстве» доложили в дивизию, а оттуда — в округ. Соображаешь? Медников протяжно свистнул: — Что так! Сами не могут разобраться? — Случай больно заметный. Теперь ждут указания свыше. А пока указание придет, поскучаешь. Медников горько пошутил: — Ты сидишь одиноко и смотришь с тоской, как печально камин догорает... — Точная картина, только камина нет. Киреев вынул пачку сигарет, закурил, протянул Андрею: — Кури. И бросил пачку на стол. — Хорош компот, — покачал головой Медников. — И как же они расценивают мой поступок? Лихачество? Хулиганство? Невыполнение приказа командира? — Ты угадал. Примерно в таком духе. — Снять голову? Четвертовать? Повесить? — Не такие крайности, но приятного ничего не предвидится. — Поднять на штыки? Распилить тупой пилой? Зарядить в пушку и выстрелить в сторону моря? — язвил Медников. — Перестань балаганить, — оборвал его Киреев. — Заварил кашу и корчишь из себя мученика. А как же прикажешь смотреть на твое «геройство»? Надо же такое придумать! Если бы я знал в тот вечер. — Что бы ты сделал? — обозлился Андрей. — Не допустил бы до этого. Связал бы тебя и отправил в психиатрическую больницу. — Значит, и ты так же думаешь? И по-твоему выходит, я преступник? — Давай рассуждать серьезно. Ты мне друг, но мы боевые офицеры, и воинский устав для нас — святой закон. Если бы у меня даже было особое мнение о твоем «геройстве», это ничего не меняет. Закон есть закон, и нарушать его никому не дозволено. Андрей с досадой отвернулся от Виктора, отошел к столу. — Заладил — закон, закон. Разве другие летчики не совершали отчаянных полетов, которые потом стали нормой? Вспомни Нестерова, Чкалова, Гастелло, Покрышкина. Да, может, я годы мечтал о таком полете, все рассчитал, во сне видел этот миг? — Красивые слова. Хочешь — обижайся на меня, хочешь — нет, а я за дисциплину. Нарушил — имей мужество отвечать. — В судьи тебе надо было идти, а не в летчики, — резко оборвал его Медников. Киреев вспыхнул, сердито сверкнул глазами: — Я, по-твоему, плохой летчик? — Не хватайся за шпагу, д’Артаньян, пойми, о чем я говорю. Это все серьезнее, чем кажется с первого взгляда. — Передо мной нечего строить героя, я не какая-нибудь смазливая девица, не взвизгну от восторга. — Вон как! Мы с тобой не на шутку поссоримся, Виктор. Медников бросил недокуренную сигарету, сердито зашагал по комнате, спросил, не глядя на Киреева: — Записку Гале передал? Киреев тоже нахмурился. — Передал. Насчет Гали не сомневайся, тебе повезло, настоящая девчонка. Вчера приезжала к полковнику, добивалась свидания с тобой. — И что же? — Отказал. Правда, весьма сочувственно отнесся. Назвалась твоей невестой, учти. — Сам слышал? — спросил Медников с неподдельным волнением в голосе. — Нет, полковник рассказал. — Он, конечно, не поверил? — Почему же? Ей нельзя не верить, она из тех, кто не врет. Просила передать тебе, что обязательно добьется свидания, жди. — Разрешат, как же! Если бы под домашним арестом, куда ни шло, а то на «губе». Особая честь офицеру Медникову. Почему? — возмутился Андрей. — Что я, такой опасный преступник?.. Ну, расскажи о ней, как она? — Чего рассказывать? Серьезная, красивая — в общем, стоящая. Сам знаешь. Как раз такая, в каких влюбляются с первого взгляда. — Она поняла, почему я это сделал? — Еще бы. Все поняла и любит тебя. Такая же отчаянная, как и ты. Как это говорится? «Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет». — Ах, черт! — выругался Медников. — Не пустили! Она сказала, что любит меня? — Я сам понял. — Сам, сам! А как она реагировала на мою записку? — Чуть не упала в обморок. И заплакала. — В чем была одета? — допрашивал Медников с сияющим лицом. — Правда, назвалась невестой? Самому полковнику сказала? — Точно! Медников обнял Киреева, стиснул до хруста, озорно оттолкнул его, хлопнул ладонью по спине. — Ух ты, Киреич! Не врешь? — Смотрите на этого блаженного идиота! — выругался Киреев. — Его отдают под суд, а он резвится, как необъезженный жеребенок. Ты в самом деле больной, шизофреник. Медников уже не слушал друга, внезапно замолчал и задумался. Киреев тоже умолк, исподлобья смотрел на Андрея. Ему было жалко Медникова, и он не знал, как помочь, слишком туго затягивался узел. — Да, кажется, натворил я дел, — серьезно заговорил Медников, — Может, и верно, все это дурость, мальчишество. Но я не мог иначе. Пойми хоть ты меня, Виктор. Любовь же такая штука, как цианистый калий. Если настоящая — сразу с катушек сбивает. Киреев вспыхнул и рассвирепел не на шутку. — Я сейчас размозжу тебе голову табуреткой, упрямый бугай! — заорал он на Андрея. — Любовь! Любовь! Люби на здоровье. Но разве при этом обязательно нарушать приказ командира? Медников отмахнулся от друга, как от роя назойливых, жалящих ос. — Ты хладнокровный хирург, Витя. Трезвый математик. А я паровой котел. Подогрели, я и закипел. — Не котел, а чайник. Понял? Ты чайник. И пока не закипел и не ошпарил меня, я ухожу. Я не понимаю тебя и не согласен с твоими глубокомысленными попытками выдать лихачество за геройство. Не вздумай написать это в объяснительной записке. Тебя не оценят, Андрей. Лучше чистосердечно покайся, скорее простят. — Ты меня судишь, Виктор, а я требую оправдания. Передай, пожалуйста, Гале, что я тоже буду просить полковника о свидании с ней. При первом же случае попрошу. Полковник хороший человек. Я знаю, он разрешит. Медников сказал это так спокойно и сдержанно, будто ничего не случилось, взял газету, лег на койку и стал читать. Киреев молча вышел из комнаты.
8
Получив письменное объяснение лейтенанта Медникова, полковник Слива и майор Червонный нисколько не изменили своего мнения о происшествии. В объяснении не было ничего нового, оно не дополняло, не разъясняло того, что было и так слишком ясным и очевидным. «Совершая свой поступок, — писал Медников в кратком объяснении, — я понимал, что нарушаю воинскую дисциплину, и готов понести за это дисциплинарное наказание». Далее он пояснял, что был совершенно уверен в благополучном исходе необычного, рискованного полета, так как думал над этим многие месяцы, сделал точный теоретический расчет и провел своеобразную тренировку, неоднократно ставя перед самолетом воображаемую арку моста перед посадкой и взлетом. «Я понимаю, — заканчивал объяснение лейтенант, — идти на такой полет было очень опасно, но, как летчик, я верил, что мой эксперимент откроет новые возможности в маневренности реактивного истребительного самолета. Благополучный исход совершенного мной рискованного полета дает мне право надеяться, что мера примененного ко мне наказания будет не слишком сурова». — От скромности не умрет, — усмехнулся Червонный. — Давай-ка зайдем к нему, Николай Сергеевич, поговорим с глазу на глаз. — Мудреный парень, выслушать надо, — согласился полковник Слива. — Интересно, эту теорию он придумал после полета или, в самом деле, она давно сидела у него в голове? — Делает хорошую мину при плохой игре, — сказал Червонный. — Что еще остается? — Молодость, избыток энергии, — мечтательно определил полковник. — И недостаток тормозного действия, — добавил замполит. — Ничего, жизнь все уравновесит... Вечером полковник Слива, замполит Червонный и назначенный дознаватель Ганкин беседовали с Медниковым. Все, в общем, сводилось к тому, что самолюбивый офицер пошел на отчаянный шаг, задетый насмешкой девушки. Все можно было бы расценить как легкомыслие, посмеяться, сделать офицеру дружеское внушение и забыть, если бы это легкомыслие не сопровождалось более серьезными проступками: неподчинением приказу, нарушением воинской дисциплины, ненужным риском и возможной аварией. Дело действительно было непростое. — И все же я прошу учесть, что вспышка самолюбия была только поводом для моего поступка, — настаивал Медников. — Сам же я давно думал о возможности такого полета на реактивном истребителе и всегда внутренне был уверен в успехе. Я же не враг самому себе, чувствовал, что могу это сделать. — Вы даете отчет, чем рисковали? — устало прервал ого полковник. — Рисковал я многим, товарищ полковник. И прежде всего своей головой. — И самолетом, — строго добавил дознаватель Ганкин, — Вы знаете, сколько он стоит? — Знаю, — кивнул Медников. — Самолет очень дорогой. Да разве дело в этом? — И в этом. Денежки-то народные, — внушал Ганкин, — Вы же летчик-истребитель, не какой-нибудь артист под куполом цирка. Там можно очаровывать девушек и срывать аплодисменты, а в авиации превыше всего воинский долг. — Дело ваше, верить мне или нет, а я говорю правду. Давно мечтал о таком полете и рад, что мне удалось. Конечно, обстоятельства странные, можно их расценить как глупость, но это факт. А насчет девушек иронизировать не стоит. Вы ведь женаты, у вас дети, значит, тоже в свое время полюбили девушку, которая потом стала вашей женой. Слова летчика задели дознавателя. — Все любили, но не за счет нарушения воинской дисциплины, — оборвал он лейтенанта. — Мастер философствовать! Ганкин остался доволен строгостью и жесткостью тона, с которым он вразумлял летчика. — Вернемся к делу, — вмешался в разговор Червонный. — Если поверить вашим словам, лейтенант Медников, вы давно теоретически допускали возможность полета под мостом на реактивном истребителе? — Совершенно верно, — подтвердил Медников. — Почему же вы, как летчик, не поставили такой вопрос перед командованием? Может, оно сочло бы нужным доложить вышестоящим инстанциям? Медников усмехнулся, не дождавшись, когда замполит закончит свою мысль. Червонный оборвал фразу, с досадой поджал губы. — Доложить по инстанциям? — пожал плечами Медников. — Все эти инстанции сочли бы меня невеждой или сумасшедшим, вот как и вы считаете. А теперь такой полет уже не предположение безумца, а факт. Теперь можно докладывать и по инстанциям. Он замолчал и почему-то посмотрел на полковника, ища сочувствия. — Я думаю, все ясно, — сказал полковник Слива. — Ваши соображения, лейтенант Медников, надеюсь, будут учтены. Вы все записали, товарищ дознаватель? — Так точно, — сказал Ганкин, шурша листками блокнота и не переставая писать. — Меня будут судить? — спросил Медников, обращаясь к полковнику. — Не могу точно сказать, но вполне возможно, — ответил полковник, направляясь к выходу. — Вас известят о дальнейшем ходе дела. Желаю здравствовать! Он сделал шаг к выходу и вдруг остановился в дверях. — Да, чуть было не забыл. Ко мне обращалась с просьбой о свидании с вами одна молодая особа, кажется, Галя. — Это моя невеста, — поспешно вставил Медников. — Очень хорошо. Она сама мне сказала, что ваша невеста. В порядке исключения я разрешу ей свидание, сели она еще не передумала. Медников благодарно склонил голову. — Спасибо, товарищ полковник. Вслед за полковником ушли замполит Червонный и Ганкин. Когда они вернулись в штаб, командир сказал своим спутникам: — А все-таки, дорогие товарищи, мне кажется, мы поторопились доложить в дивизию. И теперь стоим, как лошади на привязи, ни тпру ни ну. Надо было решать на свой риск. — Ты, Николай Сергеевич, не прав. Случай из ряда вон выходящий, все равно узнали бы и в дивизии, и в округе, так лучше, что мы сами доложили. Пусть теперь решают. — У нас все готово, — сказал дознаватель Ганкин. — Дадут сигнал, пошлем рапорт. — Теперь, конечно, поздно рассуждать. Машина завертелась, обратного хода не дашь. — Как сказать, — усмехнулся Ганкин. — Иной раз такие развороты бывают, не дай бог. — Ни дивизия, ни округ на наше решение это дело уже не вернут, — сказал полковник. — Я утром звонил генералу, он перво-наперво выругал меня, да еще лисой назвал. Говорит, хитришь, полковник Слива, от ответственности уходишь, распустил летчиков, дисциплины никакой, а у высших инстанций спрашиваешь, как быть. Слишком, говорит, необычное дело, чтобы не сообщать в Москву, тепорь жди, что Москва скажет. Может, не одного воздушного лихача накажут, а вместе с ним и его командиров. — Вот это да! — развел руками Червонный. — В Москву доложили? В ВВС? — Говорит, самому главному маршалу. Ганкин притих и вкрадчиво кашлянул. — Пожалуй, нам теперь со своим мнением торопиться нечего, — сказал он осторожно. — Сидеть и ждать у моря погоды? — оборвал дознавателя полковник. — Сами бухнули в колокола, не подумав, а теперь черт знает, как выкручиваться. — Оно, ясное дело, поспешили, — согласился Ганкин, — а, с другой стороны, могут и взгреть — чего, мол, такой либерализм развели? Давайте оформим судебное дело. Если что — у нас все готово. — Не туда тянешь, Ганкин. — А что же делать, товарищ полковник? Непонятно. — Чего тут непонятного, Ганкин? — укоризненно взглянул на дознавателя полковник. — Теперь надо ждать решения Москвы -своим умом не сумели решить, другие помогут. Кому положено, тому и выдадут по всей норме. — Верно, — согласился с полковником замполит Червонный. — Погорячились мы с докладом в дивизию. И в самом деле, самолет цел, мост невредим, летчик жив-здоров. Наказали бы своим приказом, а там пусть кто как хочет, так и реагирует — и дивизия, и округ, и Москва. — Задним умом хорошо рассуждать, — сказал полковник. — А снаряд уже выпущен, летит по траектории, жди, куда ударит...
Весь день шел проливной дождь. Полыхала гроза, гремели раскаты грома. Медников тоскливо бродил по комнате, валялся на койке, пытался читать. Подходил к раскрытому окну, просовывал через решетку оголенные руки, подставлял под струи теплого летнего дождя, с удовольствием брызгал на лицо и грудь. Дождь лил не переставая, бурные потоки текли по мостовым, омывали тротуары, неслись в канавы и овраги. Тучи обложили все небо, и бесчисленные молнии бороздили его, непрерывно гремел гром. В такую непогоду к домику с зарешеченным окном, где томился Медников, неожиданно прибежала Галя. Часовой принял от нее намокший пропуск, довел до комнаты, где сидел Медников, открыл дверь. Галя влетела в комнату босиком, с туфлями в руках, с плащом, накинутым на голову, промокшая до нитки. Она увидала Андрея и засмеялась так весело и заразительно, будто в самом деле только и оставалось смеяться в их горестном положении. Он тоже засмеялся, сначала с чувством неловкости и конфуза, а потом все более беззаботно и взволнованно-радостно. Галя подбежала к нему, оставляя на полу мокрые следы и ручейки дождевой воды, стекающие с ее платья, плотно облегающего тонкую девичью фигурку. Медников суетился, не знал, куда посадить Галю. Подставил ей табуретку, потом отшвырнул ногой, снял с Гали мокрый плащ, бросил его на стол. Не отрывая глаз от Галиного лица и любуясь ею, смотрел, как круглые дождевые капли падали с ее черных волос на смуглые плечи, стекали по телу под широкий вырез пестрого летнего платья. Он нежно поцеловал Галю в лоб, как целуют сестру, пригласил ее сесть на койку. — Не обращай на меня внимания, — говорила Галя, стоя перед ним. — Смеюсь, как дурочка, сама не знаю отчего. Не сердись на меня. — Ты вся мокрая, — беспокоился Андрей. — Сколько воды на полу, целые озера. Дрожишь и посинела. — Пустяки, дождик теплый! Возьми, пожалуйста. Она протянула из-за спины мокрую обнаженную руку, и на ее узкой ладони Андрей увидел спелое красное яблоко. Он взял яблоко, поцеловал Галину ладонь. Галя отдернула руку, улыбнулась, опустила глаза и присела на краешек койки. С ее платья потекли на одеяло дождевые струйки. — Ты была у полковника? — Два раза ходила. Сначала не пускал, потом сдался... — Что он сказал про меня? — Успокаивал. А в общем, дал понять, что дела твои плохи. Под суд, говорит, отдадим. — Лицо ее дернулось, как в судороге, она прикусила губу, — Как же так? Разве это возможно? — отчаянно продолжала она, — В чем же ты виноват? Обязательно добейся свидания с полковником и все объясни, он должен понять, он добрый, я же видела. Медников присел рядом с Галей, взял ее руку в свои. — Если бы все было так просто. Вчера я говорил с полковником и с замполитом. Никого я не могу убедить, все против меня. Моему делу уже дали ход. Боюсь, никто его не остановит, и, может, в самом деле, придется встать перед судом. Галя так решительно мотнула головой, что от волос полетели брызги. — И пусть судят! Есть же справедливость, ты ничего плохого не сделал, это всякому ясно. — К сожалению, я нарушил приказ командира. Самовольно отклонился от курса и, когда комполка приказал мне вернуться на аэродром, я не исполнил приказание. Я слышал, как полковник трижды повторил в микрофон команду, не ответил ему и не вернулся. — А кто знает, что ты слышал голос полковника? — спросила Галя, опустив глаза и слегка покраснев. — Может, ты ничего не слышал? Андрей посмотрел ей в глаза. — Я — советский офицер и считаю своей обязанностью говорить только правду. Это дело моей чести. — Прости меня, я сказала глупость. Нет, подлость, извини, мне стыдно. Простил? — Прощаю. Ты от жалости ко мне сказала это, а я не хочу жалости. Все должно быть начистоту, открыто, честно. — Что же теперь будет? Я не знаю законов, сколько может дать суд? — Я тоже не знаю. Думаю, не один год. — Ну, ничего, ты не бойся, — отважно сказала она. — Мы будем бороться, еще не известно, как обернется дело. Должна же восторжествовать справедливость, в конце концов, разберутся же по-человечески, поймут. — Меня не пугает срок. Тяжелее всего другое: отстранят от полетов, на годы оставят без крыльев. А без полетов я жить не могу. И с тобой как будем? Пропасть встает между нами, страшно подумать. Кошмарный сон. — Я пойду за тобой хоть на край света! — горячо сказала Галя. — Буду хоть сто лет ждать. Нас не разлучит теперь никакая сила. Он прислонился щекой к ее теплому, мокрому плечу. Оба были взволнованы, молчали. Где-то совсем близко ударила молния. Яркий свет ослепил глаза, ветер рванулся в открытое окно. Только теперь Галя и Андрей увидали, что дождь все так же льет, как и прежде. — Мне пора, — сказала она. — Уже поздно. — Смотри, не простудись. Ты, как русалка, все больше в мокром виде являешься передо мной. Она засмеялась, зябко поежилась. Часовой стукнул в дверь, громко крикнул: — Время кончилось! — Вот видишь, я чувствовала. — Галя огорченно вздохнула. Андрей с досадой посмотрел на дверь. — Ты не горюй, — успокаивала Галя. — Мы будем бороться. Посмотрим, чья возьмет. — Вперед, мушкетеры? — шутливо сказал Андрей, бодрясь и скрывая нервозность. — До свидания, Галя. Передавай привет Тоне. Как она там? — Ничего. Работает, не унывает. Кажется, влюбилась в Виктора. — Она засмеялась. — Мне ужасно хочется плакать, а я смеюсь, — грустно шепнула Галя. — Честное слово, легче живется, когда смеешься. Смеюсь, и тебе советую смеяться. Какое-то предчувствие говорит мне: все будет хорошо, лучше, чем мы думаем. — Прошу покинуть помещение, — еще раз напомнил часовой, приоткрыв дверь. — Время кончилось. Галя поцеловала Медникова в губы, не стесняясь постороннего, и вышла. Солдат закрыл за ней дверь. Галя шла решительно, и Медников слышал, как по дощатому полу коридора прошлепали ее мокрые ноги.
9
О Галином упрямстве знали все. Если чего захочет, никакими силами не остановишь, обязательно добьется своего. Галина мать побаивалась взбалмошного характера дочки и вместе с тем гордилась ее настойчивостью и постоянством. Еще с детства девочка немало волнений доставляла родителям, а когда подросла, проявила свой характер и среди сверстников. Во дворе, в школе и в пионерском лагере Галя всегда была заводилой, устраивала игры, не позволяла сильным обижать слабых, верховодила на спортивных соревнованиях, смело схватывалась с хулиганами, и даже драчливые мальчишки боялись ее. Мать до сих пор помнит отчаянную детскую выходку дочери. Это случилось, когда Гале было шесть лет, тогда вся их семья жила в деревне. В Октябрьские праздники мать с отцом взяли Галю, поехали в гости к бабушке. Она жила на другой стороне реки, но, чтобы добраться туда, пришлось ехать на лошадях километров двенадцать в объезд, где был мост. Гостили у бабушки два дня, вернулись домой поздно вечером, тихо уложили в постель Галю, уснувшую на руках матери еще в телеге. Утром Галя проснулась в теплой комнате, стала играть и обнаружила, что забыла у бабушки новую куклу, которую та подарила ей на праздник. Галя стала просить, чтобы родители немедленно поехали к бабушке за куклой. Отец сказал, что он всю неделю будет занят на работе, а в воскресенье возьмет лошадь в колхозе и съездит в Заречье. Галя расплакалась, стала просить маму, но мама тоже сказала, что за куклой поедут в воскресенье. — Она же умрет, как вы не понимаете? — настаивала Галя. — Надо сейчас же ехать. — Куклы не умирают, — сказал отец. — Она уснула и, пока ты не возьмешь ее на руки, не проснется. — Неправда, она не спит, — упрямо твердила девочка. — Я сама пойду. — До моста далеко, — сказала мама, — ты маленькая, одна не дойдешь. — Дойду! Весь день буду идти, дойду! — А если ночь застанет, куда денешься? Где будешь ночевать? Уже снег выпал, того гляди, мороз ударит. — Я хочу куклу! — упрямилась Галя. — Пусть бабушка принесет. — А как мы ей скажем? — С нашего берега покричим. Громко-громко. — Речка широкая, бабушка не услышит. Галя не успокоилась на этом и весь день приставала к маме. После обеда бегала к речке, изо всех сил кричала: — Ба-буш-ка! Ба-бушка! И хотя на другом берегу на пригорке виднелись постройки и среди них бабушкин домик под тополями, на слабый Галин голосок никто не откликался. Свист холодного ветра и шумные всплески волн заглушали Галин крик. На следующее утро Галя проснулась рано, взглянула на окно и увидела белые непрозрачные стекла, разрисованные морозными узорами. Галя тихо натянула валенки, накинула шубейку, повязалась платком и незаметно вышла из дому. Мать с отцом в это время сидели в другой комнате, завтракали. Отец не торопился, что-то рассказывал матери. Потом посмотрел на часы, стал одеваться. Собираясь уйти на работу, он, как обычно, подошел к Галиной кроватке и удивился: Гали не было в постели. — Дочка! — позвал отец. — Где же ты, шалунья, вылезай из засады. Где наша Галя, мать? Мать вошла в комнату. — А где же ей быть? Дома. Гляди, ни валенок, ни шубейки нет на месте, вот озорная. Мать засмеялась, выглянула в сени. — Брось баловать, Галя. Однако отец встревожился, надел шапку. — Отчаянная голова, на горку убежала. Не простудилась бы. Я сейчас. На дворе уже рассвело. Отец вышел на крыльцо и увидел на свежем снегу следы от детских валенок. Торопливо пошел по следу, вышел за ворота, потом через дорогу, к реке. Видно, ночью ударил крепкий мороз, снег хрустел под ногами. Отец прибавил шагу, наконец, побежал, не на шутку встревожившись. Перед ним за бугром открылась река, скованная морозом. Отец с ужасом понял, что Галины следы ведут прямо к реке, побежал изо всех сил, задыхаясь на холодном ветру. Следы отчетливо виднелись на забереге, где лед был потолще, вели дальше на тонкое поблескивающее ледяное зеркало, по которому ветер гонял и кружил снежинки. След от валенок кончился здесь. Значит, взбалмошная девчонка прошла на реку и не возвращалась обратно. — Галя! — вырвался из груди отца отчаянный крик. — Галочка! Галя! Он огляделся вокруг, нигде никого не было, никто не ответил на его зов. Тогда он бросился по Галиному следу. Лед затрещал, заколыхался под ним, и он провалился в воду. Пошел вперед, пытаясь подняться на ледяной покров, но лед был слишком слабый и разламывался под тяжестью большого, грузного человека. Промокнув по пояс, отец вернулся на берег. Выбежал на дорогу, остановил, к счастью, появившуюся здесь в такую рань грузовую машину. Шофер выслушал испуганного человека, впустил его в кабину и, круто развернувшись, помчался в объезд к мосту. Когда отец вбежал в дом своей матери, Галя уже была там, держала в руках куклу, а бабушка растирала внучке ноги и поила ее горячим молоком... Подобных случаев отчаянного упрямства и настойчивости в Галиной жизни можно вспомнить немало. Вот и теперь настали тревожные дни, с Галей творилось что-то странное. Мать с затаенной опаской приглядывалась к дочери, боялась какого-нибудь неожиданного и необдуманного поступка. Чуткое материнское сердце подсказывало причину Галиного беспокойства: дочка полюбила. Девушка напряженно думала о том, как помочь Андрею, мучительно искала выход. Она отправилась к Тоне, категорически наказала подружке: — Завтра обязательно разыщи Киреева и приведи ко мне. — А чего его искать, если он сам каждый день объявляется? Как узнал мой телефон, по пять раз в день названивает. Перед сном опять позвонит. — Влюбился? — Да уж не знаю. Последний раз три часа с ним прощались. То он меня проводит до дому, то я его провожу до автобусной остановки. Так и ходили до полуночи. — А поцеловать пытался? — Вот еще! У меня не забалуешься. — Ладно, играйте в кошки-мышки. Однако не забудь, что я сказала: приходи с Киреевым ко мне завтра. Киреев, Галя и Тоня собрались на экстренное совещание в Галиной квартире. Галина мать поставила на стол самовар, а сама ушла с соседкой в кино. — Что же, мы так и будем сидеть сложа руки, ждать у моря погоды? — начала разговор Галя, обращаясь к Кирееву. — Ты, как мужчина, как друг Андрея и сам офицер, не имеешь права бездействовать. Обязан что-то предпринять, хотя бы посоветовать. Нельзя же так, я места себе не нахожу, готова горы перевернуть. Прошу тебя, Виктор, помоги. — Надо прямо смотреть на вещи, — рассудительно сказал Киреев. — Сегодня я еще раз обращался к замполиту. Он внимательно выслушал и сказал то же, что и полковник: ничего, мол, нельзя изменить, дело зашло слишком далеко. Теперь все зависит от высшего начальства. Представляете ситуацию? Что мы с вами можем сделать? — Кто-нибудь может повлиять? — настойчиво твердила Галя. — Или никто не властен? Киреев хотел охладить Галин пыл, попытался свести разговор к шутке. — Уверяю вас, девочки, это не нашего ума дело. Есть воинский устав, есть законы. А вообще с женщинами советуются, выслушивают их мнение и делают все наоборот. — Не остри, пожалуйста! — оборвала его Галя. — Андрей страдает, а ты шута корчишь. Какой же ты друг? Киреев рассердился, но сдержал себя. Отставил чашку, варенье, ответил серьезно: — Дружба дружбой, а служба службой. — Я, кажется, придумала верный ход, честное слово, Виктор. По-моему, все получится, если ты возьмешься за это дело. — Какое? — заинтересовался Киреев. — Ты должен слетать в округ. Понимаешь? Виктор покачал головой. — Я не имею права нарушать субординацию, Галя. Через голову начальства к генералу? Не положено... — Андрей тоже не имел права летать под мостом, а полетел, — перебила его Галя. — Мое «геройство» кончится тем же. Разве что вдвоем нам веселее будет сидеть на «губе». — Он правду говорит, Галя, — вмешалась Тоня. — Надо что-то другое придумать. — Боюсь, — сказал Киреев, — что генерал тоже не поддержит моей просьбы. — Почему? — удивилась Галя. — Далеко не все офицеры одинаково смотрят на «подвиг» лейтенанта Медникова. Очень многие осуждают, и я в том числе. — И ты? — возмутилась Галя. — Вот это новость! А я думала, ты Андрею настоящий друг. А ты... Почему же ты против? — Мы уже достаточно взрослые, чтобы уметь владеть собой и знать цену нашим поступкам. Для покорения девичьих сердец существуют тысячи других способов. Галя вскочила из-за стола, сердито сжимая кулаки: — Не смей так! Не смей! Теперь я вижу, какой ты. Уходи, нам не о чем с тобой говорить. Уходи! — Не кипятись, Галка! — схватила подружку за руку Тоня. — Что ты пристала к Виктору? Он же не министр обороны, приказал — и все! Он ведь ходил к командиру. Но Галя не хотела больше ничего слушать, схватила фуражку, сунула в руки Кирееву. — Прощай! Оскорбленный Киреев, еле сдерживая себя, взял фуражку, сквозь зубы сказал Гале, окинув ее уничтожающим взглядом: — Тебе нужно лечить нервы и учиться владеть собой, вздорная девчонка! Если бы ты была парнем, я с удовольствием влепил бы тебе оплеуху. Галя отвернулась к окну. Киреев вышел не оглянувшись, за ним тут же выбежала Тоня, догнала его во дворе, что-то быстро говорила, взволнованно жестикулировала. Галя зло смотрела на них из окна, слышала голос подружки, но не хотела понимать ни одного слова. Она захлопнула окно с такой яростью, что задребезжали стекла. Тоня вернулась к подруге. — Зачем пришла? — сердито встретила ее Галя. — Уходи и ты. Тоня знала вспыльчивый нрав Гали, не приняла ее сердитые слова всерьез. — Перестань беситься, Галка. Шипишь, как раскаленная сковородка. Разоралась на всех, разбуянилась. Лучше пореви, легче станет. Тоня подтолкнула Галю к дивану. — Садись, отдохни, с ног небось валишься. Галя покорно села на диван, обняла Тоню, но не размягчилась, не заплакала. В комнате стало тихо. На столе, возвышаясь над чашками, стоял самовар и тихо посапывал, будто уснул. Подружки долго сидели обнявшись. Наконец Галя встала, прошлась по комнате, обошла вокруг стола. — Знаешь что, Тоня? Я сама напишу письмо министру. — Вот придумала! — засмеялась Тоня. — Он даже читать не станет. Думаешь, у министра есть время на это? В глазах Гали светился упрямый огонек, она, казалось, не слышала, что говорила подруга. Когда Тоня ушла, Галя забилась в свою комнату и принялась писать. Она не заметила, как возвратилась мать, убрала со стола. Девушка просидела всю ночь, рвала исписанные листы, снова писала. Наконец письмо было готово. Галя переписала егонабело, вложила в конверт и понесла опустить в почтовый ящик. На дворе уже рассветало.
10
Полковника Сливу подспудно тревожило чувство вины перед лейтенантом Медниковым. Время шло, а никакого ответа на донесение из дивизии и из Москвы не было. Все занимались своими делами, на аэродроме продолжалась нормальная жизнь, а Медников ждал своей участи. Полковник понимал, как тяжело молодому офицеру, хорошему летчику, переносить наказание, быть отстраненным от полетов, изолированным от коллектива. Вечером Слива позвонил замполиту домой. — Слетал бы ты в округ, — предложил он Червонному. — Возьми инструкции для семинара политработников и заодно подтолкни дело Медникова. — А может, не стоит, Николай Сергеевич? Мы доложили, пусть и решают. Замполит считал, что лучше не проявлять инициативы, так как из разговоров с политработниками ему было известно, что начальство в округе не одобряет полет Медникова. Один полковник прямо сказал: «Это, дорогой Червонный, чистой воды анархизм и разгильдяйство». — Сколько же это может длиться? — возразил полковник. — Все-таки наш офицер, мы обязаны беспокоиться. И к тому же не такое преступление, сам знаешь. — Вы уже смягчаете приговор, товарищ полковник? — осторожно укорил командира Червонный. — Я понимаю, мне тоже жаль Медникова. — Дело не в жалости, — ответил полковник. — Мы с тобой, замполит, отвечаем за все, что делается в части. Поэтому вылетай, пожалуйста, завтра с Якушиным, его вызывают на завод по поводу испытаний нового истребителя, и действуй. Конечно, не в лоб, сообрази по обстановке, проведи разведку. — Хорошо, Николай Сергеевич, я слетаю. Но и визит Червонного в округ не ускорил дела. Ему прямо дали понять, что округ решать ничего не будет без Москвы. — Вы хотя бы напомнили, — попросил Червонный. — Дважды напоминали, — ответил политработник, с которым говорил замполит. — Уже подготовлен подробный доклад главному маршалу. А он — ты ведь, наверное, читал в газетах? — в отъезде. Улетай в часть и жди. Получим указание, немедленно сообщим. Прошло еще несколько дней, никаких «указаний» не поступало. Медников уже не на шутку волновался и нервничал. Время тянулось томительно и нудно. Однажды Медников сидел у окна и с тоской смотрел в небо, где пролетали самолеты. Жгучая тоска охватила его, в висках застучала кровь. «До каких же пор терпеть эти муки? — горько подумал он, рванулся к окну, упал грудью на подоконник. — Сколько дней еще ждать? Когда же разрешат мне снова сесть в самолет? А если никогда? Если это конец?» От одной этой мысли у Медникова закружилась голова, красный туман поплыл перед глазами. Он отошел от окна, бросился на койку, зарываясь лицом в подушку. Он не услышал, как открылась дверь в его комнату. Вздрогнул, когда кто-то дотронулся до его плеча, осторожно толкнул. Медников живо поднялся и увидел перед собой полковника Сливу. — Не беспокойтесь, лейтенант, садитесь, — приветливо сказал полковник. — Я на минутку, проходил поблизости и завернул. Медников вытянулся перед командиром полка. — Пришло решение, товарищ полковник? — почти радостно спросил он и осекся. Полковник снял фуражку, сел на табуретку. — К сожалению, никакого решения еще нет, — тихо сказал он. — Я хотел узнать, не нуждаетесь ли в чем. Может, есть просьбы. Скажите, не стесняйтесь. — У меня одна просьба, товарищ полковник. Разрешите летать. Комполка встал, прошелся по комнате, остановился перед Медниковым. — Этого я не могу, — четко выговаривая слова, ответил полковник, глядя в лицо офицеру. — Я до сих пор не понимаю, что вас толкнуло на такой рискованный шаг? — Я летчик, товарищ полковник, и полагаю, что люди овладели крыльями для того, чтобы быть их хозяевами, а не рабами. Полковник надел фуражку. — Желаю здравствовать, — без раздражения и зла сказал он летчику. — Если будут какие просьбы, скажете. Под вечер к Медникову пришел Киреев, стал рассказывать о полетах, передал приветы от товарищей. Медников, злой и мрачный, смотрел в окно, ни о чем не спрашивал и рассеянно слушал. В эти минуты его больше всего занимала ласточка, которая бойко порхала над лужей, взлетала к крыше и снова падала к воде, почти касалась ее крылом и стремительно взмывала вверх. Киреев перестал говорить. — Ты здоров? — неожиданно спросил он друга. — Как бык, — ответил Медников, продолжая смотреть в окно. Киреев рассказал ему о своей ссоре с Галей. Медников никак не реагировал на его слова, только нервно дернул плечом, когда Киреев повторил, что он тоже осуждает поступок Андрея. Выговорившись, Киреев замолчал, ждал, что скажет Медников. — Ты что молчишь? — рассердился Киреев. Медников, не оглядываясь, сказал: — Молодец Галя, что прогнала тебя. Мне, знаешь, тоже не очень радостно от твоего прихода. — Ну и черт с тобой! Я уйду! Уйду! Медников даже не шелохнулся и только по стуку двери понял, что Киреев и в самом деле ушел.
11
Галино письмо было доставлено в Москву и попало в канцелярию Министра обороны. Пожилой полковник с аккуратно причесанными черными седеющими волосами, изо дня в день читающий множество всевозможных жалоб и запросов, и это письмо начал читать с обычным профессиональным вниманием, не проявляя интереса ни к стилю, ни к чувству пишущего, стараясь поскорее схватить суть дела. Быстро пробежав глазами письмо, он вернулся к первой странице и теперь уже медленно прочитал еще раз с первой до последней строки. С сомнением показал удивившее его послание другому, очевидно старшему по должности, полковнику. — Взгляните, Евгений Иванович. — Что такое? — Начало можно опустить, а вот здесь прочтите. О каком-то фантастическом полете на реактивном истребителе. По-моему, этого не может быть. Евгений Иванович сначала прочел указанное место насчет полета под мостом, но так же, как и его коллега, вернулся к первой странице и прочитал письмо от начала до конца. — Да, действительно какая-то фантазия. И пишет девушка, влюбленная, просит за молодого летчика. Очень искренний тон. Реактивный самолет пролетел под аркой моста. Невероятно... — Я, правда, не специалист в авиации, все же сомневаюсь, ничего подобного не приходилось слышать. — Попробуем что-нибудь узнать, — сказал Евгений Иванович. — Очень искреннее, кажется, письмо. Он снял трубку и позвонил в Управление Военно-Воздушных Сил знакомому генералу. Прочитал по телефону из письма те строки, в которых говорилось о полете, и спросил, возможно ли это. — Невероятно, но такой факт имел место, — забасил в трубку генерал из ВВС. — Откуда письмо? Евгений Иванович взглянул на конверт. — Из города С. — Совершенно верно. А фамилия летчика? — Лейтенант Медников. — Точно. Об этом случае мы получили подробное донесение из округа. — И какое принято решение? — Приготовлен доклад главному маршалу. Ждем его возвращения. — Летчик допущен к полетам? — Да нет, отстранен. — Благодарю вас, — сказал Евгений Иванович. — Мне все ясно. Он положил трубку, но письма из рук не выпускал. — Значит, факт? — спросил полковник с седеющими волосами. — Серьезное дело? Чудеса! — Думаю, лучше доложить об этом письме министру. Оставьте у меня, я выберу время. Дня через два Евгению Ивановичу выпала возможность зайти с докладом к министру. Министр был немолодой человек, с утомленным лицом. Заслуженный человек, дважды Герой Советского Союза, он был из тех людей, которые отдали армии всею свою жизнь, прошли тернистый и славный путь. Длинна была его дорога к министерскому кабинету, и начало ее уходило к далеким временам первой мировой войны. Он строил Красную Армию, воевал против фашизма в Испании. Во второй мировой войне был среди славной когорты советских полководцев. Одним словом, военный министр был старый, бывалый солдат. Выслушав короткий рассказ полковника о чрезвычайном случае с летчиком-истребителем, министр зорко взглянул на Евгения Ивановича через стекла очков. — На реактивном истребителе пролетел под мостом? — переспросил он. — Вы, наверное, что-нибудь напутали? — Никак нет, товарищ маршал. Все точно. — А ну покажите письмо. Министр взял письмо. По мере того как он читал, с его лица как бы сходили утомленность и хмурость, он даже поудобнее откинулся на широкую спинку кресла и добродушно покрякивал. Неподдельное волнение, горячность и искренность молодого чувства, которым дышало каждое слово письма, тронули сердце старого солдата. Девушка никак не могла смириться с тем, что ее жених, молодой летчик, совершивший, с ее точки зрения, отважный поступок, несправедливо наказан. Она умоляла министра вмешаться в это дело и решить все по справедливости... Кончив читать, министр мягко улыбнулся. — Счастливый человек, — сказал он, снимая очки. — Кто, извините? — Да этот летчик. Вас, полковник, когда-нибудь так любили? Позавидуешь. Полковник застенчиво улыбнулся. Министр опять взял в руки письмо. — А не вранье это? — Никак нет. Я лично проверял у генерала Дорогина. Все факты соответствуют действительности. В ВВС получен по этому делу рапорт командующего округом. — И что решено? — Пока никакого решения, подготовлен доклад главному маршалу. Говорят, такой исключительный случай, никто не берет на себя ответственность, а главный маршал, вы знаете, в отъезде... К министру снова вернулись озабоченность и усталость. — От моего имени прикажите генералу Дорогину немедленно явиться ко мне со всеми документами. — Слушаюсь, товарищ маршал. Сию минуту позвоню. Генерал Дорогин явился к министру взволнованный и несколько растерянный. Громко поздоровался, сбивчиво начал докладывать: — Товарищ маршал, по вашему приказанию... — Давайте-ка сюда дело. Садитесь, — перебил его министр. — Вы проверяли факты? — Все точно, товарищ маршал, — доложил генерал, продолжая стоять по стойке «смирно» и теряясь в догадках, чем все это обернется. Министр внимательно прочитал все документы, ни разу не взглянув на генерала и не задав ни одного вопроса. Кончил читать, потянулся к чернильнице за ручкой и бросил на генерала короткий взгляд исподлобья. — Летчик все еще под арестом? — По сегодняшним сведениям из округа, да. — Надо же так, — покачал головой министр. — Горячая голова, молодое сердце. Решил постоять за честь офицера... Нам, старикам, только и приходится ворчать да учить осторожности, а молодежь дерзает. Может, не всегда разумно, однако и не бесполезно. — И на первом листе дела летчика Медникова он неторопливо, четким и разборчивым почерком написал: «Офицера пожурить. К полетам допустить».
КТО НЕ БОИТСЯ МОЛНИЙ

Арифметика и коньки
Сашина парта стояла возле окна, и он хорошо видел школьный двор, усыпанный снегом и обнесенный серой бетонной оградой. От ворот медленно продвигался дворник с широкой лопатой в руках — расчищал дорожку. Подбрасываемые им комья сухого снега рассыпались на ветру, и легкая белая пыль летела на черный полушубок дворника. Саше приятно было смотреть в окно и думать о том, что скоро прозвенит звонок и можно будет выбежать во двор на трескучий мороз, глотнуть захватывающего дыхание и обжигающего щеки воздуха. — Соловьев Александр! — прервал его мысли голос учительницы Марии Павловны. — Иди к доске. Это было совсем некстати. Саша с досадой отвернулся от окна, нехотя вытащил из портфеля дневник и пошел к доске. — Решай сто восемнадцатую задачу. Пиши четко и объясняй вслух. Постукивая мелом громче, чем следовало, оттягивая время в надежде на спасительный звонок, Саша не торопясь переписал условие задачи и остановился, переминаясь с ноги на ногу, прислушиваясь к подсказкам. По классу со всех сторон неслось глухое гудение и шипение, и в этом гуле невозможно было уловить ни одного внятного слова. Саша с наигранным бесстрашием поглядывал то на Марию Павловну, то на ребят, потом схватил мокрую тряпку, стал яростно вытирать доску, размазывая белесые меловые полосы, Тер доску так ожесточенно, будто хотел смыть все неприятное, что произошло с ним на уроке. — Ясно, — строго сказала учительница. — Возьми дневник и садись на место. Я поставила тебе двойку и написала, чтобы пришли родители. Передай им, пожалуйста, мою просьбу. Не забудь. Саша, опустив голову, поплелся к своей парте. Но едва раздался звонок, он вскочил, схватил портфель и бросился к дверям. В раздевалке быстро надел шапку, пальто, натянул варежки и через минуту был уже во дворе. Слева и справа в него полетели снежки, кто-то метким броском залепил снегом лицо. Саша воинственно ринулся в толпу ребятишек, ловко стал отбиваться. Ребята моментально разбежались в разные стороны. — Приветик! — крикнул им Саша, остановившись за воротами. — Кто со мной на каток? Нет охотников? Ладно, зубрите свою арифметику. Он помчался к остановке автобуса. Бежать было хорошо, только портфель оттягивал руку, потому что в нем кроме учебников Саша носил еще коньки с ботинками. Ноша, конечно, тяжелая, но приятная. Собственно, коньки-то и были причиной всех бед, обрушившихся на Сашу в последнее время. И двойка по арифметике, и запись в дневнике появились из-за них же, из-за коньков. А что еще будет дома, когда он покажет дневник маме! Но лучше об этом не думать.
Встреча с незнакомцами
Саша отправлялся на каток прямо из школы, потому что дома в это время никого не было. Мама с утра на фабрике, а отец уехал в командировку: он проводник поезда Москва — Владивосток. Есть еще тетя Нюра, мамина сестра. Она работает уборщицей в парикмахерской, по «скользящему» графику. Это такой график, по которому тетя Нюра один день с утра до вечера бывает на работе, как сегодня, а потом два дня отдыхает. Через четверть часа Саша появился на льду детского катка. — Давай сюда! — закричали, увидев его, ребята. — Нынче мировой лед! Сила! Саша пробежал несколько шагов по мерзлой земле, усыпанной хрустящим снегом, выскочил на край ледяного поля. Не обращая внимания на ребят, пошел по самому большому кругу, позванивая коньками по твердому льду. Два мальчика в спортивных куртках и девочка в красном свитере припустились за ним, но не смогли догнать. Сделав большой круг, Саша подкатил к товарищам. Они сразу обступили его со всех сторон. — Здорово, чемпион! — Как лед! Нравится? — Порядок, — независимо бросил Саша. — Для мировых соревнований годится. Расталкивая ребят, к Саше протиснулись две девочки из соседнего двора — Томка и Лена. — Покажи класс, — попросила Томка. — Я к вам не нанимался. — Задавака! Мы тебя с самого утра ждали. — То-то у вас сосульки под носом намерзли. Ладно, смотрите, если охота. Саша поднялся на носках, царапнул лед коньками, откатился назад. Подпрыгнув, напружинился, рванулся с места и побежал по ледяной глади. Выскочил на середину катка и, плавно покачиваясь, поплыл по кругу, не отрывая ног ото льда. Коньки, словно волшебные, несли Сашу все быстрее и быстрее. Тома и Лена не спускали глаз с конькобежца, пристроились на скамейке рядом с незнакомыми мужчиной и женщиной, которые давно уже сидели здесь, наблюдая за ребятами. Мужчина поднял меховой воротник, надвинул на лоб пыжиковую шапку. Поглядывая сквозь роговые очки, достал сигарету, зажал позолоченный ее кончик губами, зажег спичку и прикурил. Его соседка, в серой синтетической шубке и красных войлочных ботинках, внимательно наблюдала за маленьким фигуристом, машинально сметала со скамейки снег красной варежкой. — Крути, Саша! Браво! — подзадоривали ребята. — Давай еще! Подогреваемый криками одобрения, Саша входил в азарт. Быстро и легко носился по кругу, резко подпрыгивал, плавно опускался на лед и проносился мимо расступившихся товарищей. То вдруг наклонялся вперед, раскидывал руки в стороны и поднимал одну ногу, изображая ласточку, то неожиданно останавливался и крутился как волчок на одном месте, снимая со льда тонкую стружку, рассыпавшуюся серебряной пылью под острыми блестящими коньками. Мужчина в пыжиковой шапке перестал вертеть в руках трость с точеной головой легавой собаки. Женщина прекратила сметать снег со скамейки. Они переглянулись и пошли к ребятам. Как раз в это время Саша сделал последний прыжок, резко затормозил и остановился перед товарищами. — Здравствуй, мальчик, — поздоровался мужчина. — Можно тебя на минутку? Саша посмотрел на неожиданно появившихся незнакомцев. — Здравствуйте. Мужчина и женщина дружески улыбнулись ему. — Нам нужно поговорить с тобой, — продолжал мужчина. — Ты можешь пойти с нами в помещение? — Мне бы еще покататься, — посмотрел на ребят Саша, как бы спрашивая их мнение. — Лед нынче вон какой, жалко время терять. — Мы ненадолго тебя отвлечем. Пойдем в буфет. Там уютно, тепло. — Ладно, — согласился Саша. — Если недолго, пойду.
Неожиданное приглашение
В буфете почти никого не было. Они уселись на желтых плетеных стульях вокруг синего столика. — Ты любишь сосиски? — спросил у Саши мужчина. Саша пожал плечами: — Если горячие и с горчицей. — А пирожное? — Наполеон или картошку. — Можно и то и другое. — И кофе с молоком? — улыбнулась женщина. Саша кивнул. Буфетчица быстро подала все, что было заказано, получила деньги. — Ты в каком классе учишься? — спросила женщина, приступая к деловому разговору. — В четвертом. Мне уже одиннадцатый год. — Как тебя зовут? — поинтересовался мужчина. — Саша. — Давно на коньках катаешься? — С шести лет. Папа в день рождения подарил, с тех пор и катаюсь. — Ешь, — предложил мужчина, пододвигая мальчику тарелку. — Бери горчицу. Мужчина и женщина тоже придвинули к себе сосиски. Однако прежде чем начать есть, мужчина сказал: — Так вот, Саша, для начала давай познакомимся. Мы с Маргаритой Сергеевной работаем на киностудии. Она ассистент режиссера, я — режиссер. Меня зовут Борис Лукич. Саша нерасчетливо глотнул горчицы больше, чем следует, и поперхнулся. — Ты видел картину «На всех парусах»? — спросил Борис Лукич. — Ага, — откашливаясь, прошептал Саша. — Еще в прошлом году. Здорово там попугай с собакой разговаривает. Как вспомнишь, смех разбирает. Мальчик с любопытством смотрел на Бориса Лукича. Он первый раз видел кинорежиссера. Интересно было поговорить с таким человеком. Борис Лукич налил себе пива, отхлебнул, затянулся сигаретой. — А картину «Птица Феникс»? — Тоже ваша? — удивился Саша. — Моя. — Эту мы с папой в «Художественном» смотрели. Похлеще первой будет, честное слово. Я все картины смотрю, только больше по телевизору. В кино не пускают, говорят, уроки надо делать, нечего зря шляться. — А ты хотел бы сниматься в кино? — осторожно спросила Маргарита Сергеевна. Вопрос был настолько неожиданный, что Саша перестал жевать. — Еще бы! Кто от этого откажется? Только я не умею. — А мы научим, если подойдешь на роль, — успокоил Борис Лукич. Саше не верилось, что ему всерьез предложили сниматься в кино. Видно, шутят. — Как же можно научиться? — недоумевал он. — Наверное, ты и арифметики не знал, пока не пошел в школу и не научился? — спросил режиссер. — Правда? — Этому все научаются, — неуверенно произнес Саша. — Что тут особенного? — У нас, конечно, посложнее, но все-таки можно сообразить, если есть способности. Не боги горшки обжигают. Слышал такую поговорку? Борис Лукич поднял стакан с янтарным пенистым пивом и, не торопясь, выпил все до дна. — Так как ты смотришь на наше предложение? — Я-то что? — пожал плечами Саша. — Я постараюсь. — Кое-что ты уже умеешь, — продолжал Борис Лукич. — Отлично катаешься на коньках. В данном случае это для нас почти самое главное. И если подойдешь по другим данным, возьмем на главную роль. — Почему же не подойду? — обиделся Саша. — Если сомневаетесь, зачем приглашаете? — У нас, брат, не так все просто. Ты сам увидишь, когда познакомишься со сценарием. Фильм будет называться «Кто не боится молний». Один из героев — мальчик, такой вот, как ты: забияка и сорванец, а главное — отличный конькобежец, этакий талант, самородок. — Это я смогу, — заверил Саша. — Я и сам убедился, какой ты фигурист. Вот и Маргарита Сергеевна видит. Она-то тебя и нашла, она умеет выбирать артистов. На этот счет у нее собачий нюх. Маргарита Сергеевна с укоризной взглянула на Бориса Лукича. — Ну при чем тут «собачий нюх»? — Извините. Привычка, — буркнул режиссер, обнимая Сашу за плечи. — Ну какой же ты молодец! Маргарита Сергеевна дружелюбно улыбнулась, заглядывая Саше в лицо. — Ты нам очень понравился, Саша, — шепнула она мальчику. — Борис Лукич редко хвалит. От волнения Саша раскраснелся. Борис Лукич деловито вырвал из записной книжки листок, написал несколько слов и подал Саше. — Вот тебе адрес нашей киностудии. Запомни, я буду ждать тебя завтра в десять утра. Приходи с мамой или папой. Снимем тебя на кинопленку, посмотрим, что получится. — Папа в командировке, — сообщил Саша. — С мамой можно прийти? — С мамой так с мамой. Только обязательно приходи, мы будем ждать.
Первые препятствия
Домой Саша вернулся поздно. Размахивая тяжелым портфелем, быстро поднялся по лестнице на шестой этаж, несколько раз нетерпеливо нажал кнопку звонка. Дверь открыла Сашина мать — Лидия Васильевна. На сияющую улыбку сына она ответила строгим взглядом. — Где ты шляешься, непутевый? Иди-ка в комнату, поговорим. «Начинается!» — подумал Саша и стал раздеваться не спеша, лишь бы оттянуть неприятный разговор. Долго развязывал шнурки, искал домашние тапочки. Наконец вошел в комнату. — Доставай-ка дневник, показывай, — приказала мать. Саша неохотно вернулся за портфелем. — Ну вот, обрадовал! — воскликнула Лидия Васильевна, заглянув в дневник. — Опять двойка, и опять я должна идти в школу, краснеть за тебя. Саша молчал. — До каких же пор это будет продолжаться? — Ерунда! — дернул плечами Саша. — Чего шуметь из-за пустяка. — Ишь какой умный! Целый день на катке пропадаешь, ногами вертишь, а уроков не делаешь. Вот и результат. — Как же, не делаю, — буркнул Саша. — Пообедаю и за уроки сяду. — За такое учение раньше без обеда оставляли. Из кухни с полной тарелкой дымящихся щей вошла тетя Нюра. — Не мучь ты его, дай ребенку отдохнуть, — остановила она сестру. — Небось с утра не ел, проголодался. Садись за стол. Саша сел к столу, облегченно вздохнул. Кажется, кончился неприятный разговор, туча прошла. — Руки помой, — подсказала мать. — Да хорошенько намыливай, а то после тебя полотенце черным делается. Саша покорно сходил в ванную, трижды намылил руки розовым семейным мылом, сполоснул, подул на ладони и, боясь запачкать полотенце, вытер их о рубашку. Сел к столу, запустил ложку в густые щи, с аппетитом принялся есть. Сразу успокоился, забыл про неприятности. Поиграл ногой с котенком, который вертелся около стола. Выловил в тарелке кусочек мяса, бросил на пол. — Ешь, Васька, вкусно. Бойко работал ложкой, а сам думал о том, как бы похвастаться, что его пригласили на киностудию. Теперь только заикнись о кино, такой шум поднимется: «С уроками не справляешься, а глупости выдумываешь!» Ладно, отца нет дома, а то влетело бы. А здорово бы выйти в знаменитые артисты, попробовала бы тогда Мария Павловна делать в моем дневнике записи красными чернилами. С Бондарчуком небось так не поступали. Тетя Нюра принесла котлеты и компот. Погладила племянника по голове, дружелюбно подмигнула: — Ешь, милый, не расстраивайся. После обеда Саша сел за уроки. Когда начал решать задачки, позвал мать: — Мамочка, помоги, пожалуйста, — попросил он. — Одну решил, а вторая не получается. Мать подсела к сыну. — Ну что, сынок, где заело? Саша прочел условие задачи. — Сколько действий в этой задачке? — спросила Лидия Васильевна. — Три. — Правильно. А какой первый вопрос? — Сперва нужно узнать, во сколько раз мешков с картофелем было больше, чем мешков с горохом. — Верно. Теперь пиши. Только аккуратно, не торопись, чтобы помарок не было. Так они позанимались минут сорок, решили все задачки, сверили ответы. — Вот видишь, Саша, ты умеешь, когда захочешь, — улыбнулась мать. — Я же способный, мама. Ну, бывают ошибки, так это со всяким случается. Лидия Васильевна засмеялась и потрепала Сашины волосы. «Вот теперь самое время сказать про кино», — подумал Саша. И вдруг услышал: — Придется тебе расстаться с катком. Хватит одного воскресенья. Саша испуганно схватил мать за руку: — Коньки мне совсем не мешают, мама. Если хочешь знать, из-за того, что я хорошо катаюсь, меня сегодня пригласили сниматься в кино. — Вот еще глупости! Кто-то пошутил, а ты и поверил. — Честное слово, пригласили. Завтра на киностудии будут пробную съемку делать. И в подтверждение показал записку Бориса Лукича. — Велели с тобой приезжать. — Я же занята на работе. — Тогда с тетей Нюрой. Лидия Васильевна не соглашалась. — Это ни к чему, — ласково уговаривала она Сашу. — Ты совсем отстанешь по арифметике, не переведут в пятый класс. И вообще это тебе не подходит. — Подходит, — упорствовал Саша. — Я лучше знаю, все это глупости, зря время терять. Ты же говорил, что хочешь быть капитаном, а теперь в артисты просишься. — Я только попробую, интересно же. Ну, мама, разреши! Пожалуйста! Лидия Васильевна подыскивала удобный предлог, чтобы отвлечь Сашу от этой затеи. Мальчик и так разболтался, в учебе отстает. — Я не могу решать без папы. Вот приедет, тогда и обсудим. — Он не будет возражать, я знаю. — Как не возражать, если ты отстаешь по арифметике? — Видела, как я сегодня быстро решил задачки? Могу же я подтянуться? — И со школой надо посоветоваться. Согласится ли Мария Павловна? — Я не школьный, я ваш сын, вы и решайте. А они согласятся... — Нет, нет, — прервала его Лидия Васильевна. — Я считаю, что тебе не нужно сниматься в кино, это для легкомысленных людей. Саша нахмурился. — А что тут особенного? — вмешалась тетя Нюра. — Другие дети снимаются, а он чем хуже? И лицо у Саши приятное, самый раз для кино. Саша с благодарностью посмотрел на тетю Нюру и тут же предпринял новую атаку. — Из нашей школы еще никогда никого не снимали, мамочка. Меня первого пригласили. Сказали, никто не умеет на коньках кататься так хорошо, как я. А ты не пускаешь. Разреши завтра с тетей Нюрой съездить на киностудию? — И то правда, — подхватила тетя Нюра. — У меня как раз выходной, мы и съездим. Я знаю, как туда добраться. Это на Ленинских горах. — В организованное наступление пошли? — засмеялась мать. — Временно сдаюсь, только с условием: пойдете пока на разведку. — Значит, разрешаешь, мама? — Сходить на киностудию и все узнать, а решать будем, когда приедет папа. И с Марией Павловной обязательно посоветуемся. Саша запрыгал по комнате. — Ура! Завтра едем на киностудию. Тетя Нюра, погладь, пожалуйста, мою рубашку и почисть ботинки. — Нет уж, милый, давай придерживаться порядка. Рубашку я поглажу, а ботинки почистишь сам. — Есть, чистить ботинки самому! — откозырял Саша и кинулся в прихожую.
Не потеряйте Сашу!
На следующий день Саша и тетя Нюра прибыли на киностудию в назначенное время. Троллейбус остановился у высокой решетчатой ограды, за которой стояли большие многоэтажные корпуса. В нескольких шагах от себя они увидели широкие ворота под каменной аркой, окрашенной в яркий желтый цвет. Подножием арки служили два маленьких домика с колоннами и узкими дверями, через которые входили и выходили люди. В проходной их встретила Маргарита Сергеевна. — Это твоя мама? — спросила она. — Нет, это тетя Нюра, — ответил Саша. — Мам на работе. По наклонной асфальтовой дорожке они прошли мимо сада, спустились к главному зданию. Саша смотрел во все глаза. Ему казалось, что вот сейчас, как только он войдет в здание, сразу же увидит съемку. Но этого не случилось. Сначала попали в вестибюль, где одевались и раздевались сотрудники, потом поднялись на лифте, зашагали по длинному коридору, завернули направо, потом налево, потом опять налево мимо множества дверей. Казалось, коридору не будет конца. Но вот Маргарита Сергеевна остановилась возле одной двери. — Здесь наша съемочная группа. Борис Лукич уже ждет, представимся ему в самом лучшем виде. Она окинула взглядом Сашу, застегнула пуговицу на школьном кителе, поправила всклокоченный хохолок. — Идемте. — И открыла дверь, на которой висела табличка «Кто не боится молний». Они вошли в светлую комнату с малиновыми стенами. — Подождите меня здесь, я сейчас вернусь, — сказала Маргарита Сергеевна и скрылась в дверях смежной комнаты с табличкой «Не мешать! Идет репетиция!». Саша уселся на диване, стал разглядывать комнату. У самого окна погрузился в кресло пожилой лысеющий мужчина, он сосредоточенно читал газету. На стульях рядом с ним шушукались мальчик и девочка такого же возраста, как Саша. Они с интересом посмотрели на Сашу, переглянулись, подошли к нему. — Сниматься пришел? — спросила девочка. — Не знаю, — пожал плечами Саша. — Пробовать будут. — Первый раз? — поинтересовался мальчик. — Первый. — Как тебя зовут? — Саша. А тебя? — Гриша. А ее — Вера. Она моя сестра. Мы с ней снимались в фильме «Попались в сети», он еще не вышел на экран. — У окошка сидит наш дедушка, он нас привозит на студию, — подхватила Вера. — Нас опять пригласили, в другом фильме снимать будут. Саша с уважением посмотрел на своих новых товарищей. — А трудно? — спросил он. — Долго вас тут учили? — А ты как думал? — хвастливо ответил Гриша. — Не всякий сможет. Верочка сделала непроницаемое лицо. — Борис Лукич знаешь какой строгий? — сообщила она тоном большой артистки. — В прошлом году из двадцати семи девочек отобрал меня одну. А мальчиков было тридцать два, наш Гриша чуть-чуть не завалился. — Чего болтаешь? — перебил ее брат. — Это было в самом начале, а потом я выправился. — Не шумите, — остановил детей лысый дедушка. — Здесь нельзя. Ребята на минутку притихли. Из соседней комнаты появилась Маргарита Сергеевна. В приоткрытую дверь долетели слова: — Кричите во все горло: «Па-ром-щик! Паромщик!» Там шла репетиция. Женский визгливый голос громко звал паромщика. Маргарита Сергеевна плотно закрыла дверь, тихо прошла через комнату, наклонилась к Саше. — Борис Лукич репетирует. Придется часок подождать. А вы, ребятки, — обратилась она к Верочке и Грише, — поищите нашего гримера Серафиму Петровну. Скажите, Борис Лукич просит прийти. — А где она? — спросил Гриша. — Кажется, в четвертом павильоне. — Можно, мы возьмем с собой мальчика? — попросила Вера. — Он никогда не был на киностудии, ему интересно. — Хочешь с ними, Саша? — обернулась Маргарита Сергеевна к мальчугану. — А можно? — привстал с места Саша, — Пожалуйста. Только ровно через час вернитесь. Вера и Гриша были хорошо знакомы с Маргаритой Сергеевной, с гримером Серафимой Петровной, так как всего несколько месяцев назад вместе работали на картине «Попались в сети», которую ставил молодой режиссер — ученик Бориса Лукича. Ребята юркнули из комнаты, а тетя Нюра с тревогой высунулась в дверь и крикнула вслед: — Не потеряйте Сашу, непоседы!
Лето в зимней Москве
Вера и Гриша уверенно шли по студии и вели за собой Сашу, спускались по лестницам, переходили через какие-то узкие коридорчики, вновь поднимались и вновь заворачивали то в одну, то в другую сторону. Саша едва поспевал за ними, боялся отстать и запутаться в сложных переходах. По пути им все время встречались какие-то странные люди. Вот прошел господин в черном цилиндре с окладистой седой бородой, а рядом с ним спокойно шагал крестьянин в рваном овчинном полушубке, в лаптях. — «Спартаку» стыдно так играть, — говорил крестьянин господину в цилиндре. — На шестой минуте — второй гол! Позор! — А твой «Нефтяник» лучше? — закричал господин в цилиндре. — Ха! Тоже игроки! Саша с удивлением смотрел на этих странных людей. В одном из них он узнал известного артиста, улыбнулся ему, как старому знакомому, но тот не обратил внимания на детей. В другом месте Саша увидел группу красноармейцев в буденновских островерхих шлемах. Шинелишки порваны, сапоги стоптаны, на буденовках красные звезды. Кое у кого старое ружьишко, у одного на боку висит кривая сабля. Красноармейцы курят сигареты, слушают веселого балагура, смеются. По узкому коридору пробежали девушки в балетных тапочках, в воздушных платьях и шелковых трико. Их было не меньше десяти, все в цветных одеждах: лиловые, синие, желтые, красно-зеленые, оранжевые, желто-синие, черные, красные, фисташковые, терракотовые. — Как в театре, — прошептал Саша и остановился. — И все настоящие. — Пойдем же! — схватила его за руку Вера. — Сейчас попадешь в павильон, прямо на съемку. Они пошли дальше, и Саша чуть не налетел на важного генерала в нарядном мундире, в блестящих высоких сапогах. — Наполеон! — удивленно произнес Саша. — Смотри, Наполеон! — А ты как думал? — спокойно ответил Гриша. — Тут ведь снимают «Войну и мир». — Не задерживайтесь, мальчики, — поторопила их Вера. — Нам же нужно в четвертый павильон. — Успеем. Давай покажем Саше студию, — предложил Гриша. — Тогда идите налево, за мной, — скомандовала Вера, которая лучше брата ориентировалась в путаных переходах. Она подвела мальчиков к высоким железным дверям, похожим на глухие заводские ворота. В них была проделана настоящая дверка, в человеческий рост. Сейчас в павильоне шла подготовка к съемке и не запрещалось ходить и разговаривать. Саша с замирающим сердцем переступил порог, прошел несколько шагов и остановился, зажмурив глаза от яркого, ослепительного света. Вера тихо засмеялась и подтолкнула Сашу вперед. Саша открыл глаза и увидал перед собой залитую солнцем улицу южного городка на берегу моря. Маленькие домики сверкали меловой белизной, громоздясь на склонах холмов и скалистых уступов. На террасах висели связки красного перца и кукурузы, золотились тыквы, крупный репчатый лук, туго сплетенный, как девичьи косы. Тут же на веревках сушились морские бычки и поблескивали на солнце маслянисто-янтарные рыбки, называемые султанками. На узкой улочке, мощенной булыжником, у источника стояла двухколесная тележка, в которую был запряжен ослик. Улочка спускалась вниз между веселыми домиками и кончалась у самого берега моря. В синем морском просторе покачивались белеющие паруса рыбацких шаланд. На улице и на террасах ходили люди в тюбетейках, войлочных шляпах, одетые по-восточному. Женщины были в шароварах и шелковых пестрых платках, закрывавших лицо. Будто какой-то волшебник в одно мгновение перенес Сашу в далекую сказочную страну. Было удивительно смотреть на все это. Всего полчаса назад Саша шел по московской заснеженной улице, прятал уши и нос от мороза, а теперь стоит в солнечном крае, на берегу теплого ласкового моря. Разве это не чудо? — Обалдел? — толкнул его Гриша. — Пойдем к ослику, он забавный. Осторожно шагая по мягкому полу, Саша подошел к ослику, с любопытством взглянул на него. Вера погладила длинноухого по сивой спине, дотронулась до мордочки. Ослик стоял смирно, только скосил на девочку коричневый глаз, повел большим ухом. Вера пощекотала пальчиком около ноздри ослика, и он сразу замотал головой, смешно фыркнул. Ребята засмеялись. Засмеялся и Саша. Больше всего он обрадовался тому, что ослик оказался всамделишным, не тряпичным. — А как же море? — спросил Саша. — Оно тоже настоящее? — Как же оно может быть настоящим в павильоне? — удивилась Вера. — Разве его привезешь в Москву? — Оно нарисовано, — начал объяснять Гриша. — Вон, видишь, дяденька в клетчатом пиджаке и берете? Это художник Левановский, он все рисует. С ним работает целая бригада живописцев. Вера повела Сашу по мощеной улочке к «морю» и остановилась у крашеной стенки из холста. — Смотри, какое это море, — сказала она с видом знатока. — Натянул большущий холст до самого потолка и рисуй себе на здоровье. Хоть море, хоть лес, хоть город. А то просто небо с облаками. Саша дотронулся рукой до холста, с уважением посмотрел вверх. — Интересная штука. Вот до чего додумались, как в сказке. Человек в синем комбинезоне строго сказал: — А ну-ка, ребятки, шагайте отсюда. Не мешайте. — Мы ищем Серафиму Петровну, — сказала Верочка. — Она не здесь, в четвертом павильоне. Вдруг на весь павильон разнеслось: — Тихо! Подготовиться к съемке! Вера схватила Сашу за руку и юркнула с ним за другую сторону «моря». Теперь Саша видел обыкновенный серый холст, прибитый гвоздями к деревянному полу и натянутый до потолка. Ребята пробежали вдоль стены к тому месту, где был кинооператор, скрылись за фанерным щитком. Саша увидел большой киноаппарат на тележке, движущейся по рельсам. Оператор сидел на стуле с гнутой спинкой, как летчик в самолете, и рабочие катали его вместе с киноаппаратом вперед и назад. — Свет! — крикнул оператор. — Свет! И сразу один за другим начали зажигаться прожекторы. Возле тележки появился мужчина с девочкой на руках. Он посадил девочку на тележку, взял ведерко, набрал воды у источника, стал поить ослика. — Отставить! — остановил его самоуверенный молодой человек в черном свитере. — Ты должен делать вот так. — И он стал показывать актеру, как нужно поить ослика. — Это режиссер, — шепнула Верочка Саше. — Сейчас он покажет артистам, как надо делать, потом снимет. Саша не сводил глаз с режиссера и артистов. Они прорепетировали несколько раз сцену. Наконец режиссер сказал артисту: — Хорошо, Коля! — И улыбнулся: — Действуй! Опять раздалась команда: «Тишина! Мотор! Начали!» В павильоне все притихло. Началась съемка. — Молодец! — закричал режиссер и захлопал в ладоши, подходя к актеру. — Теперь убирайте осла, снимем крупным планом девочку. Катенька, причеши Нелю. Гримерша Катенька тотчас же подошла к девочке. Большие прожекторы стали гаснуть, в павильоне потемнело. — Пойдемте дальше, — предложила Верочка. — Тут уже неинтересно. Ребята пробрались к маленькой дверце, через которую они проникли в павильон, и исчезли один за другим.
Гусары, целинники и космонавты
По коридору гулял холодный ветер: в открытые ворота с улицы въезжала грузовая машина с декорациями, направлялась в глубь широкого проезда. Ребята прижались к стенке, пропустили машину и пошли дальше. Высоко над головой вспыхивала и гасла красная табличка с надписью «Тихо!». За поворотом дети увидали небольшой киоск и буфетчицу в белом халате, торговавшую газированной водой и горячими пирожками. На большой площадке, освещенной ярким солнцем, возвышалась серо-лиловая металлическая башня, похожая на основание космической ракеты. Внизу, у подножия башни, стояла группа людей, окружившая невысокого человека в блестящем синем костюме. Здесь несомненно готовились к съемке какого-то фильма о космонавтике, — может быть, о полете на Луну или на какую-нибудь еще более далекую планету. Кто-то крикнул на весь павильон: — Тихо! Закройте дверь! Прекратить разговоры! Заскрипел тяжелый засов. Наступила тишина. Ребята остановились за фанерными щитами, украдкой наблюдали за тем, что происходит в павильоне. Вдруг откуда-то поднялись клубы белого дыма, они стали быстро расти и заполнили все пространство. Нарисованное на холщовом куполе синее небо медленно поплыло вверх. Зазвучала торжественная «космическая» муыка, и Сашей овладело такое чувство, будто он сам должен выйти на старт и через минуту отправиться в космический полет. — Советский космодром, — прошептал над Сашиным ухом Гриша. — Стартовая площадка для космического корабля. — Прямо отсюда полетит? — удивился Саша. — А как же потолок? — Никуда не полетит, — объяснила Верочка. — Здесь снимут, как космонавт поднимается на лифте и садится в ракету. А взлет ракеты будут снимать в другом месте или сделают макет и потом смонтируют. — Откуда ты все знаешь? — спросил Саша. — Не первый раз на студии, мне Маргарита Сергеевна рассказывала. — Пойдемте отсюда, — позвал Гриша. — Тут не скоро начнется съемка. Это же ясно, они не готовы. Женщина в теплом полушубке с ворчанием открыла дверь и выпустила в коридор. Когда ребята входили в третий павильон, какой-то сердитый мужчина закричал на них: — Посторонись! Чего путаетесь под ногами! — Вы не видели гримера Серафиму Петровну? — спросила Верочка. — Не видал. Марш отсюда, быстро! Ребята едва успели уклониться в сторону, как мимо них проскакали два всадника. Громыхая по деревянному настилу копытами, передняя лошадь задела Сашу крутым мохнатым боком, сбила шапку с головы мальчика. Опомнившись, ребята прошли через ворота в ту сторону, куда ускакали всадники, и попали на гусарский бивак. На опушке зимнего леса у костра живописно расположилась группа гусар, одетых в пестрые костюмы. Они пировали и громко пели веселую молодецкую песню:
Вера толкнула Сашу в плечо. — Не стой как вкопанный. Пошли дальше, а то опоздаем. Борис Лукич рассердится. Саше не хотелось уходить от гусар, но ничего не поделаешь, надо следовать за Верой. Наконец Верочка привела своих спутников в четвертый павильон. Тут был построен перрон настоящего огромного железнодорожного вокзала. У платформы стояли всамделишные вагоны с номерами и табличками. В открытые окна высовывались молодые вихрастые парни и веселые девушки, такие же молодые люди с рюкзаками и сумками висели на ступеньках, пробивались в тамбуры. Целая толпа народу провожала отъезжающих. На вагонных табличках было написано «Москва — Целиноград». В одном месте на перроне заливалась гармошка и лихо плясали девушки, в другом — играл духовой оркестр; слева и справа пели песни, все сливалось в сплошной праздничный гул. Саша удивленно смотрел на новое чудо. — Это же Казанский вокзал, ребята! — воскликнул он и радостно засмеялся. — Вот здорово! Саше казалось, что сейчас у одного из вагонов появится его отец, в железнодорожной форме, с чемоданчиком в руках, и издали приветливо закричит сыну: — Эй-эй, Саша! Здорово, сынок! В это время Верочка увидела Серафиму Петровну, подбежала к ней и тихо передала просьбу Бориса Лукича. Серафима Петровна кивнула девочке, стала собирать со столика свои расчески, баночки, тюбики, ножницы. — Кончилось наше время, — сообщила Верочка, подбегая к Саше и Грише. — Нам велеличерез час вернуться — значит, через час. Хватит смотреть, Серафима Петровна тоже уходит. Она схватила Сашу за руку и потащила к выходу. За ними торопливо зашагал Гриша.
«Покажи зубы! Улыбнись! Прыгни на стул!»
Саша расстался со своими новыми друзьями и вместе с Маргаритой Сергеевной вошел в комнату, где ждал его режиссер. — Здравствуйте, Борис Лукич. Борис Лукич кивнул: — Займемся делом, Саша. Иди-ка поближе. Саша остановился в ожидании. Режиссер молча смотрел на мальчика, о чем-то думал. Вдруг озорно подмигнул Саше и неожиданно приказал: — А ну-ка, покажи зубы! Саша открыл рот. — Улыбнись! Закрой глаза. Подними голову кверху. Так. Саша делал все, что приказывал режиссер. Борис Лукич поставил перед Сашей стул. — Прыгни с места на стул обеими ногами. Саша потоптался на месте, примеряясь взглядом, слегка присел, напружинился и удачно прыгнул. Борис Лукич похлопал его по плечу, засмеялся: — Молодец! Снимай-ка китель и расстегни ворот, займемся небольшой репетицией. Борис Лукич прошелся по комнате, снял пиджак, повесил на спинку стула. Видно, и в одном свитере ему было жарко. — Марочка, — сказал он Маргарите Сергеевне, — загляните к Михаилу Ефимовичу. Если все готово к съемке, позовите нас. Маргарита Сергеевна ушла. Саша стоял перед Борисом Лукичом в белой рубашке, с расстегнутым воротом, в красном пионерском галстуке. — Так вот, друг мой, слушай внимательно, — начал Борис Лукич. — В нашем будущем фильме есть мальчик, похожий на тебя. Его зовут Петя. Он живет в степи, в деревенском поселке. Однажды с ним произошло несчастье: мальчика покусал волк. В тяжелом состоянии Петю доставляют в больницу. И вот он лежит на койке, а к нему приходит доктор. Эту маленькую сценку мы сейчас и разыграем. Ты все понял, что произошло с мальчиком? Саша покраснел от волнения. — Понял, конечно. Только вот узнать бы, какой мальчик: смелый или трус? — Молодец, — похвалил Борис Лукич. — Правильный вопрос. Наш мальчик смелый, настоящий. Так слушай же. Вот эта кушетка будет больничной койкой. Ты измучился, лежишь с закрытыми глазами, а я подошел к тебе и говорю ласково: «Вот какой он герой! Как тебя зовут?» Ты должен ответить: «Петя». Тогда я говорю: «Ну и задал же ты волкам. Ни один живьем не ушел». А ты говоришь: «Пить хочу. Пить». Я подаю тебе чайник с водой, ты пьешь. Потом смотришь на меня с удивлением, так как никогда не был в больнице и не видел настоящего доктора. Я подбадривающе улыбаюсь тебе, ты тоже хочешь улыбнуться, но от боли снова роняешь голову на подушку. Лежишь неподвижно, кусаешь губы, с трудом преодолеваешь боль и открываешь глаза. Смотришь на меня и спрашиваешь: «А как вас зовут?» Я тебе отвечаю: «Матвей Петрович». Я понравился тебе, и ты с облегчением вздохнул. Так началась наша дружба. Борис Лукич взял со стола и подал Саше листок с текстом, отпечатанным на машинке. — На этом листке написано все, что я тебе говорил. Внимательно прочитай и запомни. Пока Саша читал и заучивал текст маленькой сценки, Борис Лукич рассматривал эскизы декораций, нарисованных художником на больших листах ватманской бумаги. Иногда вынимал из верхнего кармана карандаш и размашистыми штрихами делал какие-то поправки. — Готов? — спросил он Сашу минут через десять. — Давай попробуем. Саша улегся на кушетку, стал тяжело дышать. Борис Лукич терпеливо ждал, пока Саша окончательно примет вид измученного, больного мальчика. Потом тихо подошел к кушетке и голосом доктора произнес: — Вот какой он герой! Как тебя зовут? Мальчик сразу затих и перестал кусать простыню. — Саша, — тихо сказал он и, посмотрел на Бориса Лукича. — Стоп, стоп! — остановил его Борис Лукич без всякого раздражения и досады. — Ты уже не Саша, а Петя. И зачем ты перестал дышать и весело посмотрел на меня? Уже выздоровел, что ли? — Извините, Борис Лукич, растерялся. — Нужно быть внимательным. Повторим сначала. Они несколько раз повторяли сценку. Борис Лукич подбадривал Сашу, останавливал его, поправлял, а Саша все больше и больше привыкал к своему новому положению. К этому времени вернулась Маргарита Сергеевна. — Все готово. Можно идти. В маленьком павильоне, у стены с небольшим окошком, стояла железная больничная койка, покрытая серым одеялом. За окошком торчала сухая черная ветка. Саша не успел оглянуться, как совсем рядом кто-то закричал зычным голосом: — Тихо! Внимание! Снимаем средний план мальчика и доктора. Свет! В павильоне зажглись яркие лампы, сразу все залило ослепляющим светом. Теперь Саша увидел человека, который кричал. Это был кинооператор Михаил Ефимович, пожилой человек среднего роста. К Саше подошла молодая женщина в белом халате, та самая Серафима Петровна, художник-гример, которую они с Верочкой искали в четвертом павильоне. Она улыбнулась мальчику, погладила ладонью по голове и стала причесывать Сашу. Подойдя к Борису Лукичу, оператор Михаил Ефимович бодро доложил: — Вырвали у главного инженера новую пленку, снимаю по три дубля. Этого тоже щелкнем? Он бросил изучающий взгляд на Сашу, будто прикидывал, как подступиться к новому кандидату на роль Пети. — Да, да, Мишенька, — сказал Борис Лукич. — Не затягивай, пока он в форме. — Шестой будет, — ответил режиссеру Михаил Ефимович так, чтобы мальчик ничего не слышал. — Глазенки этого парня мне нравятся. Иди-ка, хлопчик, к кроватке, ложись. Он дружелюбно подмигнул Саше и юркнул куда-то в угол, где стояли киноаппарат и осветительные приборы. От яркого света прожекторов и быстро нагревшегося воздуха у Саши слегка закружилась голова, вспотело лицо и какая-то неприятная дрожь пробежала по всему телу. Усаживаясь на кровать, он тихо сказал Маргарите Сергеевне: — У меня глаза слипаются. — Ничего, Сашенька. Не щурься, привыкай к яркому свету. Саша протер глаза кулаками, улегся на железной кровати, отважно подставил лицо потоку жарких лучей прожекторов. Маргарита Сергеевна накрыла его одеялом и отошла в сторону. И тут же над Сашей склонилось озабоченное лицо Бориса Лукича. Начались съемки той самой сценки, которую Саша и Борис Лукич перед этим репетировали. После съемок Борис Лукич снова повел Сашу к себе в кабинет. — Теперь придется подождать денька три, — сказал он мальчику. — Проявим пленку, посмотрим, обсудим и, если подойдешь, позовем сниматься. А как родители? Дадут согласие? Саша сбивчиво ответил: — Мама говорит, съемки помешают урокам, а я обещаю подтянуться. А чего, в самом деле? Бывает и потрудней. — Ты разве плохо учишься? — Арифметика хромает. — Это нехорошо, — нахмурился Борис Лукич. — Придется тебе вдвойне поработать: будешь сниматься и учиться. — Вы только поверьте. Ни вас, ни школу не подведу, честное слово. — К этому вопросу мы еще вернемся, — сказал Борис Лукич, беря со стола папку и протягивая ее Саше. — А теперь поговорим о самом главном. Вот здесь сценарий нашего будущего фильма. Возьми, прочти внимательно и подумай. — А что такое сценарий? — спросил Саша, принимая от Бориса Лукича толстую коричневую папку. — Это такое литературное сочинение, — пояснил Борис Лукич. — В нем написано все, что должно появиться в будущем фильме. Фильма еще нет, а на бумаге уже все есть. Сам увидишь, читай. Без сценария в кино ни шагу не ступишь. Понял? — Ясно! — Особенно внимательно присмотрись к роли Петьки. Представь себе, какой он, его не так легко сыграть. Арифметикой тоже, конечно, придется заниматься. Понял? Саша согласно кивнул. — Если ты хочешь знать, я сам в детстве не любил арифметику. Правда, — засмеялся Борис Лукич. Молчавшая до сих пор Маргарита Сергеевна перебила Бориса Лукича: — Извините, Борис Лукич, мы должны поторопиться на просмотр. Все приготовлено. Борис Лукич с досадой взглянул на часы. — У нас, брат, все по расписанию. Иду смотреть свою старую детскую картину. Не надо в старости терять того, что приобрел в молодости. Пойду учиться у самого себя. До свидания. С тяжелой папкой в руках Саша покинул кабинет режиссера. Опять шли по узким и широким коридорам, и, если бы не Маргарита Сергеевна, Саша и Анна Васильевна ни за что бы не нашли дорогу к выходу. Они довольно скоро оказались в вестибюле, который Саша узнал по развешанным здесь фотографиям. Он заметил их, когда входил на студию и поднимался на лифте. — Кто же с тобой поедет в экспедицию? — спросила Сашу Маргарита Сергеевна. — Куда? — Я разве не сказала тебе, что мы уедем на несколько месяцев в Казахстан и будем снимать фильм в степном районе? Это сообщение взволновало Сашу. Вот ведь какое заманчивое дело — кино! Не только станешь артистом, но еще и попутешествуешь, в удивительных краях побываешь. — А как же школа? — спросил Саша. — Каникулы не скоро, да их и не заметишь, как пролетят. Придется пропускать? — А мы в экспедицию берем педагогов. Наши дети не прерывают учебы и во время съемок. У нас такой порядок: с несовершеннолетними детьми обязательно должен ехать кто-нибудь из взрослых родственников. Наверное, вы поедете, Анна Васильевна? Это, конечно, еще не официальное приглашение, а только предварительный разговор. Тетя Нюра никогда в жизни не мечтала отправиться в какую-то экспедицию. — А что я там буду делать? — спросила она, совершенно смешавшись. — Будете следить за Сашей. Ему придется соблюдать режим, хорошо питаться, вовремя отдыхать и, разумеется, работать и учиться. Словом, там детям нужен такой же присмотр, как и дома. С вами подпишут трудовое соглашение, будут платить деньги, а на работе возьмете отпуск за свой счет. — Вот задали задачу, — растерянно бормотала Анна Васильевна. — Никогда не думала, что придется заниматься такими делами. Да уж, видно, соглашусь, на кого же я оставлю племянничка? Маргарита Сергеевна довела Сашу и Анну Васильевну до проходной и распрощалась. Уже наступал вечер, в домах светились окна. Пока шли к троллейбусной остановке мимо высокой и красивой железной ограды, Саша все оглядывался на большие, многоэтажные здания киностудии.
Коричневая папка
Вечер в доме Соловьевых прошел в суетливых хлопотах. Не теряя времени, наскоро пообедали, прибрали комнату и приготовились читать сценарий. Мать достала очки, села к столу, где уютно теплился зеленый абажур настольной лампы, развязала папку, раскрыла ее, взяла первый лист и задумалась. — Ну что же ты, мама? Читай, — торопил Саша. Но мать сняла очки и прикрыла рукой страницу. — Давайте позовем Николая Александровича с Верой Семеновной. Все лучше будет, помогут разобраться. — А что мы, маленькие? — недовольно возразил Саша. — Ну пусть идут, только скорее, а то до ночи не успеем. Николай Александрович и его жена Вера Семеновна жили в соседней квартире и дружили с Соловьевыми. Они уважали Соловьевых и всегда принимали к сердцу все, что случалось в этой семье. Николай Александрович считал даже своим долгом присматривать за сорванцом-мальчишкой, когда Сашин отец уезжал в командировку. За такими огольцами только гляди: они каждую минуту могут такой неожиданный фокус выкинуть, что родителям прямо беда. Не одобрял Николай Александрович Сашиного увлечения коньками, хоть и приятно ему было, что в семье друзей растет ловкий парнишка. Он при случае считал необходимым строго указать Саше: «Смотри не скособочь свою судьбу, не запусти учебу ради удовольствия». Вера Семеновна работала кассиршей в кинотеатре и всегда говорила только о фильмах и артистах, знала, кто из кинозвезд замужем и за кем, кто женат и на ком. Она была одной из тех благодарных кинозрительниц, которым почти все фильмы нравятся. Она-то, наверное, не станет поддерживать опасения Сашиной матери и скажет, что мальчику выпало счастье, если его приглашают сниматься в кино. Саша сам отправился к соседям, и через пятнадцать минут они уже сидели у Соловьевых на диване. Вера Семеновна села с таким видом, словно перед ней сейчас будет разыграно забавное эстрадное представление, и готова была в любую минуту смеяться и аплодировать. Николай Александрович был настроен серьезно, — очевидно, почувствовал важность происходящего. — Пожалуйста, Лидия Васильевна, начинайте, — сказал Николай Александрович и, скрестив руки на груди и насупив брови, приготовился внимательно слушать. Лидия Васильевна начала читать.
Петя и Павлов
Сценарий назывался «Кто не боится молний» и рассказывал о дружбе мальчика Пети и летчика Гражданского воздушного флота Павлова. Мальчик жил в далеком животноводческом совхозе в бескрайней казахстанской степи. Усадьба совхоза находилась далеко от железной дороги, за широкой полосой зыбучих песков, раскинувшихся на сотни километров. За этим мертвым пространством желтой пустыни лежала плодородная равнина с обширными пастбищами, где издавна обосновались совхозы и колхозы. Отсюда на автомашинах и самолетах вывозили шерсть, масло, кожу, угоняли к железной дороге коров и овец для отправки на мясокомбинаты. Недалеко от усадьбы совхоза в долине степной речушки, высыхающей каждое лето, расположился маленький степной аэропорт. Сюда на самолетах доставляли пассажиров, почту, газеты, иногда в срочном порядке перебрасывали врача в какой-нибудь отдаленный район, где кто-то заболел и нуждался в немедленной медицинской помощи. В тот год на трассе летал летчик Гражданского воздушного флота Евгений Сергеевич Павлов. В жизни ему довелось побывать во многих краях, участвовать в войне, служить на воздушных линиях Кавказа, Сибири, Молдавии, Крыма. Он был смелым человеком и опытным пилотом. Расписание полетов составлялось так, что в совхозе самолет задерживался на несколько часов, ожидая встречный рейс из Караганды, чтобы взять на борт перевалочный почтовый груз или пассажира в Кустанай. Когда Евгений Сергеевич Павлов первый раз прилетел в совхоз, был обычный зимний день, не очень морозный и не очень ветреный. Пока самолет стоял на стоянке, летчик зашел в буфет, приютившийся в маленьком домике аэровокзала, выпил горячего кофе, немножко отдохнул и пошел прогуляться, посмотреть окрестности. Вскоре он дошел до пруда, где возились деревенские ребятишки. Среди них особенно выделялся бойкий мальчик, катавшийся на коньках с необыкновенной ловкостью. Летчик подошел ближе, ребята заметили его, поздоровались. — Как тебя зовут? — спросил летчик юного фигуриста. — Петька, — назвался вихрастый паренек. Летчик посмотрел на Петины самодельные коньки, усмехнулся: — Неказистое снаряжение, а катаешься здорово. Нравится? — Нравится, — подтвердил Петька. — Теперь вы к нам почту доставлять будете? — Я. — До вас к нам другой летчик прилетал, обещал книжки привезти и не привез. — Его перевели на другую трассу, — объяснил ребятам Павлов. — Теперь я буду к вам летать. — А как вас зовут? — Павлов Евгений Сергеевич. — Может, вы привезете книги? У нас совсем маленькая библиотека, читать нечего. — У меня в самолете кое-что завалялось, придется подарить вам книги, — сказал Павлов. — Пойдемте-ка со мной! Ребята охотно пошли с летчиком. Павлов разрешил им войти в самолет, позволил всем по очереди подержаться за управление, посидеть в креслах, посмотреть в иллюминатор. На прощание подарил ребятам несколько книг, два журнала, какую-то брошюру, — словом, отдал всю свою личную дорожную библиотечку. Потом вспомнил о чем-то, раскрыл чемоданчик, где лежали бритва, полотенце, зубная щетка и другие вещи, достал небольшую книжечку, погладил ее рукой и протянул Пете. — А это тебе персональный подарок. Бери, фигурист, читай. Обрадованный Петя бережно взял в руки книжку. Она называлась «Маленький принц». — Эту книжку написал не простой писатель, а летчик, — объяснил Павлов и остановился возле самолета, прощаясь с ребятами. Через несколько дней Павлов снова прилетел в совхоз. Как и в первый раз, он еще издали увидал пруд и ребят, играющих на льду. При виде самолета детвора побежала к месту посадки. Не успел Павлов приземлиться и подрулить к аэропорту, как его самолет окружили дети, наперебой закричали: — Дядя Павлов! Здравствуйте! Павлов приветственно поднял руку. — Ну-ка, помогайте разгружать почту, тащите начальнику аэропорта. Ребята дружно кинулись помогать и в один миг разобрали не слишком большой багаж. Когда кончилась разгрузка, Петька растолкал ребят и подошел поближе к летчику. В руках он держал свои знаменитые самодельные коньки на деревянных колодках с промерзшими веревочками. — Пойдемте к пруду, дядя Павлов, — позвал он смущенно. — Сегодня я буду кататься совсем не так, как тот раз. Специально разучил несколько новых фигур, посмотрите, пожалуйста. — С удовольствием, — согласился Павлов. — Он здорово катается, вот увидите, — зашумели ребята. Пока Петя привязывал коньки, затягивал потуже промерзшие шпагатные веревочки и специально нарезанными палочками скручивал узлы в «баранчики», чтобы колодки не болтались на ногах, со всех сторон к катку подходили люди. Первыми появились Петькины школьные товарищи и совсем маленькие ребятишки. Они приглядывались к незнакомому летчику, усаживались на обломке плетня, ожидая, когда Петька начнет кататься. Подходили и взрослые, здоровались с летчиком, молча ждали. Наконец Петька вышел на каток. Потрогал коньками лед, царапнул несколько раз, постоял на краю ледяного поля, прищурился, посмотрел на солнце. — Начинать? — спросил он у летчика, как будто хотел подчеркнуть, что катается исключительно ради дорогого гостя. — Если готов, давай, — кивнул Павлов и загасил сигарету. Петя приподнялся на носки, выбежал на лед. Энергично оттолкнулся, сделал восьмерку, правый поворот, потом левый, дал резкий задний ход, снова перевернулся и плавным движением, описывая дуги, помчался вперед, набирая скорость, припадая то на одну, то на другую ногу. Все наблюдали за юным конькобежцем. — Ишь какой баловник, — вздохнула какая-то старушка. — И в кого такой вышел? Старый казах с седой бородой, свисающей острым клинышком, кутался в лисью шубу, с удовольствием прищелкивал языком: — Ай, молодца! Цирк надо делать, деньги получать за такой фокус-мокус. Молодца Петька! И‑хи‑хи! Бой‑ой! — Вот здорово, — шептал Петин товарищ черноглазый Ахмет. — Как джигит на невидимом Тулпаре. И копытами не стучит, а вихрем несется. Павлов смотрел молча. По его лицу было видно, что искусное катание мальчика очень нравилось ему. Каждый раз, когда Петя делал сложный поворот или прыжок, летчик одобрительно улыбался. Мальчик катался ловко, хотя был в длинной теплой шубе и в большой меховой шапке. Он скоро вспотел, стал тяжелее дышать, раза два споткнулся, сбился с ритма и в конце концов упал на колени. Сразу же вскочил и хотел продолжать, но Павлов, захлопав в ладони, громко крикнул: — Довольно, Петя! Браво! Прекрасно! Иди отдохни. Петя, вспотевший, раскрасневшийся, подкатил к летчику. — Молодец! — похвалил Павлов. — На самодельных коньках чудеса творишь. Даже в Москве в Лужниках такого не видал, клянусь честью. Петя сиял от похвалы. — Они неплохие, — вступился он за свои коньки. — Кататься можно. — Тебе нужны не такие. Вот я скоро в Москву полечу или в Оренбург поеду, куплю тебе настоящие фигурные коньки с ботинками. Не коньки, а серебряные птицы, будешь кружиться на них как волчок. — Да что вы? — смутился Петя. — Мне и так купят. Кто-нибудь из знакомых поедет в Москву, мама даст денег. — Не обижай меня, Петя, — сказал летчик. — Мы с тобой друзья, ты не должен отказываться от подарка. Считай, коньки за мной. Настоящие фигурные, с ботинками... На этом месте Лидия Васильевна остановилась и глубоко вздохнула. — Устала как! — сказала она хриплым голосом и прокашлялась. — Позвольте, я продолжу, — предложил Николай Александрович. — А вы отдохните, с непривычки действительно можно сорвать голос. Он взял рукопись и продолжил чтение.
Охота на волков
Уже началась ранняя весенняя оттепель, и бурное таяние снегов по всей степи возвещало конец зимы, а Павлову все еще не удалось слетать в Москву или выбраться в Оренбург и купить обещанные Пете коньки. Прилетая в совхоз, летчик при встрече с Петей каждый раз чувствовал какую-то неловкость. Когда дарил мальчикам книги и футбольный мяч, ему казалось, что все они смотрят на него такими глазами, будто спрашивают: «А коньки? Опять не привез?» Наконец в один из воскресных дней Павлову удалось выехать из военного городка, где он жил с женой и маленькой дочкой, в Оренбург. В спортивном магазине на Советской улице он увидел как раз такие коньки, какие задумал подарить Петьке, и купил их. Когда же на следующий день Павлов вышел на работу, ему сообщили, что отныне он будет летать по трассе Оренбург — Целиноград. «Ничего, — подумал Павлов. — До новой зимы еще далеко, успею передать с кем-нибудь. Лучше бы, конечно, самому вручить подарок. Представляю, как Петька обрадуется». Весной, после окончания занятий в школе, Петя уехал на отгонное пастбище, называемое в этих местах джайляу. Пастухи охотно взяли мальчика с собой, так как он был им хороший помощник: умел скакать на лошади, не боялся ночью остаться один в степи, мог сводить табун на водопой и привести обратно. Словом, Петя был настоящим животноводом и взрослые доверяли ему любое дело. Суровые условия жизни в этих краях закаляют детей. Они рано становятся самостоятельными. Однажды в конце лета, когда ночи стали прохладными и выпадала обильная роса, Петя с охотничьим ружьем и двумя волкодавами уехал верхом выслеживать волка, который повадился к отаре и зарезал нескольких ягнят. Долго рыскал он по степи, пока наконец не наткнулся на волчье логово. Первыми на след напали собаки. Они выгнали из кустарника волчонка. Тот поджал хвост и не стал убегать, оскалил зубы, зарычал на собак. Петя в азарте закричал зычным голосом и направил лошадь на зверя. Гнедой конь, легко носивший своего седока, боязливо упирался, храпел. — Ату! Ату! — кричал Петя собакам, размахивая плеткой. — Бери его, гада! Ату! Собаки отважно ринулись на добычу, хватая серого то за ляжки, то за бока так, что клочья летели. Волк все больше злобился, заманивал собак к кустам. Неожиданно он бросился на своих преследователей, вцепился зубами в собачью ляжку. Собаки яростно навалились на зверя. Петя прицелился, но не стрелял, чтобы не убить собак. Огрызаясь и рыча, молодой волчонок пятился к кустам, приближаясь к скрытому логову, откуда мгновенно выскочила матерая волчица. Теперь оба хищника набросились на собак, сцепились в смертельной схватке. Собаки рычали, отчаянно кидались на серых разбойников. Полетели клочья шерсти, засверкали клыки, обагрились кровью трава и песок. Положение становилось критическим, надо было спасать собак. Петя прицелился и выстрелил в стаю. Он увидел, как кубарем покатился по земле молодой волк. Разъяренная волчица отпрянула в сторону, кинулась к лошади. Петя прицелился еще раз, выстрелил, ранил волчицу. Перевернувшись через голову, она снова бросилась к гнедому, на котором сидел молодой охотник. Испуганная лошадь понеслась вскачь, отбивая копытами волчицу. Не успел Петя прицелиться и выстрелить еще раз, как волчица настигла лошадь, прыгнула на круп, полоснула зубами шелковистую шкуру, разорвала до крови. Лошадь шарахнулась в сторону. Раненая волчица отчаянно кинулась вперед, вцепилась Пете в бедро, сильным рывком стащила с седла. Петя закричал, ударился о землю, но, к счастью, не выронил из рук ружья и не потерял сознания. Он размахнулся и, ударив волчицу прикладом по голове, оглушил ее. В эту же секунду на хищника набросились собаки, стали рвать его в клочья. Петя упал на траву. Измученные, истерзанные собаки, облизывая кровоточащие раны, подползли к Пете, улеглись рядом. С тревожным ржанием бегал по степи испуганный конь. Вскоре к мальчику, услышав выстрелы, подскакали всадники из соседнего колхоза. Они подобрали Петю, поймали гнедого скакуна. Петю привезли в юрту, перетянули жгутом раненую ногу, чтобы остановить кровотечение, и послали машину в поселок за врачом. От потери крови мальчик впадал в забытье, неподвижно лежал с закрытыми глазами, тихо стонал. Над степью поднималась буря. Темное вечернее небо озарялось далекими вспышками молний. Надвигались тяжелые тучи. Люди притихли в укрытиях. Овцы сбились в отары, теснились друг к другу боками, прятали головы. Тревожно ржали лошади, жеребцы защищали своими телами маток, а матки прикрывали собой тонконогих жеребят. Старики смотрели на небо, покачивали головой: — Большой дождь будет. Земля хочет воды, целое лето не пила. Ой‑бой ой, какой дождь будет! Поздно ночью из поселка вернулась машина с врачом, молодой миловидной казашкой Джамилой. Она торопливо прошла к Пете, не выпуская из рук чемоданчика с инструментами и медикаментами. Вскоре Джамила вышла из юрты, отозвала в сторону председателя колхоза Батырова, тихо сказала ему: — Нужна срочная операция. На голени мальчика глубокие раны, порваны сухожилия и нервы. Он может на всю жизнь остаться хромым. — Что нужно делать? — с готовностью спросил Батыров. — Скажи, карагез. — Нужно вызывать самолет из Оренбурга. Только в настоящей больнице можно сделать такую операцию. Батыров немедленно разыскал шофера, и через минуту маленький юркий «козлик», освещая фарами степь, пробиваясь сквозь грозу, помчался к аэропорту. В юрте все время горел огонь, заботливая Джамила не отходила от постели больного мальчика. А за войлочными стенами юрты, не переставая, шумел ливень и сверкали молнии...
Кто не боится молний
Николай Александрович прервал чтение и медленными глотками выпил из стакана всю воду. — Видать, бывал этот писатель в степях, не обманывает, — с похвалой сказал он, похлопывая ладонью по рукописи. — Мне самому довелось два года жить в Казахстане. Как сейчас, помню один преинтереснейший случай, произошедший лично со мной. — Николай Александрович! — умолял Саша. — После расскажете, а теперь читайте не останавливаясь. Из-за вас все перепутается в голове. — Прости, пожалуйста, это я для передышки, — виновато оправдывался Николай Александрович. — И к тому же не могу удержаться, подтверждаю, все верно написано про степь. — Дай-ка я продолжу, — предложила мужу Вера Семеновна. — Подвинь ко мне лампу. Все притихли. — «В Оренбургский авиаотряд, — читала Вера Семеновна, — еще с вечера поступило сообщение о надвигающейся непогоде. Поздно вечером и ночью получили новые подтверждения о грозовых ливнях затяжного характера. За полночь раскаты грома уже слышны были в самом Оренбурге. С азиатской стороны подул ветер, по небу поплыли сизые облака, на далеком восточном горизонте одна за другой засверкали молнии. Стало ясно, что грозовые линии из казахстанских степей медленно придвигаются к Южному Уралу. Всем пассажирам объявили, что ввиду нелетной погоды утренние рейсы отменяются. Как раз в это время пришла радиограмма, что нужна срочная медицинская помощь мальчику. Начальник отряда Вареников лично связался по радио с аэропортом в совхозе. — Какая у вас обстановка? — спросил он. — Всю ночь лил проливной дождь, — ответили ему, — сильная облачность, грозы. Глинистая почва размыта, посадку делать рискованно. — А состояние больного? — Большая потеря крови от глубоких ранений на бедре. Доктор настаивает на немедленной отправке в Оренбург. — Понял вас. Ждите моих указаний. Положение создалось трудное. Начальник авиаотряда отлично знал, что лететь в такую грозу и приземляться в степи на размытой глинистой почве весьма опасно. Вареников решил посоветоваться с сотрудником медицинской службы врачом Виноградовым. — Как врач, я считаю, что нужно немедленно лететь, — сказал Виноградов. — Я готов выполнить это поручение. Жду приказаний. Виноградов подчеркнуто громко щелкнул каблуками и вытянулся перед начальником. За окном, над самым летным полем, сверкнула молния, ударил гром. Вареников подошел к окну, посмотрел на дождь и лужи, в которых отражались тусклые огоньки. От порыва ветра хлопнула и закрылась форточка. Присутствовавший при разговоре летчик Павлов нарушил молчание: — Разрешите обратиться, товарищ начальник? — Слушаю вас, — повернулся к Павлову Вареников. — Я летал на этой трассе, много раз садился в совхозе. Разрешите вылететь с военврачом Виноградовым? Он сделал шаг вперед и встал рядом с врачом. Теперь два добровольца стояли перед начальником и ждали его команды. Довольный в душе таким поворотом дела, Вареников не торопился с решением. Он снял трубку, вызвал метеоролога. — Есть новости о погоде? — Ничего утешительного, — ответил голос в трубке. — Затяжной обложной ливень и повсеместные грозы. — А вылететь от нас можно? — Опасно, товарищ начальник. Если, конечно, крайний случай и опытный пилот. — Хорошо! — буркнул Вареников и бросил трубку. — Слыхали? — спросил он летчика и врача. — Ничего, — улыбнулся Павлов, — в войну мы не ждали хорошей погоды. Разрешите вылететь? Мальчик в опасности. — Разрешаю, — сказал Вареников. — Только будьте осторожны. Прошу вас. Через несколько минут самолет поднялся над аэродромом и, набирая высоту, скрылся за серой завесой дождя.
После того как была послана радиограмма в Оренбург, доктор Джамила и председатель колхоза Батыров в закрытой машине доставили Петю в аэропорт. Время шло мучительно медленно. Уже наступил рассвет, а самолета все не было. Наконец из Оренбурга сообщили о вылете врача и велели приготовить больного к транспортировке. Прошло еще немало времени, а самолет все не прилетал. Но вот Джамила уловила отдаленный, нарастающий гул мотора, перекрывающий шум дождя и ветра, выбежала из помещения прямо на дождь и не успела от радости сообразить, что надо делать, как самолет плюхнулся на мокрую землю, подняв фонтан грязной воды и глины, круто развернулся, стал приближаться к зданию аэропорта. Первым спрыгнул летчик, за ним военврач. Мальчика поспешно уложили на носилки, приготовились нести к самолету. Павлов наклонился к больному, взглянул в лицо и с удивлением вскрикнул: — Петя?! Мальчик лежал в полузабытьи. Ему послышалось, что его зовут, и он медленно открыл глаза. Увидав Павлова, который улыбался и кивал головой, Петя не сразу понял, откуда появился перед ним летчик, но тоже улыбнулся и тут же прикусил вздувшиеся губы. — Это мой друг, — шепнул Павлов врачу Виноградову. И уже на ходу снова наклонился над носилками, успокаивающе сказал мальчику: — Держись, Петя. Будет полный порядок. Летчик снял с себя плащ, накрыл им мальчика. Дождь не прекращался и ветер не затихал, глубокие лужи хлюпали под ногами, на воде вздувались и лопались пузыри. Загудел мотор, самолет вздрогнул и плавно тронулся с места. Через два часа Петя лежал на операционном столе в оренбургской больнице. Врачи отлично сделали свое дело, и не было никаких причин беспокоиться о последствиях. Теперь все зависело от самого главного доктора — времени. Петя проводил в больнице длинные дни и недели, ждал, когда его выпишут и отправят домой. Ждать пришлось до самой зимы. Когда мальчик, совершенно здоровый, вышел из больницы, Павлов подарил ему давно купленные коньки с ботинками и настоящее охотничье ружье, посадил Петю в самолет, курсирующий по той трассе, где находился совхоз. Мальчик и летчик в последний раз крепко обнялись и долго пожимали друг другу руки, как настоящие друзья».
Саша не похож на Петю
Вера Семеновна кончила читать, начала собирать разрозненные листы рукописи, укладывая их в папку. — Хороший человек Павлов, — сказал Саша. — Мировой дядька! — А Петька? — спросил Николай Александрович. — Ты внимательно следил за его линией? — И Петька парень что надо! — возбужденно крикнул Саша. — Здорово он с волками разделался. Трах-бах-бабах! Саша несколько раз подпрыгнул и замахал руками, как будто сам скакал на коне и стрелял из ружья. Сашина мать молча наблюдала за Николаем Александровичем и Верой Семеновной, не порицая и не хваля сценарий. Видно, эта история не тронула ее сердце, но и не оставила равнодушной. — Бывает и так, — сказала она и замолчала. — Видишь, какое дело, — заговорил наконец Николай Александрович, обращаясь к Саше. — Петька-то, герой этой повести, совсем не похожая на тебя личность. Он и учится отлично, и на волков охотится, и на коне скачет. Разве только коньками сходство у вас получается. Как же ты будешь играть такую роль? — Пожалуй, верно, — поддержала Николая Александровича Лидия Васильевна. — Трудно тебе будет, сынок. — Ну да! — не сдавался Саша. — Сумею. Меня режиссер научит. На лице тети Нюры давно уже появилось недоумение. Она была в какой-то растерянности. Ей очень хотелось поддержать племянника, но стало страшно, что на съемке его разорвут волки. — Саша у нас на все способный, — мягко сказала тетя Нюра. — Только боязно мне, как бы волки его в самом деле не покусали. Эта неожиданная мысль сразила и самого Сашу. Он в замешательстве притих, вопросительно поглядывая на взрослых. — Это вы напрасно, — спокойно вставила словцо Вера Семеновна. — Кто же позволит отдавать детей на растерзание настоящим волкам? На эти штуки киношники большие мастера, все понарошку снимут, какой-нибудь фокус придумают. — Точно, — обрадовался Саша, хотя и не знал, как будет на самом деле. — Не отдадут же меня на съедение зверям? — Хорошо, я допускаю, что с волками придумают хитрый трюк, — не унимался Николай Александрович. — А на лошади скакать ты умеешь? И настоящего ружья в руках никогда не держал. — Он строго посмотрел на Сашу и сделал большую паузу. И тут в разговор вступила Сашина мать. Отложила в сторону очки и с серьезным видом сказала: — Боюсь я за тебя, Александр. Как начнешь сниматься в кино, совсем от школы отобьешься, на второй год останешься. Саша почувствовал, что дело принимает серьезный оборот. — Вы совсем не правы! Я же не самый последний ученик, я подтянусь, вот увидите. Честное слово! — Как хочешь, Александр, а я не могу решить этот вопрос одна, без папы. — Папа разрешит, — уверял Саша. — И у директора школы надо спросить. Вряд ли он согласится отпустить на киносъемки двоечника. — И вовсе не двоечник он, — вступилась тетя Нюра. — Подумаешь, раз или два поставили двойку. А может, у него артистический талант, зачем же препятствовать? — Школу игнорировать нельзя, — сказал Николай Александрович. — Иначе никогда порядка не будет. Семья и школа в воспитании детей должны действовать согласованно. Мать ласково погладила сына по голове, примирительно улыбнулась ему: — Спорить нечего, Саня. Сходим завтра к директору школы, посоветуемся. У тебя целая жизнь впереди, и не нужно лезть туда, где легко споткнуться. — Ладно, — нехотя согласился Саша. — Только я не споткнусь, не думай.
Еще одно событие, о котором Саша не подозревал
Через три дня на киностудии произошли такие события, о которых Саша и не подозревал. В небольшом уютном зале с мягкими креслами собрался художественный совет, которому предстояло посмотреть пробные кадры и решить, кому в каких ролях сниматься. На заседание пришло человек пятнадцать. Тут были авторы сценария, два рослых подвижных человека, один кудрявый, другой совсем лысый. Пришел писатель в красной рубахе и с погасшей тяжелой трубкой в зубах. Он был в возрасте, с выступающим солидным животом, с одутловатым лицом и розовыми пятнами на щеках. Видно, он был нездоров, сердце сильно пошаливало, он боялся курить, но для бравого вида не выпускал трубку изо рта и посасывал пустой мундштук. Знакомясь с новым человеком, он никогда не забывал назвать свою фамилию, имя и отчество и обязательно прибавлял: «Писатель. Читали мою книжку?» И напоминал название единственной своей книжки, изданной лет пятнадцать назад. Пришел на заседание и детский драматург, долговязый немолодой человек, который любил спорить и почти никогда ни с кем не соглашался, хотя сам редко бывал прав. Был и литературный критик, мужчина с нахмуренным лбом, умный и знающий. Среди других можно было узнать двух известных артистов, пришедших сюда не в качестве претендентов на исполнение ролей, а как члены художественного совета. Оживленнее всех разговаривали между собой режиссеры. Их было четверо: два совсем молодых, третий — среднего возраста и четвертый — уже пожилой, с седыми волосами, с маленькими черными глазами, поставленными так близко друг к другу, что их разделял только удлиненный тонкий нос. Собранные на переносице маленькие темные брови придавали лицу этого режиссера трагикомическое, грустное выражение. Это общество дополнялось еще несколькими серьезными, неулыбающимися лицами, которые в продолжение всего просмотра и разговора держались подчеркнуто строго и официально. Очевидно, это были редакторы, а может быть, педагоги и представители комсомольских и школьных организаций. Борис Лукич своим громким голосом перекрыл шумок в зале и возвестил о начале работы. Он произнес несколько вступительных слов, из которых присутствующие узнали, кто и на какие роли пробовался, и дал знак киномеханикам, чтобы начинали просмотр. Обсуждение происходило тут же, в зале. Со взрослыми персонажами было проще, и спора не возникло. Режиссер сообщил, кого он предпочитает снимать, и члены художественного совета почти единодушно согласились с его выбором. Дебаты разгорелись вокруг кандидатуры на роль Петьки. — Мне очень нравится первый мальчик, — сказал молодой режиссер в черных очках. — У него раскосые глаза, он похож на азиата-степняка. А что немного шепелявит, это не беда, подчеркивает индивидуальность. Советую вам, Борис Лукич, взять его, поработаете над дикцией, и все будет в порядке. Мальчик очень хороший. — Так он же толстый и вялый, — перебила режиссера редактор Любкина. — И у него типично городской вид. — Разрешите мне несколько слов, — поднялся писатель с трубкой. — Я как писатель и человек очень люблю детей, и мне трудно отдать предпочтение кому-либо из мальчиков, это значило бы обидеть остальных. Пусть Борис Лукич сам выберет, он в этом деле большой мастер, я доверяю его вкусу. Писатель повернулся к Борису Лукичу и улыбнулся. — Не понимаю, о чем здесь спорить? — резко и самоуверенно произнес детский драматург. — Надо снимать мальчика с веснушками, это же ясно, как день. И совершенно напрасно пробовали других, только перевели пленку и время. Он настаивал на мальчике с веснушками потому, что уже во многих фильмах видел таких, и ему казалось, что никакого другого мальчика и не надо. — Ни в коем случае не делайте этого, Борис Лукич, — взволнованно вставил реплику критик. — Мальчик с веснушками — банальность. Я за того, который снят последним. Он симпатичен, похож на деревенского, у него живые глаза. К тому же, мне говорили, он лучше всех катается на коньках. Это правда? — Совершенно верно, — ответил Борис Лукич. — Я тоже за него. Другие мальчики не менее способны, чем он, но мне уже некогда учить их фигурному катанию. Зима уходит, нужно снимать. Я без колебания выбираю того, кто лучше всех катается, всему другому я его научу. Прошу худсовет утвердить на роль Петьки Сашу Соловьева. Вы согласны? — Борис Лукич обратился к старшему режиссеру с седой головой и трагикомическим выражением на лице. Седовласый режиссер прошелся по залу, давая всем понять, что вопрос серьезен и надо как следует подумать. И когда все замолкли и смотрели на него, ожидая ответа, он поморщился и как-то болезненно тряхнул головой. — Не знаю, Борис Лукич, — начал он с расстановкой. — Я бы посоветовал пробовать еще. Впрочем, как хотите, но я бы продолжал искать. Еще Лев Толстой говорил... — Он, видимо, не мог вспомнить, что говорил Лев Толстой, и махнул рукой. — А впрочем, не в этом дело. Советую вам искать. — Всему есть предел, — заметил Борис Лукич. — Через две недели я должен снимать, искать уже некогда, надо выполнять план. Я прошу утвердить Соловьева Сашу. — Я категорически против! — крикнул детский драматург. — Снимайте мальчика с веснушками. — Какая тривиальность! — пробасил критик. Слово еще раз взял молодой режиссер, с золотыми зубами, в черных очках. — Я считаю, Борис Лукич имеет право на наше полное доверие. Если он убежден, что надо снимать Сашу Соловьева, мы должны с этим согласиться. — Полностью присоединяюсь, — сказал писатель с трубкой. — Поздравляю вас, Борис Лукич, и желаю успеха. Седовласый режиссер с трагикомическим лицом вздернул плечами и пожал руку Борису Лукичу. Детский драматург подтянул ремень на брюках и демонстративно вышел из зала. Через час Маргарита Сергеевна позвонила Лидии Васильевне и сказала, что художественный совет утвердил Сашину кандидатуру, теперь все зависит от согласия родителей и школы.
Опять арифметика и... кино
К директору школы пошли втроем: классная руководительница Мария Павловна, Сашина мать и Саша. Мария Павловна сомневалась, стоит ли неуспевающего ученика отпускать на киносъемки. Участие в киносъемке, по ее мнению, должно быть поощрением для тех, кто хорошо учится. Директор школы Глеб Борисович Котов был строгий, сдержанный человек. Он внимательно выслушал Сашину мать, вытирая белым платком роговые очки, поглядывал на притихшего Сашу. — Вопрос очень сложный, — мягко произнес директор и улыбнулся. — Говорят, с арифметикой у тебя неважно. Если разрешим сниматься в кино, совсем отстанешь. — Я исправлюсь, — отчаянно выпалил Саша и встал перед директором, как солдат перед генералом. — Я эту арифметику выучу всю наизусть. Честное пионерское! — Вправе ли я разрешать двоечникам отвлекаться от занятий в школе посторонними делами? — задумчиво сказал директор и строго взглянул на Сашу через очки. У Саши все пересохло во рту. Он хотел что-то объяснить, но язык прилип к нёбу, не двигался. Что делать? Уйти и окончательно сдаться? Саша шагнул ближе к столу, что-то буркнул, но так и не смог произнести ничего внятного. В эту минуту распахнулась дверь, и на пороге появилась Маргарита Сергеевна. — Извините, пожалуйста, — вежливо, с приветливой улыбкой обратилась она к директору. — Я к вам по делу этого мальчика. Разрешите присутствовать при разговоре? — С кем имею честь? — спросил директор, нахмурив брови. — Я ассистент режиссера, Маргарита Сергеевна Самарина. Мы приглашаем Сашу Соловьева сниматься в нашей картине и убедительно просим руководство школы отпустить его. Вы, конечно, знаете, что развитие детской кинематографии в нашей стране... — Минуточку, — остановил Маргариту Сергеевну директор. — Выйди, пожалуйста, Александр, из кабинета, подожди в приемной. Саша,который воспрял духом с приходом Маргариты Сергеевны, снова приуныл и с опущенной головой медленно побрел к выходу, закрыл за собой двери. — А вам известно, что мальчик отстает по арифметике? — спросил директор Маргариту Сергеевну. — Я прошу вас учесть исключительность обстоятельств, — не сдавалась Маргарита Сергеевна. — Саша — отличный фигурист, а это как раз то, что нам нужно. Идеальное совпадение с тем образом, который задуман нашим режиссером Борисом Лукичом, большим мастером детского кино. Вы, конечно, видели его картины? — Видел, — слегка кивнул директор. — Вы должны содействовать развитию детского кинематографа. Это наше с вами общее дело. — Безусловно, — согласился Глеб Борисович. — А как же все-таки с арифметикой? — Об этом не волнуйтесь, — успокоила его Маргарита Сергеевна. — Мы наймем хороших учителей. Мальчик будет одновременно и сниматься и учиться. — Вот как? — удивился Глеб Борисович. — А как же иначе? — мило улыбнулась Маргарита Сергеевна. — Мы приглашаем педагогов не только для отстающих. Если не каникулярное время, учебу ни при каких обстоятельствах не прерываем. Директор достал из кармана платок, принялся протирать совершенно чистые очки. — Это, пожалуй, верная система. Не в ущерб школе. Придумано правильно. Что вы скажете, Мария Павловна? Ведь вашего ученика приглашают в артисты. Разрешим в такой ситуации? На Марию Павловну тоже подействовали доводы Маргариты Сергеевны. — Я думаю, можно разрешить, Глеб Борисович. Только чтобы вышла хорошая картина. — Будьте уверены. Борис Лукич плохих фильмов не делает. — А вы согласны? — обратился директор к Лидии Васильевне. — Да уж больно он просится... Если можно, я не против. — В таком случае и я согласен, — сказал директор. — Идите, мамаша, обрадуйте сына.
Не теряйте драгоценных минут
Через день Саша и тетя Нюра приехали на киностудию к директору картины Дмитрию Григорьевичу Корину, высокому человеку с большими залысинами и темной шишкой на лбу. — Народным артистом захотел стать? — шутливо спросил он Сашу. — Ну-ну, давай, не стесняйся. — Что вы? — поежился Саша. — С первого разу разве можно в народные артисты? — У нас все можно. А твои родители усвоили, что будешь сниматься не где-нибудь у Черного моря на комфортабельной вилле, а в азиатской степи? — Мы все знаем, — вставила слово тетя Нюра. — Сценарий прочитали и беседовали вот с Маргаритой Сергеевной и с Борисом Лукичом. Но Дмитрий Григорьевич еще раз строго взглянул на Сашу. — Морозов не боишься? Плакать не будешь? — Не-е, — смелее ответил Саша. — Я не девчонка. Чего мне плакать? Дмитрий Григорьевич достал из ящика стола железную коробочку леденцов, взял двумя пальцами одну конфетку, бросил себе в рот и поставил перед Сашей. — Угощайся. Бери, бери. Это я вместо папирос употребляю. Вкусные. Ты еще не куришь? — Нет, — смущенно сказал Саша. Он взял из коробочки несколько разноцветных горошин, стал сосать. — Итак, мамаша, приступим к делу, — весело хлопнул в ладоши Дмитрий Григорьевич. — Прошу вас, взгляните на эти бумажки. — Я не мамаша, — поправила директора Анна Васильевна. — Я Сашина тетя, Анна Васильевна. — Тем более, слушайте меня внимательно. Сейчас мы с вами подпишем договор, окончательно уясним все наши трудовые и материальные отношения. И он пространно объяснил, сколько времени будет занят на съемках Саша, какие обязанности должна принять на себя Анна Васильевна и сколько за это им будет заплачено. В заключение Дмитрий Григорьевич предупредил, что Саша, как несовершеннолетний, будет занят на съемках не более четырех часов в сутки, и притом только в дневное время. Никаких ночных съемок для ребенка. — У меня все. Желаю успеха. Потом они пошли к Борису Лукичу. Режиссер поднялся им навстречу, зашагал через всю комнату и, как добрым старым знакомым, протянул руки. — Поздравляю, Саша, ты утвержден на роль Петьки, — сказал он с ходу. — Не будем терять минут, приступим к работе. Мы уже арендовали крытый каток, завтра начнем репетиции, с двух до четырех каждый день. Через две недели вылетаем на съемку уходящей натуры, где должны отснять все сцены, связанные с твоим катанием на замерзшем пруду. Понял меня? Саша неуверенно кивнул. — Конечно, то есть не до конца, но в общем я готов. — Почему не до конца? — Насчет этой самой натуры, как вы сказали, проходящей? Что это такое? — Уходящей, а не проходящей, — с терпением учителя, объясняющего урок непонятливому ученику, сказал Борис Лукич. — Уходящая натура — это такое общепринятое в кино понятие. Снимать на натуре — значит, не в павильоне, а в природных условиях. В данном случае ты будешь кататься на настоящем пруду в азиатской степи. Как ты сам догадываешься, с наступлением весны лед растает и никакого замерзшего пруда не будет. Значит, наша натура уйдет. Понял, почему уходящая? — Теперь ясно, — вздохнул Саша. — Выходит, спешить надо, нынче и то уже солнышко здорово пригревает. — Все готово к репетиции? — обратился Борис Лукич к Маргарите Сергеевне. — Коньки, костюм, ботинки? — Абсолютно все, Борис Лукич. — Помните, нельзя пропускать ни одного дня, прошу все проверить. Борис Лукич озорно подмигнул Саше, бойко тряхнул седеющей головой, шутя хлопнул мальчика по плечу широкой ладонью.
На самолете в экспедицию
Теперь Сашины дни понеслись с такой головокружительной быстротой, что только поспевай поворачиваться. Новая жизнь закрутила Сашу, как на карусели: и весело, и приятно, и вместе с тем утомительно. На катке с Сашей занимался известный мастер спорта. По совету Бориса Лукича он обучал мальчика не на спортивных фигурных коньках, а на самодельных, с деревянными колодками и шпагатными веревочками. На киностудии имеются такие умельцы, что всё могут сделать, мастера на все руки. Они-то и сделали для Саши точно такие коньки, как было описано в сценарии. Кататься на них было не так-то легко, однако за две недели мальчик отлично освоился с новым снаряжением. Едва успел справиться с этой задачей, как наступила пора улетать на съемки уходящей натуры. Первый раз лететь было страшновато, даже при входе в самолет Сашу взяла оторопь. Загудели моторы, стало совсем неслышно разговоров, будто чем-то тугим заложило уши. Вот сейчас наступит тот миг, когда самолет начнет подниматься. Саша пристегнулся ремнем, сидит неподвижно, стараясь не выдать своего страха. Втянул шею в плечи, прижался к креслу, ухватился за ручки, отчего-то стеснилась грудь и сердце замерло. Он поглядывал на взрослых, те о чем-то разговаривают, смеются, сидят так, словно ничего особенного не происходит. Только тетя Нюра закрыла глаза, нахмурила лицо, будто у нее ужасно болит голова. Саша старается улыбнуться, но улыбка получается натянутая. Скорее бы летел этот самолет, что он шумит и вздрагивает на месте? — Посмотри-ка вниз, Саша! — кричит у него над ухом Маргарита Сергеевна, показывая на круглый иллюминатор. — Какая маленькая Москва! Саша пересиливает робость и заглядывает в иллюминатор. Оказывается, самолет уже давно поднялся и летит среди редких белых облаков. Далеко-далеко внизу виднеются земля, дороги, лес, дома. Вот здорово! Такое Саша видел только в кино. И как же он пропустил момент взлета? Когда стали подлетать к месту, Саше захотелось увидеть тот пруд и поселок, который представлялся ему при чтении сценария, но ничего похожего не было. Перед глазами мелькал заснеженный простор, кое-где тянулись полосы дорог, различались маленькие домики. Вышли из самолета в открытое поле под шальной ветер, пешком направились к небольшим домикам поселка. Разместились в двух комнатах совхозной конторы, которые специально освободили для киноэкспедиции и жарко натопили. Комнату поменьше отвели женщинам: Маргарите Сергеевне, актрисе Нине Мурзаевой, исполнительнице роли врача Джамилы, гримеру-художнику Серафиме Петровне и Анне Васильевне. В большой комнате поселились Саша, кинооператор Михаил Ефимович, художник Федор Федорович Ушкин, художник по костюмам Леон Сиракузов и администратор Семен Семенович Пуришкевич. Заслуженного артиста республики знаменитого актера Афанасия Николаевича Крючкина, исполнителя роли летчика Павлова, пригласил к себе на квартиру начальник местного аэропорта, который занимал с семьей отдельный домик, он был очень рад оказать услугу такому человеку. Борис Лукич поручил Маргарите Сергеевне подготовить все необходимое для съемки, а сам обещал прилететь через три дня. Пруд оказался маленьким, засыпанным белым снегом. Пока его расчищали и поливали водой, чтобы сделать лед гладким, Саша знакомился с деревенскими ребятами, приглядывался к их привычкам. Его с первого же дня одели в костюм Пети, привезенный из Москвы. Валенки, лисий малахай, потертая шубейка и овчинные рукавицы были на нем такие же, как и на других ребятах. Все члены экспедиции будто сговорились забыть его настоящее имя и звали мальчика Петей. Так его называли и жители поселка. Тетя Нюра была не слишком строгой и придирчивой. Вместо того чтобы следить, как бы Саша не простудился, не снимал шапку на морозе, вовремя поел, сходил на репетицию, лег спать, она дала племяннику полную свободу. — Маленький он, что ли? — говорила тетя Нюра. — Пусть живет, как все, скорее настоящим человеком станет. Члены съемочной группы быстро сообразили, что эту энергичную женщину можно нагрузить более полезными делами. Оператор Михаил Ефимович научил тетю Нюру переносить штатив, устанавливать аппарат на нужное место, а во время съемок при солнце поддерживать подсветку, легкий фанерный щиток, покрытый блестящей серебряной бумагой, похожей на ту, в которую заворачивают шоколад. Получается вроде зеркала. Когда надо, им подсвечивают лица актеров, как бы пускают на них солнечный зайчик. Михаил Ефимович был в экспедиции старше всех по возрасту, однако многие молодые могли бы позавидовать его энергии и работоспособности. Всегда молодцевато подтянутый, он напоминал спортсмена, ходил в коротком меховом пальто, в оленьих торбазах, в пыжиковой шапке. По утрам Михаил Ефимович вставал первым, выбегал на улицу в одних трусах, обтирался снегом и делал зарядку. Всех торопил, заставлял умываться холодной водой, покрикивал даже на женщин. За завтраком ел плотно, с аппетитом. — Ешь, Петя, не ленись, — говорил он Саше, подкладывая на тарелку куски колбасы и сала. — Целый день будем на морозе, калории нам вот как нужны. И запомни раз навсегда, что утром нужно есть основательно. Не зря говорят: завтрак съешь сам, обед раздели с другом, а ужин отдай врагу. Ну, ребятки, готовы? Собирайтесь живо, пошли работать. Мара, Нина, Федя, Сима, Леон, кончай бал, берись за дело. У него была привычка называть всех по имени, и никто на него за это не обижался. Первые дни группа немало времени потратила на освоение площадки. Поливали водой каток, пристроили часть забора, на одном месте приладили декоративное дерево. Кое-какую перестановку сделали и в самом поселке, возле «Петиной хаты». Саму хату тоже преобразили: прибили на окнах новые наличники, подняли повыше ступени крыльца. Словом, сделали все так, как указывали художник Ушкин и оператор Михаил Ефимович. Саше тоже пришлось изрядно помотаться. Днем репетировал, а после обеда ходил в совхозную школу, где специально приглашенная учительница Нина Федоровна занималась с ним по всей программе. Лениться Саше было совестно, тут он на виду у всего поселка, и, если станет плохо учиться, местные ребята засмеют его. Однажды после ужина Саша уселся возле стола со сценарием, учил свою роль и поглядывал на Михаила Ефимовича. Кинооператор, примостившись на своей койке, чертил какие-то схемы. — Что это вы рисуете? — не выдержал Саша. — Прикидываю, как лучше расставить осветительные приборы на съемочной площадке. Оператору без основательной подготовки нельзя идти на съемку. Пока будешь соображать, как лучше установить свет, провозишься добрых полсмены. Режиссер изнервничается, актеры устанут. Надо, брат, заранее все обдумать, тогда можно снимать актеров свеженькими, а не замученными. Понял? — Сложная у вас работа. — Нам ошибаться нельзя. Плохо снимешь — погубишь не только свой труд, но и работу актеров и режиссера. А повторять съемки, еще раз ехать в экспедицию или строить декорации — дело очень дорогое. Саша внимательно посмотрел на чертеж, но, конечно, не понял, что означают прямые, перекрещивающиеся и округлые линии. — А вы много фильмов сняли? — спросил он Михаила Ефимовича. — Этот будет двадцать шестой, — с гордостью сказал оператор. — Мне посчастливилось работать с большими мастерами, снимал с Довженко, с Пырьевым и Александровым. Слыхал про таких? — Нет, — простодушно сознался Саша. — Подрастешь — узнаешь. Оператор вновь склонился над схемой. Саша молча наблюдал за его работой.
Саша задает вопросы
Михаил Ефимович пропел себе под нос какую-то песенку и взглянул на Сашу. — Ты что не спишь? Бессонница? — Текст учу, — сказал Саша. — Только вот что мне непонятно. Почему меня до сих пор не познакомили с артистом Афанасием Николаевичем Крючкиным? Он же будет играть летчика Павлова, а я Петю. Так и выйдем на съемку незнакомые? Забыла Маргарита Сергеевна, что ли? Михаил Ефимович перестал чертить. — Нет, Саша, никто ничего не забыл. Ты же знаешь, что по сценарию Петя первый раз встречается с летчиком во время катания. Борис Лукич и решил для натуральности этой сцены сделать так, чтобы вы с летчиком и в самом деле впервые встретились и познакомились прямо на съемке. — Почему? — удивился Саша. — Потому что ты не профессиональный актер и не всегда сможешь играть так, как просит режиссер, а будешь вести себя непосредственно, как в жизни. Как чувствуешь, так и сделаешь. Вот и знакомство твое с летчиком будет самым естественным. Настоящее искусство держится на правде, всякая фальшь разрушает его. Саша наклонился к оператору и шепнул: — А мне страшно, Михаил Ефимович. Вдруг у меня ничего не получится, все выйдет плохо? — Бывает, — сказал оператор. — Только у тебя должно получиться, я верю. И ты верь в свои силы, без веры трудно в искусстве. — А как оно получается, это искусство? Михаил Ефимович мотнул головой и прищелкнул языком. — Ты бы, Саша, задал мне какой-нибудь вопрос полегче, — добродушно засмеялся он. — Это, понимаешь ли, загадка, я ее всю жизнь разгадываю, и не всегда получается, представь себе. — Чудно как-то, — согласился Саша. — Это, видишь ли, сложный вопрос, — пытался серьезно объяснить Михаил Ефимович. — В двух словах не скажешь. Многие люди тратят десятки лет, а то и целую жизнь, чтобы постигнуть эту самую суть. Кажется, все просто, а на самом деле удивительная тайна. Сколько я в своей жизни видел сосен — и маленьких, и высоких, целые сосновые рощи и леса, а ни одной не запомнил так ярко, как сосну во ржи, написанную на куске полотна художником Шишкиным. Или, возьмем, например, утреннюю зарю, восход солнца. Ты когда-нибудь видел солнечный восход? — Где его увидишь? Меня никогда не будят так рано. Это красиво? — Дело не в том, что красиво. Это примечательно совсем в ином отношении. Все, что окружает тебя — скажем, поля, леса, деревня, река или море, горы или степь, — было таким же и ночью, до наступления зари. Но восходящее солнце бросает на все такой свет, что мы вдруг по-новому видим мир. Впрочем, я завтра покажу тебе восход, сам посмотришь. — Здорово, — обрадовался Саша. — Обязательно разбудите, я встану. — Договорились, — подтвердил Михаил Ефимович, — Но это я так сказал, для примера, и, может быть, не совсем удачного. Сосна, восход солнца — это всего-навсего чудо природы, оно еще не объясняет искусства. Искусство творит человек. Ты должен понять, Саша, что сам по себе пейзаж, каким бы он ни был, не является картиной. Картину может написать только художник, глядя на пейзаж, освещая его светом своей мысли, своего чувства. На этот счет существует много рассуждений, написаны тысячи книг, и, чтобы нам с тобой не заблудиться в дебрях, я расскажу один случай из моей практики. Вот слушай, как искусство связывается с жизнью. Саша притих. — Зимой сорок второго года, — начал свой рассказ Михаил Ефимович, — мы с одним известным режиссером снимали большую военную картину о наполеоновском нашествии на Россию. Для съемок нужно было много солдат, а в Москве в ту пору почти совсем не было свободных мужчин: большинство ушло на фронт, а оставшиеся работали на заводах. И тогда к нам на студию прислали курсантов пехотного училища. Случилось так, что для одной небольшой, но очень важной роли мы решили попробовать одного курсанта, который, к нашему счастью, до призыва на военную службу учился в театральной школе. Он оказался способным малым, и мы поручили ему небольшую роль солдата, попавшего в плен к врагам. По ходу действия враги жестоко пытали русского солдата, избивали и мучили его, но он не выдал товарищей. Его повели на расстрел. Он повернулся к своим палачам, встал во весь рост и крикнул: — Вы можете уничтожить меня, но никогда не сломите русский народ, не убьете свободу. Все равно на нашей стороне жизнь, а на вашей смерть! Он яростно набрасывался на карателей, бился с ними врукопашную до тех пор, пока раздавшиеся в упор несколько выстрелов не повалили его на землю. Молодой человек сыграл свою роль с такой страстью, что сразу же покорил всех, и зрители всегда аплодировали нашему солдату. Он оказался настоящим артистом. — Он и теперь снимается в кино? — спросил Саша. — Нет, больше он никогда не снимался. Он остался военным, ушел на фронт, сейчас он полковник. Но слушай, что было потом. После того как мы сняли наш фильм, прошло более двух лет. Война приближалась к концу. Наша армия освобождала Европу, и я с киноаппаратом в руках тоже шагал на запад. И вот в один из таких дней, когда мы перешли границу Германии и подходили к Эльбе, на дороге нам встретилась большая группа узников фашистских концлагерей, освобожденных танкистами из неволи. Эти измученные люди сошли на обочину и, еле держась на ногах, приветствовали нас. И вдруг я услышал, как кто-то в толпе несчастных закричал: — Михаил Ефимович! Это же я! Узнаете? На меня смотрел худой высокий человек с ввалившимися глазами, небритый, с выбитыми зубами. Он улыбался мне, протягивал руку. Что-то знакомое мелькнуло в выражении его глаз. Но я никак не мог вспомнить, где встречал этого человека. — Не узнаете, Михаил Ефимович? — сказал он слабым надломленным голосом и закашлялся. — Помните, снимали меня в сорок втором? Курсант пехотного училища, недоученный артист. Я еще раз внимательно посмотрел на него и узнал бывшего молодого курсанта и артиста. Мы бросились друг к другу и по-братски обнялись. — Какая судьба, — сказал мне солдат, вытирая слезящиеся глаза. — Я был в плену, в концлагере, прошел все круги ада. Я с жалостью смотрел на него, хотелось сказать ему доброе утешительное слово. — Теперь-то все кончилось, — начал я. — Поздравляю вас со свободой. Вы живы, какое счастье. — Помните наш фильм? — спросил меня солдат с какой-то гордостью. — Благодаря ему я выдержал муки и победил смерть. В тяжкие минуты я говорил моим палачам, как тогда в нашем фильме: «Вы можете уничтожить меня, но никогда не сломите русский народ, не убьете свободу. Все равно на нашей стороне жизнь, а на вашей смерть!» Оно так и вышло, наша взяла. Мы еще раз обнялись на прощание, и я побежал догонять свой батальон. Михаил Ефимович положил руку на Сашино плечо, дружески похлопал, притянул мальчика к себе. — Вот она как бывает, Саша. Живой человек делает искусство, а оно учит его жить. Саша прижался к Михаилу Ефимовичу, долго молчал. — Так что же, — спросил оператор, — пойдем завтра смотреть восход солнца? — Обязательно, Михаил Ефимович. Не проспите, пожалуйста, раз обещали. — Ложись спать, завтра у нас много дел. И восход смотреть, и Борис Лукич прилетит, съемки начнутся. Горячая пора. Саша забрался под одеяло и вскоре заснул крепким сном.
На восходе солнца
Михаил Ефимович сдержал слово, разбудил Сашу перед зарей и повел смотреть восход солнца. Когда вышли из дома, на улице было еще темно. — Пойдем на курган, — предложил Михаил Ефимович. — Оттуда увидим все окрестности. Поеживаясь от холода и пряча голову в поднятый меховой воротник, Саша молча шел за оператором. Снег скрипел под ногами, морозный ветерок пощипывал щеки. В темноте чернели силуэты домов, кое-где в окнах светились огни. Где-то лаяла собака, и другая отвечала ей издалека, с южной окраины поселка. За низким дувалом блеяли овцы, мычала корова. Навстречу шла женщина с двумя ведрами воды. Она свернула с дорожки, поставила ведра на снег, звякнув железными дужками. — Здравствуйте, — поклонилась женщина, провожая любопытствующим взглядом Михаила Ефимовича и Сашу. Когда они поздоровались и прошли мимо, женщина снова взяла ведра, понесла к своему дому. Постепенно рассеивалась темнота. Все предметы и дома становились более различимыми, отчетливо белел снег на вершине кургана. Подъем был некрутой, и Саша не успел устать, как уже достиг вершины. Оглянулся на поселок и ахнул от удивления: над домами поднимались прямые столбы белого дыма, медленно выплывающего из печных труб и уходящего в чистое синее небо. Этого он никогда еще не видел и ни за что не поверил бы, если бы ему сказали, что так бывает. — Ну как? — подмигнул Михаил Ефимович. — Стоит дым, не шелохнется. — Отчего это? — удивился Саша. — Морозный воздух — и ветра никакого, — объяснил Михаил Ефимович. — Вот и стоит столбом красавец дымище. — Как расколдованный джин! — засмеялся Саша. — Только не из бутылки выползает, а из трубы. Вот здорово! — Смотри-ка на степь и на небо, — повернулся в другую сторону Михаил Ефимович. — Сейчас будет самое главное: начнется восход солнца. Саша смотрел вокруг. Все перед ним менялось, с каждой минутой становилось светлее. В морозном воздухе засверкала пыль, заиграла огненными искорками и запрыгала в глазах. Снежные холмы постепенно стали розоветь, потеплели, словно совсем близко от них вспыхнули и загорелись костры. Свет разливался все шире и шире, упал на вершины курганов, на крыши домов, на пухлые шапки белого дыма. На кукурузном поле, где из-под снега торчали коричневые с тусклой прозеленью стебли, резвились два зайца. И лежащий внизу под курганом поселок, и вьющаяся темная линия санной дороги, и дым над избами, и черная стая ворон, и прыгающие зайцы, и бредущая по снегу отара овец, и сама белая степь, и все-все, что было вокруг, казалось необыкновенно чистым, умытым живой водой. Саша с восторгом смотрел на красно-оранжевый шар солнца, поднимающийся над степью, от счастья зажмурил глаза, прикрыл лицо ладонями, отвернулся от солнца и засмеялся. — Ну что, Саша, теперь увидал восход? — услышал он голос Михаила Ефимовича. — Настоящее чудо! — крикнул мальчик. — Чудо-юдо! Красота!
Путешествующие «юпитеры»
В это же утро из Москвы прилетел Борис Лукич и сразу направился осматривать приготовленные для съемки места. — Это никуда не годится, — сказал он художнику и оператору, когда они подошли к катку. — В глухой степи, среди зимы стоит новенький зеленый забор. Кто же этому поверит? Дожди, ветры, знойное солнце и морозы любой забор сделают серым, тусклым. О чем же вы думали, друзья мои? Прошу немедленно исправить оплошность и поставить сюда настоящий забор, хотя бы вон такой, что стоит у центральной усадьбы. — Пожалуй, вы правы, — виновато согласился художник. — Мне самому казался неуместным зеленый забор на белом снегу. Это, скорее, напоминает городскую дачу или заповедник. — Вот именно, — буркнул режиссер и ударил палкой по зеленому забору. — Убирайте! Через два часа на месте зеленого забора стоял серый, из старых, обветренных досок. Борис Лукич попросил и кинооператора переставить съемочную камеру на другую точку для более широкого захвата фона. В кадре вместе с катком должны быть видны и приметы поселка, — например, колодец и крыша овчарни. Были сделаны еще кое-какие незначительные перемены. Часам к двенадцати все собрались на площадке и приступили к съемке. Один за другим ярко вспыхивали «юпитеры» — путешествующие кинематографические солнца. В первый день снимали общие планы катка и Сашины пробеги на коньках по ледяному полю. Каток плотной стеной окружили деревенские ребятишки, с интересом наблюдавшие за киносъемкой, которую видели впервые, и с завистью поглядывавшие на Сашу. Катался он действительно хорошо. Но вдруг неожиданно сбился с темпа, споткнулся и растянулся на льду. В досаде на себя за неловкость, сдерживая боль в локте, испуганно посмотрел на режиссера, ожидая от него раздраженного окрика. Но Борис Лукич улыбнулся, озорно сказал: — Что это ты как корова на льду? Будь повнимательней, не суетись. Ну-ка, еще раз! Саша снова пошел по кругу и повторил без запинки все, что требовалось от него. Борис Лукич захлопал в ладоши. — Молодец! На следующий день снимали укрупненным планом Сашино лицо в разные моменты катания. То он смеялся, то был серьезен, то задорно поглядывал на товарищей, стоящих вдоль знаменитого серого забора. После обеда успели снять и Сашиных друзей, которые с восхищением и завистью смотрели, как он ловко и быстро бегает на коньках. На третий день в начале съемок Саша увидел у забора незнакомого летчика в форме Гражданского воздушного флота. Это был артист Афанасий Николаевич Крючкин, исполняющий роль летчика Павлова. Начинались съемки ответственной игровой сцены, как сказала Маргарита Сергеевна. Борис Лукич уже не сидел в своем кресле, а все время шагал по площадке, заглядывал в лупу аппарата, что-то говорил оператору, давал указания Маргарите Сергеевне, подходил к Саше, сдержанно и полунебрежно бросал короткие фразы Афанасию Николаевичу — словом, держал бразды в своих руках. Сцена была снята именно так, как предсказывал Саше Михаил Ефимович. Саше пришлось знакомиться с артистом Афанасием Николаевичем прямо по ходу съемки. Встреча мальчика с летчиком Павловым получилась естественной. Борис Лукич остался чрезвычайно доволен, все шло в соответствии с задуманным им планом. Афанасий Николаевич и Саша сразу же понравились друг другу. Со стороны казалось, что они давно знакомы, разговаривают так просто, непринужденно, словно не один год прожили вместе. — Вы были летчиком? — спросил Саша Афанасия Николаевича, когда они возвращались со съемки. — А почему ты так думаешь? — Ловко у вас все получается, как у настоящего летчика. — На этот счет у нас, артистов, свои секреты имеются, — пояснил Афанасий Николаевич. — Я, например, всегда завожу дружбу с такими людьми, которые похожи на моих киногероев. В примеру, скажем, нужно мне сниматься в роли косаря, я обязательно посмотрю, как люди косят. И не только посмотрю, а покошу сам и попрошу крестьянина, чтобы он придирчиво проверил меня и поправил. — Интересная у вас работа, — сказал Саша, не скрывая своего восторга. — А ты как думал? — хвастливо поднял брови Афанасий Николаевич. — У меня и здесь имеется такой учитель, местный летчик. Хочешь познакомиться, приходи вечером вон в тот дом с желтыми ставнями. Видишь, который с краю? — Вижу. — Приходи смело, я буду ждать.
Домик с желтыми ставнями
В назначенное время Саша пришел в дом с желтыми ставнями. Оказалось, здесь жил бывалый летчик Иван Сергеевич Анохин, ныне начальник маленького степного аэропорта. Именно у него и поселился на квартире Афанасий Николаевич. — Прошу, прошу к нашему шалашу, — радушно пригласил Анохин, протягивая Саше сильную шершавую руку. — Проходи, знакомься со всеми. Анохин был невысокого роста, коренастый и очень подвижный. Когда улыбался, из-под его темных усов сверкали крепкие белые зубы, а от веселых карих глаз тянулись к вискам тонкие лучики морщин. Седеющие темные волосы были зачесаны назад и все же не могли прикрыть обозначившуюся лысину. Клавдия Степановна, жена Анохина, тоже подала Саше руку и приветливо сказала: — Очень хорошо, что пришел. Здравствуй. Поздоровайся с мальчиком, Наташа. Это наша доченька, во втором классе учится. Наташа бойко протянула правую руку и шлепнула по Сашиной ладошке. — Тебя зовут Саша? — спросила девочка. — Да. — Ты снимаешься в кино? Артист? — Снимаюсь, только не артист. Я тоже в школе учусь, в четвертом. Клавдия Степановна продолжала накрывать на стол. — Ну-ка, ребятки, садитесь ужинать. Ухаживай за гостем, Наташа, ты же хозяйка. На столе уже шумел самовар, какой-то смешной, старомодный, желтый, похожий на большой апельсин, с ножками и ручками. На овальном блюде теплым паром дымились куски вареной баранины, на тарелках лежали соленые огурцы и помидоры. За столом Афанасий Николаевич и Иван Сергеевич вспоминали, как впервые встретились в годы войны на Ленинградском фронте и как-то сразу понравились друг другу. Афанасий Николаевич, уже известный к тому времени киноартист, приехал с концертной бригадой в часть, где служил летчик-истребитель Иван Сергеевич, охраняя ленинградское небо. Афанасий Николаевич толкнул Сашу локтем. — Видишь, Саша, какой у меня учитель? Смотри на него и играй летчика. Не ошибешься, всем интересно будет. — Вам хорошо, — с огорчением сказал Саша Афанасию Николаевичу. — Есть на кого равняться, можете здорово сыграть. Мне труднее, тут никто из мальчиков не катается на коньках, меня просят, чтобы научил. Все весело засмеялись. Анохин налил взрослым вина, поднял рюмку и обратился к Саше: — Не бойся трудностей, Саша. Афанасий Николаевич только говорит, что учится у других, а на самом деле у него учатся тысячи людей. Ты видел его в фильме, где он снимался в роли танкиста? По этому фильму мы во время войны учились у Афанасия Николаевича мужеству и отваге. Тебе повезло, что ты снимаешься с таким замечательным артистом. За твое здоровье, Афанасий! — Вогнал меня в краску, — пошутил Афанасий Николаевич. — Вознес до небес. Ну что ж, давай выпьем и за меня, и за тебя. А еще за Клавдию, за Наташу и Сашу. Пусть растут ребятки и станут не хуже нас. — Ох, и любите же вы оба прихвастнуть! — засмеялась Клавдия Степановна. — А помнишь, Афанасий?.. А помнишь, Иван?.. Саша и Наташа быстро расправились с пирожками, съели варенье, выпили чай и ушли в другую комнату. — Ты играешь в куклы? — спросила Наташа, доставая из шкафа большой ящик с игрушками. — Я же не девчонка, — вздернул плечами Саша. — У тебя шахматы есть? — Нету, — огорчилась Наташа. — Ну тогда давай смотреть альбом с фотографиями. Хочешь? Она сняла с этажерки большой альбом в красном переплете, уселась рядом с Сашей на кушетке. Альбом был тяжелый. Наташа положила его на колени, стала переворачивать страницы. — Это наш папа. Видишь, какой он был молодой, когда в летном училище занимался. А вот на этой фотографии папа собирается лететь на фронт. А на этой он в госпитале с перевязанной головой после ранения. Мой папа фашистские самолеты сбивал, сначала под Ленинградом, а потом под Курском и под самым-самым Берлином. Вот папины товарищи из полка. А это, когда мы были на Дальнем Востоке, папа с охотничьим ружьем ходил в лес, большущего зайца убил. Наташа листала альбом и без устали рассказывала историю жизни своего отца. Саша внимательно слушал. В его воображении вырисовывался образ отважного летчика, героя войны, веселого жизнелюбивого человека. В приоткрытую дверь детям был хорошо слышен голос Анохина. Саша видел летчика, его жену и Афанасия Николаевича. Афанасий Николаевич курил и внимательно наблюдал за Иваном Сергеевичем, облокотившись на край стола. А Иван Сергеевич, стоя у окна, возбужденно жестикулировал и читал стихи.
Саша прислушался к голосу Анохина. — Ну что же ты не смотришь? — шлепнула ладошкой по Сашиной руке Наташа. — Я показываю, показываю, а ты не глядишь. — Я слушаю. Твой папа стихи читает. — Он может читать хоть целый день. — Тише. Дети примолкли. Из столовой доносился голос Ивана Сергеевича.
— Знаешь, кто написал эти стихи? — спросила Наташа. — Не знаю. — Поэт Твардовский. Саша взял альбом. — Давай дальше листать. И склонился над альбомом.
В конце недели с юга потянул теплый ветер, небо расчистилось, и ни одно облако не закрывало солнца в течение целого дня. Лед на катке обмяк, потускнел. С крыш посыпались сверкающие капли, большие и звонкие, как серебряные монеты. По всей степи началось дружное таяние снега. Шла весна. — Вот видишь, Саша, — сказал Михаил Ефимович, укладывая в кофр объективы и светофильтры. — Как важно вовремя сделать дело. Теперь нам не страшны ни оттепель, ни половодье, съемка закончена, улетаем в Москву. Во время ужина зашел Борис Лукич. Довольный, улыбающийся, разделся, налил в кружку горячего чая, бросил несколько кусков сахару, стал размешивать, громко позванивая ложечкой. Отхлебнул несколько раз, с удовольствием крякнул и только потом сказал: — Был в аэропорту, разговаривал по телефону со студией. Наш директор доволен. Получили из лаборатории проявленный материал, смотрели на экране. Здорово, говорит, получается.
В Москве, прощаясь с Сашей, Маргарита Сергеевна говорила ему: — Мы не будем беспокоить тебя целых два месяца. Только в конце мая снова полетим в совхоз, в настоящую экспедицию, почти на все лето. Ты должен отрастить длинные волосы. Сейчас снимали тебя в малахае, а летом будешь без шапки. Такие ребята, как твой Петька, носят длинные волосы даже в летнюю жару, чтобы не сжечь голову на солнце. И постарайся похудеть, поменьше ешь мучного. Запомнил, что надо сделать? Отрастить волосы и похудеть. — Будет сделано, — пообещал Саша. Так закончилась первая Сашина поездка в далекую степь.
Отдать ли ужин врагу?
Дома Сашу ждал приятный сюрприз: из командировки вернулся отец. Узнав от матери, что сына пригласили сниматься в кино, он не стал возражать. Вся семья собралась за столом, как на семейный праздник. Саша возбужденно рассказывал о своем первом в жизни далеком путешествии, о восходе солнца в степи, о том, как выглядит земля с самолета, перечислял людей, с которыми познакомился в эти дни, даже в лицах изображал Михаила Ефимовича, Маргариту Сергеевну и Бориса Лукича. В таком же возбужденном состоянии Саша на следующий день явился в школу. Ребята окружили его, разглядывали, как диковинку, а он рассказывал обо всем неторопливо, важно, как бывалый путешественник, у которого в запасе много всяких историй. Снова потянулись спокойные дни учебы. Впрочем, спокойствие скоро нарушилось: и в школе, и дома у Саши становилось все больше забот. На первом же уроке арифметики Саше попалась такая каверзная задачка, что пришлось как следует поломать голову. Наконец, кажется, решил и повернулся от доски к учительнице. Но учительница строго покачала головой. — Проверь внимательнее второе действие, там у тебя грубая ошибка. Элементарных вещей не знаешь. Саша покраснел, отвернулся к доске. Кряхтел, переминался с ноги на ногу, бегал глазами по доске, пока не заметил проклятую ошибку. — Правильно, — подтвердила Мария Павловна. — Надо быть более внимательным. Садись на место. Саша с нетерпением ждал конца мая, все думал о съемках, о степном поселке, о летчиках и о том, что будет после, когда картина выйдет на экран. Все другое «не лезло в голову», как сказала про Сашу тетя Нюра, горячо сочувствовавшая племяннику и так же, как он, нетерпеливо ожидавшая отъезда в экспедицию. Кончалась зима, таял снег, прекратились морозы, и Саша ходил на крытый каток, ежедневно по два часа занимался с тренером. Постепенно он так хорошо освоил новый режим, что занятия на катке нисколько не отражались на его школьных делах. Не забывал он выполнять поручения Маргариты Сергеевны, которая наказала ему отрастить длинную шевелюру и похудеть. С первым заданием было легко. Волосы росли сами собой, Саша только изредка расчесывал их гребнем да поглядывал в зеркало. Труднее было справиться с другим заданием — похудеть. Чего только Саша не делал для этого! Специально перестал пользоваться лифтом, пешком по лестнице поднимался на свой этаж и спускался вниз. Пил сырую воду натощак, ходил в магазин, приносил маме по полной корзине картошки, капусты, моркови. Когда отец возвращался из очередной командировки, Саша отправлялся на вокзал, чтобы встретить его, и без посторонней помощи нес домой отцовский чемодан. Несколько раз даже помогал дворнику грузить дрова, копал во дворе ямы для посадки деревьев, носил мусор в тяжелых ведрах. Но все это не помогало. От усиленной физической работы аппетит еще больше разгорался, Саша набрасывался на еду и с удовольствием уплетал за обе щеки. А тетя Нюра, любившая хорошенько покормить племянника, радовалась такому случаю. Но Саша мужественно боролся с самим собой. Бывало, идет домой после катания на коньках и мысленно составляет план дальнейших действий. «Вот приду домой, — размышлял он, — поем немножко, ну самую малость, и сяду за уроки. Возьму штурмом арифметику, атакую русский язык, форсирую все реки и озера по географии, а после почитаю. Перед сном пойду в подъезд, пешком поднимусь и опущусь по лестнице раз восемь, выпью стакан сладкого чая и лягу спать. Есть надо поменьше, обжорство человеку ни к чему». Но как только Саша переступал порог квартиры, в нос ударял запах жареного мяса, пончиков, кофе и еще чего-то аппетитного и вкусного. Сдерживая себя, он равнодушно снимал пальто, шапку, бросал сумку на столик и шел в свою комнату. — Сашенька! — раздавался из кухни голос тети Нюры. — Иди-ка посмотри, что я тебе приготовила. Сашу как магнитом тянуло к кухне, хотя он мужественно пытался устоять. — Да ладно! Я потом, — отговаривался он. — После прогулки самый раз поесть. Иди, пока не остыло. — Не хочется. Уроки нужно делать, и аппетита нет. Вот и сегодня тетя Нюра вошла в комнату и тревожно посмотрела на племянника. — Никак, заболел? Разве можно целый день без еды? Иди покушай, никуда не уйдут от тебя уроки. — Да не хочу я. География у меня еще не выучена, не до пончиков тут. Тетя Нюра покачала головой и вышла. В приоткрытую дверь проникали вкуснейшие запахи. Какая-то каторга, а не жизнь. Саша прикрыл плотно дверь, сердито подсел к столу, раскрыл учебник географии, рассеянно полистал, никак не мог найти той страницы, где нужно было читать. Дверь неожиданно открылась, в комнату вошла тетя Нюра с большой тарелкой. — Взгляни, какие пончики. Горяченькие, свеженькие. Возьми хоть один. — Ладно, возьму один, — сказал Саша и протянул руку. Теплый пончик в минуту растаял во рту. Саша потянулся за другим, откусил, прищелкивая языком: — Вкусно! — Иди на кухню, пообедаешь как следует. Тетя Нюра вышла, увлекая за собой Сашу, который уже не сопротивлялся. Тетя Нюра подливала в тарелку, подкладывала вкусные кусочки и все приговаривала: — Хорошая пища никому не вредит, от нее у человека и здоровье, и ум, и сила. — Мне надо похудеть, — бормотал Саша с набитым ртом. — Толстый я, тетя Нюра? — Что еще выдумал? — удивилась она. — Нормальный, здоровый мальчик. Выпей еще стаканчик компоту, тут абрикосы и вишни. Сладко? — Угу! — кивнул Саша, разгрызая абрикосовые косточки. Покончив с обедом, он облизал языком губы и покосился на тетю Нюру. — Ты поменьше давай мне есть, тетя Нюра. Маргарита Сергеевна велела похудеть. — А почему мне ничего не сказала? — Так я же тебе говорю, она просила передать. — И сильно худеть надо? — Нормально, — сказал Саша, — Голодом не морить себя, а воздерживаться. — Ты и так в норме, — возразила тетя Нюра. — Хорошо поел, теперь и уроками заняться можно. Почти каждый раз после съеденного обеда или ужина Саша испытывал тайное угрызение совести. «Какой-то я слабохарактерный, — думал он про себя. — Как же буду дальше жить? Мне велели худеть, а я, кажется, распухаю, как тесто на дрожжах. Надо принимать серьезные меры. Пойду в парадное, побегаю по лестнице, раз десять поднимусь и спущусь пешком». Саша надел шубу и ушанку, обулся в тети Нюрины валенки, чтобы было тяжелее и неудобнее двигаться, вышел на лестницу, где стояла духота от жарко нагретых батарей. Несколько раз поднялся и спустился по ступенькам от первого до последнего этажа и обратно. Идти было трудно, он часто останавливался. Домой вернулся мокрый от пота, с красным лицом, тяжело дышал и слышал, как в груди колотится сердце. Кажется, сразу похудел, этот способ хорошо действует. — А теперь начну зверски учить географию и арифметику. Вызубрю все реки и озера, а по арифметике решу целую страницу задачек. И он добросовестно принялся за уроки. Названия рек и озер учил, как стихи, ходил по комнате, громко выкрикивал слова, размахивал руками. Говорил то медленно, то быстро, под конец стал даже подпрыгивать по одному разу после каждой речки и по два раза после каждого озера. Все эти манипуляции он проделывал для того, чтобы побольше расходовать энергии. Рек и озер оказалось не так уж много. Саша повторил все названия по нескольку раз, прошептал, продекламировал, даже пропел и радостно заметил, что ни разу не сбился, все быстро запомнил. Энергии оставалось еще вон сколько, а урок по географии уже был выучен. Делать нечего, надо браться за арифметику. Тут все пошло не так гладко. Махал руками и произносил слова шепотом и нараспев — не помогло. Пришлось склониться над тетрадкой, вдуматься в условие задачи. Первую решил стоя, на второй несколько раз приседал на стул, а над третьей задачкой засиделся так долго, что ему показалось, будто прошла вечность. С четвертой пришлось прямо-таки героически сражаться, три раза переделывать, пока не сошелся ответ. На пятой Саша сдался. Захлопнул тетрадь и учебник, вытер рукавом вспотевший лоб, вздохнул с таким облегчением, словно после опасной борьбы с морскими волнами выплыл на берег и встал ногами на твердую почву. Cаша подошел к зеркалу, посмотрел, и ему показалось, что он заметно похудел: щеки будто ввалились, живот втянулся, брюки еле держались. В это время из кухни раздался голос тети Нюры: — Шел бы ужинать, Саша! Смотри, какие сардельки я тебе отварила. «Это лишнее, — подумал Саша. — Перебор. Надо решительно отказаться». Но даже при одной мысли о сардельках у него потекли слюнки. Нод ложечкой засосало, а в животе заныло. Он машинально переступил порог кухни, уселся к столу, сердито посмотрелна упругие, налитые соком сардельки, взял одну, намазал горчицей и с ожесточением принялся жевать, причмокивая и морщась от остроты. В кухню вошла Лидия Васильевна. Постояла, посмотрела, с каким удовольствием ест сын, покачала головой. — Что же ты, Саша, забыл совет Михаила Ефимовича «ужин отдай врагу»? Не переставая жевать, Саша махнул рукой на всю премудрость, отчаянно проговорил: — У меня нет врагов, приходится самому с ужином справляться. Лидия Васильевна и тетя Нюра засмеялись.
Степь да степь кругом
На конец мая был назначен отъезд в экспедицию. Тетя Нюра и Саша до поздней ночи паковали снаряжение, укладывали запасную одежду, легкую обувь, мыло, зубные щетки, пасту, полотенце, термос для чая, две эмалированные голубые миски, две такие же кружки, ложки, ножи, вилки, салфетки и прочую необходимую мелочь, без которой не обойдешься в условиях полулагерной, бивачной жизни. Маргарита Сергеевна встретила Сашу в аэропорту, окинула взглядом, одобрительно воскликнула: — Ты просто молодец, Саша! И шевелюра у тебя чу́дная, и похудел как надо. Прелесть! Теперь Саша устраивался в самолете, как бывалый пассажир. Тетя Нюра боязливо притихла, сразу же пристегнула пояс, даже закрыла глаза. А Саша спокойно походил вдоль кресел, поздоровался со всеми и стал устраиваться на своем месте. Вскоре стюардесса принесла на подносе леденцы в разноцветных бумажках. Саша взял целую горсть, стал сосать. Потом достал книжку, немного полистал и полез в сумку за бутербродами и пирожками. Не спеша ел и поглядывал в иллюминатор. Наконец насытился, выпил бутылку лимонада, откинулся к мягкой спинке кресла, задремал. Проснулся от внезапно наступившей тишины. Оказалось, самолет уже приземлился, все поднялись с мест, направляясь к выходу. К самолету были поданы два новеньких голубых автобуса с надписью «Киносъемочный». Первым спустился по трапу Борис Лукич, за ним остальные. От автобуса навстречу Борису Лукичу полуторжественно-полуделовито двинулся директор картины Дмитрий Григорьевич. Оказывается, он прилетел заранее, все подготовил и уладил, как он сам говорил, «вопросы жилья, питания, труда и отдыха». Саша не сразу узнал поселок и его окрестности. Зимой здесь все было засыпано снегом, кругом простиралась плоская унылая степь. Теперь же тянулись к небу деревья, и зеленая земля, покрытая высоким ковылем, пестрела цветами. Особенно много было тюльпанов, пламенеющих большими оранжево-красными пятнами на широких просторах. Около пруда белели палатки, тут же был построен навес от солнца, сколочены столы и длинные скамейки из простых досок. Под навесом стояли автомашины, осветительные приборы и подсветки, ящики с реквизитом и оборудованием, — словом, все, что предприимчивые организаторы уже успели доставить из Москвы. Директор картины водил за собой Бориса Лукича и показывал ему хозяйство, подробно объяснял, в каком состоянии дела. — Это наша основная база, — пояснил директор. — Горючее будем брать у летчиков, я договорился. Борис Лукич молча слушал, кивал, смотрел на степь через темные очки, вытирал белым платком вспотевший лоб. Воздух был горячий, становилось душно. Несмотря на предвечернее время, солнце нещадно палило. На этот раз артисты и творческая часть съемочной группы разместились в классах совхозной школы. У малышей уже закончились занятия, и помещение было свободно. Другие работники устроились на частных квартирах. Михаил Ефимович, его ассистенты и помощники по операторской части, осветители, шоферы и плотники поселились в палатках, точнее, в юртах, сделанных из толстого войлока, застеленных внутри кошмами и коврами. Летом в таких юртах прохладно, в них только и можно спастись от духоты и зноя. Саша и тетя Нюра должны были жить в отдельном домике, перед которым росли два высоких тополя, тянувшихся вверх, как мачты на корабле. В первый же день Сашу познакомили с актрисой Тамарой Николаевной Владимировой. Она будет исполнять роль матери Пети и должна ввести Сашу в обстановку деревенского быта, научить домашней сельской жизни. На этот раз Борис Лукич счел необходимым заранее познакомить Сашу с его партнершей, так как по ходу съемок эта женщина будет кормить его, по-матерински ласкать, укладывать в постель, расчесывать волосы. Саше нужно было привыкнуть к ней, чтобы на съемках вести себя свободно, не стесняться, не конфузиться. Саша внимательно присматривался к своей кинематографической «маме». В ней и в самом деле было что-то простое, домашнее. Говорила она без жеманетва, одета скромно, как крестьянка. С крестьянской утварью обращалась привычно, ухватисто. Ходила босиком, носила воду в ведрах на коромысле, доила корову, растапливала печь во дворе, мыла посуду. — Ответьте по правде, — спрашивала она тетю Нюру, — похожа я на крестьянку? — Если бы не сказали, мне бы и в голову не пришло, что вы артистка, — искренне удивлялась тетя Нюра. — Я сперва так и подумала, что вы хозяйка этого дома. Тамаре Николаевне было приятно услышать такие слова. — Да я и есть крестьянка, на Кубани в колхозе выросла. Кончила школу, уехала в город учиться. В киноинститут попала, в артистки вышла. Чудно, а? — Вам теперь в самый раз играть колхозниц. Уж кто лучше знает ихнюю жизнь! — Сынок-то у меня хорош? — Тамара Николаевна становилась рядом с Сашей. — Весь в меня, умница и красавец. Саша смущался от таких шуток, но не убегал, покорно стоял рядом, привыкал к роли.
Забудь, кто ты
Вся жизнь лагеря была подчинена единому режиму. По вечерам на невысоком щитке у столовой экспедиционной базы вывешивался график работ на следующий день, где было точно указано, кто, куда и в какое время должен явиться и чем заниматься. Любимое выражение Бориса Лукича «не будем терять драгоценные минуты» теперь произносилось везде и всюду, и не только Борисом Лукичом. Эти слова стали своеобразным девизом всей съемочной группы. На другой же день по приезде Борис Лукич в присутствии Маргариты Сергеевны и всей группы, как бы между прочим, затеял серьезный разговор с Сашей. — С этой минуты забудь все прошлое, — сказал он мальчику. — Теперь ты не Саша, а Петька, сын пастуха. Все, что написано в сценарии о Петьке, ты должен понимать так, будто речь идет о тебе самом. Начинай новую жизнь деревенского мальчугана, усваивай обстановку, вживайся в образ. Придется учиться ездить верхом на лошади, стрелять из охотничьего ружья. Вместо волков будут натренированные овчарки, обученные известным мастером Аркадием Гурьевичем Ростовским. Ты, наверное, видел его, он летел с нами из Москвы. Вон стоит. — И Борис Лукич указал на пожилого человека в роговых очках и с седой бородой, которого Саша видел в самолете. Аркадий Гурьевич дружески кивнул Саше. — Верховой езде и охотничьему делу тебя научат местные жители: коневод Махмуд Кобжанов и охотник Ораз Серкебаев. Борис Лукич сделал жест в сторону, где сидели два загорелых белозубых казаха, лет восемнадцати и тридцати. Старший был охотник Серкебаев, спокойный неторопливый человек, постоянно жующий табак. Младший курил козью ножку, с любопытством смотрел на москвичей. Оба они заулыбались и закивали, когда режиссер заговорил с ними. — Вам объяснили, что нужно делать? — спросил Борис Лукич охотника и коневода. — Все знаем, начальник, — ответил старший, показывая в улыбке крепкие белые зубы. Младший тоненьким голоском пропел: — Это дело понимаем, очень хорошо понимаем. Борис Лукич посмотрел на директора картины Корина. — Ружья, седла, собаки, лошадь готовы? — Все в порядке, — сказал Дмитрий Григорьевич. — Завтра можно начинать. — Итак, друг мой, — торжественно обратился к Саше Борис Лукич, — прошу тебя, отнесись к делу совершенно серьезно. Отбрось городские привычки, не бойся ни зверя, ни птицы, ни дождя, ни ветра и слушайся во всем Маргариту Сергеевну. А вы, Марочка, проследите за ним, помогите молодому артисту. — Ясно, Борис Лукич. Борис Лукич захлопал в ладоши и сказал, обращаясь ко всем: — На этом разойдемся, товарищи, не будем терять драгоценные минуты, прошу всех приниматься за дело. Несмотря на то что Саша отрастил длинную, густую шевелюру, ему велели надевать на голову войлочную шляпу, чтобы не хватил солнечный удар. Днем наступала нестерпимая жара, но снять рубашку опасно, можно получить такие солнечные ожоги, от которых неделю будешь стонать и охать. Здесь даже загорелому человеку трудно часами стоять на солнцепеке. Местные жители не зря носят толстые ватные халаты и войлочные шляпы. С непривычки такой режим переносить нелегко. Саша ищет спасения в тени, но его просят идти на улицу, погулять с деревенскими ребятами. В пруду купаться не разрешают больше пятнадцати минут, надо все время ходить в куртке, в войлочной шляпе, в длинных брюках и закрытых ботинках. Что Сашины домашние тренировки на лестнице в сравнении с этой нагрузкой! Вот где сразу сбросишь вес и похудеешь без особого старания, не надо придумывать никаких специальных упражнений! Спасибо за такой климат, прекрасные условия! — Я больше не могу, — стонет Саша. — Все мозги расплавились от жары, ничего не соображаю. Тамара Николаевна только подсмеивается над Сашей: — Ничего, сынок, потерпи. Забудь, что ты москвич, живи, как здешние ребята. Вон как резвятся, не жалуются! Вечером жара спадала, становилось легче дышать, можно было снять куртку и шляпу, разуться. А перед сном хорошо искупаться в пруду, подставить грудь теплому полынному ветру. Но летняя ночь коротка; только уснешь — надо просыпаться, солнце уже припекает и заглядывает в окно. И опять начинается круг мучений. Вот тут и попробуй быть Петькой-степняком, если ты все время остаешься московским мальчишкой. Куда уж там! Трудно Саше стать Петькой, хоть караул кричи. Полное раздвоение личности. «Отправят меня домой с позором, — думает Саша в отчаянии. — Вот так влопался, попал в переплет».
Крылатый конь
Саша совсем начал раскисать, но неожиданно его выручил Махмуд Кобжанов. Как-то ранним утром он влетел во двор на двухколесной таратайке и осадил красивую лошадь у крыльца. — Поедем в степь, — предложил он Саше, — Лучшего скакуна тебе приготовил, красавец конь, Тулпар называется по-нашему. Крылатый конь. Седло хорошее, катайся сколько нравится. — Я никогда не ездил на лошади, — заикаясь от смущения и робости, сказал Саша. — Как же так сразу? — Научим, самое простое дело. Только надо быть смелым и крепко держаться в седле. Сашу усадили в таратайку и повезли в степь. Ехать было приятно, еще веяло утренней свежестью, на траве поблескивала роса, слева и справа от дороги кланялись своими красно-желтыми головками тюльпаны. Солнце не успело взобраться высоко и не так жгло спины. Над степью курилась дымно-фиолетовая хмарь. Далеко-далеко холодновато синели горы, и на их самых высоких вершинах сверкал белый снег. Через дорогу перебегали суслики, становились на задние лапки, тонко свиристели, проворно прятались в норы, как только на земле появлялась тень коршуна или стервятника. Впереди бежала желтая собака, будто показывала дорогу сытому резвому коню. — В Москве не увидишь такой степи, — рассуждал Махмуд Кобжанов. — И суслик не бегает, и орел не летает... Знаю, был на выставке, жеребенка возил. В Москве асфальт керосином пахнет, плохо дышать летом. У нас, в степи, хороший воздух, долго жить будешь. Саша оживился от перемены обстановки, смотрел на все с любопытством. Он в самом деле ничего подобного не видал. — А зачем собака бежит впереди? — спросил он у Махмуда. — С нами живет, овец от волков охраняет. — А как же вы ездите без ружья, если тут волки водятся? — Зачем ружье? Я могу плеткой убить волка. Вон какая свинчатка на конце приделана. Вскоре они увидали дымок на холме, потом показались белые юрты, пасущиеся отары овец и табун лошадей. Это была база отгонного животноводства. Тут Сашу уже ждали «мастер»-собаковод Аркадий Гурьевич со своими овчарками и охотник Ораз Серкебаев с ружьем. Жилось здесь хорошо и привольно. Варили баранину в большом котле, ели ее с луком и лепешками из пресного теста. Это блюдо называлось бешбармак и было очень вкусно. Запивали бульоном, по-местному «сурпой». В жаркое время дня пили белый кумыс, вкусный напиток из кобыльего молока, остро-кислый, стреляющий в нос, как газированная вода. Часто растапливали самовар, кипятили воду, заваривали крепкий зеленый чай. Он хорошо утоляет жажду и приятен на вкус, если его пить без сахара. Махмуд выбрал из табуна красивого, смирного коня гнедой масти по прозвищу Тулпар, подвязал новое из коричневой кожи седло, подтянул стремена по Сашиному росту. Первый раз Саше было как-то непривычно и боязно садиться на коня, — пожалуй, страшнее, чем на самолет. — Зачем бояться? Пустяковое дело, — дружелюбно говорил Махмуд, подсаживая мальчика в седло и помогая ему заправить ноги в стремена. — Держись за седло, упирайся ногами, как в землю. Не дрожи, как заяц, не пугай коня. Он сам умный, всегда знает, как надо бежать. Саша цепко схватился за конскую гриву, за луку седла, прижался ногами к бокам лошади, кое-как уселся. Махмуд отпустил повод, хлопнул ладонью по лошадиному крупу. — Пошел! Пошел, Тулпар! Это был хорошо объезженный, смирный конь. Он сделал несколько осторожных шагов, потом легкой рысцой побежал к табуну. — Держи повод крепче! — кричит Махмуд. — Сиди смело, ничего не будет. Но Саша в испуге стал дергать за повод, хрипло вскрикнул, а лошадь по-своему поняла эти знаки, решила, будто ее подгоняют, пошла резвее. Мальчик испугался еще больше, ударил лошадь ногами под бока, ухватился за гриву, припал к седлу. Тулпар понесся вскачь. — Стой ты! — закричал Саша. — Сто-ой! Несколько раз он подпрыгнул в седле, больно ударился задом, свалился с лошади, запутавшись ногой в стремени. Тулпар тут же остановился. Подбежал Махмуд, помог неудачливому наезднику подняться, весело похвалил. — Хорошо ехал! Давай еще. Саша опасливо смотрел на коня, не сразу приблизился. Конь стоял смирно, косил темным глазом, прядал ушами. Махмуд снова посадил Сашу в седло, хлопнул коня по крупу. На этот раз мальчик сидел увереннее, проехал метров сто. Махмуд издал зычный гортанный звук, выкрикнул какое-то казахское слово. Лошадь побежала рысью. Саша опять чуть было не свалился с седла, но не выпустил повода из цепких рук, удержался. — Врешь, Тулпар. Не сдамся, оседлаю тебя как миленького! И он с радостью почувствовал проснувшуюся в себе уверенность и силу, приподнялся на стременах, натянул поводья. — Вперед, Тулпар! Полный вперед! И вместе с ликующим криком вылетел из седла. Совсем не больно ударился, сразу вскочил на ноги. — Если хочешь научиться скакать на коне, не бойся падать, — засмеялся за его спиной Махмуд. — Садись еще раз. Саша смело пошел к Тулпару. Через два дня юный наездник сам, без посторонней помощи дотягивался до луки седла, ставил ногу в стремя, сильным рывком подбрасывал тело в седло. — Хорошим джигитом будешь! — кричал мальчику Махмуд, бегая рядом с лошадью и подсказывая Саше, как пользоваться поводьями и правильно держаться в седле. — Много раз упадешь, шишку набьешь, а хорошо ездить будешь. Такие занятия продолжались изо дня в день. Саша все больше входил в азарт, вскоре научился свободно сидеть в седле, пускал коня полной рысью. Махмуд уже не бегал за ним, а ездил рядом на сером в яблоках жеребце, зычным голосом подгонял Тулпара. Кони скакали по полю, красиво выгибая дугой упругие шеи и приминая траву копытами. Подражая своему другу, степному джигиту, мальчик зычно кричал на всю степь, размахивал плетью, надетой на правую руку, рассекал воздух над головой и прислушивался к свисту ветра над ухом.
Съедят ли Сашу волки?
В то время как Махмуд обучал Сашу верховой езде, Аркадий Гурьевич и Ораз Серкебаев тщательно разыгрывали эпизод охоты на волков, терпеливо обучали овчарок. Устанавливали условные отметки, где по ходу съемок должны появиться волки и произойдет схватка, описанная в сценарии. Нужно было научить овчарок сниматься с места по сигналу, преследовать всадника, бросаться на круп лошади, хватать ездока за ноги, пытаться стащить с седла. Всадник должен был отстреливаться, а собаки реагировать на каждый выстрел, падать, изображать раненых волков, кувыркаться по траве, с остервенением «грызть» лошадь и наскакивать на всадника, упавшего на землю. Аркадий Гурьевич действительно оказался мастером своего дела, прямо-таки волшебным повелителем овчарок. Они делали все, что он приказывал, и с удивительной понятливостью выполняли его команды. Роль всадника на этих учениях исполнял охотник Оркебаев. Вначале лошадь не понимала игры, по-настоящему боялась овчарок. Когда они настигали ее и бросались на круп, она в самом деле тряслась от страха и дрожала под всадником, как натянутая струна. Серкебаев снимал с плеча ружье, нацеливался на воображаемых хищников, палил холостыми патронами. Лошадь прижимала уши, храпела и летела вперед, как ветер. Самые страшные минуты наступали для лошади, когда овчарки забегали наперерез с двух сторон и одновременно набрасывались на всадника. Снова раздавались один за другим выстрелы, всадник падал на землю. Овчарки бросались к Серкебаеву, а лошадь со стоном неслась по степи, уходя от преследователей и пугливо поводя глазами. На второй и третий день лошадь уже не так волновалась и принимала игру с большим хладнокровием, а через неделю делала все заученно, будто была довольна таким неожиданным развлечением. И люди, и лошадь, и овчарки постепенно вошли в свою роль и почти точно выполняли все, к чему их так настойчиво и терпеливо приучали. Настал день, когда Ораз Серкебаев пришел к Саше. — Теперь, джигит, будешь учиться стрелять, — сказал он. — Пойдем в поле, Тулпара оставь Махмуду. Сначала Серкебаев учил Сашу, как надо носить ружье на плече, быстро снимать и брать наизготовку. На другой день мальчика посадили на коня, учили ездить с ружьем, целиться на скаку, поворачиваясь в сторону и назад. Ружье было не такое уж легкое и не сразу подчинилось Саше, пришлось изрядно помучиться, прежде чем он овладел и этой наукой. Потом мальчика учили стрелять холостыми патронами. Самое трудное и опасное началось, когда Сашу стали вводить в эпизод погони волков, то есть в игру с овчарками. Хотя Саше подробно объяснили, что овчарки натренированные и не станут кусаться, ему все же было страшно, когда они с оскаленными мордами кидались на лошадь, пытались стащить его с седла. Сердце так и замирало в эти минуты. Зато было радостно смотреть, как эти же овчарки падали и кубарем катились по земле от Сашиных выстрелов, изображая раненых волков. Вот бы на самом деле так поохотиться на зверя и выйти победителем! Наверное, это очень приятно. В такие минуты Саша более всего чувствовал себя тем самым мальчиком-степняком Петей, сыном пастуха, жителем далеких казахских просторов. Наверное, ему все-таки удалось вжиться в образ. И Маргариту Сергеевну не подвел, и Борис Лукич доволен. Для съемки не нужно было, чтобы Саша падал с лошади и подвергался опасности. Падение отлично выполнял охотник Серкебаев, и, если его снять на дальнем плане, а потом вмонтировать в фильм, зрители абсолютно не заметят подстановку дублера. Но сам момент нападения раненого волка на мальчика, упавшего с лошади, нужно было снимать обязательно с Сашей. Эту сцену отрабатывали долго и тщательно. Саша несколько раз падал с седла на землю. На его крик неслась овчарка, бросалась на «раненого», пыталась вцепиться в горло. Мальчик ударом приклада сбивал с ног воображаемого волка, вскакивал на ноги и стрелял в упор в голову издыхающего зверя. Во время репетиции этой сцены к месту занятия подкатил зеленый «козлик». В нем сидели Маргарита Сергеевна, администратор и тетя Нюра. Все дни разлуки с Сашей она не находила себе места, раскаивалась, что отпустила племянника одного. Наконец пошла к директору картины, потребовала, чтобы ее немедленно отправили к Саше. Легко представить, как измученная угрызениями совести тетя Нюра стремилась в степь, чтобы поскорее встретить племянника, успокоить свое сердце, и вдруг услышала раздирающий душу Сашин крик и увидала, как ее племянник в отчаянии упал на землю, преследуемый огромным серым волком с оскаленной пастью. При виде такой ужасной картины тетя Нюра чуть не упала в обморок. К счастью, репетицию прекратили, Саша поднялся здоровый и невредимый, радостно побежал ей навстречу. Наступило время обеда, все отправились к юртам животноводов. Легкий ветерок доносил едкий дым костра, у большого черного казана возились две женщины — варили баранину, пекли лепешки. Тут же стоял начищенный медный самовар, попыхивал паром. Обедали в юрте, сидя на большом ковре, разостланном на полу. Сначала пили крепкий чай без сахара, отдыхали в прохладе, тихо разговаривали. Оживление наступило, когда Ораз Серкебаев внес в юрту бешбармак на большом эмалированном блюде, поставил на середину ковра перед уважаемыми гостями. Запах свежего мяса был приятен, все охотно подсели поближе к блюду. Махмуд Кобжанов принес кумыс, стал разливать в пиалы и подносить каждому. Когда дошла очередь до тети Нюры, она поморщилась и отвернулась. — Господь с вами, увольте, я не могу. — Хлебни, тетя Нюра, — уговаривал ее Саша. — Я тоже сперва не хотел, а теперь с удовольствием пью. Вкусное, как кефир с газировкой. — Да кто же пьет кефир с газировкой? — засмеялась тетя Нюра. — Боюсь. Маргарита Сергеевна выпила кумыс до дна и облизала губы. После обеда, когда чуть заметно стала спадать жара, снова отправились в поле. Маргарита Сергеевна пожелала ознакомиться со всем, что сделано за это время Сашей, и проверить, как подготовлен к съемке эпизод охоты на волков. К Сашиному удивлению, она тоже оказалась спортсменкой, легко села на коня и с места в карьер поскакала в степь. Аркадий Гурьевич волновался, пожалуй, больше, чем Саша. В степи раздалась его команда, призывающая всех к вниманию. Через минуту он махнул рукой, выкрикнул какое-то слово, сразу же к назначенному месту поскакала лошадь, помчались собаки. Хорошо! Отлично начинается! А Саша-то как ловко сидит в седле! Запросто снимает с плеча ружье и на полном скаку стреляет. Гулкие выстрелы раздаются один за другим. Волки уже настигают Сашу, прыгают на круп лошади, хватают всадника за ноги. До самого конца сцены все проходит четко, в быстром темпе, без всяких заминок. Прекрасно, красиво, четко. Аркадий Гурьевич сияет от счастья, очень доволен своей работой, но все-таки с тревогой ждет приговора Маргариты Сергеевны. — Надеюсь, Борис Лукич будет доволен, — говорит она, осадив коня. — Стараемся, — скромно отвечает Аркадий Гурьевич. — Я могу доложить Борису Лукичу, что сцена готова к съемке? — Все в порядке, не беспокойтесь. На этом закончился смотр приготовлений к съемкам. Маргарита Сергеевна и тетя Нюра усаживались под брезентовую крышу зеленого «козлика». Надо было возвращаться в совхозную усадьбу, в главный лагерь экспедиции.
Борис Лукич на командном пункте
Через два дня в степь приехали Борис Лукич, Михаил Ефимович, Маргарита Сергеевна, Дмитрий Григорьевич, Серафима Петровна и целый автобус помощников, в том числе и тетя Нюра. Тетя Нюра понравилась администрации группы своим покладистым нравом. Обычно при съемках детей родственники или родители юных артистов доставляют много хлопот представителям администрации. С излишним усердием и придирчивостью следят, чтобы их мальчика или девочку не задержали на съемочной площадке ни на минуту сверх положенного времени; чтобы не тревожили в слишком холодную или слишком жаркую погоду; чтобы вовремя подали завтрак; чтобы не расстегивали пальто на холоде; не заставляли слишком быстро бегать и слишком высоко прыгать. Словом, часто бывает так, что они не спускают глаз со своего дитяти, на каждом шагу вмешиваются, учиняют скандалы, расстраивают самого ребенка и портят настроение другим, а иногда даже срывают съемки. Беда с подобными несговорчивыми и капризными людьми, одна нервотрепка. Совсем не такой оказалась тетя Нюра. Она ко всему относилась спокойно, ровно, доверчиво, не смотрела на работников группы, как на Сашиных мучителей, считала всех его друзьями и сама не хотела сидеть без дела. Роль бдительной надсмотрщицы ей совсем не подходила, она искала более полезного дела. И на этот раз, как и зимой, обратись к Михаилу Ефимовичу, который тут же определил ее на работу, поручив следить за подсветками, что она отлично выполняла. Было решено проводить съемки в утренние и вечерние часы, а в самое жаркое время дня отдыхать. Величественность Бориса Лукича на степном пекле заметно поубавилась. Он стоял в кузове открытой машины и усталыми, слезящимися от солнца глазами обозревал окрестности. Ездить верхом на лошади он, разумеется, не умел, передвигался по степи только на автомобиле. Совершенно по-иному вел себя Михаил Ефимович. Он оседлал приземистого рыжего конька и запросто руководил делами, сидя в седле, ни на минуту не терял энергии, даже в самые жаркие часы, покрикивал на осветителей, на собаководов, на своих ассистентов, на актеров и даже на самого Бориса Лукича. Толстенький и кругленький, в широкополой шляпе, он был похож на Санчо Панса. Когда подъезжал к Борису Лукичу и останавливался рядом, высокая фигура расслабленного жарой режиссера напоминала незабвенного идальго Дон‑Кихота. Саша к этому времени так переменился, что его трудно было узнать. Даже тетя Нюра с удивлением посматривала на племянника. Эпизод охоты на волков снимали пять дней. Сделали много дублей, попробовали различные варианты. Когда все было закончено, Борис Лукич облегченно вздохнул и, довольный исходом дела, сказал: — Ну, братцы, перевалили мы через самую трудную горку. Остальное в картине — семечки, одно удовольствие. Спасибо, друзья, всем спасибо. Саша с сожалением покидал степь, прощался с друзьями, которые многому научили его. Жалко было расставаться с Тулпаром. Саша уже привык к нему, кормил его хлебом и сахаром с ладони, поил водой из ведра. И конь полюбил мальчика, ходил за ним, как послушный товарищ. — Прощай, Тулпар! Прощай!
Без четвертой стены
Вечером, когда все возвратились на усадьбу совхоза, Саша за ужином спросил Михаила Ефимовича: — Выходит, мы обманем зрителей, когда покажем в картине собак вместо волков? Михаил Ефимович потрепал Сашину шевелюру, рассмеялся: — Запомни, дорогой Саша, что за тридцать лет моей работы в кино я ни разу не обманул зрителей. Даже в самой малой малостию Во всяком деле есть свои профессиональные секреты, а это совсем не то, что называют обманом. Наш эпизод охоты на волков в картине будет абсолютно правдивым, ты сам в этом убедишься. Я обязательно сниму крупным планом настоящих волков с оскаленными мордами, раздирающих свою добычу. Об этом мы уже договорились с заповедником. — Настоящих волков снимете?! — воскликнул Саша. — И получится так, будто они на меня напали? — Точно. И никакого обмана. — Вот что придумали! — всплеснул руками Саша. — Ловко! А все же как-то чудно́ получается. Снимали меня с овчарками, а зрители будут думать, что с настоящими волками. — В искусстве, Саша, главное, чтобы художнику поверили. — А если не поверят? — Тогда дело табак. Саша задумчиво молчал.
Ранним утром за Сашей приехала Маргарита Сергеевна и увезла его в аэропорт. Настало время сниматься в сценах, где участвовали Петя и летчик Павлов. С первого же взгляда Саша заметил перемены в аэропорту. Удивительно, как за такое короткое время тут построили новый аэровокзал? На съемочной площадке прогуливался Афанасий Николаевич в настоящей летной форме. Он еще издали заметил Сашу и пошел навстречу. — Здорово, Петька! — обрадованно сказал он. — Наступил и наш черед сниматься. Выучил роль? — Выучил, — солидно сказал Саша. — Что в ней такого трудного? Они прошлись по траве, завернули к аэровокзалу. — А это откуда взялось? — спросил Саша. — Творение рук художника Федора Ушкина. Талантливый человек, скажу тебе. Особый характер надо иметь, чтобы так работать: великолепно строит и тут же ломает. Ей-богу, жалко, такая красота, произведение искусства. Я бы каждый раз обливался слезами. Это все равно, как если бы живописец писал отличные картины и сам же бросал их в огонь. Они зашли в помещение аэровокзала. Саша неожиданно обнаружил, что у построенного здания нет четвертой стены. — А как же без стены? — удивился он. — Зачем она нужна? — сказал Афанасий Николаевич. — Снимать будут с той стороны, где самолет, четвертой стены совсем не видно, к чему на нее тратиться? Тут и там стали появляться деревенские ребятишки, собралась вся массовка. Приехал Михаил Ефимович, осмотрел площадку. Вслед за ним появился Борис Лукич. Вскоре к полю подкатил настоящий самолет. Началась съемка. В последующие дни снимали Сашу-Петю с мамой и с доктором Джамилой. Тамара Николаевна играла так натурально, что местные жители принимали ее за свою. — Петенька! — звала она Сашу. — Иди, сынок, обедать будем. К вечеру поедешь на отгон, отцу муки и чаю с сахаром повезешь. «Петенька» усаживался прямо во дворе у плиты, с аппетитом ел обед, приготовленный матерью. Тамара Николаевна ловко вынимала из печки чугунок, наливала в миску суп, ставила перед сыном. Подавала ложку, резала хлеб. И пока он ел, цедила из ведра молоко, разливала по кувшинам. Саша доверчиво смотрел на Тамару Николаевну, и ему в самом деле казалось, что он мальчик Петя, а Тамара Николаевна его мать, простая крестьянка, жительница далекого селения в казахстанской степи. С доктором Джамилой было труднее. Маргарита Сергеевна и особенно Борис Лукич сердились на Нину Мурзаеву за то, что она все делала и говорила как-то деликатно, по-городскому. Они заставляли ее повторять одно и то же по нескольку раз. Наконец артистка сделала так, как они хотели, и сцена была снята. — Порядок, ребятки, — сказал Борис Лукич после съемки. — И с этим объектом покончено. Петин дворик отсняли. — Как же отсняли? — удивился Саша. — А еще не снимали больного Петю в его домике на кровати. Забыли, Борис Лукич? Борис Лукич ухмыльнулся: — Ничего я не забыл, Сашок. Все сцены в Петином домике будем снимать в Москве, в павильоне. Пока мы здесь работаем, на киностудии нам строят декорации. Как же тут снимешь внутри домика, если комнатки маленькие и тесные? Куда поместятся артисты, оператор, я, осветители со своими приборами? — И контору будете снимать на студии? — спросил Саша. — И кабину самолета? — Верно понял, — рассмеялся Борис Лукич. — Ты разве не заметил, что художник Ушкин еще на прошлой неделе улетел в Москву, чтобы приготовить к нашему приезду декорации? А он, брат, знает, что делает. Художника Федора Федоровича Ушкина Саша действительно не видел уже несколько дней. «Ну и дела, — думал Саша после разговора с Борисом Лукичом. — Каждый день обязательно что-нибудь новое узнаешь». Наконец наступило время отъезда в Москву. На прощание директор местной школы Герасим Петрович устроил Саше настоящий экзамен по всем предметам. Проверка Сашиных знаний длилась не менее двух часов. Потом Герасим Петрович написал на белом листе записку, сложил ее вдвое, сказал мальчику: — Передашь своему классному руководителю. Тут все написано, какие темы и разделы мы с тобой изучили и какие отметки я тебе поставил. Я доволен твоими успехами. На рассвете следующего дня все участники киноэкспедиции улетели в Москву.
Степь под крышей
В напряженные съемочные дни Сашу и тетю Нюру доставляли на киностудию на легковой машине, а иногда на маленьком автобусе. После изнуряющей азиатской жары хорошо было проехаться по утренней летней Москве. На территории студии много зеленых деревьев, большой фруктовый сад, цветы. В каменных корпусах и в павильонах приятная прохлада, тишина. С виду кажется никого здесь нет, а на самом деле много народу трудится целый день в помещениях и лабораториях студии. Один из павильонов занимал Борис Лукич со своей группой. Сегодня костюмеры принесли Саше ту самую одежду, в которой он снимался на пастбище во время охоты на волков. В придачу дали большую овчинную шубу и лисий малахай. — А это зачем? — удивился Саша. — Забыл, что написано в сценарии? — сказала Маргарита Сергеевна. — Когда больного Петю ночью во время грозы везли на машине в аэропорт, Махмуд надел на него свой малахай и прикрыл шубой. Помнишь? — Все у вас шиворот-навыворот получается, — проворчал Саша. — Летом самый раз сниматься по-летнему, а вы на меня шубу напяливаете да еще здоровенную лохматую шапку. Накинув на плечо длинную шубу и взяв в руки малахай, он поплелся за Маргаритой Сергеевной в павильон. Как только открылась тяжелая дверь, в глаза Саше ударил яркий свет прожекторов, заливающий всю декорацию. Саша вгляделся и узнал знакомую комнату, она была точно такая, как в далеком степном аэропорту, в том самом чудо-здании, построенном Федором Федоровичем Ушкиным без четвертой стены. И здесь за окошком шумели потоки дождя, и сквозь его серую завесу можно было различить знакомый силуэт самолета. По временам даже вспыхивали молнии, то совсем близко, то где-то далеко в степи, и Саше не верилось, что все это происходит в обыкновенном павильоне киностудии. Когда Сашу уложили на носилки, надели на голову малахай, прикрыли овчинной шубой, внесли в комнату аэропорта и положили на то место, где он должен был лежать в ожидании самолета, мальчик уже не мог пред ставить себе, что всего полчаса назад он ехал по улицам Москвы, шагал по зеленому саду киностудии, любовался чистым летним небом. Михаил Ефимович бодро покрикивал, требуя, чтобы осветители точнее направляли свет, куда он указывает. Появился Борис Лукич, объяснил, что надо делать, как играть в этой сцене. — Помнишь, что происходит по сценарию? Тебя покусали волки, ты истекаешь кровью. Поднялся жар, голова разламывается от страшной боли. Все плывет, как в тумане, начинается бред. Ты из последних сил удерживаешься от крика, от стона. Тебя долго везли на машине через степь, ночью, в страшный ливень и грозу. Растрясли в дороге, измучили, наконец, положили в комнату аэропорта, говорят, что скоро прилетит самолет. Все о тебе заботятся, особенно доктор Джамила, шепчут ласковые слова, утешают, а тебе хочется кричать от боли. Но ты же мужчина, держишь себя в руках, терпеливо ждешь. И вот прилетает самолет, появляется летчик Павлов. Когда он подходит к тебе, ты открываешь глаза и узнаешь своего друга. — Я все помню, — сказал Саша, — Начинайте снимать. — Лежи спокойно, не суетись. — Ладно. — Все готово, Маргарита Сергеевна? — крикнул через плечо Борис Лукич. — Готово, Борис Лукич, — ответила Маргарита Сергеевна. — Можно начинать, Петенька? — Давайте, — сказал Саша и отвернулся к мокрому окну. Съемки этой сцены продолжались значительно дольше, чем представлялось Саше вначале. Хотя он делал все так, как требовал Борис Лукич, режиссер иногда останавливал его, что-то обдумывал и просил делать по-другому. Эти неожиданные перемены и повторения нисколько не утомили Сашу, ему даже нравилось, что с ним так долго занимаются. Удивительным был дождь за окном, вспышки молнии, мокрый плащ летчика Павлова, пришедшего в комнату, где лежал Петя, тихий голос режиссера и внезапный крик на весь павильон: — Тихо! Съемка! Мотор! Удивительной была и доктор Джамила в белом халате и накинутом сверху парусиновом плаще с капюшоном. На этот раз Мурзаева играла так хорошо, что ни Борис Лукич, ни Маргарита Сергеевна не сделали ей ни одного замечания. «Наверное, подтянулась», — подумал Саша. Вскоре съемочная группа перешла на новую декорацию. Это был тот же степной аэровокзал, только с другой стороны. В правом крыле аэровокзала разместился буфет, где летчик Павлов пил чай и закусывал. Здесь также все было самое настоящее, к чему Саша уже привык и чему перестал удивляться. Широкая стеклянная дверь из буфета открывалась прямо в сторону летного поля, где простиралась широкая степь и синело высокое небо под бесконечной равниной. Хорошо сделанные вещи теперь нисколько не удивляли Сашу и не вызывали подозрительности. И только однажды мальчика взяло сомнение, когда он увидел в павильоне точно такой же самолет, на каком прилетел Павлов в совхоз. Выйдя из буфета, Саша остановился перед самолетом, долго и подозрительно разглядывал его. — Вот так смастерили! — сказал он вслух самому себе, ощупывая руками шасси. — Ни за что не поверил бы, если бы не знал, что он бутафорский. Ловко сделано. — Да это же самый настоящий, — засмеялся осветитель. — Понимать надо, парень. Пристыженный Саша поспешил уйти из павильона. — Не угадаешь, чему здесь удивляться, — ворчал он себе под нос. — Не разберешь, где у них настоящее, а где понарошку. Домой Сашу привозили часов в пять дня. Ни в его дворе, ни рядом в это время не было никого из дворовых и школьных товарищей: все уехали на дачи и в пионерские лагеря. Саше даже обидно было, что никто не видит, как его привозят и увозят на машине, как ласково разговаривает с ним Маргарита Сергеевна. «Посмотрели бы ребята, какой я артист, — думал Саша. — Никто не сказал бы, что я задавака, вон я какой простой, совсем не задираю нос, первый здороваюсь с дворничихой и с Архиповой бабушкой». Но однажды его тщеславие было удовлетворено. Это случилось утром, часов в семь. Только вышел он из подъезда и взялся за ручку дверцы студийной «Волги», на черном лоснящемся боку которой было белыми буквами написано «Киносъемочная», как из-за угла со скакалкой в руках выбежала Тома, бросилась к машине. — Здравствуй, Саша! Саша обрадовался этой встрече, приветливо помахал рукой. — Приветик, Томка! Тома потрогала пальцами машину: — За тобой такая ездит? — За мной, — сказал Саша скромно. — Хочешь прокатиться? Томка закивала. — Прокатим ее, дядя Коля? — попросил Саша шофера. — Вон до того сквера, пожалуйста. — Ладно, — согласился дядя Коля, открывая дверцу. — Обратную дорогу найдешь? — Найду, дяденька. Тома важно устроилась рядом с Сашей на широком мягком сиденье «Волги», высунулась в открытую дверцу, крикнула дворничихе, подметавшей дорожки в саду: — Доброе утро, тетя Дуся! Дворничиха посмотрела на машину. — Ишь, стрекоза, пристроилась к артисту. Машина выехала со двора. — Скоро закончится ваш фильм? — спросила Тома у Саши. — Больно долго вы снимаете! — Бежим к финишу, — сдержанно ответил Саша. — Не такое простое дело. Знаешь, сколько работы? Еще немного проехали молча. Машина свернула за угол, остановилась у тротуара. — Слезай, Тома, приехали! — сказал Саша. — Пока! Девочка нехотя вышла из машины; стоя под деревом, завистливым взглядом проводила отъезжающего Сашу.
Бутылка шампанского
Наступили последние дни съемок. Михаил Ефимович и Маргарита Сергеевна несколько раз ездили с Сашей на стадион, где на закрытом катке снимали крупные планы, необходимые для окончательного завершения сцены с фигурным катанием. — Эти съемки нужны к объекту «Катание Пети на озере», — объяснил Саше Михаил Ефимович. — Помнишь, я говорил тебе? Поскольку дело происходило зимой, Саше опять пришлось надеть большой лисий малахай и шубу. Обливаясь потом от жары, он с завистью смотрел на девочек, которые в другом углу катка стояли на льду в легких цветных трико и наблюдали за киносъемкой. Саша чувствовал, что начинает утомляться, немножко злился на себя, когда чуть-чуть ошибался или делал фигуру не так ловко, как ему хотелось. Михаил Ефимович и Маргарита Сергеевна проявляли большое терпение и не расстраивали мальчика ни окриками, ни замечаниями. Саша знал, что Михаил Ефимович во время работы никогда не раздражался, а шум и крик поднимал иногда, скорее, от задора и уверенности. Но вот если Михаил Ефимович затихал, значит, что-то было не в порядке. Притих он однажды и на этой съемке и ласково сказал Саше: — Ты, Сашок, не суетись, не развивай космическую скорость. Мне нужны в кадре твои ноги. Видишь, я положил на лед два кусочка фольги, и ты должен двигаться только на этом пятачке. Эти метки для тебя закон, как футбольные ворота. Он обнял Сашу за плечи, походил с ним по льду, подозвал девочек в трико. — Скажите, девочки, нравится вам наш фигурист? — Нравится! — хором ответили девочки. Михаил Ефимович озорно подмигнул Саше: — Давай-ка посидим. Они сели на скамью. Михаил Ефимович закурил, а Саша стал подтягивать шнурки на ботинках. — Марочка! — попросил Михаил Ефимович Маргариту Сергеевну. — Сходите, пожалуйста, в буфет, купите нам пирожное. Ты какое любишь, Саша? — Картошку. — Несите всем картошку. Спокойно посидели. Съели пирожное. Снова пошли на лед. — Внимание. Приготовились! — зычным голосом закричал Михаил Ефимович. — Тишина! Съемка! В этом крике Саша почувствовал уверенность Михаила Ефимовича, легко пошел на лед, исполнил свой номер без единой ошибки. — Еще один дубль! — снова раздался голос Михаила Ефимовича. — Внимание! Приготовились! Саша еще раз повторил свой прыжок. — Готово! — раздался громкий голос Михаила Ефимовича. — Сматывай удочки — объект закончен. Не будем терять драгоценные минуты, поехали на студию. Вскоре Михаил Ефимович улетел в зверозаповедник снимать настоящих волков. Тем временем в павильоне ломали уже не нужные декорации и строили новые. Однажды администратор с таинственным видом обошел комнаты, предупредил сотрудников группы, чтобы в два часа на следующий день все собрались в павильоне. Пригласили и Сашу с тетей Нюрой. В павильоне работали с раннего утра. Борис Лукич торжественно ходил по декорации, давал указания Михаилу Ефимовичу, показывал актеру, какой именно взмах рукой он должен делать. К назначенному времени в павильон стали собираться все члены группы, тихо переговаривались, старались остановиться где-нибудь в стороне, чтобы не мешать тем, кто работал. После продолжительного перерыва опять раздалась команда: «Внимание!» Включили сильные прожекторы. Борис Лукич поднялся на свой командный пункт. Съемка продолжалась. Борис Лукич, помахивая тростью, спокойно смотрел на актеров. Администратор поставил перед режиссером табуретку, приглашая присесть. Но Борис Лукич встал на табуретку, возвысился над всеми окружающими, не спуская глаз с актеров. И как только кончилась сцена, он громко и радостно закричал: — Стоп! Сто-оп! Все остановилось. Борис Лукич посмотрел на оператора, тот утвердительно кивнул. Борис Лукич захлопал в ладоши, требуя тишины, и торжественно сказал, подражая цирковому конферансье: —Итак, дорогие друзья, мы закончили съемку последнего кадра нашего фильма. Поздравляю вас и благодарю всех за дружную, прекрасную работу! Раздались аплодисменты. Все бросились к Борису Лукичу, закричали в один голос: — Ур-ра! Ура! Ура! — Поздравляем и вас, Борис Лукич! — Поздравляем! Он замотал головой и поднял руку: — Нет, нет! Меня поздравят критики, когда фильм выйдет на экран. Они великие специалисты на этот счет. Он поднял свою тяжелую трость и засмеялся нервным смехом. На арене этого импровизированного представления появился директор картины Дмитрий Григорьевич с целой свитой помощников и двумя официантками в белых фартучках и наколках. — Внимание! — поднял руку Дмитрий Григорьевич. — По старой кинематографической традиции прошу в честь окончания съемок выпить шампанского! Свита Дмитрия Григорьевича двинулась вперед, неся бутылки с шампанским, фужеры, яблоки и конфеты. Поднялся веселый шум. — Пропустите ко мне нашего героя! Петя! Саша! Где же ты? Иди сюда, дружок, — позвал Борис Лукич, беря с подноса два фужера с шампанским. — Давай-ка чокнемся с тобой, Саша. Работали мы на совесть, старались и теперь будем ждать, что скажет зритель. Виват! Он осушил свой бокал и настоял, чтобы и Саша выпил глоток. На этом закончилось торжество, и все разошлись.
Борис Лукич со своими помощниками еще некоторое время занимался монтажом, озвучиванием фильма, показывал его дирекции студии, вносил исправления. Наконец, фильм был принят, отправлен на копировальную фабрику для размножения. Художники рисовали плакаты, готовились расклеивать их на рекламных щитах. Тетя Нюра вернулась на работу в парикмахерскую. А Саша уехал с матерью и отцом на подмосковную дачу и пробыл там до первого сентября.
Правда — лучшая слава
Однажды осенью, когда Саша пришел в школу, в раздевалке к нему подбежал с выпученными глазами его одноклассник Веня Сурмилов и, заикаясь от волнения, спросил: — Ви-ви-видал свой портрет? — Где? Какой портрет? — Вот чудак! Твоя физиономия на кинотеатре нарисована. Большущий портретище, с трехэтажный дом. — Во сне увидал? — недоверчиво протянул Саша. — Честное пионерское! — поклялся Веня. — Вон пусть Колька-очкарик скажет. Очкарик Колька подтвердил слова Вени. — Вот такая картина! — закричал он на весь вестибюль. — Разноцветными красками разрисованный, как живой. Ребята окружили Сашу, зашумели. — Значит, скоро увидим фильм? Проведешь без билета? — Да ну вас, билетер я вам, что ли? — А тебя тоже не пустят без билета? — всерьез спрашивал Колька, щуря глаза за стеклами очков. — Откуда я знаю? Может, и пустят, только, наверное, одного, без такой оравы. После уроков всем классом пошли смотреть рекламу. Оказалось, что Сашины портреты были вывешены не только на кинотеатре, но и во многих других местах, где обычно помещают объявления о новых фильмах. На одном плакате был нарисован Саша, скачущий на лошади с ружьем в руках. На других щитах художник изобразил Сашу вместе со знаменитым артистом Крючкиным. На больших щитах, выставленных на площадях и на самых людных местах, были вкривь и вкось броско раскрашены кадры из фильма. И почти везде ребята сразу узнавали Сашу, снятого в шапке и без шапки, в обнимку с летчиком и катающимся на коньках. Всюду было написано большими буквами: «Смотрите новый художественный фильм «Кто не боится молний». В главной роли — Саша Соловьев». Это событие взбудоражило всю школу, ученики и учителя с нетерпением ждали, когда начнется демонстрация фильма. Первый общественный просмотр фильма состоялся в Доме культуры московского автозавода. Сама Маргарита Сергеевна привезла директору школы Глебу Борисовичу целую пачку пригласительных билетов и с видом победительницы торжественно сказала старому педагогу: — Специально приехала поблагодарить вас, Глеб Борисович, и прошу обязательно присутствовать на премьере. — Обязательно приду. Как педагогу, мне необходимо быть там. Весьма полезно, знаете ли. Глеб Борисович, разумеется, не только ради приятного удовольствия пошел на премьеру. Это событие было для него ценным педагогическим наблюдением. Старый учитель хотел до конца проследить все, что случилось с Сашей за последнее время. Надо сказать, что директор действительно опасался, что шумный успех вскружит мальчику голову, он возомнит себя бог знает какой исключительной персоной, зазнается и потеряет интерес к неприметным будничным занятиям. К счастью, кажется, этого не случилось. Мальчик, как и обещал, сумел справиться и с работой в фильме, и со школьной программой. Теперь Глебу Борисовичу оставалось проверить немаловажное, на его взгляд, обстоятельство. Выдержит ли Саша самое трудное и самое опасное — испытание славой? Сашины родители собирались в Дом культуры как на праздник. Тетя Нюра, Николай Александрович и Вера Семеновна тоже получили приглашение и ради такого необыкновенного случая специально вызвали по телефону такси. Их проводили в самую лучшую ложу, а Сашу по узким лестничкам и переходам повели за кулисы, в большую служебную комнату. Тут уже собрались Борис Лукич, Маргарита Сергеевна, Михаил Ефимович, актеры. Все были нарядные, взволнованные, в приподнятом настроении. На Саше тоже был новый костюм, новые ботинки, ярко алел пионерский галстук. — Здравствуй, Саша! — протянул к нему длинные руки Борис Лукич и привлек к себе мальчика. — Настал наш судный день, будем держать ответ перед зрителями. Не боишься? — Не знаю, — искренне признался Саша. — Я никогда еще не встречался со зрителем. — А я каждый раз боюсь. Уже поседел, пуд соли съел на этом деле, а боюсь. Борис Лукич в шутку повернул голову к левому плечу, три раза сказал: — Тьфу-тьфу-тьфу! — Чего нам бояться? — Ты еще молод, не знаешь, где теряют и где находят. Ну что, пора? — спросил он солидного мужчину в черном костюме. — Пора, — сказал ему директор Дома культуры, такой нарядный, будто это были его именины. Зрители уже шумели, хлопали в ладоши. Решили сначала показать фильм, а потом провести встречу со съемочным коллективом. Гостей провели в директорскую ложу, погасили свет. Начался фильм. Саша не дыша уставился на экран. Было страшно и необычно. Перед ним постепенно разворачивалась знакомая и в то же время совершенно новая для него история. Он радовался, узнавая знакомые предметы, людей. А когда увидел себя на экране, почему-то засмеялся, словно встретил товарища, с которым давно не виделся. Постепенно стал привыкать и скоро забыл, что это он сам, с увлечением следил за историей мальчика Пети, снова переживал все, что уже когда-то пережил. Но теперь волнения были не такими, как раньше. Тогда Петя жил как бы отдельно от других, а теперь его жизнь была связана со всеми, все стало серьезнее, глубже. И было еще что-то такое сильное, что хватало за душу и заставляло верить происходящему на экране, по-настоящему волновало. Почему-то сделалось страшно за Петю в сцене охоты на волков. И радость охватила, когда он вышел на лед и катался на коньках так хорошо, что зрительный зал гремел от аплодисментов. Что же это было такое сильное и волнующее? И Саша вдруг понял — это музыка. Она лилась с экрана и так уместно, так точно подчеркивала и усиливала все, что происходило с героями. Саше казалось, что он вновь совершает путешествие в далекую степь, скачет на Тулпаре, стреляет из ружья. Было приятно и хорошо на душе. И только одна сцена напугала его, он даже содрогнулся и на миг прикрыл глаза рукой, когда волк с оскаленной пастью набросился на Петю. Здорово же снял Михаил Ефимович настоящих волков со злыми клыкастыми мордами, налитыми кровью глазами! В самом деле стало страшно, но уже не только за Петю, а и за самого себя. «Неужели это я так сражался с волками? — удивлялся Саша. — Вот здорово! Сила!» В зале несколько раз раздавались аплодисменты, чувствовалось, что фильм нравится. Зрители живо реагировали: то смеялись и ахали, то затихали в напряженном внимании. Но вот фильм закончился, зажегся свет. Дружные возгласы понеслись со всех сторон, в зале хлопали до тех пор, пока артисты не вышли на сцену. Из-за кулис появились молодые работницы с букетами цветов. Когда очередь дошла до Саши и ему стали вручать красные гвоздики, в зале снова раздались дружные аплодисменты, все приветствовали его. Директор Дома культуры познакомил зрителей с гостями и первое слово предоставил режиссеру-постановщику Борису Лукичу. — Дорогие друзья! — начал Борис Лукич, волнуясь и отхлебывая воду из стакана. — Я за свою жизнь поставил четырнадцать картин и каждый раз, когда показываю зрителям новую работу, волнуюсь, как первоклассник. И в самом деле, страшно подумать, что картина совсем не понравилась зрителю. — Понравилась! — раздались в зале дружные голоса. — Понравилась! Хорошая картина! В партере, на балконе, в ложах громко аплодировали, одобрительно шумели. Растроганный Борис Лукич благодарно раскланялся. Его волнение постепенно улеглось, и он с подъемом стал говорить о своих товарищах — участниках съемочного коллектива, для каждого находил теплое слово. В заключение он подошел к Саше, взял его за руку и вывел на авансцену. Зрители снова начали аплодировать. — Наш самый главный герой, товарищи, — представил Сашу Борис Лукич с особенным воодушевлением. — Саша Соловьев, ученик пятого класса сорок восьмой школы. Саша самый младший из нас, а работал не хуже взрослых. От всей души искренне благодарим его родителей и учителей, которые хорошо воспитали Сашу. Сашины родители сияли от счастья, им было приятно слышать такие слова. Внимательно слушал режиссера и Глеб Борисович, пристально следил за Сашей. Борис Лукич выждал момент, когда в зале наступит тишина, и закончил свою речь патетическим восклицанием: — Передаю слово нашему юному другу Саше Соловьеву! Режиссер отошел к столу и оставил Сашу одного на авансцене. Мальчик стоял немного растерянный и смущенный, смешно прятал руки то в карманы, то за спину, краснел. — Да что мне говорить? — сорвавшимся голосом начал он. — Ну, снимался, и в школе не отстал от ребят. Вот и все. На балконе зааплодировали, одобрительный шум прокатился по залу. Саша осмелел. Мать с отцом переглядывались, смущенные и довольные успехом сына. В третьем ряду поднял руку юноша с загорелым лицом и непокорной шевелюрой. — Меня вот какой вопрос интересует, — начал он громко и таким тоном, будто призывал в свидетели весь зал. — Тут показана схватка с волками. Между прочим, по-моему, оператор отлично снял эту сложную и трудную сцену. Но меня интересует другое. Неужели мальчик в самом деле рискнул сразиться с двумя волками и победил их? Как вы разъясните этот вопрос? Сашу так и подмывало сказать, что в этом эпизоде все было натуральное и волки настоящие. Вот будут аплодировать, стены зашатаются. А на него-то будут смотреть всякие недоверчивые остроносые старушки. Не видали они настоящих героев, так пусть посмотрят. Подумаешь, двух волков нельзя убить одному мальчишке в степи. А ружье на что? Еще спрашивает, ехидный какой. Саша сделал шаг вперед, остановился, собираясь с мыслями. Глеб Борисович и Мария Павловна наблюдали за ним и ждали, что он ответит. Они уже знали, как снимался этот эпизод, Маргарита Сергеевна рассказала им. Интересно, что же ответит Саша? — Знаете что? — глухо сказал Саша. — Вы самый трудный вопрос задаете. Не хотел я вам выдавать тайну, но раз спрашиваете, значит, придется. По залу прокатился смех. Потом кто-то из задних рядов крикнул: — Можно задать вопрос мальчику? — Прошу вас, — сказал директор Дома культуры. — Пожалуйста. В предпоследнем ряду поднялся высокий стриженый парень в свитере. — А как обстоит проблема с фигурным катанием? Это что же — в самом деле или трюк. Все притихли, ждали, что ответит мальчик. — По-настоящему, сам катался. Я же умею, все знают. — Точно? — переспросил парень в свитере. — Конечно. Вот будет мороз, приходите на детский каток, сами увидите, как я катаюсь. — Он умеет, — зашумели школьники в зале. — Это он сам. — Тогда молодец, — с одобрением сказал парень. — Очень хорошо. В другом конце зала поднялся пожилой мужчина в очках. — А с лошадьми как? И с ружьем? Саша неожиданно встретился с взглядом остроносой женщины в первом ряду, прочитал в нем какое-то недоброе сомнение. Кто-то еще недоверчиво покачал головой. Сашу стало разбирать желание похвастаться своим умением. Он откашлялся и смелее, чем в первый раз, стал отвечать. — А что тут особенного? Деревенские мальчишки с малолетства верхом ездят. И меня научили колхозные охотники и наездники. Конечно, сначала шлепался на землю, шишки на лбу ставил, а потом освоил. «Сейчас начнет хвастать», — подумала Мария Павловна и молча взглянула на Глеба Борисовича. Он тоже волновался. — Я еще не ответил на первый вопрос, — продолжал Саша громко и четко. — Так вот какое дело. Волки эти не все волки. Которые со мной дрались, хватали меня за ноги и бросались на лошадь — это немецкие овчарки, ученые собаки. Учил их Аркадий Гурьевич Ростовский. — Вон какие штуки! — разочарованно бросил реплику кто-то из зрителей. Саша сделал паузу, потом продолжал: — А те волки, которые морды зубастые скалят и по-настоящему грызутся, это всамделишные, живые. Их снимал оператор Михаил Ефимович, вот он здесь сидит и все подтвердить может. Михаил Ефимович, улыбаясь зрителям, поднялся с места. — Саша все правильно говорит, товарищи! — подтвердил он. — Вот молодой человек сомневается, стоит ли снимать ненастоящих волков? А что же нам было делать? Отдать школьника на растерзание живым волкам? По-моему, и так хорошо получилось, убедительно. Правильно я рассуждаю? Зал ответил ему дружными аплодисментами. Когда шум затих, молодой человек с непокорной шевелюрой сказал: — Я не потому вопрос задал, что плохо снято. Я хотел знать правду. — Саша сказал истинную правду, — заверил Михаил Ефимович. — Зачем же скрывать? — удивился Саша. — Надо честно говорить, как есть. Опять раздались аплодисменты, и теперь к ним присоединился Глеб Борисович, с особым усердием и удовольствием похлопывая своими сухими старческими ладонями: — Молодец Саша, — сказал старый учитель Марии Павловне, — выдержал испытание, не соврал ради славы.
На новой трассе
С тех пор прошло немало времени. О Саше писали в газетах, печатали фотографии в журналах, корреспонденты красочно расписывали всякие истории о том, как Сашу открыли для кино и как он снимался. Кое-где помещали даже фотографии, на которых Саша был снят в кругу семьи, и подробно расписывали, как мальчика воспитывали простые родители: ткачиха-мать и железнодорожник-отец. И теперь еще в некоторых кинематографических журналах можно встретить кадры из фильма «Кто не боится молний», узнать Сашу в роли мальчика Пети, жителя далеких степей Казахстана. Не оправдались опасения Бориса Лукича, что критики встретят его картину дубинкой. Четырнадцатый фильм этого режиссера, как и многие другие, оказался счастливым, его до сих пор не забывают, часто упоминают даже в серьезных статьях и демонстрируют на экране. А Саша? Что стало с ним? Как сложилась его дальнейшая судьба? Саша Соловьев не стал ни артистом кино, ни мастером конькобежного спорта. Время шло, Саша взрослел и все больше и больше отдавался новому увлечению, а вскоре твердо и окончательно решил стать летчиком. И когда он вспоминал о своем участии в съемках фильма, перед ним ярче всех возникал образ летчика Павлова, созданного артистом Афанасием Николаевичем, и настоящего боевого авиатора Анохина, героя Отечественной войны, смелого пахаря неба. Ни один человек, и тем более сам Саша, не подозревал, какое влияние на его жизнь окажет встреча с кинематографическим героем и с живым летчиком на маленьком степном аэродроме, в домике с желтыми ставнями. Любовь к таким людям постепенно перенеслась на их профессию, на самолеты, на небесный простор, — словом, на все то, что связано с крылатой жизнью и делами авиатора, рыцаря неба, человека-птицы. Желание стать летчиком заслонило все прежние увлечения Саши. Он мучился оттого, что время шло медленно, и с нетерпением ждал, когда вырастет и сможет осуществить свою мечту. После окончания школы Саша поступил в аэроклуб, а потом добился приема в летное училище. Так он снова попал в степь, но не в Казахстан, а на широкие просторы Заволжья. Недавно Саша приезжал в Москву, встретился с директором школы Глебом Борисовичем. Старик обрадовался, целый вечер не отпускал Сашу, все вспоминал школу, многочисленных учеников. — Ты, пожалуй, будешь первым летчиком из моих учеников, — говорил ему старый учитель. — Как ни странно, а до сих пор среди моих учеников не было ни одного летчика. Кем только не стали ребята, а в летчики никто не вышел. Глеб Борисович с гордостью смотрел на Сашу, словно это был его родной сын или внук. Старый учитель проводил своего ученика за калитку, простился с ним и долго смотрел, как Саша уходил все дальше и дальше. Складный и стройный, в красивой летной форме, юноша шагал по Москве, дружелюбно всматривался в веселые лица бойких мальчишек и девчонок, которые играли у школьных оград, в переулках, зеленых дворах и оглашали город неугомонной веселой разноголосицей.
РАССКАЗЫ

Я ОСТАЮСЬ СОЛДАТОМ


Через десять минут я ухожу на передовую. Уже три дня, как я на фронте, но еще не слышал ни одного выстрела. Мы не выходим из землянки. Молча сидим у печки, обдумывая свою жизнь. В вагоне нас было сорок человек — сорок новобранцев. Когда мы ехали к фронту, мы тоже молчали и думали. Смотрели сквозь замерзшие окна на поля, на леса, на города. Смотрели таким взглядом, будто уходили из этого мира навсегда. Теперь я привык к этой мысли, и мне кажется, что я уже ушел в другую жизнь. Вернее, ушел от прежней жизни, но никуда еще не пришел. Сижу у порога и жду. Сейчас, когда мне сказали, что через десять минут мы пойдем на передовую, я понял, что ни о чем не успел подумать как следует. А теперь уже поздно, всего не передумаешь, а о чем-нибудь одном — не стоит. Кончились десять минут. Мы идем по снегу в редком лесу между соснами. Нас четверо. Кроме личного оружия и вещмешков мы несем на передовую пачки свежих газет. Я несу еще одну вещь, которая на войне совсем лишняя: через плечо у меня висит фотоаппарат «лейка». Мы прошли один километр, два, три. Товарищи заставляют меня пригибаться, потому что я очень высок ростом. Это меня пугает, и я что-то говорю им шепотом, а они смеются надо мной, говорят громко и спокойно. Но я все равно не решаюсь говорить громко. Они смеются. Впереди на снегу я вижу черную точку. Кто-то кричит: «Ложись!» И я сразу падаю на снег. Мы осторожно подползаем к черной точке и вскоре различаем в ней лежащего человека. Человек слегка засыпан снегом, мертвый... Я долго пересиливаю себя, чтобы посмотреть на труп. Я никогда до этого не видал человеческого трупа. Наконец открываю глаза и смотрю на лицо мертвого. Оно неподвижно, но, словно живое, смотрит на меня знакомым взглядом. Я цепенею от непонятного чувства, которое охватывает меня. Да, я теперь узнаю: это мой сосед по вагону, с которым мы ехали сюда три дня назад. Мы идем дальше. Я ничего не замечаю и думаю только о том, что этот человек такой же, как и я, и что, собственно, я так же могу сейчас умереть. Да, я должен умереть именно сейчас, потому что он был моим соседом. Я чувствую, как в горле у меня появляется твердый комок, и мне становится невыносимо душно. Я зарываюсь лицом в снег и теряю сознание. Очнулся я в теплой землянке. Это была не та землянка, из которой мы ушли. Мои спутники здесь, но и другие, чужие, люди окружают меня. Они не сразу замечают, что я очнулся. Наверное, я долго лежал в забытьи и надоел им. Я открываю глаза, поднимаю голову. На меня посмотрел только один человек, позвал кого-то. Остальные не обращают внимания. Я сразу вспоминаю, что случилось со мной. Меня, наверное, донесли сюда товарищи. Я пробую подняться на локти, но не могу. Прямо передо мной стоит девушка с веселым лицом и протягивает мне стакан. У меня мутится в глазах, кружится голова. Но на этот раз не от страха, а от стыда. Мне стыдно, что я лежал в обмороке, а девушка приводила меня в сознание. Она подхватывает одной рукой мой затылок и подносит к моим губам стакан. — Пей, — говорит она. — Это поможет. Я жадно пью, не чувствуя никакого отвращения. Я сразу узнаю, что это водка, хотя раньше никогда не пил ее. Я выпиваю стакан водки легко, как стакан чаю. Жгучая влага разливается по моему телу, и через несколько минут я встаю на ноги. Бойцы, находящиеся в землянке, занимаются своими делами. Я стараюсь скрыть волнение, но это мне не удается. От сильного нервного потрясения я весь дрожу и ничего не могу сделать с собой. Одна только девушка смотрит на меня. Она понимает, что со мной происходит. И мне стыдно перед ней. Я начинаю ходить по землянке, но едва прошелся два раза, как ноги мои ослабевают, и я опускаюсь на пол в углу. Вслушиваюсь в разговоры и крики, пытаюсь понять, о чем говорят люди. Кто-то выкрикивает чью-то фамилию, этот крик подхватывают другие и повторяют несколько раз, ходят по землянке, хлопают дверью. Мне эта фамилия кажется знакомой, и я успокаиваюсь оттого, что наконец-то слышу понятные мне слова. Ко мне опять подходит девушка, и я смотрю на нее, стараясь что-то вспомнить. Да, я не должен перед ней лежать в обмороке, это очень стыдно. Я хочу шевельнуться, она о чем-то спрашивает меня. И я говорю ей: — Да, это я. Это моя фамилия. Зачем они кричат? И теперь я вспомнил, что они выкрикивали мою фамилию. — Вот он, — говорит девушка кому-то. Ко мне подходит коренастый человек в полушубке и говорит что-то простое, но чего я сразу не могу понять. Одно мне ясно: я должен идти за ним. Я закрываю глаза, чтобы не кружилась голова, и встаю шатаясь. Слышу тихий смех девушки, открываю глаза, иду за человеком в полушубке. Теперь у меня нормальное необморочное состояние, но я пьян. Это я понял сразу, хотя раньше никогда не был в таком положении. Мы выходим из землянки. Над нами гудят самолеты. Мой проводник говорит: — Подождем здесь, пока эта сволочь улетит. Я сажусь на бревна, опускаю на ладони тяжелую голову. Морозный воздух освежающе действует на меня. И вот мы идем «в роту», как сказал мне мой спутник. Теперь я понимаю все, что он мне говорит, но не отношу это прямо к себе. Мне кажется, что это какие-то двое других идут где-то по снежному полю, среди редкого леса, идут «в роту» без видимой надобности. — Ты пригибайся к земле, — говорит мне мой спутник. — Такую каланчу снесут в одну минуту. Я вспоминаю убитого земляка и понимаю, что значит «снесут в одну минуту». Это он только говорит «в одну минуту», а снесут в один миг. Я так низко пригибаюсь к земле, что не могу быстро идти. Спина с непривычки ноет, и меня раздражает каждый звук. С передовой к нам доносятся выстрелы. Я еще ниже пригибаюсь к земле. Снизу мне видны небольшие холмы, открытые полянки, пересеченные хвойными зарослями, да стройные елки со свечками. Все осыпано снегом, замерло в благоговейной тишине. Что-то бьет меня по коленям и мешает идти. Это фотоаппарат, который повис у меня на шее и болтается на ремешке. Нет, я не могу его бросить в снег. Он мне нужен. Я умею хорошо снимать, а на фронте бывают интересные виды. Это говорили мне друзья, когда провожали в военкомат, и тогда я обещал им снять что-нибудь особенно редкое. Какая глупая мечта! Швырнуть бы этот аппарат к чертовой матери в сугроб, но жалко — он мне много послужил. — Стой! — говорит мне товарищ хриплым, простуженным голосом. Мы останавливаемся на опушке. Я смотрю на прямую фигуру спутника, а сам все ниже пригибаюсь. Спутник мне говорит: — Вон та полянка простреливается «кукушкой». Будь осторожен, иди за мной следом и делай, как я. Я уже слышал, что значит «кукушка», и поэтому ниже пригибаюсь к земле, будто мне на плечи взвалили мешок зерна. Товарищ мой быстро пробегает несколько шагов и внезапно падает в снег. «Убили!» — думаю я. Но он делает мне знак рукой. Я так же подбегаю к нему, падаю рядом. Теперь мне хорошо и спокойно. Приятель опять поднимается, броском прорывается вперед, снова падает в снег. Я делаю то же самое. Он бежит в третий раз. Я поднимаюсь следом и чувствую, как у меня кружится голова от водки. Когда ложусь рядом с товарищем, он говорит: — Теперь самое сложное будет. Внимательно следи за мной. Я киваю ему головой. Он пружинисто поднимается с места, стремительно летит вперед, бросая свое тело то влево, то вправо, приседая на колени, падая на руки и снова вскакивая. Едва успевает он проскочить мимо синей елочки, как откуда-то мелким горохом сыплется дробь автомата. Если бы я не видел, как с елочки упало несколько веточек, я, может быть, не испугался. Но то, что я видел, приковывает меня к земле. Я пытаюсь подняться и не могу. Мой товарищ кричит мне: — Беги! Я поднимаюсь на колени, приготавливаюсь, срываюсь с места и в полной растерянности бегу по следу товарища. Страшная тишина мучает меня. Я жду выстрела, как избавления от мук. Я бегу изо всех сил, проваливаюсь в сугроб, вскакиваю на ноги, выпрямляюсь в полный рост и, уже не сгибаясь, снова бегу. Когда, разгоряченный и мокрый от пота, падаю на снег, вспоминаю, что слышал несколько выстрелов. Тяжело дышу и не могу говорить. Товарищ встает на ноги, молча идет дальше. Я несколько минут лежу неподвижно, хотя отчетливо понимаю, что надо встать и идти следом. Через несколько минут я иду за ним. Теперь я чувствую себя так, будто пережил уже все самое страшное на свете, и ничего не замечаю. Помню только, что еще долго иду вслед за товарищем, спускаюсь в блиндаж и вижу незнакомых людей. Чувствую, как по ногам бьет висящая на ремешке «лейка». «Хоть бы не разбили «лейку», — думаю я. — Жалко будет, если сломается. Сколько хороших кадров снял этим аппаратом». Не знаю, как мы дошли до роты. Рассеянно здороваюсь с людьми. Мне никто не отвечает, никто не смотрит на меня. Только один небритый солдат в белом полушубке мельком бросает взгляд в мою сторону и тут же снова нагибается к пулемету. Несколько других солдат над чем-то возятся на полу блиндажа. В первую же минуту я увидел среди них человека с разбитым лицом, которого поддерживали несколько рук, а медсестра обматывала вокруг головы бинт. — Иди за мной, — дернул меня за рукав мой спутник и вышел из блиндажа в траншею. Мы не успеваем сделать и двух шагов, как над нами просвистел воздух, и в то же мгновение ушанка слетела с моей головы. Я падаю на дно траншеи, придавливаю коленом шапку. Вижу, что она прострелена, беру ее в руки и, не надевая на голову, ползу на коленях. За изгибом траншея стала шире. Прямо перед нами в проходе сидят люди. А в ячейке, в двух шагах от живых, лежит закоченевший труп с искривленным ртом, в расстегнутой опаленной шинели. Четверо живых сидят под стенкой с дымящимися котелками на коленях и весело разговаривают, старательно вылавливая из щей капусту и кусочки мяса. Первым увидал нас пожилой мужчина с усами, закрученными вниз. Сделав движение к моему спутнику говорит: — Дывиться, связной прийшов. Доставай котелок та налывай щей из термоса. Перед моими глазами поворачивается красная шея, и я вижу спокойное бритое лицо, рассеченное шрамом от глаза к уху. — Товарищ лейтенант, — говорит ему мой спутник, — ваше приказание выполнено. Донесение доставил на КП. И привел пополнение. Он кивает на меня. Значит, я — «пополнение». Но лейтенант даже не смотрит в мою сторону, отворачивается к котелку, и опять я вижу его красную шею. — Садитесь, — говорит он нам. — Ешьте, пока горячее. Мне не хочется есть. Мертвый человек не дает мне покоя. Я поворачиваюсь к нему спиной и сажусь на землю. Мой спутник снимает шапку, спрашивает: — Степана убили? — Убили, сволочи, — отвечает командир. — Похоронить бы надо, да «кукушка» носа высунуть не дает.
Три дня мы с лейтенантом охотились за этой «кукушкой». Я настолько устал, что ничего не хотел и ничего не боялся. Лейтенант все время молчал да курил, когда мы зарывались в снег, и посмеивался надо мной. Он хотел, чтоб я стал обстрелянным, поэтому взял меня в напарники. — Что это у тебя болтается? — спросил он у меня однажды про аппарат, когда мы сидели в снегу и ждали темноты. — Фотоаппарат. Я хорошо умею снимать, — сказал я. Лейтенант потрогал рукой кожаный футляр «лейки». — Зря таскаешь такую вещь. Пропадет, если убьют. Лучше бы дома брательнику на память оставил. Эти слова меня почему-то не испугали. Теперь я привык ко всему. Конечно, он прав. Убьют меня здесь, это совершенно ясно. Ночью мы пробрались в небольшой лесок. Я не отставал от лейтенанта. Вскоре он поднял руку. Мы замерли под широкой, раскидистой елью. Лейтенант лег на спину, долго смотрел вверх, держа наготове карабин. Я почти не дышал. Вдруг лейтенант выстрелил и засмеялся. В ту же минуту послышался треск ветвей и рядом со мной упало тяжелое тело врага. Лейтенант ощупал тело. — Дохлый! — сказал он и взял автомат убитого. — Пошли, — добавил он. — Хватит на него тратить время. С этого момента для меня начались однообразные дни. Правда, каждый день чем-то отличался от другого, было много событий, но я ничего не замечал. Теперь я думаю, это было потому, что каждый день уносил чью-либо жизнь, и я ждал своей очереди. А потом мне надоело, и я перестал ждать. Сказал смерти, пусть приходит, когда ей угодно, я всегда готов. С этих пор я лишился страха. Я уже не злился на себя за то, что взял на фронт фотоаппарат, и как-то незаметно, по старой привычке, пустил его в дело. В боях и засадах, в походах и на отдыхе я делал интересные снимки, фиксируя на пленке редкие случаи и явления. Такого никто еще не снимал. Такого нельзя снять нигде, кроме войны. Я снимал, когда мы шли в атаку, снимал взрывы на земле, когда немецкие самолеты бросали на нас бомбы. Бывая в разведке, я снимал все интересное, что видел в тылу у врага. Я снимал бой самолетов. Да, фотоаппаратом я снимал бой самолетов у себя над головой. Каждый раз я разряжал катушки отснятой пленки, тщательно заворачивал в черную бумагу и клал в вещевой мешок. На севере была еще зима. Какая длинная зима в Беломорске! Длинная и пустая, потому что, кроме злобы на того, кто угрожал мне смертью, я ничего за это время не пережил. Как-то вечером мы расположились на ночлег в снежной пещере, которую вырыли солдаты в большом сугробе. Усталые люди улеглись на еловых ветках и сразу уснули. Только мне не спалось: над головой не смолкал шум соснового леса, напоминавший зловещий шепот подкрадывающегося врага. Головой и плечом я сделал вмятину в снегу и лежал, запрокинув лицо кверху, где зиял вход в пещеру, и смотрел на клочок ночного неба и качающиеся ветви деревьев. Неожиданно над моим ухом раздался чей-то тихий и добрый смех. Я поднял голову и повернулся к соседу. Прикрывая полой шинели фонарик, он перечитывал какое-то письмо. Это был сапер Гришин, молоденький смуглый паренек с цыганским профилем, но с голубыми глазами и русыми волосами. Он всегда мне казался странным, ибо в нем воплощалось редкое сочетание своеобразной красоты с заурядной простотой деревенского обличья. В эту минуту я с удивлением смотрел на Гришина и не сразу понял, что с ним произошло. Я забыл о шуме леса, о войне и разглядывал его, как чудо. Продолжая весело смеяться и покачивать головой, он медленно свернул прочитанное письмо, положил его в карман гимнастерки, застегнул пуговицу. На мгновение осветив мое лицо, он потушил фонарь и, наклонившись ко мне, тихо сказал: — Сестренка пишет, младшая, Дуняшка. Боевая и умная, как чертенок. Пишет, что две мои яблони пропали от мороза, и советует, как вернусь с войны, вместо них посадить вишню. Это, говорит, надежнее и вкуснее. И еще, говорит, братка, есть у меня идея насчет виноградника, когда приедешь, все расскажу, и мы с тобой такой сад разведем, какого еще не было на земле. Гришин засмеялся и сочно причмокнул губами: — Не глупая девка, а? Я не мог ничего ответить. Мне хотелось плакать. — Ты спишь? — спросил он. — Нет. — Ты любишь сады? Я с досадой отвернулся от Гришина. — Какие теперь сады? Кому они нужны? — Это как же ты думаешь? — удивился Гришин. — Всем людям нужны. Вот приезжай ко мне после войны, я тебе такое покажу, что ты ахнешь. — До этого еще надо дожить. Не нам мечтать о садах. Он приподнял голову и с сожалением посмотрел на меня. — Слюнтяй ты, парень, если так говоришь. Тряпка, и все. Ты бы башкой своей поразмыслил как следует, не молол бы такой чепухи. Ну, положим, меня убьют. Думаешь, жизни на земле больше не будет и сады не зацветут? Твои руки за лопату возьмутся, работать станут. А тебя убьют, вон Ванька Туляков останется. В крайнем случае — Степка Застрехин, Мишка Селиванов, Сенька Гвоздев, Володька Дубровин, наш лейтенант или повар Трофимов, медсестра Тоня, пулеметчик Кириллов, генерал и комбат, товарищ комиссар. Да мало ли наших людей воюет? Всех не перебьешь, а русский народ не переборешь, потому как наше дело справедливое, и мы победим. Я разозлился на Гришина за эту речь, но не мог возразить ему. Я чувствовал, что он прав, и мне было стыдно. Гришин засмеялся и тихо дотронулся до моего плеча: — Ты, брат, выбрось из головы всякую дурь, оно легче станет. Я Дуняшке так и напишу насчет виноградника, что это дело мы развернем после войны как следует. Не так, чтобы в одном нашем огородном участке, а на большом колхозном поле, для всех. Согласен? Я закивал и с признательностью положил свою ладонь на прохладную и шершавую руку Гришина. С этих пор я все больше стал думать не о смерти, а о жизни, не о страхе перед врагом, а о победе над ним, а иногда даже мечтал о том, как вернусь домой, кем стану после войны, каким делом буду заниматься. И каждый раз эти мечты уносили меня в огромный цветущий сад, среди которого стояли Гришин с Дуняшей и приветливо улыбались мне. Мы продолжали воевать на мурманском направлении. Солдаты говорили о том, что на нашем участке на днях ожидается крупное наступление немцев. Говорили об этом и офицеры, хотя никаких приказов на этот счет еще не было. Ну что же, наступление так наступление. Посмотрим, чья возьмет. На передовой было затишье. Однажды утром в расположении нашего батальона появился генерал. Значит, наступление действительно ожидается, раз командование осматривает позиции. В этот день я был на КП батальона связным от нашей роты и нечаянно попался на глаза генералу. После того как я отдал ему честь, он спросил: — Что это у тебя? Я увидел, что он смотрит на «лейку», и покраснел. — Это фотоаппарат, товарищ генерал, — виновато сказал я. — А снимать хорошо умеешь? — Отлично, товарищ генерал. — А ну-ка покажи, что ты наснимал. Я объяснил, что фотографий у меня нет, потому что в полку не имеется лаборатории и химикатов. Я снимаю только на пленку и храню ее в вещмешке. — Жаль, жаль, — сказал генерал. — Не мешало бы посмотреть твои карточки. — Это можно сделать, — сказал майор, сопровождавший генерала. — В редакции дивизионной газеты есть лаборатория. Генерал остановился. — Сколько дней тебе нужно на это дело? — спросил он меня. Я пожал плечами: — Три дня, товарищ генерал. Да стоит ли?.. — Хорошо, — перебил меня генерал и вынул блокнот. — Вот тебе записка к редактору. Садись на попутную машину и езжай. А все, что намудришь там, вези прямо ко мне. К Беломорску доехал я на попутной машине, у самого города слез и пошел пешком. Наконец я свободно вздохнул и на минутку отвлекся от жестокого быта войны. Неужели я действительно буду убит?! Мне ведь жить хочется, жить. Тут я вспомнил Гришина и сказал самому себе: «Слюнтяй ты, парень». Первое мирное живое существо, которое я увидел на улице Беломорска, была курица. Обыкновенная серая курица, ковыряющаяся в навозе. «Милая! — подумал я о ней. — Милая ты моя!» И твердый комок перехватил дыхание. Комок становился все тверже, и слезы навернулись на мои глаза. Я отвернулся от курицы и пошел — взволнованный, пристыженный. Хорошо, что курица ничего не понимает: воображаю, как бы она смеялась надо мной. Все для меня было здесь родным и трогало душу. И дома, и заборы, и эта глупая курица, бог знает как не угодившая до сих пор в солдатский котелок. Улицы были пустынны, только у деревянного моста через реку стояли двое детей с санками. Взволнованный и ошалелый, я подбежал к ним и стал обнимать их. Мальчик прижался к старшей девочке, и оба они с удивлением смотрели на меня. Я посадил их на санки, быстро повез с горы, смеясь и радуясь. ...Через три дня я привез генералу снимки, каких еще не удавалось сделать ни одному фотографу. Генерал долго рассматривал их и молчал. Потом сказал: — Молодец. Умеешь это делать. Талант. И опять стал перебирать снимки. Потом посмотрел на меня не как генерал на солдата, а просто как человек на человека, улыбнулся, стал протирать очки, кашлянул. — Побудь у меня при штабе некоторое время, — дружески, почти стесняясь чего-то, предложил генерал и снова стал разглядывать снимки, И я понял: он боится, чтоб меня не убили. Я от волнения встал; мне хотелось сказать что-нибудь радостное, искреннее и прямое, что само вырывалось из моей души. — Ничего, товарищ генерал, меня не убьют, — неожиданно для себя сказал я ему. — Разрешите, я для вас сделаю новые снимки в настоящем бою. Генерал молча смотрел на меня. — И правда, хорошо бы нам проволочное заграждение зафиксировать, — сказал генералу начальник штаба. Они переглянулись. Генерал сказал мне: — Иди! — и протянул мягкую руку. Я вернулся к своим, нашел пулеметный расчет, куда меня направил командир. Теперь я буду с пулеметчиками, пойду с ними в бой и, не отходя от пулемета, сниму для генерала немецкое проволочное заграждение. Через несколько дней немцы начали наступление. Мы сидели в засаде у самых немецких позиций. Нас разделяло сложное проволочное заграждение в несколько рядов да выступы скал, у которых мы пристроились с пулеметами. Я сфотографировал заграждение несколько раз и ждал момента, когда можно будет снимать бой. Наша разведка донесла о том, что немцы готовят атаку. Это встревожило всех. Ведь у них масса народу, а нас горстка солдат. Но отступать нам нельзя ни шагу. Правда, мы все еще не верили, что фашисты пойдут в атаку. До нас доносились их крики и голоса. Они беспорядочно галдели. По-видимому, были пьяны. Но вскоре мы увидели, как немцы стали выходить из блиндажей и убежищ и строиться на открытом месте. Теперь было ясно, что они пьяные, что их много, и тревога не покидала нас. Впереди большой немецкой колонны построились офицеры с крестами и орденами. Кто-то взвизгнул. Колонна двинулась на нас. Среди наших солдат пронесся стон... — Слушай команду! — крикнул наш командир. Я замер и прижался к пулемету. Пряча голову за щитком, я смотрел сквозь его прорез через мушку на снежное поле, по которому прямо на нас шли фашисты. Держа ружья наперевес и горланя какую-то песню, они парадным шагом невозмутимо двигались на наши позиции. Я вспомнил фильм «Чапаев». Вот так же и там враги шли в психическую атаку. Но только сейчас не слышно барабанной дроби. И сейчас страшнее. Воспоминание о фильме напомнило мне про фотоаппарат. Я взял его в руки, раскрыл футляр, приготовился. Такого еще никто не снимал. Я обязательно должен снять эту атаку. Пора, надо действовать. Я спокойно стал снимать. через мушку пулемета немцев, идущих в психическую атаку. Они были уже совсем близко. Наши пулеметчики, стрелки и минометчики открыли огонь. Я повесил «лейку» на шею и тоже начал стрелять. Упали первые шеренги фашистов. За ними шли новые и новые шеренги. Они шли беспрерывным потоком, переступая через трупы своих. Их было так много, что вскоре весь путь до проволочного заграждения был усеян телами убитых. Не знаю, сколько продолжалось это страшное шествие. Вдруг я увидел, как у проволочного заграждения образовалась гора из человеческих тел и как небольшая группа фашистов прорвалась по этому настилу к нашим позициям. Я схватил фотоаппарат и рванулся с места. Ревущая толпа наших солдат неслась навстречу врагу. Через секунду-две волны налетели друг на друга. Серо-зеленая, пьяная волна немцев смешалась с кровью и снегом. Я бежал вместе со всеми. Размахивая прикладами, штыками, стволами от пулеметов, разъяренные русские сокрушали все на своем пути. Все были пьяны от гнева, от пролитой крови, от нечеловеческих усилий нервной работы. Когда все утихло, оставшиеся в живых наши солдаты медленно сползли к окопам. Долго лежали мы молча, не глядя друг на друга. Едва пришли в себя, как над нашими головами появились немецкие самолеты. Многие из нас даже не успели подняться с земли, уснули вечным сном. Наш командир подскочил к единственному «газику» и крикнул мне: — За мной! Я вспомнил о снимках, которые сделал для генерала, и побежал за командиром. Мы сели в машину, помчались через поляну к лесным зарослям, чтобы укрыться от самолетов. Два самолета закружились над нами, сбрасывая бомбы и обстреливая нас. Прыгая на кочках и ухабах, машина маневрировала то влево, то вправо и вдруг с грохотом опрокинулась набок. На мои колени упала тяжелая голова мертвого командира. Вспыхнуло пламя, горький черный дым окутал меня волной. Я выкарабкался из машины, бросился бежать, прижимая рукой «лейку». Самолеты успели вновь развернуться, стали бросать бомбы. Я прыгнул в одну воронку, потом перебежал во вторую. Вспомнил теорию вероятности, побежал в третью воронку, упал животом на камни, лежал, пока не услышал взрыв. Бомба разорвалась рядом. Я вскочил и побежал в самую свежую воронку. Разорвалось еще несколько бомб. Я перебежал еще и еще раз. Лежа в свежей воронке, я подумал: «Не буду больше бегать. Пусть стреляют, я буду лежать». Самолет развернулся надо мной еще раз, сбросил бомбу. Сделал последний заход, построчил из пулемета и улетел. Я лежал на спине и снимал самолеты каждый раз, когда они появлялись надо мной. Наконец все затихло. Я с трудом пополз туда, где, по моему мнению, были наши. Я был весь побитый и помятый, словно прошел через камнедробильную машину. С каждым метром силы оставляли меня. Прижимая аппарат к груди и думая о генерале, для которого я сделал редкие снимки, я полз все дальше и дальше. Вечером меня подобрали солдаты и привезли в штаб генерала, к санитарам. Я долго сидел перед фельдшером, вздрагивал и не мог выговорить ни одного слова. Все, что говорили другие, я хорошо слышал и понимал, но сам ничего не мог ни сказать, ни сделать. Молоденькая курносая санитарка жалостливо посмотрела на мою голову, всплеснула руками и со страхом сказала: — Посмотрите, какой он! Все ощупывали мою голову, легонько прикасались кончиками пальцев, тихо говорили о том, что у меня снизу стали белеть волосы по всему кругу. Через несколько минут доктор сказал: — Видите, как быстро распространяется седина по всей голове? Все продолжали смотреть на мою голову. Никто теперь не трогал мои волосы пальцами. Только изумленные глаза следили, как седина все выше и выше подступает к самой макушке. Я замахал руками на людей, которые смотрели на мою голову, и закрыл лицо ладонями. Мне было мучительно больно от того, что я все слышал, все понимал и не мог сказать ни одного слова. А хотелось крикнуть людям, чтобы они не смотрели на меня, не сокрушались по поводу моих седин, ибо это теперь не имело никакого значения. Важно было то, чтобы я еще смог вернуться в строй и продолжать бить врага, мстить за наш батальон, за командира, за Гришина. Я должен был жить и бороться до полной победы и возвратиться домой, взять в руки лопату, посадить сад, войти под густую тень его цветущих деревьев, среди которых вечно, пока я жив, будут стоять улыбающийся Гришин и его сестренка Дуняшка. В отчаянии размахивая руками, я вскочил с койки и, расталкивая людей, стал быстро ходить по комнате. Руки и ноги мои были целы. Значит, я буду бороться, буду работать лопатой, буду растить сады! Через два часа в комнату вошел генерал. Я протянул «лейку» и, ко всеобщему удивлению, сказал: — Я выполнил ваше поручение, товарищ генерал. — Спасибо, голубчик, — сказал мне генерал, глядя то на мою голову, то на фельдшера. — Он знает, — сказал фельдшер генералу, Генерал улыбнулся мне скупо, по-мужски. — А я тебя не узнал. Ты, брат, стал весь белый. Досталось тебе там? Я кивнул. — Теперь сто лет будешь жить, — засмеялся генерал. — Пойдешь в госпиталь, в тылу побываешь. А когда выздоровеешь, приезжай ко мне, я тебя устрою фоторепортером в нашей газете. У меня в голове мелькнула мысль, что я действительно серьезно ранен. Это испугало меня. Я снова вскочил на ноги и еще несколько раз прошелся по комнате. Все с удивлением смотрели на меня. Я остановился перед генералом. — Разрешите мне остаться здесь, товарищ генерал. Мой командир умер у меня на коленях. Я видел, как погиб почти весь батальон. Я не хочу ехать в госпиталь и не буду фоторепортером. Разрешите мне остаться солдатом. Генерал внимательно посмотрел на меня, сделал несвойственный старому человеку порывистый жест и одобрительно сказал: — Воля твоя, брат. Оставайся солдатом.
ЛЕНИНГРАДСКАЯ НОЧЬ

На краю холодного неба тускло тлеет солнце, медленно затухая, как раскаленная заклепка на сером стальном листе. Кровавые зарева пожаров, черный дым, свинцовые тучи. Плотный сырой туман обволакивает притихший, истерзанный Ленинград. Глухо рвутся снаряды. — Охрименко! Ко мне! Молодой остролицый солдат поднимается с мокрой холодной земли и с автоматом в руках прыгает в траншею. Разбрызгивая ногами мутную воду, хлюпая и проваливаясь, пробирается к командиру батареи. Старший лейтенант Буров сидит на грязном снарядном ящике среди лужи в затопленном блиндаже. Его большие черные глаза неподвижны, лицо бескровное, заросшее жесткой щетиной. К груди безжизненно прижата раненая правая рука, подвешенная на грязной тряпке. Охрименко жалостливыми голубыми глазами смотрит на Бурова. — Слухаю вас, товарищ старший лейтенант. Буров сквозь сжатые зубы роняет слова: — Как стемнеет, пойдешь в город. Проберешься к госпиталю, нашего политрука проведаешь. Передачу ему понесешь. Охрименко молчит, смотрит на бледного, худого Бурова. Добрый, участливый и жалостливый взгляд солдата встречается с жестким, непреклонным взглядом командира. Охрименко опускает глаза, сокрушенно вздыхает: — Вам бы самому надо в госпиталь. Пятый день сидите с разбитой рукой и никакого лекарства. Вон даже пальцы посинели. Долго ли до заражения? Одно дело — люди с голоду помирают или насмерть раненные, а вы от гордости жизнью рискуете. — Перестань панихиду петь! Охрименко решительнее посмотрел в глаза командиру, с вызовом бросил: — А что ж вы себя не жалеете! — Да слушай же ты меня, Охрименко, — уже мягче говорит Буров. — Не трать время на глупости. Дорогу в госпиталь знаешь? — Я вам уже докладывал, что мне тут вся география знакома. Много раз с батькой приезжал. Он у меня старый большевик. Зимний брал, Ленина в Смольном слушал, революцию совершал... Над болотами сгущались сумерки. Солдаты, просидевшие весь день на огневых позициях, с разных сторон пробирались по траншеям к блиндажам. Хлюпая водой и тяжело передвигая ногами, к Бурову и Охрименко подошли Николаев, Смуров, Кошелев. Молча опустились на ящики от снарядов, тяжело дышали. Слушали отрывистые слова Бурова: — Вот банка килек и два куска сахару. У меня, сам видишь, аппетит пропал. Мне это ни к чему. А политруку питание нужно, он весь кровью изошел, когда в контратаке его ранило. — Да, если бы не политрук, прорвался бы фашист в этом месте. — Ну, это не известно! А человек он, точно, смелый, отчаянный. Ну, иди! — Мне бы остаться в окопах. А то, гляди, нагрянет фашист, как тогда? — Без тебя справимся. — Я ведь здоровый, мне положено на посту стоять. — Выполняй приказ. Ступай! Охрименко взял передачу, подержал в руках, полез в свой карман, достал затертый кусочек сахару, положил на ладонь. — Это от меня политруку будет. Сохранился на черный день. — Иди-ка сюда, Охрименко, — сказал Николаев простуженным голосом, — Может, и мой пай пригодится. Возьми. Он протянул руку, и на его черной ладони Охрименко увидел белый сахарный осколок. Из темноты потянулись руки Кошелева, Смурова и еще чьи-то. — Мы и так потерпим, не маленькие, — сказал пожилой солдат Смуров. — Смотри, не намочи дорогой, а то растает — сахар ведь. Охрименко молча собрал с протянутых ладоней сахар, тщательно завернул в тряпку, сунул узелок под шинель, туго затянулся ремнем. Буров смотрел на солдата колкими черными глазами. На его смертельно усталом лице не было ни гнева, ни улыбки, ни жалости. Оно казалось твердым как камень. — Скажи политруку: Ленинград не сдадим. Никогда! — Буров энергично встряхнул головой, дернул подвязанную к шее раненую руку, сморщился от боли. — Иди! Синие глаза Охрименко снова наполнились жалостью. Он повернулся и молча пошел в темноту... Под ногами чавкала болотная грязь. Усталые ноги то спотыкались о кочки, то проваливались в жидкое месиво. До окраины города нужно было пройти более трех километров по топкому бездорожью. Стало совсем темно, не было видно никаких ориентиров, и только старые телеграфные столбы, едва различимые на фоне далекого пожара, помогали выдерживать направление. Чем дальше от окопов уходил Охрименко, тем с бо́льшим волнением думал о стоящей на прямой наводке батарее, об оставшихся товарищах, об упрямом Бурове. Ему почему-то казалось, что фашисты могут узнать о его отсутствии, ринуться в атаку и на этот раз прорвать оборону. Очень даже просто может случиться такое, если он, Охрименко, отлучился с позиции и шагает в город. «Если бы не политрук и не приказ командира, ни за что не пошел бы! — думал Охрименко. — Ладно, авось не полезет фашист, а человека спасу. Шутка ли, двенадцать кусков сахару и банка консервов! Такая сила подымет на ноги». И Охрименко представил себе лицо политрука, обычно улыбчивое, иногда строгое. Ярко-ярко вспомнились последние бои, два дня беспрерывных атак фашистов, нехватка снарядов на батарее... В самый критический момент, когда противник обрушился шквальным огнем на весь участок нашей обороны и в атаке начал теснить стрелков, политрук поднял артиллеристов в контратаку, оттеснил немцев и с группой смельчаков ворвался во вражеские блиндажи. Стремительный, дерзкий налет ошеломил противника, привыкшего к стабильной линии обороны. Бросая имущество и оружие, немцы выскакивали из блиндажей, в панике убегали в тыл. В азарте боя политрук вскочил на бруствер, встал во весь рост и, размахнувшись, бросил гранату вдогонку убегающим гитлеровцам. И в эту минуту притаившийся в траншее фашист дал очередь из автомата. Охрименко ударом приклада размозжил ему голову и бросился к политруку... На руках внес в блиндаж... В тот же вечер политрука переправили в госпиталь. Много прошло дней и ночей с тех пор... Вспоминая об этом, Охрименко медленно продвигается вперед. Ему кажется, что он идет целую вечность. Наконец он чувствует под ногами твердый асфальт. Это шоссе. Через пять минут он вступит в город и пойдет по его улицам, утопающим в темноте. Вот уже справа и слева чернеют громады зданий, можно различить ограды, деревья, темные окна в домах. Кое-где, как тени, медленно плетутся редкие прохожие. Кругом тишина, ни единого звука. Только шаги Охрименко, словно тупые удары, отзываются в сердце. Тревожно ощущение близости огромного раненого города, притаившегося в ночной мгле. Горечь и ярость овладевают солдатской душой. Хочется броситься к измученным, изголодавшимся людям, утешить, заглянуть в глаза, сказать, чтобы держались до победного часа. Верное чутье и память ведут Охрименко по улицам и переулкам к зданию госпиталя. Темные громады домов обступают солдата. Ни одного огонька в окне, ни одного живого звука. Жуткая тишина. Далеко вспыхивает ракета. Раздается глухой взрыв. И, словно в ответ ему, треснуло несколько ружейных выстрелов. «А что, если фашист полез на нашу батарею? — тревожно думает Охрименко. — Как там без меня? И Буров ранен. Он все молчит, не жалуется, а я вижу, что ему труднее всех. Бедный старший лейтенант! У него в Саратове молоденькая жена и двое детей». В той стороне, где была батарея, глухо рванул снаряд. Охрименко весь передернулся. Он ускорил шаг и почти побежал к госпиталю. Громада большого серого дома преградила ему путь. Он нащупывает руками заветный узелок, спрятанный под шинелью, медленно, задыхаясь от усталости, поднимается по выщербленным каменным ступенькам. За белеющими колоннами чернеет провал двери. — Стой! Кто идет? — слышится слабый, почти детский, дрожащий голос. Охрименко от неожиданности вздрагивает, инстинктивно берет автомат наизготовку. Он делает еще несколько шагов, замечает темную фигурку за колонной, объясняет, зачем пришел. Девочка, на вид лет пятнадцати, в большой обожженной шинели, подпоясанной белым бинтом, сжимает винтовку тонкими, худыми пальцами и строго глядит на Охрименко. Ее большие печальные глаза с синими подтеками выделяются на худом бледном лице, тонкие губы вздрагивают. Из-под солдатской ушанки с помятой пятиконечной звездочкой торчит жиденькая косичка. — Проходи! В вестибюле госпиталя на потолке чахло мерцает электрическая лампочка. В дальнем углу у черной буржуйки сидит дежурный — седой старик в белом халате, накинутом поверх солдатского полушубка. Подкладывая в печь дубовые аккуратные дощечки от паркета, старик молча выслушивает Охрименко. Потом смотрит в журнал и так же спокойно, сиплым старческим голосом говорит, что политрук Колосков со вчерашнего дня не числится в госпитале. Умер. Охрименко больше не может стоять на ногах. Перед глазами густой туман, в голове шум. Он грузно опускается на пол, садится рядом с печкой. Теплое дыхание касается его лица, медленно согревает и растекается по всему телу. Старик удивленно смотрит на усталого солдата, участливо говорит: — Посиди чуток, погрейся. От мокрой шинели Охрименко поднимается пар. Вытянутые ноги гудят. Хочется спать. Охрименко с усилием встает, медленно выходит на улицу. Большие глаза девочки в солдатской ушанке провожают его, пока он не исчезает за оградой. Он идет по самой середине улицы, обходя осыпавшийся кирпич, неразобранные развалины, упавшие столбы. Выходит на широкий проспект, поправляет ремень, ощупывает узелок под шинелью. Вдали ухают разрывы снарядов. «Скорее на батарею», — думает Охрименко. Прислушиваясь к своим шагам, он поддается ощущению походного ритма. Кажется ему, что тело наливается силой и ничто не сможет его остановить. «Скорее на батарею!.. Нет больше нашего политрука!..» Все стройнее и четче звучат шаги. Каменная мостовая словно подгоняет солдата глухими отрывистыми ударами. «Левой! Левой! Левой!» — мысленно говорит себе Охрименко, набирая темп. И вспоминает он улыбающееся лицо политрука, похожего на его отца. И так ясно представляет себя идущего рядом с отцом по улицам сверкающего довоенного Ленинграда, прекрасного и неповторимого города. «Вот здесь, — говорил ему отец, — на этой площади, слушал я речь Ленина... С этого переулка мы ринулись на штурм Зимнего... По этому проспекту я шел с демонстрантами и нес красное знамя с надписью «Вся власть Советам!»... Здесь с группой моих товарищей матросов я шел в атаку... В Смольном, в большом зале, с тысячей людей и с Лениным вместе, стоя пел песню:
Смотри, сын мой, не забывай этого!» — Не забуду, отец! Никогда не забуду! — повторяет Охрименко сказанные им когда-то слова, продолжая свой путь по притихшему в суровой осенней ночи военному Ленинграду. Шаги, как набат, отдаются в висках, и бессмертная песня, которую пели Ленин и его отец, мощно звучит в ушах Охрименко:
Внезапно над головой Охрименко проносится тугой, раздирающий душу свист, и совсем рядом, в соседнем квартале, с огромной силой ухает взрыв. Вслед за ним раздается человеческий вопль, и все умолкает. В доме, куда ударил снаряд, вспыхнул пожар. Охрименко побежал в переулок, свернул в захламленный двор, с большим трудом перелез через холодную чугунную решетку, остановился перед горящим домом. Во дворе, освещенном пламенем пожара, стоял длинный худой человек, в шляпе, в стоптанных валенках, и безучастно смотрел на языки огня, выбивающиеся из разбитых окон. Мимо него пробежали две женщины, выскочившие из подъезда. Старшая, седовласая, поддерживала совсем истощенную молодую женщину, с растрепанными волосами. За ними ковылял полуодетый старик, он тащил за собой раскрывшийся чемодан, из которого падали наспех уложенные вещи. Увидев Охрименко, старик, задыхаясь и тяжело откашливаясь, хрипло забормотал: — Там... второй этаж... спит мальчик... Забыли о нем... Охрименко и сам не помнит, как все произошло. Он бросился в горящий дом, вбежал по дымной лестнице на второй этаж, ворвался в квартиру, где была открыта дверь. В коридоре в отсветах пламени увидел лежащего на тюфяке мальчика. Схватил его на руки, вышел на площадку. Мальчику, щуплому, легкому, было лет тринадцать. — В квартире есть еще люди? Мальчик слабо пошевелил губами: — Нет... Мама умерла, а отец на фронте... Когда вышли на воздух, солдат отнес мальчика в дальний угол двора, положил на кучу изрытого, перевороченного шлака. От пожара стало тепло, по двору качались тревожные тени, серые лица людей озарялись красными отблесками. Печальными, испуганными глазами мальчик доверчиво смотрел на солдата. Его слабые сухие пальцы, похожие на костяшки, цепко держались за полу шинели бойца. — Ты почему сам не шел вниз? — спросил мальчика солдат. — Болен? — Я спал. Я скоро помру, дяденька... Не помню, когда во рту крошка была. В глазах маленького человечка сверкнула слеза. Охрименко показалось, что ребенок, стараясь сквозь слезы улыбнуться, смотрит на него с укоризной и мольбой, — с укоризной за то, что он, солдат, не добыл еще победы, которой так ждут ленинградцы... Охрименко нащупывает рукой узелок под шинелью, молча слушает слабые всхлипывания мальчика. Хочет освободить полу от его цепких пальчиков, притрагивается к холодной костлявой ручонке. Жалость сжимает сердце солдата. Охрименко отворачивается спиной к мальчику, достает заветный узелок, развязывает, берет один кусочек сахару. Поворачивается к мальчику, протягивает руку к его лицу: — Возьми, съешь! Мальчик мгновенно обеими руками хватает белый, молнией сверкнувший в его глазах кусочек, запихивает в рот, с хрустом съедает. Чтобы не прослезиться, Охрименко отворачивается от просящего взгляда мальчика. Молчит, стиснув зубы. — Как звать тебя? — Санька... — Прощай, Санька! Мне надо идти на фронт. Солдат гладит мальчика по голове и, боясь взглянуть ему в глаза, уходит. Один, два, три, пять, восемь шагов. Все труднее переставлять ноги. Охрименко чувствует на себе взгляд печальных детских глаз. И вдруг... — Дяденька! Дяденька! — отчаянно кричит Санька и, собрав все силы, догоняет солдата, хватает его за полы. — А как же я, дяденька? Возьми меня с собой! Умру я тут! Возьми!.. Охрименко вырывается из слабых ручонок, идет дальше. Но мальчик не отстает, забегает вперед, загораживает солдату дорогу, с отчаянием и мольбой смотрит в лицо. Глаза их встречаются, и солдат сдается: — Ладно, пошли. Придерживая рукой узелок, Охрименко твердо шагает на передовую. А в голове роятся мысли, такие мысли, сердце от которых наливается лютой яростью к врагу... Горький дым пожара стелется над городом, тянется на болота, мешаясь с холодным серым туманом. Сидящие в окопах солдаты тревожно поглядывают на небо. Туман, земля, небо и все вокруг неуловимо меняется, светлеет. Приближение рассвета сулит еще один трудный боевой день. Николаев первым замечает приближающиеся к окопам две согнувшиеся фигуры. Вот они спускаются в траншею и медленно подходят к солдатам. Все по очереди вглядываются в странного спутника Охрименко, недоуменно пожимают плечами. Смуров спрашивает: — Это кто? — Увязался вот парнишка, — отвечает Охрименко. — Санькой зовут, воевать вместе с нами хочет. Солдаты молчат, смотрят на мальчонку, который ухватился за шинель Охрименко, как держатся дети за юбку матери, прижался к ногам солдата своим хрупким, тщедушным тельцем. — Видал политрука? — спросил Николаев. Охрименко тихо ответил: — Помер он. — Кто сказал? — В госпитале. — Врешь! Охрименко окинул товарищей сердитым взглядом. — Не верите? И сахар ваш в целости принес, нате! — Он вынул узелок и протянул его Николаеву. — Только один кусок Саньке отдал, мой собственный. Берите! Никто не брал из его рук узелка. — Иди к командиру, он все объяснит. Охрименко взял за руку Саньку, побрел в блиндаж командира батареи. В блиндаже сидели два человека. Они пили из кружек чай и о чем-то оживленно разговаривали. Сидевшего спиной к входу с перевязанной головой Охрименко не узнал и сразу обратился ко второму — старшему лейтенанту Бурову. — Разрешите доложить, товарищ командир, — усталым и слабым голосом сказал Охрименко. — Политрук Колосков вчерашнего числа помер от ран. — Помер? — удивленно переспросил его Буров и неожиданно рассмеялся: — Политрук Колосков помер?! Слыхал, а? — Он обратился к тому, кто сидел спиной к входу. — Чудак ты, Охрименко! — Я был в госпитале, товарищ командир, — развел руками солдат. — Помер наш политрук. Вот и посылка в сохранности. В это время человек с перевязанной головой повернулся к Охрименко лицом. Охрименко остолбенело смотрел на него, моргая глазами. — Товарищ политрук? Да как же это?.. — А вот так, — весело сказал Колосков. — Обманул госпитальное начальство. Удрал — и все. А старик там всякого выбывшего в покойники зачисляет. Мы еще повоюем за Ленинград... Вечером вся батарея вместе со стрелковой ротой пошла в атаку и оттеснила противника на несколько десятков метров, заняв его окопы и траншеи. В этом бою Охрименко снова видел впереди себя бесстрашного командира Бурова и политрука. Когда враг отступил, Охрименко почувствовал боль в левом плече. Он не заметил, как пуля задела его. Хлебая жидкий горячий суп из одного котелка с Санькой, Охрименко старался не замечать ни боли в плече, ни усталости во всем теле. Радость даже этой небольшой победы над врагом была в нем сильнее всех других чувств.
НА КРУТОМ БЕРЕГУ

Выйдя на небольшой холмик, демобилизованный младший сержант Чепурнов остановился. Однообразная бесконечная равнина, пролегающая вокруг, навевала уныние. Ему уже казалось странным, что он зачем-то идет в эту даль, к неизвестным людям, к неизвестной жизни. Не вернуться ли назад, пока еще недалеко станция? От жары млеет тело. В глазах туманится даль, словно качаются земля и небо. В усталом разморенном мозгу ворошатся ленивые мысли. А ноги шагают и шагают по пыльной дороге... У младшего сержанта Чепурнова не было ни дома, ни родных. Вся семья погибла во время налетов немецкой авиации в Виннице, где сгорел дом его отца, в котором Чепурнов жил до ухода в армию. Четыре года прослужил он в саперных войсках, был несколько раз ранен. Год назад у Чепурнова убили боевого друга Василия Карпова, вместе с которым прошли они много военных дорог. Василий часто читал Чепурнову письма из дому: от отца и от сестры Варвары, а когда писал ответ, обязательно кланялся от имени своего друга. Много рассказывал Василий о Варваре, а однажды, прочитав письмо от нее, заметил Чепурнову: — Вот бы тебе пара была. Лучшей невесты не найти. Кончится война, надумаешь жениться, могу протекцию составить. Когда погиб Василий, Чепурнов написал Варваре и сообщил о смерти ее брата. Варвара прислала ответ, между ними завязалась переписка. Последний раз она писала ему, что если Чепурнова демобилизуют, то она и ее отец будут рады увидеть его в колхозе «Красные зори». «Васю, братца, — писала Варвара, — нам больше никогда не увидать, так хоть вы порадуете нас и душу облегчите...» Чепурнову некуда было ехать, и он отправился в чужие края с надеждой начать новую жизнь... Внезапно крупные капли дождя упали на дорожную пыль, свертывая ее в комочки грязи. Чепурнов, очнувшись от воспоминаний, накинул на плечи шинель, огляделся вокруг в поисках укрытия. Навстречу путнику двигалась белесая дождевая завеса. Недалеко впереди холмы разрезала блестящая, как лезвие, узкая полоса реки. На крутом берегу Чепурнов увидел небольшой глинобитный домик с пристроенным к нему сараем и двор, обнесенный ветхим, покривившимся плетнем. В том месте, где дорога спускалась к реке, стояли две лодки. Хотя в одной из них и торчали весла, у реки никого не было. На воду легли лучи заходящего солнца. Чепурнову надо было спешить, чтобы дотемна добраться в колхоз «Красные зори». В поисках перевозчика он направился к домику, поднимаясь по скользкому глинистому берегу. Когда младший сержант вошел во двор, из домика выбежал босой четырехлетний мальчик. С радостным криком он бросился навстречу Чепурнову, хватаясь за полы мокрой шинели: — Папа приехал! Папа приехал! Здравствуй, папа! Чепурнов поднял на руки малыша и весело потрепал его пухлые щеки. Засмеялся и ответил в тон мальчику: — Здравствуй, сынок. Что же ты босиком бегаешь? Становись на крыльцо, а то я весь мокрый. Но мальчик вцепился в шинель Чепурнова. — Пойдем в хату, папа. Пойдем! Чепурнов поднялся на крыльцо и через сени прошел в комнату. В доме никого не было. — А где же твоя мамка? — Она хлев чинит, чтобы дождь не мочил корову. А ты с фронта приехал, папа? Да? — С фронта, сынок, — сказал Чепурнов, спуская неотвязчивого мальчика на лавку. — И тебе гостинец привез. Он достал из кармана коробочку леденцов, купленную им еще в Москве, и протянул мальчику. — Поди, позови мамку, да поскорее. Мальчик взял подарок и, радостный, побежал из комнаты. Чепурнов сел на лавку, с удовольствием вытянул ноги. В комнате уже становилось темно. Однако можно было заметить, что чистота и опрятность царят в этом доме. Белая постель аккуратно убрана, на окнах простые занавески, расшитые заботливой рукой. Стол покрыт полотняной скатертью, окаймленной красной и зеленой вышивкой. В углу, на тумбочке, небольшая фотография. Чепурнов встал, подошел поближе. С фотографии на него смотрел молодой мужчина в военной гимнастерке. Переведя взгляд на ходики, висящие на стене, Чепурнов увидал, что уже половина девятого. «Что же она не идет так долго?» — подумал он про перевозчицу, представляя ее себе здоровой пожилой бабой с крепкими загорелыми руками. Прошло еще несколько минут. В сенях скрипнула дверь, и в комнату вошла хозяйка, которую тянул за подол мальчик, скороговоркой лепеча: — Иди, иди же, мама, поскорее! Папа приехал, а ты там ходишь. Вот она, папа! На пороге стояла смуглая женщина лет двадцати пяти, среднего роста, с приятным лицом и с необыкновенно большими подвижными глазами. Чепурнов встал с табуретки, поклонился. — Здравствуйте, хозяюшка. Простите, что я вам помешал, но мне крайне нужно... — Да вы сидите, — перебила его женщина, улыбаясь и протягивая ему крепкую загорелую руку. Но Чепурнов не сел и топтался в смущении на месте. — Вам, значит, на тот берег надо? — спросила женщина. — Да. И я бы хотел поскорее. А то уже вечер, а мне еще до «Красных зорь» идти. Далеко это от вас? — Тебе не надо уходить, папа, — сказал мальчик, играя коробкой от конфет. — Мы с мамкой тебя долго-долго ждали! Чепурнов улыбнулся и погладил мальчика по голове. Мать тоже грустно улыбнулась, поправила сыну рубашку. Не глядя на гостя, сказала: — А вы дорогу-то знаете в «Красные зори»? Это от нас пять километров будет. Дотемна не успеете. Стояла не двигаясь, ждала ответа. — Да, может, успею, — сказал он. — Еще девяти нет. Как только Чепурнов потянулся к чемодану, мальчик подскочил к нему и схватил за руку. В ребячьих глазах было такое огорчение, даже испуг, что Чепурнову стало жалко его. — Садись, папа! Сейчас будем пить чай с пирожками. У мамки есть сладкие-сладкие пирожки. Женщина сделала шаг к порогу, проявив готовность идти на переправу. Но не открыла дверь, остановилась. — Вы что ж, не здешний? — спросила она гостя. — Первый раз в этих краях. — Так куда же вам идти на ночь глядя? Оставайтесь до утра, просушитесь, а на рассвете я вас и перевезу. Чепурнов задумался. — А я вам не помешаю? — Да что вы? — вздернула она плечами. — Нет, конечно, оставайтесь. Женщине, жившей три года вдали от людей, одной с малым ребенком, хотелось посидеть с человеком, вернувшимся с войны, где погиб ее муж. Хотелось расспросить, как там и что, отвести душу. Она с открытым сердцем предложила ему гостеприимство и была искренне рада, когда гость, снимая шинель, сказал: — Значит, будем знакомы. Меня зовут Александром Ивановичем Чепурновым. Они еще раз пожали друг другу руки. — А меня — Клавдия Алексеевна. Давайте вашу шинель, я ее здесь повешу, к утру высохнет. Сапоги тоже снимите, я дам калоши, пока в них походите. Она вышла в сени и на минутку остановилась на пороге. Непонятная радость охватила ее, будто самый близкий, самый дорогой и желанный человек приехал к ней. Что-то веселое и отрадное поднялось в глубине души, и она легко и свободно, как давно не ходила, пошла по двору. — Как же вы живете тут? — спросил Чепурнов за ужином. — Всегда вдвоем? — Да так и живем, — сказала хозяйка. — Четвертый год будет. Чего только не натерпелись: и страху и голоду. Да и тоскливо было. — И каждый день людей перевозите? — Иной день тихо, а бывает, только успевай поворачиваться. То с того берега, то с другого кричат: «Лодку! Лодку!» Мотаешься до вечера, и поесть некогда. Зато зимой спокойнее. Справлюсь по хозяйству да и сижу с Ваней, разговоры веду разные. Про все вспомнишь, бывало. Да разве он поймет, ребенок? — И хозяйство у вас есть? — Корова да поросенок. Только без мужика трудно их держать. То сено нужно на зиму, то хлев починить. Вон давеча дождь пошел, а крыша протекает. Да вы ешьте, Александр Иванович. С дороги не мешает. — Спасибо. Я бы чайку выпил. Знаете что? — сказал он просто и непосредственно. — У меня в чемодане есть хороший «доклад» к чаю. Пусти-ка, Ваня. Он встал и потянулся к своим вещам. Но Клавдия Алексеевна категорически запротестовала: — Нет, нет, и не думайте. Мы тоже не бедные и гостя не обидим. У нас и пирожки есть и сахар. Сидите, пожалуйста, ничего не надо. — Ну разрешите, я хоть Ване подарок сделаю. И, несмотря на протесты хозяйки, Чепурнов открыл чемодан. — Эту вещь я вез из самой Германии. И такая мысль у меня была: подарю, думаю, ее первому мальчику, который мне понравится. Вот и нашелся такой мальчик. Чепурнов встал, держа в руках губную гармошку, потом поднес ее ко рту и заиграл простой мотив. У Вани от восторга засияли глаза. Он только раскрыл рот и застыл на месте. Игрушка так поразила мальчика, что он не мог произнести ни слова. — Вот тебе, Ваня, — сказал Чепурнов, протягивая гармошку, — возьми. Ваня взял подарок и вприпрыжку забегал по комнате. Глядя на него, мать улыбнулась и вытерла слезу. Потом подняла сына на руки, расцеловала его. — А теперь скажи дяде спасибо и ложись спать. — А гармошка будет моя? — спросил Ваня. — И гармошка с тобой будет. Ну? — Спасибо, — сказал Ваня, опустив глаза. — Вот и хорошо. И она уложила Ваню в постель, прикрыв от него газетой свет от лампы. Ваня обнял свою игрушку и вскоре уснул. Клавдия Алексеевна и Чепурнов засиделись за чаем. — Вот смотрю я на вас и мужа вспоминаю. Уж как мы его с Ваней ждали! — И что же? — спросил Чепурнов, чувствуя неловкость своего вопроса. — Год назад похоронную прислали. Как ножом по сердцу полоснули. Она помолчала, вспоминая что-то, борясь с нахлынувшими на нее тяжелыми чувствами. — Я-то пережила эту весть, а от Ванюши скрыла. Не хватает сил сказать ему, что он сирота. — А Ваня отца не помнит? — Где там? Ему всего год был, когда отец уходил на войну. Вот вы пришли в шинели, да и во всем военном, он вас папой и назвал. Она виновато взглянула на Чепурнова, добавила: — Вы уж извините. — Дети все такие, — сказал Чепурнов. — Горе никого не пощадило: ни маленьких, ни больших. — Трудно так жить. А тут еще обидели меня. Женщина говорила просто, не жалуясь на судьбу, а так, чтобы военный человек все знал. — Кто же вас обидел? — спросил он хозяйку. — Кроме людей, никто не обидит, — горько сказала она. — Есть тут одна семейка, жили мы, когда муж еще дома был, по соседству, сад у нас рядом с ихним. Так они воспользовались нашим несчастьем. Обнесли общим забором свой сад и наш да и не отдают. Я хотела продать свои деревья, чтобы Ванечке на зиму одежду купить. А теперь как? По судам мне ходить некогда... — Вы бы в райисполком пошли или в райком партии... — горячо заговорил Чепурнов. Клавдия покачала головой. — А сына на кого оставлю?.. — И, помолчав, продолжала: — И все затеяла их дочка — молодая девка, со мной в одной школе училась. «Мне, говорит, замуж надо, хочу, чтобы хозяйство было исправное. Жених с фронту приедет». Эх! Она в сердцах махнула рукой и замолчала. — Значит, раньше вы в другом месте жили? — спросил Чепурнов, отхлебывая чай. — Да. В «Красных зорях», куда вы идете. Там мой муж агрономом работал. — Стало быть, вы всех там знаете? — А как же? Вы-то к кому? — почти равнодушно спросила она. — Я? К Карповым. Хозяйка поставила блюдце на стол, внимательно поглядела на Чепурнова. — К Сергею Ивановичу? А кто же вы им будете? Родственник? Чепурнов помолчал, подбирая слова для ответа. — Видите ли, я друг погибшего сына Сергея Ивановича, Василия... Вот и еду к ним. Письмо-то было от Варвары Сергеевны, но я, собственно, думаю, что и Сергей Иванович приглашал тоже. Хозяйка совсем отодвинула чашку и блюдце, перестала пить чай. Лицо ее помрачнело. — А вы знаете их? — спросил Чепурнов. — Что это за люди? — Знаю, — как-то странно ответила Клавдия. — Очень хорошо знаю. Да только ничего говорить не стану, сами посмотрите и разберетесь. Чай, не маленькие. — Что-нибудь плохое про них знаете? — спросил Чепурнов. — Скажите, не обижусь. Клавдия посмотрела на Чепурнова озорными глазами, неожиданно засмеялась. — Выходит, вы жених! В первый раз женитесь? — Да вроде так, — сказал Чепурнов. — Оно и видно, какой пугливый. Ну, ладно, утречком отправлю вас к вашей невесте. Она встала, постелила ему на лавке постель и ушла в другую комнату. Утром, пока Ваня еще не проснулся, Клавдия перевезла Чепурнова на другой берег, показала дорогу и проводила его чуть насмешливым взглядом. Младший сержант бодрым шагом отправился в путь. Никто не знает, как встретился с Варварой Чепурнов и что произошло между ними. Только в ту же ночь перевозчицу Клаву разбудил громкий, почти отчаянный крик с другого берега: — Эге-гей! Лодку! Лодку! Она поднялась с постели, зажгла фонарь, подошла к берегу. Кричать перестали. Клавдия взяла весла и погнала лодку на ту сторону. Фонарь стоял на корме и слегка покачивался. Когда лодка уткнулась носом в мягкую тину, Клавдия обернулась и увидела прямо перед собой мужскую фигуру. Это был Чепурнов. На этот раз Клавдия не смогла удержаться и рассмеялась так, что утлое суденышко едва не зачерпнуло бортом воду. — Дайте весла! — сердито сказал Чепурнов. — Идите на корму, я сам. Она перешла на корму и, глядя, как Чепурнов с бешеной силой работал веслами, никак не могла успокоиться и все смеялась. Чепурнов зачерпнул ладонью воды и брызнул ей в лицо. — Перестаньте смеяться! Почему не сказали, что Варька и есть сутяжница, которая у вас сад отобрала? Клавдия нахмурилась и холодно сказала: — А что говорить? Сами не маленькие. Познакомились? Чепурнов зло сплюнул в реку. — Нехорошо вы со мной поступили. Мог и не разобраться. Долго ли? Девка красивая, из себя видная, сладким голосом говорит... А солдатского сына, сироту, не пожалела. На всех, говорит, жалости не наберешься... Вышли из лодки, спотыкаясь, пошли к дому. Чепурнов сердито молчал. — На станцию пойдете или переночуете? — спросила Клавдия. — А можно? — Отчего же нельзя... Идите на лавку, где прошлый раз спали, ложитесь. Он потоптался на пороге, с благодарностью посмотрел на Клавдию и пошел в дом. Утром Чепурнова разбудило солнце, пробивавшееся сквозь щели в ставнях. На полу стояли сапоги, сухие и чистые. Чепурнов оделся и вышел во двор. Хозяйка у плиты колола дрова. Поздоровавшись, он взял у нее топор, быстро разрубил колоду. Клавдия с удовольствием смотрела, как мужчина ловко и хорошо работал топором. — А что, Клавдия Алексеевна, давайте я хлев починю? — сказал он. — Что вы еще выдумали? Его сразу-то и не починишь. — Ну-ка, я посмотрю, что там делается. Он взял топор и уверенно, как хозяин, пошел к хлеву. Через несколько минут Клавдия Алексеевна услышала стук топора, а когда посмотрела на хлев, то на крыше увидала Чепурнова, прибивавшего доски. — Господи, — сказала она. — И охота вам возиться. Отдыхали бы лучше. Пойдемте завтракать. Умывался Чепурнов в речке вместе с Ваней. Мальчик долго бултыхался в воде, все допытываясь у младшего сержанта, куда тот уходил вчера. Чепурнов умыл мальчика и принес его на руках к столу. — Что же, — сказала Клавдия Алексеевна после чая, — сейчас пойдете на станцию или позже, к обеду? Может, попутная машина случится. Часто бывает. Не снимая Ваню с колен, Чепурнов просто ответил: — Вот хлев починю, хозяюшка, тогда и пойду. Клавдия Алексеевна посмотрела на него: не шутит ли? — Да ведь там на неделю работы. — А мне спешить некуда. Пойдем, Ваня, на работу, — предложил он мальчику, беря топор. — Согласна, хозяюшка? — Коли не шутите — мне-то что? Я согласна. — Ну и добро. И Чепурнов принялся за работу. Так прошло два дня. На третий день пошел дождь. Александр Иванович нисколько не огорчился этим и с утра до вечера провозился с Ваней. Время от времени Чепурнов обходил двор, хозяйским глазом присматривался ко всему. Поправил крыльцо, окопал деревья, починил забор. Между делом продолжал ремонтировать хлев. Когда Клавдия увидала, что работы осталось немного, она с грустью подумала о том, что Чепурнов уйдет. Ей стало жалко чего-то, и она решила, что жалко ей Ваню, который привык к Чепурнову и называет его отцом. Как-то, когда мальчик увлекся своей гармошкой, она подошла к Чепурнову, работавшему на крыше. Постояла молча, потом сказала: — Вот вы уйдете от нас, а что я скажу Ване? Он к вам привык, как к родному отцу. Чепурнов бросил топор на землю, вытер пот с лица. — А разве из меня плохой отец выйдет, Клавдия Алексеевна? — спросил он и засмеялся. — Если хотите, то никуда я не пойду. И Ванюшу огорчать не придется. Ей-богу, хорошим отцом буду. И вас никогда не обижу. У Клавдии дух захватило от этих слов. Боясь поднять на Чепурнова свои глубокие синие глаза, она тихо молвила: — Вы, Александр Иванович, человек хороший. Мне с вами только одна радость будет... Чепурнов в одну секунду, словно птица, слетел с крыши хлева. Робко и неуверенно обнял он горячие, сильные плечи молодой женщины. Чепурнов знал, что в руках у него сейчас само счастье, за которым он исходил так много трудных военных дорог.
СОЛДАТ КУПРИЯНОВ
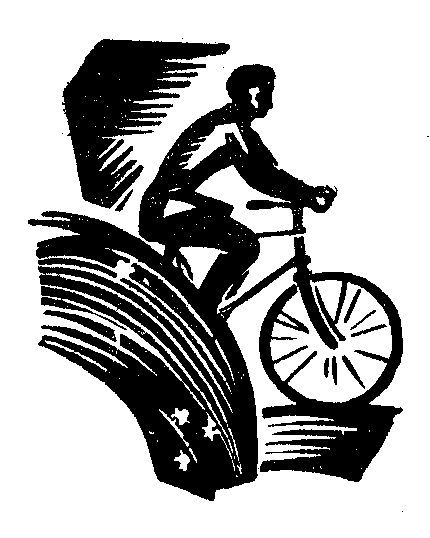
Через три месяца после призыва в армию солдат Алексей Куприянов был направлен для дальнейшего прохождения службы в Группу советских войск в Германии. До пограничного города Бреста ехали весело, как на загородную прогулку. В Бресте же стояли несколько часов. Многие успели сходить на почту и послать письма домой, а кое-кто сбегал в магазин, чтобы истратить последние советские рубли, оставшиеся в небогатом солдатском запасе. К вагонам вернулись с покупками: кто с кругом колбасы, кто с банкой консервов, кто с бутылкой лимонада. В назначенный час поезд отошел от перрона. Алексей Куприянов прильнул к окошку и смотрел на город, который видел впервые, и думал о том, что вот здесь, на этой земле, много лет назад разыгралась страшная драма войны. И хоть теперь совсем не было видно следов битвы, одно воспоминание о прошлом вызывало в душе тихую грусть. За окном пронесся глухой нарастающий гул, замелькали темные фермы железнодорожного моста. Внизу сверкнула голубая полоска воды. — Речку Буг переезжаем, — сказал солдат Иванеев, свесивший голову с верхней полки. — Как раз самая граница. Здоровый широкоплечий Бондарчук бросился к окну, потеснил Куприянова, отвоевывая себе место. — Точно, хлопцы. Польша пошла. Куприянов молча окинул взглядом простор, открывающийся за рекой, и сразу почувствовал, как защемило сердце, и какая-то незнакомая ранее грусть охватила его. Ничего подобного в жизни он никогда не испытывал. Словно какое-то таинство совершал, переезжая границу. «Так вот как это бывает, — думал солдат. — Странно и вместе с тем ничего особенного. Как просто». Ребята притихли и, сгрудившись у окон, смотрели на дорогу, где шли польские девушки и ехали крестьяне на повозках. — Тут и девчата другие, в штанах ходят, — сказал Бондарчук и засмеялся. — Вот форсят. — А телега на резиновых колесах, можно ездить. Видишь, одна лошадь запросто тянет, — говорил Иванеев. — Чего в ней толку, в телеге? У нас этот транспорт на свалку сдали, машин полно. А девчата хорошие, не спорю. — Наши не хуже. И тоже в штанах найдутся, сколь хоть, — недовольным голосом пробасил Серегин. — Нашел чудо. Ты посмотри, как тут землю пашут, по старинке, на лошаденках. — Много не наковыряешь, — протянул Иванеев и закурил сигарету. Куприянов прислушивался к разговорам, смотрел за окно и молчал. Много раз в жизни он расставался с товарищами, но никогда еще не доводилось ему прощаться с Родиной. Он плотнее прижимался щекой к холодному оконному стеклу и смотрел не вперед, по ходу поезда, а назад, где еще виднелись родные поля и тихо качались приземистые деревья на берегах Буга. «До свидания!» — мысленно сказал Куприянов и отошел от окна. Он прилег на полку, прислушиваясь к восклицаниям, шуткам и смеху товарищей. Лежал долго — хотел уснуть, но не мог. И только теперь почувствовал, какая важная перемена наступает в его жизни. И все пришло как-то незаметно. До этой поры ему казалось, что он все еще мальчишка, а вот, поди ж ты, как быстро пролетело время и пришел его черед стать взрослым мужчиной. Казалось невероятным, что он, родившийся в дни войны с Германией и так много испытавший горя, уже совсем вырос, призван в солдаты и едет в ту самую Германию, которую кругом проклинали люди с самых первых дней его детства. Странная это штука — жизнь человека. Куприянов зарылся лицом в подушку, лежал молча, не открывая глаз, но все никакне мог заснуть, Мысли его были далеко, по ту сторону границы, которую он только что переехал, увлекли его самого в прошлое, в его раннее детство. Родился он в дни войны, когда отец уже ушел на фронт. Жили они втроем: мать, старшая сестренка Шура и он — Алексей. Когда шла война, он был совсем маленьким и ничего о ней не помнит. Первые воспоминания связаны с тем временем, когда закончилась война, и он с сестренкой Шурой ходил на завод, где работала мать. Она уходила из дому рано утром, когда Алеша еще не просыпался, и возвращалась поздно вечером, когда он уже спал. Дети виделись с матерью только днем в короткое время ее обеденного перерыва на заводе, куда они приносили ей еду. Алешкиной сестре Шуре было в то время лет восемь, она умела варить суп, стирать, прибирать комнату. Каждый день Алексей и Шура пробирались по развалинам, по разбитым кирпичам, обломкам железа, каким-то покореженным ржавым трубам. Заводская территория была большая, найти мать, да еще среди такого хаоса, было нелегко. Алешка помнит один из таких дней, когда они с Шурой шли на завод. Проходили мимо булочной. Запах свежего хлеба так раздразнил мальчишку, что ему до слез захотелось есть. Он с завистью поглядывал на узелок, в котором Шура несла обед матери. — Хочу есть, — скулил он, протягивая руку к узелку. — Дай, Шурка. Шура строго говорила братишке: — Мы с тобой ели, а это маме. Она целый день работает, завод строит. — А кто его сломал? — Немцы. Бомбами да снарядами разбили. Алешка лениво плелся за Шурой и все всхлипывал, растревоженный запахом хлеба. — Есть хочу. Дай кусочек. — Нельзя, — строго говорила сестра. — Это маме, ты понимать должен. Мы с тобой уже ели. Они шли мимо стройки, где работали пленные немцы. Дети смотрели через решетчатую ограду на чужих, непонятных людей. Те молча работали, перебирали кирпичи, складывали их в кучи. Ржавые трубы и всякий металлический лом сносили в другое место. В тот момент, когда дети задержались у ограды, к ним обернулся пожилой немец с грустными глазами, с худым небритым лицом. Он улыбнулся девочке и, увидав узелок в ее руке, подошел совсем близко. — Кароший девочка, — сказал он униженно и стыдливо, — ты красивый и добрый. И мальчик кароший. Он был усталый исовсем нестрашный. Что-то доброе мелькнуло в его глазах. Шура с жалостью смотрела на этого большого беспомощного человека. — У тебя есть клеб? — спросил немец. Шура заколебалась, потом стала развязывать узелок и вынула небольшой кусочек черного хлеба. Алешка со злостью посмотрел на немца и схватил за руки сестренку: — Это мамин хлеб. Нельзя! Но Шура оттолкнула братишку, не послушалась его. Она переломила хлеб пополам и одну часть протянула немцу. Немец быстрым движением схватил хлеб, дрожащей рукой прижал его к груди. Вторую руку он просунул между прутьями решетки и погладил девочку по белокурой головке. В его глазах блеснули слезы. — Спасибо, девочка. Алешка сердито дернул за руку сестру и потащил ее от решетки. — Не давай ему хлеба, он разломал наш завод. Алешка тогда не на шутку рассердился на Шуру. Брат и сестра прошли на заводской двор и стали искать свою маму. Тут их увидела девушка в красной косынке и крикнула: — Эй, Зина! Твои ребята пришли, обед принесли. Из-за разбитой стены показалась мама. — А Шурка немцу хлеба дала, — пожаловался ей Алешка. — У нас у самих нету, а она дает. Мать расстелила на земле платочек, усадила детей, села рядом. Погладила по голове Шуру и Алешку. — Ничего, Лешенька, нам и этого хватит. Ешьте, милые, ешьте. Она разломила оставшийся кусочек хлеба на две части, отдала детям, а сама взяла картофелину и луковицу, круто посолила и стала не торопясь есть, улыбаясь и радуясь на детей. — Теперь хоть войны нет, и слава богу. Она ласково разглядывала загорелые худые детские мордашки, отламывала от луковицы перышки, макала в соль и протягивала их то сыну, то дочери. Такой запомнилась Алексею мать. А через несколько дней во время работ на развалинах взорвалась мина, и Алешкиной матери не стало. Дети остались одни, бесприютные и голодные. Алешка все плакал, а Шура, оцепенелая, забилась в уголок комнатушки, с испугом, как загнанный зверек, смотрела оттуда на дверь и на опустевшую кровать матери. Вечером на пороге их комнаты появились две женщины. Это были соседка тетя Катя и заводская подруга матери Галя, в красной косыночке, совсем такая, какой видели ее дети на развалинах, когда ходили к матери на работу. Тетя Катя обвела взглядом комнату и бросилась к детям с порога. — Бедные вы мои, — сказала она ласково, протягивая свои большие мягкие руки. — Вставайте, ребятки. Вставайте. Дети доверчиво прижались к ногам тети Кати, перестали плакать. Галя стояла в дверях, растерянно держала в руках авоську с картошкой и какими-то кульками. — А ну-ка, Галочка, затапливай печь и наливай воды в чугунок, — певучим голосом приказала тетя Катя. — Они же есть хотят. Галя подошла к плите, загремела посудой. А тетя Катя усадила детей на сундук, стала вытирать платком их грязные, заплаканные личики и все говорила, говорила какие-то добрые слова. — Сейчас загорится огонь, закипит вода, и Галя сварит вам суп и молочный кисель. Согреем чай и белую булочку яблочным вареньем намажем. Галя у нас ловкая, все умеет делать, да так быстро, что никто не угонится. Слова тети Кати успокаивали. Сестренка и братишка послушно покорялись доброй женщине. — Давайте я причешу вас своим гребешком, — говорила тетя Катя. — А тебе, Шурочка, свою ленточку в косы заплету. А если хочешь мое монисто, так возьми, носи на здоровье. Вот какое красивое! Тетя Катя сняла свое крупное монисто из разноцветных стекляшек, надела девочке на тонкую шею и в самом деле залюбовалась ею. — Правда, красиво, Алеша? — спросила она у мальчика. — Смотри-ка на Шуру, как солнышко сверкает. Тетя Катя тихо, по-доброму засмеялась. Алешка взглянул на сестренку и тоже улыбнулся. Улыбнулась и Шура. — А Лешеньке сделаем чуб, зачешем волосы направо, чтобы развевались, как у настоящего казака, — продолжала тетя Катя прихорашивать детей. — Вот так. Вот. Ну, что там у тебя, Галя? Разгорелся огонь? — Я мигом, — ответила Галя из кухни, — Сейчас будет готово. Тетя Катя усадила детей к столу, принесла тарелки, ложки, поставила на середину солонку. Потом отступила в сторонку, остановилась, посмотрела на притихших детей. Лицо её стало грустным, глаза повлажнели. Она покачивала головой и говорила: — Хорошая была у вас мать. И отец был редкой души человек. Пошел на войну и пропал без вести. А она все ждала, говорила, сердцем чую, что живой. И хоть бумагу получила, что муж, мол, пропал, а все не верила, все ждала. Судьба-то по-своему распорядилась, войны уже нет, а люди гибнут. Будь они прокляты, эти германцы, что принесли нам столько горя. И отца вашего погубили, и мать через них пропала, да и у вас теперь счастья не будет, сиротиночки вы мои бедные. Дети слушали и смотрели на нее с испугом. Крупные слезы потекли по щекам тети Кати. Она не вытирала их и не улыбалась. Ее мягкий певучий голос переменился и уже не ласково, а сурово звучали ее слова: — Из-за этого германца брат у меня в танке сгорел. И мужа убили они, проклятые. Она стояла неподвижная, большая и скорбная. В руках держала гребешок и косынку. Пышные черные волосы распались и закрыли белую шею. Дети притихли, и она замолчала. Только слышно было, как на кухоньке хлопотала Галя, позвякивая алюминиевой ложкой по крышке чугунка. Через минуту в наступившей тишине раздался звонкий голос Гали: — Готово, тетя Катя. Принимайте. Галя вошла в комнату, обхватив двумя руками обернутый тряпками чугунок, над которым клубился пар. Тетя Катя очнулась, подхватила чугунок и поставила на край стола. Вытерла лицо платком, улыбнулась детям и прежним своим ласковым певучим голосом сказала: — Берите-ка ложки, ребятки, подвигайтесь поближе. Ой как вкусно пахнет! Правда, Галя? — Ага. Вот половник, наливайте. Все уселись за стол и принялись за еду. Тетя Катя сидела между Шурой и Алешкой, а Галя одна у края стояла, где стоял чугунок. Необыкновенный вкус супа запомнился Алексею на всю жизнь... Через несколько дней тетя Катя и Галя собирали осиротевших детей в детский дом. Но в самый разгар сборов в комнату ворвалась маленькая женщина с острым лисьим лицом и прищуренными глазками, растолкала всех и с причитаниями бросилась к детям. Это была Ольга — старшая сестра мамы, которая раньше всего раза два навещала своих родственников. Шура и Алешка помнили тетю и обрадовались, что она приехала. Тетя Катя тоже знала Ольгу. Ольга привезла бидон молока и буханку черного хлеба. Она по-хозяйски сняла с себя платок и жакет, повесила на гвоздик, оглядела комнату придирчивым взглядом. — Вещи-то Зинкины не растащили? — строго спросила она у тети Кати. — Все здесь, что было. Вон в чемодане и в узле. Тетя Катя взглянула на Ольгу строго, но без обиды. Ольга налила детям по кружке молока, положила каждому по большому куску хлеба. — Тебе, Катерина, спасибо, что детям помогла. И вам тоже, не знаю, как вас зовут. — Галя, — сказала девушка. — И вам, Галя, спасибо. Ольга уселась на табуретке, по-мужски крепко расставив ноги. Сказала женщинам твердо, будто читала постановление суда. — Детишек я забираю к себе домой со всем их барахлом, что в наследство досталось. Будут жить у меня, не пропадут. Зина была моя сестра, и я заменю ее детям мать. Алешка с сестренкой стали жить у тети Ольги. Привезла она их в свой желтый бревенчатый домик, поставленный в степи у самого переезда через железнодорожную ветку, которая тянулась от главной магистрали к большому заводу, дымящему вдали своими красными трубами. Муж Ольги — Матвей Семенов — служил обходчиком, занимал казенную усадьбу с колодцем и земельным участком. Был у них свой огород, сад, корова, коза, пара свиней, куры, гуси да злая собака, привязанная на цепи. Тетка Ольга сразу стала приучать детей к делу. Шуру заставляла кормить птицу, носить пойло свиньям, пасти корову, топить печь и варить обед. А между этими делами Шура должна была копать грядки на огороде, полоть. Вскоре маленькая девчушка превратилась в работницу, понукаемую на каждом шагу. Алешку тоже приспособили к делу. Посылали за водой, гнали задавать корм свиньям и корове, даже если на дворе была пурга или бушевали осенние ветры с холодным дождем. Дети работали, как батраки, а тетка с утра уезжала в заводской поселок, увозила на базар бидоны с молоком, яйца, огурцы, капусту, редиску, лук — словом, все, что выпадало по сезону. Дома жили скупо, ели один раз в день, и то не досыта. Одно только счастье было у Алешки: он любил провожать поезда... Однажды Алешке даже посчастливилось побывать в паровозной будке и проехать с машинистом и кочегаром до самого завода. Других радостей не было ни у Алешки, ни у Шуры. Так они прожили у тетки Ольги лет пять. Алешка заметно подрос, а Шура стала совсем взрослой, самостоятельной. Как-то летним вечером дети вышли в степь за коровой и сговорились о побеге. Шура сказала брату, что ночью уйдет из дому, устроится на работу и потом вернется за Алешкой. Он не должен ничего говорить про это ни тетке Ольге, ни дядьке Матвею. Ночью Шура исчезла. Она пошла на завод и постунила в ремесленное училище. Одна одинокая женщина — уборщица общежития — приютила девочку у себя в комнатушке и разрешила ей привезти братишку. Шура взяла на подмогу двух ребят из училища, поехала за Алешкой и увезла его с собой. Теперь Алексею стало полегче. Никто его не бил, не заставлял делать тяжелую работу. Он пошел в школу, стал учиться. Но все-таки жизнь была несладкой. Сестренкиной стипендии ни на что не хватало, а постоянно одалживать у хозяйки Клавдии Степановны было совестно. Шуре давали в училище трехразовое бесплатное питание. Она каждый раз брала с собой в столовую братишку, и они вдвоем съедали ее порцию. Клавдии Степановны почти никогда не было дома. Днем она убирала в общежитии, а в свободное время уходила то в один, то в другой дом либо постирать, либо побелить, натереть полы или еще что-нибудь сделать. Беспрерывно работала, даже по воскресеньям и в праздники. И никогда не жаловалась на жизнь. Только если случалось ей выпить рюмочку (а это бывало редко, по большим праздникам), она вспоминала прошлое — про мужа и про детей, про их гибель в войну. Плакала и проклинала немцев. Алешка жалел Клавдию Степановну и тоже ненавидел немцев. Прошло еще два года. Шура окончила ремесленное училище, перешла работать в цех фрезеровщицей, получала приличную зарплату. Купила Алексею грубошерстный серый костюмчик и ботинки. Теперь они ходили обедать в другую, заводскую столовую, брали не одну, а две порции, наедались досыта. К зиме Шуре дали в старом доме освободившуюся комнатку. С утра Шура уходила на завод, а Алеша — в школу. Из школы он шел в магазин за продуктами, дома варил суп, лапшу или картошку. Все он успевал: мыть полы, стирать, штопать, чистить кастрюли. Только не хватало ему времени на самое главное: на детство. Новая соседка по квартире смотрела на него и сочувственно качала головой: — Мальчики вы мои, мальчики. Не было у вас никакой радости. Прыгнули вы сразу из люльки да прямо во взрослую жизнь. Старички мои милые. Алешка чувствовал, что в словах этой доброй женщины большая правда. — И все война виновата, — говорила соседка. — Если бы ее не было, как бы мы хорошо жили. По ночам Алешка тоже думал о войне, о немцах, которых все проклинают. Злые, жестокие, напали они на нас, разорили все и ушли, побитые, восвояси. Жили бы в своей Германии, кто их звал? Если бы не они, были бы у него отец и мама. И у Кольки Леонова был бы отец, и у Славки Винокурова, и у Женьки Долгопятова, и у всех ребят в их классе. Однажды в воскресенье, когда брат и сестра были дома, к ним постучался и вошел высокий мужчина с короткими седыми волосами и глубоким шрамом на правой щеке. Он с большим волнением и растерянностью смотрел на детей, стараясь признать их, тяжелой поступью пошел к столу. — Господи! — сказал он, опускаясь на стул и не сводя глаз с Шуры и Алеши. — Это же вы. Как есть. вы. Вот ты, Шурочка, и такая большая. А с тобой, Алеша, мы никогда не видались. Ты на маму похож, я тебя сразу узнал. Он замолчал, словно задохнулся от одышки. Лицо его стало бледным, покрылось холодным потом... Он улыбался детям и робко протягивал руку то к одной, то к другой головке. Шура с недоумением смотрела на незнакомого человека, и теперь, когда он заговорил и улыбнулся, она припомнила его и закричала: — Папа! Папочка! Отец обнял детей. Слезы мешали ему говорить. Наконец он сказал: — Это я, детки. Ваш отец. Я все знаю про маму, мне рассказали. С этого дня Алексею открылась еще одна тайна жизни. Воскресший из мертвых отец потом много раз вспоминал о своих злоключениях и странствиях по белому свету. Он рассказывал детям, как, тяжело раненный, попал в плен, как жил в каторжном лагере в Германии и работал на подземном заводе и как немецкий рабочий Франц Мюллер помог ему бежать в Чехословакию, в партизанский отряд, где он продолжал воевать с фашистами до самых последних дней войны. Но несчастия отца на этом не кончились. Слишком долгим и тяжким оказался его путь домой.
Теперь им жить стало лучше. Отец поступил механиком в авторемонтную мастерскую. По вечерам сидел дома, разбирал чертежи автомобильных моторов, копался в журналах. Алексей часто ходил к отцу в мастерские, смотрел, как механики ставят автомобили на яму, подлезают под их брюхо, все ощупывают и осматривают. И так полюбил все это Алешка, что уже и не мечтал о другой профессии. Он поступил в ремесленное училище, в котором несколько лет назад училась Шура, а когда кончил его и стал фрезеровщиком, попросился на работу к отцу в авторемонтные мастерские. Шура вышла замуж за Костю Николаева, который работал на электроподстанции техником. Раньше Костя жил в общежитии, а теперь переехал к Шуре. Семья прибавилась еще на одного человека. Алексею не только нравилось чинить машины, но и очень хотелось научиться самому управлять автомобилем. И в течение одного лета он постиг нехитрое искусство водителя, получил права. Работал Алексей в одном цехе с отцом и замечал, что отцу-старику тяжело. Часто он возвращался домой усталый, брал газету и затихал в своем кресле. И только один раз после тяжелой одышки с грустью сказал Алешке: — Устал я, Алексей. Сердце сдает, и голова кружится. Били меня там, в Германии, и травили газами в подземелье. Завод был химический, кругом вонь и отрава. А били по голове, сволочи. Будь проклята эта Германия... «Интересно, что скажет отец, когда узнает, что меня послали служить в Германию?» — подумал Алексей, засыпая на полке вагона, которая мягко и плавно покачивалась. Проснулся он ночью, поезд стоял, слышались мужские голоса за окном. В вагоне все спали. Он подошел к окну и при свете, падающем от одинокого фонаря, взглянул на часы. Было без четверти два. Он вышел из купе, нашел проводника. — Почему стоим? — Германская граница. — А там что блестит? Река? — Одер. По одну сторону Польша, по другую ГДР. Сейчас будем в городе Франкфурте. Спал бы. — Да нет уж, не спится. Алексей вернулся в купе, встал у окна, вглядываясь в огни. С полки раздался голос Бондарчука: — Германия? — Да, — сказал Алексей. — Река Одер. Бондарчук поднялся с постели. С верхней полки спустился Иванеев, а вслед за ним — Серегин. Все четверо молча прильнули к окну. «Вот она, Германия, — подумал Алексей. — Какая же она теперь? И какие они, немцы, в новой демократической республике?» Поезд плавно тронулся с места, медленно покатился по рельсам, осторожно пошел по мосту, под которым синеватым лунным светом тускло поблескивал Одер. Потом справа и слева сомкнулась темнота, изредка разрываемая пучками желтого света придорожных фонарей. С каждой минутой количество надвигающихся огней становилось все больше, и, наконец, из мрака выплыл большой остров обжитой земли, ярко освещенной огнями. Это был город Франкфурт-на-Одере. Поезд остановился у освещенной платформы. В ночное время здесь совсем не было пассажиров. Прямо напротив окна, из которого смотрел Алексей со своими товарищами, на перроне стоял немецкий солдат с автоматом: пограничник из войск Германской Демократической Республики. Его взгляд встретился со взглядом Алексея и задержался на нем. Алексей и немецкий солдат смотрели друг другу в лицо. И Алексей при виде немецкого солдата совсем не испытывал к нему ни вражды, ни ненависти. — Справный солдат, — сказал Бондарчук над ухом Алексея. — Одет честь честью, выправка — дай бог, и автомат при нем. — Интересно, — затянулся папиросой Иванеев. — Наш ровесник. Небось его отец у Гитлера служил, а может, твоего или моего батьку убил. Вот ситуация, братцы. — Чего вспоминать? — поправил Иванеева Бондарчук. — За отцов они не отвечают, сами строят свою жизнь по-новому. Разве они виноваты? — А может, и виноваты, — сказал Алексей, продолжая смотреть в окно. — Может, и они о жизни думают так, как думали их отцы. Алексей все стоял у окна и вглядывался в немецких солдат, которых теперь уже было трое, и все они были молодые, подтянутые, ладные. — Сколько лет прошло после войны. Эти, пожалуй, и не помнят ее, — сказал Бондарчук. — Учитывать надо, новое поколение выросло. Но Алексей не торопился соглашаться с Бондарчуком, молчал. Теперь он увидал, как все три немецких солдата приветливо подняли руки, сдержанно, как и положено солдатам, заулыбались и вдруг стали отдаляться вместе с перроном. Это тронулся поезд, и ночной город с разбросанными огнями постепенно стал уплывать в темноту. К месту назначения эшелон прибыл утром, когда едва занимался рассвет. Новое пополнение разместили в больших каменных казармах в военном городке, огороженном зеленым забором, в старом сосновом лесу. С этого дня начиналась для Алексея настоящая армейская служба. В солдатской жизни есть своя особая романтика. Строгий распорядок дня и твердый режим держат каждого в состоянии здорового беспокойства и постоянной бодрости. Только непосвященному и неопытному наблюдателю кажется, что все солдаты одинаковы, поскольку вся их жизнь подчинена одному военному укладу. На самом же деле сколько солдат, столько и характеров, темпераментов, умов. Солдаты — удивительный народ. Каждый из них уподобляется скульптору, ваяющему самого себя под зорким водительством своего учителя — командира. Всякая трудность, поставленная перед солдатом, возбуждает в нем прилив силы, закаляет ум и характер, приносит тот реальный опыт борьбы, который необходим каждому, кто идет к большим целям жизни. Алексей Куприянов с первых дней стал известным человеком в гарнизоне. Эта известность едва не стоила ему жизни. Знакомясь с гарнизоном и его достопримечательностями, Алексей и Юра Иванеев обнаружили прекрасный летний бассейн для плавания. — Вот здорово! — сказал Юрка. — Купнемся? Алексей признался товарищу, что не умеет плавать. Жил он в таком месте, где не было ни настоящей речки, ни озера, вот и не научился. Юрка с серьезным видом сказал товарищу: — Учти, Лешка, это серьезный пробел в твоей жизни. Немедленно раздевайся и ликвидируй отсталость, я тебе помогу. Сам он уже разделся. — С одного разу не получится, — сказал Алексей. — Ты хоть попробуй. Окунись и на солнышке погрейся. Давай, не трусь. Алексей разделся и в одних трусах подошел к краю бассейна. Юрка уже прыгнул в воду и с удовольствием плескался в воде. — Прыгай! — кричал он Алексею. — С этого края, тут совсем мелко. Но для Алексея даже самая мелкая глубина была опасна. Держась за перила лесенки, он окунул ноги по колени в воду, немного поплескался и поднялся наверх. Здесь он улегся на бетонную плиту, нагретую солнцем, и задремал. Юрка Иванеев, освеженный купанием и довольный собой, вылез из бассейна, стал одеваться. — Пошли на стадион, — позвал он товарища. — Я полежу, — сказал Алексей. — Иди один. Иванеев ушел, а Алексей, пригревшись на солнышке, уснул. Тем временем мимо бассейна проходили солдаты второго года службы и увидели задремавшего товарища. Взяли парня за ноги и за руки, и, несмотря на его протесты и крик, раскачали и бросили в воду. Сами же разбежались и исчезли за казармой. Очутившись таким образом в бассейне, Алексей отчаянно барахтался в воде, пытался кричать о помощи, но тут же захлебывался, наглотался воды и стал тонуть. На его счастье, оказалось, что за этой сценой невольно наблюдал один солдат, который смотрел в это время в окно с третьего этажа, где находилась ленинская комната. Увидев тонущего человека, он стремительно с криком побежал вниз. Алексея вытащили из бассейна, положили на ту самую теплую бетонную плиту, где он загорал, и стали откачивать. В несколько минут у бассейна собралось много народу. Откачивали Алексея минут десять. Когда он открыл глаза и увидел целую толпу солдат, ему стало не по себе, но уже не от удушья, а от конфуза. Спасший Алексея солдат был коренастый крепыш Борис Матвеев, отслуживший в армии уже два года. Он каждый день приходил к Алексею в госпиталь, справлялся о здоровье и даже принес лимон к чаю. Хотя Алексей и без лимона чувствовал себя превосходно, он принял подарок с благодарностью. После всей этой истории ребята крепко подружились. Оказалось, что Матвеев был превосходным художником, оформлял клубные помещения, писал картины, рисовал плакаты и наглядные пособия. В свободное время Алексей ходил к Борису в большую клубную комнату с высоким окном, которую называли мастерской художника, наблюдал за работой товарища, иногда помогал сколачивать подрамники, мыть кисти. День у Алексея был предельно уплотнен. Кроме обычных дел, предусмотренных расписанием, он ежедневно ходил в крытый бассейн, учился плавать. После конфузной истории, прославившей его на весь гарнизон, он дал себе слово научиться плавать по-настоящему и теперь очень увлекся этим видом спорта. Жизнь солдата не замыкалась границами зеленого гарнизонного забора. Кроме классных занятий приходилось нести караульную службу, выезжать на учения. Иногда получали увольнительную. Ходили осматривать город, знакомились с жизнью населения. Первый раз Алексею показалось очень странным находиться на улице чужого города, среди чужих людей, говорящих на непонятном ему языке. Еще более усиливалось это чувство, когда он думал о том, что находится среди немцев, к которым теперь приглядывался с более обостренным вниманием. Каждый раз, когда Алексей думал о том, что находится в Германии, он невольно вспоминал того пленного, которому Шура дала хлеба. Когда заходил в магазин, в парикмахерскую, в трамвай, немцы любезно улыбались, в их обращении всегда чувствовалось дружелюбие. Алексею хотелось поговорить с кем-нибудь из них по душам, узнать, что они думают о жизни. Первый такой разговор состоялся как-то осенью на полевой дороге у свекловичного поля. Был дождливый, туманный день. Продрогшие и намокшие солдаты возвращались из леса с учений. Видимость была плохая, машина шла медленно и вдруг совсем остановилась. — В чем дело? — крикнул Бондарчук шоферу. — Почему остановились? Шофер заглушил мотор и спрыгнул на землю. Впереди поперек дороги стоял небольшой трактор с длинной четырехколесной платформой на прицепе. Правое заднее колесо платформы сползло в кювет, и, сколько ни пыхтел тракторишко, никак ему не удавалось сдвинуть с места тяжелый груз. Колеса прицепа месили мокрую жидкую грязь и еще глубже сползали по скользкому наклону. У платформы, нагруженной крупной сахарной свеклой, похожей на снаряды, стояли несколько женщин и тракторист, и соображали, как выбраться из беды. Бондарчук, Иванеев, Алексей и несколько других солдат вместе с шофером Игнатовым подошли в немцам: — Авария? — спросил Игнатов. Тракторист объяснил, что случилось, хотя и без объяснений все было ясно. Женщины обступили солдат, весело заговорили, стали шутить. Бойчее всех смеялась белокурая девушка в синей куртке и темных брюках. Подойдя к сползшему в кювет колесу платформы, она закричала солдатам: — Давай-давай! Помогай, ну! Эти русские слова, энергично и с акцентом произнесенные немкой, рассмешили солдат. Ребята живо обступили сзади платформу, навалились, подпирая ее руками и плечами. Как только тракторист завел свою машину и включил скорость, солдаты дружно уперлись и, подражая голосу молодой немки, закричали: — Давай-давай! Давай-давай! Солдатские сапоги топтались в жидкой грязи, сползали в лужу, снова карабкались на скользкий глинистый подъем кювета. Немки бросились на подмогу, вместе с солдатами подталкивали платформу, кричали «давай-давай!». Молоденькая девушка в синей куртке оказалась рядом с Алексеем. Упираясь рукой в борт платформы, она своим острым плечиком прижалась к Алексею. Платформа сдвинулась с места, медленно пошла на подъем и через минуту выкатилась на асфальтированную часть дороги. Теперь проезд был свободен. Но солдаты не торопились уезжать, им не хотелось так сразу расстаться с немецким трактористом и его спутницами. — Спасибо, камраден, — пожимал руку тракторист всем солдатам по очереди. — Хороший русский «давай-давай!». Все может. Солдаты закурили, дали сигарету трактористу, предложили женщинам, но те отказались. Не обращая внимания на неприятный мелкий дождик, который моросил уже второй день и всем надоел смертельно, и солдаты и немцы продолжали стоять на дороге, как будто специально собрались сюда для неторопливой дружеской беседы. Так как многие солдаты умели кое-как изъясняться по-немецки, а немцы в свою очередь тоже знали некоторое количество ходовых русских слов, беседа шла оживленно, и обе стороны понимали друг друга. Из разговора Алексей понял, что эти люди — члены сельскохозяйственного кооператива, организованного два года назад. Свеклу они везут с кооперативного поля, которое вот здесь, у края дороги. В этом году они вырастили богатый урожай, никогда столько не родилось свеклы на этой земле. Убирают свеклу в Германии не так, как в России. Ранней осенью ее складывают в бурты прямо на поле, а поле перепахивают плугом. Потом пускают на перепаханное поле овец, которые поедают вывернутые плугом корешки оставшейся свеклы, а также сорняки и таким образом очищают почву и пользуются дополнительным подножным кормом. Сложенная в бурты свекла может лежать в поле до поздней осени, так как морозов здесь не бывает. И вот теперь пришел черед возить свеклу на сахарный завод. — Хорошо в кооперативе? — спросил Игнатов тракториста. Длиннолицый, с круглыми маленькими глазками тракторист перестал улыбаться и, как на важном собрании, очень серьезно и почти торжественно ответил: — Кооператив — это хорошо. Всем хорошо. Когда стали прощаться, женщины подходили к каждому солдату, пожимали руки. Девушка в синей куртке все время смеялась, ее голосок был приятен, звенел и переливался. Алексей с охотой взял ее протянутую руку и крепко пожал. Девушка вскрикнула, отдернула руку и помахала кистью в воздухе, будто обожглась. — Ой-ой! — поморщилась она от боли, но не рассердилась, а в отместку схватила двумя своими руками руку Алексея и стала сильно сжимать. Прикосновение ее мягких и теплых ладоней было приятно Алексею. Ему совсем не было больно от ее пожатия, он покорно держал свою руку. — Эй, Куприянов! — крикнул Игнатов из машины. — Поехали, не задерживай. Девушка опустила его руку. Положив свою ладонь себе на грудь, она сказала: — Ева. Ева. Он понял и повторил: — Ева. И, уходя к машине, сказал ей: — Алексей. Понятно? Алексей. — Алекс? — переспросила Ева и помахала на прощание рукой. — Ауфвидерзеен, Алекс! Леб воль! Этой ночью Алексей долго не мог уснуть, все думал о встрече на дороге. — А ведь они разные бывают, немцы. Эти совсем похожи на наших колхозников. Он вспоминал тракториста с маленькими веселыми глазами, который говорил, что теперь всем лучше живется. Земля своя; кто хорошо работает, тот все имеет. Вспоминал бойкую девушку Еву в синей курточке и темных брюках. Ее белокурые пышные волосы были повязаны тонким платочком, совсем как у русской девушки. Голубые глаза озорно подсмеивались, дружелюбно поглядывали на Алексея. «Алекс? — говорила Ева и махала рукой. — До свидания, Алекс! Леб воль!» «Что такое «леб воль»? — думал Алексей. — Надо спросить у ребят, кто-нибудь знает». Шли дни и месяцы, шла солдатская служба. Алексей все больше узнавал страну, где служил, ее людей, ее обычаи. Как ни ясна была ему обстановка, каждый день приносил новые открытия. Однажды в свободный день, когда солдатам дали увольнительную в город, Борис Матвеев пригласил Алексея пойти купить красок для клуба. Матвеев, служивший третий год в Германии, научился говорить по-немецки и мог изъясняться без переводчика. Продавщица красок, пожилая женщина, приветливо встретила их и живо заговорила с Матвеевым, как со старым знакомым. — Я теперь знаю, на что ты употребляешь мои краски, — сказала она Матвееву, называя солдата на «ты», как своего сына. — Я была на концерте у вас в Доме офицера и видела много картин на стенах. Это ты писал? Матвеев подтвердил, что это его работа. — Очень хорошие картины, — с подъемом сказала немка. — Все добрые и веселые люди на твоих картинах. Ты сам добрый человек. Я очень хочу показать тебе картину моего сына. Ты художник и должен сказать, может ли мой сын стать майстером. Она приоткрыла дверцу за своей спиной и крикнула в другую комнатку: — Отти! В дверях появился мальчик лет десяти с напомаженными волосами и бантом на шее. На нем была черная курточка с блестящими медными пуговицами и зелеными нашивками в виде дубовых листьев. Он вежливо поклонился солдатам: — Гутен таг! Мать взяла из рук мальчика небольшую картину и торжественно, почти величаво поставила ее перед солдатами на полу против окна. На небольшом холсте, натянутом на подрамнике, масляными красками была написана несколько наивная, по-детски упрощенная картина. Люди в белых фартуках строили дом из красных кирпичей и над новой кровлей укрепляли венок из зеленых ветвей. Внизу стояла надпись: «Мы строим мир». Мальчик смущенно потупился и ждал приговора. Немка раскраснелась от возбуждения. — Что ты скажешь? — нетерпеливо спросила она Матвеева. — Замечательно, — с искренним одобрением похвалил Матвеев, обращаясь к мальчику. — Ты будешь настоящим художником, мастером. — Ты слышишь, Отти, — сказала немка сыну. — Он говорит, ты будешь майстер. Ему очень понравилась твоя картина. Немка погладила сына по голове и с благодарностью посмотрела на Матвеева. — А твой товарищ тоже художник? — спросила она про Алексея. — Нет, — ответил ей Алексей. — Я не художник, но люблю живопись. Мне тоже понравилась работа вашего сына. Очень удачный сюжет и выполнение хорошее. Ему надо учиться. — О, да! — всплеснула руками мать. — Он будет учиться, один профессор будет его учить. Благодарю вас. Может быть, вам что-нибудь нужно? — Спасибо, — поблагодарил Матвеев. — Я хочу показать моему другу ваш город. Вы не скажете, как ближе пройти к старому замку? — К старому замку? — повторила немка. — Мой Отти все покажет. И замок, и весь город. Он будет ваш гид, пожалуйста. Она тут же сказала сыну по-немецки, чтобы он проводил солдат. Мальчик охотно взялся за это поручение. Отто оказался общительным и разговорчивым мальчуганом. Он все знал о своем городе, охотно рассказывал солдатам и показывал все, что было интересным. При осмотре старинного княжеского замка они встретили нескольких школьников, которые поздоровались с солдатами за руку и охотно присоединились к ним. Вскоре к группе подошли еще несколько мальчиков, а к концу путешествия их набралось более десятка. Каждый из них норовил идти рядом с солдатами, пытался держаться за руку Матвеева или Алексея. Все наперебой старались подробно и исчерпывающе отвечать на вопросы, щедро делились всем запасом своих сведений и знаний. Алексей внимательно приглядывался к ребятишкам. Ему понравилась их живость и общительность, а к концу путешествия он почувствовал искреннюю доверчивость и привязанность ребятишек. На прощание Борис и Алексей зашли со своими юными спутниками в сад, уселись за столики и попросили лимонаду. Хозяин поставил несколько бутылок, принес стаканы и стал в стороне, с удовольствием наблюдая, как советские солдаты угощают немецких мальчишек. Ребята проводили солдат до самого военного городка, и каждый из них на прощание торжественно пожал руки солдатам. «Хорошие ребятишки, — думал о них Алексей и вспомнил таких же детей со своей улицы. — Вот если бы, к примеру, свести их вместе, и наших и этих, что было бы? Мир, как сказал Отто? Если дети выбирают для своих картин сюжеты о мире, значит, их так воспитывают. Это тоже новая Германия?» Так размышлял Алексей и все больше чувствовал, что там, за зеленым забором военного городка, у него и у всех советских солдат есть много друзей. Как-то в воскресенье, сидя в казарме, Алексей перебирал письма отца, который часто писал ему из дому, подробно рассказывая обо всем. В этих письмах отец несколько раз вспоминал о своем пребывании в плену и о каторжных работах на немецком подземном заводе. В одном письме он даже написал название городка, близ которого пленники жили в казармах. Алексей вспомнил, как отец дома не раз подробно рассказывал о бегстве с немецкой каторги в чешские леса. При этом он всегда вспоминал имя одного немецкого рабочего, который спрятал отца в своем сарае, несколько дней кормил и оберегал от полицейских ищеек. Рискуя жизнью, этот человек однажды ночью проводил отца Алексея через поле в лесную сторожку и передал двум другим людям, которые вместе с отцом бежали к чешской границе. Потом они влились в чешский партизанский отряд и воевали против фашистов до конца войны. Теперь отец написал Алексею название городка, где он был на каторжных работах, а также сообщил, что Франц Мюллер жил тогда на окраине городка Л. на Кайзерштрассе. «Интересно было бы повидаться с этим Францем Мюллером, — подумал Алексей. — Что это за человек и как он теперь живет? Но разве найдешь его? Такие случаи бывают только в книжках да в кино». И Алексей был совершенно уверен, что возможность встречи с Францем Мюллером абсолютно исключена. Но однажды он разговорился со своим командиром старшим лейтенантом Даниловым, рассказал ему об отце и даже прочел последнее письмо, полученное из дому. — Чудеса, — сказал старший лейтенант. — Ей-богу, правда. Ну как в романе, что ли. Если бы не письмо, ни за что бы не поверил тебе, Куприянов, сказал бы, что все это выдумки. Алексей с недоумением пожал плечами: — Какие же выдумки, товарищ старший лейтенант? И при чем тут чудеса? — Да при том, что городок Л., где действительно была каторга и где сейчас действует большой химический завод, находится совсем рядом с нами. Всего двенадцать километров отсюда. — Не может быть! — оторопел Алексей. Старший лейтенант достал карту и показал Алексею маленькую, едва заметную надпись с названием городка Л. — В первое же воскресенье, — сказал Алексею старший лейтенант, — получишь увольнение и поезжай посмотри. Может, найдешь и Кайзерштрассе. Вообще посмотришь, в каких местах томился твой батька. Старший лейтенант Данилов подробно рассказал Алексею, как проехать в город Л., и предложил ему свой велосипед. В воскресенье Алексей отправился в путь. Дорога в этом месте была не очень оживленная, и он с большой скоростью ехал по накатанному асфальту. Велосипед шел легко и плавно. Солдат проехал мимо пруда, оставил позади лес и покатил вдоль большого поля, у которого прошлой осенью встретил крестьян, вывозивших свеклу на тракторном прицепе. Вот здесь, в этом кювете, застрял прицеп. А тут вот стояла белокурая Ева и махала ему рукой на прощание. Проехал перекресток, сделал поворот, еще развернулся влево и въехал в деревню. Как обычно в воскресный день, на улице никого не было. Только две женщины переходили дорогу, а у красного кирпичного забора парень заводил мотоцикл. Солдат быстро ехал по узкой улице, развернулся на площади и, увидав дорожный знак, указывающий, куда надо ехать в городок Л., свернул в этом направлении и прибавил скорость. При выезде из деревни дорога спускалась под уклон и пролегала мимо рощи. Когда солдат миновал рощу, он увидел на краю поля девушку. Она несколько секунд стояла неподвижно, смотрела на солдата и улыбалась. Потом рванулась с места, побежала к дороге и закричала: — Алекс! Алекс! Алексей посмотрел на девушку и узнал ее. Это была Ева. «Вот так встреча!» — подумал Алексей, притормозил велосипед и остановился. Ева поздоровалась с ним за руку и спросила, куда он едет. И когда он объяснил ей, что ему нужно в городок Л. на Кайзерштрассе, девушка сказала, что хочет поехать с ним вместе. Они покатили вдвоем на одном велосипеде. В городке Л. они долго искали Кайзерштрассе. Наконец одна старая женщина объяснила им, что такой улицы уже давно нет и что после войны она называется Фрайгайтштрассе. Алексей спросил, не знает ли она случайно Франца Мюллера. — Яволь, — сказала старая женщина и объяснила, как пройти к дому Мюллера. Когда советский солдат и немецкая девушка появились во дворе дома Мюллера, хозяин посмотрел на них с удивлением и настороженно. — Вы Франц Мюллер? — спросил Алексей хозяина дома, рослого немца с бритым лицом, с ввалившимися от старости морщинистыми щеками. Немец с достоинством встал перед солдатом, поправил очки, еще раз взглянул по очереди на Алексея и Еву. — Чем могу служить? Я есть Франц Мюллер. Алексей улыбнулся старому немцу. Он вынул из кармана записную книжку, достал фотографию своего отца и протянул немцу. — Вы знаете этого человека? Немец протер очки и долго смотрел на фотографию. Он закрывал глаза, снова открывал их, приглядывался и так и сяк, кажется, что-то вспоминал. Потом опустился на скамью, отложил фотографию, снял очки и с грустью сказал: — Я видел этого человека давно, еще во время войны. Он работал у нас на заводе, как раб, и я помогал ему бежать из плена. Он был хороший человек. Он погиб? — спросил немец у Алексея. — Нет, — сказал Алексей. — Он жив и шлет вам привет. Это мой отец. — Ты — сын этого человека? — спросил немец, поднимаясь со скамьи и глядя на солдата совсем по-другому, уже без настороженности, с любовью и нежностью. — Ты есть сын этого русского? — Да. Я сын этого человека. Немец растерянно затоптался на месте, глаза его заблестели от слез, он крикнул на весь двор: — Фрида! Карл! Луиза! Все сюда! Идите все сюда! Из дому выскочила его жена Фрида и двое молодых людей, видимо сын и дочь. Сын был в форме ефрейтора Народной армии Германской Демократической Республики. — Смотрите на этого солдата, — сказал немец в возбуждении. — Он есть сын того русского пленного, которого мы спасли. — Бог мой! — всплеснула руками Фрида Мюллер. — Какие чудеса бывают на свете! Заходите же к нам в дом, пожалуйста. Алексей долго рассказывал Мюллеру и его семье о своем отце, о сестре и о себе. Отец теперь на пенсии, живет хорошо. Вот будет рад, когда Алексей напишет ему о встрече с Мюллером. Ведь он всегда вспоминал Мюллера добрым словом. — А я еще не сдаюсь, — сказал Мюллер и весело засмеялся. — Не пошел на пенсию, продолжаю работать. Десять лет подряд меня выбирают в правление профсоюза. Теперь у нас на заводе совсем новые порядки, мы сами стали хозяевами, посмотрел бы твой отец, как переменилась Германия. — А где те люди, которые мучили моего отца и таких, как он? — спросил Алексей, в упор глядя на Франца Мюллера. Мюллер махнул рукой и присвистнул: — Э, друг мой! Те люди в могиле или на Западе. Мы выметали их отсюда крепкой метлой. Когда поедешь домой, скажешь своему отцу, пусть не сомневается в Мюллере. Таких, как Франц Мюллер, много в Германии. Мой сын Карл такой, моя дочь Луиза такая, мои товарищи по работе такие, и мои соседи такие. На прощание Франц Мюллер передал Алексею семейную фотографию и сделал дарственную надпись. — Пошли это твоему отцу и передай большой привет от Франца Мюллера. Если опять кто захочет воевать, мой сын Карл вместе с тобой будет защищать Советский Союз, нашу ГДР и социализм. И старый Франц еще покажет свою силу. Он бравым жестом ударил себя в грудь и засмеялся. Карл крепко пожал руку Алексею и сказал доверчиво, как своему человеку: — Мой папа — старый романтик. Но то, что он говорит, — чистая правда. На обратном пути Алексей и Ева молчали. Расстались они на том же месте, где и встретились. — У тебя есть отец? — спросил Алексей Еву. Девушка отрицательно покачала головой. — Найн. Война, капут. — А мать? — Ее все знают. Она организовала кооперативную пекарню. Леб воль, Алекс! Ева пожала ему руку и сошла с дороги. — Приходи к нам в клуб на праздник, — сказал Алексей девушке. — Будут танцы и музыка. Она тряхнула белокурыми волосами, весело засмеялась и помахала рукой на прощание. Кончался второй год службы Алексея Куприянова в Группе советских войск в Германии. Теперь уже он сам и его товарищи чувствовали себя старожилами гарнизона и ветеранами полка. Напряжение в армии возрастало и усиливалось. Алексей и его друзья все больше и больше ощущали пропасть между Восточной и Западной Германией. Две Германии, два совершенно разных мира. Один — это Мюллер, его дети, Ева и все люди, занятые мирным трудом, вся демократическая Германия. И совсем другой мир был там, на Западе. Оттуда в любой момент можно ожидать очередной провокации реваншистов. Полк все чаще поднимали по тревоге, отменили увольнения в город, все держалось в предельной боевой готовности. В дождь и стужу солдатам приходилось сидеть в поле и в лесу, не смыкая глаз ни днем ни ночью. Каждый час приносил новые тревоги и заботы, на политзанятиях офицеры объясняли сложность обстановки в Германии и во всем мире. Когда же возник кризис в Карибском море, у всех нервы напряглись до предела, все ждали чрезвычайных событий, которые могли разразиться в любую минуту. Радио и газеты приносили тревожные сообщения о Кубе. На границах ГДР и в Берлине усилились провокации. За каменной стеной, воздвигнутой для защиты демократической части города от западных налетчиков, продолжалась подозрительная возня. То тут, то там фашисты устраивали подкопы, взрывали бомбы, стреляли среди белого дня, убивали солдат Народной армии Германской Демократической Республики. В свободные минуты Алексей писал письма на родину. Это была единственная возможность поговорить с родными. Как-то он получил сразу три письма. Сестра прислала фотографию сына, который родился три месяца назад. Вот он какой, Алексеев племянник, шустрый, веселый, похожий на Шуру. Товарищ писал Алексею о том, что поступил в вечерний техникум и теперь будет работать и учиться. Самое большое письмо было от отца. Он подробно описывал свою жизнь, хвалил зятя, восхищался внуком, сообщал, что они получили новуюотдельную квартиру из двух комнат. «Город наш стал красивым, живем мы в достатке. Не было бы только войны, ну ее к бесу. Я благодарю тебя, сынок, что ты нашел Франца Мюллера и передал ему от меня привет. Я рад, что и он сам, и его дети остались живы и строят новую социалистическую Германию. Значит, наша борьба, пролитая нами кровь и пережитые страдания принесли хорошие плоды...» Алексей дал товарищам прочитать письмо от отца и показал фотографию племянника. Солдаты молча сидели рядом, вспоминали Родину, думали о будущем. Добрыми глазами разглядывали фотографию малыша, бойкого карапуза с круглыми налитыми щечками и надутыми губами. Мальчик задорно смотрел на мир прищуренными любопытными глазками. — Удивительное дело, — сказал Алексей, разглядывая фотографию племянника. — У меня какая-то нежность ко всем детишкам, будто они мои. Иногда мне кажется, что я тот самый солдат, что стоит на памятнике, в одной руке держит меч, а в другой малого ребенка. — Такая наша солдатская жизнь, — ответил Бондарчук. — На то и живем, чтобы защищать малых детей и всех добрых людей. Алексей закрыл глаза и несколько минут сидел неподвижно. И опять ему вспомнилась вся его жизнь — от раннего детства, когда он с сестренкой Шурой ходил на развалины завода, где погибла мать, и до этой вот минуты. Как много воды утекло с тех пор, как далеко унесла его судьба... И ему было приятно чувствовать себя недремлющим часовым мирного дня, стражем великой свободы и счастья всех честных людей.
СОЛДАТСКАЯ НЕВЕСТА

Солдат Антон Никиткин был широкогрудым приметным парнем — с озорными глазами, добрым улыбчивым лицом. Казалось, от него всегда излучалась веселость, как излучается тепло от горячего свеженачищенного самовара. Подвижной и непоседливый, он всегда находил себе какое-нибудь дельное занятие даже в свободное время. Многие молодые солдаты запомнили Антона Никиткина с тех пор, как они, еще новобранцы, погрузились в Бузулуке в теплушки, чтобы ехать неизвестно куда. Деревенских парней на станции никто не провожал, так как они приехали на сборный пункт из далеких сел, и новобранцы с завистью смотрели на Антона, которого провожала стройная, тоненькая девушка в красном платьице. Когда поезд тронулся, Антон обнял девушку, трижды поцеловал в губы и вскочил в вагон. Ребята, сгрудившиеся у дверей, с завистью посмотрели на Антона. Он, словно угадав их мысли, проговорил, глядя на удаляющуюся девушку: — За семь километров приехала, чтобы проводить. Это не фунт изюму!.. Город остался позади, и Антон, притихший, задумчивый, отошел от перекладины в двери и остановился рядом с парнем — черноволосым, смуглым, который, сидя на дощатой скамейке, растягивал гармонь, выжимая из нее грустную мелодию. — Чего стонешь? — вдруг весело спросил у него Антон и захохотал непонятно почему. — Плясовую! Русскую! Парень заиграл русскую, и Антон пустился в пляс, да так лихо, что его тотчас же окружили новобранцы и начали дружно прихлопывать в ладоши. Потом Антон попросил у парня гармонь и стал играть сам. Играл он вроде нехотя, пальцы его, казалось, по своей воле метались по клавишам. С застывшим в глазах удивлением, с чистой улыбкой прислушивался он к музыке. Ребята тоже слушали. Вечером допоздна Антон рассказывал всякие истории: про любовь, про путешествия, про жизнь в дальних странах. — Откуда ты столько набрался? — спросил кто-то у Антона. Тот самодовольно ответил: — Я, брат, все знаю. Я три года киномехаником состоял... По пути в часть, которая, как потом оказалось, находилась в Ленинграде, Антон Никиткин проявил много талантов. Он сумел сесть на ходу в поезд с двумя ведрами кипятку и не пролить ни капли, а во время остановки купил на три рубля у торговок столько еды, сколько другой не купит и на пятнадцать. Словом, Антон удивил и очаровал всех без исключения новобранцев и стал, как говорится, душой коллектива. С первых дней службы Никиткин понял, что жизнь солдатская — дело нелегкое, и стал держаться поближе к старослужащим, чтобы перенимать у них житейскую мудрость. Но, как иногда бывает, веселый нрав Антона, его непоседливость, шутливую болтливость некоторые старослужащие восприняли как несерьезность и добродушно посмеивались над ним. Мол, поглядим, какой ты на деле окажешься. А солдат Зубрилин, мускулистый, высокий парень с остроносым угрюмым лицом и глубоко сидящими серыми глазами, во всеуслышание заявил: — Для ансамбля песни и пляски такой, может, подошел бы. А для службы — кишка тонка... Именно этот самый Зубрилин, на удивление всей роте, вскоре стал первым дружком Антона. И началась у них дружба, казалось бы, с пустякового случая. Как-то вечером Антон увидел Зубрилина в ленинской комнате. Тот сидел за столом и грустно смотрел на свои карманные часы, которые славились на всю роту точностью хода. Потом приложил их к уху, встряхнул, опять приложил и, безнадежно махнув рукой, сунул в карман. — Не идут? — спросил Антон. — Давай починю! — Видели таких мастеров, — сердито буркнул Зубрилин. — Это тебе не телега. — Да покажи-ка, не испорчу, — настаивал Антон. Зубрилин неохотно протянул часы. Антон открыл крышку, сел ближе к свету, долго рассматривал механизм. Потом достал из бумажника бритвенное лезвие, острым уголком тронул какой-то винтик и, покрутив заводной ключ, плотно закрыл крышку. Не глядя на часы, небрежно протянул их Зубрилину: — Возьми! Зубрилин приложил часы к уху и с недоумением посмотрел на Антона. Часы шли... И если бы эти часы могли не только отсчитывать время, но и измерять теплоту человеческих чувств, они бы показали, что в душе хмурого, неприветливого Зубрилина родилось дружелюбие и доверие к Антону Никиткину. Впрочем, командир отделения сержант Стамеска, человек опытный и практичный, заметил дружбу между двумя солдатами и направил ее на пользу службы. В дозор, в разведку или в наряд на кухню — везде он старался посылать рядовых Никиткина и Зубрилина в паре. Это не очень нравилось другим солдатам, ибо каждый был не прочь и на занятиях, и в наряде быть вместе с веселым и покладистым Антоном. Но законом жизни в армии является приказ командира, поэтому все было так, как приказывал командир. Шло время, постепенно стиралась грань между старослужащими и молодыми солдатами. Антон Никиткин уже знал солдатское ремесло не хуже своего дружка Зубрилина, и никто этому не удивлялся. Но все были крайне поражены, когда однажды в воскресенье, получив увольнительную, Антон заявил товарищам, которые тоже увольнялись в город, что он должен поездить сегодня по Ленинграду один, без свидетелей. Даже Зубрилина отказался взять в компанию. — Ясное дело: с девушкой познакомился! — Боится, чтобы не отбили. — Да и совестно перед товарищами, что Вареньку свою позабыл, — высказывали солдаты разные предположения. А Антон, плутовато поводя глазами, тихо посмеивался и суконкой тщательно натирал сапоги... В казарму Никиткин возвратился вечером. Солдаты еще не спали и занимались своими делами. Он весь сиял от удовольствия. — Вот красота, ребята! Сказка! Антон вынул из кармана и рассыпал на столе пачку цветных открыток с видами Ленинграда. — Смотрите! Вот! Когда солдаты посмотрели открытки, Антон роздал сделанные по заказу друзей покупки: одному — мундштук, второму — новые погоны, третьему — гуталин. — А себе что купил? — сердито спросил Зубрилин, показывая на пакет, положенный Антоном на тумбочку. Он все еще не мог простить Антону, что тот без него уехал в город. — Это не себе, — ответил Антон, блаженно улыбаясь, как делают люди, когда вспоминают что-нибудь очень приятное и дорогое. — Это я... Ладно, так и быть. Только не ржать. Это невесте подарок. Отец мне к Новому году деньжат прислал, я их приберег и вот... Вареньке купил кое-что. Поэтому один и ездил. — Поэтому? — обрадовался Зубрилин. И, не спрашивая Антона, развернул сверток. В нем оказались пестрая косынка, красивая сумочка, расческа и пудреница с круглым зеркальцем. Солдаты загалдели: — Хитер, мужик! — Знает, бес, что девчатам нравится! — Гляди, чтоб с носом тебя не оставила. Письмо давно получил? Этот брошенный кем-то вопрос заставил Антона нахмуриться. Действительно, последние месяцы письма от Вари приходили все реже и реже, да и куцые какие-то, неживые. — Есть тебе письмо, Никиткин! — выкрикнул от дверей дневальный. Антон быстро отобрал у ребят купленные вещи, завернул их в бумагу и, сунув в тумбочку, побежал к дневальному. Письмо оказалось от младшего братишки, семиклассника Петьки. Как всегда, нетерпеливо Антон разорвал конверт и стал читать. И вдруг прочитал такое, что кровь отхлынула от лица, стало трудно дышать. — Что-нибудь неприятное? — встревоженно спросил Зубрилин, следивший за Антоном. — Да... нет, — ответил Антон. — Братишка вот пишет... Ничего особенного... Он быстро вышел из казармы и вернулся лишь незадолго до отбоя. Ночью, лежа в постели, ворочался с боку на бок, вздыхал. Сон не приходил. Перед глазами стояли слова из письма Петьки. Казалось, они приплясывали и подмаргивали, строили Антону рожи, переливались огненно-красными бликами. «А на Варьку ты не надейся, — писал Петька, — она уже всем объявила, что выходит замуж за нашего нового киномеханика Ноздрева...» Плохо спал в эту ночь и Зубрилин, который понял, что у дружка случилась беда. Словно кто подменил Антона Никиткина с тех пор. Он стал задумчивым, рассеянным, куда девалась его неудержимая веселость. Песен больше не пел, ссылаясь на то, что простудил горло, а когда его спрашивали, почему не пляшет, говорил, что натер ногу. Веселых рассказов и шуток от него больше не слышали, на вопросы товарищей отвечал уклончиво. — Что это твоя Варя давно не пишет? — спросил его как-то Зубрилин при всех товарищах во время чистки оружия. Солдаты притихли и ждали ответа. Антон молчал, продолжая протирать ствол автомата, а когда молчать стало неудобно, равнодушно сказал: — Не пишет — и не надо. Другая напишет, мало ли девчат на белом свете. Он деланно улыбнулся и даже засмеялся каким-то деревянным смехом. И всем стало ясно, что Антон Никиткин, хотя и мастер на все руки, врать и притворяться не умеет. — Перед товарищами душой кривишь? — сердито спросил у него Зубрилин. Антон молчал. Ему казалось, что, если товарищи узнают о его горе, станет еще тяжелее. Да и стыдно было. Как могла Варя изменить такому парню, как он?! Хотел позабыть ее, но разве сердцу прикажешь? Еще острее и глубже почувствовал, как сильно и горячо любит девушку. А нужно было ненавидеть, презирать. Может, киномеханик Ноздрев действительно такой человек, что Антон Никиткин ему и в подметки не годится? А Зубрилин и товарищи ждали ответа от Антона. И его прорвало, вырвалась наружу накипевшая в груди боль... Пока он рассказывал, в комнату для чистки оружия вошли солдаты из других отделений. Но Антон уже не мог, да и не хотел останавливаться и продолжал свой рассказ до конца. Глядя на задумчивые лица друзей, он вдруг почувствовал огромное облегчение, будто вся ноша, которую он раньше нес один, легла теперь на плечи всех, узнавших о его горе. — Да, брат Антон, — сказал ему Зубрилин, — трудное у тебя положение. Ударили тебя ножом в спину, и так, что не сразу опомнишься. — А ты все же напиши ей, — посоветовал пулеметчик Морозов, розовощекий веснушчатый крепыш, который славился в роте тем, что очень любил писать письма. — Пристыдить ее надо. Этак, глядя на нее, то же сделает и другая. А там и третья туда же подастся, и получится подрыв морального солдатского духа. — Может, всесоюзную конференцию девчат созвать? — пошутил кто-то. Эта шутка неожиданно развеселила Антона, и уже до самого отбоя звучал в казарме его веселый смех. Казалось, рядовой Никиткин снова стал самим собой. Но кто знает, может, это только так казалось со стороны. ...И вот нежданно-негаданно Антон Никиткин появился в своем родном селе: приехал в десятидневный отпуск. Дома его встретили, как всегда встречают дорогих гостей. Мать не знала, куда посадить Антошу, чем накормить. Отец степенно расспрашивал о службе, рассказывал о сельских новостях. Петька неотступно вертелся возле брата, примерял его фуражку, интересовался, из какого оружия приходилось Антону стрелять. О Варе никто даже не заговорил, будто ее и не было. Только поздно вечером, когда все легли спать, Петька забрался к брату в горницу и тихо спросил: — Ты спишь, Антоша? — Нет, иди сюда! — отозвался Антон. Петька подошел к нему и таинственно зашептал: — А Варя-то так и не вышла замуж. — Что? — Антон схватил Петьку за руку и вскочил с кровати. — Что ты сказал? — Обманула она Ноздрева. Пошли в загс, а Варька отказалась расписываться. И знаешь почему? Секретарь сельсовета, дружок твой Виктор Балагуша, спросил у нее: «Антону, значит, отставка!» А она как сдурела: заплакала вдруг и убежала. А Ноздрев драку с Виктором затеял. Насилу разняли. Ноздрев жалобу на Виктора подал. — Ты не врешь, Петька?! — горячо спросил Антон. — Чем же все кончилось? — А тем, что жених в другой район от сраму утек. А Варя как была, так и есть, сама по себе осталась, потому, как говорят в селе, тебя любит. Антон встал, оделся, вышел на улицу и всю ночь бродил по огородам и садам. Сам не зная зачем, он дважды подходил к дому Вари и, остановившись под деревьями, долго смотрел на темные окна. Домой вернулся на рассвете и долго еще не мог уснуть. А днем, когда остался в доме наедине с матерью, стыдливо спросил, правда ли, что рассказал про Варю Петька. — Ох, Антоша, Антоша! — вздохнула мать. — Все правда. Да только ты плюнь на нее. Стоит ли она тебя, бесстыжая? Я сама видела, как ходила Варвара в обнимку с Ноздревым по улицам. Разум Антона соглашался со словами матери. Но сердце... Что с сердцем поделаешь? Хотелось нечаянно встретиться с Варенькой. Он не знал, как поступит: может, гордо пройдет и не взглянет на нее, а может... Но Варя не показывалась ни в клубе, ни на улице, а расспрашивать о ней не позволяло уязвленное мужское достоинство. Жалко, уехал в область на краткосрочные курсы дружок Виктор Балагуша. А дни шли. Вот и отпуску конец. Антон начал собираться в обратный путь. Перекладывая в чемодане свои вещи, он наткнулся на сверток, привезенный из Ленинграда. Это были подарки, некогда купленные им для Вари. В сердце вспыхнула острая, жгучая боль. И Антон понял, что ему нельзя уезжать, не повидавшись с Варей, не объяснившись с ней. Сумочку, расческу, косынку и пудреницу он любовно завернул в газету и вышел из дому. Как вести себя с Варей, что говорить ей? Как встретит она его? И почему в коленях такая противная слабость?.. С замирающим сердцем зашел в знакомый двор и, замедляя шаг, направился в дом. В сенях столкнулся с Вариной матерью, Ксенией Васильевной. Узнав Антона, она запричитала: — Батюшки мои, кто пришел! Заходи, Антошенька, будь гостем. А я-то думала: забыл ты дорогу в наш двор. — Варя дома? — срывающимся голосом спросил Антон. В ответ, к великому удивлению Антона, Ксения Васильевна расплакалась. Сквозь слезы рассказывала она, что Варя, узнав о его приезде, сбежала к тетке в соседнее село. — Прости ты ее, дуру!.. Завлек девку Ноздрев танцами да песнями. Сам красивый, уважительный, а я, старая тетеря, не разобралась и начала подбивать Варьку, чтоб замуж выходила. Ведь и сам ты виноват, Антошенька. Все шуточками да смешками. Читала я твои письма, в них же ни слова про то, что ты намерен делать после службы. А женихи нынче на улице не валяются... Антон поднялся со стула и, скрывая свое волнение, официально сказал, подавая сверток: — Я, Ксения Васильевна, сегодня вечером уезжаю. Прошу вас, передайте Варе. Это я раньше для нее покупал, следовательно, ей и положено отдать. — Она ж тебя так любит, так любит!.. Иссохла вся. — Не знаю, Ксения Васильевна. А только я не давал ей повода сомневаться в моей верности. Ей же я верить не могу... Возвратившись в часть, Антон оживленно рассказывал в роте про дом, про колхоз, но ни слова не проронил о Варе. Товарищам стало ясно, что сердечные дела Антона плохи. После ужина Зубрилин, выбрав подходящую минуту, спросил Антона: — Значит, вышла Варя замуж? Антон вздохнул, помолчал и махнул рукой: — Не вышла, но и мне не нужна, раз вертела хвостом, с другими погуливала... Но этим не завершилась печальная история Антоновой любви. Через два дня после его возвращения в часть Зубрилин пробегал мимо контрольно-пропускного пункта — спешил в библиотеку. Стояла дождливая погода. Было видно, как за воротами кипела под частыми каплями дождя мостовая, то и дело мелькали фигуры под черными зонтиками, в мокрых плащах и шляпах с обвисшими полями. Вдруг из открытой двери контрольно-пропускного пункта вышел помощник дежурного, широкоплечий, чернобровый сержант, а следом за ним — девушка, стройная, высокая в прозрачном дождевике. Ее смуглое красивое лицо с узким прорезом глаз под широкими бровями казалось уставшим, измученным. В руках — чемодан. Зубрилин замедлил шаг, с любопытством глядя на девушку. — Товарищ рядовой, — вдруг обратился к нему помощник дежурного по контрольно-пропускному пункту. — Вызовите из второй рядового Никиткина... — Антона Никиткина, — подсказала девушка. — Точно, Антона Никиткина. Пусть мчит в комнату посетителей. Вот гостья к нему! — и сержант лукаво улыбнулся. Зубрилин странно захлопал глазами, забормотал что-то несвязное и вдруг со всех ног побежал в роту. ...И вот Антон Никиткин, обескураженный загадочной улыбкой своего дружка Зубрилина, открыл дверь комнаты посетителей. Посреди комнаты увидел... Варю. Испуганная, настороженная, но такая же красивая и бесконечно близкая, родная. Шагнул навстречу, не зная, что сказать, что подумать, а она вдруг кинулась к нему, уткнулась лицом в его грудь и обвила руками шею. Он почувствовал, как содрогаются от рыданий ее плечи. — Я приехала просить прощения и сказать тебе, что люблю только тебя. Одного тебя! На всю жизнь! — горячо шептала девушка. — Прости, милый... Не можешь простить?.. Не можешь, я знаю. Антон молчал. Казалось, сердце его окаменело. Но почему к горлу подкатился предательский комок? Почему слезы душат его?.. Антон молчал. — Я уехала из деревни, — говорила Варя. — Еду на Север по путевке комсомола. И завезла тебе твои подарки. Зачем они мне, если ты меня не любишь? А Антон все молчал. «Что делать тебе, солдат, как поступить?» — билась в голове мучительная мысль. И вдруг он тяжело вздохнул, отстранил девушку от себя, посмотрел в ее переполненные душевной болью глаза и, захлебываясь от нахлынувшего вдруг счастья, прошептал: — Варенька...
ЧТО НУЖНО ДЛЯ ЛЮБВИ

Федор Куделин отслужил в армии положенный срок и вернулся домой. Если строго говорить, у Федора не было никакого дома. Уходил он в армию из общежития, в котором поселился со времен обучения в ремесленном училище. Здесь же поселился и по возвращении. Его приняли на прежнее место токарем депо, отвели койку в четырехместной комнатке, выдали два комплекта постельного белья, ключи от двери и шкафа, прописали в домовой книге. Многие сверстники Федора, с которыми он когда-то работал, разъехались по разным местам. Оставшиеся знакомые удивлялись его возвращению, не понимая, чем прельстила захолустная железнодорожная станция этого умного и полного сил молодого парня. Но загадка разгадалась сразу, когда люди увидели, что Федор в первый же вечер отправился к известной всем местным жителям Варваре Петровне Сычевой, проживающей с дочерью Тамарой в своем собственном доме под красной черепичной крышей. Оказалось, что Федор и Тамара давно любили друг друга, переписывались все эти годы и сговорились пожениться, как только Федор демобилизуется и вернется домой. Варвара Петровна неласково встретила Федора. Подоткнув за пояс подол длинной юбки, она стояла посреди двора и из ведра поила теленка. У ее ног терся вертлявый поросенок, нетерпеливо повизгивая в ожидании своей очереди, и то бросался в сторону, разгонял гусей и уток, то снова налетал на хозяйку, тычась мордой в ее крепкие, монументальные ноги. При виде гостя хозяйка оттолкнула теленка и, размахивая ведром и руками, несколько раз крикнула: — Пошли вон! Пошли отсюда! Вытерла об юбку правую руку, протянула Федору. — Здравствуй, здравствуй, сокол. Ты что же это молчком явился, никакого извещения о прибытии не прислал? Ах, молодежь, молодежь! Ну что из вас будет, когда вырастете большими! — Да я и так большой, — засмеялся Федор. — А что телеграммы не прислал, так не хотел вас беспокоить. — И то правда, — согласилась Варвара Петровна. — И деньги целы остались, и никого от дела не оторвал. Видишь, как мы живем. Минуты свободной не имею, все маюсь, все хлопочу. И как же иначе? Не одна живу, об себе уже не думаю. Да ты проходи в дом. Проходи. Они вошли в комнату, которую Варвара Петровна называла «залой». — А Тамарочка еще не пришла. Она часто задерживается на работе, все старается. На кого же ей надеяться? — Как она у вас, здорова? — спросил Федор и смущенно потупил глаза. — А чего ей сделается? Цветет, как маков цвет. Хозяйка вытерла подолом юбки скрипучий венский стул и подставила гостю. Федор сел. Не выпуская из рук фуражки, скользнул взглядом по сторонам. — Это хорошо. У нас в роте все товарищи на ее фотографию любовались, завидовали мне. Вот, говорят, красавица! Варвара Петровна гордо поджала губы, приняла достойную осанку. — В нашем роду бог никого красотой не обидел. Ну, а ты-то что? Зачем пришел? Высказывай начистоту, пока ее нет. Чай, я ее мать родная. Федор опустил фуражку на колени, стал водить пальцем по клеенке, несколько раз кашлянул. — Вы небось все уже знаете, Варвара Петровна, — тихо сказал он после молчания. — Дело-то известное, таиться нам нечего. — Жениться задумал? — прямо спросила старуха. — Говори, не юли, солдат. — Так точно, задумал, — решительно выпалил Федор и почувствовал, как на лбу выступили капельки пота. Сверкнул своими черными, чуть раскосыми глазами. — Мы с Тамарой давно это решили, еще когда я в армию уходил. В ту пору больно молод был, так отложили до моего возвращения. Вот я и вернулся. Мы и в письмах обо всем сговорились. Он обтер рукавом вспотевший лоб, посмотрел прямо в глаза женщине. — А про меня забыли? — зловеще спросила Варвара Петровна. — Может, я никакого согласия не намерена давать, и все. Я ей родная мать и обязана об ее судьбе подумать. — Я полагал, вам все известно, — мирно сказал Федор, преодолевая смущение. — А кроме того, вы же сами видите, что я пришел поговорить с вами об этом. Как же без вас? Мы не собираемся тайно бежать. Это вот у меня ни матери ни отца нет, и спросить не у кого. А к вам мы с уважением, вы одна у нас. — Ладно, ладно! — перебила его старуха. — Не нужны мне твои сладкие слова, я на них не больно охочая. Ты послушай-ка, что я тебе скажу. — Пожалуйста. Я слушаю, — с готовностью сказал Федор и уселся на скрипучем стуле так, чтобы занять по отношению к старухе, как ему казалось, более почтительную позу. Кажется, так он сидел перед командиром полка, когда его однажды вызывали в штаб. Старуха взяла табуретку и села напротив. — Пока Тамарочки нет, я тебе все и отрапортую. Варвара Петровна служила банщицей при станционной бане, всякого человека считала нечистым и высокомерно относилась ко всем. Она любила порассуждать и ничего в жизни не предпринимала, не обдумавши заранее все как следует. Всех, кто был с ней не согласен, она называла «философами» и бесцеремонно обрывала своим зычным криком. Она расправила платочек, сложила его треугольником, туго завязала под жирным подбородком концы, сузила маленькие черные глазки, уставилась на Федора. Заправляя пальцами под платок спадающие на лоб седеющие волосы, вытерла тыльной стороной ладони мясистые толстые губы, расправила байковую кофту на высокой груди и твердо сказала: — Ты, голубок, виден мне наскозь, как медовая капля. Небось ничего не имеешь, кроме того, что на себе носишь? Федор пожал плечами. — Это конечно. Я был солдатом. — Вот-вот. Я про то и говорю, — еще более сузила свои колючие глазки старуха. Лицо ее стало жадным и злым. — Ты, стало быть, гол как сокол? Федор виновато развел руками: — Где же мне было взять? — Это уж как хочешь, так и рассуждай, — сказала старуха с видом превосходства над собеседником, — а меня выслушай до конца. Я люблю правду. Прямо тебе скажу, пока ты нищий, про мою Тамарочку забудь и думать. Я все понимаю, каждого вижу насквозь. У тебя ни кола ни двора, нечего надеть, негде голову приткнуть, а ты задумал жениться. Стало быть, всякому ясно: на мой дом и на мое хозяйство заришься. — Да что вы такое говорите? — побагровел от обиды Федор. — Я никогда и не думал об этом. — Думал не думал, а теперь знай, что вам своего дома я не отдам и кормить одевать не буду. Ты, брат, сам потрудись, поработай, тогда и узнаешь, как дается парное молочко, свежие яйца да жирная свининка. Погни спину, набей мозоли на руках, тогда и пользуйся. А на чужой каравай рта не разевай. Старуха опустила на стол тяжелые, как гири, кулаки. Разжала пальцы, выставила кверху ладони, хриплым голосом зашипела: — Вот они какие, трудовые мозоли. Видишь? — и поднесла ладони к лицу гостя. Федор с ненавистью смотрел на старуху и с отвращением слушал ее чудовищные слова. — Я ничего не прошу у вас, Варвара Петровна, — стараясь остаться спокойным, сказал Федор. — Мне ничего не нужно. Я только пришел повидаться с Тамарой и объявить вам, что мы женимся. Старуха всплеснула руками и воскликнула: — Смотрите на него, люди добрые! Они ничего не просят, им ничего не нужно! А куда же ты поведешь мою дочь, где приклоните голову, что будете есть? Не прикидывайся дурнем, я понимаю твою политику, вижу весь твой расчет. У Федора нервно подергивались руки. Он готов был перевернуть стол, стулья, весь дом с этой злой, ужасной старухой, которая так грубо оскорбляла его самые лучшие чувства. Как она смела, на каком оснований говорила ему все это? Он в растерянности встал и топтался на месте, не зная, что сказать. «Ноги моей больше не будет в этом доме, — думал он. — На что мне ее поросята и телята. Скорее бы пришла Тамара, а там — будь что будет. Только бы сдержаться, не поругаться со старухой до прихода Тамары. Черт знает что она говорит». Он оправил гимнастерку, придерживая левой рукой фуражку на отлете. Сохраняя спокойствие и выдержку, сказал примирительно: — Я прошу вас, Варвара Петровна, прекратите этот разговор. Вы напрасно волнуетесь, это все ни к чему. Он стоял перед ней высокий и статный, с возбужденным лицом. Черные густые волосы, не успевшие подрасти после недавней стрижки, казалось, тоже ощетинились против старухи. Из широкой груди парня готов был вырваться крик, кулаки невольно сжимались, на скулах играли желваки. Усилием воли Федор сдержал себя и не дал прорваться наружу охватившему его гневу. В эту минуту в нем было что-то такое решительное и страшное, что Варвара Петровна остановилась и сбавила тон. Она отвернулась от гостя, скрестила руки на груди, уперлась ими в край стола. — Эх, люди, люди, — тихо сказала она, — все вы не любите правды. А ее в мешок не запрячешь, в погребе не утаишь. Так-то, друг воинственный, душа горемычная. В эту минуту раздались шаги за окном, потом на крылечке. Хлопнула дверь, и в комнату вбежала запыхавшаяся и раскрасневшаяся Тамара. Прямо с порога бросилась к Федору и, не стесняясь матери, обняла его, закружила по комнате. Варвара Петровна смотрела на молодых, строго качая головой. — Не больно-то висни, дочка. Ветер у вас в голове. Философы. Она сокрушенно махнула рукой и, прихватив ведро, вышла во двор. В эту ночь Федор и Тамара не сомкнули глаз до рассвета. Бродили по саду, спустились к тихой реке, посидели на старом сосновом пне. Поздним вечером, когда на станции все угомонилось и затихло, а Варвара Петровна улеглась спать и погасила свет, они пробрались в старый сарай. От душистого запаха сена, от близости друг к другу кружились головы. Обнявшись, они сидели на сене под самой стрехой и сквозь дырявую крышу сарая смотрели на звезды. Федор рассказал Тамаре все, что говорила ему Варвара Петровна. — Не сердись на маму, Федя, — виновато прошептала Тамара. — У нас же действительно ничего нет. Мы подладимся под нее, угодим ей, она и размякнет. Я знаю ее, она уступчивая, постепенно все нам отдаст. — Я ничего от нее не возьму, — сказал Федор. — Ни за что! Девушка страстно обняла его, прижалась к груди: — Дурной ты мой Федька! Она же мне мать. Разве можно на нее обижаться? Да и потом сам посуди, как мы будем жить без нее: нам даже супу сварить не в чем — ни кастрюльки, ни горшка. — Черт с ними, с ее горшками и кастрюльками! — решительно сказал Федор. — Уходи от матери, снимем угол и будем жить, как нам хочется. — Что ты, Федя? — с испугом сказала девушка. — Как же я могу уйти? Ведь она мне родная мать. — Но что же делать? — спросил он. — Выходит, нам нельзя жениться? Она поцеловала его в щеку. — Не надо быть гордым, Федя. Это она сгоряча так, а потом все обойдется. Пойдем жить к нам. — Нет, — твердо сказал Федор. — Я к ней не пойду. Это не жизнь. Ни за какие деньги. — Ну почему ты такой? — спросила девушка и заплакала. — Как же мы будем? — Не пропадем. Брось все и уходи. Тамара закачала головой и еще пуще расплакалась. — Не могу я так, Федя. Не могу. Он посадил ее на колени, запрокинул лицо, стал целовать. — Ладно тебе, глупенькая. Не пропадем, что-нибудь придумаем. Она обхватила белыми теплыми руками крепкую загорелую шею Федора, прижала его голову к своему сердцу. — Значит, надо нам подождать, Федя, пока устроим свое гнездышко. Знаешь что? Заработаем денег, купим лесу, построим домишко, приобретем мебель, посуду, а потом поженимся. Устроим свадьбу на двадцать человек. Позовем всех, всех. Будет вино, музыка. Федор отстранил ее. Спросил: — Ты серьезно? — Ну да, — кивала она, улыбаясь. — Другого выхода нет. Мы будем стараться, не заметим, как пройдет год-два... — Два года? — с испугом спросил он. — Ты с ума сошла? Она разжала руки, заглянула ему в лицо и спокойно, рассудительно сказала: — Как хочешь, Федя, а другого выхода нет. Я много об этом думала, все годы, как ждала тебя. Моя подружка на почте точно так же поступила. Помнишь Васю Титова, машиниста? Вот они с Катей сначала накопили денег, построили дом, а потом поженились. На рассвете они разошлись. Глядя на слезы Тамары, слушая ее тяжкие вздохи, Федор сдался и решил пойти на все, лишь бы устроилось их счастье. Так и решили: работать, копить деньги любой ценой, построить дом, стать на ноги и только потом пожениться и начать новую жизнь. Может быть, и правду говорит Тамара, что без этого не будет счастья. Наступили тяжелые дни. Бывший солдат Федор Куделин, а ныне токарь высшего разряда, начал странную жизнь, которая томила и угнетала его. Тяжело было на душе, и с каждым днем становилось все тяжелее и тяжелее. Он работал сверхурочно, брался чинить на дому примусы, патефоны, лампы, велосипеды, швейные машины. Не спал, недоедал, не знал отдыха. Редко виделся с Тамарой, и не было ему радости от этих свиданий. — Сколько заработал? — спрашивала она при каждой встрече. — Смотри не пропей и в общежитии не оставляй, а то украдут. С каждым днем Федор становился грустнее, все реже запевал песни, без которых раньше не мог работать. Не балагурил с товарищами, все спешил куда-то и днем и ночью. На сердце становилось холоднее, душа сжималась от тоскливого чувства. Но не работа угнетала Федора. Тяжело было оттого, что цель, во имя которой он так жил, казалась ему неверной, ложной. Было стыдно признаться себе в этом, но он чувствовал, что не выдержит до конца, и тайно искал другого выхода. Дни шли, а денег прибавлялось немного. Тамара работала телеграфисткой, ей редко удавалось остаться сверхурочно или подменить кого-нибудь. Кроме зарплаты, она почти ничего не получала. Федор понимал это и работал жадно. Он иссох, пожелтел, под глазами появились мешки, ныла грудь, от беспрерывного курения душил кашель. Когда считал деньги, становилось до боли стыдно. Но еще стыднее и мучительнее стало, когда Федору предложили заработать денег сразу побольше и побыстрее. Случилось это так. Однажды к нему заявились два дружка, работающие на станционном складе. В комнате никого, кроме Федора, не было, и гости без лишних слов приступили к делу. Младший из приятелей, маленький коренастый парень в старой изорванной тельняшке, достал из кармана бутылку и поставил на стол. Старший, худой и высокий, держал в желтых редких зубах потухшую трубку. — Бросай свой паяльник, — сказал младший Федору. — есть важный разговор. Федор молча взял со стола бутылку, сунул ее в карман младшему. — Пить не буду. Говорите, зачем пришли? Приятели переглянулись. Старший вынул изо рта трубку и сквозь желтые зубы стал цедить слова: — Есть одно дело. Поедешь с нами, в одну ночь заработаешь, сколько в месяц получаешь. И дело чистое, никакого риска. Нужно продать лес. За работу получишь машину тесу. — А откуда у вас лес? Младший хихикнул, а старший зло сказал: — Это тебя не касается. Поедешь? — Нет, — сказал Федор. — В этом деле я вам не товарищ. Федор догадался, что его приглашают сбывать краденый лес, и выпроводил приятелей из дому. Через несколько дней приятели снова пришли с приглашением. Они уверяли, что лес не краденый и дело чистое. Федор и на этот раз решительно отказался. — Зря ломаешься, — сказал старший, на этот раз не выпуская трубку из желтых зубов. — Честное дело предлагаем. Надумаешь, приходи на станцию, там встретимся. Все это время Федор работал с каким-то бешеным остервенением. Чинил примусные горелки, швейные машины, велосипеды, кофейные мельницы. Завалил старым хламом всю комнату, стыдно было перед товарищами, которые старались уходить из дому то в клуб, то в библиотеку, то просто к кому-нибудь в гости. По воскресеньям некогда было показаться на улице, в рабочие дни просиживал за своим самодельным верстаком до поздней ночи. По утрам просыпался рано и до выхода на работу норовил успеть что-нибудь сделать: забежать к заказчику, достать материалу. Как-то вечером к нему зашла Тамара. У нее тоже был измученный, усталый вид. Она, виновато улыбнувшись, развернула узелок, поставила перед ним теплую кастрюльку с борщом. Вкусный запах овощей и мяса сразу наполнил неуютную комнату. Федор злобно отодвинул кастрюльку и, не глядя на Тамару, сказал: — Чтобы этого больше не было. Не нужно мне ваших подачек. Уходи! Перепуганная Тамара заплакала. Взяла кастрюльку в руки, стала в дверях, не зная, что делать. — Я больше не буду, Федя, — умоляюще заговорила она. — Мне самой надоело все, больно смотреть на тебя, вся душа изболелась, и радости никакой нет. Он не повернулся к ней. Тамара постояла в дверях и ушла с кастрюлькой домой, заливаясь горькими слезами. Она чувствовала, что между ней и Федором растет глухая, черная стена. В этот день Федор пошел на станцию с тайным желанием встретиться с приятелями, предлагавшими хороший заработок. Хотелось сразу, одним рывком преодолеть барьер и достичь цели. Он шел и думал о Тамаре, вспоминая всю историю их любви. Встретились они давно, когда ему было восемнадцать, а ей шестнадцать, на спортивном празднике в клубе трудовых резервов. Она выступала с вольными гимнастическими упражнениями. Гибкая как тростинка, стройная, легкая, она, казалось, ходила по воздуху, не касаясь земли. Тогда все аплодировали ей, как знаменитой артистке. С того дня Федор полюбил Тамару и никогда не переставал думать о ней. И она любила его. Сколько парней ходило около нее! Но Тамара ни на кого не обращала внимания, три года ждала Федора. А теперь она даже не ходит на стадион: все ей некогда, работает, ждет не дождется, когда Федор заработает денег, построит дом и женится на ней. А встречаются, будто чужие, некогда в глаза заглянуть, ласковое слово сказать. Да что же это такое? Что за жизнь? «Эх, черт возьми! — думает Федор. — Сколько еще терпеть, тянуть эту лямку?» Думая так, он подошел к станции, вышел на перрон и стал прохаживаться вдоль платформы. Минут десять к нему никто не подходил. Он поглядывал на пивную, откуда могли появиться приятели, смотрел на складские ворота. Федору было невыносимо оставаться здесь на виду у всех. Ему казалось, что все уже знают о его намерениях и с презрением думают о нем. «Какое гадкое дело! — с отвращением думал Федор. — Какую омерзительную жизнь я придумал себе. Зачем она? Плата за любовь?» Внезапно пошел дождь. На душе стало еще муторнее. Федор повернул к вокзалу и хотел было уйти, как услышал гулкий рев паровозного свистка и глухой стук вагонов о рельсы. К перрону подходил пассажирский поезд. Федор остановился, стал смотреть на вагоны. На их станции поезда стоят не более пяти минут. И вдруг чувство зависти и любопытства к людям, едущим в поезде, зашевелилось в душе Федора. Он знал, что среди пассажиров есть много таких, которым можно позавидовать. Это настоящие люди, у которых большие дела, интересная жизнь. Из вагонов высыпали мужчины и женщины и с веселыми криками побежали к ларькам, кубовой, буфетам. Кто-то кричал: «Купите мне два пирожка!», кто-то смеялся. Пестрые одежды мелькали перед глазами, улыбались лица, сверкали любопытством взгляды. Все бегали, суетились, не обращая внимания на дождь и даже радуясь ему. Но вот мимо Федора пробежали двое, от которых он не мог оторвать взгляда. Это были молодой парень и девушка. Он — в синих спортивных брюках, в белой майке и желтых тапочках. Вихрастый чуб развевался над его высоким гладким лбом. На девушке — красное платьице, белые босоножки и голубой бант в копне золотых, как спелая рожь, волос. Взявшись за руки, юноша и девушка с веселым смехом бежали по лужам туда, где виднелась надпись: «Почта и телеграф». Ни девушка, ни парень, казалось, ничем не выделялись среди других, но было в них что-то необыкновенное и прекрасное. Юноша и девушка не успели добежать до вокзала, как колокол ударил два раза. Они остановились, в нерешительности постояли несколько секунд, потом снова засмеялись и побежали обратно к поезду. Загудел паровоз, лазгнули вагоны. Девушка и юноша поравнялись с Федором, который не сводил с них зачарованных глаз. Девушка сунула Федору бумажку и на бегу крикнула: — Пошлите, пожалуйста, эту телеграмму. Там адрес и деньги! Держась за руки, юноша и девушка побежали к вагону, вскочили на подножку и замахали Федору руками. — Там все написано! — крикнула девушка. — Пожалуйста, пошлите! Федор стоял на перроне, потрясенный внезапным видением счастья. Поезд, набирая скорость, уходил вдаль. Юная счастливая пара долго стояла у него перед глазами и куда-то звала. Федор медленно пошел на телеграф. По пути развернул зажатые в кулаке деньги и телеграмму. В телеграмме, адресованной в Москву, было написано: «Решили пожениться. Купили походную палатку на двоих. Поселимся на первом километре целины. Целуем всех. Катя, Анатолий». Федор не мог идти дальше, остановился. Ему показалось, что он словно проснулся или вылез из клетки, в которой было так неудобно сидеть. Случай указывал ему путь к освобождению и счастью. Он сорвался с места и побежал на телеграф. В первом окошке слева увидел лицо Тамары. При виде Федора Тамара забеспокоилась и вопросительно и тревожно посмотрела на него. Федор протянул Тамаре телеграмму и деньги. Счастливо улыбаясь, он смотрел ей в лицо, пока она читала текст. — Чья это телеграмма? — недоуменно спросила Тамара. — Где ты взял? — Это наша, — сказал Федор. — Понимаешь, Тамара? Нам тоже надо сделать так. Они молодцы. — Кто они? — Я тебе все объясню. Отправляй скорее. Да смотри ничего не напутай. А кончишь работу, иди прямо ко мне. Придешь? — Приду! — сказала Тамара, счастливая тем, что увидела Федора таким же веселым и добрым, каким он был в лучшие дни их любви. Федор вышел с вокзала в отличном настроении. Внезапно кто-то позвал его. Он оглянулся и увидел две знакомые фигуры: низкорослого парня в разодранной тельняшке и высокого худого типа с трубкой во рту. Поддерживая друг друга, они, слегка пошатываясь, шли к нему. Федор отмахнулся от них и быстро зашагал домой. Теперь он знал, что нужно для любви. Не деньги, не дом, не сад и не хозяйство — что-то более важное, дорогое, чего он еще не мог назвать, но что уже было в его душе, в его сердце. Ровно через неделю Федор и Тамара с походной палаткой за плечами сели в поезд и уехали на восток, в том направлении, куда каждый день с шумом и грохотом мчались поезда. И даже слезы и причитания Варвары Петровны, упрекавшей дочь и зятя в безрассудстве, не омрачили огромного счастья, которым они запаслись на всю жизнь.
КОМЕНДАНТ ЭМИЛЬ ЯН

Это было теплым весенним вечером. По широкой бетонированной автостраде из Дрездена в юго-западном направлении торопливо бежала темно-коричневая легковая машина, оставляя позади полоски соснового леса, который то взбегал на невысокие зеленые холмы, то спускался в долины и овраги. В машине рядом с молчаливым и флегматичным пожилым шофером Вилли сидел обербургомистр небольшого саксонского городка Розенталь — Конрад Зайдель, сухощавый человек с веселыми, подвижными глазами. Он возвращался домой после двухдневной командировки и был в отличном настроении. Дело в том, что этой поездкой в Дрезден завершилась двухлетняя борьба Зайделя. Наконец ему удалось получить ассигнования на расширение завода сельскохозяйственных машин, на котором он много лет назад, еще в ранней юности, начал свой трудовой путь. В Саксонии каждый город знаменит чем-нибудь особенным, характерным только для него. В одном городе делают фарфор, в другом — ковры, в третьем — гармоники и аккордеоны, в четвертом — детские коляски. Розенталь же завоевал себе славу на поприще пивоварения, и на протяжении трехсот лет его ворота украшал герб, изображающий кружку с пенистым пивом на щите, обрамленном венком из колосьев ячменя. К жителям других городов розентальцы относились высокомерно, так как считали, что в жизни человека пиво занимает важнейшее место, не в пример фарфору, коврам, гармоникам и даже детским коляскам. Лет пятьдесят назад один разбогатевший пивовар по совету своего зятя, инженера, построил здесь завод сельскохозяйственных машин, стал торговать ими сначала в Саксонии, потом на Рейне и в Мекленбурге, а позже — и за границей. Своим рабочим он платил гроши, его же собственные карманы толстели с такой быстротой, с какой не толстеет и гусь, усиленно откармливаемый к рождеству. Завод разрастался быстро, и уже через десяток лет стал новой славой Розенталя. На новых машинах,как раньше на пивных кружках, выделялось разукрашенное витиеватыми желтыми буквами имя этого города. Тщеславный преуспевающий промышленник не забывал ставить свое клеймо на самом видном месте каждой машины, на ящиках, в которые тщательно упаковывалась новая продукция, отправляемая на Рейн, на север Германии, в Польшу, Венгрию, Австрию. Так у пивной кружки появился соперник в образе плуга. Однако никакого столкновения на этой почве не произошло. Пивовары сообразили, что завод им совсем не мешает. Рабочие, получив зарплату на заводе сельскохозяйственных машин, заполняли пивные и в течение нескольких часов перекладывали трудовые денежки из своих карманов в кассы кабатчиков. Хозяин завода, наживая капитал, не мешал богатеть и пивоварам. Они быстро сделались партнерами по разорению простого люда и были единодушны в этом деле. Поддерживая престиж «богатой» нации, толстосумы любили говорить о всеобщем процветании, устраивали благотворительные праздники на рождество, пасху и троицу, приглашая рабочих с детьми и семьями. Богачи лицемерно говорили беднякам: — Что же поделаешь, друзья? Ведь в каждом городе так: богатых немного, а бедняков тысячи. Бедняки недоверчиво и молча слушали богачей и, получив от благодетелей в виде подачки кружку пива, слегка хмелели, забывали свои горести и вместе со всеми пели:
Так было в те времена, когда Конрад Зайдель двенадцатилетним мальчиком пришел на завод и начал работать учеником слесаря. Юность прошла в тяжелом труде, в вечной нужде. Почему же Конрад Зайдель вспомнил об этих временах теперь, будучи обербургомистром города Розенталя, вот уже несколько лет живущего свободной жизнью? Почему он так близко к сердцу принял решение об ассигновании денег на расширение завода, почему вообще так много думает о нем? Может, потому, что сейчас машина бежит медленно по дороге, укачивает и, чтобы не уснуть, Конрад Зайдель вспоминает прошлое? Нет. Все это вспоминает он потому, что спешит поскорее рассказать друзьям о том, что возвращается из Дрездена не с пустыми руками. И еще потому вспоминает он все это, что новая машина, сделанная на новом заводе в ГДР, мчится по той самой автостраде, которую он, Конрад Зайдель, строил вместе с другими заключенными концлагеря, куда нацисты заточили его за «подрывную» деятельность. Он всегда волнуется, когда проезжает по этой дороге. Ему вспоминается молодость, заводские друзья, неугомонный и боевой товарищ Мюллер — вожак заводских коммунистов, митинги, протесты против хозяйничания фашистских молодчиков, схватки, борьба. А потом — арест и одиннадцать лет мучений в гитлеровском концлагере. Одиннадцать лет! Конрад Зайдель вздрогнул и даже замотал головой, будто отгонял от себя тяжелые мысли. Впереди уже мелькали огни, и город, раскинувшийся в долине, был весь виден с этого места. Машина свернула к реке, въехала на новый каменный мост. — Остановись! — сказал Зайдель шоферу. — Я пойду пешком, а ты поезжай в городской комитет и жди меня. Темно-коричневый, низко посаженный автомобиль новой отечественной марки остановился у кювета, где зеленела кромка земли, поросшая травой. Конрад вышел и, глубоко глотнув воздух, остановился на траве. Несколько секунд он смотрел на красный фонарь удаляющейся машины. Вдохнув еще несколько раз свежий воздух, пошел по мосту вдоль гранитного барьера, продолжая смотреть на раскинувшийся перед ним город. На башне старинного собора пробили часы. Одиннадцать ударов. В городе тихо и спокойно. Немцы ложатся спать рано. Остановившись у набережной в том месте, откуда виднелись темные корпуса завода, расположенного метрах в восьмидесяти на другом берегу реки, Зайдель задумался. «С чего же мы теперь начнем? — спросил он самого себя. — Задача нелегкая, как ее выполнить?» Тут он потер лоб, надвинул шляпу на затылок и, улыбаясь самому себе, вспомнил человека, которого в последние пять лет всегда вспоминал в трудные моменты жизни. «А как поступил бы в этом случае капитан Емельянов? А? Товарищ капитан, как бы ты поступил? — допрашивал он себя мысленно, будто сам был одновременно обербургомистром немецкого города Конрадом Зайделем и советским капитаном Емельяновым. — С чего бы ты начал, товарищ капитан?» И в его воображении возникало доброе молодое лицо капитана Советской Армии Сергея Федоровича Емельянова. Это был первый из советских людей, с которым Конрад Зайдель близко познакомился и который навсегда покорил его своей безграничной человеческой добротой. Капитан Емельянов принимал участие в освобождении города Розенталя и был первым его советским комендантом. Его солдаты принесли в город мир, распахнули ворота концентрационных лагерей, выпустили узников, среди которых был и Конрад Зайдель. С советскими войсками в город пришла и новая жизнь. Когда Зайделя впервые вызвали в комендатуру, он шел туда со страхом. Он не мог предположить, чего от него хотят русские, терялся в догадках и, хотя был уверен, что ему, рабочему человеку, нечего бояться советских солдат, все же не мог преодолеть в себе чувство сковывающего волнения. С разных сторон к комендатуре подходили группы солдат, подъезжали грузовые и легковые машины. Во дворе стояли несколько немцев и о чем-то разговаривали с русским офицером, усиленно жестикулируя. Видимо, офицер плохо понимал, что говорят немцы. Зайдель заметил часового у полосатой будки и, преодолев робость, подошел к нему. Часовой по-немецки объяснил Зайделю, куда следует идти, и пропустил его за ворота. Когда Зайдель, все еще робея, отворил дверь в приемную, из кабинета навстречу ему вышел молодой советский капитан с веселым бритым лицом и зоркими глазами. — Заходите, пожалуйста, — сказал он по-немецки и дружелюбно подал руку Зайделю. — Вы Конрад Зайдель? — Яволь! Яволь! — ответил Зайдель и почему-то заулыбался, торопливо пожимая руку капитана, будто боясь, что тот передумает и отпустит ее. — Я Конрад Зайдель. Благодарю за приглашение и готов выслушать вас. Капитан крепко пожал ему руку и, продолжая смотреть в глаза Зайделю, назвал свое имя: — Капитан Емельянов, комендант города. — Очень хорошо. Очень хорошо, — бормотал Зайдель, продолжая доверчиво улыбаться. — Я очень рад. Капитан Емельянов скользнул взглядом по всей фигуре Зайделя, как бы оценивая этого человека, и еще раз посмотрел ему в глаза. — Ну что? — сказал он дружески. — Натерпелись в лагере? Сколько лет сидели? — Одиннадцать, — ответил Конрад. — Одиннадцать лет, две недели и три дня. — За что? — За принадлежность к коммунистам и политическую агитацию на заводе. Когда фашисты пришли к власти, они вместо сельскохозяйственных машин стали делать на нашем заводе минометы. Мы знали, что готовится война, и протестовали. Мы понимали, что фашисты доведут Германию до катастрофы. — Да, да, — серьезно сказал Емельянов и перестал улыбаться. — Значит, вы коммунист? — С тысяча девятьсот двадцать шестого года, — сказал Зайдель. — Никогда не сомневался в нашей правоте. — Что же вы думаете делать теперь? Фашизм разгромлен, и Германия в тяжелых ранах. Теперь дело за вами, надо строить новую жизнь. От сильного волнения Зайдель заерзал в кресле, потом вдруг встал и, крепко сжимая кулаки, твердо сказал: — Я никогда не жалел сил для Германии, для ее рабочих людей. Я готов сделать все, чтобы увидеть мой народ таким же счастливым, как люди вашей страны, товарищ офицер. Решительность и искренний порыв отразились на его лице и, видимо, понравились капитану. Он снова спокойно усадил Зайделя в кресло и, положив свою широкую ладонь на его плечо, тихо сказал: — С сегодняшнего дня вы назначаетесь обербургомистром города. Берите дело в свои руки и стройте новую жизнь. Вы сами видите — дел непочатый край, придется много поработать. Будет трудно, приходите ко мне за помощью в любое время дня и ночи. Надежных товарищей в городе знаете? — Знаю, — кивнул Конрад. — Всех знаю. — Ну вот, вместе с ними и начинайте. Соберите старых, проверенных товарищей, посоветуйтесь и приступайте к работе. Капитан подробно рассказал ему о том, как и что надо делать, на кого опираться, как восстанавливать городское хозяйство, добиться пуска предприятий, чтобы обеспечить население работой и хлебом. На прощание капитан Емельянов встал и протянул Зайделю руку, продолжая улыбаться и глядя в лицо новому обербургомистру. У Зайделя даже слезы выступили, когда офицер крепко пожал его слабую руку. В руке офицера, во всей его фигуре, в улыбке и во взгляде чувствовалась какая-то неотразимая сила, которая непонятным образом переливалась в грудь Зайделя и наполняла его новым чувством решимости совершить доброе, трудное дело. Теперь ему было ясно, что надо делать, чему посвятить свои силы и как бороться за новую Германию. Уже выйдя из комендатуры, бодро шагая по улице и продолжая думать о коменданте, Зайдель вспомнил, что русский офицер говорил с ним по-немецки, как равный с равным, и сердце забилось еще сильнее от радости и благодарности к этому удивительному человеку. Конрад Зайдель в тот же час отправился в ратушу и приступил к выполнению обязанностей обербургомистра и организатора новой, демократической формы самоуправления. Нелегко ему было в те трудные годы. Большинство людей поддерживали новый режим и помогали укреплять органы местной власти. Но никто из них не имел достаточного опыта, и каждое серьезное дело ставило людей в тупик, а порой и в безвыходное положение. Вспоминая то время, Конрад Зайдель думает теперь, что, если бы не советский комендант и его помощники, кто знает, на какой бы долгий срок затянулась организация демократического порядка в городе. В те годы во всех трудных случаях по большим и малым вопросам Конрад Зайдель обращался к капитану Емельянову и всегда получал от него ясный и нужный совет. Капитан любил работать по плану, делать все по порядку, не сваливал вопросы в одну кучу. Выделив главное, подумает, как его осуществить, а потом приступает к делу и, когда закончит одно, берется за другое. Зайдель удивлялся таланту этого человека, учился у него. Жители города, которые за короткий срок полюбили коменданта, были рады, когда он приезжал на завод или на фабрику, а при встречах на улице низко кланялись ему, даже приглашали на семейные праздники, на свадьбы и произносили его фамилию на немецкий лад, называя капитана Емельянова «комендант Эмиль Ян». Комендатура в те дни проводила огромную работу. В городе была быстро восстановлена электростанция, задымились трубы кирпичного завода, а на месте разрушенных цехов завода сельскохозяйственных машин поднялись новые стены. К следующей весне изготовили первую партию новых плугов. Городская больница получила достаточное количество топлива, начали работать школы, железная дорога, почтамт. Постепенно жители города очистили улицы от развалин, убрали мусор, замостили дороги, посадили деревья и цветы в скверах. С каждым месяцем становилось все меньше ворчунов и недовольных; новая жизнь, создаваемая при участии всего населения, начинала нравиться. В городе возникли прогрессивные союзы, организации, объединения, укреплялись ряды Социалистической единой партии. Теперь уже тысячи действовали заодно, и все были связаны единой судьбой. Работая вместе, бок о бок, с советскими друзьями, Конрад Зайдель видел, как быстро меняется жизнь. Заметная перемена происходила и с самим Зайделем, с его товарищами, со всеми людьми. Годы совместной работы с капитаном Емельяновым Зайдель в шутку называл своим университетом, но в этой шутке было много правды. Усердный посев принес богатую жатву. Новая жизнь несла большие перемены городам и селам страны. В Берлине было провозглашено образование Германской Демократической Республики. Все немецкие патриоты, не желающие раскола Германии, горячо поддержали этот шаг, направленный на сохранение мира в Европе и на создание единой независимой миролюбивой Германии. В эти осенние дни в Розентале стало известно, что советская комендатура ликвидируется и вся власть передается немецким органам самоуправления. Зайделю навсегда запомнился тот день, когда капитан Емельянов прощался с немецкими друзьями. Прощальный банкет был устроен в большом старинном зале городской ратуши. Здесь в присутствии многих жителей города — передовых рабочих, партийных и профсоюзных активистов, членов Союза свободной немецкой молодежи, Союза демократических женщин, депутатов городского совета, врачей, учителей, коммунальных работников и почтовиков — сын немецкого рабочего класса, антифашист и борец за новую, демократическую Германию Конрад Зайдель принимал от советского офицера капитана Емельянова эстафету строителя новой свободной жизни. Когда Емельянов поднял бокал и окинул взволнованным взглядом весь зал, Зайдель заметил возбужденный и радостный блеск в глазах русского офицера. Он понял, что капитан был доволен всеми собравшимися и верил в то, что новые люди Германии уверенно пойдут вперед. И эта вера в Зайделя и его товарищей глубоко тронула обербургомистра, на плечи которого ложилась теперь вся ответственность за судьбу города. Среди присутствующих капитан Емельянов увидел много знакомых лиц. С одними он некогда ссорился, прежде чем подружиться, с другими работал дружно с самого начала, кое-кому говорил неприятные слова, кое у кого чему-то научился сам. Но теперь, когда подводились итоги трудной работы, он был доволен. Он поднял руку и, обращаясь взглядом к каждому столу в отдельности, улыбкой приветствовал всех. Все стоя слушали речь капитана. Поблагодарив друзей за братское сотрудничество, он кончил свою речь пожеланием больших успехов в борьбе за новую жизнь для всей Германии. Немцы шумно обступили капитана, горячо жали руки, обнимали, благодарили за все доброе, что сделали им советские люди. Через несколько дней капитан Емельянов уехал в Советский Союз, на родину. Но и после его отъезда память о нем сохранилась в Розентале. Первое время Конраду Зайделю приходилось трудно без капитана. В городском совете и в комитете партии возникали сложные вопросы, голова Конрада разламывалась от раздумий, и поневоле вспоминалось то счастливое время, когда он мог пойти к капитану и просто спросить: — Как это нам сделать, товарищ Эмиль Ян? И Эмиль Ян сразу бы набросал план, рассказал бы, с чего начать, кому поручить, в какой срок и как проверить. Но теперь надо было делать все самому, думать своей головой. И Конрад думал и находил решение. Это было нелегко, но он не отступал. Вот и теперь, опершись на перила моста, Зайдель думает о заводе и видит в своем воображении лицо капитана Емельянова. Он мысленно ставит себя на место Емельянова и решает, какой бы совет дать обербургомистру Конраду Зайделю. «Ты сделай вот что, — говорит он самому себе. — Для начала собери партийный актив, разъясни задачу, потом обсудите мероприятия и наметьте конкретный план. После этого поезжайте на завод, проведите собрание активистов, мобилизуйте рабочих, технических специалистов, особенно молодежь, и действуйте. Понял, товарищ Зайдель? А теперь иди и выполняй. Желаю успеха!» Зайдель пожал правой рукой свою левую руку, улыбнулся этой шутке и пошел к ратуше в городской комитет СЕПГ, где ждали его товарищи по работе... Через пять месяцев завод был полностью переоборудован и готовился к выпуску партии сельскохозяйственных машин, которые были необходимы крестьянам и кооперативным хозяйствам, возникавшим во всех краях республики. Однажды к Конраду Зайделю зашел председатель местного комитета Общества германо-советской дружбы, огромный мужчина в фуражке с высоким околышем, железнодорожник Пауль Шмидт, чтобы обсудить план проведения месячника германо-советской дружбы. По сложившейся традиции в Германской Демократической Республике каждую осень проводились такие месячники. В эти дни в кинотеатрах демонстрировали советские фильмы, на предприятиях, в домах культуры и клубах проводили встречи с гостями из Советского Союза. А гости приезжали разные: рабочие и колхозники, спортсмены и деятели культуры. В дни месячника в любом городке республики можно было встретить советского слесаря, музыканта, ученого, общественного деятеля. Приезжали и в одиночку, и группами, и целыми коллективами. Немцы охотно встречали советских гостей и с радостью рассказывали о своих успехах, интересовались и тем, что происходит в Советском Союзе. Подготовкой к месячнику занимались с особой тщательностью. Это дело поручалось энтузиастам и таким серьезным людям, как Пауль Шмидт, старый рабочий и известный в городе функционер. Войдя в кабинет Зайделя, Пауль Шмидт разделся, закурил сигарету и перед тем, как начать серьезный разговор, сделал несколько замечаний о том, что осень в этом году ранняя и холодная, что их общий знакомый мастер Краммер получил большую квартиру в новом доме. Шмидт не забыл упомянуть и о том, что его старший сын Клаус одолел русский язык и теперь парня не оторвешь от русских книг. Когда в кабинет собрались все вызванные Зайделем сотрудники, Шмидт вынул из портфеля бумагу, развернул ее и официальным тоном начал докладывать о положении на сегодняшний день. — Из Берлина нам сообщают следующее, — сказал Шмидт, надевая очки на свой толстый нос. — На проведение месячника германо-советской дружбы в нашу республику прибыло несколько делегаций из Советского Союза. По плану центрального правления Общества намечается приезд одного из участников делегации в наш город. Нам нужно обсудить, как мы встретим советского гостя. Это сообщение вызвало оживление. Все заговорили сразу, наперебой высказывая различные планы и соображения. Зайдель даже встал с кресла, начал ходить по комнате и, желая что-то сказать, выкрикивал только одно слово: «Прекрасно, прекрасно!» Через несколько минут он немного успокоился, сел к столу, облокотился на правую руку и, не вслушиваясь в разговоры сотрудников, мысленно спросил самого себя: «А как бы поступил капитан?» И, выждав положенное для ответа время, сам себе ответил: «Нужно выделить ответственных людей и самому лично встретить гостя. Потом по порядку показать ему наш город, рассказать обо всех достижениях за последние годы, а в заключение повести на завод сельскохозяйственных машин и приурочить к этому дню выпуск новой продукции. Так ли, товарищ капитан?» Задав этот вопрос, он посмотрел направо, где на стене у его стола висела увеличенная фотография капитана Емельянова, снятого с группой розентальских рабочих, и ему показалось, что капитан своей сияющей улыбкой одобрил решение. — А кто же к нам приедет? — спросил Зайдель у Шмидта. — Точно не пишут, — ответил Шмидт, поправляя очки, — но как будто какой-то специалист по машиностроению. Токарь-скоростник. — Это хорошо, — улыбнулся Зайдель. — Наш, рабочий человек. Значит, я предлагаю действовать так. Зайдель встал с кресла, подошел ближе к собравшимся и четко изложил свой план. К открытию месячника дружбы город был украшен флагами, плакатами, лозунгами и цветами. Синие плакаты с белыми голубями и слова «мир» и «дружба» можно было видеть на каждом доме, на оградах, на барьерах мостов, на щитах и рекламных колоннах. Женщины вырезали голубей из бумаги и приклеивали их на стекла окон своих квартир. Дома и улицы одевались в праздничный наряд. Эти украшения были не только знаками времени, но и самым лаконичным и красноречивым выражением патриотических чувств населения, солидарного со всеми миролюбивыми людьми на земле. В полдень на городской площади для встречи гостя собралась демонстрация. Пришли рабочие, пионеры, синеблузая молодежь. Над колоннами развевались знамена Советского Союза и Германской Демократической Республики. А Конрад Зайдель в волнении ходил по кабинету в ратуше, куда были приглашены активисты и знатные люди города. До двенадцати осталось полчаса, а гость еще не прибыл. Не случилось ли чего-нибудь на пути? Может, сломалась машина? Зайдель вызвал своего шофера Вилли и приказал немедленно ехать навстречу гостю и проводить его прямо к ратуше. Шофер сел в машину и, часто сигналя, чтобы народ расступился, помчался по направлению к Берлинскому шоссе. Свернув на одну из улиц, он увидел толпу людей, окруживших машины с флажками Общества германо-советской дружбы. Это было у здания школы, где когда-то помещалась советская комендатура. Высокий стройный человек в гражданской одежде, со шляпой в руках стоял на каменной лестнице главного входа школы и что-то рассказывал другим мужчинам, по виду немцам, которые слушали его и улыбались. — Кто это? — спросил Вилли. — Делегат из Советского Союза. Вилли подошел к толпе, еще раз окинул взглядом приезжего и тут же бросился к машине, чтобы предупредить Зайделя о том, что гость уже в городе. Когда он влетел по лестнице на второй этаж, где помещался кабинет Зайделя, и доложил о виденном, обербургомистр от досады замахал руками не то на всех присутствующих, не то на самого себя и спустился вниз. И едва он успел появиться на парадном крыльце, как на площади показалась долгожданная машина. С высокой площадки крыльца Зайдель увидел, как многие бросились к человеку, вышедшему из автомобиля, крепко жали руку, а Марта Егерь — председатель Женского союза, бросилась на шею и стала целовать приезжего. Зайдель сбежал с крыльца и тоже стал расталкивать толпу, пробираясь к машине. Наконец Марта отпустила гостя и, увидев Зайделя, крикнула приезжему: — А вот и наш обербургомистр, товарищ Конрад Зайдель. Смотрите! Приезжий не успел оглянуться, как Зайдель узнал его. Он схватил гостя за руки, начал трясти их и, не находя слов, забормотал: — Вот история! Вот история! А мы ждали токаря-скоростника. Товарищ капитан! Товарищ Эмиль Ян! Это был действительно капитан Емельянов. Многие из жителей узнали его и радостно приветствовали одобрительными криками, как доброго старого знакомого. Когда улеглось первое волнение и все поднялись в кабинет обербургомистра, Емельянов, подражая своему прежнему комендантскому тону, в шутку сказал: — Ну, товарищ Зайдель, докладывай, как дела. Все поняли шутку и весело засмеялись. Но Зайдель был так взволнован встречей, что не слышал ни шуток, ни смеха и не знал, куда посадить своего старого друга, все суетился вокруг него. Емельянов тоже был тронут этой встречей. Приехав в Берлин по приглашению Общества германо-советской дружбы и узнав о том, что одному из советских делегатов предстоит поездка в город Розенталь, он с радостью принял это предложение и с волнением отправился в путь. Оглядывая кабинет обербургомистра и увидав знакомую фотографию, которой раньше тут не было, Емельянов был тронут тем, что здесь не забыли его. Он знал, что это внимание относится не столько к нему, бывшему капитану Емельянову, сколько ко всем советским людям, и это радовало его. — Ну что же, пойдемте, — сказал Емельянов с нетерпеливым волнением. — Показывайте, что у вас нового и хорошего, рассказывайте, как живете. Зайдель встал, выражая полную готовность вести гостя куда он захочет. Все другие также направились к двери и последовали за Емельяновым и обербургомистром. — С чего мы начнем, товарищ капитан? — спросил Зайдель Емельянова в машине. — Куда поедем? — Начинай с чего хочешь, но показывай все — и хорошее и плохое, Может, по старой памяти что-нибудь и подскажу. — О, товарищ капитан! Я и теперь советуюсь с вами. Емельянов не понял этих слов. Приглядываясь к городу из окна машины, сказал: — Вот здесь были разрушенные дома. — А мы построили новые. Для рабочих швейной фабрики. — И очень хорошо построили. Красиво! — с одобрением сказал Емельянов. — По проекту профессора Вольфа. Помните? Емельянов помнил этого странного архитектора. Он всегда был чем-то недоволен, ворчал, но когда за что-нибудь брался, то делал хорошо, на совесть. Так было при восстановлении театра и городской больницы. О, Емельянов помнит любопытные встречи и споры с профессором Вольфом. Удивительный старик! — А как театр? — спросил Емельянов, вспомнив, что в тот год, когда он уезжал, ему удалось уговорить профессора приступить к капитальному переустройству театра. — Сейчас увидите сами, — ответил Зайдель, подавая знак шоферу повернуть на театральную площадь. Когда они остановились у театра, Емельянов нетерпеливо вышел из машины и, сняв шляпу, долго смотрел на новое, нарядное здание. Театр был как игрушка, и Зайдель понял по лицу Емельянова, что тому очень нравится и проект профессора и работа мастеров. — Чудесно! — сказал наконец Емельянов и сел в машину. — Прекрасный театр. Зайдель почтительно придержал дверцу машины, потом сел рядом с Емельяновым и участливо спросил: — А как вы живете, товарищ капитан? Емельянов широко улыбнулся своей всегда ясной и счастливой улыбкой и положил руку на колено Зайделю. — Я теперь не капитан, дорогой мой друг Зайдель, — сказал он. — Но живу по-прежнему отлично. Демобилизовался, работаю на ростовском заводе «Сельмаш» токарем. Недавно стал скоростником. Жена здорова, сын богатырь. Вот, посмотри. Он вынул из кармана фотографию и показал ее Зайделю. На снимке Зайдель узнал капитана Емельянова, его жену и сына Сашу. Они не раз приезжали к капитану в Розенталь, и Зайдель хорошо их знал. — О, о! — сказал Зайдель. — Чудесно! — Ну, а теперь продолжай ты, рассказывай, какие успехи, что нового. — Мы действуем, стараемся. Вы помните наш завод? — спросил Зайдель, желая поскорее приступить к главной теме, волнующей его. Емельянов улыбнулся. Глаза его еще более потеплели. — Как не помнить! Это, кажется, твоя любовь? — Да, да, — ответил Зайдель. — Моя первая юношеская любовь. Мы сегодня выпускаем первую партию новых машин. Это, конечно, не то, что у вас, в Россельмаше, но все-таки стоит взглянуть. — Очень интересно! — сказал Емельянов с искренним восторгом. — Поехали! Но и по пути на завод Емельянов то и дело просил остановить машину, чтобы взглянуть на знакомые места. Вот железнодорожный мост через реку, который раньше был весь в заплатах. Теперь он стоял прочно, упершись своими новыми бетонными арками в монолитный серый гранит быков. Как раз в это время по мосту шел поезд, и приятно было смотреть на эту картину. Далее они остановились у здания городской почты. Емельянов помнит, что крыша этого здания была разрушена бомбами, оконные рамы и потолочные перекрытия сгорели, колонны портала обрушились. Предстояла большая и капитальная работа. И вот теперь все завершено. Проезжая мимо городского сада, Емельянов заметил красивую ограду, вдоль которой тянулись ленты цветочных грядок, пламенеющих желто-оранжевыми осенними цветами. От его взора не ускользнул ни подновленный цоколь памятника композитору Шуману, ни новые ворота и трибуны стадиона. На заводе Емельянова встретила большая группа рабочих, среди которых он узнал много знакомых лиц. Директор Ганс Трибе любезно пригласил гостя в свой кабинет, но Емельянов, много раз бывавший в заводоуправлении, отказался от приглашения и вместе с Зайделем направился прямо в цеха. На дворе готовой продукции, где стояли машины под брезентовыми чехлами, Емельянов несколько раз остановился, осматривая сеялку, культиватор, жатку. Похвалил работу мастеров и инженеров и, оживленно разговаривая с ними, направился дальше. Он шел свободно и уверенно, потому что отлично помнил расположение завода. Зайдель чувствовал себя именинником и горделиво шатал за Емельяновым. В механическом цехе Емельянов подошел к молодому токарю, который возился со станком, прилаживая какую-то блестящую деталь. Парень был так увлечен своим делом, что не заметил, как посторонний человек остановился у него за спиной и внимательно следил за его работой. Емельянов узнал молодого рабочего. Это был Рудольф Штольп, или, как его тогда все называли, Рудди, организатор первой комсомольской бригады на заводе. Емельянов с удовольствием смотрел на ловкие и четкие движения Рудольфа до тех пор, пока токарь не заметил толпу, окружившую его, выключил станок, с недоумением оглянулся вокруг и ничего не понимающим взглядом уставился на Емельянова. Этот случай позабавил всех. Когда все вдоволь посмеялись и недоумение разъяснилось, Емельянов крепко пожал руку Рудольфу и попросил у него разрешения продолжать работу у станка и сделать то, что никак не удавалось молодому токарю. Люди обступили Емельянова. Одни с восторгом, а другие со сдержанным недоверием ожидали, когда он включит станок и начнет работать. Надевая поверх костюма предложенный ему синий халат, Емельянов весело окинул взглядом присутствующих, и его глаза встретились с острым, испытующим взглядом старого мастера Карла Гаука, который, как помнит капитан, всегда и ко всему относился с подозрением. И Емельянова обрадовало предчувствие того, что через несколько минут он одержит еще одну победу над этим упрямым стариком. Он уверенно подошел к станку, спокойно включил его и принялся обрабатывать деталь, дав знак Зайделю, чтобы тот засек время. В десятках рук сверкнули часы, и глаза присутствующих стали остро следить то за работой Емельянова, то за бегом часовой стрелки. Деталь, на обработку которой здесь на заводе лучшие мастера тратили более двух часов, была готова ровно через двадцать три минуты! Это произвело сильное впечатление на всех и даже на старого мастера Гаука, который тут же достал микрометр и, измеряя деталь, ни к чему не мог придраться. В заключение он сокрушенно почесал затылок и пожал руку Емельянову, как побежденный боксер пожимает руку своему партнеру-победителю. Рабочие обступили Емельянова, оживленно расспрашивали его и охотно рассказывали о своих делах. Через два дня, когда Емельянов осмотрел весь город, поговорил со многими старыми знакомыми, обербургомистр Конрад Зайдель прощался со своим другом. За городом они покинули машины и километра три шли пешком, все никак не могли расстаться и наговориться. Наконец, взошли на подъем, откуда был виден весь город, раскинувшийся в зеленой долине. Друзья остановились, еще раз посмотрели на долину, на город, с чьей судьбой была связана их судьба, и протянули друг другу руки. — Что же ты мне скажешь на прощание, товарищ Эмиль Ян? — спросил Зайдель, с волнением ожидая оценки своей работы. — О городе и ваших делах? — угадал его мысли Емельянов. Зайдель кивнул: — Да, да, о наших делах. Прежде всего о делах. Емельянов сжал руку Зайделя и, поглядев в его глаза, добро улыбнулся, крепко обнял обербургомистра за плечи, как много лет назад при первой встрече, и так же бодро и одобрительно, как тогда, сказал: — Я очень рад за ваш народ, товарищ обербургомистр. Отлично идут ваши дела. Желаю дальнейших успехов! Они крепко обнялись, долго не отпуская друг друга, и поцеловались на прощание. И пока машина Емельянова уходила вдаль, к синему горизонту, Зайдель все стоял на холме и смотрел вслед, с грустью и радостью думая об этом удивительно сильном и добром человеке.
ВЕРОЧКИНО ЛЕТО

— Ну, вот и закрылся, — сказал Иван Карпович, слегка нажимая коленом на крышку желтого дамского чемодана. — Очень удобная штука: вместительный и нетяжелый. Попробуй! Он легко поднял чемоданчик и протянул его Вере. — Хорошо, папа. Я вижу, какой он легкий. Поставь, пожалуйста, на стул. Не дотронувшись до чемоданчика, Верочка выскочила в прихожую и тут же вернулась с плащом и зонтиком в руках. — Вот я и готова. Всё! Она еще раз оглядела себя в зеркале, поправила поясок на пестром цветном платьице, присела на стул, как бы говоря всем своим видом: «Теперь можно идти на вокзал». — А ты не забыла темные очки? — спросила Верочку полная женщина лет сорока, сидевшая на тахте со скучающим, но терпеливым видом. — Ты все-таки приедешь из Москвы, на тебя будут все смотреть. — Я взяла очки, — ответила Верочка. — А телеграмму отправила? — Отправила. — Ну вот, Верочка, — наставительно сказал отец. — Пожалуйста, не забывай, что ты теперь взрослая и, может быть, это последнее твое вольное лето. В августе к началу занятий в институте вернешься в Москву, и начнется твоя новая жизнь, дочка. Тогда наверняка прощай всякие поездки, а тем более — к бабушке. — Ты уже говорил мне об этом, папа. Мы опоздаем на поезд. Пухлая женщина, мачеха Верочки, с неожиданной для ее комплекции резвостью поднялась с тахты, заулыбалась и, обнимая Верочку, прислонилась губами к щеке. — Счастливого пути тебе, девочка. Будь умницей и не сердись на папу. Он всегда хочет тебе добра. Поцелуй за нас бабушку и передай ей большой, большой привет. Ты вызвал такси, Ваня? — спросила она мужа. — Да, конечно. Идемте. Отец поднял чемоданчик, мачеха взяла из вазы купленные накануне цветы, одобрительно оглядела красивую, легкую и возбужденную Верочку, которая в последний раз остановилась у зеркала и нетерпеливым жестом поправляла прическу. Верочка взяла в руки зонтик, плащ, красную сумочку и первая направилась к выходу. Все трое поехали на вокзал. В этот предвечерний час на улицах было много машин. Они двигались, почти прижимаясь друг к дружке лакированными боками, замедляя ход и задерживаясь у светофоров в ожидании зеленого света. Вырвавшись из одного затора и пробежав несколько кварталов, машины попадали в новую ловушку и снова приостанавливали свой бег перед красными светофорами, как перед неотвратимой судьбой. Иван Карпович был заметно расстроен и говорил с дочерью виноватым и сбивчивым тоном. Напоминал Верочке, чтобы она не открывала на ночь окно в вагоне и не поднимала сама чемодан на третью полку, так как он тяжелый. Раза два сказал ей, что курица лежит в правом углу чемодана в пергаментной бумаге, а лимон положен сверху на полотенце. Говорил еще о чем-то таком же незначительном и пустячном и не мог скрыть своего волнения. А волновался он потому, что ему хотелось сказать дочери совсем другое, что мучило его многие годы и что теперь следовало бы знать Верочке. Отпуская дочь на несколько недель в тот город, где он когда-то провел лучшие годы жизни, где он полюбил и женился, где родилась Верочка, где теперь живет одинокая Верочкина бабушка и где на городском кладбище покоится прах Верочкиной матери, Иван Карпович хотел сказать дочери нечто важное, глубокое и человечное, что необходимо было наконец сказать. Но и теперь он не решался говорить об этом, так как стеснялся своей второй жены, боялся оскорбить ее выражением доброго чувства по отношению к тем людям, которых когда-то любил и продолжал любить и теперь. Иван Карпович на минутку умолк и добрым взглядом смотрел на Верочку. Потом откашлялся, словно прочищая горло, и снова заговорил: — В общем, ты, Верочка, объясни бабушке, что я никак не мог к ней приехать. Ты же сама знаешь, как я занят. Дела в Москве, бесконечные командировки, так и проходит время. Скажи, что я очень хотел приехать, давно собирался, да вот никак не выберусь. Пусть бабушка не обижается на меня, будет посвободнее время, обязательно приеду. Я же знаю, что надо приехать. — Хорошо, папа, я все объясню. Иван Карпович покосился на жену, которая слушал его слова с должным тактом. — А бабушка у тебя оригинальная, — продолжал Иван Карпович спокойным голосом. — Прямая, резкая старуха, но человек доброй души. Ты не обижайся, когда она будет ворчать и выговаривать, это у нее такая манера. В общем, ты повнимательней относись к ней, Верочка. Бабушка любит людей, ты ей понравишься. Поживешь там недельки три-четыре и возвращайся домой. Тебе нужно еще осмотреться, приготовиться к вступлению в новую жизнь. У тебя есть характер, воля, ум. При твоих данных можно пойти далеко. Верно? — Отец с искренним одобрением засмеялся и похлопал ладонью по плечу дочери. — Так ведь, Верунчик? — Не знаю, — пожала плечами Верочка. — Я еще ничего не решила, папа. Думаю, что не пропаду, сумею разобраться в жизни. — Это самое главное — разобраться в жизни, — подхватил отец. — Школу ты закончила успешно и дальше пойдешь не хуже. Верно? — Мы приехали, папа, — сказала Верочка и первая вышла из такси. ...Когда поезд тронулся и, набирая скорость, понесся к югу, Верочка долго стояла у окна, все смотрела на Москву, уходящую в сиреневый сумрак летнего вечера. Москва! Милый, любимый город! Как грустно расставаться с тобой! Верочка вернулась в купе и сразу же легла в постель. Было уже темно, почти все пассажиры спали. Верочка лежала с открытыми глазами и думала о предстоящей встрече с бабушкой, с которой Верочка рассталась, когда была ребенком, и не виделась тринадцать лет, с тех пор как умерла Верочкина мать, Зинаида Васильевна. Давно все это было, и Верочка не может отчетливо вспомнить ни мать, ни бабушку. По рассказам отца она знает, что ее мать умерла во время войны в лесу, в партизанском отряде, где была тяжело ранена в бою с фашистами. Верочка не помнит никаких подробностей тогдашней военной жизни в городке, но из воспоминаний отца знает, что ее мать была врачом и не уехала из города, захваченного врагами, потому что не могла оставить раненых советских людей. Она вылечила раненых, переправила их к партизанам и сама ушла партизанить. Верочка часто думает о матери, и ей всегда кажется, что и она не могла бы поступить иначе. Отец воевал в те дни далеко от родного дома, оборонял Ленинград. Ему всегда казалось, что жена сделала без него какой-то неверный шаг и потому погибла. «Был бы я здесь, все было бы иначе», — говорил он своей теще, когда после войны вернулся в родной город, хотя и понимал, что это ничего не изменило бы в судьбе его жены. Ему очень хотелось верить в возможность спасения жены, и он как бы сердился на кого-то, кто не сумел ее уберечь. С каждым днем ему становилось все тяжелее жить в родном городе, и вскоре он, забрав Верочку, уехал в Москву. Потом он женился на Евгении Петровне и в течение тринадцати лет ни разу не съездил к теще в город, где раньше жил, да и Верочку не отпускал от себя. Только теперь, когда Верочка окончила школу и стала вполне взрослой, Иван Карпович согласился отпустить ее к бабушке. Сам же он покорился новым условиям жизни. И незаметно для самого себя постепенно оказался «под башмаком» второй жены — властной и своенравной женщины. Угрызения совести иногда пробуждались в нем, но ненадолго. Верочка всегда с добрым и теплым чувством думала о бабушке, которая ей одной писала письма. Это были скупые, но ласковые строки, написанные ровным, разборчивым почерком старой учительницы. Часто бабушка находила случай передать для внучки в Москву то банку варенья, то корзиночку свежих фруктов, то теплые шерстяные варежки. — Зачем она все это делает? — говорила каждый раз Евгения Петровна мужу. — Ведь у нас все есть, и Верочка ни в чем не нуждается. Иван Карпович отмахивался: — Не обращай внимания. Обыкновенная старушечья блажь. Но для Верочки бабушкины подарки были драгоценными. Особенно ей запомнились красные варежки с синими узорами, которые связала сама бабушка. Они были такие теплые и мягкие, каких у Верочки никогда не было ни раньше, ни потом. Бабушка писала, что такие же варежки она вязала Верочкиной матери, когда та училась в школе. Вот почему Верочка хранит их до сих пор и порой с нежностью примеряет на руку. Настасья Гавриловна иногда присылала Верочке свои фотографии. На этих снимках она выглядела хорошо, даже удивительно бодро для своих семидесяти двух лет. «Бабушка как бабушка, — думала Вера, глядя на фотографии. — Наверное, хлопотливая, забывчивая, с причудами, даже, может быть, ворчливая». Лежа на полке вагона, Верочка старалась представить себе завтрашнюю встречу. И неожиданно для себя она вдруг поняла, что теперь ее больше волнует не бабушка, а что-то другое, к чему давно стремилась сердцем. Наконец-то она увидит те места, где еще ребенком жила с матерью, узнает подробности ее гибели, увидит своими глазами тот лес, те поля, те улицы, по которым суровой военной порой проходила ее мать — бесстрашная женщина-партизанка. Это желание было таким сильным, что все остальное отходило на второй план. Бабушка должна была помочь разыскать все, что касалось Верочкиной матери. Это было очень важно именно теперь, когда Верочка стояла на пороге новой жизни и серьезно задумывалась о том, чему посвятить свои силы, какую профессию избрать. Пока она, как и все ее подруги, увлекается танцами, спортом, не проявляя особых склонностей ни к чему определенному, но беспокойство о будущем все чаще заставляет ее задумываться и искать, приглядываться, оценивать людей, жизнь, дела. Отец заранее решил, что Верочка должна стать инженером пищевой промышленности. Кто знает, почему он так решил! Верочка не согласилась с этим. Она будет искать свой путь. Кто знает, с чего начнет она! Легко ли решить такую задачу? Жизнь прожить — не поле перейти... Верочка засыпает. К концу второго дня пути поезд подходит к городку, который Верочка внимательно разглядывает из окна вагона. Она стоит в коридоре с чемоданом, тщательно причесанная, в новом синеньком платьице. С нетерпением пробирается в тамбур и ловко спрыгивает на перрон в тот момент, когда поезд едва успел остановиться. Среди людей, подступивших к вагонам, она ищет бабушку. Внимательно вглядывается в толпу, рассматривает каждую женщину. Вот показалась согбенная фигурка в белом платочке, с костылем в руках. Верочка догоняет старушку, всматривается в лицо, улыбается. Старушка вытирает краем платочка влажные глаза. — Обозналась, милая? Ищи, ищи, найдешь свое. Верочка возвращается назад, подходит к другой группе людей. Кто-то суетливо проталкивается к ней с правой стороны, останавливается, тяжело дышит, молча смотрит на Верочку. Верочка оглядывается, опускает на землю чемодан. Перед ней стоит маленькая, чуть ссутулившаяся седенькая старушка со сморщенным лицом и добрыми синими глазами, сияющими, как глаза счастливого ребенка. Сухонькая фигурка наклонилась вперед, белые, узловатые руки сложились на груди, тонкие губы растянулись в улыбку, вздрогнули и тихо прошептали: — Верочка! Верочка! Ты ли это? Вторая Зиночка, вылитая мать. Я сразу узнала тебя. — Бабушка! — крикнула Верочка и бросилась на шею старушке, которая бодро схватила ее за плечи, стала целовать. Настасья Гавриловна жила в небольшом домике на центральной улице городка. Она родилась в этих местах и безвыездно провела здесь всю свою долгую жизнь. Она выглядела обыкновенно, как все бабушки, и с первых минут ничем не поразила Верочку. Когда они пошли от вокзала домой, Настасью Гавриловну все время останавливали встречные, почтительно кланялись ей. — Ну что, Гавриловна, дождалась? — спрашивали прохожие, окидывая взглядом Верочку. —Чистая красавица внучка твоя. — Здравствуйте, Гавриловна, — говорили ей с другой стороны. — Поздравляю вас с дорогим гостем. Настасья Гавриловна, сияющая от счастья, вела внучку по городу и отвечала всем на поклоны с таким видом, будто ее поздравляли с самым большим праздником. На другой день ранним утром, когда Верочка еще сладко спала на широкой кровати, принадлежавшей ее матери, в комнату тихо вошла бабушка. Верочка сразу проснулась. — Что тебе, бабушка? — спросила она. — Спи, милая, спи. Я на часок отлучусь, а когда вернусь, вместе позавтракаем. — Куда ты? — Мне нужно в рабочий поселок сходить, квартиру одну обследовать. — Зачем? — А как же? Рабочий человек просит жилплощадь, а мне как депутату горсовета поручили посмотреть все и проверить. — Ты разве депутат горсовета? — Уж много лет бессменно выбирают. Стараюсь как могу. Стара стала, но ничего. Жизнь не стоит на месте, она должна продолжаться, вот и поспевай за ней, пока не умрешь. Да ты спи, я скоро вернусь, потом наговоримся. Настасья Гавриловна ушла. Верочка попыталась уснуть, но не могла: все думала о бабушке. Она смотрела на стены комнаты, на незнакомые фотографии. Прямо над кроватью висел портрет ее матери, точно такой же, какой остался на письменном столе у Верочки в Москве. Мать сфотографировалась в белом халате. Молодой, новоиспеченный врач улыбалась фотографу, и ее лицо, выражающее счастье человека, полного душевных сил, было прекрасно. Глядя на это лицо, горько было думать о том, что природа, создавая такое совершенство, не может наделить его бессмертием. От сознания, что мать когда-то жила в этом доме, спала на этой кровати, сидела на этих же стульях, Верочка почувствовала еще большую близость к ней. Она влюбленными глазами смотрела на портрет, будто ждала, что мать улыбнется ей и назовет по имени, а может, протянет руку и положит ладонь на мягкие волосы дочери. Но чуда не произошло, и Верочка грустно вздохнула. Где-то в доме пробили часы. Верочка встала с постели и пошла в соседнюю комнату, которую называли гостиной. Там девушку ждало новое открытие. Прямо перед тахтой на широком кавказском ковре висела шашка с блестящим серебряным эфесом в черных ножнах. Напротив тахты Верочка увидела большую фотографию в рамке со стеклом. Верхом на коне сидела молодая женщина в буденовке, с красным бантом на груди и с шашкой на боку, кажется, с той самой, которая висела на ковре. «Кто это? — подумала Верочка. — Похожа на мою маму. Но откуда буденовка? Их же носили еще в гражданскую войну? Неужели?..» И Верочка замерла от удивления. Что-то непонятное было во всем этом. Папа ничего подобного никогда не рассказывал. Кажется, мама в молодости играла в любительских спектаклях. Может, это она сфотографировалась в какой-нибудь роли, загримированная и наряженная? Раздумья Верочки прервал стук в окно. Она открыла раму и увидела пожилого высокого мужчину с рыжеватыми усами. — Вам кого? — спросила Верочка. — Настасья Гавриловна дома? — учтиво поклонился за окном мужчина. — Она скоро придет. — Скажите ей, чтобы зашла в горком. На бюро будут разбирать ее вопрос о музее, непременно просят прийти. — Хорошо, я передам. Верочка захлопнула окно и вернулась в комнату, где висела шашка. Постояв у порога, она влезла на тахту, сняла тяжелую шашку, стала разглядывать ее. Вынула из ножен, потрогала пальцем острие, вытянула руку, с удовольствием размахнулась, рубанув воздух. Потом села на пол, положив шашку на колени, принялась разглядывать узоры на эфесе и заметила выгравированную надпись: «Лихому красному коннику Настасье Гавриловне Смушковой за храбрость в боях с белыми бандами». — Вот здорово! — воскликнула Верочка, вскочив на ноги, и еще раз взмахнула шашкой. — Вот так обыкновенная бабушка! Она подбежала к фотографии и вновь взглянула на нее. Теперь не было сомнения в том, что всадница в буденовке с красным бантом на груди была не кто иная, как Верочкина бабушка, Настасья Гавриловна Смушкова. Значит, она героиня гражданской войны, красный конник, лихой и храбрый боец? Верочка с нетерпением дождалась Настасью Гавриловну и сразу с порога потащила ее в таинственную комнату. — Это ты, бабушка? Настасья Гавриловна быстрым взглядом окинула портрет, добро улыбнулась ему, как старому знакомому: — Разве не похожа? Конечно я. И шашка моя. Сам Котовский подарил, Григорий Иванович. Бабушка молодцевато щелкнула каблуками и с неожиданным озорством подмигнула Верочке. — Я умела скакать на коне. У многих беляков остались зарубки от моей сабли. Она опустилась на стул, сняла с головы платок и стала вынимать из сумки яблоки и складывать их в глубокую тарелку. — А ты партийная, бабушка? — спросила Верочка. — С девятнадцатого. Вступила после того, как твоего деда, а моего мужа, Василия Спиридоновича Смушкова, убили махновцы. Она сложила яблоки и с тарелкой в руках поднялась из-за стола. — Сколько же ты горя пережила, бабушка, — говорила Верочка, покачивая головой. — Какая ты славная. Оставь яблоки, не суетись, мне ничего не нужно. Присев на стул и не выпуская из рук тарелку, Настасья Гавриловна с доброй улыбкой смотрела на внучку: от возбужденной, радостной Верочки трудно было отвести глаза. — А что ты делала в Отечественную войну? — спрашивала внучка. — Что все добрые люди делали, то и я... С фашистами воевала. Только не так, как в гражданскую, а по-другому. Мне тогда уже за пятый десяток перевалило — на коне не поскачешь, саблей не размахнешься. А все-таки воевала с проклятыми. — Что же ты делала? — допытывалась Верочка, не представляя себе, как это немолодая женщина могла воевать с вооруженным врагом. — Как же ты их била? — После расскажу, — перебила Настасья Гавриловна внучку. — Всякое бывало. Пойдем завтракать. Она неожиданно легко поднялась с места, выпрямилась. В ее движениях на минуту появилась былая выправка, Верочке даже показалось, что бабушка щелкнула каблуками. «Вот так новости, — думала Верочка. — Что же папа никогда не рассказывал мне об этом?» — А мама тоже воевала? — спросила Верочка Настасью Гавриловну. Бабушка вздохнула. Подошла к ковру, сняла шашку, погладила ее и повесила на место. — Зиночка тоже была смелая. Отчаянная голова. Она воистину героиней была. — Ты мне покажешь тот лес, где маму убили? — Покажу. И на ее могилку сходим, цветы отнесем. Верочка уткнулась лицом в бабушкино плечо и заплакала. Настасья Гавриловна гладила мягкие волосы внучки своей сухонькой, жесткой рукой. Скупые слезы медленно катились по ее худому, морщинистому лицу. Она заплакала, может быть, в первый раз после войны. Несколько дней Настасья Гавриловна водила Верочку по городку, показывала памятные места, связанные с жизнью Верочкиной матери Зинаиды Васильевны. Они посетили госпиталь, где работала Зинаида Васильевна в начале войны, осмотрели домик в тихом переулке, в котором она скрывала двух раненых советских командиров. Побывали и в лесу, в местах расположения бывшего партизанского отряда. Зашли в бревенчатую землянку, бывшую когда-то партизанским госпиталем, молча постояли на пороге, заросшем густой высокой травой. Здесь, на широких дощатых нарах, пристроенных вдоль стен, когда-то лежали раненые партизаны, подстелив под бока пучок соломы или сена. А там, в дальнем уголке, размещался медперсонал отряда — доктор Зинаида Васильевна и ее помощница Катя Веселова. К стенке была прибита небольшая аптечка, которая до сих пор висит над нарами. Полочки почерневшего от времени ящика покрылись пылью и затканы паутиной, и только нестершийся красный крест напоминает о том, что здесь некогда хранились лекарства, бинты и все несложное хозяйство санчасти отряда. Настасья Гавриловна помнила все подробности жизни лагеря, в котором ей довелось тайно бывать несколько раз. По заданию подпольной партийной группы она передавала командованию партизанского отряда добытые товарищами сведения о немцах. Поздней осенью сорок первого года в глухую дождливую ночь в партизанский отряд ушла ее дочь Зина. Партизаны совершили много налетов на немецкие обозы, взрывали склады с оружием, разрушили железобетонный мост, подожгли штаб-квартиру фашистов. В первое время Настасья Гавриловна тревожилась о Зине, все, бывало, думает о ней. По ночам не спала, ворочалась с боку на бок, прислушивалась к лаю собак, к отдаленному гулу проходящего поезда, к одиноким выстрелам в глухой темноте. Так проходили недели и месяцы. Но потом, когда Настасья Гавриловна стала сама узнавать о смелых партизанских делах, побывала в лесу, увидела Зиночку живой и невредимой, она незаметно для себя освободилась от мучившей ее тревоги и поддалась новому чувству, похожему на лихое озорство. Теперь она чаще выходила на улицу, наблюдала жизнь своего городка. Как все переменилось кругом. На улицах грязь, никто не подметает своего двора. Ворота забиты, ставни наглухо закрыты, электричество нигде не горит. То там, то здесь слышится немецкая речь. На базаре устраивают облавы, сгоняют людей за черный забор, усаживают на грузовики и увозят на станцию. Здоровых и молодых отправляют в Германию на работы, а подозрительных забирают в тюрьму. Тех, кто пытается бежать или открыто высказывает недовольство, тут же расстреливают и не велят хоронить. Детей почти не видно на улице. А если где-нибудь появится мальчик или девочка, то на них невозможно смотреть. Испуганные, удивленные детские глазенки ранят прямо в сердце. Однажды в неурочный час к Настасье Гавриловне из лесу явился связной и сообщил о гибели Зинаиды в схватке с фашистским карательным отрядом. Потрясенная женщина в ту же ночь ушла к партизанам. К месту добралась на рассвете. Остановилась среди молчаливых людей, опустивших на свежий холм грубый, сколоченный из старых досок гроб, в котором лежала Зина. Она была в серой шинели, подпоясанная желтым ремнем. Черные кирзовые сапоги торчали непомерно высоко. Голова лежала на подстилке из сухого жесткого сена, и белое, бескровное лицо выделялось своей бледностью на темном фоне шершавых досок гроба. Настасья Гавриловна опустилась на колени, припала щекой к холодному лбу дочери и заплакала. Похоронили Зину в лесу под высоким старым дубом... Верочке тогда едва исполнилось два года, и ей, конечно, ничего не сказали о смерти матери. И вот теперь, много лет спустя, Настасья Гавриловна и Верочка молча стояли среди величавого тихого леса. Под тем самым дубом, где была убита и похоронена Зина... Верочка прислонилась к шершавому стволу дерева, едва удерживаясь на ногах. Прикосновение сухой, жесткой бабушкиной руки слегка ее успокоило. Поддерживая друг друга, старая женщина и молоденькая девушка долго стояли под дубом в глубоком молчании. Здесь не было могильного холма. После войны останки смелой партизанки перенесли на городское кладбище и похоронили рядом с другими павшими героями. Бабушка и Верочка уже не раз побывали там. Однажды, возвращаясь домой, они свернули на пыльную площадь — почти заброшенный пустырь, где за ветхим деревянным забором виднелся небольшой домик с белыми ставнями и красной черепичной крышей. Здесь помещалась мастерская по ремонту металлоизделий: принимали в починку примусы, керосиновые лампы, велосипеды, швейные машины. В годы оккупации в этом ветхом домике трудились несколько старичков жестянщиков, укрывавших членов подпольной партийной группы. Сюда приходила и Настасья Гавриловна. В то время когда бабушка и внучка, остановившись на тротуаре, смотрели на покосившийся домик, совсем близко заскрипели тормоза машины, и прямо перед женщинами остановилась синяя «Победа». Высунувшийся из кабины молодой человек, в соломенной шляпе и в очках, приветливо крикнул: — Здравствуйте, Настасья Гавриловна! Может, вас подвезти? Старушка повернулась к машине и, не двигаясь с места, сказала: — Здравствуй, здравствуй, голубчик. Не трудись. Пожалуй, мы и пешком дойдем. Ко мне вот внучка приехала, видишь? Молодой человек посмотрел на Верочку, почтительно приподнял шляпу. — Очень приятно познакомиться. До свидания, Настасья Гавриловна. Машина рванулась с места и с шумом круто свернула в переулок. — Начальник нашей почты, — сказала Настасья Гавриловна, провожая взглядом удаляющуюся машину. — Тоже в этот дом приходил, мальчишкой тогда был, лет тринадцати. До войны у меня в школе учился, а как немцы пришли, он с отцом в лес подался, к партизанам. Смышленый и отчаянный был разведчик, Мишка-вездеход. Теперь Михаилом Степановичем зовется. С этого дня Верочка неотступно ходила за Настасьей Гавриловной. Между делом бабушка неторопливо рассказывала ей то одну, то другую историю. Невзрачные тихие улицы, непримечательные дома и обыкновенные люди, которые в первые дни ничем не удивили Верочку, после прогулок с бабушкой стали казаться ей другими. Даже скучная, унылая церквушка вдруг ожила: бабушка рассказала, что в дни оккупации, в годину тяжелых боев на Волге, здешний звонарь условными сочетаниями ударов колокола давал знать жителям, что город на Волге остается советским. И здание школы, и пожарная вышка, и железнодорожное депо, и эта старая площадь, на которой теперь построены красивые дома, — все имеет свою удивительную историю. А какие здесь замечательные люди! Почти про каждого человека Настасья Гавриловна может рассказать такое, что заставляет остановиться и почтительно посмотреть на него. Несколько дней, проведенных с бабушкой, наполнили Верочку неожиданными, сильными впечатлениями. Она чувствовала, как вся ее жизнь переворачивается самым решительным образом. Казалось, какой-то горячий ветер закружил ее и понес над землей с такой силой, что захватывало дух и невозможно было остановиться. Вскоре Верочка поняла, что бабушка совершает экскурсии и прогулки по городу не только ради нее. Оказывается, Настасья Гавриловна, не жалея ни сил, ни времени, делала это неспроста. Как-то за обедом, поглядывая на усталое лицо бабушки, Верочка сказала ей: — Ты бы отдохнула, бабуся. Что ты все суетишься, куда-то бежишь, торопишься. Хочешь, я вынесу в сад качалку? — Ну вот еще что выдумала, — рассердилась бабушка. — Отдыхать буду после, когда помру. А пока жива, надо работать. Жизнь не стоит на месте, не смотрит на стариков. Она бодро поднялась из-за стола, собралась и снова ушла из дому. Это были дни, когда бабушка занималась особенно важным для нее делом. По настоянию Настасьи Гавриловны и некоторых партизан горком партии решил организовать городской краеведческий музей. Верина бабушка с особым рвением занялась этой работой. С утра до позднего вечера ходила по разным инстанциям, отвоевывала помещение, разыскивала полезных людей. Горком не ошибся, поручив такое важное дело Настасье Гавриловне, бывшей учительнице, а ныне пенсионерке, старому члену партии. Вскоре в отведенном для музея помещении появились педагоги, школьники старших классов, инвалиды войны, партизаны, подпольщики. Нашелся даже полковник в отставке, отличный знаток военного дела и истории, который рьяно принялся помогать Настасье Гавриловне. В это важное дело бабушка вовлекла и Верочку. Каждый день аккуратно в назначенное время Верочка отправлялась в музей и вместе с Настасьей Гавриловной принималась за работу. Каждый день приносил новые открытия, и перед Верочкой постепенно возникала картина героической жизни народа, к которому принадлежала и она. Девушка так увлеклась музеем, что ее трудно было оторвать от дела даже в обед или в конце дня. За серьезное усердие и распорядительность ее быстро окрестили начальником штаба, и она так хорошо вошла в эту роль, будто и в самом деле всю жизнь занималась музейной работой. Ей казалось, что она принимает участие в создании интересной, увлекательной книги. Каждый день, проведенный в напряженной работе, был страницей этой рукописи. По вечерам Верочка и Настасья Гавриловна пили чай и до позднего часа вели разговоры. Каждый раз, когда доводилось вспоминать о Верочкином отце, бабушка вдруг умолкала. В этом ее молчании чувствовалась какая-то обида. Однажды Верочка сказала: — Папа вспоминает тебя, бабушка. И город ваш помнит, и про маму мне иногда рассказывал... Бабушка отодвинула чашку и опять молча вздохнула. Взглянув на огорченное и немного растерянное лицо внучки, примирительно положила ладонь на Верочкину руку: — Твой отец был хорошим человеком, внучка. Может, и сейчас таким остался. Но время отдалило его от меня. — Он любит тебя, бабушка. Старушка погладила Верочку по голове. — Если бы жила Зина, все было бы иначе. — Ему тоже жалко маму. Он не говорит, но я знаю, я все понимаю. — За тринадцать лет он ни разу не приехал. Я все могу понять и простить. Но этого не понимаю. Ну да пусть, его совесть ему судья. Она встала из-за стола и удалилась в комнату, где по ночам писала воспоминания для музея. Верочка не сказала бабушке, что она сегодня получила письмо от отца, в котором он торопит ее вернуться в Москву, так как пора решать вопрос о дальнейшей учебе. Забота отца на этот раз показалась Верочке слишком назойливой. Это сковывало ее собственную волю, и она смутно почувствовала, что в глубине души поднимается какая-то еще не осознанная, глухая сила протеста. Сердце подсказывало, что в ее жизни должен произойти важный поворот. Ей хотелось самой разобраться в том, что происходит, и она чутко прислушивалась к голосу сердца. Было жаль и отца, не хотелось обижать его, но и подчиниться она уже не могла. Привязанность к новому, живому делу становилась сильнее стремления устроить свою судьбу. Увлекшись работой в музее, Верочка не заметила, как наступили первые дни августа. Однажды в полдень ей принесли телеграмму от отца. Отец настойчиво напоминал, что Верочке нужно немедленно выезжать в Москву. Эта телеграмма не произвела на нее никакого впечатления. Верочка и не подумала торопиться. Выбранный отцом институт не интересовал ее. Ей показалось, что она сама нащупывает свой путь. Вот посоветуется с бабушкой и решит. Она сунула отцовскую телеграмму в сумочку и тут же забыла про нее, продолжая начатые с утра дела. Сегодня она как раз разбирала собранные у партизан фотографии своей матери и рассказы о ней боевых товарищей. Вечером Верочка написала отцу письмо и рассказала обо всем, что узнала о своей матери, о бабушке, о городе. И ни слова о себе, о своих планах. Прошло еще несколько дней. Ранним утром Верочка проснулась от резкого стука в ставню окна. Накинула халатик, вышла на крыльцо, Это почтальон принес еще одну телеграмму — «молнию». Отец просил ее немедленно выехать в Москву, иначе она не сумеет поступить в институт. «Ну и пусть! Пусть не поступлю! — сказала себе Верочка. — А мне и не нужно это. Мне и здесь хорошо, в этом городе, где жила моя мама, где живет бабушка. Пусть достанется другому место в институте, и пусть мне влетит от папы!» Она взглянула на часы и пошла будить бабушку. Шлепая босыми ногами по крашеному полу, прошла к двери, открыла ее и внезапно застыла на пороге. Настасья Гавриловна сидела у письменного стола, уткнувшись седой головой в бумаги, облитые чернилами. Старческая рука свесилась вниз к полу, где лежала оброненная школьная ручка. Верочка бросилась к бабушке, дотронулась до ее холодного плеча и закричала. ...Бабушку похоронили на кладбище, рядом с могилой дочери Зинаиды. За гробом шло так много людей, будто проводить в последний путь Настасью Гавриловну вышел весь город. Иван Карпович не приехал на похороны, зато прислал еще одну телеграмму Верочке. Но и эта телеграмма не подействовала на дочь. Она кратко написала отцу, что решила навсегда поселиться в бабушкином городе и не вернется домой. Письмо дочери вывело Ивана Карповича из равновесия. Он вдруг растерялся, обмяк. Произошло что-то странное и непонятное для него. Его собственная дочь, послушная, умная девочка, перестала верить ему. А ведь он хочет ей счастья, добра. Неужели они не поняли друг друга и он ошибся? Ошибся потому, что так делячески, формально и бездушно отнесся к ее судьбе, ее будущему? Что же происходит с Верочкой? Неужели и она отрывается от его сердца? Но почему? В чем он виноват? Иван Карпович в тот же день вылетел к Верочке. Он прилетел в одиннадцать часов утра. Верочки не оказалось дома. Соседи направили Ивана Карповича в музей. — Музей? — удивился он. — Тут же никогда не было музея. — Раньше не было, а теперь будет. На улице Ленина, дом пятнадцать. Взволнованный и растерянный, Иван Карпович поехал по указанному адресу. Открыл дверь в комнату и, не обращая внимания на посторонних людей, не поздоровавшись, громко позвал дочь. — Верочка! Выйдем отсюда. Мне нужно с тобой поговорить. Верочка в эту минуту стояла на табурете и прибивала к стене фотографии. Услышав голос отца, она обернулась и, стараясь быть спокойной, сказала: — Папочка? Я сейчас! Она слезла с табурета, подбежала к отцу, бросилась ему на шею. Иван Карпович обнял дочь, прижимая ее голову к своей груди. В эту минуту он увидал на стене прибитые Верочкой фотографии Зинаиды и Настасьи Гавриловны. Он побледнел, медленно подошел к табуретке и тяжело сел, продолжая смотреть на портрет своей первой жены. Верочка мягко положила руку на плечо отца, так она всегда делала, когда жалела его. Иван Карпович не замечал посторонних людей, которые с интересом смотрели на него. Его взгляд медленно скользнул по стенам, где висели фотографии. Среди этих лиц было много знакомых. Они молча смотрели на него со стен, словно приветствовали своего старого боевого товарища. Будто в строю, на немой перекличке, они прошли перед ним, и каждый заглянул ему в глаза, как бы говоря: «Я здесь! Я здесь!» Этот своеобразный строй фотографий заканчивался портретами Настасьи Гавриловны и Зинаиды. Иван Карпович почувствовал прикосновение Верочкиной руки и повернулся к дочери. Теперь в его взгляде не было обиды и укора. Разве не он сам виноват перед дочерью в том, что скрыл от нее славную жизнь Зинаиды, Настасьи Гавриловны и отчасти свою? Как обеднил он Верочкину душу, не раскрыв ей ранее того, что она теперь раскрыла сама. — Папочка! Милый! — сказала Верочка отцу, впервые увидав его таким мягким и растроганным. — Почему ты никогда не рассказывал мне обо всем этом? Тебе было тяжело? Иван Карпович от волнения не мог говорить. Он долго смотрел на дочь, словно увидел в ней другого человека. Теперь они остались одни. Он гладил ее пушистые волосы, думал о том, что она уже совсем взрослая и, пожалуй, сумеет сама судить о жизни и выбрать себе путь. Верочка заглянула в глаза отца. Они были влажны, такими она их никогда раньше не видала. Она протянула руки к отцу и тихо засмеялась. — Ничего, ничего, папочка. Все будет прекрасно. Я теперь знаю, как мне жить. Честное слово. — Ну что же, — сказал отец. — Если ты не хочешь поступать в институт, я не настаиваю. Может быть, ты права. В конце концов главное не в том, где ты будешь, а в том, каким человеком станешь. Верочка подсела ближе к отцу, взяла его большую руку в свои маленькие ладошки. — Знаешь, папа, я хочу напомнить тебе твои же слова. Когда у меня не получалась задачка и я обращалась к тебе за советом, ты часто говорил мне: «Подумай как следует, дочка». Отец засмеялся: — Верно. Это мои слова. — Так вот что, папа, — продолжала Верочка. — Кажется, у нас с тобой сейчас задачка не получается. Как же мне начинать жизнь? Идти в институт, к которому я безразлична, или поступить, как велит сердце? Что лучше? Давай подумаем как следует? Отец в знак согласия кивнул головой.
БЕЛЫЙ НЕГР

1
Табачный миллионер Джон Керр возвращался домой из очередной деловой поездки. Сегодня он «провернул» выгодную сделку и был чрезвычайно доволен. Джон Керр любил ездить на переднем сиденье рядом с шофером Стэнли. Они почти ни о чем не разговаривали, но, кажется, и без слов понимали друг друга. Хороший парень этот Стэнли. Сильный, красивый, всегда спокойный и неутомимый, может весь день сидеть за рулем, никогда не подаст виду, что устал. Джону Керру нравятся сильные люди, он хорошо относится к Стэнли и, когда закуривает, обязательно протягивает ему сигарету. Большие загорелые руки крепко держали руль. Лицо Стэнли было сосредоточено, он внимательно смотрел вперед на автостраду, по которой неслись десятки автомашин, перегоняя друг друга, повизгивая тормозами и резко накреняясь на неожиданных поворотах. Стэнли знал, что хозяину нравится такая быстрая, даже рискованная, езда. Город уже был близко. Джон Керр молча смотрел на окрестности, с удовольствием думал о том, что через полчаса он примет ванну и отлично поужинает в клубе. Машина чуть вздрогнула и стала замедлять ход. Джон Керр недовольно сжал губы и поморщился, будто ему причинили боль. — Прошу прощения, мистер Керр, — сказал Стэнли. — Я не рассчитал бензин, придется остановиться у колонки. Машина уже сбавила скорость и шла по краю правой стороны автострады. Джон Керр вынул пачку сигарет, протянул Стэнли. Шофер, не отрывая взгляда от дороги, привычным движением взял сигарету из пачки. — Благодарю вас, мистер Керр. — Только поскорее, черт возьми. — Мы потеряем не больше двух минут, мистер Керр. Машина развернулась и остановилась у бензозаправочной колонки. В ту же секунду перед Стэнли появился высокий негр, с чуть сгорбленной сутулой спиной, согнутой в привычном поклоне или под тяжестью прожитых лет. Не переставая улыбаться, негр почтительно выслушал шофера и стал наливать бензин. Стеклянную чашу насоса быстро заполнила желтовато-маслянистая жидкость и потекла по шлангу в бак машины. На это ушло действительно не более двух минут. Принимая деньги от Стэнли, негр взглянул на машину и увидел мистера Керра. Негр вдруг переменился, выпучил глаза, будто перед ним совершилось чудо. Он сделал почтительный шаг к машине, снова заулыбался, и теперь стало хорошо видно его лицо, доброе, как у ребенка, с морщинками и со шрамом на подбородке. Глаза были чистые, на висках белела седина. Не переставая кланяться, черный человек залепетал какие-то невнятные слова, очевидно выражавшие радость, и чуть-чуть подпрыгивал от удовольствия. Когда негр приблизился к автомобилю, мистер Керр услышал его слова: — Я очень рад видеть вас, капитан, — говорил негр с поклоном и улыбкой. — Я много думал о вас и молился богу о вашем здоровье. Как вы себя чувствуете, капитан? Джон Керр смотрел на негра с удивлением и досадой: «Что он такое мелет, черт возьми? Что ему надо?» Негр подошел еще ближе и пристальнее посмотрел на Керра. Лицо негра умилилось, словно осветилось счастьем. — Вы прекрасно выглядите, капитан. Я очень беспокоился о вашем здоровье. Я очень рад. Да хранит вас бог. — Весьма тронут, — с досадой буркнул мистер Керр и повелительно кивнул Стэнли, который почему-то медлил с отъездом. Мистеру Керру показалось, что Стэнли нарочно задерживается и с интересом прислушивается к словам негра. — Поехали! — сказал мистер Керр, слегка повернув голову к негру. Машина рванулась с места, выехала на автостраду и помчалась мимо небольшого поселка, где, видимо, жили рабочие, обслуживающие дорогу. — Кто этот негр? — спросил Стэнли. — Откуда он вас знает? — Какой-то болван, — сказал мистер Керр. — С кем-нибудь меня спутал. Стэнли ни о чем больше не спрашивал, хотя его любопытство было явно не удовлетворено. Шофер взглянул в зеркальце и увидел лицо своего босса. Джон Керр впервые за много лет, закуривая, не протянул Стэнли сигарету. Он нахмурился, будто с трудом вспоминал что-то чрезвычайно важное. Его рыжие брови, густые и длинные, как усы, неожиданно вздыбились, глаза округлились и стали маленькими, губы сжались, у рта натянулись складки. Он снял шляпу, положил ее на колени, стал вытирать платком вспотевший лоб. Казалось, он старался стереть с лица выражение злости и раздражительности. Теперь его глаза потеплели, складки у рта разгладились. Даже брови не топорщились и не шевелились. С мистером Керром происходила какая-то непонятная перемена. Приехав домой, он отказался от ванны, не пошел в клуб и закрылся в кабинете. Теперь он был один, и ему не нужно было скрывать той тревоги, которая охватила его. Конечно, он думал о негре, об этой проклятой встрече с человеком, которого давно забыл, вытравил из памяти. Джон Керр действительно не узнал этого негра сразу и вспомнил, кто он, только тогда, когда машина уже отъехала от бензоколонки. И теперь вспоминал все, что было связано с этим человеком.
2
Он вспомнил, что негра звали Томом. Их свела судьба много лет назад во время второй мировой войны. Капитан Керр служил в зенитной артиллерии и нес береговую охрану на одном из островов в Тихом океане. Там был и Том, сильный, здоровый негр, служивший шофером в подсобной команде. Конечно, Джон Керр не обращал никакого внимания на негра и теперь ни за что не вспомнил бы его, если бы не одно обстоятельство, которое внесло сегодня смятение в душу миллионера. Теперь он отчетливо вспомнил те кошмарные дни. Джон Керр был на волоске от смерти и каким-то чудом остался жив. Чудом ли? Почему он остался жив? Как его спасла старшая медицинская сестра Джерри, эта милая, добрая женщина? Об этом уже давно перестал думать Джон Керр. Спасли — и ладно. Главное, что он жив и здравствует уже многие годы и будет процветать и впредь. Не надо думать о том, как его спасли. Но как не думать, если негр жив, узнал Джона Керра и на что-то, кажется, намекал? Нет, надо все хорошенько вспомнить и не дать себя одурачить. Надо вспомнить и проверить все, как было. Когда японцы налетели на остров и разбомбили его с воздуха, часть американских кораблей была потоплена, а остальные ушли в океан. На острове осталась жалкая горсточка людей. Капитан Керр был тяжело ранен, лежал без сознания и только временами приходил в себя и с ужасом понимал, какая трагедия произошла со всем отрядом. Джерри со слезами на глазах наклонялась над ним и ласково шептала: — Мужайтесь, Джонни. Нас не оставят одних. Завтра придет корабль, и мы будем спасены. — Где мой друг Кларк? — спрашивал Джон. Джерри не отвечала и плакала. — Где Теннеси? Где Марти? Где Гарри? Джерри плакала и сквозь рыдания твердила одно слово: — Мужайтесь, Джонни. Мужайтесь. Джон Керр терял сознание, и казалось, что он вот-вот скончается. Семь человек, оставшихся на острове, собрались в укрытии и ждали спасения. Двое раненых артиллеристов перевязывали друг друга: один был ранен в ногу, другой в голову. Остальные были невредимы и сгрудились вокруг умирающего капитана, не зная, как ему помочь. Капитана можно было спасти только переливанием крови. Джерри сходила с ума. Из всего персонала лазарета в живых осталась одна она. Нужно было брать всю ответственность на себя и принимать срочные меры. Вместе с солдатами Джерри обследовала остатки разбомбленного лазарета и, к счастью, нашла аппарат для переливания крови. Но все банки с консервированной кровью были разбиты снарядом и смешаны с землей. Нужно было найти человека, который согласился бы дать свою кровь. При опросе выяснилось, что у пятерых, и в том числе у Джерри, кровь по группе не подходит капитану. Подходящая группа была только у одного человека — шофера подсобной команды негра Тома. Ни минуты не колеблясь, Том засучил рукава и с готовностью протянул руку Джерри. — Пожалуйста, Джерри. Бери кровь, пусть капитан будет жить. Но тут наступила тягостная пауза. Солдат Дуглас сказал: — Наш капитан белый. Он проклянет нас. — Это предрассудки! — закричала Джерри. — Мы все люди. Не слушай их, Том. Настоящая наука выше этой выдумки. Джерри набросилась на Дугласа и даже толкнула его в грудь, но тот снисходительно пожал плечами и отошел в сторону. — Я сказал, что думал. Уверяю вас, Джерри, капитан за это не поблагодарит. Джерри в отчаянии смотрела на белых, искала поддержки и словно извинялась перед Томом. — Надо получить согласие капитана, — сказал раненый в голову артиллерист. Джерри в бессилии опустилась над умирающим Джоном Керром. Том сжал кулаки и отошел от белых. Все в тягостном молчании долго сидели и ждали, когда придет в сознание капитан. Наконец он открыл глаза и тихо попросил воды. Джерри поднесла к его губам флягу. Капитан сделал несколько слабых глотков и оттолкнул флягу рукой. — Спасите меня, Джерри, — прошептал Джон Керр. — Я хочу жить! Хочу вернуться домой, в Америку. Где же доктор? Почему он так долго не идет? — Его убили, Джонни. Я осталась одна. — Спасите меня, Джерри, — плаксивым голосом прошептал капитан. — Есть только одно средство, — сказала Джерри. — Я умоляю вас, не отказывайтесь от него, вы потеряли много крови и с каждой минутой слабеете. Я перелью вам кровь Тома. Капитан передернулся от боли. Он с ужасом посмотрел на улыбающегося негра, выпучил глаза и, задыхаясь в истерике, закричал: — Черную кровь? Лучше смерть, чем это! Слышите? Лучше смерть! Он снова потерял сознание и замолчал. У Тома дрожали губы и тряслись кулаки. Он встал и повернулся спиной к капитану и Джерри. Но Джерри взяла его за руку и заставила сесть рядом с умирающим капитаном, которого она должна была спасти... Об этом Джону Керру написала Джерри в письме лет десять назад. Чем кончилось все это тогда, Джон Керр не знает точно. Он отчетливо помнил, как закричал: «Лучше смерть, чем это!» — и потерял сознание. А что было потом? Почему же он все-таки выжил? Каким образом спасла его Джерри? Почему она об этом не рассказала? И что имел в виду Том сегодня? Что значили его слова? Неужели они с Джерри пошли на это преступление? Нет, этого не может быть! При мысли о том, что ему все-таки перелили негритянскую кровь, Джон Керр обливался потом и цепенел. А что, если это правда? Погибнет все: и жизнь, и богатство, и карьера. Будучи человеком твердым и смелым, он принял решение завтра же отправиться самолетом в Калифорнию к Джерри, от которой он после войны получил несколько писем, но оставил их без ответа, не желая продолжать знакомство с женщиной, не имеющей будущего. Он нашел в сейфе старый конверт с адресом Джерри и на следующий же день вылетел первым утренним самолетом.
3
Доктор Джерри (Джеральдина Ксавье) жила в небольшом провинциальном городке недалеко от Сан-Франциско и работала в клинике известного в этих местах хирурга. Она поселилась в доме, оставшемся ей в наследство от родителей, умерших вскоре после второй мировой войны. Отец Джерри был тоже хирург и приехал в Америку из Марселя, женился на вдове торговца кондитерскими товарами и поселился в том самом доме, в котором теперь жила Джерри, единственная дочь и наследница своих родителей. Джерри была настоящая американка, хотя в ее жилах текла французская кровь отца, от которого она унаследовала талант к точным наукам, преданность своим убеждениям, невероятную трудоспособность и смелость. В годы войны она работала в военном госпитале. На войну Джерри пошла по своей воле: хотела быть в непосредственной близости к опасности; до конца прошла трудный путь и никогда не жалела об этом. После войны Джерри вернулась домой, закончила медицинское образование, получила диплом врача и всецело отдалась медицине. Прошло уже около десяти лет, как она живет одна со старой тетушкой и служанкой, которую еще при жизни матери они выписали из деревни. Джерри уже далеко за тридцать, она красива, и все давно перестали удивляться, почему она не выходит замуж. Это было странной загадкой ее жизни. Порог этого дома в течение десяти лет не переступал ни один мужчина. В воскресенье, в двенадцатом часу утра, в кабинет Джерри вбежала перепуганная служанка и почти паническим голосом закричала в дверях: — Мисс Джерри… Там в прихожей вас спрашивает… мужчина! Джерри в эту минуту сидела за столом и записывала в свой журнал, как она всегда это делала, все события в клинике за прошедший день. Ее кабинет, где всю жизнь работал и отец, был похож на кабинет ученого — разумеется, с явным отпечатком провинциализма, так как помимо предметов, действительно необходимых ученому для работы, здесь было множество старинных вещей, которые сохранялись с незапамятных времен и напоминали об истории дома и его обитателей в прошлом. Джерри тоже не решалась нарушить старую традицию и оставила в кабинете все так, как было при жизни отца. При шумном появлении служанки Джерри спокойно поднялась с кресла. — Что случилось, Долли? Служанка смотрела на нее круглыми глазами и, показывая рукой на дверь, заикаясь, повторила: — Там мужчина. Он спрашивает вас. На лице Джерри появилось удивление. — Как его зовут? — Я забыла, мисс Джерри. Он назвал свое имя и просил доложить. У меня все выскочило из головы. Он сказал, что прилетел откуда-то по срочному делу. — Ну хорошо, — сказала Джерри. — Пригласи его в кабинет. Что же ты стоишь как вкопанная? Иди. Джерри совершенно не предполагала, кто это мог быть. Она стояла в официальной, строгой позе, как в больнице, когда принимала пациентов. Несмотря на то что необычное посещение немного развлекло ее, в ней все же возникло чувство досады на незнакомца, который нарушил привычный ход жизни и оторвал Джерри от обычных занятий. Но вот на пороге появился он, этот неизвестный посетитель. Прежде чем он успел поклониться, Джерри узнала его. — Извините, мисс Джерри, — поспешно сказал Джон Керр, — я явился без приглашения, но чрезвычайные обстоятельства, о которых вы узнаете, заставили меня прибегнуть к этому визиту. Джерри почти не слышала его слов и с удивлением смотрела на человека, которого так бережно хранила в своих воспоминаниях о счастливых днях прошедшей молодости. — Это вы, Джонни? Боже, как я рада, что вижу вас снова. Проходите, пожалуйста, садитесь. Неужели это вы? Джон Керр немного расчувствовался и улыбнулся Джерри. Теперь он посмотрел на нее внимательнее, увидел знакомое красивое лицо, маленькую родинку на верхней губе справа, добрую, почти детскую улыбку и правдивые серые глаза. Он увидел ее всю, сразу, одним взглядом мгновенно охватил с головы до ног. Она была все такая же стройная, как и в те далекие годы. — Это я, — сказал Джон Керр и почему-то еще раз поклонился. — Я тот самый несчастный капитан Керр, которому вы спасли жизнь. Я теперь живу на юге и являюсь владельцем табачной фирмы. — Я знаю, — перебила его Джерри. — Об этом расскажете потом. Мне очень приятно видеть вас полным здоровья. Скажите, Джонни, как вы себя чувствуете? — Благодарю вас. Здоровье мое превосходно. Я виноват перед вами, мисс Джерри. Я не ответил на ваши письма, которые были столь трогательны и полны дружеских чувств, которые я высоко ценил и за которые был благодарен вам всегда. Поверьте мне, я не хотел вводить вас в заблуждение, у меня были другие намерения, и я не мог продолжать переписку, чтобы не давать никакого повода. — Боже мой! — с шутливой досадой перебила его Джерри. — К чему такая длинная речь? Что было, то прошло, и не надо раскаиваться. Меня, признаться, тогда удивило ваше молчание, но теперь об этом говорить не стоит. Старые раны заросли, и не будем вспоминать о них. Джон Керр не был сентиментальным человеком и торопился приступить сразу к делу, ради которого он прилетел. Пока Джерри вспоминала о прошлом, о наивной попытке связать свою судьбу с этим человеком, которому она спасла жизнь и которому после войны написала два письма — два признания в любви, оставленных им без ответа; пока она с умилением смотрела на него, радуясь, что он жив и здоров и, видно, процветает и благоденствует, он сделал строгое лицо, поднялся со стула и стал говорить с подчеркнуто официальным тоном, исключая теплоту встречи. — Я приехал к вам по чрезвычайным обстоятельствам, мисс Джерри, — сказал он торжественным громким голосом, в котором явно чувствовались нотки обвинения. — Я прошу, чтобы вы со всей внимательностью выслушали мой вопрос и сказали мне правду, как бы она ни была страшна. От этого зависит все мое будущее, а может быть, и сама жизнь. Эти торжественные слова заставили Джерри встать. — Чем я могу служить вам? — Я умоляю вас, ответьте мне прямо: каким образом я был спасен? — Вы не довольны, что остались живы? — Я уже благодарил вас за это. Но я не хочу, чтобы меня теперь терзали и мучили. Отвечайте же мне на мой вопрос: как вы спасли мне жизнь? — Я сделала вам операцию. — Переливание крови? — Да. Она твердо смотрела ему в глаза и стояла перед ним прямо, не боясь самого страшного вопроса. — Чья это была кровь? — Большого Тома. Помните шофера из подсобной команды? Джон Керр побледнел и готов был броситься на Джерри и задушить ее. — Кровь этой черной твари? Кровь негра Тома? — он застонал и опустился на стул. — О, как я ненавижу вас, Джерри! Скажите еще раз: это правда? — Истинная правда. Она повторила эти слова твердо и ясно, продолжая стоять все так же прямо, почти с вызовом. Она не раскаивалась в том, что сделала, и ей был жалок этот человек, который потрясал кулаками и бесновался перед ней. Он вскочил со стула, подбежал к Джерри, поднес к ее лицу сжатые кулаки. — Это подло! Я ненавижу вас! Лучше бы вы влили яду в мои жилы и отправили меня на тот свет. Кто просил вас спасать мне жизнь? — Я сама это сделала. Я готова была десять раз умереть, только бы спасти вашу жизнь, Джон Керр. Тогда вы были совсем другим человеком, и мне казалось, что стоило принести жертву ради вашего спасения. Джон Керр беспомощно опустил руки и усталым взглядом посмотрел на Джерри. По его лицу текли струи холодного пота. Он был бледен. — Вы действительно любили меня, Джерри? Она горестно покачала головой. Ей хотелось протянуть руки и погладить по голове этого всполошившегося большого и жестокого ребенка. Но она не сделала ни одного движения и, все такая же прямая и гордая, продолжала стоять напротив Джона Керра. Он закрыл лицо руками и отвернулся от нее. — За что вы меня так наказали? За что? Лучше тысяча смертей, чем такая жизнь. Плечи его вздрагивали, он сгорбился и, кажется, плакал. Джерри стало жалко этого человека. Она протянула руку и слегка дотронулась до его плеча. — Послушайте, Джонни. Вы напрасно принимаете все это близко к сердцу. Я как врач, как ученый, говорю вам, что все это пустой и глупый предрассудок. У негров такая же кровь, как и у белых. Разве вы стали хуже от того, что по вашим жилам потекла негритянская кровь? Мы все люди и все одинаково устроены. Отбросьте отсталые, дикие взгляды на этот счет и живите счастливо, как жили до сих пор. Разве до последней встречи с Томом вы чувствовали какую-нибудь перемену в себе или вам было плохо? Что же вы теперь всполошились? Что изменилось, Джонни? Разве Том причинил вам какую-нибудь неприятность? — Не упоминайте этого имени, прошу вас! — закричал Джон Керр.— Я убью эту гадину! — За что? — спросила Джерри. — Он ни в чем не виноват. Он с радостью отдал свою кровь. Это я виновата. — Я и вас ненавижу и презираю за это. Вы не американка, вы — чудовище, преступница, убийца. Вы убили меня, мою жену, моих детей, которые останутся без куска хлеба и без крова. От меня, как от черной твари, отвернется все общество, меня разорят, отнимут фабрики, выгонят в шею на помойку. И все это благодаря вашей заботе обо мне и вашей любви! Он выпалил эти слова с презрением и ненавистью к Джерри. Миллионер испытывал страх перед своим будущим, которое ему действительно представлялось ужасным. — Постойте, — бросилась к нему Джерри. — Я знаю, что люди заражены предрассудками и в слепом невежестве могут совершить зло. Но кто вас заставляет рассказывать об этой истории? Столько лет все было тайной и останется тайной навсегда. Из всех свидетелей этой операции живут на свете только два человека, остальные погибли на войне. Вам ничто не угрожает, Джонни. Клянусь вам, что я унесу эту тайну в могилу. Джон Керр немножко обмяк и оживился. — Вы точно знаете, что все погибли? — Совершенно точно. Остались только я и Том. — Том! — закричал он, заламывая руки в истерике. — Этот проклятый Том! Пока он существует и знает, что я жив, разве я могу быть спокоен, Джерри? Вы поклялись хранить эту тайну, но он? Он выдаст меня, я их отлично знаю, этих черных тварей. — Разве он сказал вам что-нибудь такое, из чего можно сделать подобные выводы? — О, нет. Он ничего такого не сказал. Но он еще скажет. Он уже намекнул об этом. — Успокойтесь, Джонни. Том — благородный человек. Поверьте мне, он отлично все понимает и никогда не сделает ничего дурного. Мы часто бываем несправедливы по отношению к неграм. Я уверяю вас, Джонни, что все будет в порядке. Том знает, как белые могут расценить этот факт, он никогда никому не скажет. — А если? — спросил Джон Керр. — Если не верить людям, — сказала Джерри, — очень трудно жить. Вы поверьте, Джонни, вам будет покойно на душе. Вы ничего дурного не сделали, ни у кого не украли, никого не убили. Чего вам бояться? Джон Керр с усмешкой посмотрел на Джерри: — Вы совсем не знаете жизни, Джерри. Ее бури и ураганы пронеслись над вами, не причинив вам никакого вреда. — Я в тридцать лет поседела, — сказала Джерри. — Меня хлестали ветры. — Вы счастливы, Джерри? Он машинально задал ей этот вопрос. Его совсем не интересовала ее жизнь. Он готов был с одинаковым равнодушием выслушать любой ее ответ. Но она сказала неожиданное: — Несчастлив тот, кто испугался жизненных бурь. Он вздрогнул, это задело его самолюбие. Злое чувство и ненависть к этой женщине опять овладели им. — А вы уверены, — спросил он, — что я не остался бы жить без этой операции? — Да. Вы уже были почти мертвецом. — Этого теперь доказать нельзя, — язвительно сказал он, глядя ей прямо в глаза. — Но я предпочел бы умереть, чем таким образом спастись. Я не благодарю вас за такое спасение. Джерри внезапно поднялась и строго оборвала человека с наглой, жестокой улыбкой: — Я прошу вас немедленно оставить мой дом! Уходите! Ему вдруг стало стыдно. Он опустил глаза и хотел что-то сказать, но растерялся и не находил слов. Она отвернулась к окну и ждала, когда он выйдет. Когда захлопнулась дверь и стихли удаляющиеся шаги Джона Керра, Джерри устало опустилась на диван.
4
Джон Керр возвращался домой в растерянности и тревоге. На душе было такое состояние, будто врачи сказали ему, что он заболел смертельной болезнью, от которой нельзя излечиться и нужно ждать смерти. С каждым днем он становился мрачнее и раздражительнее. Дома капризничал, постоянно выражал недовольство прислугой, потерял аппетит, и все, что подавалось к столу, казалось ему невкусным, не так приготовленным, как ему хотелось бы. Приходя в контору, он кричал на клерков, распекал всех, кто попадался на глаза. Из клуба возвращался рано, а часто совсем не ходил туда и отсиживался у себя в кабинете. Еще одна перемена в поведении Джона Керра поразила и удивила всех, кто знал его близко. Он стал необычайно ласков с женой, которую совсем не любил а на которой женился только из-за солидного приданого. Об этом знали все, и, как ни старался раньше Джон Керр внешне сохранить приличия в супружеских отношениях, нельзя было скрыть той пропасти, которая разделяла супругов. Жена не принимала эту перемену всерьез, что вызывало раздражение у мужа. Неожиданно для всех он стал много внимания уделять детям, которых до этого времени почти не замечал. Теперь он сам покупал им дорогие игрушки, возился с ними, часами играл в комнатах и в саду. Но ничто не успокаивало Джона Керра и ни на минуту не отвлекало от главной мысли, которая присутствовала в нем ежесекундно и сверлила мозг. Часто ему казалось, что все уже знают его тайну и подозрительно косятся на него. Даже у прислуги нет былого почтения. А у клерков, даже у самых старательных и преданных, исчезло подобострастие, с каким они раньше встречали своего шефа. И жена, и дети, казалось, относились к нему подозрительно, они как будто с насмешкой переносили его ласки и терпели все прихоти, как терпят капризы больного. Перемены в жизни Джона Керра были более существенные. Он это хорошо заметил на последних заседаниях правления акционеров. Если раньше с ним спорили, а Симменс и Джексон позволяли себе кричать, то в последнее время к Джону Керру были снисходительны и уступали ему без крика. А этот толстяк Симменс даже сказал Джону за коктейлем: — Тебе надо отдохнуть, старина. Ты много работаешь, побледнел и осунулся. — Я здоров как бык, — твердо сказал Джон. — С чего ты взял, что я ослабел? — Мне так показалось. Он засмеялся и ушел, оставив Джона Керра одного за столиком. Жизнь становилась невыносимой. Надо было что-то предпринимать, пока не произошло взрыва, пока не появился этот черный тип, как мысленно называл Джон Керр Тома. Сознание того, что негр жил в этом же городе, не давало ни минуты покоя Джону Керру. Почти год он боролся с самим собой, старался жить так же, как жил до встречи с Томом, но не мог и чувствовал, что не сможет до тех пор, пока негр остается здесь, поблизости. Весной Джон Керр решил действовать. Он отправил жену путешествовать по Европе, а сам, сославшись на занятость делами фирмы, остался в городе, чтобы реализовать задуманный им план. Однажды в воскресный день Джон Керр сел в машину и поехал за город. Выехав в сторону порта, он объездными путями перебирался с одной автострады на другую и долго искал ту бензоколонку, у которой в прошлом году останавливался Стэнли и где они встретились с негром. Кажется, это было здесь, за этим мостом направо. Он сбавил скорость, съехал на правую сторону дороги и стал присматриваться к окрестностям. Через два-три километра показалась бензоколонка. Машина сошла с магистрали, плавно покатилась по узкой дорожке к заправочному пункту и остановилась. В ту же минуту Джон Керр увидел Тома, который, улыбаясь и кланяясь, торопился к машине. — Здравствуйте, мистер, — привычно сказал Том. Взглянув на того, кто сидел в машине, и сразу узнав Джона Керра, он еще радушнее заулыбался. — О-о, мистер Керр! Очень рад, что вы приезжаете к нашей колонке. Я сию минуту, мистер Керр. Джон Керр, сохраняя спокойствие и улыбаясь, сделал жест рукой, подзывая к себе Тома. Негр с радостью приблизился к машине и с почтением поклонился. — Послушай меня, Том, — ласковым голосом заговорил Джон Керр, незаметно оглянувшись по сторонам и убедившись, что поблизости никого нет. — Мне нужно с тобой поговорить по очень важному делу. — Я слушаю вас, мистер Керр, — ответил Том, сверкая белыми зубами. — Не здесь, — сказал Джон Керр. — Это серьезный разговор. Я хочу встретиться с тобой, чтобы белые не видели нас вместе. Ты понимаешь меня? — Я понимаю, мистер Керр, — с серьезным видом сказал Том. — Я очень хорошо понимаю. Он еще раз поклонился и отступил несколько шагов от машины. — Где ты живешь? — спросил Керр. — Вон там, — показал негр движением глаз. — В том поселке, третий дом от дороги. — Завтра в одиннадцать вечера жди меня в сосновом лесу. — Слушаюсь, мистер Керр, — по-военному ответил Том, и на его лице появилось выражение испуга и тревоги. — Наливать? — Наливай. Том молча накачал бензину, налил в бак и, тревожно поглядывая на Джона Керра, несколько раз поклонился, пока машина набирала скорость и выезжала на автостраду.
5
На следующий день ровно в одиннадцать часов вечера Джон Керр на своей машине появился у соснового леса. Свернув на проселочную дорогу, он остановил машину под деревьями, потушил свет и пошел к условленному месту. Том уже ждал его. Теперь он был еще более перепуган, чем вчера при прощании с Джоном Керром у бензоколонки. Джон Керр заговорил первым, стараясь придать своему тону дружеское выражение: — Послушай, Том, я назначил тебе свидание как старый фронтовой товарищ. Я хочу тебе помочь. — Большое спасибо, — ответил ему Том и машинально поклонился. — Я не думал, что вы еще помните шофера Тома. Это было так давно, мистер Керр, очень давно. Меня потом тоже ранило осколком снаряда. У меня перебита левая лопатка, и я не могу теперь работать шофером, служу на бензоколонке, сэр. Это можно, это легко. — Вот оно что, дружище. Я как увидел тебя, сразу все вспомнил. — Джон Керр сделал ударение на слове «все» и дружелюбно посмотрел на Тома. — Я ничего не забыл. Когда я увидел тебя у бензоколонки, мне показалось, что ты чем-то опечален. Тебе, видно, трудно живется, Том? — Мы все так живем, мистер Керр. Все работаем, бываем опечалены. Это пустяки, не стоит об этом говорить. — У тебя большая семья, Том? — Жена и трое детей. Самый старший родился через три года после войны. Я ведь не сразу женился, не было денег и работы, а потом все пошло хорошо. Я очень доволен, мистер Керр. Том говорил искренне и все еще не мог понять, зачем он понадобился мистеру Керру. — Разве у тебя много денег, Том? Ты, наверное, концы с концами не сводишь и не можешь семью прокормить как следует? — У других еще меньше денег, — сказал Том. — Но ничего, живем. Вы не беспокойтесь, мистер Керр. Я пойду домой. До свидания. — Постой! — в голосе Джона Керра послышалась твердость и настойчивость. — Раз я приехал к тебе, значит, ты мне нужен. Я мог явиться в твой дом, но ты знаешь, что у белых существуют глупые предрассудки и мой визит к негру могли бы оценить совсем неправильно. — Понимаю, мистер Керр, — кивнул головой Том. — Это совершенно так. — Я не разделяю этих предрассудков, — продолжал Джон Керр, — но должен считаться с таким положением. Он чувствовал, что негр еще более настораживался от этих слов, и, чтобы не вспугнуть его, сделал паузу. После минутного молчания снова решил сделать дальний заход. — Ты слышал, Том, что после войны я стал богатым? У меня очень много денег. Я помню всех своих фронтовых товарищей и всегда помогаю им. — Это хорошо, мистер Керр, — похвалил его Том. — Бог не забудет ваши добрые дела. — Я тоже надеюсь, что не забудет, — в тон негру продолжал Джон Керр. — Поэтому я хочу помочь и тебе. Кто хорошо воевал, достоин всяческой похвалы и навсегда заслужил благодарность. Ты был храбрым солдатом, не боялся ни смерти, ни тяжкого труда. — Спасибо, капитан Керр, — растроганным голосом сказал Том, и его белые глаза сверкнули влажным блеском. — Фронтовое товарищество для меня всегда было превыше всего, — продолжал Керр. — После того как я увидел тебя в прошлом году у бензоколонки, я не спал много ночей, все думал, чем помочь тебе, Том. — Зачем вы беспокоились, мистер Керр? Не думайте о Томе. — Я кое-что придумал, Том, — почти ласково сказал Джон Керр и дотронулся до плеча бывшего подносчика снарядов. — Придумал и сделал. Слушай меня внимательно и не отказывайся от того, что я тебе предложу. Это хорошее дело, Том. Это все для тебя и для твоей семьи. Как зовут твоего старшего сына? Том застенчиво заулыбался. — Семми, Семюэль, — сказал он. — Очень хороший мальчик, мистер Керр. — Вот видишь, — сказал ему Керр. — Ты должен заботиться о его счастье. — Да, да, мистер Керр. Конечно. — Так слушай же меня хорошенько, Том. У меня есть паровая мельница далеко-далеко отсюда, в штате Иллинойс, где много пшеницы. Я купил ее специально для тебя и хочу подарить тебе и твоему сыну. Это очень хорошее дело, ты будешь обеспечен на всю жизнь, станешь богатым, тебе и твоим детям не надо будет гнуть спину перед белыми. Том замотал головой и попятился назад с таким видом, будто уклонялся от петли, которую приноравливались накинуть ему на шею. — Я благодарен вам, мистер Керр, — сбивчиво сказал Том. — Но мне ничего не надо. Я не знаю, что мне делать с мельницей, она мне не нужна. Мне и так хорошо живется, я не жалуюсь. Разве что иногда бывает трудно, так это у всех, мистер Керр, уверяю вас. Мы, бедные, на это не обижаемся. Благодарю вас, мистер Керр. Он поклонился при этих словах, чтобы не обидеть Джона Керра, предложившего ему такое богатство. — Ну как тебе не стыдно, дружище! — улыбаясь, сказал Джон Керр. — Ты, видно, тоже заражен глупейшими предрассудками и не доверяешь белым? — Мне ничего не нужно, мистер Керр, — почтительно повторил Том. — Эх, Том, Том, — укоризненно посмотрел на нею Джон Керр. — Ты совсем не подумал, что мы с тобой более близкие, чем просто фронтовые товарищи, хотя и этого не мало, чтобы принять любой подарок от друга. Ты забыл, что в моих жилах течет твоя кровь? Ты же спас мне жизнь, Том! Я всегда помню об этом и никогда не забуду. Зачем же ты обижаешь меня отказом? В глазах негра выразилось еще большое страдание. Он в отчаянии посмотрел на Джона Керра и покачал головой так, будто его шея внезапно переломилась от сильного удара. — Не надо говорить такие слова. Это невозможно, мистер Керр. Я очень рад, что вы живы и здоровы, но не могу взять от вас ни одного цента. Это был мой долг человека перед человеком. И будьте уверены, мистер, я всей душой буду рад служить вам и впредь. Если с вами случится что-нибудь и вы будете нуждаться в моей помощи, я в любую минуту готов сделать для вас все. Знайте это, мистер Керр, и будьте уверены во мне всю жизнь. А что касается предрассудков белых насчет негритянской крови, вы можете быть совершенно спокойны. Я никогда никому не говорил и никогда никому не скажу об этом. — Ты неправильно понял меня, Том, — в досаде сказал Джон Керр. — Я вспомнил о крови только потому, чтобы сказать тебе, что мы с тобой братья. Разве ты не хочешь, чтобы я тебя так называл? — Ваши слова справедливы, мистер Керр. — Так почему же ты отказываешься от моего предложения? Я делаю это от чистого сердца, я хочу, чтобы ты был богатым и не знал нужды. — Я был бы нехорошим человеком, если бы взял от вас хоть один цент. Это было бы преступлением и перед богом. — Это глупости, Том. Ты хорошенько подумай, от чего отказываешься. Имеешь ли ты право на это перед своими детьми? — Отпустите меня домой, мистер Керр, — взмолился Том. — Идите с богом, живите, как жили, и будьте спокойны. Спите по ночам и не думайте о бедном Томе. Он будет молиться богу о вашем здоровье и все, что знает о вас, унесет с собой в могилу. Прощайте, мистер Керр. Джону Керру захотелось крепко выругать негра и дать ему хорошего пинка. Но он сдержал свое бешенство. — Постой, Том, не уходи. Если совершаешь такие глупости, это твое дело. Пеняй на себя. Мне от тебя больше ничего не нужно. Я хотел сотворить благо, но ты уперся, как осел. Сделай мне еще одну ничтожную услугу, и мы расстанемся навсегда. Покажи-ка мне, как лучше выехать из леса. Я сейчас зажгу свет, а ты пройди вперед и посмотри, нет ли там пней или ям. — Слушаюсь, мистер Керр, — сказал Том и с радостным облегчением на душе пошел в сторону дороги. Джон Керр сел в машину, зажег фары. В полосе яркого света он увидел лесную просеку, огражденную деревьями, словно двумя глухими черными стенами. На ровном гладком месте на середине просеки стоял Том. Добродушно улыбаясь и размахивая длинными руками, он медленно отступал от машины и покрикивал: — Сюда, сюда, мистер Керр. Здесь отличная дорога. Держите прямо. Прямо! В эту секунду Джон Керр включил полный газ. Машина, как большой черный зверь, с ревом рванулась вперед, сбила громадное тело Тома, подмяла его под себя и помчалась за полосой яркого света, в конце которой замелькали белые столбики автострады. В это время из-за кустов показалась темная фигура человека, он бросился к Тому и наклонился над ним. Смятый и раздавленный Том еще дышал. — Эй, эй, ты! — тряс Тома незнакомый человек. — За что он тебя убил? За что? — Я не хотел взять у него мельницу, — прошептал умирающий Том. — Паровую мельницу в штате Иллинойс, где много пшеницы. — А за что он дарил тебе мельницу? — нетерпеливо спросил незнакомец. Том закрыл глаза и навсегда замолчал. Незнакомец опустил безжизненную голову Тома, поднялся с земли и скрылся в густом, темном лесу.
6
Утром Джон Керр проснулся в отличном настроении. Впервые за много месяцев он почувствовал такие облегчение, будто его освободили от какой-то тяжелой ноши. Он с удовольствием целый час плескался в ванне и, как ребенок, играл мыльной пеной, делая из нее большую шапку, бороду, усы, погоны на плечах. Долго рассматривал себя в зеркале в этом виде, нравился сам себе. Завтрак съел с аппетитом, все казалось очень вкусным, и все было его любимое. И прислуга сегодня была хорошая, делала все то, что ему хотелось, и так, как он хотел. Прекрасный день, превосходная жизнь. Перед выходом из дому Джон Керр поинтересовался письмами от жены. Они были тоже превосходными. Жена уже две недели жила в Риме и собиралась в Женеву. Дети были здоровы. «Европейская жизнь восхитительна, — писала жена, — здесь все хотели бы ненавидеть американцев, но ни у кого не хватает сил отвернуться от богатства и неотразимого очарования каждого американца. Поэтому бедным европейцам приходится любить нас». Джон Керр самодовольно улыбнулся. От конверта пахло любимыми духами его жены, и он даже почувствовал нечто похожее на мимолетную тоску и желание видеть ее и поцеловать. В таком отличном настроении Джон Керр надел шляпу и вышел из дому. Резво и легко сбегая с крыльца, он пересчитал все ступеньки и впервые за много лет узнал, что их было восемь. Это открытие почему-то обрадовало его. Он весело уселся в машину, протянул Стэнли пачку с сигаретами и, когда тот взял одну, тоже закурил и приказал: — В контору. Ему хотелось, чтобы машина летела, как самолет, над домами и улицами богатого города, который он любил. Но машина почему-то разворачивалась и шла медленно, во всяком случае, медленнее, чем обычно. Он вопросительно посмотрел на шофера, но ничего особенного в нем не заметил. Крепкие большие руки твердо сжимали руль, как всегда, уверенно. Но все же в поведении шофера была перемена. — В чем дело, Стэнли? — сказал Джон Керр. — Давай быстрее. Но Стэнли будто не слышал, машина шла так же медленно. Выбросив сигарету, Стэнли сказал: — Не стоит спешить в контору, мистер Керр. У нас сегодня есть более важные дела. Джон Керр с удивлением посмотрел на этого наглеца: — Какие дела? — Мне необходимо поговорить с вами, и по возможности немедленно. — О чем? Говори. — Здесь нельзя, мистер Керр. Уверяю вас, что это весьма важный разговор и в ваших интересах. Нам нужно остаться вдвоем при закрытых дверях. Джон Керр насторожился. Облегчение, наступившее с сегодняшнего утра, кончилось в одну секунду. — Да что ты мелешь, черт возьми! Мне совсем не до шуток! — Я говорю серьезно, мистер Керр. Дело идет о вас, о вашей чести и о вашем будущем. Вы должны немедленно выслушать меня наедине. Куда прикажете ехать? Лучше всего поговорить у вас дома, в кабинете. — Возвращайся! — приказал Джон Керр. — Но имей в виду, Стэнли, я могу пристрелить тебя, как собаку. — Я предусмотрел этот случай, мистер Керр, и оставил письмо в надежных руках. В нем изложено все, что я скажу вам. Джон Керр в необычайном раздражении отвернулся от шофера. Когда они остались одни в кабинете, Джон Керр надменно и нетерпеливо остановился у двери и, заложив руки в карманы, бросил Стэнли: — Говори. Стэнли не торопясь прошел к столу, взял зажигалку, прикурил сигарету. — Мистер Керр, — начал он свою атаку. — Я знаю, что произошло вчера вечером в лесу. Джон Керр подскочил к Стэнли и схватил его за грудки. — Это шантаж! Никакого леса и никаких происшествий я не знаю. — Советую не горячиться, мистер Керр. Будет лучше, если мы обсудим все спокойно, как мужчины и деловые люди. Я давно слежу за вами и за этим негром, с тех пор как мы встретили его у бензоколонки и как вы испугались и побледнели. — Ты ничего не знаешь, мерзавец! — Слушайте меня до конца. Я следил за вами и вчера вечером был в лесу на том месте, где вы назначили свидание с негром Томом. Я видел, как вы сбили его машиной и уехали. Я тотчас же подбежал к негру. Он был еще жив и все рассказал мне, мистер Керр. Теперь вы видите, что я говорю правду. — Вы врете, что негр был жив. Вы все врете! Откажитесь от ваших слов, негодяй! Он вынул из кармана пистолет и направил на Стэнли. — Не делайте глупостей, мистер Керр. Мы можем решить этот вопрос гораздо проще. Вы отдадите мне мельницу в штате Иллинойс, от которой глупый негр отказался, и я забуду эту историю. Ведь вы ничего не теряете. Если бы этот осел не был таким упрямым, мельница все равно уплыла бы от вас. Это божеская цена, не раздумывайте так долго, не то я запрошу больше. Джон Керр опустил руку с пистолетом и, опираясь на стол, медленно погрузился в кресло. С ним это было первый раз в жизни: в глазах пошли огненные круги, ноги подкашивались. Кажется, что-то случилось с сердцем. Мгновенно прошла злость на Стэнли, исчез страх. Только одно огромное чувство охватило его в эту минуту. Это была жалость к себе. Как сквозь сон доносились зловещие слова Стэнли: — Этот глупый негр подох у меня на руках и все выболтал перед смертью. Вы подумайте, что с вами станет, если об этом узнают газеты? У вас есть дети, жена, вы уважаемый богатый человек. — Послушай, Стэнли, — мягко и жалобно сказал Джон Керр. — Я дам тебе паровую мельницу в штате Иллинойс. Но ты должен поклясться, что больше от меня ничего не будешь требовать. Ты должен понять, что я ни в чем не виноват. Это было на войне, я умирал, был без сознания, и мне перелили кровь негра без моего согласия… Джону Керру хотелось, чтобы его пожалели, погладили по голове. И Стэнли почувствовал это. Он протянул руку, положил ладонь на голову Джона Керра, погладил его, покорного и присмиревшего. Шофер очень обрадовался тому, что узнал только что из слов Джона Керра. — Хорошо, хорошо, мистер Керр, — участливо сказал Стэнли. — Я отлично понимаю ваше положение. Подпишите, пожалуйста, чек на оплату мельницы в Иллинойсе, и я оставлю вас в покое. Вам нужно отдохнуть, мистер Керр. И он еще раз погладил табачного миллионера по голове, ласково повторяя над его ухом: — Подпишите же чек, мистер Керр. Джон Керр вынул чековую книжку, подписал и оторвал один билет. Стэнли жадно схватил хрустящую бумажку и торжественно удалился из кабинета, аккуратно прикрыв за собой дверь.
7
Годы, проведенные на службе у мистера Джона Керра, не прошли даром для Стэнли. Наблюдая хозяйские повадки и присматриваясь к нравам господ, он понял и усвоил одну истину: если тебе судьба послала случай, не упускай его, не будь ротозеем. Узнав тайну Керра и получив с него чек на оплату мельницы, Стэнли решил не останавливаться на этом. Он раскаивался, что мало запросил с перепуганного хозяина. Но раз так вышло, надо еще пораскинуть мозгами и попытаться побольше заработать на этом деле. Стэнли не пришлось долго ломать голову. Он понял, что за такое сенсационное сообщение ему немало заплатят газеты. И он не ошибся. Однажды утром Джон Керр, как обычно, вышел к завтраку и принялся просматривать газеты. Никаких особых новостей и событий, все спокойно и хорошо, мир стоит на земле, земля вертится, жизнь течет своим чередом. Последней он развернул паршивую скандальную газетенку, которую ужасно не любил и выписывал исключительно из любопытства. И почти сразу же, с первого взгляда, он увидел свой портрет и прочел заголовок статьи, напечатанный крупными буквами: «Отойдите от него! В его жилах течет негритянская кровь!» И далее замелькали слова: «Белый негр», «Черная кровь под белой кожей…» Джон Керр почувствовал внезапный приступ тошноты и со стоном упал со стула. На шум сбежались слуги, обступили хозяина и, когда увидели газету, стали с ужасом расходиться. Члены правления фирмы, акционеры и компаньоны Джона Керра немедленно собрались на экстренное заседание и решили под благовидным предлогом не утруждать его никакими делами и предоставить ему отдых в связи с тяжелой душевной болезнью. Слугам было дано распоряжение вежливо обращаться с Джоном Керром, но не принимать всерьез никаких его указаний, если это будет касаться фирмы. В последующие дни в той же грязной газетенке стали появляться язвительные статейки, в которых строились различные предположения о том, кто станет наследником миллионов Джона Керра, когда он скончается от «нервного потрясения». Тут же отпускались пошлые остроты о детях Джона Керра, в жилах которых течет негритянская кровь и потому они тоже не являются полноценными белыми американцами. А одна заметка так и называлась: «Джон Керр сам убил своих детей». Доведенный до отчаяния, Джон Керр сделал попытку обратиться к совести и разуму своих преследователей. Он хотел тронуть сердца откровенным признанием. Теперь он ничего не скрывал, всем говорил правду. Да, во время войны, спасая его жизнь, старшая медсестра перелила ему кровь негра. Но это произошло в военной обстановке, где не было иной возможности остаться в живых. Кроме того, он был без сознания и не давал согласия на эту операцию. Все сделано помимо его воли. Он всем говорил эти слова, но его никто не слушал, все отворачивались от него как от прокаженного. Даже слуги один за другим стали покидать дом Джона Керра и старались скрыть от других, что они когда-то имели отношение к этому человеку. Джон Керр всюду появлялся как маньяк. Он ничего не просил и хотел только одного — чтобы люди правильно поняли его положение. Он вспоминал слова Джерри о белых и неграх. Теперь он сам видел, что Джерри была права. Люди должны отрешиться от глупых и диких предрассудков, иначе они перестанут быть людьми. Боже, неужели трудно понять, что негры такие же люди, как и белые? — Господа! Я ничего дурного не сделал и никакого преступления против совести не совершил. У негров такая же кровь, как и у белых. Уверяю вас, господа. Все мы люди, и все одинаково устроены. Это доказано наукой… Но Джона Керра никто не слушал, все смеялись я презирали его. Все говорили, что он слишком устал и ему надо отдохнуть от нервного переутомления. По-прежнему из Европы приходили письма от жены и детей. Он откладывал в сторону нераспечатанные конверты и с ужасом думал о том, что будет с его близкими. Однажды ему показалось, что есть выход из этого страшного положения. Он побежал в кабинет за пистолетом, чтобы пустить себе пулю в лоб и в одну секунду прекратить все мучения и страдания. Но пока шел через комнаты, в голове возникла другая мысль. Нельзя же, в самом деле, так просто сдаваться. Ведь он ни в чем не виноват. Надо бороться, надо искать иного выхода. Надо выкарабкаться из этой волчьей ямы, в которую он свалился. Выбраться во что бы то ни стало, как бы ни была глубока эта яма. Это надо сделать во имя детей, во имя истины, во имя справедливости. В чем же он виноват, в самом деле? Ведь негры такие же люди, как и белые. Но тут в глазах Джона Керра вспыхнула полоска света в темном лесу, он увидел освещенную фигуру Тома, его улыбку и слышал крик: «Вперед, мистер Керр! Вперед!» Джон Керр рванул ворот рубашки так, что перламутровые пуговицы отлетели на ковер. «Боже! Что мне делать? Этот мерзавец Стэнли скоро начнет торговать еще одной новостью: он расскажет газетам о том, что я убил негра. А негр тоже человек, а меня будут судить. Что же делать, черт возьми?» И в эту минуту он опять вспомнил Джерри. Она однажды спасла ему жизнь. Теперь он снова стоит на краю гибели и не видит никакой возможности к спасению. Надо немедленно ехать к ней, пока не поздно, пока не все потеряно. Он думал, что не все потеряно, хотя на самом деле судьба его уже давно была предрешена и никакого спасения не было. Было потеряно все, решительно все, и бесповоротно, в ту страшную минуту в лесу, когда Джон Керр включил полный газ и раздавил машиной негра Тома. Но ему не хотелось думать, что все потеряно. Он теперь не находил никаких причин сомневаться в том, что нет ничего страшного и преступного в том, что в его жилах течет черная кровь. Теперь он стал единомышленником Джерри в этом вопросе. И вдруг неожиданная мысль пронзила Джона Керра. Джерри может помочь ему. Ведь она любила Джона Керра. Она согласится с ним, что в этом ужасном мире правдой ничего не докажешь. Нужно все опровергнуть, обратить в ложь эту нелепую легенду, из-за которой он погибает. Превратить правду в ложь, а ложь сделать правдой. И это может только Джерри, ей поверят, она единственный свидетель. С новым безумным замыслом он немедленно отправился к своей спасительнице.
8
На этот раз он прилетел в калифорнийский городок, где жила Джерри, вечером. Погода была неспокойная, дул прохладный ветер, и накрапывал дождь. Сквозь дождевую завесу и сгущающиеся сумерки светились уличные фонари и огни в домах. Желтые пятна света плыли перед глазами, двоились и дрожали. Джон Керр поднял воротник плаща и пошел по улице, не разбирая дороги, хлюпая по водяным лужицам на асфальте. Кругом было безлюдье; казалось, что весь городок уже спит. Пришлось идти слишком долго, пересекая много улиц и переулков. А дождь и ветер все не унимались, хлестали в лицо, слепили глаза. Наконец он остановился у знакомого дома и перевел дыхание. Видимо, было уже поздно: свет горел только в двух окнах наверху. Не смущаясь этим и не раздумывая ни минуты, Джон Керр поднялся на крыльцо и стал звонить. Дверь открыла заспанная служанка. Узнав Джона Керра, она взвизгнула и побежала наверх, спотыкаясь на лестнице и наступая на длинные полы своего халата. Незваный посетитель притворил дверь и стал в нетерпении расхаживать по холлу, ожидая, пока о нем доложат и позовут к хозяйке дома. На стене висели старинные часы, и их громкий бой раздражал Джона Керра. Он присел в кресло, но тут же вскочил и снова начал вышагивать по ковру. И эта тишина и мягкость освещения почему-то не успокаивали его, а еще больше возбуждали. Он нечаянно задел плащом стеклянную пепельницу на низком курительном столике, она упала на паркет и разбилась. Звон разбившегося стекла показался Джону Керру приятным и немного успокоил его. В эту минуту на лестнице появилась Джерри, сопровождаемая служанкой, которая с опаской шла за своей госпожой. Джерри увидела Джона Керра и остановилась. Он был весь мокрый от дождя, растрепанный и смятенный. По его бледному лицу и лихорадочным глазам было видно, что с ним случилось нечто чрезвычайное. Она ждала, что он сейчас набросится на нее с угрозами, а может быть, и попытается убить. Но в одну секунду преодолела страх и с желанием помочь этому человеку пошла ему навстречу. — Джонни! Что с вами, Джонни?! Она остановилась перед ним и с жалостью смотрела на его странную растрепанную фигуру. На осунувшемся бледном лице Джона Керра кривились и вздрагивали губы. Вся его решимость вдруг исчезла, он весь осунулся, упал на колени и уткнулся лицом в широкий подол платья Джерри. Она, оцепеневшая и растерянная, стояла неподвижно, не зная, что делать. Она видела, как дрожат его плечи, услышала всхлипывания этого большого, некогда гордого и неприступного мужчины, и ей стало жалко его. Она опустила ладонь на его мокрую голову и погладила. Он поднялся с ковра и, не скрывая своих слез, посмотрел в лицо Джерри. — Что с вами, Джонни? Что случилось? Она продолжала гладить его по голове, прижимаясь щекой к его плечу. — Я умоляю вас, Джерри, — заговорил Джон Керр, всхлипывая и задыхаясь. — Поймите мое отчаяние. Вы спасли мне жизнь однажды, спасите ее еще раз. Они всё узнали и преследуют меня, пишут в газетах, оскорбляют насмешками и все из-за негритянской крови. Они смеются над всяким и презирают того, кто пытается растолковать им, что негры такие же люди, как и белые. Вы отлично знаете это и когда-то хорошо объясняли мне, я все понял и согласился с вами, но они… они не хотят этого понимать. Они хотят растоптать меня и разорить. Они будут презирать и моих детей, потому что в их жилах течет негритянская кровь. — Боже мой, успокойтесь, — сказала Джерри, с ужасом понимая, какое несчастье произошло с Джоном Керром. — Но как они все это узнали? Кто им сказал? Вы видели Тома? При этих словах Джон Керр отошел от Джерри и закрыл лицо руками. — Я был в отчаянии, Джерри. Я совершил ошибку. Я прошу вас, поймите мое состояние и спасите меня и моих детей. Вы должны написать во все газеты, что это ложь. Вам поверят, если вы заявите, что никакого переливания крови мне не делали и никакого негра не было среди нас в те трагические дни на острове. — Я никогда этого не сделаю, Джонни. Это было бы преступлением против моей совести и против правды. — Ах, эта правда! — закричал он в отчаянии. — Она никому не нужна. От этой правды все рушится под моими ногами. Я погибаю, Джерри, и только вы еще можете спасти меня. Что вам стоит один раз в жизни покривить душой? — Ни за что! Никогда я не скажу неправды. — Это тоже предрассудок, Джерри. Если ваша правда убивает человека, зачем она вам? Это жестоко, бесчеловечно, Джерри. Лучше спасти погибающего ложью, чем убить правдой. — Нет, нет и нет! — говорила Джерри, отступая от Джона к стене. — Правду нельзя продавать! А как они узнали про вас? Кто им сказал? Том? Вы видели Тома? Вы говорили с ним? — Это не он сказал, нет, не он! Это я сказал, я сам выболтал все от страха, делая глупости. Я убил вашего Тома, из-за которого погибла вся моя жизнь. Да, я убил Тома, переехал его машиной и раздавил. Спасите меня, Джерри, напишите в газеты, что мне не вливали негритянскую кровь! Вам поверят. Джерри с ужасом и отвращением слушала этого страшного, взбесившегося человека. — Вы зверь! Зверь! Зверь! — закричала она, наступая на него с кулаками. — За что вы убили Тома? За что? Жалкий и перепуганный Джон Керр выскочил на темную улицу, где по-прежнему лил дождь и шумел ветер.
9
Он хотел бежать, но бежать было некуда. Всю ночь бродил в переулке, где жила Джерри. К утру утих ураган, перестал дождь. Джон Керр сел на край тротуара и не спускал глаз с калитки дома Джерри. В девятом часу, когда солнце успело уже просушить крыши домов и асфальтовые мостовые, калитка открылась, и в переулок вышла Джерри, направляясь в клинику на работу. Джон Керр догнал ее. В нем еще теплилась надежда. Униженно сгибался перед ней, умолял написать в газеты свидетельство о его чистокровности. Но Джерри не стала слушать его, отвернулась и ушла. Джон Керр вернулся в свой город и несколько дней скитался по улицам, словно потерял что-то на его улицах и обязательно должен был найти. Эти дни он почти ничего не ел, не брился, был одет как попало. Он так похудел и осунулся, что его трудно было узнать, и многие знакомые Джона Керра с сожалением смотрели на него. Он ни с кем не раскланивался, никого не замечал, словно был весь поглощен какой-то великой заботой. По ночам он не спал. Часами бродил по пустому дому, бросался на постель, накрывал голову подушками, желая спрятаться от несчастья, навалившегося на него. В эти ночные часы было особенно тяжко, и глухая злоба наполняла все его существо, словно он постепенно наливался свинцом, и все дряблое, аморфное, бывшее в его теле, становилось тяжелым и упругим. Утром он по привычке собирался в контору, звал слуг, но никто не приходил на его крики. Машину не подавали, а когда он пешком подходил к шикарному подъезду, где помещалось правление акционерного общества и где был его кабинет, в котором он проработал более двенадцати лет, швейцары ласково уговаривали его идти домой: — Сегодня же воскресенье, мистер Керр, — говорили они. — Все отдыхают, идите и вы отдохните. Наконец он взорвался. В один из таких дней он ударил швейцара по лицу, и когда на крик выбежали служащие и узнали его, он набросился на всех и стал без разбору дубасить кулаками кого попало. — Сволочи! Звери! Твари! — кричал на всех Джон Керр и отбивался до последней возможности, пока его не заперли в караульном помещении, доложили правлению акционерной компании. Была немедленно прислана машина с врачами. Его увезли домой, уложили в постель. Но через несколько часов Джон Керр опять появился у ворот табачной фабрики. Швейцар вежливо загородил дорогу и сказал со смущением: — Вам нужно вернуться домой, мистер Керр. — Уйди с дороги, мерзавец, — сильно толкнул швейцара Джон Керр, пытаясь прорваться. — Это моя фабрика? Говори, моя? — Ваша, — с вежливой улыбкой сказал швейцар, более решительно преграждая путь. — А пускать не велено. Джон Керр резким ударом сбил его с ног и пошел через проходную. В ту же минуту из помещения выскочили несколько здоровенных парней. Они налетели на Джона Керра, схватили его за руки, потащили назад. Он начал яростно отбиваться, кричал, что никто не смеет задерживать члена правления акционерного общества, что он всех отдаст в тюрьму, сгноит, разорит… Джона Керра связали веревкой и отправили в дом умалишенных.

Последние комментарии
14 часов 55 секунд назад
19 часов 4 минут назад
1 день 2 часов назад
1 день 5 часов назад
1 день 5 часов назад
2 дней 16 часов назад