Чикита [Антонио Орландо Родригес] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
 Антонио Орландо Родригес
ЧИКИТА
Антонио Орландо Родригес
ЧИКИТА
Посвящается Серхио
Преамбула
Чикита и вправду жила на белом свете, и эта книга — о ее жизни. Жизни столь же необычайной и удивительной, как она сама. Чикита родилась в начале одной войны и умерла в конце другой. И всю свою жизнь она вела войну против мира, который вознамерился считать ее «ошибкой природы».Впервые я услышал о ней в Гаване в 1990 году. Один сеньор лет восьмидесяти с гаком, бывший корректор в журнале «Боэмия», распродавал свою библиотеку, и я отправился к нему в надежде раздобыть что-нибудь неожиданное. Но сколько бы я ни шарил по полкам Кандидо Оласабаля — так звали старика, — ничто не привлекало моего внимания. Словоохотливый Кандидо рассказал, что через пару дней переберется в дом престарелых «Сантовения». — Ты ведь писатель? — вдруг спросил он и, услышав ответ, утянул меня в спальню и распахнул шкаф. — Вот это тебе может быть интересно. Вытащил две картонные коробки и поставил на кровать. — Было три, да самую большую я потерял в пятьдесят втором. Во время урагана Фокс у меня в Матансасе затопило дом[1],— пояснил он. Коробки оказались набиты пожелтевшими бумагами, к которым уже начала подбираться моль. — Это жизнеописание кубинской артистки по имени Чикита, — продолжал старик. — Хотел увезти в приют, но, по здравом размышлении, лучше от них избавиться. Он порылся и нашел портрет Чикиты. Показал мне и в ответ на мое удивление озорно рассмеялся. — Да, она была лилипутка. Ее называли Живой Куклой и Мельчайшим Атомом Человечества. И еще Кубинской Бомбой, но это прозвище она терпеть не могла. Я с ней познакомился тыщу лет назад, она была уже на пенсии. И всегда хотел написать о ней книгу. Нечестно, что на Кубе про такую знаменитость никто ничего не знает. Но все откладывал, а теперь уже поздно. Может, ты напишешь. Дома я убрал коробки в шкаф и собирался просмотреть бумаги, когда найдется время, но тут случилась срочная работа, и я неделю не мог до них добраться. Однажды вечером все же решился приступить. Всю ночь читал и давил личинок моли. Каждая глава жизнеописания Чикиты была сшита в отдельную тетрадочку, и нескольких явно не хватало, особенно после середины. На рассвете я кинулся в «Сантовению». К счастью, Кандидо Оласабаль еще не вздумал отдать концы. — Мне нужно узнать, о чем пропавшие главы, — выпалил я, не поздоровавшись. — Помогите мне заполнить пробелы! Кандидо согласился, и мы целый месяц работали с ним по вторникам и четвергам. Я вслух читал мемуары, чтобы освежить его память, а потом он пытался кратко пересказать на мой диктофон содержание тех страниц, что унес ураган Фокс. Вернее, не так уж кратко — Кандидо был не дурак поговорить и иногда сбивался с основной линии. Благодаря его недюжинной памяти недостающие главы удалось восстановить. Я понимал, что Кандидо не всегда полагался на факты и, когда не мог чего-то вспомнить, фантазировал, но другими источниками я не располагал, и приходилось довольствоваться этим. Вскоре после окончания наших трудов меня послали на литературный конгресс в Москву. По возвращении я пошел в «Сантовению» отнести Кандидо в подарок портативный радиоприемник. Он не грелся на солнце у входа, как обычно, а лежал в постели, бледный и исхудавший, и дышал с трудом. Но охота поболтать его не покидала. «Мне на моем веку побриться три раза осталось», — лукаво заметил он на прощание. Перед уходом я справился у врача, болеет ли Кандидо чем-то серьезным. «Годами, — ответила она. — А от этого лекарств не бывает». Когда я вернулся через пару недель, она же объявила мне о его кончине. Я хотел как можно скорее написать роман про Чикиту. Но, как говорится, человек предполагает, а Бог располагает. В апреле 1991 года мне удалось уехать с Кубы, и жизнь завертелась. Сначала я попал в Коста-Рику, оттуда — в Колумбию, и только десять лет спустя, приземлившись в Майами, смог за него взяться. Дело было так: моя подруга Нанси Гарсиа прислала мне фото лилипутки, в которой я узнал Чикиту. Я тут же позвонил в Гавану и спросил у мамы, сохранились ли коробки и кассеты с записями рассказов Оласабаля. «Лежат, где ты их оставил», — ответила она. Мама как раз собиралась навестить меня в Майами и заодно привезла все материалы. Перечитав старые бумаги и услышав голос Кандидо, я уверился, что настала пора писать историю Чикиты. Первым делом я стал разыскивать следы ее пребывания в Соединенных Штатах: во многих газетах нашлись заметки и объявления о выступлениях. Я также побывал в некоторых городах, где она жила и работала. Интернет-аукционы позволили мне пополнить коллекцию новыми документами и фотографиями. Только вот фильма, в котором Чикита снялась в 1903 году, я не смог достать. Если кто знает, где можно его увидеть, буду благодарен за сведения. Так вот, я было думал, что готов сесть и написать роман, но на деле не мог продвинуться дальше, чем на пару строк. Не понимал, что со мной, заподозрил творческий кризис и даже впал в депрессию. Но однажды, перебирая изъеденные молью листы в коробках Оласабаля, я сообразил: самонадеянно с моей стороны пытаться переписать историю, рассказанную одним из персонажей. Почему это я думаю, что у меня получится лучше? Тогда я решил отказаться от роли автора и действовать более скромно, исподволь. Как можно точнее передать воспоминания Кандидо, написать несколько примечаний во избежание неточностей или чтобы пролить свет на определенные подробности, а потом снабдить все преамбулой, из которой читателю становилось бы известно происхождение книги.
Да, Чикита и вправду жила на белом свете, и эта книга — о ее жизни. Я не могу утверждать, что все изложенное — чистая правда. Некоторые персонажи и события так своеобычны и причудливы, что переходят грань абсурда. Другие принадлежат сверхъестественным сферам. По возможности я старался выверять данные и отделять зерна от плевел. Следует добавить, что, к моему изумлению, многое на первый взгляд невероятное оказалось вполне реальным.
Кандидо Оласабаль рассказывает, как познакомился с Чикитой
Для начала запомни три вещи. Во-первых, Чикита любила приврать. Если б я верил всем ее россказням, с ума бы спрыгнул. Мастерица была мешать правду с выдумкой и приправлять по своему вкусу. Во-вторых, как всякий порядочный Стрелец с асцендентом в Козероге, она была жутко упрямая. Знает, что не права — а ни за что не сдастся. Чтобы она сказала: «Я ошиблась»? И думать забудьте! Еще и властная. Если когда и вела себя тише воды — хотя сомневаюсь, — то не на моей памяти. Чикита, с которой я познакомился, была не подарок, отличалась высокомерием и любила командовать. Когда ей перечили, рвала и метала. Может, в глубине души она страдала из-за своей внешности, но при мне ничем себя не выдавала. В-третьих, таких распутниц свет не видывал. Судя по личику на фотографиях, она была тише воды, ниже травы, а на деле кокетничала напропалую и вечно норовила всех кругом соблазнить, взять в полон своими чарами. Просто удовольствие от этого получала. Тебе, верно, трудно представить, но было в ней этакое нечто, от чего мужики с ума сходили. Да и некоторые бабы тоже. Я вдоволь наслушался рассказов о ее похождениях и теперь знаю, что в мире куда больше извращенцев, чем принято считать. В 1930 году мне исполнилось двадцать три, и я мог печатать на машинке пятьдесят слов в минуту. Я был худой и довольно симпатичный, да и, не поверишь, с пышной шевелюрой. Два года назад я приехал в Тампу работать на дядюшку, который там поселился еще до моего рождения. Мама написала ему, что мы в Матансасе совсем загибаемся с голодухи, и рассказала про меня: я, мол, юноша с устремлениями, научился управляться с пишущей машинкой и имею склонность к сочинению виршей. Письмо, надо думать, вышло трогательное, потому что дядюшка оплатил мне билет, и я отправился помогать ему в бизнесе — был у него пансион неподалеку от табачных фабрик в Ибор-Сити. Днями напролет я жарил рыбу, но, стоило дядюшке отвернуться, все бросал и принимался писать стихи и читать. У меня набралась целая тетрадка стихов. Отвратительных, помнится, хотя пара сонетов, может, была не так уж плоха. Со мной работал один негр с Багам, рыбу чистил как зверь. Мы целыми днями куковали в кухне и развлекались тем, что я учил его испанскому, а он меня — английскому. Каждый раз, как он пробовал ответить клиентам — а клиенты все как один были кубинцы, — я думал: «Если у меня такой же английский, как у него испанский, мне крышка». В один прекрасный день я сжег рыбу, пока размышлял над рифмой, и дядюшка со скандалом вышиб меня с работы. Я возрадовался. Не для того я оставил мать одну в Матансасе, чтобы тухнуть в какой-то кафешке. Надо чего-то добиваться. Идти к процветанию. А так у меня даже подружки нет из-за рыбного духа. Попробовал работать крутильщиком, но сигары у меня выходили горбатые, и на второй день меня уволили. Я бы с удовольствием стал чтецом на фабрике, читал бы работникам вслух «Преступление и наказание» или «Отверженных», а мне бы за это платили, но куда там, такая работа на улице не валяется. Тогда кто-то нашептал мне, что в Бруклине какие-то выходцы из Матансаса печатают газету на испанском, и я, как полный кретин, ринулся туда, полагая, что за способности к машинописи меня возьмут. На месте я узнал, что газета закрылась год назад, а найти работу в Нью-Йорке труднее, чем сорвать куш в лотерею. Пока я жарил рыбу, экономика Штатов совсем загнулась, а я ни сном ни духом. В одном пансионе я снял комнату с двумя итальянцами. Как же они храпели, сволочи! Днем мы бродили туда-сюда с прорвой других безработных и хлебали бесплатный суп, который раздавали на улице. Потом эти времена назвали Великой депрессией, но в начале они никак не назывались. Когда сбережения иссякли, я переехал на скамейку в парк. Итальянцы вскоре ко мне присоединились. Чтобы было не так зябко, мы мяли газеты и оборачивались ими под одеждой. Однажды ночью итальянцы задумали стянуть мою стихотворную тетрадь, чтобы вырвать страницы и ими греться. Пришлось отбиваться — на том наша дружба и закончилась. Осень шла к концу, в любую минуту могли наступить холода. И где мне тогда было ночевать? До сих пор получалось выживать, не воруя, но, если бы дела так шли и дальше, — пришлось бы. И тут, словно Господь Бог решил напомнить, что Он есть, случилось нечто неожиданное. Я обшаривал урну в поисках газет и — к чему скрывать? — какого-никакого пропитания и наткнулся на следующее объявление:Глава I
Эспиридиона Сенда появляется на свет. Молоко Нефертити. Заполошные крестины. Предостережение из потустороннего мира. Визит в Матансас великого князя Алексея Романова. Поездка в долину Юмури. Амулет. Странные письмена. Билокация горбуна. Братья и сестры Чикиты.В двенадцатый день рождения старшей дочери доктор Игнасио Сенда позвал ее к себе в кабинет, велел прислониться спиной к стене, где висел его диплом Льежского университета, и измерил дочкин рост. — Двадцать шесть дюймов, — тихо пробормотал он. Точно как в прошлом году. И в позапрошлом. При девочке деликатно старались не обсуждать вопросы роста, но она знала, что надежду на ее рывок вверх потеряли в семье все, кроме отца. — Зато я и не уменьшилась, — пошутила Чикита, желая развеять мрачность, и ласково обняла отца за коленки. Ее вовсе не волновало, сколько в ней дюймов. Недостаток роста с лихвой восполнялся избытком ума. Чикита давно смирилась с тем, что она карлица. — Не смей так говорить! — бранилась Сирения дель Кастильо, ее мать, всякий раз, слыша это слово. — Ты не карлица, ты лилипутка. Но Чикита не улавливала разницы. — Карлики — неуклюжие уродцы, — с упреком поясняла Сирения, не переставая орудовать вязальными спицами. — А у тебя гармоничная, грациозная фигурка. Ты само совершенство. «Совершенство среди карликов. Совершенная карлица», — хотела было ответить Чикита. Но к чему? Эспиридиона Сенда дель Кастильо родилась в семь часов утра 14 декабря 1869 года в городе Сан-Карлос-и-Сан-Северино-де-Матансас, на северном побережье острова Куба. Дон Игнасио не взялся принимать роды у супруги, боясь, как бы ему не изменило обычное хладнокровие, и попросил об услуге коллегу, Педро Картайю, которому полностью доверял. Будто обыкновенный муж, а вовсе не один из самых уважаемых врачей провинции, он ждал в кабинете, прихлебывая виски и шагая из угла в угол, пока женины стоны разом не прекратились и не послышался слабый плач. Он бросился к дверям спальни, но на пороге стал как вкопанный, не смея войти. Впрочем, долго оставаться на месте не пришлось: через пару минут появился доктор Картайя. — Всё в порядке? — выпалил дон Игнасио. — Всё на месте? — с напором продолжал он, поскольку до смерти боялся, как бы у ребенка не случилось какого уродства. — Успокойся, дружище, — отвечал Картайя. — Прекрасная здоровая девочка. Только вот… маловата, — осторожно добавил он. «Маловата» — сказано по доброте душевной. Мгновение спустя Игнасио Сенда, сглотнув комок в горле, уверился, что девчушка очень маленькая. Даже слишком. Он в жизни не видал таких крохотных новорожденных. В остальном же — весьма ладненький младенец, ничего лишнего и всё на месте. Дон Игнасио, стараясь не выдать замешательства, поцеловал в лоб Сирению, которая качала уже вымытую и спеленатую дочку, и объявил, что беспокоиться не о чем. — Должный уход, хорошее питание — и вырастет как миленькая! — сказал он. Взять хотя бы его самого, такого высокого и крепкого, — а ведь родился чахлым недоноском. Жена хотела было возразить: их доченька — никакой не недоносок; все положенные девять месяцев провела в утробе. Как ей удалось совсем не вырасти?! Но бедная Сирения так утомилась, что предпочла молча кивнуть, закрыть глаза и погрузиться в животворный сон[2]. Донья Лола, мать Сирении, выбирала имена всем своим детям и большинству внуков по святцам и потребовала, чтобы девочку назвали Эспиридионой в честь святого Спиридона, кипрского епископа-чудотворца. Игнасио предпочел бы имя попроще, покороче и чтобы легко запоминалось, к примеру Ана или Роса, но спорить с тещей не захотел, и та настояла на своем. Чикита всю жизнь терпеть не могла свое имя, вычурное и неуместное, и пользовалась им лишь в случае крайней необходимости. К счастью, почти все скоро позабыли, что она приходится тезкой святому киприоту, и звали ее попросту Чикитой, то бишь Крошкой. Этот обычай завела ее мать с тех пор, как впервые взяла ее на руки — «моя крошка-крохотулечка», — и всем ласковое и ладное прозвище тут же пришлось по нраву. Только донья Лола назло остальным величала внучку Эспиридионой всякий раз, как являлась в гости, — а являлась она ежедневно утром, днем и вечером, поскольку жила поблизости; она обожала совать нос в чужие дела и переиначивать приказания, которые дочь давала рабам из домашней прислуги.
Супруга доктора Сенды всего неделю кормила дочь грудью; молоко пропало из-за ужасающего известия: испанские колониальные власти пронюхали, что ее родственник по имени Тельо Ламар у себя в поместье отливает пули, и после молниеносного суда расстреляли несчастного у стены старинного кладбища Сан-Хуан-де-Дьос. Куба вот уже больше года воевала за независимость. Пока повстанцы сражались в глуши, в городах испанские войска и целые батальоны местных добровольцев держали народ в страхе. Всякий осмеливавшийся высказаться за сепаратистов рисковал угодить за решетку и потерять все имущество, быть высланным на остров Фернандо-По в далекой Африке или казненным, как бедолага Тельо. По всей стране людей обирали и расстреливали; Матансас же оставался едва ли не последним уголком относительного спокойствия. Революционеров и тут было в избытке, но власти железной рукой в зародыше душили всякую попытку заговора. Словом, супругам Сенда пришлось нанять кормилицу-негритянку, известную на весь город. Ее густого молока хватало многим малышам, и росли они от него как на дрожжах. Только не подумайте, будто Чикита была одной из тех капризуль, что воротят нос от предложенной груди. Совсем наоборот: она, словно теленок, присасывалась к темному соску и с аппетитом обедала. За три недели она округлилась и прямо-таки полыхала здоровьем, но все же оставалась сущей малявкой, головастиком, то и дело норовившим выскользнуть из рук. Однажды утром кормилица, занятая своими обязанностями, неосмотрительно произнесла вслух то, о чем вся прислуга думала и помалкивала: «Сдается мне, ангелочек-то у нас — карлица». На беду, мать Сирении услышала ее и в два счета выставила из дому, обругав сперва грязной болтливой черномазой. Случилось так, что как раз в это время доктор Сенда принимал одного почтенного горожанина, подхватившего в борделе мадам Арманд нечто венерическое. И врач, и пациент прекрасно слышали брань доньи Лолы и напрасные оправдания служанки, и последний, желая помочь своему спасителю, рассказал, что у него в имении, в местечке Альтурас-де-Симпсон, живет замечательная одноглазая старая верблюдица. Ее молоко, каковое некоторые почитают чудодейственным, избавило от голодной смерти не одного слабого здоровьем младенца. — Верблюдица у нас в Матансасе? — удивился доктор Сенда. — Совершенно верно, — подтвердила жертва мадам Арманд. Несколько лет назад его дядюшке втемяшилось привезти из Сахары верблюдов в качестве вьючной скотины. Он заказал целую дюжину и пытался приспособить их для работы на сахарных плантациях. Вскоре стало ясно, что план потерпел полный крах. Несмотря на баснословную сухо- и жароустойчивость, верблюды оказались совершенно непригодны для тропиков. Красная почва и буйная растительность словно бы притупляли их чувства; они спотыкались на каждом шагу и стонали, тоскуя по родным барханам, и только двое — Аменофис и Нефертити — выжили. — Дядюшка вконец извелся от этих нервических жвачных тварей. Продал самца в цирк, а самку подарил мне. И я вам ее с радостью одолжу, — объявил больной. Предложение было немедленно принято. В тот же вечер Нефертити сдержанно проплыла по всем улицам города на радость и удивление толпе и поселилась во дворе у семейства Сенда. Чиките новое питание пришлось по вкусу, и следующие несколько месяцев она жадно припадала к щедрым рожкам, на которые домашние возлагали большие надежды. Предполагаемые волшебные свойства верблюжьего молока, однако, остались под вопросом, поскольку росту в девочке не прибавилось. Не помогли и пюре из маниока, маланги и батата, на которых старая рабыня Минга вырастила Сирению, и дорогущие снадобья, доставляемые по заказу доктора Сенды из Европы. Эспиридиона росла вызывающе медленно, с какой-то оскорбительной неохотой. Когда ей исполнилось полгода, падре Сирило окрестил ее прямо в родительском доме. Крестными выбрали доктора Картайю и кузину Сирении Канделарию, которую все звали Канделой. Чикита, пребывавшая на руках у крестной, самым неподобающим образом описалась, когда ее окропляли святой водой. Присутствующие сделали вид, будто ничего не заметили, но после церемонии вдоволь посмеялись. Падре Сирило признался, что таких проделок за крещаемыми не припоминал. Вполне возможно, это обильное дерзкое излияние в самую неподходящую минуту означало, что девчушке предстоит всю жизнь совершать нечто необычайное. — Ах, она же просто куколка! — восклицали подруги Сирении и выхватывали малышку друг у друга. Каждой хотелось держать ее на руках, тискать и восхищаться ее черными глазками и волосами. Но, стоило Сирении отойти, они принимались многозначительно приподнимать брови и обмениваться недоуменными взглядами. Девочка, конечно, красавица, но уж больно мелковата. Все приготовленные заранее одежки оказались ей велики, и пришлось заново нашить крошечных пеленок, распашонок и платьиц. Это ведь ненормально. Бедняжка Сирения. Тяжкий крест ей достался. Супругам Сенда тяжело было побороть боль и негодование от того, что они произвели на свет столь странное существо. Они обожали Чикиту и все же не могли принять ее такой, какая она была. Их яростная любовь к дочери не знала границ, и неизвестно, как прихотливо мешались в этом чувстве нежность, жалость и угрызения совести. Они выносили Чикиту на улицу лишь по крайней необходимости, чтобы избежать любопытства и насмешек злокозненных горожан, и обижались, если родственники и друзья окидывали их чадо сочувственным взглядом. Сирения часами сидела в церкви и молилась всем святым чудотворцам подряд, а Игнасио строчил письма лучшим европейским докторам в надежде, что те посоветуют лекарство для роста мышц и костей или хотя бы разъяснят болезнь Чикиты. Добился он лишь новой порции соли на свои раны: одно светило соизволило ответить, что вероятность породить такого ребенка равняется вероятности найти пресловутую иголку в стоге сена, но не пояснило, почему именно им досталась эта иголка. Сенда были молоды, здоровы, и в их семьях не встречалось случаев карликовости. Кто же виноват в случившемся? Может, это кара Господня? Расплата за неведомый грех? Падре Сирило поспешил разубедить несчастных родителей: ни в коем случае нельзя полагать, будто их постигло наказание. По его мнению, рост Чикиты являл собой посланное Всевышним испытание веры и силы духа Игнасио и Сирении. Последняя, однако, так отчаялась, что однажды упросила Мингу сходить с ней к колдунье-майомбере, которую тайком посещали многие дамы в Матансасе. Укрывшись от любопытных глаз под мантильями, они отправились в хижину на берегу реки Канимар, где жила Нья Фелисита Семь Молний. Хозяйка и рабыня молча смотрели, как негритянка плещет ромом на дно котелка. Трехногий железный котелок был ее нгангой, инструментом колдовства. Внутри лежали: земля кладбищенская и с перекрестка дорог, человеческий череп, веточки с разных деревьев и косточки всякого мелкого зверья. Это было вместилище духов, сверхъестественного, жилище Мертвеца. Некоторые майомберы заставляли покойников творить дурное. Но только не она, подчеркнула Нья Фелисита: она — майомбера-христианка и печется лишь о благе людском. Начертав странную фигуру на полу, колдунья забубнила:
29 ноября 1871 года четвертый сын русского императора Александра II с официальным визитом прибыл в Нью-Йорк на борту фрегата «Светлана». В течение трех месяцев и трех дней великий князь Алексей Романов со свитой путешествовали по Соединенным Штатам. Свита состояла из одного адмирала, двух князей и уродливого горбатого карлика по имени Аркадий Аркадьевич Драгулеску, который некогда был наставником двадцатилетнего Алексея, а нынче сопровождал его в качестве секретаря. В Вашингтоне их принял президент Грант. Отношения американцев с Российской империей развивались в ту пору самым прекрасным образом, поскольку несколько лет назад император согласился уступить Штатам Аляску за пять миллионов долларов[3]. «Юный викинг» — так прихотливо окрестила пресса великого князя — побывал везде, от золотых и медных приисков до фабрик свиных консервов, и повсюду его принимали с воодушевлением. В конце путешествия Алексей отправился в Пенсаколу, штат Флорида, где вновь взошел на борт «Светланы». Однако судно не устремилось к родным берегам, а взяло курс на Кубу. Неизвестно, чем приглянулся русским самый крупный из Антильских островов, где испанцы и креолы вели кровопролитную войну, конца-краю которой не было видно. Великий князь не удовольствовался одной Гаваной и пожелал посетить также Матансас, «Кубинские Афины». Там его ожидал самый теплый прием. Бригадир Луис Андриани, губернатор провинции, встречал гостя на вокзале. Торжественная процессия в сопровождении оркестра потянулась по главным улицам под грохот военного салюта. Горожане бросали цветы под колеса кареты. — Неужели на Кубе и вправду идет война? — переспросил Алексей, очарованный устроенным праздником. — Кто бы мог подумать! Губернатор Андриани с гордостью показал гостям Дворец Правительства, но после под предлогом неотложных военных дел передал их в руки своего секретаря и мэра. Те, в свою очередь, продемонстрировали княжеской делегации газовую фабрику, недавно запущенный водопровод, доставлявший воду из ключей Бельо в бедные кварталы, и строящиеся мосты через реки Сан-Хуан и Юмури, каковые пересекают весь центр Матансаса. Перед замком Сан-Северино, некогда военной крепостью, а ныне тюрьмой, они проехали, но внутрь решили гостей не заводить — как знать, не наткнешься ли некстати на расстрел. Гостеприимные хозяева немало смущались, потому что пара-тройка хулиганов из толпы ухитрилась выкрикнуть нечто обидное карлику, который едва поспевал за широкой поступью великого князя и вынужден был передвигаться вприпрыжку. Экскурсия завершилась на живописном холме Бельямар. Оттуда открывался вид на нескончаемую суматоху порта: снующие торговые суда под разными флагами, пассажирские и почтовые пароходики, рыбачьи лодки и буксиры. Грузчики втаскивали в трюмы ящики с сахаром, сигарами, табачным листом, бочонки рома, меда и воска. «Наша бухта больше Гаванской», — похвастался мэр, но тут же признал, что порт Матансаса уступает столичному в безопасности, поскольку открыт всем ветрам, да и неприятелю. И долго развлекал гостей историями о временах, когда Фрэнсис Дрейк и другие пираты грабили Матансас, запасаясь продовольствием и дровами. Вечером состоялся бал. Десятки элегантных барышень и дам стеклись в здание Лицея, готовые доказать, что здешние обитательницы не зря славятся красотой. Царевич поразил всех статью и ростом. «Как жаль, что такому красавцу не унаследовать российский трон по смерти Александра Второго», — прошептала Сирения кузине Канделе. И всего-то потому, что он не старший сын! Что касается Драгулеску, то он на балу не объявился, так что не присутствовавшие на утреннем параде остались с носом и не смогли воочию убедиться в странных манерах и внешности княжьего секретаря. Алексей отличался не только красотой, но и добрым нравом и разговорчивостью. Довольно долго он по-французски — так что Сирения прекрасно все понимала — рассказывал о поездке по Соединенным Штатам. Более всего ему пришлись по душе равнины Небраски, где он несколько дней охотился в компании Буффало Билла и генералов Шеридана и Кастера. Как чудно скакать во весь опор вслед за стадом бизонов! Поначалу он не мог поразить добычу, но, когда Буффало Билл поделился с ним секретом, все изменилось. А секрет был такой: спускать курок следует, когда ваш конь поравняется с бизоном, которого вы приметили. Кроме того, князь удостоился приема у Полосатого Хвоста, вождя индейцев сиу, знаменитого доблестью в сражениях с бледнолицыми. В благодарность за подаренные русскими сахар, кофе, муку и табак Полосатый Хвост выкурил с Алексеем трубку мира и велел своим воинам сплясать в его честь танец войны. К восторгу собравшихся на балу великий князь, нимало не стесняясь, изобразил некоторые па пляски свирепых сиу. И признался, что чуть было не сорвал поцелуй с уст одной индианки, но, к счастью, Буффало Билл успел предупредить, что это дочь самого вождя. — А поцеловал бы — пришлось жениться. И сейчас моя супруга щеголяла бы здесь мокасинами и перьями на голове, — пошутил князь. Девушки увивались вокруг почетного гостя в надежде быть приглашенными на танец. По слухам, молодой человек был влюблен в крестницу прусского короля и другими женщинами не увлекался. Возможно, именно поэтому, открыв бал в паре с толстой и неуклюжей супругой бригадира Андриани, он весьма придирчиво отнесся к выбору следующих партнерш. Первой оказалась Сирения, что вызвало всеобщее удивление. Великий князь направился в угол, где пребывало семейство Сенда, и, по-военному щелкнув каблуками, просил доктора о чести станцевать с его дражайшей половиной. Игнасио, которому польстило, что его жена затмила такое множество прелестниц, не заставил себя упрашивать, а Сирения вдруг почувствовала, как ноги у нее становятся мягкими, словно масло. Несколько минут Алексей мурлыкал о каких-то пустяках, пока она, не в силах прийти в себя, могла лишь улыбаться в ответ. И вдруг он спросил, есть ли у них дети. — Oui[4],— прошептала Сирения и собиралась было рассказать о Чиките, но царевич прервал ее. — Ни слова больше! Позвольте мне угадать, — сказал он и будто бы пришел в величайшее сосредоточение. — Кажется, это девочка? — Она удивленно кивнула. — Прекрасная девочка, ей два года два месяца одна неделя и один день от роду, и она очень, очень маленькая? — Сирения нервно рассмеялась и спросила, как он с такой точностью определил возраст Чикиты. — Все русские немного волшебники, сеньора, — отвечал князь и повел рассказ о ясновидческом даре своей прабабки Екатерины Великой, которая подчас вгоняла в краску придворных дам, во всеуслышание угадывая, что каждой снилось накануне. Музыка умолкла. Князь подвел Сирению к мужу, отдал честь и более не взглянул на них во весь вечер. Когда Кандела поинтересовалась, о чем кузина говорила с царевичем, Сирения солгала: «О сибирских снегах и медведях». Кандела надеялась на более романтичные темы и осталась разочарована. После полуночи Сенда собрались уходить. Секретарь губернатора преградил им путь и сказал, что завтра великий князь совершит загородную прогулку. Для пущей приятности бригадир Андриани решил пригласить несколько супружеских пар из высшего общества Матансаса. Не соблаговолят ли доктор Сенда с супругой, столь безупречно владеющие французским, присоединиться?
Участники прогулки собрались на Гербовой площади, у мраморной статуи Фердинанда VII, и ровно в девять утра бригадир Андриани дал знак к началу. Вереница экипажей, первый из которых был отделан серебром и мог похвастаться винно-красными бархатными сиденьями; на них восседали великий князь и губернатор, двинулась к Ла-Кумбре, горе в трех милях от города. С ее вершины гости могли полюбоваться главной гордостью Матансаса: долиной Юмури. Сирения втайне надеялась хоть одним глазком глянуть на секретаря-карлика, но напрасно — он так ине появился. Их сопровождал кавалерийский отряд. «Во избежание неприятных сюрпризов», — пояснил Андриани. — Из чего я заключаю: первое впечатление обманчиво, и на Кубе все-таки идет война, — иронично заметил Алексей Романов. — Это ненадолго, — отвечал губернатор и предположил, что повстанцы продержатся еще пару месяцев, не больше. По бульвару Санта-Кристина кавалькада въехала в квартал Версаль, самый модный и богатый в Матансасе. Оценив сосновые аллеи, здание казарм, лечебницу «Ла-Космополита» и элегантные усадьбы знатнейших семейств города, гости и сопровождающие начали подъем на гору Ла-Кумбре. Сначала они добрались до Нижней вершины, а оттуда направились к поместью Маи на Верхней вершине. Последняя часть пути пролегала по неровной каменистой дороге, и им пришлось вытерпеть немалую тряску, чтобы попасть на смотровую площадку. Высыпав из экипажей, они обнаружили, что их обогнали. На валуне сидел и сосредоточенно обозревал долину низкорослый кабальеро. «Вот он, карлик», — сказала себе Сирения, жадно рассматривая его. Лоб покрывала тонкая сетка морщин, бесцветные волосы спадали до плеч, а элегантный сюртук не мог скрыть горба. — Видимо, дражайший Аркадий Аркадьевич поднялся спозаранку, чтобы в одиночестве наблюдать здесь рассвет, — сказал великий князь и тут же представил всем своего бывшего наставника. По сердечным похвалам собравшиеся поняли, что князь испытывает огромное восхищение перед Драгулеску. — Это самый мудрый человек из всех, кого я знаю, — с жаром заверил он. Сирения подумала, что карлик, может, и светило, но манеры его оставляют желать лучшего: он лишь неохотно привстал и холодно поприветствовал прибывших легким поклоном. Потом снова уселся на камень, нацепил монокль и перестал обращать внимание на все, кроме великолепного пейзажа. Стояло ясное утро, и с высоты прекрасно просматривалась вся роскошная долина. Она походила на естественный амфитеатр, а разнообразие зеленого привело русских в восторг. Четвертый цвет спектра переливался неожиданными оттенками: поля сахарного тростника, кукурузы, маниока и батата, кофейные плантации и банановые рощи играли нежными, сверкающими, глубокими и темными мазками зелени, явственно отличаясь друг от друга, луга, леса и верхушки королевских пальм вносили свой вклад в это разнообразие. Там и сям виднелись участки свежевспаханной земли, плуги, хижины, конюшни, коровы, пруды, мужчины, скачущие верхом или мотыжащие поле, женщины, занятые стиркой или уборкой дворов, рабы, рубящие тростник и укладывающие его в тюки, повозки, волы, сахарные заводики, множество дорог и петляющих тропок, а также выжженные и вырубленные пустыри. — Вон то ущелье известно как Теснина. — Секретарь губернатора показал на прорезавшую скалы щель, по которой струились искристые воды реки Юмури. — Там, в пещере Святого, по вечерам, бывало, являлся образ Богоматери. Мэр перебил, напомнив, что ущелье в окружающих долину холмах десять лет назад стало местом невиданного подвига. — Один американский канатоходец по имени мистер Делэйв протянул поверх Теснины веревку и перешел по ней пропасть. Мы так и не поняли — храбрец он или идиот. Секретарь губернатора, страшно недовольный вмешательством, продолжил географические пояснения: — Вершина на западе, Пуп Матансаса, служит ориентиром судам, заходящим в бухту. Похожа на спящую женщину, не правда ли? — Русские из вежливости кивнули, не находя никакого сходства. — Легенда гласит, что среди индейцев этой долины была девица, сводившая мужчин с ума красотой и кокетством. Никто больше не желал ловить рыбу, охотиться или сажать маниок: все только и делали, что волочились за любвеобильной Байгуаной, которая никому не отказывала во взаимности, покуда вождю не надоело это безобразие и он не принес индианочке в подарок волшебную рыбу. Когда она отведала рыбы, ее одолел сон, и она прилегла перед своей хижиной. А наутро превратилась в ту гору, что вы сейчас видите. Повисло молчание, и все взоры обратились к Алексею: каково его мнение о долине? Молодой князь пребывал в совершенном упоении и лишь несколько минут спустя высказался: — Не хватает разве что Адама с Евой в этом раю! — воскликнул он наконец, и все рассмеялись и захлопали такому остроумному замечанию. Полчаса они оставались на смотровой площадке и оживленно беседовали, а когда великий князь обронил, что ему будет не под силу описать отцу всю красоту этого места, Игнасио Сенда торжественно протянул ему свернутый картонный лист. — Скромный сувенир от нас с супругой. Это была гравюра, подробно изображавшая долину Юмури. Алексей пообещал повесить ее у себя в покоях и всегда помнить чудесную экскурсию. До сих пор великодушное солнце начало нещадно палить, русские обливались потом, и губернатор счел за лучшее отправиться к трехэтажному особняку дона сеньора Мануэля Маи, чтобы отобедать. Все его поддержали. Сирения заметила, как царевич отходит к скале, на которой все еще сидел его безразличный наставник, и что-то ему шепчет. Может, выговаривает за неучтивость? Драгулеску и ухом не повел, упрямо вглядываясь в долину. Не скрывая досады, Алексей развернулся и сел в карету губернатора Андриани. Экипажи тронулись. Сирения выглянула в окошко, чтобы в последний раз увидеть карлика. Тот внезапно обернулся, одарил ее загадочной улыбкой и помахал на прощание. Сбитая с толку Сирения помахала в ответ. — Какой он таинственный, этот Драгулеску, — заметила она, откидываясь на сиденье. — Ни с кем не говорил, всех откровенно обдал презрением, и теперь мы уехали, а он остался. Как он вернется в город? Игнасио не разделял ее тревог: — Так же, как приехал сюда. Наверное, верхом. — Что-то я не заметила лошади. — Это же русские, им без странностей никак, — заключил доктор, пропустив мимо ушей ее наблюдение. Сирения кивнула и снова высунулась в окошко. От вида сгорбленной фигуры Аркадия Аркадьевича на фоне ясного голубого неба ее прошиб озноб.
Дон Мануэль Маи, миллионер и племянник бывшего генерал-капитана Кубы приготовил гостям обед, достойный не только великого князя, но и самого царя. Они с супругой Исабель предпочли не взбираться на Ла-Кумбре, а остаться дома и следить за подготовкой к пиру. Когда все расселись за столом, Маи провозгласил тост за главного гостя, а тот, в свою очередь, осушил бокал за природу Матансаса, благородство здешних кабальеро и приятность «волн Юмури». После речей целая армия слуг принялась подавать на серебряных подносах разнообразные мясные и овощные деликатесы. Иностранцы воодушевленно приступили к яствам, в большинстве им незнакомым: тамали, жареные зрелые бананы, маниок с соусом мохо, окра… И все же особым успехом пользовался жареный молочный поросенок с хрустящей корочкой, приправленный чесноком и соком кислого апельсина и начиненный рисом с фасолью. Как почетному гостю Исабель Маи поднесла Алексею Романову поросячий хвостик, и великий князь — из учтивости или от чистого сердца? — объявил, что никогда не едал ничего вкуснее. После сладкого и кофе все вышли в увитый цветами дворик, под сень фруктовых деревьев размять ноги. Сирения и доктор Сенда под перголой уговаривали домашнего какаду что-нибудь сказать, когда к ним подошел великий князь и отдал честь по-военному. — Я хотел бы ответить на вашу любезность, — сказал он и извлек из кармана изящную алебастровую шкатулку. — Прошу вас, примите в дар для вашей дочери. «Дочери! Дочери!» — вдруг зашумел какаду, радостно взмахивая крыльями. Сирения нерешительно глянула на мужа, заручилась его молчаливым согласием, взяла подарок и, сгорая от любопытства, открыла. Внутри оказалась тоненькая золотая цепочка, а на ней — золотой же крошечный шарик. — Это талисман, — пояснил великий князь. — Шар означает мир, но σφαίρα также, с греческого, — бесконечность и совершенство. Если ваша девочка станет всегда носить его с собой, вселенная будет к ней благосклонна, удача от нее не отвернется, где бы она ни оказалась, и она проживет долгую счастливую жизнь. Вернувшись домой, Сирения вошла в комнату, где Чикита играла под присмотром доньи Лолы и Минги, и показала им подарок. — Я обещала великому князю, что мы никогда не будем его снимать, — сказала она, застегивая цепочку на шейке Чикиты, и веско добавила, глядя на рабыню: — Поняла, Минга? Даже во время купания. — А ну как почернеет? — возразила Минга, подозрительно оглядывая талисман. — Нет, вы только послушайте, что она несет! — возмутилась донья Лола и с напором продолжала: — Ты что думаешь, Романовы дарят всякую дешевку, дура? Это чистое золото из русских копей, а лучше этих копей в мире нет! Указание выполнялось беспрекословно. Чикита так свыклась с шариком, что начала воспринимать его как часть своего тела. Лишь много лет спустя она узнала, почему великий князь решил сделать ей такой подарок. Это был вовсе не простой амулет, а нечто гораздо большее. Но всему свое время, и до княжеского подарка дойдет история. В тот же вечер взглянуть на талисман явилась Канделария. Она-то и заметила крошечные знаки, нацарапанные на золотом шарике, сняла подвеску с крестницы и изучила при свете свечей. — Это что, буквы? — полюбопытствовала Сирения, которая плохо видела вблизи. — Скорее палочки и закорючки, — задумчиво протянула Кандела. Об открытии рассказали Игнасио, он положил шарик под микроскоп, внимательно рассмотрел и объявил: — Это иероглифы. — Но что они означают? — настаивала Кандела. Доктор пожал плечами. Он ни на йоту не верил в сверхъестественную природу талисмана, но разубедить жену не представлялось возможным. — Ну, если уж он не волшебный, то, по крайней мере, очень странный, — сказала Сирения, и на том разговор и кончился. Когда Игнасио удалился, Кандела кое-что рассказала кузине по секрету. Около полудня она прогуливалась с отцом возле театра «Эстебан». И кого же, вы думаете, она там увидела? Не кого иного, как секретаря великого князя! Под охраной двух солдат он стоял и любовался памятником Колумбу. — Не может такого быть, — возразила Сирения. — В это время месье Драгулеску находился на горе Ла-Кумбре и осматривал долину. — Я не только видела его, но и почувствовала его запах, — артачилась Кандела: когда она проходила мимо карлика, ее обдало волной как бы прокисшего лука. — Ты, верно, обозналась, — сказала Сирения. — А ну-ка, опиши его. — Безобразный, горбатый, с длинными седыми космами, — отчеканила Кандела. — При монокле и в синем сюртуке с золотыми пуговицами. — Да, это он и есть, только ты никак не могла видеть его в это время и в этом месте, — в замешательстве произнесла Сирения, не желавшая сдаваться. — Ну, так значит, или я сумасшедшая, или это было видение, — усмехнулась Кандела. — И, может, я и вправду рехнулась, но мой отец в здравом рассудке, а он его тоже видел. В общем, одной из нас явился призрак. Загадка карлика, который, подобно Франциску Ассизкому или Антонию Падуанскому, видимо, обладал даром находиться в двух местах одновременно, так и осталась без ответа. Впрочем, кузины недолго пытались ее разгадать. У них нашлись и другие поводы для сплетен. К примеру, платье, выбранное Исабель де Маи для приема царевича. На следующий день рано утром русские погрузились в особый поезд и отбыли из Матансаса. Ничто больше не удерживало их в городе мостов. Они посмотрели и сделали все, что хотели. Когда Эспиридиона Сенда выросла (точнее, когда повзрослела, потому что ростом она мало изменилась за последующие годы), она часто задавалась вопросом: осмелилась бы она на месте родителей завести еще детей? А если бы по злосчастному стечению обстоятельств им снова досталась иголка в стоге сена? Но несмотря на медицинскую ученость Игнасио, вполне способного позаботиться о предотвращении беременности, его супруга произвела на свет еще четверых. Он лично перерезал всем пуповины и приветственно шлепал по попке, а помогали ему в родах Минга и повивальная бабка. Румальдо родился, когда Чиките сравнялось два года и семь месяцев. В первых родах Сирения стонала и извивалась на постели, словно одержимая, а мальчик на удивление легко выскочил на свет. К всеобщему облегчению, он оказался крупным и крепким. «Этому уже месяца два!» — высказалась Минга, прикидывая, что в младенце у нее на руках добрых фунтов девять. Ростом он был со старшую сестру. Война между кубинцами и испанцами шла почти четыре года, и через несколько дней после вторых родов остро заточенное мачете одного мамби снесло голову с плеч родичу Сирении, сражавшемуся на стороне колонизаторов. На сей раз молоко у родильницы не пропало, разве что стало пожиже, но это не помешало кормить младенца. Как большинство обитателей острова, Сирения привыкла жить в постоянном ужасе. Не прошло и года, как подоспели двойняшки Кресенсиано и Хувеналь, очень разные, но оба долговязые. Война все не кончалась. А после короткой передышки семейство пополнилось прекрасной восьмифунтовой девчушкой. Выбирая имя младшей дочери, Сирения взбунтовалась против указаний святцев и вопреки протестам доньи Лолы назвала малышку Манон в честь героини романа аббата Прево, который прочла на последних неделях беременности. Пытались ли Сенда посредством четырех новых отпрысков оправиться от постигшей их вначале трагедии? Возможно. Дух человеческий имеет множество уголков, куда не под силу заглянуть другим людям. Может, сами того не сознавая, они хотели доказать родственникам и знакомым, а также себе, что в «осечке» с Чикитой следует винить не свойства крови, а божественное провидение. Муж с женой всегда были ласковы ко всем своим детям, но старшую баловали до невозможности и отдавали ей предпочтение перед остальными. Пока младшие дети тянулись к солнцу, как колоски, Чикита, казалось, была обречена остаться размером с куклу. — В самый нежданный день она рванет вверх так, что мы все рты пораскрываем, — предсказывал доктор Картайя всякий раз, как навещал крестницу, чтобы подбодрить родителей. Но предсказание не сбылось. В восемь лет в девочке было чуть более двух футов. Позже ее тело нехотя набрало еще два дюйма и наотрез отказалось расти дальше.
Глава II
Первые карлики. Рустика, Сехисмундо и тайные церемонии. Чикита декламирует «Бегство горлицы» на званом вечере. Кончина доньи Лолы и бдение по ней. Путешествие в Ла-Маруку. Старый сахарный завод. Дон Бенигно, Пальмира и незаконнорожденные отпрыски. История Капитана, невидимого пса. Пожар, безумие и развалины.Довольно долго — потому ли, что ее почти не выводили из дома, потому ли, что в Матансасе жило мало таких людей, — Чикита сталкивалась с крошечными существами только в сказках. Она вовсе не равняла себя с ними, но холодно и отстраненно оценивала их поведение. К примеру, она находила непростительным, что семи гномам настолько застили глаза драгоценные камни и золото, что они отправились в горы и тем самым обрекли Белоснежку на верную погибель от рук злой мачехи. Еще меньше ей нравился Румпельштильцхен. По ее разумению, то, что он помог мельниковой дочке превратить солому в золото и выйти замуж за короля, не давало ему никакого права отбирать у несчастной первенца. Но хуже всех был Мальчик-с-пальчик. Да, он умен и находчив, но у него было каменное сердце. Ничтоже сумняшеся он обманул великана, и тот обезглавил семь своих спящих дочерей. «Он ведь хотел спасти братьев!» — увещевала донья Лола, но внучка отказывалась оправдывать ужасное преступление и долго по ночам мучилась кошмарами, в которых отрубленные головы юных великанш катились вниз с ложа, а девственная кровь, густая и кипящая, толчками лилась из перерезанных артерий на шеях. Мальчик-с-пальчик наверстывал неудобства крохотного роста хитростью и пренебрежением к сомнениям нравственного свойства. Значит, таковы правила игры? Ей тоже придется приспособиться и прибегать к уловкам и коварству, чтобы выжить во враждебном мире, сотворенном не по ее мерке? Ей во всем потакали родичи и рабы, и она не знала, ждет ли ее другая, более суровая и опасная жизнь, в которой любые способы борьбы пойдут в ход. С самого детства Чикита задавалась вопросом о причине своей малости и лишь делала вид, что удовлетворяется объяснениями родителей, ссылавшихся на волю Божию и тайны природы. Прочтя «Путешествия Гулливера», она стала мечтать, чтобы Матансас превратился в Мильдендо, столицу Лилипутии, и окружающие ее родственники, друзья и слуги уменьшились до ее роста. Как было бы чудесно жить в таком месте, где Человек Гора Лемюэль Гулливер выглядел исключением, а не правилом. В один прекрасный день Чикита помогала матери подрезать розы в палисаднике, когда колокольчик у решетки зазвенел и они увидели нищего. Это был дряхлый, босой и оборванный негр. В одной руке он держал мешок, в другой — кастрюлю. Чикита и раньше встречала таких бедолаг, приходивших в особняк за едой, но этот отличался от прочих ростом — вполовину обычного. Она зачарованно и внимательно оглядывала тело нищего: грязные кривые пальцы с длинными желтыми неровными ногтями, нелепо выгнутые лодыжки, покрытые гнойными язвами, выпяченную грудь, худые и короткие, как у тряпичной куклы, руки, несоразмерно огромную голову, уши, словно у летучей мыши, и красные глаза навыкате, смотревшие жалобно. — Подайте Христа ради, сеньора, — завел нищий, и Чикита отметила, что голос его лишен гармонии, как и весь облик. — Минга, Нарсиса! — закричала Сирения и стала перед Чикитой, чтобы она не смотрела на незнакомца. — Принесите поесть этому христианину! После чего стремительно подхватила дочку на руки и убежала в дом. Удаляясь, Чикита бросила последний взгляд на нищего. Карлик заметил ее, и на его лице заиграла кривая благодушная улыбка. Сирения остановилась только в кухне. — Подайте ему что угодно, — велела она рабыням, — и чтобы духу его здесь не было! И наперед скажите, пусть присылает кого другого за едой! Мать поставила ее на пол, и Чикита поспешила к зеркалу. Она тщательно оценила длину своих рук и ног, размер туловища и головы, весь силуэт. Чуть не плачущая Сирения упала на колени рядом с ней. — Не бойся, моя родная, — сказала она. — Это был просто бедный карлик. — Такие они, карлики? — удивилась Чикита, вспоминая картинки в книжках, на которых Румпельштильцхен, семь гномиков и прочие лилипуты выглядели очень по-разному. — Такие они на самом деле? — Всякие. Обычно не такие грязные и уродливые. Полагая, что прогулка поможет забыть о неприятном происшествии, Сирения приказала заложить пролетку, и они отправились в гости к Канделарии, жившей в конце улицы Рикла. Однако поездка оказалась иллюстрацией к поговорке «из огня да в полымя», поскольку перед шляпным магазином «Ла-Гранада» пролетка стала по вине мула, отказывавшегося тянуть встречную повозку. В этот миг Чикита с матерью увидели на тротуаре элегантного кабальеро и с ним молодую карлицу. Она шагала враскачку, будто короткие пухлые ножки под юбкой едва могли удерживать ее в равновесии. По белизне кожи, румянцу и тому, как они всматривались во все кругом, Сирения поняла, что перед ними иностранцы. Отец и дочь? Девушка была одета в сиреневое шифоновое платье и пышную шляпку превосходного качества, однако наряд был излишне ярким и вместо восхищения вызывал на лицах у прохожих выражения жалости, упрека или насмешки. «Боже, чтобы двое за один день?» — пробормотала Сирения. Она хотела было заговорить с Чикитой, отвлечь, чтобы та перестала так беззастенчиво наблюдать за карлицей, но сдалась. «Чему быть, того не миновать». В гостях у Канделы они пробыли недолго, выпили чамполы из анноны, пролистали пару недавно прибывших из Парижа журналов и ни словом не обмолвились о сегодняшних приключениях. Но дома Чикита осведомилась со сдержанной печалью в голосе: — Мама, если я когда-нибудь вырасту, то стану, как они? — Никогда в жизни! — успокоила ее Сирения. Она всегда будет такой, как сейчас, очаровательной и изящной. Милейшей Девочкой-с-пальчик, как в той чудной сказке, что они вместе читали. Мир карликов, который она, недолго думая, заклеймила как неблагодарный и жестокий, — не для Чикиты. Карлики — несчастные создания, все равно — богатые или бедные, потому что, сотворяя их, Бог, на беду, торопился или был занят своими многочисленными обязанностями и как следует не поработал. А Чикита такая, какая есть, потому что у Господа не хватило материала или Он просто пожелал сделать ее уникальной, но уж во всяком случае потрудился Он на славу.
Чикита вызывала буйный восторг у маленьких детей: они принимали ее за живую игрушку, хватали и тискали. В компании ровесниц она чувствовала себя куда лучше. Они были выше и сильнее, зато она наголову превосходила всех в умении выдумывать истории и развлечения. В игре всегда верховодила, а остальные с удовольствием подчинялись. Все кузины приходились ей родственницами со стороны матери, поскольку у доктора Сенды не было братьев и сестер. Более других она любила Эксальтасьон, Бландину и Экспедиту (их имена тоже подбирала донья Лола). На заднем дворе они вместе забавлялись игрой в кухоньку. Под раскидистым авокадо готовили изысканные блюда из листьев, пестрых цветов, земли и камушков. Если кузин не оказывалось под рукой, всегда можно было поиграть с Рустикой, Мингиной внучкой, тихой негритяночкой на год старшее ее, с грустными круглыми глазами и очень худыми руками и ногами. Как у любой домашней рабыни, у той были свои обязанности, но вскоре она уже только и делала, что сопровождала Чикиту, защищала, следила за ее нуждами и выполняла капризы. Рустика беспрекословно слушалась и стойко выносила взбрыки и перемены настроения своей хозяюшки. Чикита славилась мягким покладистым нравом, но наедине могла выказать жестокость, какую никто бы в ней не заподозрил. Она заставляла Рустику подолгу стоять коленями на кукурузных зернах, угрожала, что уговорит доктора Сенду продать ее на какой-нибудь сахарный завод и разлучить с Мингой, обзывала «губастой» и издевалась над коричневыми ладошками Рустики, намекая, что та не умеет как следует мыть руки. Что толкало Чикиту на подобное поведение? Кто знает, может, желание убедиться, что в мире есть существа, более слабые и обделенные судьбой, чем она? Или тот осадок злобы, который — признаем — лежит у всех нас на сердце и подчас подвигает на неблаговидные поступки? Негритяночка выносила измывательства, не сопротивляясь и не жалуясь, с той же твердостью, что ее небесная покровительница святая Рустика терпела римские пытки. Если порой ей и хотелось наподдать плюгавенькой командирше в кудряшках, которая заставляла ее то разбивать яйца ящериц, чтобы посмотреть, что внутри, то шуровать палочкой в содержимом ночных горшков в поисках возможных глистов, виду она не подавала. Разумеется, приступы подлости искупались у Чикиты более частыми проявлениями щедрости и доброты. Она делилась с Рустикой восхитительными сладостями, которые приносил крестный, дарила мыльца и ленты, обнимала, целовала и клялась, что любит ее так же, как кузин, или даже сильнее. Немногих кузенов Чикита считала кем-то вроде зверенышей и никогда с ними не сближалась. Как и ее родные братья, эти дикари только и знали, что орать, бегать и устраивать тарарам. Единственное исключение составлял Сехисмундо, ее ровесник, который жил у доньи Лолы. Его мать скончалась от холеры, когда ему было несколько месяцев от роду, а отец, каталанский делец, вернулся в Испанию, не удосужившись взять сына с собой. Мундо, как все его называли, робкий, слабенький и незаметный, разговаривал тонким голосом и всегда старался уйти в тень. Но, садясь за фортепиано, преображался: его переполняла сила, он забывал про неуверенность и страхи и играл виртуозно. — Этот мальчик вполне способен стать однажды великим музыкантом, — заявила, услышав мазурку Шопена в его исполнении, донья Матильде Одеро, самая изумительная пианистка в Матансасе того времени, и предложила дать ему несколько уроков. Но донья Лола, «хозяйка» Мундо, отклонила предложение. По ее мнению, страсть внука к музыке являлась не более чем милым безобидным увлечением. Занятий с тугоухим учителем один раз в неделю с лихвой хватало. Вскоре Матильде Одеро решила принять постриг и удалиться в обитель Святой Терезы Авильской, и Мундо навсегда утратил надежду стать ее учеником. Хотя с его уст не слетело ни слова упрека, он сделался еще печальнее и забитее. И не утешился, даже когда за несколько дней до ухода в монастырь донья Матильде прислала ему полную коробку партитур. На крышке было написано одно-единственное слово: «Играй». Фортепиано доньи Лолы не настраивалось годами и служило обиталищем термитам, и Сирения разрешала Мундо заниматься за их инструментом. Чикита любила прокрадываться на цыпочках в музыкальную гостиную, где кузен часами просиживал за упражнениями. Она стояла в дверях, старалась не дышать и следила за ним, а он притворялся, что не замечает ее присутствия. Однажды вечером, когда Мундо играл полонез, Чикита подошла ближе и закружилась в танце вокруг фортепиано. Постепенно, порхая легко, словно бабочка, она избавлялась от одежды, пока не обнажилась полностью. Сехисмундо наблюдал за ней краем глаза, не прекращая играть, заливаясь румянцем и обмирая от страха, что сейчас кто-нибудь войдет в комнату и застанет их. Завершив полонез, он закрыл крышку инструмента и остался сидеть на табурете, пока Чикита подбирала платье и неуклюже облачалась. Напоследок они переглянулись и улыбнулись друг дружке робко и лукаво. Такие тайные встречи стали повторяться и скоро вошли в привычку, стали церемонией, которой оба тихонько упивались, как и осознанием своего странного сообщничества. Чикита не следовала выверенным движениям: она просто закрывала глаза, видела разноцветные завитки — тончайший след, оставляемый отзвучавшими нотами, — и позволяла ногам, туловищу, голове и рукам двигаться свободно, выводя в пространстве очертания мелодии, приливы и отливы аккордов. Однажды, к замешательству пианиста, Чикита привела с собой Рустику. Заметив, что они не одни и кто-то третий сейчас станет свидетелем наготы кузины, Мундо не смог сдержать дрожи в пальцах и хотел было встать и спастись бегством. Но Чикита резко скомандовала: «Играй, играй, ничего страшного!» — и ее слов достало, чтобы вернуть волшебство. Рустика превратилась в неотъемлемую часть церемонии, и Мундо, несмотря на первоначальное замешательство, вынужден был признать, что ее немое присутствие придает странное напряжение их сеансам. Негритяночка неподвижно и прямо сидела в углу, не меняя серьезного и изумленного выражения, и с упреком переводила взгляд с пианиста на голую танцовщицу. Мундо с Чикитой не удосужились узнать, нравится ли ей бывать с ними в такие минуты, или она мучается. В конце концов, кого интересует, что думает рабыня? Одним вечером донья Лола внезапно вошла в гостиную и застала танцующую Чикиту. К счастью, та еще не успела обнажиться — в противном случае гнев бабки испепелил бы обоих. А так она, напротив, пришла в восторг и сочла, что экзерсисы внуков следует как можно скорее представить на суд публики. На следующем же званом ужине прежнее слияние душ или невинное заигрывание с запретным плодом перешло в разряд демонстрации талантов, и Чиките с Мундо пришлось преодолевать скромность и повторять номер на множестве вечеров, чтобы позабавить родственников и гостей. Донье Лоле пришло в голову дополнить музыку и танцы чтением стихов — это было новое веяние. Поначалу она сама отбирала стихотворения и разучивала их с внучкой. Но, как правило, они оставляли Чикиту равнодушными, и она сама начала искать те, что приходились бы ей по нраву. Одно стихотворение, обнаруженное в отцовской библиотеке, приводило ее в особый трепет. Это было «Бегство горлицы» Хосе Хасинто Миланеса, уроженца Матансаса. Прочтя пару раз, она запомнила его наизусть и была готова декламировать:
Та поездка, случившаяся на десятый год войны против Испании, стала последней и завершилась ужасающим образом. Ночью накануне возвращения в Матансас повстанцы ворвались в поместье, собрали белых и негров под сейбой, произнесли речь о необходимости всем пожертвовать ради независимости Кубы и подпалили завод, хозяйский дом, рабский барак и тростниковые поля. Сообразив, что бо́льшая часть рабов тут же переметнулись на сторону мамби, Бенигно Сенда вроде как лишился рассудка и, отпихнув сына и Пальмиру, которые старались его удержать, кинулся напролом сквозь языки пламени и тучи пепла. «Неблагодарные! Сатанинские отродья! — завывал он. — Так-то вы кусаете руку, что вас кормит!» Чикита запомнила, каким видела деда в последний раз: он нелепо отплясывал и распевал в клубах дыма, покрытый копотью с головы до ног. Мамби, вероятно, приняли его за неупокоенный призрак, потому что ни один не взял на себя труд обезглавить несчастного. Как только рассвело, Игнасио начал искать отца среди искореженных железяк от мельницы, в бороздах спаленных полей и в ближайших горах, но не нашел. Через несколько часов, поняв, что жена, дети и неразбежавшиеся рабы умирают от голода и жажды, он принял решение вернуться в Матансас. Если дон Бенигно жив, он не замедлит к ним присоединиться. В противном случае Игнасио выставит на продажу землю и оставшихся негров. Большинство их находилось в преклонном возрасте, и за них никто бы много не дал, но Игнасио надеялся выручить кругленькую сумму за Пальмиру и ее потомство. Однако бывшая домоправительница после пожара повела себе подчеркнуто высокомерно, отказалась следовать за семейством Сенда и довела до их сведения, что она со своими мулатиками уже год как свободна. Так и значилось в бумаге, подписанной хозяином Ла-Маруки и спасенной Пальмирой из бушующего огня. Игнасио просмотрел бумагу, которой негритянка трясла у него перед носом, признал почерк отца и сказал, что они могут отправляться, куда им вздумается. Только одна просьба: он знать больше ничего не желает ни о ней, ни об ее отпрысках. — В их жилах — ваша кровь, они могут звать вас братом! — воинственно прокричала им вслед Пальмира, уперев руки в боки, когда Сенда двинулись в обратный путь. Происшествие заинтриговало Чикиту. Значит, Микаэло и остальные мулатики — ее дядья и тетки? Она хотела было разузнать у отца подробности, но вид у того был такой гневный, что она передумала. Исчезновение дона Бенигно породило множество слухов в Матансасе. Кто-то утверждал, что старик выжил в огненном пекле и теперь с помутившимся рассудком бродил по усадьбам и выпрашивал подаяние. Кто-то придерживался другого мнения: помещик укрылся в далеком селении, поскольку не мог перенести вынужденной позорной нищеты. Также ходили слухи, будто мамби держат его пленным в партизанском лагере. И нельзя было исключать, что Пальмира нашла его останки и схоронила в тайном месте, дабы доказать, что она и ее ублюдки ему дороже, чем белая семья.
Глава III
Чикита становится полиглоткой. Появление Буки, манхуари. Урок вокала. Безумие Хосе Хасинто Миланеса. Наконец-то женщина. Тайна Мундо. Сара Бернар выступает в Матансасе. Встреча с Божественной в гримерной театра «Эстебан». Сияние талисмана. Видения в полнолуние.Чикиту в ее двадцати шести дюймах больше всего тяготил не угол зрения, под которым она вынуждена была созерцать мир. Угол, открывавший ей сперва нечищенные ботинки с худыми подошвами, а уж после — блузку и драгоценную сапфировую брошь или исцарапанные пыльные ножки обеденного стола вместо вышитой скатерти и сервиза севрского фарфора. Было нечто унизительное и, без сомнения, несправедливое в том, что она всегда находилась ближе к муравейникам, чем к птичьим гнездам, и поневоле мирилась с этой разочаровывающей точкой обзора, если кто-то не вызывался поднять ее на стул или взять на руки. Но было и кое-что похуже. Больше всего тяготила ее даже не оскорбительная скорость, с которой тянулись и тянулись вверх те, кто некогда был с ней одного роста. И не удивленные либо жалобные взгляды, жалящие, как булавки, и не смущение видевших ее впервые, тщетно пытавшихся скрыть изумление. Все это можно было, собрав волю в кулак, вынести. Страшнее и больнее всего было то, что иногда с ней обращались так, будто она была обделена не только ростом, но и умом. Считали, что ее мозг по причине малости плохо работает. Это заблуждение доводило ее до бешенства — оно и понятно, если учесть, что с юных лет Чикита выказывала незаурядный ум. В три года она начала различать буквы и однажды поразила родителей чтением заголовков в газете. С того дня она от корки до корки прочитывала всю печатную продукцию, какая попадалась, — от номеров детского журнала «Попугайчик» до альманахов с жизнеописаниями святых из бабушкиной коллекции. Сенда и подумать не могли о том, чтобы записать дочь в школу Святой Риты для благородных девиц на потеху зевакам и сплетницам, и наняли домашнюю наставницу. Кроме того, Сирения давала ей уроки рисования и вышивания, а доктор в свободное время обучал ее французскому, на котором Чикита вскоре выучилась свободно говорить и писать. Заметив способности дочери к иностранным языкам, Игнасио воспользовался тем, что его добрый друг Энрике Лесерфф находился некоторым образом у него в долгу, и попросил принять Чикиту на обучение. Выдающемуся полиглоту, в совершенстве владевшему более чем двадцатью языками, ничего не оставалось, как согласиться. В первый день он снисходительно осведомился по-французски, какой язык девочка желает выучить. — Сперва греческий и латынь, — ответила Чикита, глядя ему прямо в глаза и боясь залиться краской. — Потом английский, если вам не трудно, а уж после… не могу решить — немецкий или итальянский. Учитель рассмеялся, приятно удивленный тщеславием и любознательностью ученицы, и в конце занятия подарил ей несколько латинских и итальянских грамматик: эти языки, на его взгляд, чересчур простые, она вполне может освоить и сама. Со временем Чикита, подобно Клеопатре, свободно заговорила на семи языках. Однако Лесерфф оказался не единственным эрудитом в Матансасе, сумевшим оценить и подстегнуть Чикитин интеллект. Дон Франсиско де Химено, натуралист, историк и литератор, имевший славу ходячей энциклопедии, подолгу болтал с девочкой всякий раз, бывая в гостях у Сенда. Страстный поклонник естественных и гуманитарных наук, Панчо де Химено объездил Европу и Соединенные Штаты и какое-то время занимал пост мэра Матансаса. Но потом война и превратности судьбы оставили его почти вовсе без средств: в пору знакомства с Чикитой он трудился скромным служащим мэрии и составлял карту провинции. Чикита забрасывала терпеливого и великодушного знатока вопросами из самых разных областей знания, от астрономии и географии до истории и ботаники, и дон Панчо отвечал, не унижая ее упрощениями. Возможно, из-за того, что была вскормлена молоком верблюдицы Нефертити, Чикита испытывала особенный интерес к Древнему Египту. Она без устали слушала рассказы Химено о пирамидах Гизы и гробницах Долины царей. Как жаль, что великий Шампольон, расшифровавший иероглифы, давно скончался! Вот уж кто бы в два счета разгадал, что написано на ее амулете. Однажды дон Панчо принес Чиките подарок. Это был экземпляр Atractosteus tristoechus, рыбины, известной как манхуари, только что выловленный в устье реки Сан-Хуан. По словам Химено, рыба эта представляла собой настоящее живое ископаемое, поскольку появилась на Земле миллионы лет назад. Чикита восхищенно рассматривала длинное цилиндрическое туловище, покрытое даже не чешуей, а броней из жестких буро-зеленых пластинок. Плоская голова напоминала крокодилью, в пасти виднелись три ряда острых зубов, а глазки горели лукавством. — Манхуари везет в том смысле, что они несъедобны и никто на них не охотится, — заметил натуралист. — И да не введет вас в заблуждение его костистость и неподвижность: он способен плыть с удивительной скоростью. Чикита решила назвать Atractosteus tristoechus Букой и велела Минге с Рустикой поселить его в пруду в патио. — А что оно ест? — осведомилась старуха, не скрывая отвращения к новому домашнему питомцу. — Плотояден, — ответил мудрец, наблюдая за тем, как рыбина медленно тычется во все углы прудика с целью изучить новый дом. — Ему можно давать лягушек, ящериц, крабов и кусочки мяса. За все их долгие беседы Панчо де Химено лишь однажды оставил вопрос Чикиты без ответа. Это случилось, когда она попросила рассказать про его кузена Хосе Хасинто Миланеса, того самого поэта, который сочинил «Бегство горлицы». Правда ли, что несчастный сошел с ума еще в юности? И почему он лишился рассудка? Дон Панчо неловко закашлялся, и Игнасио пришлось прийти на помощь: она и так уже злоупотребила временем ученого, а посему следует отложить просвещение на следующий раз.
Третьим человеком, оказавшим значительное влияние на Чикиту в отрочестве, стала местная сопрано Урсула Девилль. В ту пору она уже давно покинула подмостки. Эта дородная престарелая дама с полупрозрачной кожей и зелеными глазами собирала седые волосы в высоченный пучок. После того как она провела большую часть жизни в Европе и прославилась там как королева бельканто (Мейербер уговаривал ее петь главную партию в новой опере «Африканка», но она не могла или не пожелала принять такую честь), неблагоприятные обстоятельства вынудили ее вернуться на Кубу. Девилль жила в Гаване и зарабатывала на жизнь уроками пения для сеньоров и сеньорит из высшего общества, но каждое лето приезжала в Матансас погостить у сестер. Однажды летом доктор Сенда пригласил ее на ужин. Хотя после смерти доньи Лолы Чикиту с Мундо больше не заставляли выступать на семейных вечерах, на сей раз было решено сделать исключение, чтобы устроить небольшое чествование актрисе. Чикита произвела фурор, продекламировав стихи, которые поэт Пласидо посвятил сопрано, когда та, двадцатилетняя, только начинала карьеру. Девилль так растрогалась, что встала и грянула а капелла арию «Каста дива» из своей любимой «Нормы». Певице уже стукнуло семьдесят, но она сохранила настолько мощный голос, что хрустальная люстра в гостиной зазвенела, словно аплодируя исполнению. В тот вечер между одряхлевшей дивой и лилипуткой завязалась крепкая дружба. Когда Сирения де Сенда узнала, что Урсула собирается подработать уроками вокала для девушек и в Матансасе, она спросила у дочери, не желает ли та заниматься у оперной легенды. Вместо ответа Чикита запрыгала от радости. Через два дня уроки начались. У Чикиты был хорошо поставленный голос, куда более сильный, чем можно было бы предположить, но с первой минуты Урсула поняла, что ученице не под силу справиться с арией Россини или Беллини. Чаяние оперной карьеры следовало сразу же отвергнуть, торжественно сообщила она Чиките, чтобы та не питала пустых надежд. — Не волнуйтесь, — успокоила ее Чикита и шутливо заметила: — Я не собираюсь петь в «Ла Скала». И они договорились, что Урсула просто научит ее некоторым романсам и хабанерам, а также уловкам, позволяющим извлечь наибольшую пользу из голосовых связок. Девилль, как истинный профессионал, была требовательна и на занятиях руководствовалась принципами великих маэстро, таких как Този и Порпора. Чувство представляло для нее не меньшую ценность, чем техника исполнения. «Виртуозность без сердца ни на что не годна», — гласил ее девиз. Лучшие минуты уроков наступали, когда Девилль опускала крышку фортепиано и, подначиваемая ученицей, принималась вспоминать свои славные годы. В юности ее провозгласили лучшим лирическим голосом Кубы в гаванском Лицее, а немного спустя она вышла замуж за испанского пианиста и композитора Хосе Миро и уехала в Европу выступать на лучших сценах под аккомпанемент супруга. — Я была счастлива, ведь у меня было все, даже сердце мужчины, который любил меня больше музыки, — сказала она как-то. — Только одного не хватило — дальновидности. Имей я толику здравого смысла, не позволила бы мужу разбазарить все, что мы заработали. — Она вдруг помрачнела, погрозила Чиките пальцем и изрекла предостерегающим тоном: — Всегда следи за своими деньгами! Многие женщины мнят, будто беспокоиться о финансах — дурновкусица, покуда не разоряются, а потом уж поздно раскаиваться.
Урсула Девилль поведала Чиките тайну, которую не захотели раскрыть ей ни бабушка, ни родители, ни мудрый Панчо де Химено, — тайну безумия Хосе Хасинто Миланеса. Когда поэт сошел с ума, Урсула уже уехала из Матансаса, но сестры в письмах рассказали ей об этом событии в подробностях. В возрасте двадцати восьми лет Пепе Миланес считался одним из самых талантливых писателей на острове, но тут его судьба совершила кувырок. Он внезапно разорвал давнюю помолвку со своей невестой Долорес и объявил родственникам, что влюблен в другую. Избранницей его сердца оказалась Исабель, одна из семерых сестер Панчо де Химено. Вполне обычное дело, за исключением одного возмутительного обстоятельства: Исе едва сравнялось тринадцать. Слова любви меланхоличного и угрюмого родственника не радовали, а пугали ее, и она старалась всячески избегать поэта. Но дома семейств Миланес и Химено стояли друг против друга на улице Хелаберт, и встречи Пепе с возлюбленной все же случались часто. Дон Симон, дядя Хосе Хасинто, узнав о влюбленности племянника, рвал и метал и запретил кузенам даже заговаривать друг с другом. Злые языки утверждали, что патриарха смущала вовсе не разница в возрасте, а то, что его любимица, для которой он подбирал выгодную партию, могла ненароком выскочить за нищего поэта. Да, все его превозносят, но разве он способен содержать семью? Миланесам тоже приходилось нелегко, поскольку они всегда получали денежную поддержку от своих богатых родственников Химено. Они стали на сторону дона Симона и принялись убеждать Пепе забыть о кузине. Влюбленный слишком чутко воспринял такой удар. Он ссутулился, лоб его прорезали глубокие морщины, и на годы он погрузился в столь глубокую печаль и оцепенение, что был вынужден покинуть пост в железнодорожной конторе. Страдал от бессонницы и бреда, часто отказывался не только есть, но также мыться и одеваться. Литературные опыты становились все реже и бессвязнее, вскоре он вовсе забросил поэзию, и из страха, что он наложит на себя руки, его сестра Карлота, заботившаяся о бедном поэте, спрятала все ножи в доме. Напрасно Федерико, брат и главный поклонник поэта, издал в двух томах произведения, которые Хосе Хасинто успел написать до того, как влюбиться в Ису. Когда книгу вложили ему в руки, Пепе перелистнул пару страниц с вежливой отсутствующей улыбкой, оставил том на столе и тут же позабыл о нем. Если он и не полностью лишился разума к тому времени, час сей был не за горами. Родственники и друзья, убежденные, что лишь перемена обстановки спасет больного и вернет ему рассудок, оплатили ему путешествие за границу с Федерико в качестве сопровождающего. Даже Симон де Химено пожертвовал круглую сумму. Братья объехали многие города Соединенных Штатов, а после отбыли в Лондон, Париж и Рим. Через полтора года поэт вернулся, видимо, исцеленным, надеясь вновь начать писать и найти работу. Но его планы не замедлили рухнуть. Однажды утром, намереваясь совершить прогулку в экипаже с Карлотой, Пепе Миланес увидел в окне напротив Ису и стал громко звать ее и плакать, как дитя. В одно мгновение все лечение пошло насмарку. Он так и не оправился от последнего удара: тот, кто составлял гордость Матансаса, умер в сорок девять лет, превратившись в печального, тихого и пугливого умалишенного, которому сестра то и дело утирала платком текущие слюни. — Но это еще не все… — прошептала Девилль и, поколебавшись с минуту, стоит ли рассказывать ребенку о чем-то столь темном и будоражащем воображение, продолжала: — Карлота, интересная Карлота, так и не вышла замуж и всю себя посвятила заботе о брате. Она часами сидела подле Пепе, вышивала на льняном полотне его стихи и говорила с ним об искусстве и литературе в надежде, что однажды он чудом обретет утраченный разум. Но говорят, за этим самоотречением стояло нечто иное… — Любовь? — выпалила Чикита, которая отнюдь не была дурочкой. — Она что, была влюблена в него? Сопрано окинула комнату изумрудным взглядом, прежде чем ответить. — Никто не знает. Разве что сама горемычная Карлота могла бы сказать, но, вероятно, она унесет эту тайну с собой в могилу. Что до меня, я бы не удивилась, поскольку видала кое-что похуже. Страсти, которая выходит из берегов, нет дела до уз крови. Чикита сглотнула и вообразила, что влюбляется в Румальдо, Кресенсиано или Хувеналя. Ну уж нет, только не в подобных болванов! — Никому не говори, что я тебе рассказала, — предупредила примадонна. — В Матансасе все обожают стихи Миланеса, но — из стеснения ли, из уважения ли к его безумию — не любят говорить об авторе. Чиките вдруг стало интересно, как сложилась судьба второстепенного персонажа этой старой истории — Долорес, брошенной невесты поэта. — Она смогла забыть его? — допытывалась она. — Обрела новое счастье? Урсула ответила, что неизвестно — по любви или назло бывшему жениху, — но вскоре после разрыва Долорес вышла замуж за одного кабальеро и родила ему детей, а те, в свою очередь, осчастливили ее многочисленными внуками. — Среди этих внуков — и ты, Чикита. Долорес — твоя бабушка. После такого признания, всякий раз вспоминая Хосе Хасинто или слыша его имя в разговоре, Эспиридиона думала о нем как о загадочном дальнем родственнике. Как повернулась бы его жизнь, если бы он не положил глаз на Ису, а женился бы, согласно всеобщим пожеланиям, на Лоле? Чиките очень хотелось поговорить об этом с Сиренией, но всякий раз она прикусывала язычок. Зато часто упрашивала Мингу свернуть на улицу Хелаберт, когда они в экипаже направлялись на уроки пения к Девилль. Она надеялась хоть одним глазком увидеть Карлоту — «интересную Карлоту» — у дверей дома семьи Миланес, но так никогда и не увидела[6].
Урсула Девилль три года не приезжала в Матансас. Когда она наконец вернулась и встретилась с Чикитой, то осталась недовольна ее видом. — Сколько тебе лет? — поинтересовалась она и, узнав, что недавно исполнилось пятнадцать, проворчала: — Прости, что лезу не в свое дело, но пора бы тебе одеваться как следует. Или ты собираешься всю оставшуюся жизнь наряжаться маленькой девочкой? Чикита сконфузилась, покраснела и не нашлась что ответить. — Дитя мое, Господь, может, и выбрал для тебя маленькое тельце, но это ведь не значит, что нужно выглядеть ребенком до конца твоих дней, — продолжала певица. — Ты женщина, и тебе суждено научиться любить и страдать. Эти слова заставили Чикиту задуматься, как она будет жить через десять, двадцать или тридцать лет, когда родителей не окажется рядом, чтобы защищать ее. Что, если однажды они пропадут? Ее рост — непреодолимая помеха самостоятельности? Сможет ли она о себе заботиться? Или будет вечно зависеть от кого-то? И познает ли любовь? Девилль, не желая того, насыпала соли на давнюю Чикитину рану. Ведь, как любая девушка, она начала интересоваться противоположным полом, умываться мылом из коровьей желчи, чтобы избавиться от прыщиков и пятнышек, и робко выводить слово «любовь» в тайном дневнике. Но пока груди и бедра Бландины, Эксальтасьон и Экспедиты округлялись и выпячивались, тело Чикиты оставалось крошечным и вдобавок плоским, как доска, и, по-видимому, не собиралось обзаводиться женственными формами. Кузины то и дело заводили разговор о женских недомоганиях, донимавших их ежемесячно. «Радуйся, что к тебе пока не пришли, — говорили они Чиките. — Вот узнаешь, что это за напасть!» Она принимала равнодушный вид, но в глубине души клокотала от зависти. Рустика и та начала меняться: мало-помалу ее фигура, прежде схожая с огородным пугалом, стала прибывать изгибами в нужных местах, и каретник и прочие уже сладострастно заглядывались на нее. Когда кузины заводили спор о том, кто из мужчин самый красивый в их семье, Чикита удалялась, заявляя, что это ей не интересно. Но одна только ложка знает, что на дне горшка. Она тоже тайком поглядывала на родных и двоюродных братьев. Вчерашние оболтусы, только и думавшие, что дразнить сестер, превращались в статных юношей, втихомолку куривших и цинично рядивших о женщинах. Румальдо, к примеру, вымахал и раздался в плечах, у него сломался голос, и вот-вот пора было начать сбривать темную поросль на подбородке. У него были большие черные глаза и почти сросшиеся густые брови, и это, по мнению Эксальтасьон и Бландины, делало его самым привлекательным из кузенов. Ну а Экспедита отдавала пальму первенства Сехисмундо. Прежний гадкий утенок оставался замкнутым и свободно чувствовал себя только наедине с фортепиано, но превратился в стройного белокурого отрока с тонкими чертами, этакого бледного принца, и по нему вздыхала не одна юная девица. Возможно, из-за того, что ее все эти перемены не коснулись, характер Чикиты несколько испортился, и от припадков ярости и колких фразочек, которые прежде доставались одной Рустике, теперь страдала вся прислуга, братья и сестры и даже родители, которым пришлось не раз ругать дочь за неподобающие реплики и прочее бунтарство. В тот период Чикита сожгла в патио свои любимые любовные романы, заклеймив их лживыми и глупыми, и отказалась от якобы скучных уроков с господином Лесерффом — к чему иностранные языки человеку, обреченному прожить всю жизнь взаперти? Но, когда Игнасио и Сирения стали уже опасаться за душевное здоровье дочки, Чикита разом преобразилась, встав однажды поутру и обнаружив пятнышко крови на белье. — Господи Иисусе! — умилилась старая Минга. — Дитятко наше — барышня! Со значительным отставанием Чикита все-таки последовала по пути кузин и Рустики: талия стала тоньше, грудь подросла, а на лобке проклюнулся пушок — словом, получилась настоящая женщина в миниатюре. Чикита потребовала обновить гардероб. Никаких больше девчачьих платьиц и ботиночек, никаких детских причесок: она теперь сеньорита и должна выглядеть соответственно. И если раньше Минга купала ее в маленькой ванночке и терла мочалкой, то теперь она запретила няне присутствовать при своем туалете. Она больше не ребенок, заявила Чикита. Впредь она будет мыться самостоятельно и разрешает только немного помогать ей одеваться. В ту пору Чиките открылось нечто весьма удивительное. Одним июльским полднем, когда после обеда весь дом, казалось, погрузился в тяжелый сон и даже мухи ленились жужжать, она в спальне пыталась присоединиться к общей сиесте. Равнодушный к зною, неутомимый Сехисмундо убаюкивающе играл в музыкальной гостиной. Но вдруг фортепиано смолкло. Чикита изумленно встрепенулась. Кузен никогда бы столь кощунственно не оборвал пьесу на середине по собственной воле. Она выждала пару минут и, убедившись, что аккордов по-прежнему не слышно, обулась и направилась в гостиную. Дверь была приоткрыта, и Чикита услышала прерывистые стоны, долетавшие из глубины комнаты. Она осторожно, чтобы остаться незамеченной, заглянула внутрь, и ей открылось престранное зрелище. Мундо стоял, навалившись грудью и держась руками за закрытую крышку фортепиано, и брюки у него были спущены до щиколоток. Сзади его обнимал за талию и равномерно двигался взад и вперед Румальдо, тоже в расстегнутых брюках. Чикита не имела никакого опыта по части секса, но это не делало ее дурочкой. Она кое-что прочла в отцовской библиотеке, и теоретические познания, а также разговорчики кузин о том, что происходит, когда мужья с женами ложатся спать и гасят свет, и совокупления насекомых, птиц, рептилий и млекопитающих, которые ей довелось видеть в патио родительского дома и в Ла-Маруке, не оставляли сомнений: ее брат и ее кузен предаются разврату. Поначалу стыдливость велела ей удалиться, но любопытство взяло верх, и она осталась на месте, тараща глаза и не упуская ни одной подробности. Внезапно Румальдо отпрянул от Мундо, стащил с него рубашку, сорвал свою, и в эту минуту Чикита мельком увидела его член. Вообще-то, ей не впервые попался на глаза этот орган. Однажды она умудрилась проникнуть в ванную, когда близнецы купались, и глянуть на их срамные места. Но то, что тогда открылось ее взору, не шло ни в какое сравнение с теперешним экземпляром — до того он был огромный и тугой. Разоблачившись, Румальдо снова пристроился к Мундо, неуклюже надавил, и его жертва издала стон. То есть это поначалу Чикита думала, что дуэт составляют жертва и мучитель, кузен и брат соответственно, но теперь она заметила, что Мундо ведет себя не совсем как жертва. Он не звал на помощь и не пытался высвободиться из тисков Румальдо. Когда они избавлялись от рубашек, он, вопреки здравому смыслу, не оттолкнул нападавшего и не бросился вон из комнаты. Он просто стоял, раздвинув ноги, тяжело дышал и опирался о фортепиано. Если его и заставили делать то, чего он сперва делать не хотел, в процессе он, очевидно, сменил точку зрения. Тела молодых людей — крепкое и загорелое у Румальдо, тонкое и белое у пианиста — вспотели и стали издавать при столкновении ритмичный чавкающий звук. Некоторое время они предавались этому порывистому занятию; один фырчал, как бычок, второй тихонько постанывал, но вдруг черты Румальдо исказились, он содрогнулся и издал глухое мычание. Догадавшись, что встреча близка к концу, Чикита кинулась обратно по коридору и укрылась в спальне. В постели, отдышавшись от бега и от увиденного, она решила, что Румальдо и Мундо — те еще храбрецы, если отваживаются заниматься этим прямо в незапертой гостиной, куда в любую минуту может войти Минга или другая рабыня и выдать их с головой. — Если кто узнает, ой, что будет, — многозначительно заметила она Мундо через несколько дней, когда тот раскладывал партитуру на пюпитре. — Тебе повезло, что я умею хранить тайны. — Ты о чем? — смущенно спросил кузен. — Не прикидывайся! — воскликнула Чикита, вперив в него взгляд и испытывая нечто похожее на чувства кошки, коготком пригвоздившей к полу хвост неудачливой мыши. — Я видела, как вы занимаетесь всякими гадостями. Вы с моим братом. Мундо побагровел и смог только, прикрыв глаза, вымолвить: — С которым? Тут уж Чиките пришлось краснеть. Она в замешательстве отступила и удалилась. Она так и не узнала, сколько именно юных Сенда отводили душу с пианистом. Двое? А может, все трое?
Дебют Сары Бернар в театре «Эстебан» в Матансасе в 1887 году обернулся катастрофой. Предполагались три спектакля, но после первого дива вернулась в отель «Лувр» сущей эринией. Служащие и постояльцы слышали, как она выкрикивает ругательства, пинает мебель и бьет об пол хрусталь. В довершение всего попугаи и обезьяны, которых актриса повсюду возила за собой, расшумелись в клетках, а кое-кто из гостей отеля вроде бы даже слышал, будто кайман — подарок одного поклонника из Панамы — нервно клацает челюстями в отведенной ему ванне. Вообще-то златоголосая королева трагедии имела полное право бушевать. Несмотря на то, что она выбрала для начала краткого сезона «Жену Клавдия», одну из своих любимых и самых обкатанных пьес, театр оказался наполовину пуст. Виновата в значительной степени была сама Бернар, настаивавшая, чтобы за возможность лицезреть звезду публика платила соразмерно ее недюжинному таланту[7]. Но, как и следовало ожидать, она предпочла обвинить «Зарю Юмури» и прочие местные газеты в том, что они уделили ее приезду недостаточно внимания. Равнодушие жителей Матансаса выглядело особенно оскорбительным после оглушительного успеха в Гаване. Там Сару Бернар поджидал легион поклонников, готовых отказаться от пищи — лишь бы взглянуть, как она стонет и потрясает рыжими кудрями на сцене. В столице все прошло как по маслу. Прибытие дивы на борту английского парохода «Ди» вызвало страшный ажиотаж. Слух о том, что она повсюду возит за собой гроб розового дерева с золотыми петлями, в каковом спит, оказался быстрее самой актрисы, и в порту собралась встречать ее целая толпа. Но в Матансасе даже гроб не сработал. И потом, эта пошлая привычка местных зрителей выбегать после каждого акта подышать свежим воздухом, не наградив актеров заслуженными долгими аплодисментами. О подлый и презренный металл, ради которого она вынуждена разбазаривать свой талант и потешать дикарей!.. Доктор Сенда редко водил Чикиту в театр. Его раздражало, что некоторые бинокли так и липли к их ложе, выдавая жадное желание владельцев поглазеть на его дочь, а в антракте народ норовил подобраться поближе и посмотреть на гору подушек, уложенную на кресле, чтобы Чиките было лучше видно сцену. И все же, узнав, что божественная Бернар едет на гастроли в театр «Эстебан», он тут же купил абонемент на весь сезон, поскольку не сомневался, что для семнадцатилетней поклонницы искусств такие встречи станут незабываемыми. Чикита уговорила родителей позвать с собой Бландину, Экспедиту и Эксальтасьон — по кузине на каждый спектакль. Те, как и она сама, мечтали увидеть знаменитую француженку, но не столько из-за ее актерских способностей, сколько из-за романа, который Бернар только что закрутила в Гаване с Луисом Мадзантини, модным испанским тореадором. Столичные газеты не одну статью посвятили подробностям affaire[8], и провинциальные, как следовало ожидать, не замедлили за ними последовать. Роман оказался выгодным дельцем как для актрисы, так и для тореро. Многие поклонники боя быков, раньше носу не казавшие в театр, отправились на спектакль единственно ради того, чтобы увидеть любовницу короля тореадоров. Равным образом сотни элегантных дам и кабальеро, считавших корриду развлечением для черни, наводнили арену Беласкоаин, желая взглянуть на соблазнителя темпераментной Сары. Как ни крути — удачная сделка. Начало интрижки, говорят, вышло не слишком многообещающим. Мадзантини сходил на «Даму с камелиями» и впечатлился красотой Бернар. После второго акта он в сопровождении бандерильеро из своей квадрильи ворвался в гримерную актрисы — несмотря на строжайший запрет кому бы то ни было даже приближаться, — намереваясь отвесить ей комплимент. Сара метнула в него серебряную расческу, и тореадор возвратился в ложу с шишкой на лбу и уже окончательно влюбленный. «Вот таких баб я люблю, — сказал он. — Диких, как бычки». На следующий день Бернар отправилась на корриду. Ей рассказали, что вся Гавана без ума от Мадзантини, и она, привыкшая побеждать, захотела видеть его у своих ног. Она уселась в ложе на тенистой стороне арены с гребнем в волосах и гвоздикой за ухом. Стройный, жилистый и гибкий Мадзантини вышел на арену под звуки пасодобля, исполняемого оркестром негров, наряженных андалусийцами, и убил быка в ее честь. Сара чуть все ладони не отбила, аплодируя. Злые языки пустили слух, будто некая часть тела матадора, выгодно подчеркнутая тесным костюмом, утвердила ее в намерении завоевать его. Об их первой ночи любви ходило множество сплетен. Якобы тореро, войдя в спальню Бернар в отеле «Петит», едва освещенную свечами, к своему удивлению, актрисы не обнаружил. Но затем ему попался на глаза пресловутый гроб, подбитый лиловым шелком. Внутри лежала и ждала его абсолютно обнаженная Сара. Такой макабр, надо думать, возбудил матадора до невозможности, потому что на следующее утро некоторые постояльцы жаловались, что всю ночь не могли уснуть из-за любовных стонов. Девицы Сенда жадно следили за деталями этого громкого приключения и хотели видеть главных героев. Мадзантини — в этом не было никакой тайны — должен был отправиться в турне по крупным городам Кубы после окончания сезона в Гаване. Но вот приезда Сары в Матансас никто не ожидал. С тех пор как в 1842 году австрийка Фанни Эльслер поразила местную публику головокружительными фуэте и прочими грациозными пируэтами в балетах «Сомнамбула» и «Хромой бес», всемирно известные артисты обходили город вниманием. На второе выступление стеклось немного больше зрителей. На сей раз Бернар выбрала классику французского театра — «Федру». Чикита и Сирения весь вечер пускали слезу и сморкались, а Бландина, не владевшая языком Расина, то и дело просила объяснить, что происходит на сцене. Прощальным спектаклем при полном аншлаге — поди пойми этих провинциалов — стала «Дама с камелиями». Смерть Маргариты Готье выглядела так натурально, что многие дамы забыли, что они в театре, и заверещали, когда Бернар скорчилась в последней судороге. Осыпаемая цветами и овациями, актриса семнадцать раз выходила на поклон. Неумеренные восторги слегка смягчили ее нрав, и она согласилась принять в гримерной нескольких поклонников, алчущих автографов. Чикита, Бландина, Сирения и Игнасио оказались в числе первых — и тому есть простое объяснение: доктор Сенда как раз недавно вылечил язву владельцу театра «Эстебан». Они робко вошли в гримерную, уставленную фарфоровыми вазонами, увешанную гобеленами и битком набитую клетками с муравьедами, туканами, удавами и прочим экзотическим зверьем. Не вслушиваясь в восторженные речи эскулапа, Сара размашистым яростным почерком машинально подписала программки Сирении и Бландины. Но когда дошла очередь до Чикиты, актрисе стало любопытно, чья это крохотная ручка протягивает ей программку. — О, та chérie[9], ты же просто прелестна! — воскликнула она, приятно удивленная, нацарапала свое имя на программке и вручила Чиките. — Скажи, тебе понравился спектакль? — Все три были превосходны, мадам, но больше всего мне понравилась «Федра». Актриса польщенно выгнула бровь и растянула в улыбке большой и возмутительно ярко накрашенный рот. — Надо же! И я ее предпочитаю, — заметила она. — По моему мнению, никакой драме не сравниться с хорошей трагедией. Как, ты сказала, тебя зовут, малышка? — А я пока и не сказала, — осмелилась хихикнуть Чикита и бросила предостерегающий взгляд на мать, чтобы той не вздумалось поправлять ее и лезть с этой ужасной «Эспиридионой». — Меня зовут Чикита. Чикита Сенда. Бернар отобрала у нее программку и порывисто дописала: «Очаровательной мадемуазель Чиките Сенде, чьи вкусы совпадают с моими». В дверях гримерной хозяин театра кашлянул, давая понять, что беседа затянулась. Но перед уходом Сара успела ухватить Чикиту под локоть и развернуть к себе. — Подожди. Ты, возможно, кое-чего не знаешь, — тихо сказала она и наклонилась, чтобы глядеть Чиките прямо в глаза. — А если и знаешь — невелика беда, я напомню, — прошептала она неслышно для остальных. — Что же это, мадам? — прошелестела Чикита, у которой от волнения пересохло в горле. — Величие не знает размеров, — сказала актриса, вперив взгляд в свою малюсенькую поклонницу, и напрощание взмахнула, словно веером, накладными ресницами[10]. Встреча с Сарой Бернар так взволновала Чикиту, что в ту ночь она не могла уснуть. Перед рассветом ее охватило непреодолимое желание выйти в патио и вдохнуть аромат жасмина. Она села в постели и позвонила в колокольчик, вызывая Рустику. Та, полусонная, явилась с фарфоровым горшком на тот случай, если сеньорита желает помочиться. — Убери с глаз долой, — презрительно сказала Чикита и потребовала шлепанцы и пеньюар. — Пошли на улицу. По приказному тону Рустика поняла, что разубеждать хозяйку бесполезно. Они откинули щеколду на задней двери и вышли во дворик. Стояло полнолуние, все покрывала тонкая, как марля, дымка, и полчища светлячков плясали на кустах. Поистине волшебная ночь. — Жди здесь, — велела Чикита служанке, указав на табурет. Потом подошла к пруду и склонилась над водой. Сколько ни старалась, она не могла разглядеть манхуари Буку среди кувшинок, но вообразила, как он, прямой, словно палка, упорно и сосредоточенно кружит в глубине. Панчо де Химено утверждал, что Atractosteus tristoechus вырастают до огромных размеров, но ее питомец оставался таким же, каким попал в дом, — дюймов двадцать. Может, он тоже карлик? Не обращая внимания на неодобрительные взгляды Рустики, Чикита откинула голову назад и подставила лицо лунному свету. Потом разулась, поставила ступни на сырую землю, расставила руки и медленно закружилась на месте. Ей чудился скрытый смысл, некое зашифрованное послание в прощальной реплике Бернар. Что она хотела сказать этими четырьмя словами? Возможно, побуждала Чикиту совершить нечто грандиозное в жизни? Но что именно? Она размышляла, а тем временем кружилась все быстрей. Сможет ли она когда-нибудь распоряжаться своей жизнью и направлять ее по собственному желанию? И куда? Окажется ли способна совершать великие поступки? Или стать великой? Велик ли ее дух? А если велик, под силу ли ему преодолеть границы крохотного тела, где он заключен? Или же она обречена вечно подчиняться тем, кто крупнее ее? Голова пошла кругом от стольких вопросов, Чикита рухнула навзничь на траву, а Вселенная еще несколько минут продолжала кружить над ней. Вдруг на груди что-то странно засветилось. Чикита привстала. Талисман великого князя Алексея заморгал, будто светлячок. Она взяла его двумя пальцами и почувствовала, что он ровно пульсирует. — Рустика, иди-ка взгляни! — позвала она весело и испуганно. Увидев сияние, Рустика зажмурилась, перекрестилась и забормотала молитву. — Потрогай, он как живой! — скомандовала Чикита, но ее компаньонка отшатнулась. С ужасом и восторгом Эспиридиона Сенда заметила, что иероглифы на шарике мягко движутся, словно бы плавают в золоте. В этот миг слышный ей одной голос, исходящий — она не сомневалась — от ее рыбины, возвестил, что амулет дает ей ответы на заданные вопросы. «Какой в том толк, если я ничего не понимаю?» — мысленно возразила Чикита. И подобно тому, как слышала Atractosteus tristoechus не ушами, она не глазами увидела, что он саркастически усмехается, обнажая три ряда зубов, и медленно пропадает в тине. И тогда Чиките явились тревожные видения. Они походили на вспышки молний, и ей почти не удавалось их уловить. Корабли в открытом море. Здания, задевающие облака. Переполненные театры. Острые сабли, отрубающие носы. Языки, утыканные булавками. Мамби и ковбои. Великаны, женщины с длинными окладистыми бородами, люди-скелеты и десятки, сотни лилипутов и карликов. И она сама, подчас веселая, сказочно прекрасная, в элегантных платьях и драгоценностях, подчас стареющая, печальная и разочарованная. То в кибитках, то во дворцах, но и в куда более странных местах: вот она заключена в плен внутри часов, вот скачет верхом на манхуари Буке, вот в сполохах пожара… Сколько это длилось? Секунды, минуты? Она так и не поняла. Постепенно видения становились все туманнее, сменялись все стремительнее, она совсем запуталась и сжала виски руками. И вдруг все прекратилось. Амулет перестал мерцать. Надписи больше не двигались. Биение замедлилось и почти не чувствовалось. Когда оно стихло, Чикита вздохнула и попросила Рустику отнести ее в постель. Было холодно, она устала, хотела спать, а запах жасмина пьянил вовсе не так пленительно. Может, величие и не знает размеров, по утверждению Великолепной Сары, но в эту минуту Чикита, как никогда, чувствовала себя крошечной, беспомощной и заблудшей.
[Глава IV]
Слава богу, следующая глава потерялась, потому что это был сущий бред, уж поверь. Когда Чикита начала диктовать, я некоторое время глубоко вздыхал и покорно стучал по клавишам, хотя меня сразу покоробила эта сентиментальная размазня. Но потом не выдержал и изложил ей свое мнение. Она, разумеется, оскорбилась, и мы довольно сильно повздорили. В конце концов я умыл руки и позволил ей плести что вздумается. А капризная штука память, верно? Завалящая была глава, а запомнил я ее прекрасно. Само собой, я тебя не стану мучить подробным пересказом. К садизму склонности никогда не имел. Тебе же что надо? Заполнить пробел и все. В общих чертах знать, что у них там произошло. Ну так вот. Кучу страниц Чикита посвящала тому, как в 1894 году, за год до начала второй войны за независимость, ее семья стала разваливаться. Она слащаво распространялась, какие у нее были дружные родители и как великолепно ладили между собой все Сенда. Сильно приукрашивала свое детство и юность, все-то у нее представало в розовом свете. Но, когда я годы спустя вернулся в Матансас и стал разузнавать у людей, знакомых с этой семьей и их дрязгами, всплыла та еще грязь. Например, родители Чикиты вовсе не были идеальной парой, какой она старалась их вывести. Когда-то они и вправду любили друг друга, но со временем разругались в пух и прах. На людях вели себя как благообразные супруги, но за закрытыми дверями дома почти не разговаривали. Да, я сказал «дом», а не «особняк». Я ведь не поленился взглянуть на него собственными глазами и понял, что не так уж он велик. Однако, возвращаясь к родителям: одна сеньора, чьего имени упоминать не стану, рассказала мне, что их ссоры начались, когда Сирения получила анонимное письмо с сообщением, что у Игнасио есть любовница. Чтобы развеять сомнения, она велела Минге следить за мужем и таким образом убедилась, что он ей в самом деле изменяет. Казалось бы, что такого? Ну, сходит мужчина налево время от времени — ни одна жена не станет из-за этого слишком переживать. Но Сирения навела справки и узнала, что у мужа не просто интрижка: он поселил любовницу в отдельном доме в квартале Версаль и даже служанку ей нанял. В те времена женщины имели привычку к терпению и в таких случаях страдали молча ради будущего детей, святости брака, семейной чести и тому подобной белиберды. Если бы любовница оказалась белой, может, Сирения и проглотила бы горькую пилюлю и покорно ждала, пока у Игнасио не перестанет свербеть в одном месте. Оступись он с китаянкой — и то поняла бы и простила: тогда ходили слухи, будто у уроженок Поднебесной щелка на пипке располагается не вертикально, как положено, а горизонтально, а перед такой диковинкой разве устоит мужчина? Но, узнав, какого цвета ее соперница, Сирения взбесилась. Донья Лола и все ее дети были отъявленные расисты, просто филиал ку-клукс-клана в Матансасе, и Сирении, вероятно, нелегко было принять новость, что ее муженек, как и свекор, любит чего почернее. Возлюбленной Игнасио оказалась темная мулатка с буйными космами и грубыми чертами лица, но с божественной фигурой. Звали ее Каталина Сьенфуэгос, и она веревки вила из доктора Сенды. Однажды, когда он гостил у Каталины в Версале, Сирения ворвалась в ее домик, словно смерч, и застала их в постели. Она выхватила из сумочки револьвер и в слепой ярости стала палить по любовникам. К счастью, меткостью она не отличалась, и ни одна пуля не попала в цель. Игнасио пытался ее утихомирить, но куда там! Сирения вне себя принялась топтать и драть платья Каталины и бить тонкий фарфор. Каталина, разумеется, в долгу не осталась. Оправившись от испуга, она вцепилась Сирении в волосы, и они пошли пинать друг дружку, царапаться, плеваться, вопить, словно кошки, и ругаться последними словами. Соседи вызвали полицию, та споро явилась; словом, этот прискорбный случай стал известен всему Матансасу. Сеньора, которая мне про это рассказала, не могла утверждать наверняка, знала ли об интрижке отца Чикита. Так или иначе, все дети к тому времени подросли и, надо думать, заметили, что родители друг с другом не разговаривают. Игнасио еще пару месяцев наслаждался обществом Каталины Сьенфуэгос, а потом она бросила его ради испанца-военного. Это была не мулатка, а сущий пожар, и судя по тому, как мужики по ней с ума сходили, из ста огней в ее фамилии — если ты заметил, «сьен фуэгос» это и есть «сто огней» — девяносто девять горели у нее между ног. Когда Игнасио понял, что ни мольбами, ни подарками любовницу не вернуть, он решил помириться с Сиренией, но та его не простила. И напрасно падре Сирило выступал посредником, увещевал Сирению, мол, Иисус еще и не такое прощал, и обвинял ее в гордыне — всё без толку. Тогда-то мать Чикиты, слывшая до сих пор трезвенницей, заимела пристрастие к спиртному. Игнасио запретил слугам покупать ей выпивку и разбивал найденные дома бутылки, но Сирения умудрялась раздобыть еще. Я думаю, она пила не столько чтобы забыться, сколько чтобы отомстить мужу. Что ни день они устраивали скандалы, и настало время, когда Сирения бо́льшую часть суток отсыпалась с похмелья, напрочь забросив домашние дела, и всем приходилось заниматься Минге. Наслушавшись про грехи Игнасио, дети росли в убеждении, будто отец — донжуан, а мать — жертва его похоти, мученица. Отца они уважали, но не любили. Все, кроме Чикиты. Ее Сирения так и не смогла настроить против Игнасио. Имей в виду: это не я сам выдумал, а узнал из первых рук в Матансасе от кое-кого, кто был вхож в эту семью. Так уж и быть, выдам тебе ее имя. Все равно она наверняка давно померла. Это Бландина, двоюродная сестра Чикиты. Ах, прости, я ведь собирался рассказать, про что была четвертая глава, а сам завел совсем про другое. Если опять собьюсь, ты меня обрывай, не стесняйся. Нас, стариков, заносит иногда. Но ты не волнуйся, сейчас все изложу.После рассусоливаний про то, какая расчудесная и сплоченная была у нее семья, Чикита наконец приступала к делу и писала, что первым из дома уехал Хувеналь, один из близнецов. Он унаследовал от отца любовь к медицине и с детства обожал вспарывать скальпелем брюшки ящерицам и лягушкам. По мнению Чикиты, он так поступал не со зла, а из научного любопытства — хотел узнать, как они устроены изнутри. В общем, когда пришла пора поступать в университет, Игнасио решил отправить сына в Париж, где давали лучшее медицинское образование. Политические взгляды юноши тоже способствовали желанию отца услать его подальше. Как многие молодые люди, Хувеналь считал, что родина должна обрести независимость. Полвека назад главные испанские колонии освободились, и пора бы Кубе последовать их примеру. Остров напоминал пороховую бочку, любой искры достало бы для ужасающего взрыва, и Игнасио счел, что разумнее всего удалить сына от неминуемой войны. Чикита подарила будущему светилу медицины музыкальную шкатулку, чтобы не так скучал по дому, и советовала не влюбляться во француженок, какими бы смазливыми ни были, потому как они не имеют привычки часто мыться. В мемуарах она подчеркивала, что именно с этим братом ощущала особое родство. В детстве он, конечно, вел себя как дикарь, но отроком полюбил книги и знания, и это их сблизило. Перед тем как Хувеналь поднялся на борт, мать взяла с него страшную клятву послать телеграмму домой, как только его нога ступит на французскую землю. Он так и сделал, только вот Сирения уже не смогла ее прочесть, потому через пять дней после его отъезда подавилась, обедая рисом с курицей. Куриная кость застряла в пищеводе, и ни один врач не смог ее извлечь. Чикита уделяла две или три страницы описанию материнской агонии, ужасающе медленной и мучительной. Умирающая не могла говорить и общалась с близкими посредством записок в тетрадке. Последнее послание, которое она уже почти без сил нацарапала перед кончиной, предназначалось старшей дочери и гласило: «Косточки жуть как коварны! Никогда не вздумай их обсасывать!» Третьим покинул дом Кресенсиано. Все сходились на том, что из мужчин семьи Сенда он самый красивый, но и самый тупой. Еле-еле сумел кончить начальную школу. Болван болваном. Даже Сирения, не склонная видеть недостатки детей, говаривала, мол, если Кресенсиано ненароком споткнется, идучи по пастбищу, и упадет на четвереньки, то так и останется щипать травку и ржать до конца своих дней. Зато его приглашали на все вечеринки. Женщины на него надышаться не могли. Так и таяли, когда он танцевал дансон или играл в бейсбол за «Матансас-клуб». В семье вздохнули с облегчением, узнав, что некая богатая вдова из Карденаса влюбилась в него по уши. Кресенсиано-то привык к легким победам, порхал с цветка на цветок и упивался нектаром то тут, то там. Он думал, что и вдову охмурит в два счета. Но та, хоть и пускала по нему слюнки, не далась и объявила, что он ей интересен не как любовник, а как муж, а до свадьбы он «у этой сигары и кончика не отрежет». Игнасио советовал сыну сделать вдове предложение. Она, конечно, вдвое старше, зато может обеспечить безбедное и беззаботное будущее, а по нашим временам кочевряжиться не стоит. Молодой человек сомневался, позволены ли такие шаги, когда семья еще носит траур по Сирении, но отец уверил, что покойница первой одобрила бы его решение. — Женись быстренько, покуда эта несчастная не одумалась, — уговаривал он. Вдова не успела одуматься: услышав слова «руку и сердце», она в мгновение ока устроила свадьбу и, как только падре Сирило благословил молодых, укатила с Кресенсиано в Карденас, где у нее был городской дом, поместье и фабрика по производству известки. Глава заканчивалась на том, что, проводив молодоженов, доктор возвращался домой и говорил Чиките, как он счастлив, что женил одного близнеца и отправил в Сорбонну второго, подальше от размолвок между креолами и испанцами. Непристроенным оставался только Румальдо. «Вот бы и на него нашлась вдовушка», — вздыхал он. Дальше шло краткое пояснение: Румальдо, даром что смышленый и острый на язык, не имел охоты корпеть над книгами и постигать право, как того хотел Игнасио, и вообще убиваться на любой работе. Этот хлыщ любил модно одеваться, вкусно есть, сорить деньгами и проводил время в борделе мадам Арманд или на петушиных боях. «Во всем потребна мера», — втолковывал ему падре Сирило, также поклонник петушиных боев, всякий раз, видя, что он делает необдуманные ставки. Но у Румальдо советы в одно ухо влетали и из другого вылетали. Вот какой сценой завершалась глава. Слабоватый финал, тебе не кажется?
Ах да, чуть не забыл. В эпизоде со смертью матери Чикита писала, что Игнасио от горя поседел в одночасье. Так вот, в тот самый вечер, когда она мне это надиктовала, один человек в Фар-Рокавей поведал мне совсем иную версию. Я сидел у себя в комнате и сражался с сонетом — не подумай, что, получив работу, я утратил любовь к стихосложению, — и тут вошла Рустика, принесла мне свежевыглаженные рубашки и брюки. Как она крахмалила белье — страшно сказать. У меня аж мозоль на языке завелась — столько раз я просил сыпать в мою одежду поменьше крахмала, но она и ухом не вела. Все стираное колом стояло. Ты, наверное, удивляешься, где это я обзавелся рубашками да брюками, если из Тампы приехал голым и босым. Это Чикита мне подарила. Под настроение она бывала очень щедрой, и ко мне, даром что во времена Великой депрессии люди дважды думали, прежде чем потратить даже цент, не раз проявляла щедрость. На третий день нашей работы она заметила, что я всегда одет в одно и то же, и, ничего мне не говоря, послала Рустику купить дюжину рубашек, две пары брюк, пиджак и ботинки. Все отлично подошло, кроме обуви. Ботинки на мне болтались, как корыта, и пришлось их обменять. И потом время от времени подкидывала мне всякие подарки. То галстук, то упаковку носовых платков. Чикита могла себе позволить такую роскошь, потому что, в отличие от многих американцев, не потеряла все деньги, когда банки начали разоряться. Она предусмотрительно завела счета в Париже и Лондоне, и это ее спасло. Итак, в тот вечер, развешивая рубашки и брюки в шкафу, Рустика глянула на меня искоса и едко осведомилась: неужели я принял за чистую монету россказни Чикиты о ее семье? Я удивился, ведь, как ты помнишь, Рустика обычно держала рот на замке. Но то ли язык у нее чесался, то ли она съела фрикасе из сороки — только она уселась на стул и начала рассказ. Первым делом она рассказала, что доктор не так уж сильно переживал кончину жены. Он столько лет терпел ее брань и то, как она честила его предателем и распутником при детях, что при виде супруги в гробу испытал скорее облегчение. По крайней мере, вид у него был такой. — Поседел он от старости, а не от страданий. И ох как быстро нашел себе утешение, — язвительно заметила Рустика. И тут же сменила тему, чтобы опровергнуть еще одно утверждение Чикиты — будто бы они с матерью души друг в друге не чаяли. — Вранье! Все равно что кошка с собакой. Спорили из-за всего. Не успевали помириться, как снова ссорились. Дело в том, что, когда Чикита повзрослела, Сирения упорно видела в ней маленького ребенка и хотела сама решать, какие дочери носить платья и прически, какие читать книги и о чем разговаривать с кузинами. Если она заставала Чикиту за срезанием роз или взбиванием белков для безе, то отбирала у нее ножницы и вилку, ворча: «Отдай, куда тебе!» Но больше всего Чикиту выводили из себя постоянные присказки: «Что бы ты без меня делала!», «Благодари Бога, что твоя мать в лепешку ради тебя разбивается!» и «Даже думать не хочу, что с тобой будет, когда меня не станет». У Чикиты лопалось терпение, она перечила матери, и они страшно ругались. — И помочь тут могла только моя бабка Минга, царствие небесное, потому как дон Игнасио боялся встревать в их перебранки, — добавила Рустика. По мере того как дети росли, дом Сенда все больше походил на арену для боя быков. — Нет, любить они друг друга любили, — поясняла Рустика. — Просто были очень разные. Начинали дуться из-за всякой мелочи и не разговаривали неделями. Только в одном деле все выступали заодно: как бы отравить жизнь Сехисмундо. Уж не знаю, почему им так нравилось измываться над беднягой и всяко его высмеивать. Они пеняли на его робость, прятали партитуры, а однажды ради смеха сказали, что Сирения собирается продать фортепиано. — Рустика вздохнула и задумчиво продолжала: — Несчастный Мундо! Сейчас-то мне его жалко, а тогда я сама была не прочь подначить его. Хорошим человеком быть не просто, а вот по-свински себя вести ничего не стоит. На этом ее красноречие иссякло. Я старался разговорить ее снова и, главное, выяснить, видела ли она своими глазами сияние талисмана великого князя Алексея лунной ночью в патио, или Чикита все выдумала, но тщетно. У нас с Рустикой всегда были напряженные отношения. Она говорила, когда и о чем хотела, но очень редко шла навстречу моему любопытству. Иногда признавалась мне в каких-то тайнах, которые хранила годами, обмусоливая внутри себя, не имея возможности ни с кем поделиться. Но чаще обращалась со мной холодно, как с незваным гостем, точнее, как с тараканом, заведшимся у них в бунгало. Что-то я опять разболтался о постороннем. Тебе ведь надо было знать, про что была четвертая глава, а с ней мы уже вроде как давно покончили.
Глава V
Смерть Минги. Возвращение невидимого пса. Свадьба Манон. Пожелтевшие бумаги в старом молитвеннике. Разгорается новая война. Похороны воробья. Шальная пуля. Хрупкое равновесие. Румальдо прощается.Четвертой покинула дом Минга, и ушла она весьма скромно, никого не побеспокоив и не попрощавшись. Однажды на рассвете Рустика обнаружила ее на койке окоченевшей, но с завидно благостным выражением лица. Много лет назад, когда Игнасио Сенда объявил слугам, что рабство отменили и отныне они вольны распоряжаться своей жизнью, Минга на коленях умолила его не выгонять их с внучкой из дома[11]. «Я и жить не умею без приказов, ваша милость», — хмуро говорила она. С самого детства она так привыкла подчиняться и стольких хозяев перевидала, что мысль о свободной жизни приводила ее в ужас. Воля никак не отразилась на них с Рустикой — разве что они стали получать скромную еженедельную плату. На сбережения Минга купила место на кладбище, не желая, чтобы ее кости отправились в общую могильную яму с другими покойниками невесть какого пошиба. В благодарность за годы верной службы Игнасио оплатил ей изящный саван и похороны по первому разряду. Чикита рыдала по Минге куда сильнее, чем по родной бабке, и всю ночь свершала бдение у освещенного четырьмя свечкам гроба вместе с Рустикой, у которой из остекленевших глаз не пролилось ни слезинки. Они вспоминали нагоняи Минги, ее странности и как сговаривались между собой в детстве, чтобы подразнить старуху. Под утро их одолела усталость, и они задремали в креслах. Но внезапно их разбудил собачий вой. — Капитан? — с сомнением пробормотала Чикита, вспоминая историю, рассказанную Мингой в Ла-Маруке. Рустика легонько кивнула и, выказывая хладнокровие, какого Чикита за ней не знала, поднялась и отворила окно. Под продолжающийся вой она взяла лилипутку на руки, чтобы та тоже смогла выглянуть за оконную решетку. В предрассветной дымке они вроде бы увидели, как из ничего возникает большой пес с блестящей белой шерстью. Видение несколько мгновений смотрело на них как бы вопросительно, потом вскинуло голову и вновь завыло, на сей раз печально, словно завело погребальную песнь. Потом развернулось и медленно двинулось в темноту, тая в воздухе. — Он что, опять хотел забрать ее в ад? — вымолвила Чикита, дрожа от страха. — Да, — уверенно сказала Рустика. — Но, надеюсь, Господь не допустит этого. — И обе перекрестились.
К семнадцати годам Манон Сенда прослыла одной из самых сногсшибательных красавиц в Матансасе, от поклонников у нее отбоя не было. Всех обставил Жауме Морера, адвокат из хорошей каталанской семьи. Он попросил ее руки и заявил Игнасио, что собирается жениться как можно скорее и увезти Манон в поместье в Пуэбло-Нуэво. И как только та сняла годичный траур по матери — чересчур скоро, по мнению приверженцев традиций, вполне вовремя, по мнению настроенных на современный лад, — они пошли под венец. Манон хотела, чтобы Чикита стала посаженой матерью, но та, опасаясь, как бы гости не смотрели на нее чаще, чем на невесту, и венчание не превратилось в балаган, отклонила приглашение: она решила вообще не присутствовать на церемонии. Пока Мундо играл свадебный марш на органе в часовне Монтсеррат, Чикита у себя в спальне молилась о счастье сестры и заодно о том, чтобы Господь помог ей пережить отъезд Манон. После смерти Сирении именно Манон, проявив недюжинную хватку и здравый смысл, взяла на себя управление домашними делами. Он твердо отдавала приказы слугам, следила, чтобы все постели были застланы чистым бельем, и, окинув взглядом буфет, мгновенно определяла, что нужно купить. Чикита не знала, сможет ли она принять эти обязанности и разобраться во всем, чему раньше не уделяла ни малейшего внимания. Наутро после свадьбы она отправилась в кухню, стараясь придать своей крошечной фигурке как можно более внушительный вид и намереваясь распорядиться относительно обеда. Но, к ее удивлению, Рустика уже со всем управилась. С того дня по негласному уговору внучка Минги объявила себя домоправительницей и бдела, чтобы в доме все шло как полагается. Ее кислый характер отлично подходил для этого: прислуга ее беспрекословно слушалась. Рустика следила, чтобы почем зря не разбазаривались еда и мыло, и радела о том, как извлечь наибольшую выгоду из каждого сентаво, словно распоряжалась собственными деньгами. Чикита с облегчением передала ей бразды правления и зажила всегдашней жизнью, состоявшей из ухода за цветами, коллекционирования старинных кружев и книг, которые ее отец, не заботясь ни о содержании, ни о цене, заказывал в Гаване, а то и в Лондоне и Париже. В ту пору Чикита любила прилечь на закате в шезлонг у пруда и вслух читать Буке стихи несчастного Хосе Хасинто Миланеса. Румальдо и Мундо потешались над этой странной привычкой, но Чикита точно знала, что манхуари не только слышит ее, но и наслаждается поэзией не меньше, чем она сама. Она даже поняла — по тому, как Бука обрызгивал ее хвостом при чтении этого стихотворения, — что более других он предпочитает «Бегство горлицы»:
Виновата так или иначе была война. Как и предсказывал доктор Сенда, вновь разразилась революция. 24 февраля 1895 года восстание началось в Байре, селении неподалеку от Сантьяго-де-Куба. Предполагалось, что одновременно оно произойдет и в Матансасе, но задуманное обернулось провалом. Все пошло насмарку из-за предательства. Испанцы изловили часть повстанцев, а остальные сдались сами, уповая на декрет о помиловании. Через несколько дней мулат Антонио Масео, Бронзовый Титан Десятилетней войны, высадился со сподвижниками на побережье провинции Орьенте, чтобы возглавить отряд повстанческих войск. Другим отрядом командовал Максимо Гомес, еще один герой великой войны, уроженец Доминиканской Республики, тощий старик с козлиной бородкой, склонный ввязываться в споры и насаждать свою волю. Оба ветерана готовы были любой ценой завоевать независимость Кубы. Масео первым делом приказал своим офицерам немедленно вешать любого эмиссара, подобравшегося к лагерю с предложением мира, а Гомес, со своей стороны, велел сжигать дотла все владения тех, кто выказывал враждебность или безразличие к революции. Через пару месяцев число восставших возросло до многих тысяч, и Масео (по кличке Лев) с Гомесом (по кличке Лис) начали продвигаться на запад острова. Их цель состояла в том, чтобы воспрепятствовать укреплению испанцев в Матансасе, Гаване и Пинар-дель-Рио. Так случилось во время первой войны, и тогда колонизаторы победили за счет богатств, выжатых из этих западных провинций. Стратегия мамби была проста и укладывалась в одно слово: огонь. Где бы они ни проходили, горели тростниковые поля, сахарные заводы, усадьбы, форты и вокзалы. Испания выслала тридцатитысячную армию для усиления позиций на Кубе, но революция неумолимо шагала вперед. За две недели до гибели Игнасио Сенды войска Гомеса вошли в провинцию Лас-Вильяс и напали на испанский конвой, сопровождавший состав с продовольствием. Новость о том, что в ожесточенной схватке с многочисленными потерями с обеих сторон повстанцы победили, разнеслась по всему Матансасу. Люди выказывали воодушевление, ярость, страх, равнодушие и даже скуку, но и сторонники независимости, и противники сходились во мнении, что партизаны вот-вот доберутся и до их провинции. На улице старались не говорить о войне, но за закрытыми дверями только и пересудов было, что о ней. Многие утверждали, что Матансас более других областей пострадает от кровожадных поджигателей. Ходили слухи, будто Гомес и Масео намереваются наказать здешних помещиков за то, что в прошлую войну те не стали на сторону независимости из страха потерять сахарные плантации и рабов. Несчастный случай (по мнению Чикиты) — или убийство (по словам Хувеналя) — произошел вечером, когда доктор Сенда, Румальдо, Мундо и Чикита заканчивали ужинать. Рустика только что подала им молочный пудинг с корицей, и главной темой беседы было, разумеется, положение дел на острове. Смакуя десерт, Сенда обменивались сплетнями, связанными в основном с вожаками партизан. Бедняга Хосе Марти! Сколько трудов ему стоило перебороть разных негодяев и организовать-таки восстание, и в первом же сражении его убили! Зачем только он полез на коня и ухватился за оружие? Он ведь был в этом не мастак. Человек мыслящий, визионер, душа революции, но не солдат. Видимо, хотел доказать старым мамби, что он мужчина не хуже их, и покончить с их вечными издевками. Так или иначе, великого человека лишилась Куба. А, кстати, правда ли, что тело Масео обезображено двадцатью шрамами от боевых ран? И что однажды он едва не убил художника, который изобразил его чересчур черным? А патриарх Гомес и впрямь такой высокомерный деспот, как утверждают? Может, оно и правда, может, и навет, но никто не оспаривает его искусство загонять в засаду и уничтожать испанских солдат. Лев и Лис совсем приперли к стенке генерал-губернатора Кубы Мартинеса Кампоса, который не мог справиться с полыхающим островом. Но самый свежий слух касался таинственных надписей, появившихся на многих стенах в Матансасе: ис-да-ум на-на-ро. Этим посланием мамби давали понять, что, несмотря на аресты и расстрелы, остаются в строю. — И что эта галиматья означает? — спросила Чикита. — Это сокращенная фраза: «Испания да умрет на нашей родине», — пояснил Румальдо. И тут ни с того ни с сего Игнасио в сотый раз взялся рассказывать им удивительную историю о похоронах воробья. В начале войны 1868 года на Гербовой площади в Гаване, против дворца Генерал-капитана, обнаружился дохлый воробей. Испанцы подняли бучу и, хоть на трупике не было следов ран и птичка вполне могла умереть от старости, заявили, что ее прикончили и подсунули на площадь креолы. Они считали, что революционеры, презрительно величавшие «воробьями» солдат Родины-матери, таким образом их провоцируют. В пику кубинцам они устроили воробью бдение с мессой и погребальным шествием. И хотели было похоронить, но кто-то решил, что хорошо бы отдать птахе последние почести во всех крупных городах. Трупик поместили в хрустальную урну и прокатили по всему острову в торжественной обстановке, с клятвами верности Испании и угрозами повстанцам. — Сперва треклятого воробья привезли в Матансас, — продолжал Игнасио, отправив в рот последнюю ложку пудинга и дав знак Рустике варить кофе. — Мы с Сиренией только вернулись после медового месяца и думали, это шутка такая. Но когда пичугу выставили для бдения в Испанском казино с венками и почетным караулом, а после отслужили мессу в церкви Святого Петра-апостола, и военные пронесли урну на носилочках по всем улицам города, мы поняли, что дело серьезное. — Фиглярство! — презрительно фыркнул Мундо. — Гротескный, но и устрашающий эпизод, — поучительно добавил Игнасио. — После такого люди выучились жить втихомолку, никому не доверять и делать вид, будто никакой войны не идет. Матансас навсегда стал другим! — Надеюсь, нынешняя война не затянется на десять лет, — подавляя зевок, протянул Румальдо. — И я надеюсь, — то были последние слова их отца. В этот миг послышался пьяный хохот с противоположной стороны улицы. Румальдо и Мундо подскочили было к окнам, но Игнасио жестом велел им сесть на место. Шумели добровольцы, которые все чаще выкатывались на улицы хулиганить, клясть сторонников независимости и палить куда попало из пистолетов. Победы и неминуемый приход в Матансас повстанческих войск не давали им покоя и толкали на поиски приключений. Шатаясь и выкрикивая ругательства, они проходили мимо особняка семьи Сенда, как вдруг один из них спустил курок, и пуля влетела в окно столовой. Игнасио рухнул навзничь с изумленным выражением лица, которое в других обстоятельствах показалось бы смешным. Вся грудь была залита кровью, и Румальдо с Мундо кинулись на помощь. Чикита закричала, прибежали Рустика и кухарка и бросились к ней, думая, что она тоже ранена. Но Чикита просто испугалась, потому что не могла самостоятельно слезть со своего специального стульчика красного дерева. Как только ее спустили на пол, она замолчала, подбежала к отцу и погладила его по щеке. Игнасио приоткрыл глаза и устремил на дочь стекленеющий взгляд. Плача, обещая поквитаться и проклиная Испанию, они отнесли отца в спальню. Чикита попросила, чтобы ее подняли на кровать, стала на колени подле раненого и принялась молиться с таким жаром, что не заметила, в какую минуту он перестал дышать. Когда явился доктор Картайя, за которым сбегала кухарка, одного взгляда на старого друга ему хватило, чтобы понять: он не в силах помочь. Пуля пробила сердце. Он постарался успокоить молодежь, советовал быть благоразумнее и осторожнее. Никаких заявлений в полицию, никаких протестов, лучше всего прикусить язык. Армия, полицейские и добровольцы служат одному хозяину, а значит, попытки подать в суд на виновников только взбеленят испанцев и приведут к тому, что всех Сенда заклеймят неблагонадежными. — Вы же не хотите, чтобы они ополчились на всю семью, — мрачно пробормотал Картайя и загадочно добавил: — Другие отомстят за кровь вашего отца. Румальдо отправился в Пуэбло-Нуэво оповестить о случившемся Манон, находившуюся на седьмом месяце беременности, а по дороге отправил телеграмму Кресенсиано. Рустика сняла с трупа одежду и смыла все следы крови. Затем при помощи Мундо одела и прихорошила доктора Сенду так, словно тот собирался на бал. Чикита без слез наблюдала за их хлопотами из качалки, а когда Рустика вышла с тазом заалевшей воды, попросила Мундо взять ее на руки, чтобы она могла в последний раз поцеловать отца. Потом Эспиридиона Сенда заперлась у себя в комнате и больше не принимала участия ни в чем. Она не вышла утешить Манон, которая истошно кричала в отцовской спальне, и не стала молиться вместе с Канделарией и прочими родственницами. Когда Рустика мягко постучалась и сообщила, что пришел падре Сирило, она велела передать, будто напилась валерьянки и крепко спит, а во второй раз просто послала к черту Рустику, явившуюся с известием, что из Карденаса прибыли Кресенсиано с супругой. Она предоставила братьям и сестре заниматься похоронами, выбирать гроб, решать, кто будет произносить речь на кладбище, и принимать многочисленных родичей, друзей и пациентов покойного, наводнивших дом. Она чувствовала себя опустошенной, не могла и пальцем пошевелить. Однако Рустика хорошо знала, что даже горчайшая беда не лишит Чикиту аппетита, и все время носила ей кофе с молоком и хлеб с маслом, чтобы та не мучилась еще и голодом. Когда вынесли труп и дом погрузился в безмолвие, Чикиту наконец отпустило, и без удушающих всхлипов обильные крупные слезы потекли по ее щекам. Она предпочла бы находиться в забытьи, но ум, напротив, оставался ужасающе, до раздражения ясным. Она оплакивала отца, но догадывалась, что скорбит не только по нему. Проклятая пуля разрушила последнюю и важнейшую опору ее маленького мира. Он вот-вот грозил рухнуть. Сколько еще продлится хрупкое равновесие? Когда ему суждено переломиться? Вскоре после похорон по Матансасу разнесся слух, будто одного добровольца нашли повешенным на сейбе в лесу неподалеку от Ла-Кумбре. Когда товарищи обнаружили труп, хищные птицы уже выклевали ему глаза. Поговаривали, что это убийцу Игнасио Сенды настигла месть, но братья и сестры Сенда не очень-то поверили.
Эспиридиона отказалась переехать в Пуэбло-Нуэво к Манон и также отвергла приглашение Канделарии. Доводы сестры и крестной, утверждавших, что с ними ей будет лучше, не подействовали: они оставили неисправимую упрямицу в покое, утешаясь тем, что рано или поздно она сама одумается. Но Чикита не изменила мнения, даже когда адвокат созвал все семейство и огласил завещание Игнасио Сенды, по которому каждому ребенку доставалось не так уж много денег, как они наивно полагали. Насчет особняка доктор оставил весьма точные распоряжения: продать его можно будет лишь тогда, когда Чикита не захочет более в нем жить. По совету Жауме, мужа Манон, Чикита решила положить почти все ей причитающееся на банковский счет, чтобы обеспечить себе пожизненную ренту, и пыталась уговорить Румальдо поступить так же. — Денег не бог весть сколько, но если поделить расходы, на двоих хватит, — сказала она и тут же спохватилась: — Разумеется, от многих капризов придется отказаться… Брат не согласился участвовать. Он собирался как можно скорее уехать из Матансаса, подальше от провинциальной жизни и от войны и испытать судьбу где-нибудь в Соединенных Штатах. Что касается Чикиты, лучше бы ей проглотить свою гордость и воспользоваться гостеприимством Манон или Канделарии. Нравится ей это или нет, она обречена всю жизнь зависеть от других. — Не обольщайся, одной тебе не выжить, — предостерег он. — Кто-то должен о тебе заботиться, и уж точно не я, дорогуша. Румальдо вышел из комнаты, и тут же ворвался Сехисмундо, подслушивавший за дверью,сел рядом с Чикитой и сказал: — На меня можешь рассчитывать. Клянусь, я никогда тебя не покину. Чикита кивнула и поцеловала Мундо в щеку, хотя понимала, что эта клятва верности — не более чем романтический порыв. Кузен едва ли мог служить опорой кому бы то ни было. Если уж Чикита не знала, что ее ждет, то будущее Мундо рисовалось и вовсе мрачным: за душой у него не было ни сентаво, он всегда оставался приживалом у родственников и только и умел, что играть на фортепиано. Через пару недель Румальдо отбыл в Нью-Йорк. Чикита предпочитала видеть его отъезд в положительном свете: брат любил кутить, и, останься он в Матансасе, рано или поздно они бы повздорили из-за денег. К тому же теперь особняк в полном ее распоряжении. Можно поступать как хочется и ни у кого не просить позволения. — Лучше быть одной, чем в дурном обществе, — философски рассудила Чикита и попросила Мундо что-нибудь сыграть, пока она напишет Хувеналю о своем решении остаться под отчим кровом и «бесповоротном» — как он сам утверждал — отъезде старшего Сенды. Это письмо, как и все следующие, вернулось нераспечатанным. По всей видимости, Хувеналь куда-то съехал из пансиона на рю Муфтар. Но почему он не оставил нового адреса? Чикита терялась в догадках: сначала она вообразила, будто брат пал жертвой болезни, потом ей представилось, что его могли посадить в тюрьму за какое-нибудь преступление. А может, кокотка-собственница соблазнила его и потребовала разорвать связи с Кубой? В действительности же студент-медик перестал общаться с сестрой совсем по иной причине, но Чиките еще очень долго предстояло оставаться в неведении.
Глава VI
Томас Карродеагуас, сапожник. История с обменом. Рустике предлагают руку и сердце. Как Чикита лишилась девственности. Честь выше правосудия. Возвращение Румальдо. Мода на лилипутов. Барнум и Генерал Том Большой Палец. Смелое решение.Слухи о скором вступлении повстанческих отрядов в Матансас становились все настойчивее, революционеров расстреливали все чаще, а Чикита обитала словно бы в ином мире. Вышивала, гуляла по саду, наслаждалась щебетанием канареек, выбирала духи и тонкие ленты у захаживавших коробейников и время от времени принимала гостей. Мирный ход ее жизни не нарушился, даже когда в сочельник 1895 года люди Антонио Масео взорвали водопровод, небо застил густой дым, и ветер разнес пепельную завесу по всему городу. Рустика старалась не беспокоить Чикиту лишний раз. Она сама рассчитала кухарку, заметив, что та подворовывает, и сама нашла нового сапожника, когда тот, что всегда тачал ботиночки Чиките, попал в тюрьму за хранение хинина и бинтов для повстанцев. Новый сапожник, двадцатилетний светлый мулат, шутник, обладатель приятной внешности и мускулистого торса, сыграл краткую, но решающую роль в жизни сеньориты Сенды и ее служанки. Но об этом никто и подумать не мог в то утро, когда он вошел в гостиную, где Чикита, утопая в диванных подушках, плела фриволите. Томас Карродеагуас поклонился и в соответствии с предупреждениями не выказал никакого удивления при виде хозяйки дома. Он разговаривал с ней, как с любой другой клиенткой в элегантном городе Матансас. — Придется вам расстараться. У меня очень нежные ступни, — заметила Чикита, разуваясь. — Не извольте беспокоиться, сеньорита, — отвечал мулат. — Я вам сошью такие ладные и удобные ботиночки, что вы и на ночь их снимать не захотите. Сапожник осторожно обмерил ножки в шелковых чулках и сделал несколько пометок в тетрадке. Достал образцы кожи и пряжек, и Чикита выбрала мягкую блестящую телячью шкуру и кокетливые позолоченные пуговицы. — А донье не будем заказывать новую обувку? — галантно осведомился Карродеагуас, кивнув в сторону старых башмаков Рустики. — Нет, и попрошу без нахальства, — поспешила возразить Рустика с напускной досадой, но от Чикиты не укрылось, что сапожник пришелся служанке по нраву. Вечером, когда Рустика помогала ей облачиться в сорочку, Чикита подняла щекотливую тему: — Он ведь тебе нравится. Ну, признайся! В этом нет ничего плохого. Рустика насупилась и отказалась отвечать. Еще в детстве ее отличали скромность и нежелание делиться чувствами, а с возрастом скрытность только усилилась. Комплименты ее раздражали, она славилась тем, что могла влепить добрую пощечину сладострастному наглецу, и вообще служила опровержением бывшей в ходу у белых поговорки: «Не бывает неприступных негритянок и сладких тамариндов». Много лет назад Чикита слышала от одной рабыни, что серьезным и сдержанным характером Рустика обязана своему появлению на свет. «Бедняжка чудом зацепилась за жизнь», — сказала рабыня кому-то, а Чикита, спрятавшаяся за корзинами с грязным бельем, навострила уши и приготовилась внимать истории. Старая Минга родила единственную дочь Анаклету, когда совсем уже было потеряла надежду понести, но они всегда плохо ладили. Анаклета росла ленивой, дерзкой и лживой, и взбучки от матери никак не способствовали исправлению ее характера. С самой юности она пристрастилась раздвигать ноги перед мужчинами так же часто, как Минга клала на себя крест. Когда Анаклета объявила, что беременна, Минга не удосужилась даже разузнать, кто отец. Она упросила их хозяйку, донью Лолу, простить малолетней дурочке прегрешение и заверила, что та исправится. Но Анаклета отказалась раскаиваться. И с пузом она успевала снюхаться со всяким встречным и поперечным, и стоило мужчине ей подмигнуть, как она тут же бежала с ним в кусты. Минге оставалось лишь надеяться, что внучка — по округлой форме живота она знала, что это девочка, — будет другой, более приличной и менее любвеобильной, чем мать. Она сама собиралась воспитать ее и направить на путь истинный. Роды случились трудные и продлились двое суток. Когда Анаклета наконец вытолкнула младенца, он оказался мертвым, о чем повивальная бабка шепотом сообщила Минге. «Слава богу, мать жива и здорова», — в утешение добавила она. Минга чуть с ума не сошла: она стала охаживать тельце внучки по попке, чтобы та закричала, и повитухе пришлось позвать на помощь других негритянок, потому что одна она не смогла ее оттащить. «Черт знает что творилось», — подытожила рассказчица, якобы присутствовавшая при рождении Рустики. Минга рыдала как одержимая, рвала на себе волосы, била себя в грудь, а потом бросилась на колени и предложила святым, которых почитала более остальных, дерзкий обмен. Она хотела, чтобы они забрали Анаклету, а ей оставили внучку. Сперва она обратилась к Олофи, но создатель мира не внял ее просьбе. Потом воззвала к Святой Деве Милостивой — каковая есть также могущественный Обатала, — но снова без толку. Наконец стала умолять святую Риту Кашийскую, покровительницу безнадежных дел, известную у негров как Обба, и вот тут случилось нечто необычайное. Во-первых, родильница, которая уже подкреплялась миской куриного бульона и начинала обретать всегдашний цветущий вид, скорчилась в судороге, пустила из носа желтоватую пену, распласталась на койке, словно сраженная ударом молнии, и издала предсмертный стон. В тот же миг девчушка, которую повитуха сердобольно накрыла тряпицей, заплакала и замахала ручками и ножками. — Поэтому Рустика и не улыбнется никогда, и не плачет, хоть режь ее, — заключила рабыня. — Святая Рита даровала ей жизнь, но в обмен забрала ее мать. Чтобы внучка не сбилась с пути, Минга с самого детства вбивала ей в голову, что женщине лучше всего держаться подальше от мужиков, бесов, которым только одного и надо, а едва они своего добьются, тут же забывают про все обещания. Два или три негра уже подступались к Рустике с самыми благовидными намерениями, но она ни в какую не желала пускаться в любовные приключения, чреватые разочарованиями. Через три дня после прихода сапожника Чикита послала ее в мастерскую Томаса Карродеагуаса узнать, когда будет готов заказ. — Он же ясно сказал, — через неделю, — сопротивлялась Рустика. Но Чикита стала на своем и вытолкала служанку из дома. По возвращении хозяйка потребовала подробного рассказа. Пусть выкладывает все. Как на нее посмотрел сапожник, когда она вошла? Обрадовался? Сказал что-нибудь приятное? Вопросы сыпались, как из рога изобилия, и Рустике ничего не оставалось, кроме как, сгорая от стыда, поведать о комплиментах, которыми ее наградил мулат. В конце концов она призналась, что он, охальник, пригласил ее на танцы для цветных в будущую субботу. — А ты что? — допытывалась Чикита. — А я ответила, как положено порядочной девушке: что подумаю. Но никуда идти я не собираюсь. Разумеется, она пошла, уступив бесконечным уговорам, мольбам и угрозам Чикиты. Убедив наконец Рустику, та отвела ее к шкафу, где все еще висели наряды Сирении, и велела выбирать любой. Мундо, невольному свидетелю переговоров, поведение кузины казалось необдуманным. Сколько он ни силился, не мог понять, с чего Чикита взялась налаживать любовную связь, которая в случае успешного исхода может отдалить Рустику от дома. Если сапожник начнет ухаживать, сделает предложение и увезет Рустику, кто тогда будет заботиться о всех нуждах Чикиты? Кто сравнится с Рустикой в честности и умении управлять хозяйством? Глубоко поразмыслив, пианист нашел-таки объяснение странному капризу кузины: она покровительствует роману служанки с сапожником, чтобы самой косвенно испытать романтические переживания. Да, вероятнее всего, это потаенная фантазия женской души, обреченной на вечную неудовлетворенность. Ибо какой местный кабальеро подступится к этакому ошметочку и позовет замуж? Какой мужчина нормального роста и в своем уме влюбится в пусть даже прелестную и образованную девицу, которая ему по колено? Разумеется, Мундо оставил свои догадки при себе. Он знал, что за милым личиком кузины, вроде бы неспособной и мухи обидеть, скрывается пылкий и своенравный темперамент, и не имел никакой охоты испытывать ее характер на прочность. Рустика вернулась с танцев после двух часов ночи и еще долго проговорила с кавалером в саду. Но в спальне она обнаружила неспящую Чикиту в сорочке, жаждавшую рассказа о бале. Польщенная и слегка рассерженная, Рустика отчиталась о танцах, о гостях и о том, какой успех имело ее платье. Но Чиките было мало: она желала знать, что произошло потом. Томас Карродеагуас признался ей в любви? Страстно поцеловал ее? Дотронулся до нее? Где именно? Рустика сконфузилась и закрыла лицо руками. Да нет же, дурочка, не нужно стесняться. Разве они не подруги с самого детства? Откуда же тогда этот болезненный стыд? Рустика дрожащим голосом призналась, что сапожник ей нравится. Более того, он первый, кто внушил ей доверие. Кажется, у него серьезные намерения. Он очень порядочный и проявляет к ней уважение. Хотя, само собой, не преминул в темном саду ущипнуть за зад и хрипло прошептать на ушко: «Этот твой барабан меня с ума сводит». Рано утром в понедельник сапожник явился с готовыми ботинками. Чикита примерила, объявила, что никогда ей не шили ничего удобнее, и расплатилась. Но на следующий день передумала и под предлогом, будто ботинки немного жмут, отослала их с Рустикой в мастерскую, чтобы Томас исправил оплошность и вернул обувку, когда телячья кожа подрастянется. Требования были выполнены, Чикита вновь надела ботинки и нашла, к чему еще придраться. Они хороши до невозможности, просто писк, но вот каблук высоковат. Как бы не подвернуть лодыжку. Пусть Карродеагуас забирает их и стачивает каблучки. Таким манером ботинки путешествовали из особняка в мастерскую и обратно еще не раз, способствуя свиданиям Рустики с сапожником. Обо всем, что влюбленные говорили или делали, Чикита узнавала немедленно. Рустика все больше воодушевлялась. Наконец, сгорая от волнения, служанка доложила хозяйке, что Томас Карродеагуас предложил ей руку и сердце. Он души в ней не чает. Иначе зачем светло-кофейному мулату связываться с иссиня-черной негритянкой? Ни один мулат, разве только безумно влюбленный, не захочет «подавать назад». — Не говори так, Рустика, — возразила Чикита. — Если уж на то пошло, ты ничем не хуже его. Да, у твоего Томаса кожа светлее, свое ремесло и клиентура, но ты порядочная опрятная девушка, отлично шьешь, готовишь так, что пальчики оближешь, а пишешь и читаешь лучше, чем иные мои кузины. Ты приняла предложение? Рустика потупилась и ответила: нет, пока не приняла. Она любит Томаса, но, прежде чем принять решение, хочет посоветоваться с сеньоритой. Не то чтобы она мнила себя незаменимой помощницей, вовсе нет. Она прекрасно понимает, что любая другая служанка может позаботиться о сеньорите как полагается, но все равно чувствует вину, собираясь выйти замуж за Томаса Карродеагуаса и оставить Чикиту на попечение какой-то незнакомки. С ее стороны это проявление самолюбия, все равно что предательство. — Успокойся, Рустика, нет нужды так думать, — ответила Чикита и потянула ее за блузку, чтобы ты наклонилась и дала себя поцеловать. — Что я была бы за дрянь, если б воспротивилась твоему счастью! — и великодушно продолжала: — Ты имеешь полное право выйти замуж и создать собственную семью. Вот увидишь, мы найдем хорошую служанку, и она возьмет на себя все обязанности по дому. Будет, конечно, уже не то, что с тобой, но ничего, справимся. И все же до того, как благословить союз, Чикита пожелала переговорить с Карродеагуасом за закрытыми дверями. Она хотела убедиться, что его чувства искренни и он станет Рустике хорошим мужем. Рустика привела жениха на следующий вечер, и Чикита заперлась с ним в маленькой гостиной, в которой обычно часами читала романы и альманахи. Где она успела выучиться, как соблазнять мужчину, мы никогда не узнаем. В тот вечер она поняла, что при желании способна излучать неотразимую, всепоглощающую чувственность. Возможно, секрет ее состоял в сочетании поистине совершенного и прекрасного, хоть и крохотного тела с привлекательностью чего-то исключительного, запретного. Это таинственное сочетание порою делало ее желаннее любой самой обольстительной женщины обычного роста. Долго ли, коротко, выпив рюмочку зеленого шартреза, Чикита с помощью гостя почти полностью разоблачилась, и оставались на ней только шелковые панталончики. Она распустила волосы и, томно, словно одалиска, возлежа на кушетке, предоставила в распоряжение сапожника розовые грудки, которые он не замедлил покрыть нежными поцелуями, щедро проходясь языком то по одному, то по другому соску, а иногда и по амулету великого князя Алексея. Когда ни одного уголка ее анатомии не осталось нецелованным и не увлажненным слюной Томаса Карродеагуаса, Чикита велела ему раздеться, и сапожник с удовольствием подчинился. Стоя на коленях на диване, она с восхищением рассматривала великолепное тело цвета корицы, напоминавшее гармоничностью микеланджеловского Давида. Но между женихом Рустики и репродукциями статуи, которые ей довелось видеть, имелось разительное отличие: размер детородного органа, оказавшегося точно на уровне Чикитиного носа. Чикита не могла похвастать обширным опытом, но догадалась, что этот длинный и твердый отросток, смахивающий на колбасную палку, — нечто из ряда вон выходящее. Однако она не спасовала, вцепилась в него руками и, повинуясь инстинкту, принялась облизывать по всей длине. Сапожник, кажется, пребывал на седьмом небе, закатывал глаза и стонал, и Чикита стала стараться еще пуще. Усердие было вознаграждено струями белой вязкой жидкости, тяжело шлепнувшимися на мозаичный пол. Затем Чикита подсказала Карродеагуасу послюнить палец и пощекотать ее между ног. Очень скоро она обнаружила, что ласки, которым не раз предавалась сама в темноте спальни, не идут ни в какое сравнение с ощущениями, доставляемыми умелым мозолистым пальцем сапожника: как будто у нее внутри был эпицентр землетрясения. — Толкайте! — строго приказала она мулату, как только очнулась от наслаждения. — Толкайте глубже, трус! Но, к изумлению Карродеагуаса, как только его указующий перст лишил Чикиту девственности, она вскочила, схватила с диванного столика серебряный колокольчик и затрезвонила что было мочи. Рустика ворвалась в гостиную с улыбкой от уха до уха. Надо ли описывать, как изменилось ее лицо при виде голой заплаканной сеньориты, свернувшейся в клубок на диване, и сапожника, этакого Приапа, рядом с ней? — Что здесь, черт побери, происходит? — выпалила она. Вопрос оказался риторическим — безутешное выражение Чикиты, пятнышко крови на обивке кушетки и остолбенение мулата обрисовывали случившееся вполне ясно. Рустика в бешенстве накинулась на жениха с кулаками, от обиды осыпая его оскорблениями: — Насильник, извращенец, бандит! Карродеагуас пытался одновременно надеть брюки, увернуться от ударов и объяснить, что ни в чем не виноват. А виновата только эта белая потаскушка, распутная карлица, которая настроила ему глазок, завлекла намеками, насладилась сполна его ласками, а теперь вот хнычет и корчит из себя жертву. Когда он наконец оделся и убрался восвояси, Рустика села рядом с Чикитой и принялась утешать. — Этот выродок сильно вас поранил? — участливо спросила она и обняла хозяйку. — Эх, надо было вспороть ему брюхо, выпустить кишки и ими же придушить. — Это было ужасно, — всхлипывала Чикита. — Мы говорили о свадьбе, как вдруг он стал облизываться и оглаживать себя. Я насторожилась, хотела позвонить, но он отнял колокольчик, достал свою огромную, толстую, черную штуковину и заставил меня сосать ее. А потом… потом… — Чикита зарылась лицом в юбку ошеломленной Рустики и, как бы не в силах вымолвить больше ни слова, указала пальчиком на свои женские части. Когда дар речи вернулся, она рассказала, что в пылу борьбы Карродеагуас сорвал у нее с шеи талисман. — Наверное, потому так и получилось, — посетовала она, стараясь связать концы золотой цепочки. — Я осталась без защиты русских богов, и этот варвар надругался надо мною. Рустика поклялась отправить сапожника гнить в тюрьме. Она лично заявит на него в полицию за изнасилование белой сеньориты. Но Чикита запретила: — Я не желаю мести. Если о моем несчастье пойдут слухи, я стану посмешищем всего Матансаса. Что стряслось, то стряслось, сделанного не воротишь, честь моя не восстановится, даже если негодяя расстреляют. Честь следует поставить выше правосудия, дабы позор не оказался темой злорадных сплетен. Лучше обо всем забыть. Рустике пришлось признать, что Чикита рассуждает здраво. Хорошо, она промолчит, но прощать тоже не намерена. Напротив, этот случай всегда будет напоминать ей о мужской подлости. Ох, права была бабка. Этим лицемерам нельзя доверять. Теперь Рустика излечилась от пустых надежд и грез. Пусть только кто-то подступится с разговорчиками про любовь или, не приведи господи, женитьбу. Если уж с виду такой порядочный сапожник оказался чертом с рогами и хвостом, ни одного мужика она больше и близко не подпустит. Все они на одну гребенку! Чикита горестно кивнула и под шумок вытрясла из Рустики обещание никогда не расставаться с хозяйкой и помогать в горе и в радости. Рустика скрестила пальцы, расцеловала их и поклялась памятью бабки. В ту ночь Чикита вертелась в постели и не могла уснуть, мучимая угрызениями совести. Теперь, через много лет, она наконец поняла, почему хитрый Мальчик-с-пальчик обманом заставил великана обезглавить семерых дочерей. По той же причине она пожертвовала своей девственностью, честью Карродеагуаса и счастьем Рустики: из-за необходимости выживать в суровом враждебном мире, где все только и норовят обидеть маленького человека.
— Я вернулся! — объявил Румальдо и ступил в отчий дом, как будто отсутствовал всего пару часов. Он поцеловал в макушку сестру, хлопнул по плечу кузена, упал в кресло и потребовал, чтобы Рустика поскорее несла поесть, а не то он умрет с голодухи. «На пароходе отвратная кухня», — заметил он. Он похудел, нуждался в хорошей стрижке и, что особенно удивительно для франта, был одет в какие-то мятые тусклые обноски. Пожирая поданный обед, он велел выложить все семейные новости. Чикита рассказала, что они теперь дядюшка и тетушка. Манон родила прелестного мальчика и назвала Игнасио в честь покойного деда. «Он вот такой огромный!» — гордо заявила Чикита и развела руки насколько могла. А вот у Кресенсиано с супругой из-за проклятой нескончаемой войны дела шли отвратительно. Испанцы забрали у них половину конюшни, а сутки спустя повстанцы увели оставшихся скакунов. Оставалась только фабрика по производству известки, да и та работала ни шатко ни валко. От Хувеналя по-прежнему не было никаких известий. Как сквозь землю провалился! Что касается ее и Сехисмундо, радоваться тоже не приходилось. Поначалу она думала, что ежегодной ренты хватит, чтобы жить безбедно, но на деле оказалось ох как непросто растягивать расходы и оплачивать счета. Отчасти это ее вина, хмуро призналась Чикита: ее тратам недоставало благоразумия. О чем-то она, разумеется, не жалеет — например, о том, что поставила на могилы Сирении и Игнасио двух мраморных ангелов. Но случались и откровенно дурацкие расходы, капризы, без которых вполне можно было обойтись: заказанный из Лондона телескоп, духи, пуговицы и прочие финтифлюшки. Бедный Мундо вынужден был перебороть себя и начать играть в оркестре Мигеля Фаильде, чтобы вносить лепту в содержание дома. При этих словах Румальдо удивленно воззрился на кузена и расхохотался. — Вполне достойный труд, не хуже любого другого, и, хоть платят за него немного, для нас это большое подспорье, — веско проговорила Чикита, а Мундо покраснел до корней волос. Румальдо извинился. Он не хотел высмеивать Мундо, просто ему трудно вообразить, как тот вместо мазурок своего обожаемого Шопена наяривает дансоны на танцульках. — За те месяцы, что ты где-то болтался и не подавал ни весточки, здесь многое изменилось, — сказала Чикита. — Из экономии нам пришлось рассчитать всю прислугу, кроме Рустики, кухарки и каретника. У нас осталась всего одна лошадь и одна пролетка. — Румальдо недоверчиво хлопал глазами, а она с напором продолжала: — Содержать этот дом дороже, чем ты думаешь, но я не представляю себе жизни в другом месте. Так что если еда тебе показалась хуже прежней, будь любезен не ворчать. Мы и так уже затянули пояса. — А как у тебя сложилось в Нью-Йорке? — невинно поинтересовался Мундо, но Чикита углядела язвительный блеск в его глазах. — Не жалуюсь, — ответил Румальдо, быстренько отодвинулся от стола и объявил, что изнемогает от усталости и нуждается в хорошем сне. — Потом расскажу. Однако он недолго скрывал истинное положение дел. На следующий день, оставшись наедине с сестрой, он признался, что вернулся из Соединенных Штатов нищим. В очередной раз вложился в многообещающий бизнес, который не замедлил прогореть. В довершение всего ньюйоркцы обобрали его как липку за покерными столами. — Они помешаны на покере, — пожаловался он. — Даже дамы из высшего общества играют. Да еще как ловко, негодницы! — И что же ты думаешь делать? — спросила не слишком удивленная Чикита. Признание лишь подтвердило их с Мундо догадки. — Первым делом тебе надо обзавестись новым гардеробом. В таком виде, как сейчас, лучше на улицу носу не казать. Румальдо пропустил колкость мимо ушей и начал вкрадчиво рассказывать сестре, каким делом они могли бы заняться сообща. Нет, его предложение никак не связано с колебаниями биржи, поспешно заявил он, увидев, как Чикита скептически подымает бровь. И никто их не обманет. Обратно в отсталый Матансас его привела поистине роскошная идея, просто золотые копи: неисчерпаемый источник звонкой монеты, только и ожидающий, когда кто-нибудь решит подойти и напиться. Как всякий бизнес, он, естественно, требует скромных вложений, но эти деньги они очень скоро восполнят сторицей… — Хватит ходить вокруг да около, выкладывай уже! — не вытерпела Чикита. Румальдо раскрыл папку, извлек ворох газетных вырезок на английском и разложил веером, словно колоду карт. В заметках, интервью, статьях и объявлениях сообщалось о выступлениях в театрах и прочих увеселительных заведениях неких артистов с запоминающимися именами. Повторяющееся слово «midget»[13] натолкнуло Чикиту на суть дела. Все вырезки были посвящены маленьким людям. Она с удивлением взглянула на брата, и тот радостно закивал. — Да, да, в Штатах обожают лилипутов, — заверил он. — Когда-то их уделом были ярмарки и цирки шапито, но теперь они — короли лучших театров. Они обставили модных актеров и звезд бельканто. И, само собой, чем карлик мельче, тем больше ценится. Он своими глазами видел, какой успех имеют их выступления. Однажды друзья затащили его на водевиль у Тони Пастора, и на сцене он лицезрел недавно прибывшую из Парижа певицу тридцати двух дюймов росту, с длинными белокурыми локонами, в кружевном платье и шляпе, едва ли не превосходящей размеры владелицы. То была Роза Помпон, и она покорила публику своими chansons[14] и танцами. Через несколько дней он ужинал в «Саду на крыше» Американского театра, и там зрителей увеселял Джон Кернелл, он же Принц Миньон, ирландский комик ростом тридцать дюймов, уморительно подражавший знаменитостям. Румальдо выяснил, что американцы довольно давно увлекаются лилипутами. Лучшим доказательством тому служила головокружительная карьера Чарльза Страттона, всемирно известного под псевдонимом Генерал Том Большой Палец, самого прославленного из лилипутов. При появлении на свет в Бриджпорте, штат Коннектикут, Чарли весил девять фунтов и две унции, значительно больше своих старших сестер Дженни и Либби, но через год, вытянувшись до двух футов и одного дюйма от земли, перестал расти. Знаменитый импресарио Барнум нашел мальчика в 1842 году, когда тому не исполнилось еще и пяти, и, предложив родителям соблазнительную сумму в три доллара еженедельно, уговорил их позволить включить сына в число диковинок, выставляемых в Американском музее Нью-Йорка, причудливой смеси цирка, водевиля и собрания экспонатов естественной истории, полностью занимавшей пятиэтажное здание на углу Бродвея и Энн-стрит. Барнум расхваливал свое новое приобретение как самого низкорослого представителя рода человеческого за всю историю и выставлял в военной форме генеральского чина. К счастью, мальчик оказался прирожденным комиком с талантом к танцам, анекдотам и пению дребезжащим фальцетом. Дебют состоялся под Рождество, в финале программы, включавшей, помимо прочих чудес, акробатов, факиров, великанов и дрессированных блох. Генерал Том Большой Палец вышел на сцену, спел «Янки-Дудл», сплясал и покорил публику окончательно и бесповоротно, и так бывало всякий раз, где бы Барнум ни показывал его в течение следующих десятилетий. Со временем артист немного подрос: к двадцати годам набрал тридцать пять дюймов, а в зрелом возрасте — все сорок, что равняется примерному росту пятилетнего ребенка, — но эта проблема не умалила его популярности. Напротив, весомые гонорары позволили ему вести королевскую жизнь, скупать землю, выстроить роскошный особняк с комнатами и мебелью по его мерке и даже обзавестись яхтой «Мэгги Б.», на которой маленький спортсмен не раз участвовал в регатах. Однако, если во времена Барнума народ с удовольствием раскошеливался, лишь бы взглянуть на кривляющегося и напевающего Чарли Страттона в костюме Наполеона, то теперь, полвека спустя, все изменилось. Особенно в Нью-Йорке, где поклонники лилипутов заматерели и стали требовательнее и привередливее. В отличие от черни, которая по-прежнему ломилась в ярмарочные павильоны и на выставки диковинок и была рада любому увиденному уродству, знатоки жаждали истинных артистов, способных представлять на сцене песни, танцы, шутки и акробатические этюды высочайшего качества. Дабы удовлетворить потребность в изысканных и разнообразных шоу, импресарио кинулись искать лилипутов за границей. Самые успешные и испытанные таланты происходили из Европы: немецкие, французские, швейцарские и итальянские карлики подписывали выгодные контракты, садились на пароходы и бороздили Атлантику. Они выходили на сцену, заставленную шикарными декорациями, выступали под аккомпанемент первоклассных оркестров и бывали обласканы зрителями и журналистами. Особую славу снискал Франц Эберт, участник немецкой труппы «Ди Лилипутанер», каждый год проводившей несколько месяцев в турне по Соединенным Штатам и возвращавшейся в Европу с сундуками, набитыми долларами. — Чистая правда: их на руках носят, — подтвердил Румальдо, видевший шоу «Ди Лилипутанер». — В первый раз я ходил на них в «Найбло’с Гарден», это один из самых элегантных и дорогих водевильных залов в Нью-Йорке. И где бы ты думала эта дюжина карликов выступала потом? В «Метрополитен-опера» — ни больше ни меньше! И там и там их музыкальные скетчи принимали на ура. Франца Эберта боготворят: стоит ему появиться на сцене, начинается форменное безумие. Он смахивает на белку в туфлях и фраке, но все в восторге от его тенорка и от того, как серьезно он играет героев-любовников. Примадонна труппы, сеньорита Сельма Горнер, также само очарование, но, к несчастью, она чуточку выше Эберта. Чикита кивнула. Истории, конечно, удивительные, но к чему Румальдо клонит? — Я смотрел на них и все время вспоминал тебя, Чикита, — осторожно ввернул Румальдо, понимая, что ступает на скользкую почву. — И готов поклясться, — для пущей важности он приложил руку к сердцу, — ни один из них не сравнится с тобой. Ни один не заткнет тебя за пояс в танцах, пении или чтении стихов, не говоря уже о твоих обаянии и изысканности. К тому же я уверен, что даже герр Эберт будет повыше тебя. Румальдо умолк в ожидании ответа и, не получив такового, продолжал с удвоенным жаром: — Вот я и сказал себе: «Черт возьми, зачем Чикита чахнет в Матансасе, скрываясь от людей и гробя свой талант, когда, захоти она, весь Нью-Йорк, а потом и все Штаты валялись бы у нее в ногах? Она могла бы сколотить состояние». Молча, улыбаясь непроницаемой улыбкой, в которой брату виделись то недоверие и пренебрежение, то согласие и интерес, Чикита слушала про овации и интервью, модные платья и драгоценности, роскошные отели и вечеринки в особняках магнатов. В ушах непрерывно отдавалось: успех, деньги. В ее власти положить конец однообразному скудному существованию и зажить новой жизнью, полной удовольствий. Разве не мечталось ей превратиться в кого-то другого, обрести королевский размах, не переставая при этом быть самой собой? Он, Румальдо, разумеется, станет ее менеджером. Кто лучше его справится с заключением контрактов с импресарио, уберет скользкие пункты, добавит выгодные — словом, обеспечит лучшие гонорары и условия работы? Кому, как не ему, доверять? Доходы, естественно, будут делиться поровну. В конце концов, родная кровь — не водица. Прочие братья и сестры уже избрали жизненный путь: Манон и Кресенсиано обзавелись семьями, Хувеналь вроде бы тоже определился с чем бы он там — в Париже или еще где — ни хотел определиться. Самое разумное для них, единственных Сенда, еще не разглядевших дороги в туманное будущее, — объединить усилия для достижения счастья. На Кубе, в Соединенных Штатах или где угодно — границы отступают перед силой кошельков. Румальдо разливался все пуще, не смея перевести дыхание, боясь, что, замолчи он, сестра тут же пустит все прахом одним-единственным «нет». Лишь когда глотка пересохла, а красноречие иссякло, он закрыл рот, вздохнул и уставился на Чикиту, словно обвиняемый в ожидании вердикта. Чикита собрала вырезки обратно в папку и сказала, что вчитается повнимательнее. К чему отрицать — предложение заманчивое, но Румальдо забывает об одном важном препятствии: она не имеет никакого опыта в артистическом мире. Далекие семейные вечера, на которых она танцевала и пела под аккомпанемент Мундо, были всего лишь детской игрой, непритязательной забавой, которой родственники и друзья аплодировали скорее от умиления, чем от восторга. Урсула Девилль, конечно, научила ее владеть голосом, но Чикита ведь никогда не поднималась на сцену. Ей неведомо, каково это — выступать перед многочисленной публикой, завладевать ее вниманием, пленять. Румальдо хотел было возразить, но Чикита не стала слушать. Она не отвергает предложение, но не может и согласиться с бухты-барахты, чтобы вскоре раскаяться. Брат должен понять, что ей неловко выставляться за деньги, пусть даже в качестве артистки, а не ярмарочного уродца. Сирения и Игнасио совсем по-другому ее воспитали и, скорее всего, пришли бы в ужас от мысли о публичной карьере дочери. Да и самой ей никогда не приходило в голову нечто столь дерзкое и будоражащее, но и соблазнительное, чего уж там. Она все обдумает. Утро вечера мудренее. Так что Румальдо волен выбирать: вооружиться терпением и ожидать ее решения или найти себе другую лилипутку. А поскольку в Матансасе не так-то просто раздобыть малышку, способную потягаться с ней, — красивую, обученную хорошим манерам и знающую семь языков, — Чикита советовала бы ему забыть о спешке и спокойно ждать. В ту ночь, пока она обдумывала план брата и прикидывала, какой ответ дать, талисман после девяти лет полного безмолвия заговорил. Золотой шарик мерно забился и стал испускать нежно-голубые искры, освещавшие полумрак словно бы крохотными молниями. Он явно пытался что-то сказать хозяйке, возможно, помочь с выбором пути. Но какого пути? Должна ли она согласиться и окунуться в авантюру или отвергнуть предложение, заклеймив его нелепицей? Сколько ни ломала голову, Чикита так и не смогла разгадать послание и за тщетными потугами понять талисман уснула.
Глава VII
Разорена. Решение Чикиты. Репертуар. Продажа особняка. Бука отказывается от пищи. Поход на кладбище. Последняя ночь в Матансасе. Русский сон. Карнавал в порту. Прощание. Навсегда?Увидев, как зять волочит ноги, Чикита сразу же поняла, что он явился с дурными вестями. Она испугалась, уж не случилось ли чего с Манон или племянником, но Жауме поспешил успокоить: речь пойдет не о них, а о «злосчастном» — выразился он, потупившись, — событии. И выложил Чиките суть катастрофы. Ее банк только что лопнул. Обанкротился и обратил в ничто ее сбережения, а также деньги прочих вкладчиков. В Мадриде один маркиз и один коммерсант застрелились, узнав о произошедшем. На Кубе, к счастью, никто из попавших под удар не предпочел прибегнуть к столь драматическому средству. Чиките захотелось убежать и спрятаться где-нибудь в уголке. «В пруду», — подумала она, как будто близость манхуари Буки могла утешить. Однако, силясь не поддаваться отчаянию, заверила зятя, что не откроет список самоубийц-банкротов на Кубе. — Ты разорена, — медленно проговорил он, чтобы до нее окончательно дошел смысл. Чикита спокойно и серьезно кивнула. Жауме попросил прощения за то, что в свое время дал ей такой неудачный совет. Кто же мог представить подобное? Манон тоже потеряла свою часть наследства, сказал он, как будто это утешило бы Чикиту. Но Манон может рассчитывать на мужнины средства, и для нее это не такая страшная утрата. А вот Чикиту остается лишь пожалеть. — Как бы горько ни было, боюсь, придется продать дом. Если только Румальдо не разбогател на севере и не возьмет на себя расходы по содержанию… Чикита кисло усмехнулась, вздохнула и признала, что новое положение дел, похоже, действительно принудит ее перекроить жизнь. Прежде всего, повторил Жауме, сменив сочувственный тон на деловой, следует выставить дом на продажу и разделить вырученные деньги между всеми сестрами и братьями Сенда. Он знает людей, которых, возможно, заинтересует предложение покупки особняка. Однако, какой бы выгодой ни обернулась сделка, каждому достанется совсем немного. Война загубила экономику Кубы, и собственность сильно упала в цене. Но Чиките можно не тревожиться о будущем. К счастью, родственники любят ее и будут счастливы заботиться о ней. Манон умоляет ее немедленно переехать к ним. У нее будут стол и кров, а деньги от продажи дома она сможет тратить на собственные прихоти и капризы, поскольку за прислугу платить тоже не придется. Чикита поблагодарила зятя за великодушное предложение, обещала хорошенько все обдумать и, отделавшись от его общества, тут же позвала Румальдо и Мундо, чтобы поведать о навалившейся беде. — Как так — ничего не осталось?! — потрясенно воскликнул Мундо. — Кто-то же несет ответственность за эти деньги? — Сколько раз еще повторить, чтобы ты понял? — рассердился Румальдо. — Деньгам каюк. Чикита теперь в том же положении, что и мы с тобой: голь перекатная. — Он глянул на сестру и добавил примирительно: — Надеюсь, эта достойная сожаления превратность поможет тебе решиться. Теперь ты выбираешь между местом приживалки, не смеющей слова сказать поперек тем, кто тебя изволил приютить, и новой самостоятельной жизнью — в случае если примешь мое предложение. Мундо поинтересовался, о каком предложении толкует кузен, а Чикита вдруг ощутила невероятную усталость, закрыла глаза, забралась вглубь кушетки (да, той самой, на которой имел место инцидент с сапожником) и предоставила Румальдо живописать план. Как она и предполагала, Мундо в течение монолога все багровел и багровел и, не дослушав до конца, заявил, что задумка не только нелепа, но и оскорбительна. — Только мерзавец твоего пошиба додумался бы предложить такое родной сестре! — в гневе вскричал он. — Такой судьбы ты для нее хочешь? Выставлять ее, словно чудовище, и жить за ее счет? Альтруист, нечего сказать! — А тебя-то кто спрашивает?! — вскипел Румальдо и едва не накинулся на пианиста с кулаками. — Ты все не так понял. У Чикиты появилась возможность стать знаменитой артисткой, и она будет сущей идиоткой, если упустит ее. Ей не занимать храбрости, и она не станет хныкать по углам и стоять с протянутой рукой, как некоторые присутствующие. — Никогда, никогда она не согласится! — возразил Мундо appassionato[15] и повернулся к кузине в поисках поддержки. Чикита смотрела на него с любопытством: выходка неизменно вялого Мундо стала для нее такой же неожиданностью, как известие о банкротстве, и служила неоспоримым доказательством братской преданности и любви. Она растрогалась, одарила Мундо нежнейшей улыбкой, но не преминула едко осведомиться: — Отчего же? Думаешь, у меня кишка тонка? Разумеется, ее приводит в ужас мысль о том, чтобы выйти на сцену и стать мишенью насмешек. Как почти все карлики, она очень ранима, да к тому же ей не довелось закалить собственную чувствительность, сталкиваясь со злом внешнего мира. Из добрых побуждений родители выпестовали ее в излишне благостной обстановке, среди людей, никогда не упоминавших о ее странности, а теперь это вовсе некстати. Извлечь пользу из малого роста, выйти навстречу десяткам, возможно, сотням незнакомцев — что может быть страшнее? Разве что опасность состариться в задней комнатенке чужого дома, пока время несется вперед, а дети растут, и страшиться взглянуть в зеркало, ибо отражение будет все более морщинистым и крохотным. — Всю жизнь мне вбивали в голову, что я должна быть благодарна уже за то, что жива, а потому могу лишь мириться с обстоятельствами и не имею права ничего требовать от жизни. Но в глубине души я всегда восставала против этого. Не излишне ли дерзко с моей стороны желать чего-то большего, чем простая честь находиться на белом свете? Простите, но я хочу жить! Наслаждаться жизнью, а не только заслуживать ее. Может, один из способов сделать это — испытать судьбу на сцене? Как знать… — рассуждала Чикита, уперев руки в боки и горделиво вздымая грудь. — Многие изумятся, узнав, какой великий дух обитает подчас в едва заметном теле, ведь величие не знает размеров. К замешательству братьев, простой ответ на вопрос вылился в самое настоящее провозглашение жизненных принципов: — Мне нечего терять, а вот приобрести я могу многое. В худшем случае, если план Румальдо не выгорит и мне придется вернуться в Матансас на милость родичей, я хотя бы стану утешаться тем, что попыталась вкусить жизни, смаковать ее! — Она повернулась к брату и решительно заявила: — Мне понадобятся новые платья и шляпы! — Сколько угодно! — радостно воскликнул Румальдо и сгреб сестру в объятия. — И еще, — продолжала лилипутка, пресекая приступ братской любви. — Нужен пианист, да чтобы умел играть по-настоящему, от всего сердца, — и, помолчав, нарочито равнодушным тоном с едва заметной шутливой ноткой добавила: — Ох, боюсь, непросто будет такого найти. — Довольно! — оскорбленно выпалил Мундо и объявил, что, хоть он и не одобряет ее решение, кузина может смело рассчитывать на него. — Ты совсем выжила из ума, но как-то раз я поклялся никогда тебя не покидать и сдержу слово, — взволнованно заключил он. Румальдо весело зашагал взад-вперед по комнате, строя планы вслух. Из домашней обстановки много всего ценного можно продать: резную мебель, какой больше не делают, картины маслом, фарфор, стенные часы, серебряные приборы. Ради общего блага нужно обратить это все в звонкую монету. Что касается Хувеналя, то, запропав куда-то, он лишился права высказывания. Его часть денег они просто отложат. — А как же Рустика? — спросил Мундо, пропуская мимо ушей разглагольствования менеджера. — Поговорю с ней вечером, — сказала Чикита. — Хотя она наверняка уже сама все прознала. От нее ничего не утаишь. Нельзя исключить, что Рустика и вправду подслушивала под дверью, потому что, когда ей сообщили о плачевном финансовом положении семьи и намечающейся авантюре, она не выказала ни малейшего удивления. Казалось, ее совсем не тревожит необходимость уехать из Матансаса и очертя голову окунуться в неясное будущее. «Мне все едино — хоть гладить яичницу, хоть жарить галстуки», — сказала она и только выразила сожаление, что не понимает «по-американски». Чикита пообещала до отъезда обучить ее паре фраз, достаточных для какого-никакого общения с ньюйоркцами. Когда часы в доме пробили полночь, Эспиридиона Сенда села на кровати, сунула ноги в вышитые шлепанцы, взяла карандаш и тетрадь, вооружилась свечой и выскользнула из спальни. В эту минуту ее, одетую в воздушный пеньюар, простоволосую, с рассыпанными по плечам длинными черными кудрями, немудрено было принять за блуждающего по коридорам призрака. Она остановилась перед дверью Румальдо и тихонько, чтобы не разбудить спящего в соседней комнате Мундо,постучалась. Брат открыл нескоро. — Займемся расчетами, — сказала Чикита, протянула ему тетрадь и карандаш и шепотом рассказала, сколько денег спрятано у нее на черный день в домашнем тайнике. — Нужно все учесть: мой повседневный и сценический гардероб, приличную одежду для тебя, для Мундо, да и для Рустики — я всегда полагала, что даму уважают сообразно тому, как одета ее горничная, — билеты на пароход, отели, обеды… — Прямо сейчас? — сонно заартачился Румальдо, но при виде решительного выражения Чикиты подавил зевок. В ту ночь, пока они складывали, вычитали и говорили о театрах, гримерных и недельных прибылях, Румальдо Сенда понял, что актрисой Чикитой, The Living Doll (Живой Куклой — такой псевдоним предложил он, а она, попробовав произнести с различными интонациями, одобрила), не так-то легко будет помыкать.
Чикита и Румальдо никому не говорили, какой крутой вираж собираются заложить. Легенда для родственников и друзей гласила, что они проведут некоторое время в загородном доме в Нью-Джерси по приглашению Беллвудов, симпатичной семейной пары миллионеров, с которыми Румальдо свел знакомство за чаем в нью-йоркском «Шерри’с». Первоначально приглашение касалось только Румальдо и его сестры, но летние владения мистера и миссис Беллвуд так обширны, а сами они так привыкли принимать десятки гостей одновременно, что совершенно не возражали, когда Румальдо спросил, нельзя ли взять с собой учтивого и талантливого юношу по имени Мундо. Они были страшно рады заиметь на время музыканта, который будет оживлять игрой их светские приемы. Румальдо так искусно описывал воображаемых друзей — она увлекается искусством, он владелец сталелитейных заводов, оба слегка эксцентричны, — что никто не заподозрил обмана. Канделария сочла неподобающим намерение крестницы впервые в жизни отправиться в увеселительную поездку, когда прихотливый маятник биржи только-только оставил ее без средств к существованию. Пусть даже изумительные Беллвуды возьмут на себя расходы по пребыванию, все равно путешествия на север влекут неизбежные траты. Манон и Жауме, напротив, нашли решение очень своевременным. После бесконечного траура Чиките полезно будет развеяться. К тому же пара месяцев вдали от дома может настроить ее на покладистость, и по возвращении она с большей охотой прислушается к тем, кто желает ей лишь добра. А вот идея отделаться от семейного особняка встретила единодушное одобрение. «Слишком большой дом для такой жилицы» — было всеобщее негласное мнение. Пока Румальдо и Жауме подыскивали покупателей на дом и мебель, Чикита с Мундо занялись подготовкой репертуара танцев и песен для дебюта. Сначала они немного повздорили, потому что пианист настаивал, чтобы кузина, как в старые времена, танцевала под мелодии Шопена, но новоиспеченная артистка придерживалась иного мнения и настояла на своем. По ее разумению, привлекать внимание американцев и заслуживать их аплодисменты требовалось чем-то «экзотическим». Посему польские мазурки и прелюдии были безжалостно заменены дансонами и контрдансами креольских композиторов, живыми шутливыми композициями вроде «Ну-ка, Томас!» и «Милашки» Мануэля Саумеля или «Хохота» и «Холодного душа» Игнасио Сервантеса. Тем не менее в качестве уступки кузену Чикита согласилась включить в программу «Утраченные мечты», романтическое сочинение Сервантеса, которым Шопен вполне мог бы услаждать слух Жорж Санд на закате в Пальма-де-Мальорка. Вдохновившись партитурами, Чикита начала обдумывать хореографию. Она репетировала до изнеможения, поскольку, хоть и была не прочь порой отдаться волшебству музыки и импровизировать ad libitum[16], все же предпочитала в мельчайших подробностях продумать каждый танец. Если зрителям покажется, что она танцует по наитию, тем лучше, но сама она должна быть твердо уверена во всех па. С выбором песен оказалось легче. Она просто припомнила хабанеры Себастьяна Ирадьера, которые столько раз девочкой исполняла на уроках с Урсулой Девилль. Несомненно, «Голубка», «Чин-чин-чан», «Мулатка с корзиной фруктов» и, конечно, «Интрижка». Услыхав последнюю, нью-йоркские меломаны, скорее всего, вообразят, будто Ирадьер скатал ее со знаменитой хабанеры из оперы «Кармен». Как бы не так, господа! Уж она позаботится о чести музыканта и разъяснит, что это Бизе, чуточку изменив мелодию, присвоил себе «Интрижку» без всякого стеснения. Пока творческий дуэт работал в музыкальной гостиной, а Румальдо торговался с покупателями за каждый серебряный канделябр, восточный ковер или матового купидончика севрского фарфора, Рустика не имела ни единой свободной минуты. Кроме дел по дому, на нее свалилась задача снабдить Чикиту гардеробом, достойным принцессы. Она накупила отрезов лучших тканей, какие только можно было достать в Матансасе, и при свете лампы орудовала иголкой и наперстком до глубокой ночи, сооружая элегантные наряды, которые сеньорита, не пикнув, примеряла снова и снова, покуда они не садились точно по фигуре. Часть гардероба Рустика намеревалась пошить уже in situ[17], понаблюдав за нью-йоркскими модницами. В начале июня дело пошло скорее. Один гаванский адвокат влюбился в особняк, предложил неплохую сумму, и они без промедления ударили по рукам. Все сошлись на том, что это истинное везение в разгар войны, когда повстанцы норовят сжечь весь остров от края Маиси до мыса Сан-Антонио, а испанцы — превратить его в одну огромную темницу, и рассчитывать на удачу в делах не приходится. Сенда получили аванс и условились, что через несколько недель при передаче ключей новый хозяин выплатит оставшееся. В ту пору, будто предчувствуя скорое расставание с хозяйкой, манхуари отказался есть и спрятался в зарослях кувшинок. Он не высунулся, даже когда Рустика по велению Чикиты принесла ему живую ящерицу. — Он понял, что мы уезжаем, и собрался помереть, — высказалась служанка, удивляясь столь чувствительному сердцу у такой страховидной зверюги. — Подлый шантажист, — бросил Мундо с презрением. Поведение Буки так тронуло Чикиту, что она тут же решила взять его с собой, невзирая на возражения Румальдо. Манхуари мгновенно обрел утраченный аппетит.
Накануне отъезда Чикита обошла весь дом, поглаживая стены. «Какое все большое! — шептала она. — Неужели я еще уменьшилась?» Почти вся мебель и утварь были уже проданы, иногда за смехотворные деньги, а саксонский сервиз, венецианское зеркало и вышитые скатерти перекочевали к Манон в Пуэбло-Нуэво вместе с фортепиано и десятками книг, дорогих сердцу Чикиты. Сразу после отбытия юных Сенда падре Сирило должен был отослать кастрюли, прочую посуду и остатки мебели в какое-нибудь благотворительное учреждение. После обеда Чикита и Рустика отправились на кладбище — за неимением собственной пролетки и кучера в экипаже Манон. Сперва они прошли к могилам Игнасио и Сирении, и Чикита взбесилась, увидев, что мраморные ангелы с головы до ног загажены голубями. Рустика разжилась у могильщиков тряпкой и ведром воды и оттерла ангелов дочиста. «Готово!» — гордо объявила она. Но лоснящийся вид отмытых ангелов не поднял Чиките настроения. «Через три дня опять чистого места не останется, — мрачно предрекла она и, как бы думая вслух, добавила: — Жаль, нельзя позашивать задницы этим мерзким пичугам». Потом они навестили Мингу, чтобы и у нее испросить благословения. «Бабуля, защити нас», — взмолилась Рустика. О цели путешествия покойникам особо не распространялись. «Где бы они ни были, сами уже, наверное, всё знают», — рассудила Чикита, и они в молчании тронулись в обратный путь. На ночлег устроились как могли. Манон и прочие родичи предлагали им погостить у них в последние дни, но они предпочли остаться в особняке. Румальдо и Сехисмундо повалились на шаткие койки и через минуту уже храпели, словно на пуховых перинах. Чиките постелили на кушетке. Крошечный спальный гарнитур из палисандра и черного дерева, подаренный родителями на пятнадцатилетие, уже погрузили на пароход. Рустика допоздна укладывала последний сундук при свете свечи. Захлопнув крышку, она придвинула к окну кресло и очень прямо уселась, сложив руки на животе. — Не собираешься спать? — спросила Чикита и, не получив ответа, наставительно сказала: — Лучше бы тебе прилечь хоть ненадолго. Рустика неопределенно хмыкнула, но кресла не покинула, а через некоторое время что-то забормотала. Сначала Чиките показалось, что та молится, но, вслушавшись, она узнала английские фразы, которым успела обучить служанку. Стало ясно, что упрямица намерена бубнить их до шести утра, пока не наступит время ехать в порт, и Чикита, собравшаяся было ругаться, плюнула. Пока Румальдо и Мудно храпели, а Рустика нудно выпевала «We are Cubans»[18] и «New York is a beautiful place»[19], Чикита незаметно уснула — по крайней мере, ей так показалось — и увидела занятный сон, который по пробуждении помнила во всех подробностях, словно и впрямь пережила его. Она оказалась в городе Санкт-Петербурге и летела в санях по заснеженным проспектам. Пронзительный ледяной ветер выл в ушах, царапал щеки и заставлял глаза слезиться, но не мешал ей любоваться при свете луны заиндевевшими деревьями без листьев, мостами, величественными статуями, церквами и дворцами, встающими по обеим сторонам дороги. Кучер то и дело оборачивался убедиться, что пассажирка на месте, и подмигивал, как бы поздравляя с тем, что она не выпала из саней. Заметно было, что он пьян, но Чикиту это нимало не смущало. Ее завораживали скорость, морозные порывы ветра и перезвон бубенцов. Метель усилилась, но тут они подъехали ко дворцу, и кучер натянул поводья. Лошадь замедлила шаг. Чикита немного разочаровалась, когда они миновали великолепный перистиль, в глубине которого скрывался главный вход, и остановились у скромной боковой двери. Кучер выскочил из саней, бесцеремонно ухватил Чикиту за талию, сунул под мышку и заколотил в дверь. — Доставлена! — хрюкнул он, передал груз вышедшему лакею в белых чулках и вышитой ливрее и, не простившись, исчез. Лакей проявил большее уважение к даме. Он спустил ее на пол, подождал, пока она одернет юбки, пригласил следовать за собой и повел через залы с зелеными нефритовыми колоннами и розовыми мраморными полами. Чиките приглянулись некоторые картины на стенах, но она не успела разглядеть их как следует: провожатый шагал быстро, и она боялась отстать. Они пересекли зимний сад, и слуга, многозначительно и лукаво глядя на Чикиту, остановился показать ей бабочку, едва вылупившуюся из куколки и упражнявшую крылья среди цветов. Чикита спросила себя: а не связано ли это с ее собственной жизнью? Уж не она ли эта бабочка? А родительский особняк — куколка, внутри которой она столько лет, сама того не сознавая, готовилась к полету? Она цыкнула зубом и отмела метафору за излишней очевидностью. За маленькой гостиной в стиле Людовика XV, мавританской курительной и коридором с зеркалами и статуями показалась винтовая лестница. Узкие и очень высокие ступеньки потребовали от Чикиты немалых усилий. Наконец они вышли на площадку, лакей отодвинул завесу и указал на потайную дверцу, такую маленькую, что ему пришлось стать на колени, чтобы ее открыть и просунуть внутрь голову. «Та, кого вы ждали, прибыла», — торжественно объявил он. Эспиридиона Сенда набрала в грудь воздуха, подняла подбородок и прошла в комнату со стенами, обитыми красным штофом. Дверь захлопнулась у нее за спиной. В табачном дыму она едва смогла различить хозяев. — Прошу вас, мадемуазель Чикита, — произнес старческий голос. — Добро пожаловать на нашу дружескую встречу! Осторожно ступая вперед, она догадалась, что это может быть Аркадий Аркадьевич Драгулеску, кабальеро, который четверть века назад сопровождал в Матансасе великого князя Алексея, и поднесла руку к груди убедиться, на месте ли талисман. — Да, — подтвердил с надтреснутым смешком карлик, — это я, — и, обращаясь к собравшимся, гордо добавил: — Разве я не говорил, что она чрезвычайно умна? Теперь всех стало хорошо видно. Драгулеску с выдающимся горбом и остальных. Все молча и беззастенчиво разглядывали ее. Аркадий Аркадьевич, дряхлый и напоминающий живую мумию, вольготно расположился на диване. Он был разут, но не снял синего сюртука с золотыми пуговицами, очень похожего на тот, который столько раз описывала Сирения. Вокруг него стояла дюжина мужчин разного возраста и внешности, но все крошечного роста. Некоторые были богато одеты и щеголяли драгоценностями и орденами, другие, небритые и оборванные, смахивали на бродяг. Единственная женщина склонила колени подле камина. Это была цыганка с оливковой кожей; длинные черные волосы спадали поверх яркого наряда, словно плащ. Чикита заметила, что среди присутствующих преобладают люди с крупными головами, мощными торсами и чересчур короткими ногами; таких соразмерных, как она сама, было немного. Все превосходили ее ростом, и это внушило ей странную уверенность, как будто некоторым образом придавало ей величия. Она присела в неглубоком реверансе и снисходительно улыбнулась. — Подите же, сядьте рядом со мною, — позвал Аркадий Аркадьевич. Она послушалась, и, как только коснулась поверхности дивана, все кругом как бы отмерли, принялись говорить, выпивать и петь под гитару. — Вы голодны, дорогая? — медвяным голосом осведомился горбун, указывая на столик с жареным мясом, сыром, черным хлебом, маслом, солеными огурцами и целой батареей бутылок. — Откушайте, не стесняйтесь, — подбодрил он и, дабы подать пример, отправил в рот целый ломоть хлеба. Жуя, он выразил всеобщее мнение: они счастливы Чикитиным присутствием. — Мои друзья мечтали с вами познакомиться и убедиться, что вы способны добраться издалека. Чикита кивнула с учтивой улыбкой и, стремясь скрыть волнение, вгрызлась в кусочек сыра, на ее вкус чересчур твердого и соленого. Бывший наставник великого князя тем временем представлял собравшихся. Сидит с гитарой Клювкин, купец; он сделал состояние, скупая в Европе полотна эпохи Возрождения и продавая втридорога Екатерине Великой. Толстяк с курчавыми бакенбардами — Иванов, много лет служивший вторым секретарем начальника канцелярии Его Императорского Величества Павла I. Что касается господина, с наслаждением затягивающегося кальяном, то это загадочный Цоппи — поэт, дуэлянт, неисправимый донжуан и, как утверждают злые языки, внебрачный сын императрицы Анны Иоанновны, супруги герцога Курляндского, от одного испанского дворянина. А вон те детины, что хлопают водку стаканами, утираются рукавами и гогочут, ему мало знакомы. Он не помнит их имен, но они, хоть и грубоваты, сплошь славные малые. Цыганка меж тем взобралась на другой стол, запела и заплясала, поводя обнаженными плечами и встряхивая волосами. Не в силах оторваться от такого зрелища, все мужчины, кроме Драгулеску, образовали круг у стола и хлопали в ладоши. У Чикиты горели щеки, то ли от жара камина, то ли от полнившей комнату чувственности. Завершив танец, цыганка кинулась в объятия поклонников, и те с восторженными криками взялись качать ее. — Кровь у Зинаиды горячая, а это всякого сведет с ума, — заметил Аркадий Аркадьевич и, не обращая внимания на шум, попросил Чикиту рассказать о положении дел на Кубе. Как продвигается война? Массачусетский полк уже разгромил отряды испанцев? Чикита удивленно отвечала, что американские войска никогда не ступали на ее родную землю, а старик пробормотал: — И то правда, пока еще нет. Все в голове перемешалось. Мало-помалу все успокоились, расселись возле Драгулеску с Чикитой и стали слушать. Цыганка снова пригрелась у камина и в минуту тишины объявила, что не прочь выпить зеленого чаю. Не присоединятся ли господа? Большинство согласилось, и Зинаида попросила Чикиту налить всем чаю из гигантского самовара. Гостье пришлось спрыгнуть с дивана и подать собравшимся чай в чашках с золотым двуглавым орлом. Когда она клала сахар в последнюю, себе, ей показалось, что амулет великого князя Алексея нагревается у нее на груди. Она незаметно завела руку за пазуху и пощупала шарик. Ошибки нет: он очень горячий. В замешательстве Чикита поднесла амулет к губам и принялась дуть в надежде остудить его. Добилась она обратного: шарик раскалился, заалел, будто уголек, и начал испускать тонкие завитки дыма. — Это что, испытание? — в гневе прокричала она, заметив, что карлики внимательно наблюдают за ней. — Это испытание? — повторила она, но вместо ответа получила насмешливые улыбки. — Надо думать, так оно и есть! — И она сердито топнула об пол башмачком работы Томаса Карродегуаса. — Ничего у вас не выйдет, господа хорошие! — Тут Чикита поступила по наитию: склонилась над чашкой и окунула амулет в чай. Все, включая Зинаиду, прежде настроенную презрительно, горячо захлопали. — Ну, будет, будет! — воскликнул Драгулеску и в воцарившемся безмолвии подозвал Чикиту. — Я горжусь вами, милая. — Он галантно поцеловал ей руку. — Меньшего от вас я и не ждал. Чикита кивнула. Она все еще не понимала, что происходит, но амулет обрел обычную температуру, а столь открытое проявление симпатии льстило. — Прости, что обошлась с тобой по-свински, — сказала Зинаида, подползая к Чиките на четвереньках. — Сомневалась на твой счет, зато теперь вижу, чего ты стоишь. — Она привлекла ее к себе, расцеловала в обе щеки, а третий поцелуй запечатлела на губах. — Мир, что ли? — Полно болтать впустую! — прервал ее Цоппи, любитель кальяна, отодвинул цыганку локтем и объявил Чиките, что все ждут от нее великих свершений. — Мы столько времени пребывали в нелепой неопределенности, бездарно теряя отвоеванное, но теперь наконец грядет железная длань истинной воительницы, — промолвил он и предложил тост за здоровье Чикиты. Все чокнулись, выпили залпом и немедленно грохнули хрустальные бокалы об пол. — Благослови тебя Господь, матушка! — возопил один из бродяг, простерся ниц и поцеловал подол Чикитиной юбки. Зинаида запела с новой силой, к голосу присоединились гитара и скрипка. Мгновение спустя знатные господа и бродяги слились в единой пляске, лихорадочно бия в ладоши. Глядя на их яростные прыжки, падения и ужимки, Чикита засомневалась, то ли они безумно счастливы, то ли счастливо безумны. Остававшийся рядом Драгулеску успокоил ее: никто не лишился рассудка, просто такова русская душа, способная радоваться и страдать с одинаковой необоримой силой. Один юноша схватил ее за руку, и Чикита пошла за ним. Почему бы и нет? Во сне все дозволено, даже кружиться в объятиях потного и небритого, но смазливого карлика. От плясок у нее так закружилась голова, что обратно к дивану пришлось добираться с помощью остальных. Она зажмурилась на миг — или дольше? — а когда открыла глаза, карлики о чем-то яро спорили, обменивались колкостями и упреками, и Драгулеску безуспешно пытался навести порядок. Чикита услышала тихий свист и увидела, что Зинаида, притаившаяся в углу, делает ей знаки приблизиться. Она подошла и забралась к цыганке на колени. — Не пугайся, голубка, — сказала Зинаида, и Чикита, увидав цыганку вблизи, поняла, что она не так уж молода, как ей показалось с первого взгляда. Или та состарилась на глазах, с необычайной быстротой? Она отвернулась, чтобы не видеть впалых щек и гнилых зубов, а только слушать убаюкивающий ласковый голос. — Я тебя спрячу, и никто тебе не навредит. Зинаида с силой качнула головой и накрыла копной волос Чикиту. Той почудилось, что за этой завесой она в безопасности, будто под покровом леса. — Я бы на твоем месте, — прошептала цыганка, — швырнула амулет в море. Чикита хотела спросить почему, но не смогла. Волосы Зинаиды, как живые, обвивались вокруг ее ног, рук, туловища и шеи и больно сдавили, словно хотели выжать ее без остатка. Она попробовала высвободиться, но, барахтаясь, еще сильнее увязла. — Чертовы космы! Чертова цыганка! — задыхаясь, выговорила она, но и голос тоже угодил в волосяную темницу. — Чертовы карлики! — выкрикнула Чикита из последних сил, теряя сознание, но тут голос Рустики вернул ее под своды особняка. Она ошеломленно села на кушетке. Так все это сон? Правдоподобный кошмар? Но в таком случае откуда у нее на руках тонкие красноватые следы? На догадки времени не оставалось. Уже почти шесть, надо поторапливаться. Экипаж ждет, чтобы отвезти их в порт. Все надеялись, что за треволнениями отъезда Чикита забудет про Буку, но не тут-то было. Рустике пришлось отправиться к пруду, выловить рыбину голыми руками и посадить в аквариум. «Ишь какой костлявый, а склизкий-то!» — с отвращением воскликнула она и накрыла аквариум севильской шалью, чтобы никто не догадался о проникновении манхуари на пароход.
Чикита просила друзей и родственников не провожать ее в порту, но все равно в среду, 30 июня 1886 года, несколько десятков человек столпились у трапа лайнера «Провиденс», чтобы проститься с Эспиридионой Сендой[20]. Канделария и Манон забрасывали ее советами, а Экспедита, Эксальтасьон и Бландина, к тому времени успевшие выйти замуж, явились с супругами и детьми. Все восторгались легким нежно-голубым платьем, которое Чикита выбрала для отъезда, и кокетливо надетой несколько набок матросской шапочкой и требовали слать открытки из Нью-Йорка и всех прочих пунктов путешествия. Падре Сирило сократил мессу, чтобы успеть осенить подопечную благословением и подарить четки из розового дерева, освященные покойным папой Пием IX. Даже полиглот Лесерфф, тяжелый на подъем, выбрался из дома и пожелал Чиките счастливого пути на недавно выученном венгерском. На причале не оказалось разве что крестного, Педро Картайи, но Чиките объяснили, что он сейчас у ложа умирающего. К удивлению собравшихся, Пальмира, негритянка из Ла-Маруки, скрасившая детство братьев и сестер Сенда столькими сказками, тоже пришла, хотя много лет от нее не было ни слуху ни духу. Она громко рассказала, что зарабатывает на жизнь, кухарничая в испанском батальоне, а потом понизила голос и сообщила, что все ее сыновья сражаются в горах на стороне мамби. Народу все прибывало, и Чикита забеспокоилась. Рустика ничем не могла помочь, поскольку руки у нее были заняты аквариумом с Букой. К друзьям семьи и пациентам доктора Сенды подтянулись грузчики, моряки, рыбаки, попрошайки, проститутки, бродяги, крестьяне, солдаты и полицейские, которые случайно проходили мимо, заинтересовались шумихой и, углядев лилипутку, остались поглазеть. Творился форменный карнавал. Торговцы губками, цветами, сладостями, фруктами и птицами громогласно расхваливали товары, а Рубен и Сенен, бродячие кукольники, раскинули театр марионеток посреди толпы и начали представление. Нагрянули дружки Румальдо и присоединились к веселью. Комендантский час застал их накануне в разгар гулянки, и всю ночь они провели в борделе мадам Арманд в обществе девиц легкого поведения. Дабы отпраздновать новую поездку товарища в Штаты, они откупорили несколько бутылок шампанского и принялись поливать собравшихся. Даже Мундо, скромняга и молчун Мундо, внес вклад в общую сумятицу, потому что музыканты из его оркестра тоже пришли попрощаться и в качестве сюрприза грянули дансон «Альтурас-де-Симпсон». Чикита и Рустика не удостоили приветствием сапожника Карродеагуаса. А ему-то кто напел про их отъезд? Подошла стайка девчушек под командованием старой монахини: то были воспитанницы приюта Тирри, не раз получавшего щедрые пожертвования от семейства Сенда. Монахиня объявила, что сиротка по имени Карильда, белокурое голубоглазое создание с перламутровой кожей, сложила сонет в честь Чикиты. Юная поэтесса не замедлила льстиво продекламировать:
Глава VIII
Манхуари в водах Сены. На борту «Провиденса». Нью-Йорк! Филиал ада. Первый автомобиль в их жизни. Новая встреча с Сарой. Буддистская драма и ужин в «Дельмонико». Завтрак с пользой. Бартерный обмен. Решение Рустики. Судьба Буки.Бука подплыл к поверхности Сены и высунул голову на звук аккордеона на Пон-дю-Карусель. Потом прибился к берегу и послушал перебранку сутенера с проституткой. Лунная дорожка серебрилась на воде. Заскучав, манхуари нырнул, развернулся и поплыл к острову Сите. Черно-зеленый камень, у которого он обычно устраивался на ночь под мостом Сен-Мишель, заняли угорь и рак, но при виде Буки последний тут же бежал. Если у угря и были намерения побороться за место, он, очевидно, передумал, как только вновь прибывший оскалил зубы. Как же Бука стал первым и единственным парижским манхуари? История эта тесно связана с прибытием Эспиридионы Сенды в Нью-Йорк и будет рассказана в свое время.
К удивлению сопровождающих, во время плавания Чикита не жаловалась на тесноту в каюте, пресную кормежку и немилосердную качку. Напротив, она лучилась жизнерадостностью и оптимизмом, так что Рустика, знавшая ее лучше всех, даже разволновалась. То ли она вправду счастлива начать новую жизнь, то ли тщательно играет роль? Так или иначе, часы вынужденного заточения прошли за декламацией стихов с Мундо, созерцанием пенных волн и линии горизонта, восторженными рассказами Румальдо о манхэттенских театрах и кабаках и занятиями английским с Рустикой. Когда ржавый нос судна устремился к порту Нью-Йорка, Чикита отважилась выйти из каюты и ненадолго поднялась на мостик в сопровождении брата и кузена, чтобы издали взглянуть на город, который намеревалась завоевать. Мундо легко поднял ее — его никогда не переставало восхищать, как же мало она весит, — и Чикита вцепилась ручками в край борта, забыв про остальных пассажиров. По левую сторону она увидела колоссальную статую Свободы с факелом и в причудливой шипастой шляпе, по правую — не менее грандиозный подвесной Бруклинский мост, а посредине между двумя чудесами инженерии бороздили воды торговые суда под флагами всех мастей, роскошные трансатлантические лайнеры, прогулочные яхты, паромы, баржи, буксиры, почтовые пароходики и рыбачьи лодки. За пирсами Чикита разглядела множество зданий, а еще дальше — фабричные трубы, испускавшие темный густой дым, и задалась вопросом: а выдержит ли ее сердце, не знавшее ничего, кроме пейзажей Матансаса и окрестных усадеб, такую новь и величину? Корабль подвалил к пирсу, настала пора подумать о высадке, и Румальдо принялся отдавать приказы, которым никто не стал перечить. Чикита, хочет она того или нет, должна с головы до ног закутаться в шаль. В таком виде, спеленатую, словно little mummy[21], Рустика вынесет ее с парохода и будет носить везде. Это придаст всей их процессии скорости, не позволит торопливой толпе толкать и топтать Чикиту и убережет от скопищ зевак. Мундо, в свою очередь, займется аквариумом с манхуари, жуткой тварью, которую он, Румальдо, в минуту слабости разрешил сестре взять с собой. Сам же он собирается отыскать сундуки и ящики с мебелью Чикиты, помеченные буквой «С» (от фамилии Сенда), в длинных рядах багажа, выложенного в алфавитном порядке, нанять носильщика и пройти таможенный досмотр. Сквозь ткань шали Чикита углядела в профиль краснощекого офицера иммиграционной службы, который сердечно приветствовал их, полагая, что Рустика прижимает к груди младенца. Но, когда с формальностями было покончено и кубинцы собрались было двигаться дальше, он вдруг хрипло выкрикнул: «Стоп!» — поднял шаль, укрывавшую аквариум, и принялся хмуро рассматривать Буку. «What is this?»[22] — потрясенно вопросил он. Румальдо, струхнув, как бы их не погрузили на паром и не отправили на Эллис-Айленд, словно пассажиров третьего класса, прибывших из Европы, поспешил разъяснить, что это манхуари, экзотическая рыба, совершенно безобидная — хоть и very ugly[23],— поскольку питается исключительно водными растениями. В этот миг Бука, словно желая опровергнуть свое мнимое вегетарианство, счел за лучшее зевнуть, и офицер совсем помрачнел при виде его острых зубов. Что за чудище они вознамерились протащить в страну? Мучимый духотой и гамом десятков пассажиров, томившихся в длинной очереди и жаждавших воссоединиться с друзьями и родственниками по ту сторону перил, Румальдо призвал весь свой ум, чтобы успокоить янки. Он заверил, что зверюга при всей своей отвратности представляет огромный научный интерес и сегодня же они отдадут ее в дар общественному аквариуму, где ею смогут бесплатно любоваться все ньюйоркцы[24]. Чикита уже совсем изнурилась, начала задыхаться и приготовилась высунуть голову, чтобы вступить в перепалку с офицером, но тот внезапно разрешил им пройти. Дальше дело пошло быстрее: они проложили себе путь сквозь толпу, раздобыли экипаж, и Мундо, Рустика и маленькая мумия расселись внутри. Румальдо проверил, на месте ли весь багаж, велел кучеру везти их в «Хоффман-хаус» и присоединился к остальным. «Трогай!» — прокричал он и в сотый раз пояснил, что выбрал «Хоффман-хаус», не такой шикарный отель, как «Астор» или «Метрополитен», за то, что он нынче в моде у многих творческих личностей. Неизвестно, то ли кучер плохо расслышал указания, то ли был новичком на Манхэттене, то ли сбился из-за сутолоки в порту, то ли попросту решил нажиться на пассажирах. Так или иначе, вместо того чтобы направить экипаж на Уолл-стрит и въехать в Железный Вавилон, так сказать, парадными воротами, дорогой банков, денег и процветания, он решил вопреки здравому смыслу избрать заднюю дверь, то бишь углубиться в еврейско-итальянский квартал, способный навести ужас на всякого. Чикиту ошеломили грязные запруженные улицы. Это преддверие ада — и есть хваленый современный Нью-Йорк? Широко распахнув глаза, она смотрела на линялые безвкусные здания, стены, прорезанные пролетами железных лестниц, лавки с вывесками на идише, лотки с фруктами, овощами, рыбой и птицей, как попало раскиданные вдоль тротуаров, горластых бродячих торговцев, толкавших тележки с товаром, женщин, которые тащили тяжелые корзины с хлебом, развешивали на балконах белье или болтали с соседками, мальчишек-газетчиков и мальчишек, пинавших чиненые мячи, рабочих, нищих, проституток и пьяниц, полицейских, которые расхаживали по двое в шлемах, похожих на перевернутые ночные горшки, осматривались в поисках возможных воришек и угрожающе покачивали дубинками, фургоны, запряженные тощими одрами и едва пробивавшие путь сквозь рои прохожих, а также шумные поезда, несшиеся по уродливому железному желобу на уровне крыш. Чикита зажала нос платочком, чтобы не задохнуться от запаха гнили, грязи, застарелого пота, мочи и экскрементов, доносившегося отовсюду: от помойных ведер, гниющих на жаре товаров, ветхих обносков, сточных вод и лошадиных куч. Крики, смех, чумазые и осунувшиеся лица, столпотворение, нищета, жужжание мух, колыбельки в дверях домов и выбоины на дороге, которые ни один кучер не старался объехать. Куда их завез ее брат? Представшая картинка совсем не похожа на цивилизованный город из его восторженных рассказов. Рустика с Мундо, похоже, были разочарованы не меньше, но Румальдо со снисходительной улыбкой всех успокоил: таков уж Нижний Ист-Сайд, гнусный и безобразный загон, в котором ютятся и выживают как могут самые бедные и недавние иммигранты. Ночью, когда люди прячутся по своим каморкам и гул замолкает, словно по волшебству, все еще хуже: пустынные улицы, уже без патрульных на углах, превращаются в филиал ада, где попрошайки и злоумышленники запросто грабят и насилуют, не боясь ни Бога, ни закона. Но к чему заострять внимание на этом уголке Ист-Сайда, если истинный Нью-Йорк, с широкими улицами и тенистыми площадями, украшенными статуями, с элегантными магазинами и модными театрами, с особняками миллионеров и огромными конторскими зданиями, еще впереди? Чуточку терпения, вскоре они и сами в этом убедятся. Высунувшись до пояса из окна, Румальдо велел кучеру как можно скорее вывезти их из этого квартала и умудрился увернуться от гнилых помидоров, которыми швырялись в экипаж малолетние оборванцы. Наконец они вывернули на Юнион-сквер и влились в поток транспорта на Бродвее. Румальдо вздохнул с облегчением, а остальные повеселели при виде омнибусов на конной тяге, цветастых реклам микстур и мыла и задорно позвякивающих новеньких трамваев. Как будто они одним махом перескочили из мира в мир. Чистый просторный проспект, запруженный толпами элегантных горожан, полный ресторанов и магазинов, примирил их с Железным Вавилоном. Вдруг Рустика вскрикнула, увидав странный аппарат на колесах, двигавшийся наобум. Водитель плохо управлялся с махиной, грозившей въехать прямо в их экипаж. К счастью, в последнюю минуту столкновения удалось избежать. — Вы только что наблюдали первый автомобиль в вашей жизни, — взволнованно и торжественно объявил Румальдо. — Эти кофейники на колесах пока еще редко встречаются, но вскоре заполонят все улицы, — предрек он и издевательски заклеймил Рустику паникершей и деревенщиной. Некоторые считают, что эти машины, топящиеся нефтью, — дьявольское изобретение, но лично его влечет все новое, и, если удача им улыбнется, он не исключает возможности обзавестись авто и стать chauffeur[25]. — Ну а меня только через мой труп затащат в эту лоханку, — фыркнула Рустика. Добравшись до треугольника, образованного слиянием Бродвея, Пятой авеню и 25-й улицы, экипаж обогнул обелиск над могилой генерала Уорта, героя войн с Мексикой, и остановился у «Хоффман-хауса», элегантного гранитного здания, занимавшего целый квартал, где Сенда зарезервировали двухкомнатный номер. Минуту спустя Чикита уже прямо и гордо вышагивала по алому ковру в холле. За исключением двух-трех любопытных, никто из постояльцев, которыми кишело помещение, не заинтересовался ее ростом. Служащие же, видимо, привыкли иметь дело с еще более странными гостями и просто сопроводили их до номера с преувеличенной учтивостью. Когда золоченые дверцы лифта распахнулись на шестом, последнем этаже, в коридоре показалась высокая худая дама, одетая во что-то атласное и зеленое и увенчанная кокетливой шляпкой в пармских фиалках. Неудивительно, что лилипутка с первого взгляда узнала ее, ведь, увидев однажды Сару Бернар, никто не мог забыть ее огненных кудрей, точеного носика и выразительных глаз. Куда сильнее они — и в первую очередь сама Чикита — удивились тому, что актриса, окинув малышку взглядом, наклонилась, заключила ее в объятия и слегка наигранно воскликнула: «Oh, топ Dieu! Ma petite!»[26] Прошло девять лет со встречи в гримерной театра «Эстебан», но мадам Бернар помнила Чикиту и была счастлива видеть ее вновь. Она обернулась к своему секретарю и сообщила, что Чикита — ее кубинская подруга и très intelligente[27]. Польщенная petite склонилась в реверансе и представила Румальдо, поцеловавшего актрисе руку, и Сехисмундо. У последнего руки были по-прежнему заняты аквариумом, и он ограничился вежливым поклоном. — Какие приятные воспоминания храню я о вашем острове… — промурлыкала Сара, многозначительно глядя на кубинцев, в особенности на пианиста. — Что это вы так осторожно держите? — полюбопытствовала она и подошла поближе. К разочарованию божественной Сары, на вопрос ответил раскованный Румальдо. Он в подробностях (зачастую выдуманных) описал вид манхуари и его особенности. Посматривая то на Чикиту, то на Мундо и совершенно игнорируя Румальдо, а уж тем более Рустику, мадам Бернар решила, что они непременно должны прийти на ее спектакль в театре «Эбби» нынче вечером. Это ее предпоследнее выступление в Штатах, а такое нельзя пропустить. Не дожидаясь ответа, она приказала секретарю обеспечить кубинцам ложу, прошелестела атласом в лифт и напоследок объявила, что после спектакля они поужинают вместе. Сенда сошлись во мнении, что встреча судьбоносная. Кто лучше обожаемой всем Нью-Йорком Сары Бернар проложит Чиките путь на сцену? Они вошли в зал, когда занавес уже поднимался, и, стараясь не привлекать внимания, просочились к своей ложе. В тот вечер при полном аншлаге la Magnifique[28] представляла свой последний шедевр: «буддистскую трагедию» «Изеиль», действие которой разворачивалось в V веке до нашей эры. Чикита предпочла бы пьесу классического репертуара, но пришлось наблюдать, как мадам Бернар в воздушной тунике и белокуром парике изображает придворную даму гималайского царства, задавшуюся целью соблазнить прекрасного и целомудренного Сиддхартху. Пятидесятилетняя Бернар порхала по сцене с легкостью подростка, и ее voix d’or[29] оставался мощным и звучным. После третьего акта капельдинер вручил им записку. Мадам сообщала, что встретится с ними в ресторане «Дельмонико» на углу Пятой авеню и 26-й улицы, где подают бесподобную filet de boeuf à la Dumas[30]. В четвертом и последнем акте ослепленная, запытанная и побитая камнями Изеиль благополучно скончалась в объятиях святого Сиддхартхи, и Чикита с Мундо уронили слезу, когда Будда признался, что и он безумно любил ее, прежде чем отказаться от титула раджи и пойти по пути святости. Они удалились, пока публика аплодировала, и наняли экипаж до ресторана. Через полтора часа Сара ворвалась в отдельный зал, где они дожидались, и, не извинившись, потребовала от метрдотеля наполнить бокалы лучшим шато из имеющихся запасов и немедленно тащить меню, а то она умрет с голоду. Никаких hors d’oevres[31]: они сразу же перейдут к делу. Она стремительно выбрала блюда, не советуясь со своими гостями. Для начала суп из зеленой черепахи au Xérès[32], затем фирменное filet, но только не ей — ей нынче вечером хочется орегонского лосося à la Sirene[33]. Со сладким разберутся потом, но она должна предупредить, что земляничный мусс в «Дельмонико» просто merveilleuse[34]. Еле-еле управляясь с огромными вилкой и ножом, Чикита про себя чертыхалась: как же она забыла взять собственные приборы? Она несколько раз порывалась поведать Саре о своих планах, но та, казалось, была настроена слушать лишь саму себя. Как будто недостаточно наговорившись в ходе спектакля, она изводила кубинцев нескончаемой болтовней. Сперва восторженно описала нового питомца, шотландского колли по кличке Гейм, а потом обрушилась на шансоньетку Иветт Гильбер, которая, приехав в Штаты, имела наглость заявить журналистам, будто мадам Бернар обожает ее песни и считает главным талантом Франции после себя. В немалой степени благодаря этой гнусной уловке, она стяжала благосклонность ньюйоркцев, кривляясь и заголяя икры при исполнении «Fleur de berge»[35]. «Но обратимся к вещам более приятным», — вдруг объявила Сара и встряхнула рыжими кудрями, как бы отгоняя воспоминания об «этой стерве». Разве не великолепную афишу Муха, чешский король завитушек и арабесок, нарисовал специально для ее турне? Она непременно подарит им экземпляр. С автографом, разумеется. Только после десерта Эспиридиона Сенда сумела вставить словечко о причинах своего пребывания в Нью-Йорке, но к тому времени мадам уже совсем засыпала и предложила продолжить разговор на следующий день. Они могли бы позавтракать вдвоем. У нее в люксе в девять, нет, лучше в десять утра. Впрочем, заметила она, презрительно отвернувшись от Румальдо, к ним может присоединиться и Мундо. Она хотела бы послушать его игру и убедиться, так ли он хорош, как утверждает его кузина. Пока Рустика одевала Чикиту в ночную сорочку и заплетала ей косу, они услышали, как Румальдо в своей комнате рвет и мечет, возмущенный обращением Бернар. Перед сном Чикита прижала к губам талисман великого князя Алексея и вознесла импровизированную молитву славянским богам, чтобы те помогли ей заручиться поддержкой la Divine[36]. «Скромный», по выражению Сары, завтрак состоял из яиц пашот, ветчины, сосисок, фруктов, тостов, варенья, масла, молока и кофе. Она подвинула Чиките полную тарелку и велела не стесняться, вооружиться своими крошечными приборами и наедаться до отвала. Если малышка намеревается стать жрицей искусства, силенки не помешают. Дело это непростое, вот что нужно знать, как «Отче наш», — первым делом предупредила Сара. Начало карьеры всегда требует жертв. Старательно изображая невинное дитя, Чикита заметила, что пустилась в авантюру лишь по настоянию брата и совсем не имеет знакомств в артистической среде. Может,мадам снабдит ее именами некоторых продюсеров, к которым лучше обратиться? И, если не трудно, даст пару рекомендательных писем? Сара одарила ее широкой загадочной улыбкой, но ответила не сразу. Она попросила гостей пройти в соседнюю гостиную, указала на фортепиано и предложила показать, что они умеют. Под аккомпанемент Мундо Чикита постаралась как можно лучше спеть. Но похвастаться талантом к танцам не успела: Сара, не терпевшая, чтобы кем-то, кроме нее самой, интересовались дольше трех минут, подозвала ее обратно к дивану. Мундо продолжал играть (сперва прелюдию, а потом berceuse[37] Шопена), а француженка рассеянно разглядывала обои. Убитая ее молчанием, Чикита решила, что Бернар в ней разочаровалась, но, когда Мундо завел нежную баркаролу, Сара скинула оцепенение и в продолжение беседы заметила: чем обивать пороги импресарио, рискуя получить дверью по носу, не лучше ли снять зал в отеле, устроить специальное представление и пригласить побольше народу? Разумеется, самых могущественных продюсеров и владельцев крупнейших театров, но и репортеров, актеров, политиков, военных, дам и господ из высшего общества. Это лучший способ представить начинающую артистку и добыть хороший контракт. — Кого же мы можем пригласить? — встрял на ломаном французском пианист, не отрываясь от Шопена. — У нас нет друзей в этом городе. — Он искоса взглянул на Сару и осмелился на мольбу: не соблаговолит ли мадам стать их феей-крестной и подсказать список возможных гостей? Сара пристально посмотрела на него и расхохоталась. Так и быть, ради дебютантки, но также в угоду очаровательному Сехисмундо, доказавшему, что и самые робкие люди способны на храбрые поступки в решительную минуту, она распорядится, чтобы секретарь составил перечень обязательных личностей. И раз уж она взяла на себя роль феи-крестной, то желает исполнить ее с блеском, а потому лично напишет Эбби, Хаммерстайну, Киту, Фроману, Биэлу и другим продюсерам и внушит, чтобы они ни за что на свете не пропустили представление Чикиты, но умолчит о ее росте в двадцать шесть дюймов. «Так будет эффектнее», — добавила она. — Заходите сегодня вечером после прощального спектакля за списком и письмами, — сказала Сара пианисту. Чикита была не прочь и сама их забрать, но француженка подчеркнула, что ожидает именно Мундо, поднялась с дивана и дала понять, что визит подошел к концу. — Это бартерный обмен, — заявил Румальдо, едва ему рассказали о результатах переговоров, глянул на Мундо и предостерег: — Старуха в тебя втюрилась. Будь с ней поласковей, а то не видать нам бумаг. — Вот уж дудки! — отвечал, бледнея, кузен. — Что угодно, только не это. — Не слушай его! — встряла Чикита. — Ну да, мадам Бернар позвала тебя лично забрать рекомендательные письма и список гостей, но это вовсе не значит, что тебе придется расплачиваться за услугу. — Но если придется, уж будь любезен держаться молодцом, как мужик! — цинично отозвался Румальдо. Сехисмундо невыразимо страдал до самой полуночи. Он никогда не был близок с женщиной, и сама мысль об этом приводила его в ужас. Но Чикита так слезно умоляла его пойти и так бодро убеждала не бояться, что он согласился. Он наведается к Бернар, но и только. — А вы ей сыграйте, — посоветовала Рустика. — Наивные вы люди, — вздохнул Румальдо. — Игр-то она ждет, только не на фортепиано. — И утянул кузена в бар выпить виски для храбрости. Там, под картиной Бугро, изображавшей четырех обнаженных нимф, резвящихся в обществе косматого крепкозадого сатира, он напомнил Мундо, что их общее будущее сейчас только от него и зависит. — Кому, как не мне, знать, что бананы тебе больше по нраву, чем папайи, — задушевно начал Румальдо. — Но ты пойми, дуралей, фрукты бывают всякие и по форме, и по вкусу, и попробовать нечто новенькое не так уж трудно, даже приятно, вот увидишь. — И пустился в описание разных приемчиков, которые доставят высшее наслаждение даже самой требовательной фемине, чем окончательно сконфузил несчастного кузена.
— Entrez[38],— приказала Сара, заслышав робкий стук в дверь. Сехисмундо нажал на ручку, вступил в сумеречную гостиную и краем глаза заметил ускользающую тень (горничную?). Сара стояла посреди комнаты в неглиже из газовой ткани и с подсвечником. Она поманила его пальцем и, когда он подошел, ухватила за руку. — Не сыграть ли вам что-нибудь? — пролепетал пианист. Она глянула на него недоверчиво и нежно, отрицательно помотала головой и задула одну свечу. — Вы успели написать письма? — осведомился Мундо. Француженка прошептала «oui» и медленно, но верно потянула его в сторону спальни, задув вторую свечу. Там она поставила подсвечник на столик и усадила Мундо рядом с собой на край кровати. — Нас ждет незабываемая ночь, — предрекла она, не отпуская его руки. Послюнила большой и указательный пальцы, загасила фитиль третьей, последней свечи и заключила Мундо в объятия. Он тут же отстранился, пробормотал малоубедительное «сейчас вернусь» и пулей вылетел из комнаты. При виде напуганного до смерти кузена без всяких писем Чикита с Румальдо разочарованно переглянулись. — Я не смог, — посетовал любитель Шопена, рухнул на стул и рассказал, как эта дамочка погасила все свечи одну за другой и накинулась на него, словно «течная паучиха». Чикита уже решила, что все погибло, но тут Рустика предложила сумасбродное решение: Румальдо вполне может заменить кузена. «Ночью все кошки серы», — напомнила она сомневающимся хозяевам. Главное, чтобы самозванец успел смыться до наступления рассвета. Румальдо, конечно, плохо верилось, что француженка ничего не заметит, но попытка не пытка. Чикита и Рустика в мгновение ока сбрили ему усы и надушили одеколоном Мундо. К его изумлению, уловка отлично удалась, и до самой зари он неустанно удовлетворял любовные прихоти Сары. Хотя пришлось помалкивать: на каком бы седьмом небе ни пребывала актриса, его хриплый голос, столь отличный от тенорка Мундо, вмиг указал бы ей на обман. Перед рассветом подставной Сехисмундо покинул постель, стал одеваться в самом темном углу спальни и тут внезапно понял, что, невзирая на огромный риск, заговорить-таки надо. Как иначе истребовать письма и список? Но, когда он уже собрался подать голос, Сара спасла положение. «Кубинцев, может, и не зря зовут индейцами в сюртуках, — промурлыкала она в изнеможении, — но уж ублажить женщину вы умеете». И, проваливаясь в сон, добавила, что бумаги лежат на письменном столе в гостиной. Утром, прежде чем Сара Бернар отправилась в порт и погрузилась на «Ла-Шампань», тот же пароход, что привез ее в Нью-Йорк три месяца назад, Чикита с братом зашли проститься. — Мадам, я не знаю, как благодарить вас за помощь, — сказала лилипутка. — Могу подсказать, — ответила рыжая красавица, и кубинцы испуганно заморгали: вдруг ей взбрело забрать с собой Мундо? К счастью, обошлось. — А где та ваша странная рыбина? Она так необычна, что я хотела бы иметь ее среди своих питомцев. Чикита сглотнула. Расстаться с Букой! Что за каприз? Она замешкалась, хотя Румальдо ткнул ее в спину, заставляя уступить. Но тут в ее груди словно бы забились два сердца. Это талисман давал понять: если она хочет добиться успеха, следует пожертвовать многим, в том числе и манхуари. — Буду счастлива подарить вам Буку! — вздохнула Чикита наконец и попросила. — Только обещайте баловать его. — Ну разумеется, petite, — заверила Сара. — Он прекрасно уживется с моими львами, тиграми, обезьянами, броненосцами и какаду. — И, присев на корточки, она расцеловала подругу в обе щеки. Годы спустя Чикита узнала, что ее манхуари недолго прожил у Сары в Париже. Через несколько дней после приезда из Штатов актриса устроила ужин для близких друзей и захотела похвастать новым приобретением. Она намеревалась покормить рыбину куском печенки, но Бука вдруг выскочил из воды, вцепился в длинную тонкую кисть Бернар и едва не откусил ее целиком. Сара, не знавшая удержу как в любви, так и в ненависти, тут же приговорила его к изгнанию. Слуга получил приказ отнести манхуари на берег Сены и избавиться от этого fauve épouvantable[39]. Как тропическая рыба приспособилась к парижским зимам? Возможно, ответ кроется в речах мудрого Панчо де Химено: за миллионы лет Atractosteus tristoechus так привыкли уворачиваться от любых опасностей, что обрели чрезвычайную выносливость.
Глава IX
Месье Дюран все устраивает. Заслуженные аплодисменты Чиките. Именитые гости. Четыре импресарио и ни одного контракта. Импозантный рыжий репортер. Визит в редакцию Пулитцера. Волшебная микстура Лилли Леман. Предложение Патрика Кринигана. Растущее любопытство. Контракт с Проктором.Месье Дюран, управляющий «Хоффман-хауса», обычно перекладывал на подчиненных обязанность организовать светские вечера в залах отеля, но Чикита внушала ему такую симпатию, что он лично и с превеликим тщанием занялся подготовкой ее первого шага в завоевании Нью-Йорка. Они с Чикитой и Румальдо обошли все имевшиеся залы, прикинули достоинства и недостатки каждого и сошлись на Мавританском. Он также помог выбрать цветы и вина, канапе и sucreries[40] для угощения приглашенных и даже дополнил список фамилиями нескольких выдающихся медиков и скульпторов — кто же еще выскажет авторитетное мнение о совершенном изящном теле Чикиты? Наконец, чтобы сеньорита могла спокойно репетировать, он распорядился перенести в их номер фортепиано «Стейнвей» из люкса Сары Бернар. По мнению Дюрана, кто-то должен был произнести приветственные слова в начале soirée[41]. Но, s’il vous plaît[42], никаких длинных речей, которые лишь утомят публику и настроят на неверный лад. Четырех-пяти коротких, хорошо продуманных фраз вполне достаточно. — Кому же, как не вам, и произносить их? — предложила Чикита. В четверг, 23 июля 1896 года, незадолго до шести часов вечера управляющий спустился в зал и проверил, все ли в порядке. «Parfait»[43],— сказал он себе: лампы и зеркала сверкают; обитые зеленым кресла, диваны и стулья расставлены полукругом на аксминстерских коврах; маленький подиум в глубине зала выстлан красным бархатом и обрамлен кадками с пальмами и папоротниками; рядом с роялем — корзина орхидей; в вазонах белые розы; там и сям серебряные розетки с конфетами, а в кухне одетые в белое официанты ждут финальных аплодисментов, чтобы появиться с подносами, полными яств. Несмотря на духоту, в тот вечер в «Хоффман-хаусе» собралось целое созвездие знаменитостей. Записки Сары явно пробудили любопытство импресарио. Прибыл, к примеру, Антонио Пастор, шестидесятилетний господин итальянского происхождения по прозвищу Отец Водевиля, который начал путь в шоу-бизнесе, еще не избавившись от молочных зубов, в Американском музее самого Барнума, где пел и танцевал. Конкуренты арендовали и строили все более просторные площадки, но он, первооткрыватель Лилиан Рассел и других звезд варьете, оставался верен своим трем старомодным залам, в особенности тому, что носил его имя и находился на Юнион-сквер. Он питал надежду, что Чикита окажется испанской танцовщицей вроде Карменситы или Прекрасной Отеро. В этом случае он нанял бы ее, не моргнув глазом. Оскар Хаммерстайн, владелец «Гарлем-опера-хаус» и «Олимпии», нового зала на шесть тысяч мест, где пару месяцев назад Иветт Гильбер пленяла зрителей лукавыми chansons, высокомерно прошел к сцене и, ни на кого не глядя, занял кресло возле немецкой сопрано Лилли Леман-Калиш. Он поздравил певицу с прекрасной партией в «Тристане и Изольде» накануне вечером в «Метрополитен-опера» и пообещал на следующей неделе вновь нагрянуть на угол Бродвея и 39-й улицы, чтобы услышать ее в «Валькирии». Знакомые Хаммерстайна были осведомлены о его пристрастии к бельканто. Потому-то он так и пекся о качестве своих водевилей: доходы от легкого жанра позволяли устраивать оперные спектакли с доступными входными билетами. Чарльз Фроман также клюнул на приманку Бернар, хотя не любил показываться на подобных вечерах. В грядущем сезоне на него будут работать больше семисот артистов, но это не помешает, буде он пожелает, нанять и эту самую Чикиту, которую они вот-вот увидят. «Да кто она, черт побери, такая?» — поинтересовался он у магната Джона Уонамейкера, хозяина универмагов в Филадельфии, только что открывшего свой первый магазин на Манхэттене, и его супруги. Трагическая актриса или комедиантка? В Европе он про такую никогда не слышал, но, вероятно, неспроста придирчивая Сара с восторгом ее нахваливает. — Совсем скоро интрига вскроется, — озорно сказала миссис Уонамейкер и мельком глянула на часики, полускрытые кружевным рукавом ее платья. — Может, это новая Мод Адамс[44], и ей суждено сыграть главную роль в вашей следующей постановке? Тут Фроман углядел среди приглашенных писателя Джеймса Мэтью Барри с женой, извинился перед Уонамейкерами и пошел поздороваться. Вот дьявол! И как этот худосочный твердолобый шотландец умудрился заполучить такую красавицу? Четвертым импресарио в Мавританском зале оказался Фредерик Фримен Проктор (всем известный как Ф. Ф. Проктор). Его коллеги предпочли не приветствовать друг друга, но хозяин недавно открывшегося «Дворца удовольствий» подошел к каждому и пожелал успехов в осеннем сезоне. «Конкуренция конкуренцией, а хорошие манеры никто не отменял», — гласил девиз Проктора. Ему, как и всем, было страшно любопытно, кто эта собравшая их актриса, и он тщетно пытался выведать хоть что-то у управляющего отелем. Конечно, Пастор, Хаммерстайн и Фроман не так сильно нуждаются в новых именах, как он, ведь его театры открыты с полудня до полуночи. Чтобы заполнить двенадцать часов водевиля кряду, прерываемых лишь краткими интермедиями, требуется целая армия певцов, танцоров, акробатов, иллюзионистов и дрессированных зверей. «После завтрака отправляйся к Проктору. После Проктора отправляйся спать» — такой у него был рекламный слоган. У четырех столь разных господ имелось, однако, немало общего. Все они вышли из низов и благодаря упорству и финансовому чутью добились ошеломительных успехов. Театр был для них не только бизнесом, но и страстью, своего рода опиумом, без которого жизнь теряла смысл. Несмотря на подогреваемое ради рекламы соперничество и размолвки, все четверо были связаны крепкими и давними узами. Проктор в юности выступал в водевиле у Пастора, подвизался как эквилибрист и выходил на сцену в тесном трико телесного цвета. А когда Фроман собрал первую труппу, уже Проктор сдал ему «Театр на 23-й улице», где и прогремели его «Сельская ярмарка» и «Шенандоа». Весь город знал, что Хаммерстайн и Пастор пользуются благосклонностью одной и той же дублинской вдовушки, вдвоем оплачивают ей квартиру в Осборне и навещают по очереди. Что доказывает: при желании евреи, итальянцы и ирландцы могут легко наплевать на свои распри и мирно уживаться. «Собрать под одной крышей подобный квартет — настоящий подвиг», — шепнул месье Дюран Румальдо. Остальное собрание также отличалось разнообразием и благородством. Среди прочих присутствовали судья Дикман из Нью-Йоркского верховного суда с супругой; Антон Зайдль, дирижер филармонии; Сара Мак-Ким и ее племянница Луиза Уиттлеси, жена и вдова соответственно, генерала — героя мексиканских войн и текстильного магната; сэр Генри Блейк, губернатор Ямайки; барон Фава, посол Италии в Соединенных Штатах, с баронессой и даже адмирал Ивашенцов, опора и надежда русского флота. Не считая репортеров всех главных газет. «Удастся ли Чиките покорить их?» — думал Румальдо. Впрочем, это вот-вот должно было выясниться. Ровно в шесть Дюран взошел на подиум и хлопком в ладоши попросил всеобщего внимания. Вступительное слово, как и предполагалось, было кратким. Он поздравил присутствующих с тем, что им первым выпала честь увидеть «прославленную» и необычайно талантливую артистку, недавно прибывшую с ее родной Кубы. — Уверен, когда она предстанет вашим взорам, вы зададитесь тем же вопросом, что и я: «Сон это или явь?» — И в заключение месье Дюран театрально возвысил голос: — Дамы и господа, оставляю вас в обществе великой Чикиты! Зрители зашептались, а незаметно проскользнувший к фортепиано Мундо заиграл веселый дансон Сервантеса. Дверь зала распахнулась, и в проеме возникла Чикита в платье с длиннющим шлейфом. Остолбеневшие гости наблюдали, как малышка решительно и грациозно шагает к импровизированной сцене. Для первого появления Чикита выбрала утонченное бальное платье из дрезденского шелка цвета лососины с черными бархатными лентами и жемчужно-белые перчатки. К корсажу приколола серебряную брошь с бирюзой, а на голову водрузила бриллиантовую тиару. Точеная фигурка, легкость движений и изящество наряда создавали у публики явственное впечатление, словно перед ними настоящая живая кукла. У Чикиты тряслись поджилки, но никто ничего не заметил. Она излучала уверенность в себе и даже некоторое высокомерие. Раздались аплодисменты, исходившие, видимо, от месье Дюрана. Большая часть зрителей взяла с него пример, и, не успев запеть и станцевать, уже на ступеньках подиума лилипутка сорвала первую в жизни овацию. Когда аплодисменты стихли, Чикита кивком дала Мундо понять, что готова. Утром она вдруг перекроила программу и решила начать выступление с «Мулатки с корзиной фруктов», а не с «Голубки», как они условились ранее. «У меня предчувствие», — объяснила она Мундо. Услышав первый куплет, он перестал сомневаться в верности такого шага.
Патрик Криниган объявился через неделю и извинился за то, что так долго не выходило интервью. Виноват ужасный грипп, с которым он провалялся в постели несколько дней, — пояснил он Румальдо и Мундо. Но он готов оправдаться: у него с собой несколько экземпляров газеты с пылу с жару, и он хотел бы лично вручить их сеньорите. «Дело и впрямь жареным пахнет», — процедила Рустика, срочно одевая и причесывая Чикиту, чтобы та могла принять посетителя. Всем очень понравилось интервью, а репортер воспользовался подходящим случаем и предложил показать кубинцам Железный Вавилон. — Я и сам неплохо знаю город, — снисходительно бросил Румальдо. — Зато я не знаю, — вызывающе сказала Чикита и, смягчив тон, намекнула, что ей было бы страшно приятно рассчитывать на мистера Кринигана в качестве чичероне. — Рустика, конечно, отправится с нами, — подчеркнула она, заметив, что у Румальдо аж уши покраснели. После ухода Кринигана Румальдо попытался ее урезонить, но Чикита вскинула руку и оборвала его: — Ты мне менеджер, а не хозяин, — ледяным голосом напомнила она и постаралась, насколько могла, смотреть брату в глаза. — И мы не в Матансасе, а в Нью-Йорке, так что оставь проповеди при себе. — И с расстановкой продолжала: — А на твоем месте я бы не сидела сложа руки и отправилась к другим импресарио. Сбережения наши тают. Румальдо в бешенстве развернулся и заперся в их с Мундо комнате. Пианист улыбнулся, сел за фортепиано и наиграл бравурный марш. — Ты победила в битве, — злорадно заметил он. — Если бы, — вздохнула Чикита, рассматривая не самую удачную, на ее взгляд, иллюстрацию к интервью в «Уорлд». — Разве что в мелкой стычке. Рустика искоса глянула на них, но от реплик воздержалась. Румальдо, конечно, кровосос, но тут он прав. Пусть они сейчас в большом городе, где все живут «по-современному», сеньорите все равно негоже принимать приглашения от незнакомцев. Ей, Рустике, вовсе не по душе этот смазливый, благоухающий одеколоном журналист. А уж как Чикита на него смотрит — и вовсе стыд и позор.
Румальдо безуспешно обивал пороги импресарио, собирая отказы, туманные обещания и малозаманчивые предложения, а Чикита тем временем пристрастилась совершать прогулки с Патриком Криниганом. Рано поутру или на закате журналист прибывал в наемном экипаже и возил Чикиту по разным живописным местам. Она в упоении слушала рассказы вкрадчивого ирландца, который попал в Штаты в возрасте пяти лет, а теперь, казалось, был в курсе всего на свете. «Этот старый дом вскоре снесут и построят банк». «Видите тех рабочих под палящим солнцем? Они возводят памятник на могиле генерала Гранта». «А здесь, в „Карнеги-холле“, вчера состоялся концерт в пользу армянских беженцев, спасшихся из когтей Абдул-Хамида, кровожадного султана Константинополя». Разумеется, они посетили и Метрополитен-музей и всласть налюбовались полотнами Добиньи, Милле, Тернера и Ван Дейка. В зале, где выставлялась огромная ваза в греческом стиле, которую почитатели поэта Брайанта заказали в честь дня его рождения у Тиффани, лилипутка отступила на пару шагов и встала на цыпочки, чтобы получше разглядеть экспонат. Рустика осталась ждать на улице, и Чикита едва не попросила Кринигана поднять ее на руки, но вовремя опомнилась. Такое поведение — удел детей, а ей сейчас, как никогда, хочется, чтобы в ней видели женщину. В другой раз ирландец захотел показать ей Бруклин, и, кое-как успокоив Рустику, они направились к мосту из камня и стали, перекинутому через Ист-Ривер. Кучер заплатил за право проезда, и экипаж тронулся вдоль по чуду инженерии. Чикита захлопала в ладоши. «Вот это истинное произведение искусства!» — заявила она, наблюдая, как ландо и брогамы, телеги, груженные молочными бидонами, и красные почтовые повозки, железнодорожные вагоны и пешеходы снуют в безупречном порядке по пяти полосам моста. Раз уж Рустика согласилась пересечь висячий мост, Криниган решился и на более дерзкое приключение. Они сели на паром до острова Эллис и на лифте поднялись к венцу статуи Свободы. — Я и не думала, что она полая, — протянула Чикита. — Это вам урок, — пошутил ее приятель, с трудом удерживая на ветру шляпу. — Свобода не так крепка, как кажется. Во время прогулок Криниган успевал беседовать с Чикитой и одновременно заботиться, чтобы никто не наступил на нее и не толкнул. Если он замечал чей-то нескромный взгляд, то делал зверское лицо, и зевака — будь то господин, дама или малое дитя — тут же отворачивался. Чикита была немало удивлена, узнав, что в «Уорлд» Криниган пишет в основном о внешней политике, и, дабы не выглядеть легкомысленной и уметь поддержать беседу, впервые в жизни стала читать новости. Оказалось, планета переживала сложные времена: турки резали армян, эфиопы воевали противитальянцев, британцы подавляли африканские восстания, индусы вели религиозные войны, китайцы и японцы враждовали, филиппинцы поднимали мятежи против испанцев, а анархисты куда ни глянь подсовывали бомбы. Как наивно с ее стороны было полагать, будто Куба — пуп земли! Криниган рассказал ей о сложном положении на Гавайях, где три года назад при сообщничестве американского посла и поддержке морской пехоты белые жители Гонолулу свергли королеву Лилиуокалани и назначили временное правительство. Должны ли Соединенные Штаты включить острова в свою территорию или лучше оставить их на откуп алчным японцам? Президент Кливленд не спешит подписывать договор об аннексии, но, к счастью, вскоре он покинет Белый дом, и все изменится. Республиканцы только что выбрали Уильяма Мак-Кинли, губернатора Огайо, кандидатом в президенты. Криниган не в восторге от его скучных речей, в которых он непременно нудит о «руце Божией», но, как истинный республиканец, конечно, за него проголосует. — Все лучше, чем очередной демократ, при котором японский император наложит лапу на Гавайи. — А гавайцы сами не могут разобраться в своих делах? — осмелилась высказаться Чикита. — Исключено, пусть даже и не мечтают, — отрезал Криниган. — Такие мелкие острова не выживут в огромном прожорливом мире. Кто-то должен о них позаботиться. Чикита раскраснелась. Разве она сама не такая же малютка? — с жаром возразила она. Да, она гораздо ниже ростом большинства людей, но это вовсе не значит, что остальным позволено порабощать ее или за нее решать. — Мы говорим о Гавайях, а не о вас, — отшутился Криниган и не преминул заметить, какая Чикита красавица, когда сердится. Но больше всего журналист любил поговорить о войне на Кубе. Он уже написал не одну статью о противоборстве испанцев и партизан и собирался писать еще, потому что читатели проявляли к этому огромный интерес. Каждый день «Уорлд» печатала новости о крупнейшем карибском острове и обсуждала, как действовать Соединенным Штатам в свете конфликта. Точки зрения сильно разнились; даже сторонники вмешательства в войну на стороне Кубы руководствовались самыми непохожими мотивами: обычные люди просто сочувствовали кубинцам или считали, что пора бы Испании прекратить изображать великую метрополию, бизнесмены предвкушали новые рынки, а религиозные деятели спали и видели, как обратят тысячи и тысячи кубинских католиков и безбожников в протестантство. Но, как и в случае с Гавайями, Кливленд умывал руки и не хотел оказывать повстанцам даже моральную поддержку. Отчасти, чтобы не портить отношения с Испанией, отчасти, поскольку считал, что с обеих сторон воюют настоящие варвары, убивающие и выжигающие остров без зазрения совести. Политические разговоры очень пригодились Чиките, когда на вечернем сеансе водевиля у Костера и Биэла она впервые увидела чудесный витаскоп Эдисона. Вот уже три месяца кряду движущиеся фигуры на белом экране потрясали воображение ньюйоркцев. Вначале Чикита увидела, как две белокурые сестрички — Эдна и Стелла Ли — пляшут с зонтиком. Потом показали боксерский матч. Поцелуй знаменитых актеров вызвал неудовольствие публики, и кто-то даже выкрикнул: «Срам!» Чикита зарделась. Поцелуй любви — не грех, высказался Криниган, но, увеличенный до размеров экрана, несколько шокирует. Последняя картина под названием «Доктрина Монро» являла собой фарс, намекающий на спор Британии и Венесуэлы из-за границы Британской Гвианы. Криниган уже рассказывал, как Соединенные Штаты вмешались в этот конфликт и навязали свою волю, и Чикита понимала, почему зрители приходили в ярость при виде Джона Булла, тучного господина в галстуке, который символизировал англичан и нападал на Венесуэлу, а когда тощий долговязый Дядя Сэм в цилиндре и с козлиной бородкой ухватывал Булла за шею и заставлял просить прощения, смеялись и патриотично аплодировали. Чиките так понравились живые картины, что сразу после представления она попросила Кринигана сводить ее посмотреть на синематограф Люмьеров, привезенный Китом из Парижа для конкуренции витаскопу. В синематографе картинки были многообразнее, представляли происходящее в разных странах — полк французской пехоты на параде, коронацию русского императора Николая II, лондонский Гайд-парк и занятых стиркой швейцарских крестьянок — и тряслись меньше эдисоновских.
Однажды утром, раздраженно выпроводив нарядную сестру на очередную прогулку с ирландцем, Румальдо признался Мундо, что ему опротивело биться в закрытые двери. Скрепя сердце придется принять любое предложение, даже от самого захудалого кабака. И в ту же минуту постучался коридорный с письмом, которое разом все перевернуло. Проктор желал заполучить Чикиту на главную роль в своем водевиле. Нельзя ли им встретиться как можно скорее и обсудить контракт? Узнав новость, месье Дюран обзвонил знакомых и выведал причину столь внезапного интереса. Накануне вечером Проктор получил телеграмму, извещавшую, что лилипуты-эскимосы не хотят покидать Гренландию. Они наотрез отказывались сесть на корабль до Нью-Йорка. Времени раздобыть карликов в Европе не оставалось, а значит, составить конкуренцию «И Пикколини» Пастора и «Ди Лилипутанер» Хаммерстайна могла только Чикита. Отказ поставил бы под угрозу весь осенний сезон во «Дворце удовольствий». — Выждите несколько часов, прежде чем отправиться к нему, и не принимайте первое предложение, — посоветовал управляющий Румальдо. — Главный козырь теперь у вас. Чикита и Рустика ввалились в номер на закате, полумертвые от усталости. Краткая прогулка на деле вылилась в утомительный поход. Криниган, узнав, что у Чикиты нет ни одной качественной фотографии, настоял на срочной поездке на Стейтен-Айленд к его подруге Элис Остин, настоящей мастерице фотопортрета. Там, во внутреннем дворике ее викторианского особняка, на фоне розовой японской глицинии юная фотохудожница долго снимала Чикиту, восхищаясь ее осанкой, тонкой талией и непокорными кудрями. Она даже спросила, не бежит ли по жилам Чикиты цыганская кровь. «Не знаю насчет цыганской, — отвечала Чикита, — а вот арабская — очень может быть». Ее предки по материнской линии происходили из Гранады, веками остававшейся под властью мавров, а по отцовской — с Канарских островов, которые, как известно, ближе к Африке, чем к Пиренейскому полуострову. Чиките понравилась непосредственность мисс Остин. Но не слишком ли странно та смотрела на нее во все время визита, или ей почудилось? В отеле она спросила мнения Рустики, и служанка со свойственной ей прямотой подтвердила: дамочка и впрямь мужеподобная. Где видано, чтобы женщина таскалась туда-сюда с камерами и треножниками? Это мужская работа. — Надо же, наконец-то сеньорита почтила нас своим присутствием! — воскликнул Румальдо, возлежавший на диване в гостиной. Чикита собралась было оправдываться, но онемела при виде заставленного тарелками, бокалами и бутылками стола. Румальдо рехнулся? Недавно они ломали голову, как свести концы с концами, и вдруг такое расточительство. Роскошные сладости, мусс из омаров, шампанское… Обретя дар речи, Чикита хотела потребовать объяснений, но тут Мундо заиграл своеобразный гимн в честь кузины, the new Proctor’s living doll[53]. Это что, розыгрыш? Уж не сговорились ли эти два трутня подшутить над ней? — Контракт на сорок две недели во «Дворце удовольствий»! — Румальдо помахал у нее перед носом бумагами. — Проктор ждет ответа завтра утром. — И, ткнув пальцем в сумму еженедельного гонорара (Чикита сглотнула при виде четырехзначного числа), лукаво добавил: — Соглашаешься или нет? Сенда устроили настоящий пир. Месье Дюран прислал в подарок от отеля две бутылки премье крю «Мутон-Ротшильд де Пойяк», а развеселая Хоуп Бут нагрянула невесть откуда, чтобы присоединиться к банкету. Румальдо сбивчиво пояснил: случайно встретился с ней у Проктора, подумал, что Чикита будет рада вновь ее увидеть, и взял на себя смелость пригласить. Хоуп поздравила Чикиту и дала пару советов, как держать себя с импресарио. По опыту она знала, что излишняя покладистость только вредит. Нужно научиться показывать коготки и время от времени пускать их в ход. Наконец, к изумлению Чикиты, заявилась Лилли Леман-Калиш с мужем, несшим большую плоскую коробку. Месье Дюран поведал им la bonne nouvelle[54], и они решили преподнести новоиспеченной звезде подарок к случаю. Лилли забрала коробку у выдающегося тенора Калиша, положила у ног подруги и велела открыть. Внутри обнаружился венский веер из страусовых перьев: Чикита будет обмахиваться им во время выступлений и вспоминать свою Freund in der Seele[55], задушевную подругу, несравненную Лилли Леман-Калиш, лучшую из Брунгильд, любимую сопрано Вагнера! Эспиридиона сожалела, что Патрика Кринигана не оказалось рядом, но, с другой стороны, так она сможет сообщить ему новость наедине. Она сидела на диване, зажатая между внушительной фрау Леман и хрупкой мисс Бут, и выслушивала советы, поступавшие то в одно ухо, то в другое. Немка утверждала, что желающая добиться успеха артистка должна себя ценить: следует дарить искусство, но не допускать доверительных отношений со зрителем. На сцене пребывают боги, а зрители — простые смертные, которым посчастливилось их почитать. Хоуп, напротив, рекомендовала быть на подмостках льстивой и дерзкой — в меру, конечно же. (Насчет меры Чикита не совсем поняла: разве Хоуп Бут не оштрафовали совсем недавно за неподобающие одеяния?) Будьте непроницаемой, вагнерианской, — внушала сопрано. Будьте пикантной и соблазнительной, шептала мисс Бут. Валькирией, — советовала одна. Кокеткой, — настаивала другая. Серьезной. Плутовкой. Воинственной. Капризной. Чикита учла все эти противоречивые инструкции и решила, что разумнее всего соблюдать равновесие. Не уклоняться чересчур ни в одну из сторон. Она будет сочетать стили весталки и кокотки, — думала Чикита, а комната тем временем начинала кружиться у нее перед глазами, то ли от обилия советов, то ли от щедрых возлияний. Под утро гости отправилась восвояси, и Чикита, подписывая контракт, обнаружила, что Проктор обещает ей крупный аванс помимо гонораров[56]. Через неделю начнутся репетиции, а в конце августа, за несколько дней до открытия осеннего сезона, Чикита выйдет на сцену «Дворца удовольствий».
[Глава X]
Из всех глав в книге десятая была самая романтическая и почти целиком посвящалась Патрику Кринигану. Вначале Чикита утверждала, что ирландец был не только первой, но и самой большой ее любовью, а потом принималась за его подробное описание, упирая на галантность, чувство юмора и ум. Мне-то всегда казалось, что этот словесный портрет можно без ущерба сократить раза в три, но она стояла на своем. У каждого свои «пунктики». Самое главное приберегалось на конец главы. До этого шла сплошная вода. Целые страницы про то, как отлично они ладили, как им бывало весело вместе, как, едва расставшись, они начинали бешено тосковать, и прочие глупости. Ни о чем. Например, длиннющая сцена в Центральном парке. Очень красивая, прекрасно написанная и все такое, но пропустить ее можно было со спокойной совестью. Мы уйму времени угробили на этот кусок. Вот представь себе: Чиките втемяшилось, что описание Центрального парка должно быть предельно точным, а она кое-что запамятовала. Ну и гоняла меня несколько раз проверить, в какой цвет выкрашены лошадки на такой-то карусели да сколько ступенек в таком-то лестничном спуске. Каково, а? Таскаться из Фар-Рокавей на Манхэттен ради этой ерундистики! Частенько я прикусывал язык, чтобы не послать ее куда подальше. Если уж женщина, какая ни на есть мелкая, чего решила, то отговаривать — только время терять. Так что я бродил по парку и делал идиотские заметки типа: «Лошадки на карусели черные, белые и коричневые, пасти у всех открыты, зубы крупные, языки вывалены» или: «В лестнице от площадки до фонтана с Ангелом вод тридцать шесть ступенек ровно, между восемнадцатой и девятнадцатой — пятачок». Чикита в те времена уже не выходила из дома и думала, что Центральный парк — по-прежнему райское местечко, как в пору ее приезда в Штаты. Она живо помнила тамошние места, рассказывала мне про «Маленький Карлсбад», павильон с тридцатью видами минеральной воды, про разноцветную эстраду, где выступали оркестры, про гондолы на озере, привезенные из самой Венеции, и не верила, когда я говорил, что все это либо вконец развалилось, либо вовсе кануло в Лету. В ее памяти молл кишел наездниками и шикарными экипажами, а на эспланаде щеголяли новыми нарядами молодые дамы и господа. Но все это осталось лишь в ее воображении. Мне же представала совсем иная действительность. Парк вот уже многие годы находился в упадке и запустении, а Великая депрессия только усугубила его плачевное положение. Вместо элегантных надушенных горожан, прежде любивших прогуляться и присесть поболтать на деревянные, гранитные, кирпичные и кованые скамьи, аллеи наводнили толпы чумазых безработных, живших там же, в парке. Ты не ослышался: там обретались тысячи бездомных бедолаг. Одни жили под мостами, другие строили хибарки из кусков картона, досок и мусора. Бельведер вонял на мили вокруг, его изгадили вдоль и поперек. Весь замок засрали. Многие несчастные, оставшиеся без крова и пищи, с отчаяния ломали изгороди, скамейки и перголы, срубали деревья и царапали памятники. Даже бронзовые статуи не спаслись: у индейца-охотника украли лук, а тигра с павлином в пасти вообще унесли с пьедестала. Я такое поведение не оправдываю, но и не осуждаю. Может, не найди я тогда работу, поступал бы так же, как эти homeless[57]: громил бы все подряд, потому что ничто так не отупляет и не злит, как безнадега, и все лучше отломить ветку у дерева, чем снести башку полицейскому. В парке я столкнулся с итальянцами из моего пансиона. Они так заросли грязью, что я едва их узнал. Хотел подойти поздороваться, но заметил такую ненависть в их глазах, что передумал. Вот тебе когда-нибудь бывало стыдно, что ты идешь по улице умытый и хорошо одетый? Мне в то утро было. Эпизод в Центральном парке кончался тем, что Чикита с Патриком Криниганом проходили мимо молочной, где в те времена детям бесплатно наливали стакан парного молока. Завидев господина с маленькой девочкой, которые не спросили молока, один служащий стал громко звать: «Мистер, мистер, подите сюда, налью молока вашей дочке!» Чикита рассвирепела, а ирландец славно посмеялся и с тех пор всякий раз, когда хотел подразнить подругу, называл ее «доченька».С началом репетиций в водевиле Проктора жизнь Чикиты стала насыщеннее. Но это не помешало ей часто видеться с другом. Я говорю «с другом», а не «с поклонником», не «с возлюбленным» или там не «с женихом», потому что тогда речи о любви между ними еще не было. Криниган вел себя по-джентльменски, дарил букеты, приносил сладости, говорил комплименты, но тем все и ограничивалось. У Чикиты теперь были заняты утренние и дневные часы, и они сменили прогулки на столь же частые походы в театр. Тут под удар попал бедняга Сехисмундо. Он бы предпочел не вдаваться в подробности отношений кузины с Криниганом, но Чикита назначила его сопровождающим для вечерних вылазок, и он не смог отказать. До сих пор Рустика отлично справлялась с обязанностями дуэньи, но притащить негритянку в ложу к Дэли, Гаррику, Бижу или в любой другой нью-йоркский театр в те времена было немыслимо. Не забывай: рабство-то в Штатах отменили еще лет тридцать назад, но белые с неграми по-прежнему мало пересекались. Цветной все равно оставался гражданином пятого ранга, не позавидуешь, мягко говоря. Теперь вроде как кое-что изменилось, это я из газет и телевизора вызнал. Теперь они третьего ранга. А любопытно, правда? У кубинских негров было тогда куда больше прав, чем у американских. Они могли садиться рядом с белыми в поездах, в кафе и в театре, могли учить детей в государственных школах, а кто при деньгах — и в университет ребенка определить, и в церквях никто не вел двух отдельных книг для новорожденных белых и черных. Интересно, что все это разрешалось еще до того, как испанцы отменили рабство. Только не подумай, будто они так по доброте душевной поступили, испанцы то бишь. Наивная ты душа! Они всего и хотели, чтобы цветные успокоились, забыли про независимость и перестали партизанить. Несметное количество драм, комедий и опер-буфф, которые Чикита пересмотрела в те недели, пришлось как нельзя кстати: она разобралась, как модные артисты ведут себя на сцене и как общаются с публикой, подмечала все, что ей казалось полезным, чтобы взять на вооружение для собственных выступлений. Они даже в оперу сходили, послушать Лилли Леман в «Тристане и Изольде». Постановка была впечатляющая, но ни Чиките, ни Мундо не понравилась музыка Вагнера. Они нашли ее чересчур помпезной и даже устрашающей и весь вечер вздрагивали от внезапно вступавших рожков и труб. Разумеется, они умолчали об этом, когда в антракте Криниган провел их в гримерную Леман. Сопрано собиралась в ближайшем времени вернуться в Германию и пожелала Чиките всяческих успехов. Кроме того, они посетили пару водевилей с участием лилипутов, но, внимательно изучив их манеру, Чикита пришла к выводу, что это не истинные артисты, а просто иллюстрации к выражению «ошибка природы». Криниган согласился, но предупредил: лилипуты Пастора и Хаммерстайна — совсем другое дело: опытные матерые профессионалы, закаленные лучшими театрами Европы. Нелегко будет с ними тягаться. — Черт побери! — притворно обиделась Чикита. — Неужто вы во мне сомневаетесь? — Ни капли, — возразил он. — Я убежден, что во всем свете нет другого столь талантливого и очаровательного создания. В один прекрасный вечер, когда в театре «Эмпайр» они смотрели спектакль с Мод Адамс, в конце первого акта Криниган дал Мундо денег и послал за конфетами. Оставшись с «доченькой» в ложе наедине, он взял ее за руку, признался в любви и сделал предложение. Разница в росте, конечно, мало удобна для брака, но не является непреодолимым препятствием. Многим другим парам удалось справиться с этой трудностью и жить долго и счастливо. Почему бы и им не попытаться? Не дав Чиките ответить, он вытащил из нагрудного кармана старую открытку, представлявшую мистера и миссис Рид, супругов, снискавших несколько лет назад необычайную популярность как раз из-за того, что в нем насчитывалось шесть футов росту, а она была от горшка два вершка. — Сеньора Рид низкорослая, а не лилипутка, — заметила Чикита, разглядывая открытку. — Она достает мужу до пупка. А я вам — едва ли до колен[58]. Ирландец совсем сник, и Чикита поспешила уверить, что вовсе не отвергает его. К чему скрывать? Она тоже его любит. С первой минуты ее очаровали рыжие бакенбарды и почти прозрачные голубые глаза… Тогда Криниган признался, что мечтает увезти ее за город, в Коннектикут. Домик с большим камином и садом близ ручья на опушке леса, вдали от суеты и любопытных глаз — что может быть лучше для супружеской жизни? Он не богач, но на достойное существование у него денег хватит. И он уже переговорил с Пулитцером о возможности присылать статьи в «Уорлд» из Коннектикута. Тут вернулся Мундо с конфетами, и Чикита тоном, не терпящим возражений, услала его прогуляться в фойе. Они с мистером Криниганом обсуждают важное дело и нуждаются в уединении. — Милый Патрик, — нежно начала она, как только Мундо испарился, и влюбленный увидел добрый знак в том, что она сменила церемонное «мистер Криниган» на столь смелое обращение. — Проявим благоразумие! Я только что подписала контракт и через неделю дебютирую в превосходном водевиле. Было бы безумием бросить все ради тебя или любого другого мужчины. Чикита вспоминала, что в ту минуту ирландец едва не разрыдался, и потому она поспешила продолжить: — Не требуй от меня того единственного, что я не могу тебе дать. — И, прикрыв веки, добавила: — Но если ты попросишь что угодно другое, ну, например, чтобы я поехала к тебе и стала твоей сегодня ночью, я, пожалуй, не смогу отказать. Вот так номер! Криниган остолбенел и только смог пролепетать, что присутствие Мундо может помешать плану. Но Чикита уже все продумала. Когда вернулся Мундо, она объявила, что они решили не досматривать постановку. Они по-прежнему жаждут уединения, и ложа в «Эмпайр» не удовлетворяет их нужд. — Я зайду к мистер Кринигану в гости, а ты посидишь где-нибудь в кафе, пока мы не обсудим наше важное дело до конца. Патрик вовсе не был новичком, но дико разнервничался, когда аппетитная и готовая на все Чикита оказалась у него в спальне. Он поднял ее на кровать, раздел и стал нежно ласкать. Чикита утверждала, что в ту минуту пожалела о девственности, утерянной с Томасом Карродеагуасом. Но предпочла сразу же отогнать неприятное воспоминание. В тот раз она принесла своеобразную жертву, чтобы удержать рядом Рустику. А теперь не что иное, как любовь, толкает ее взобраться к Патрику на грудь, вцепиться в рыжеватую поросль между сосков, словно она амазонка, пришпоривающая скакуна, и целовать его в губы и в лоб. Чикиту ждал сюрприз: сам любовник был высоченный и широкий, будто шкаф, а вот ключик у него оказался очень маленький. Она набралась смелости и намекнула, что ее замочная скважина вполне готова. «Но только самый кончик», — попросила Чикита, не забывая об осторожности. Патрик так и сделал. Вначале он едва двигался, боясь причинить вред, но потом они так раздухарились, что не заметили, как весь ключик целиком поместился внутрь. В конце главы Чикита упоминала о признании Кринигана: долгие годы он тешил себя фантазией овладеть маленькой девочкой. Со своей «доченькой», женщиной размером с дитя, он наконец смог утолить это запретное желание, не терзаясь совестью. А что же она? Чувствовала ли они вину за то, что упоительно извивалась в объятиях журналиста? Самозабвенное сладострастие, конечно, шло вразрез с навязанными ей в юности представлениями о том, как должна вести себя сеньорита из Матансаса. Но разве она обыкновенная сеньорита? Все, от родителей до кузин, всегда внушали ей, будто существо ее размера может рассчитывать на тепло родственных уз, но и мечтать не смеет о том, чтобы разжечь страсть в груди любовника. Чего ради придерживаться правил мира, который отказал ей в праве любить и состояться как женщине? В конце концов, Чикита — артистка (или вскоре таковой станет), а артистам позволено пренебрегать нравственными или любыми прочими ограничениями. Сара Бернар была дочерью и внучкой кокоток и сама познала десятки мужчин, но это не лишило ее уважения зрителей и не помешало стать гранд-дамой. Эти рассуждения завершались ехидной фразой примерно следующего содержания: «Вскоре Сехисмундо сделался завсегдатаем тихого кафе неподалеку от квартиры Кринигана…» Когда я допечатал главу, уши у меня горели, и я не мог и глянуть на Чикиту, потому что невольно представлял ее голой. — Не думала я, что ты такой пуританин, — насмешливо сказала она. — Заливаешься краской на любой пикантной сцене. Привыкай: таких будет много. Разве ты еще не понял? Меня совершенно не волнует чужое мнение. Понял я к тому времени другое: Чикита испытывала ко мне странное влечение. Она уже давно стала бросать на меня томные взгляды и вообще вести себя так, будто я не наемный работник, а влюбленный, которому никак не решиться на первый шаг, или кто-то в таком духе. Она настаивала, чтобы я отправлялся с ней в сад поливать лилии и астры и смотреть, как лазурные дрозды купаются в фонтанчике. А если голодная белка спрыгивала с магнолии или плакучей ивы во дворе и подбегала попрошайничать, Чикита якобы испуганно вскрикивала и пользовалась случаем прильнуть к моим лодыжкам как бы в поисках защиты. Еще она заставляла читать ей вслух мои сонеты вечерами у камина и смотрела на меня с обожанием. Во избежание недопонимания хочу заметить: ничего физического между нами не было. За почти три года, что я прожил в Фар-Рокавей, я и руки-то ее коснулся от силы пару раз. Отвращения она у меня не вызывала, скорее слегка пугала. Я так и не смог привыкнуть к ее размеру. Это на словах легко, а вот сам бы пообретался бок о бок со старухой в теле ребенка. Не я один заметил это девичье кокетство. Рустика в мгновение ока раскусила хозяйку, а пострадал я: ей поперек горла было, что Чикита обращается со мной ласково и подолгу беседует о чем-то, кроме книги, и при любом удобном случае она норовила меня подколоть. Как-то утром я припозднился, так она постучалась ко мне и съязвила: «Идите быстрее, невеста заждалась». Со временем Чикита превратилась в сущую собственницу. Она желала, чтобы я день-деньской просиживал рядом с ней, и дулась, если я уходил прогуляться. Даже начала давать мне уроки английского, чтобы я по вечерам оставался дома! Но, сам понимаешь, не мог я сидеть взаперти сутки напролет. Очень уж скучная выходила жизнь. Иногда я будто задыхался, не мог больше терпеть и готов был взбунтоваться. Не забывай, я был тогда в том возрасте, когда молодому человеку нужно иногда вкусить свободы, прошвырнуться, отвесить комплимент красивой женщине, выпить. Хотя в Фар-Рокавей с развлечениями дело обстояло туго. В лучшие годы там был модный курорт с шикарными отелями, но от тех времен оставались лишь воспоминания: теперь же город-призрак оживал только с июля по сентябрь, когда приезжали отдыхающие. И в довершение бед — никакой тебе выпивки. Алкоголь запретили, и в лучшем случае ты мог накачаться отвратным ячменным сиропом и притвориться, будто выпил пива. Когда мне становилось совсем невмоготу от Чикиты, Рустики и Фар-Рокавей, я утешался тем, что жарить рыбу у дядюшки и того хуже. За развлечениями приходилось таскаться в «Плейленд», парк аттракционов там же, на полуострове, но довольно далеко от дома, в районе Рокавей-Бич. Я съездил раза три-четыре, да и плюнул. От шума и толпы я как-то соловел, а американских горок и вовсе боялся, так и не залез ни разу. К счастью, один тип, с которым я познакомился на улице, подсказал, что в Бель-Харбор, деревушке по соседству, есть одна очень обходительная шведка, и дал мне адрес. Я собрался к ней в гости, стал ее клиентом, и жизнь немного наладилась. Раз или два в неделю навещал ее. Шведка обходилась недешево, ну так у меня и расходов почти не было. И она, молодчина, никогда не подводила. Обслуживала со смаком, словно махараджу, да еще и наливала стаканчик-другой домашнего виски. Мне казалось, Чикита читает мои мысли. Всякий раз, когда мы работали над книгой и я предвкушал, как сегодня повеселюсь с Гретой (шведка была тезкой Гарбо), она вперяла в меня кислый упрекающий взгляд. Иногда так злилась, что переставала со мной разговаривать, или выдумывала, будто я недостаточно усерден, и грозилась уволить. Неприятно, чего уж там. Но обиды всегда быстро проходили, ревность утихала, и Чикита как ни в чем не бывало вновь меня расхваливала, говорила, что это Бог ей меня послал и что без моей помощи она никогда не написала бы автобиографию. Так она вела себя несколько месяцев подряд, а потом поняла, что это глупо, прекратила ревновать и пытаться привязать меня навечно. Знай я тогда хоть что-нибудь про астрологию, тотчас бы сообразил, почему у Чикиты было столько любовников, а в свои шестьдесят она флиртовала со мной, словно малолетка. Чего еще ждать от человека, который родился с Луной в Тельце, Венерой в Водолее, Ураном в седьмом доме и Юпитером в пятом? Ты как в астрологии? Я сам об этом ничего не знал, пока не вернулся в Матансас и не закрутил любовь с одной светлой мулаткой — знаешь, есть такие, на белых похожи — Кармелой. Она зарабатывала гаданием на картах и по руке. Еще проводила спиритические сеансы, составляла астральные карты и даже в хрустальном шаре читала человеку прошлое, настоящее и будущее. От клиентов отбоя не было. Но эта история никакого отношения к десятой главе не имеет, так что приберегу-ка я ее на следующий раз. Ты уже давно на часы поглядываешь, видно, заговорил я тебя совсем.
Глава XI
Кубинский водевиль. Стратегия Проктора. Приключения и злоключения говорящих попугаев. Начинаются репетиции. Скандальные признания Хоуп Бут. Новости из Матансаса. Портреты Паулины Мустерс и память о ней. Соперница-призрак. Неприятная встреча с руководителями Кубинской революционной хунты.Ф. Ф. Проктор строил большие планы в связи с дебютом Чикиты. Мундо оставался главным аккомпаниатором, но вдобавок на сцене должен был появиться оркестр, дюжина акробатов и внушительный кордебалет. Хаммерстайн всегда выводил танцовщиц нормального роста в водевилях с «Ди Лилипутанер», чтобы подчеркнуть контраст, и Проктор не желал отставать. Владелец «Дворца удовольствий» сгреб со стола кипу газет и разложил перед Чикитой и Румальдо. Заголовки, касающиеся Кубы, он обвел красным и теперь с удовольствием зачитывал вслух: «Новая победа повстанческих войск», «Госпиталь повстанцев захвачен, несмотря на ожесточенное сопротивление», «Девять испанцев погибли и десятки ранены в бою», «Четверо кубинцев расстреляны в Матансасе по обвинению в сговоре»… Также были отмечены статьи о суровых мерах, с помощью которых губернатор Валериано Вейлер по прозвищу Мясник тщетно пытался подавить восстание; о судах с грузом одежды, лекарств и динамита, добиравшихся до берегов Кубы, и о том, следует ли Соединенным Штатам ускорить конец этой кровавой войны. Президент Кливленд не ошибся, заметив, что вся страна охвачена кубинским безумием. — Если людям это интересно, мы утолим их любопытство, — бодро заявил Проктор. — Кубинский водевиль с великолепной Чикитой в главной роли! Импресарио был человеком энергичным и легким на подъем. Он привык воплощать на сцене любые фантазии, какими бы абсурдными ни казались они поначалу. Он уже и думать забыл про эскимосов, тюленей и иглу — теперь в голове его роились мятежные креолы и жестокие испанцы, винтовки, острые мачете и соблазнительные формы кубинских барышень. В конце концов, если призадуматься, гренландские лилипуты вовсе не в новинку американской публике. Олоф Крарер, Маленькая Эскимосская Леди, вот уже много лет путешествует по всей стране, щеголяет шкурами и рассказывает об обычаях своего народа[59]. Чтобы о Чиките заговорили, Проктор оплатил рекламу в крупных газетах и развесил плакаты на самых людных углах Манхэттена, Бруклина и Квинса, а кроме того, осуществил затею, сперва показавшуюся Чиките и Румальдо нелепой. Он велел служащим раздобыть двести молодых попугаев и двести золотых клеток, нанял специалистов, чтобы научили попугаев выразительно произносить: «Приходите посмотреть на Чикиту, Живую Куклу, в театр Проктора!» — и разыграл птиц в лотерею среди посетителей «Дворца удовольствий». Стратегия полностью себя оправдала. Пернатые, разъехавшиеся по всему городу, без устали повторяли призыв, и напрасно хозяева, которым обрыдло его слушать, пытались научить их новым словам. Упрямые веселые попугаи с утра до ночи долдонили рекламный лозунг. Люди начали спихивать их первым попавшимся прохожим или попросту выпускать на свободу в Центральном парке и других общественных местах, но это вовсе не навредило, а, напротив, пошло на пользу планам Проктора, потому что послание достигло новых ушей. Когда дети стали вслед за птицами распевать про «Чикиту, Живую Куклу», а в трамваях и на рынках пошли разговоры о ней, Живая Кукла и ее брат были вынуждены признать, что их импресарио — гений рекламы. К сожалению, уловка имела и некоторые непредвиденные последствия. Например, один попугай поселился на венгерском кладбище в Квинсе и изводил своей песенкой раввинов, могильщиков и родичей усопших во время похорон, и никто не мог поймать его. Другой уселся на часы на Бродвее и собрал такую толпу, что полицейским пришлось разгонять зевак, застопоривших движение. И совсем уж трагический случай произошел в магазинчике на Лафайетт-авеню в Бруклине, где прежде слывший уравновешенным мужчина пришел в такое неистовство из-за тараторящего попугая, что выхватил револьвер и застрелил несчастную птицу на глазах у полудюжины покупателей. И немедленно, устыдившись своего поведения, пустил пулю себе в рот. Однако подобные факты, цветисто описанные в газетах, лишь подогрели любопытство публики[60]. За несколько недель до дебюта жизнь Чикиты набрала головокружительные обороты. Словно кто-то захотел вознаградить ее за долгие годы заточения и скуки в Матансасе: репетиции, походы в элегантные магазины Дамской мили в компании Хоуп Бут, тайные свидания с Патриком Криниганом и встречи с важными персонами, которые желали с ней познакомиться и которых Проктор не осмеливался разочаровать. У Чикиты не оставалось ни одной свободной минуты. — Развлекайся, пока можешь, — советовала Хоуп. — Когда начнутся выступления, ты станешь рабыней сцены. У всех у нас одна участь! Однако сама мисс Бут, казалось, располагала уймой свободного времени. Она частенько заявлялась на чай в «Хоффман-хаус», рассказывала Чиките про своих поклонников — известных политиков и бизнесменов (не называя фамилий) — и про подарки, которые они слали в благодарность за ее общество. От лилипутки не укрылось, что Хоуп то и дело меняла драгоценности, и та с притворной наивностью подтвердила: да, кавалеры у нее очень щедрые, а вот воображения им недостает. Все дарят одно и то же: ожерелья, кольца, броши и браслеты. — А так иногда хочется просто букетик фиалок, — вздохнула Хоуп и, как бы смиряясь со своей судьбой, добавила: — Но что же мне делать? Если я перестану принимать от них брильянты, они ведь страшно огорчатся. Немного сблизившись с Чикитой, она обескураживающе естественным тоном поведала, что в девятнадцать лет ради получения первой крупной роли переспала с директором труппы, драматургом и главным актером. Ну да это только в самом начале карьеры, — поспешно объяснила она, когда Чикита залилась румянцем. Теперь, четыре года спустя, все изменилось: спать приходится только с мистером Гамильтоном, ее менеджером, да и то нечасто. Остальных друзей она вольна выбирать сама. Несмотря на суматошное расписание, Чикита выкроила время для обстоятельного письма сестре. По приезде в Нью-Йорк она послала Манон телеграмму с известием о том, что вскоре они отбудут в поместье несуществующих Беллвудов, но теперь призналась в обмане и рассказала, что будет выступать в одном из лучших театров Железного Вавилона. Да, дорогая Манон, ее жизнь совершила крутой и рискованный кувырок. Но пока она ни в чем не раскаивается. Если другие лилипуты, не такие маленькие и не такие талантливые, как она, имеют успех, почему бы и ей не прославиться? Чикита едва не написала про Патрика Кринигана и свои чувства к нему, но, поразмыслив, решила приберечь новость на потом. На одно письмо и так больше, чем достаточно. Манон еще нескоро все это переварит. Уже заклеивая конверт, Чикита прибавила короткий постскриптум: «О Хувенале что-нибудь известно?» Ответ пришел раньше, чем она ожидала. На первой странице Манон упрекала ее в обмане, но потом переключалась на самые сердечные пожелания успехов в новом начинании. На всякий случай она не станет говорить о переменах никому, даже мужу: подождет, пока Чикита прославится, а уж потом объявит всей родне. Что касается Матансаса, то там, как и на всем острове, дела из рук вон плохо. Вейлер решительно настроен задушить восстание любой ценой и выказывает все больше жестокости. А о Хувенале кое-что стало известно. Недавно она получила от него написанное явно им самим послание. Он не предается разврату в Париже, как все думали, а сражается на стороне мамби. Тайно вернулся на Кубу и воюет под началом генерала Масео. Никому не сказал про свое медицинское образование, чтобы не определили в лазарет, — хотел быть на передовой, а не в тылу, вдали от пуль. Чикита попробовала представить, как брат верхом на коне рубит испанцев мачете, но не смогла. Остальные по-разному восприняли новость. Сехисмундо сказал, что Хувеналь — храбрец, Румальдо обругал его романтиком, а Рустика обещала отныне поминать его в молитвах, потому как убивать живых людей, пусть даже ради правого дела, тоже грешно. Тоже, — повторила она, многозначительно поглядывая на сеньориту. До недавнего времени служанка не догадывалась о тайной любви Чикиты и Кринигана. Но потом подметила, что Сехисмундо всякий раз берет в театр книжку. Тот пытался юлить, утверждая, будто читает в антрактах, но Рустика уже почуяла неладное и не успокоилась, покуда не выведала правду. «Боже Праведный! Как же этот бугай совокупляется с нашей малявкой?» — только и сорвалось с ее уст. Рустика сама не могла понять, что ее больше огорчает: внебрачная связь сеньориты или тот факт, что ей, всегдашней наперснице, та и словом не обмолвилась. Так или иначе, намек возымел действие, поскольку позже, когда она расчесывала Чикиту, та наконец призналась, что безумно влюблена в репортера и уступила его мольбам о близости. — Я подумала, раз уж я все равно лишилась чести с сапожником, то не так уж и согрешу, если стану спать с Патриком, — всхлипнула Чикита и попросила прощения у Рустики за то, что не доверилась ей сразу. — Я уверена, ты сумеешь меня понять. Понять и простить. Простить и помочь. — И хмуро, цинично добавила: — В конце концов, добродетель утрачивается лишь однажды. Рустика промолчала, из чего Чикита сделала вывод, что та, пусть нехотя, признает ее правоту. — Надеюсь, вы будете осторожны, — наконец пробурчала Рустика. — Если ваш брат узнает, такое начнется! — А ты думаешь, он ничего не подозревает? — усмехнулась Чикита и, раз уж они настроились на доверительные признания, высказалась о Румальдо: он просто бесстыжий бонвиван. Чикита для него — курица, несущая золотые яйца, и ему ничего не остается, только терпеть ее кудахтанье и клевки. Если он осерчает и свернет ей шею — прощайте, доллары! Или если запрет в курятнике и запретит клевать зернышки с тем петухом, который ей по нраву. — Впервые в жизни я свободна, я сама себе хозяйка, Рустика. Мне страшно, но я счастлива. Возвращаясь к Румальдо: она почти уверена, что они с Хоуп Бут любовники. Рустика воздержалась от замечаний, но позже, в разговоре с Сехисмундо, обвинила Румальдо в том, что Чикита «оступилась». Это по его милости сеньорита раздвинула ноги перед Криниганом. Потому что он вбил ей в голову мечты о сцене и отвратил от спокойной жизни в Матансасе. Чикита ведь добрый человек. Иногда она и вправду бывает капризной, жестокой, даже опускается до шантажа, но она не злая. Если уж она связалась с рыжим, то это по любви, а любовь, подлянка, такова, что даже самых порядочных женщин лишает рассудка. Нет, Рустика не осуждает хозяйку, скорее жалеет, поскольку в глубине души Чикита наверняка раскаивается в своей ошибке и невыразимо страдает.
В середине августа, когда Чикита уже совсем забыла про поездку на Стейтен-Айленд, Элис Остин прислала ей снимки. В конверте также обнаружилась милая записка с приглашением в гости, чтобы они смогли «поговорить о столь многом, на что не нашлось времени в прошлый раз». Если зануда Криниган, вечно спешащий вернуться на Манхэттен, останется дома, тем лучше. И вообще, почему бы Чиките не погостить у нее несколько дней? Элис горит желанием остаться с ней наедине и поснимать в свое удовольствие[61]. Вечером Чикита показала портреты и письмо любовнику. Тот с лукавым смешком заметил, что мисс Остин подчас переживает внезапные страстные приступы симпатии к своим приятельницам. — Думаю, Элис больше влекут юбки, чем брюки, — сказал он. — Поэтому у меня с ней и не получилось романа. На следующий день после репетиции Чикита показала фотографии Проктору, но он сразу же заявил, что для рекламных целей они не сгодятся. «Слишком художественно», — презрительно протянул он. Лучшие фото лилипутов — те, на которых они стоят рядом со стулом или с человеком нормального роста, так что можно составить представление об их размере. Ничего, он еще наймет прекрасного фотографа, и тот сделает потрясающие снимки Чикиты. — Вроде этих. — И он вытащил из ящика стола несколько фотографий Принцессы Паулины. Чикита знала, что полтора года назад, в декабре 1894 года, Проктор показывал у себя в «Театре на 23-й улице» эту голландскую лилипутку и что в самом начале успешного сезона, когда Нью-Йорк уже пал к ее ногам, акробатка Паулина скончалась, не достигнув возраста двадцати лет. Но никто никогда не показывал Чиките ее портретов, поэтому она живо заинтересовалась. Принцесса была, мягко говоря, не красавица: слишком длинные руки, отсутствующая шея, бесцветные жидкие волосы, прозрачные брови и ресницы, круглые и тусклые птичьи глазки, придающие лицу выражение всегдашнего замешательства. Словом, сплошное расстройство, хоть плачь. Убогий, слабенький, мокрый воробушек, ошалевший от грандиозности окружающего мира. Но почти сразу жалость Чикиты сменилась завистью. Под одним из портретов значился рост артистки: семнадцать дюймов. Неужели она в самом деле была такой плюгавенькой? Верится с трудом. Скорее всего, убавила себе пару дюймов для пущего любопытства публики. Но пусть так, все равно по картинкам ясно видно: Чикита по сравнению с Мустерс — высоковата. Безобразно высока. В мире карликов каждый дюйм на счету. — У меня аж сердце заходилось, когда она качалась на трапеции или балансировала на канате, — с тоской припомнил Проктор, не замечая раздражения помрачневшей Чикиты. Заполучить Паулину было не так-то легко. Ее менеджер и зять, бельгиец Йозеф Версшхюрен, ссылаясь на бешеный успех «воробушка» в Европе, запросил немыслимых денег за три ежедневных выступления в течение пятидесятинедельных гастролей в Штатах. Но Проктор рискнул и согласился на его требования. Йоханна Паулина сошла с борта лайнера под конвоем сестры Корнелии и Версшхюрена. — Встреча с ней стала для меня сюрпризом, — продолжал Проктор. — Я думал, придется обламывать рожки капризной тщеславной девице, а передо мной оказалось милейшее робкое создание, бледневшее, если рядом громко заговаривали. Любопытно, что всю застенчивость как рукой снимало, когда поднимался занавес и загорались софиты. Тысячи глаз следили за акробатическими этюдами Паулины, но это ее не пугало: она действовала на удивление уверенно, элегантно, почти равнодушно. Десять лет она выступала в самых разных местах — сначала на голландских ярмарках и в театрах варьете, после — во многих столичныхгородах, — а это закаляет характер, как бы выковывает невидимые доспехи. — Паулина прибыла из Лондона незадолго до Рождества. Я устроил банкет в отеле «Пятая авеню», позвал репортеров, посадил ее в корзину с розами и внес в зал. Все остолбенели, когда она, словно фея, появилась из охапки цветов. Они не могли поверить, что в этой крохе всего восемь с половиной фунтов весу. Чикита, которая весила вдвое больше, совсем приуныла и задумалась, сможет ли сбросить пару фунтов до дебюта. Придется отказаться от десертов и восхитительных конфет с ликером, которые так любит дарить ей Криниган. Ей никогда не стать такой нежной и малюсенькой, как эта самая голландка, но, если постараться, можно поставить на грациозность и воздушность… Она с трудом заставила себя дослушать Проктора, который, описав, как очаровательно смотрелась освещенная прожекторами Мустерс на трапеции, приступил к печальной заключительной части истории. — Паулина выступала всего несколько недель. В середине января она подхватила жуткий грипп, и пришлось отменить спектакли. Она вроде бы поправилась, немедленно вернулась на сцену, но я заметил, что вид у нее теперь грустный, отсутствующий, словно огонек в душе погас. Через месяц она снова слегла и скончалась. Поминальная служба состоялась через пять дней, 19 февраля 1895 года, в церкви Святого Викентия де Поля, в двух шагах от театра, где тысячи ньюйоркцев расставались с двадцатью пятью, а то и с пятьюдесятью центами, чтобы взглянуть на Паулину. Пока труп бальзамировали для отправки на родину, сестра и зять лилипутки получили несколько предложений от ученых и коллекционеров, заинтересованных в покупке тела. Говорят, им сулили аж шестьдесят тысяч долларов, но они возмущенно отвергли сделку[62]. — Одни доктора винили воспаление легких, другие — менингит, кое-кто подозревал малярию. Мне же не было дела до причины смерти. Я сокрушался о самой утрате, и поверьте, не только из-за того, что пришел конец прибыльному дельцу. Я очень привязался к Паулине, — признался Проктор и сокрушенно убрал портреты в ящик. — Второй такой не найти! У нее был дар трогать сердца. Тут он заметил, что Чикита пристально смотрит на него, сбитая с толку сентиментальным порывом, и поспешил добавить с вымученной улыбкой: — Однако это уже история, а нам важнее настоящее. Да, Паулина Мустерс обладала необычайной привлекательностью, но кубинская куколка Чикита Сенда тоже на диво хороша, и публика вскоре это оценит. Вечером Эспиридиона посетовала Кринигану на то, как нетактично ее импресарио позволил себе расхваливать одну лилипутку в присутствии другой. Да, она ревнует к голландке, что толку скрывать? Она хотела быть несравненной, единственной, лучшей. Криниган расхохотался и посоветовал не тягаться попусту с призраками — куда важнее обойти комиков Хаммерстайна и Пастора. Они, а не покойная акробатка — конкуренты, которых стоит остерегаться. — Эти итальяшки с немцами меня не волнуют, — угрюмо заявила Чикита. — А вот с легендой состязаться опасно. Признаюсь, при мысли о том, что меня может победить призрак, становится не по себе. — Да бог с ней, с этой воробьиной принцессой! — беззаботно перебил Криниган. — Ну да, при жизни она была пониже и потоньше тебя, но теперь-то она лежит в сырой земле. Ей недоставало обаяния, на нее было жалко смотреть. А ты красивая, целеустремленная и талантливая. Что еще нужно для успеха? «Наверное, нужна удача», — подумала Чикита, но вместо ответа одарила Патрика поцелуем.
Чиките было известно, что в Нью-Йорке множество кубинских эмигрантов трудится на благо независимости острова, но она не встречалась с ними, пока делегация Кубинской революционной хунты, представлявшей повстанцев в Штатах, не заявилась в «Хоффман-хаус» с намерением познакомиться с лилипуткой. — Давай отошлю их? — раздраженно предложил Румальдо. — Нет, — возразила Чикита. — Хувеналь рискует жизнью на поле боя, и самое меньшее, что мы можем сделать, — принять соотечественников и оказать им посильную поддержку. Вначале ничто не предвещало, что Чиките придется раскаяться в своем решении. Делегацию из четырех человек возглавлял дон Томас Эстрада Пальма[63], опрятный и почтенный пожилой господин с внушительными седыми усами. Он вручил Чиките кубинский стяг и корзинку сладостей с острова и выразил всеобщее мнение: они страшно горды, что такая выдающаяся сеньорита представляет благородных и очаровательных креолок на нью-йоркских подмостках. Он также рассказал Чиките с Румальдо о том, какую работу проделывают революционные клубы в разных городах Соединенных Штатов. Ценой невероятных усилий, устраивая сборы, лотереи и благотворительные балы, кубинцы собирают крупные суммы и посылают тайные экспедиции с грузами боеприпасов для мамби к берегам острова. — Это тяжкий труд. Большинство населения Штатов желает свободы Кубы, но президент Кливленд предпочитает нейтралитет и связывает нас по рукам и ногам, — сказал дон Томас и привел пример: несколько дней назад судно, груженное динамитом, прямо в порту задержала береговая охрана. — Они безжалостно конфисковали весь груз! — «Нейтралитет» у президента какой-то странный, — ехидно заметил лысый господин. — Нам запрещают все, а испанцы вольны делать что угодно. Даже шпионить за нами! Деятельность Хунты, разумеется, не исчерпывалась доставкой мятежникам оружия, боеприпасов и лекарств в обход янки и испанцев. Едва ли не важнее было лобби, убеждавшее сенаторов и представителей в Вашингтоне поддержать право кубинцев на суверенитет. Некоторые политики быстро становились на сторону революционеров и искренне помогали, но иногда поддержку приходилось покупать облигациями на круглые суммы, подлежащими оплате в случае победы Кубинской республики. «Но это же взятка!» — вырвалось у Чикиты, и Эстрада Пальма поспешил подчеркнуть, что, когда на кону свобода отечества, цель оправдывает средства… — Самое главное, — весомо промолвил он, — чтобы Соединенные Штаты признали нашу борьбу. Тогда мы сможем действовать свободно, без оглядки на янки. — У нас могущественные союзники в Комитете конгресса по иностранным делам, — сказал еще один гость, с бородавкой на носу, напоминавшей овода. — В апреле совместная комиссия сената и палаты представителей подготовила резолюцию, поддерживающую независимость. Ее приняли абсолютным большинством голосов. — Но Кливленд наплевал на конгресс и проигнорировал резолюцию, — простонал лысый. — Он ненавидит кубинцев! Сенда знать не знали, что кубинцы и испанцы на территории Соединенных Штатов вступают в столь же ожесточенные схватки, что и на острове. И понятия не имели, что патриоты в изгнании, уставшие от равнодушия Гровера Кливленда, с нетерпением ждут ноябрьских выборов. Оба кандидата в президенты вполне могут победить — и демократ Брайан, и республиканец Мак-Кинли. Будущий обитатель Белого дома окажет решающее влияние на судьбу Кубы. — Многие из живущих здесь кубинцев — граждане США, и голосовать мы будем за того, кто поможет нашему правому делу, — заметил Эстрада Пальма с усмешкой. И тут господин с огромным пузом задал вопрос в упор: в водевиле, где она собирается выступать, поддерживается идея независимости Кубы? Чикита моментально сообразила, зачем пожаловали земляки. Водевиль! Проктор старался держать в тайне подробности зрелища, но в верхушке Хунты, очевидно, прознали о главной теме. — Я кубинка до мозга костей, и у нас с вами одинаковые идеалы, — успокоила гостей Чикита. — Мой брат Хувеналь Сенда сражается под командованием генерала Масео. Я никогда не стала бы выступать за интересы Испании. — Мы в этом не сомневаемся, сеньорита, — примирительно ответил Эстрада Пальма, и Чикита мысленно отметила: в отличие от товарищей, более порывистых и возбужденных, он человек терпеливый, привычный к переговорам. — И все же мы, как члены Хунты, обязаны следить, чтобы кубинский вопрос всякий раз выносился на суд публики в свете, выгодном для дела независимости. По этой причине мы со всем уважением хотим подсказать вам несколько идей для спектакля… — Водевиль должен донести до американского народа и конгрессменов, что президент не может по-прежнему вытирать о нас ноги! — взволнованно перебил господин с бородавкой. — А также уличить Ватикан! — потребовал пузатый. Чикита хотела было ответить, но он буквально смял ее словесным потоком. — Вам известно, что папа отдал распоряжение одному епископу благословить от его имени войска подкрепления, которые испанцы прислали в Гавану? Истинная кубинка осудит Святой престол за сотрудничество с палачами! — Он раскраснелся, вены на шее вздулись от ярости, и он почти прокричал: — Папа Лев Тринадцатый и его приспешники — шайка негодяев! — Кроме того, в водевиле должно четко прозвучать: вооруженного вторжения американцев с целью аннексии Кубы мы также не потерпим! — вступил лысый и, забрызгав хозяев номера слюной, прогрохотал: — Свободная Куба для кубинцев! Попытки Чикиты объяснить, что Проктор устраивает развлекательное зрелище, а не политический митинг с речами и клятвами, ни к чему не привели. Гости отказывались верить, что импресарио вряд ли позволит ей швырять зрителям листовки во время выступления. Она подавленно обратилась к Эстраде Пальме, самому благоразумному из четверых, и дала слово сделать все от нее зависящее, чтобы силой искусства помочь делу независимости. Но на этом революционеры не успокоились, а начали втягивать Чикиту в прочие проекты. Тип с «оводом» на носу сказал, что каждый год 10 октября нью-йоркские кубинцы отмечают годовщину начала Десятилетней войны. В этом году они готовят мероприятие с большим размахом: в театре под открытым небом на Манхэттен-Бич, с оркестрами, танцами и фейерверками. Господа нарядятся в форму мамби, а дамы — в красное, синее и белое, цвета кубинского флага. Чикита обязана подняться с ними на трибуну и произнести пламенную речь. Они разыграют в лотерею ее портрет, по четвертаку за билетик, и соберут немаленькую сумму… А еще можно разыграть поцелуй. Многие девушки соглашаются на это ради свободы отечества, и никто их не осуждает. Чикита стала отнекиваться, но лысый и пузатый снова не дали ей договорить. Ее сотрудничество с Хунтой должно быть долгим и плодотворным. Нужно организовать гастроли по всем крупным клубам кубинских эмигрантов! «На патриотических митингах вы могли бы исполнять „Гимн вторжения“, тот самый, что подбадривает в бою воинов Масео и Гомеса», — поддакнул бредовой идее Эстрада Пальма. Бородавочник попросил выехать в турне до выборов, чтобы успеть сагитировать кубинцев голосовать за Брайана. Многие настороженно относились к кандидату от демократов, памятуя, что они с Кливлендом из одной партии, но все указывало на то, что в случае победы он поможет борцам за независимость. С какого бы города начать? Разгорелся спор. Кто-то выступал за Тампу, кто-то — за Ки-Уэст. С другой стороны, чтобы избежать конфликтов между табачниками, населяющими эти два форпоста эмигрантской Кубы, не лучше ли рассмотреть какой-нибудь город западного побережья или Среднего Запада? Но это предложение лишь подстегнуло дискуссию. Бруклин или Нью-Джерси? Чикаго или Филадельфия?.. Каждый участник с жаром отстаивал свое мнение и не слушал доводы остальных… Наконец Румальдо удалось их перекричать и сообщить, что у сестры эксклюзивный контракт с Проктором, и она не может его нарушить. Это известие подействовало на эмиссаров, как ушат ледяной воды. На несколько секунд они онемели. Рустика вихрем ворвалась в гостиную, подхватила Чикиту на руки и унесла принимать ванну. В других обстоятельствах Чикита убила бы ее за подобное нахальство, но на сей раз поблагодарила за «спасение». Неужели все кубинцы-эмигранты — как эти? Неужели все они не способны справиться с собственными чувствами и выслушать другого, не желают поразмыслить и только норовят навязать свое мнение? Видимо, так оно и есть, ведь даже поначалу спокойный Эстрада Пальма заразился безумием товарищей. Ну и народ! Она, конечно, испытывает глубокое уважение к их самоотверженному труду и разделяет желание видеть отечество свободным, но чем дальше от нее они будут — тем лучше.
Глава XII
В гостях у Элизабет Симан. Как одна юная репортерша посрамила Филеаса Фогга. Нелли Блай обещает помощь. Кубинский полк. В «Пальме Деворы». Якоб Розмберк и Geheimsprache der kleinen Leute[64].— Так вы, стало быть, и есть та самая «Чикита с попугаями»! — воскликнула Элизабет Симан вместо приветствия и придержала свою мальтийскую болонку, жизнерадостного кобелька Дюка, чтобы тот не кинулся на гостью. — Я мечтала с вами познакомиться. Дом Симанов стоял всего в десяти кварталах от «Хоффман-хауса», и Криниган велел кучеру сначала прокатиться по кварталу Мюррей-Хилл. Он хотел рассказать возлюбленной о жизни удивительной женщины, к которой они собирались в гости. Сопровождавшая их Рустика уставилась в окошко, делая вид, будто не слушает, но на самом деле старалась разобрать слова. До свадьбы со сталелитейным магнатом Робертом Л. Симаном Элизабет была известна в Штатах под псевдонимом Нелли Блай. Двадцати лет от роду она выбрала это имя для работы в питтсбургском издании «Диспэтч» и им подписывала свои статьи о работающих девочках, о праве женщин на голосование и о таком неоднозначном явлении, как развод. Однажды она попросила главного редактора отправить ее корреспондентом в Мексику, поскольку хотела со знанием дела писать об этой близкой, но такой незнакомой американцам стране. Начальник попытался ее разубедить, пугая кишевшими в тех краях бандитами, но он настояла на своем и отбыла на юг в сопровождении собственной матушки в роли дуэньи и с купоном на бесплатный проезд по железной дороге. Мексиканским властям совсем не понравились репортажи Нелли. А как же иначе, если вместо кактусов, текилы с червяками и ярких накидок-серапе она взялась описывать ужасающие условия жизни бедняков и повсеместную коррупцию? Нелли Блай полгода разъезжала по Мексике и уже немного заговорила по-испански, когда ее статья о журналистах, посаженных или расстрелянных при тогдашнем режиме, переполнила чашу терпения. Пришлось ей убираться подобру-поздорову. Нелли ненадолго вернулась в Питтсбург, но женские странички в «Диспатч», куда ее определили, ей быстро осточертели, и она вместе с матерью переехала в Нью-Йорк, чтобы наняться в крупную газету. После долгих мытарств ей дали шанс в «Уорлд». — Женщины тогда писали о моде, о еде и о детях, но Нелли это все не интересовало, — вспоминал Криниган, пока они по Пятой авеню ехали на север до Западной 37-й улицы, где располагался особняк Симанов. — Сначала мы над ней подтрунивали, но, когда она притворилась сумасшедшей, чтобы попасть в лечебницу для душевнобольных на острове Блэкуэлл, и опубликовала душераздирающие репортажи о ледяных ваннах, отвратительной кормежке и крысах, свободно шастающих по кроватям пациентов, мы поняли, что она куда смелее любого из нас. Нелли была безрассуднее всех блэкуэллских психов, вместе взятых. Свои невероятные задумки она без колебаний воплощала в жизнь: однажды подстроила, чтобы ее обвинили в краже, а потом написала про жизнь в тюрьме; в другой раз переплывала Гудзон на пароме и бросилась в воду — проверяла, хорошо ли работает служба спасения. И репортажи ее пользовались таким успехом, что очень скоро она стала любимицей Пулитцера. Вдалеке уже показался двухэтажный особняк Симанов, и Криниган поторопился рассказать Чиките про самое головокружительное приключение мисс Блай. Ей, поклоннице Жюля Верна, захотелось побить рекорд Филеаса Фогга и объехать вокруг света меньше чем за восемьдесят дней. В газете с воодушевлением отнеслись к этой идее, но засомневались, не опасно ли отправить женщину в такую долгую дорогу. Не послать ли лучше мужчину? Того же Патрика Кринигана… Нелли впала в ярость и пригрозила, что в таком случае она сама совершит кругосветное путешествие, а репортажи продаст конкурентам. «Ладно, — сдался Пулитцер. — Послезавтра сможешь выехать?» «Хоть сейчас», — с вызовом ответила Блай и отправилась в «Гормли», магазин robes et manteaux[65] на Пятой авеню, за добротным платьем. Она отплыла из Нью-Джерси на судне «Августа Виктория» с единственным чемоданчиком, где лежали платья, карандаши, ручки, чернила, бумага, термос, баночка кольдкрема и револьвер для самообороны. С этой минуты читатели едва ли не дрались за экземпляры «Уорлд», лишь бы не упустить ни одной подробности приключения. Впечатления от изматывающего путешествия мелькали как в калейдоскопе: один за другим сменялись корабли, поезда, порты, города Европы, Африки и Азии. Наконец Нелли Блай вновь ступила на американскую землю в Сан-Франциско. А когда поезд подвез ее к точке отправления, тысячи поклонников встретили ее фейерверками под гром оркестров. В Нелли видели настоящую героиню. Ей понадобилось всего семьдесят два дня, шесть часов, одиннадцать минут и четырнадцать секунд, чтобы обогнуть земной шар. Патрик признался, что еще до кругосветного путешествия у них с Нелли случился короткий роман. Но по возвращении она не захотела к нему вернуться. Пока она преодолевала 24 899 миль, у нее нашлось время подумать об их связи и не усмотреть возможного совместного будущего. Лучше, решила она, остаться друзьями и коллегами. — Прошлым летом Нелли вышла замуж за семидесятидвухлетнего миллионера, — продолжал Криниган, поднимаясь с Чикитой к парадному входу в особняк Симанов. — Не хочу думать, что по расчету, — прошептал он, когда мажордом уже вел их в гостиную, — но кто поверит, будто она влюбилась в человека, который ей в деды годится? — Еще и не такое бывает, — тихонько отшутилась Чикита. — Например, некоторые здоровые лбы забавляются с сеньоритами ростом двадцать шесть дюймов. Никита сразу же подметила, что отважная Нелли — или Элизабет, как представилась хозяйка дома, — совсем не похожа на прочих миллионерш, которых в городе пруд пруди. Она была смуглая, худощавая, с милым живым лицом и в свои двадцать девять сохраняла фигуру и энергию юной девушки. Элизабет выразила сожаление, что газета не ей заказала статью о Чиките: у нее получилось бы гораздо лучше, — заметила она и насмешливо глянула на Кринигана. Бывший возлюбленный пропустил это мимо ушей и рассказал, что один из братьев Чикиты воюет вместе с повстанцами на Кубе. Нелли отнеслась к новости с большим воодушевлением. Она сама выступает за независимость Кубы и полностью поддерживает мятежников. Более того, мечтает описать сражения испанцев с мамби и взять интервью у главных противников — Вейлера и Масео. Беседа, как можно было предвидеть, плавно перетекла к неслыханным приключениям Нелли. Самой лакомой темой стало, естественно, кругосветное путешествие. От этой одиссеи у Нелли осталось множество сувениров. Например, сингапурский раджа подарил ей обезьяну, которой она дала кличку Мак-Гинси. Чикита настороженно заерзала: а вдруг этой обезьяне взбредет ворваться в гостиную и кинуться на нее? И с болонкой-то никакого сладу: так и норовит обнюхать ее туфли и подол! Но сеньора Симан сказала, что примат гостит в Кэтскилле на тамошней вилле ее супруга, после чего продолжила перечислять свои сокровища. От мимолетного пребывания в Исмаилии у нее сохранился свиток папируса с изображениями фараонов и разноцветных птиц, который теперь украшает стену ее студии, а из Иокагамы она привезла премилую трехструнную гитару. «Звучит ужасно, но очень красивая». А самый любимый ее сувенир — древняя обшарпанная медная монета, купленная на базаре в Коломбо. Костлявый длиннобородый факир, продававший монету, утверждал, что она отгоняет зависть и сглаз. Нелли закатала рукав сливового кашемирового платья и показала им инкрустированный монетой серебряный браслет. — У меня тоже есть талисман на удачу, — призналась Чикита, вынула из-за пазухи шарик и рассказала, от кого его получила. Услыхав имя великого князя Алексея, Нелли подпрыгнула в кресле. Она ведь с ним знакома. Через несколько месяцев после кругосветного путешествия она вернулась в Европу — на сей раз просто проводила отпуск в компании матери — и на одном званом ужине в Париже оказалась с князем на соседних стульях. — У него такой пронзительный взгляд, что я не знала, куда себя девать, — вспомнила она. — Ему было уже под сорок, но я нашла его весьма привлекательным. Криниган саркастично ввернул, что в этом нет ничего удивительного. Некоторые мужчины, сколь ни странно, очаровывают дам и в самом преклонном возрасте. Например, в семьдесят два… — Просиди я еще хоть пять минут рядом с этим Романовым, непременно влюбилась бы, — сказала Нелли, игнорируя выпад Кринигана. Не то же ли чувствовала и Сирения? Чикита сняла амулет и протянула хозяйке, чтобы та рассмотрела его хорошенько. В мгновение ока блаженная мина исчезла — теперь Нелли смотрела цепким взглядом журналистки, учуявшей новую тайну. — Вы пытались выяснить, что означают эти письмена? — спросила она, поднеся талисман к самому кончику носа. Чикита сказала, что много лет назад прибегла к помощи одного полиглота, но он только и предположил, что это письменность некоей древней цивилизации либо тайный алфавит. Элизабет улыбнулась, еще поизучала шарик и вернула Чиките с обещанием помочь в разгадке. — Радостно слышать! — вновь перешел в наступление Патрик. — Я уж было опасался, любознательная Нелли Блай погребена под горой долларов. Отнюдь нет, — благодушно отвечала госпожа Симан, — горько ошибаются те, кто так думает. Муж никогда не просил ее бросить журналистику. Нелли Блай в добром здравии и еще не раз поразит читателей «Уорлд» своими расследованиями. По дороге в «Хоффман-хаус» Чикита заметила, что Нелли просто душка, и мягко упрекнула Кринигана за несколько воинственный настрой. — Не переживай, — ответил он. — Старушка Нелли — тертый калач, издевки ей нипочем. Всякий раз при встрече он и вправду пеняет ей на то, что читателям она уделяет все меньше времени, но она научилась стойко выносить шуточки старого товарища. «И бывшего любовника», — процедила Чикита. Пользуясь тем, что экипаж они наняли закрытый, а Рустика задремала (или притворилась спящей, вконец рассерчав на их шушуканье?), Криниган пощекотал ушко Чикиты рыжими усами и шепотом осведомился, уж не ревнует ли она. — Ревную? — живо ответила Чикита. — Что вообще значит это слово?
Три дня спустя Элизабет Симан в жемчужно-сером платье и при темной вуали поджидала Чикиту у черного хода «Дворца удовольствий». — Это шампанское никогда не выветривается, — сказала она и ткнула себя пальцем в грудь. — Если Нелли Блай обещала, значит, в самом скором времени исполнит. Я нашла кое-кого, кто мог бы разгадать знаки на амулете, — и, несмотря на протесты Чикиты, затолкала ее в роскошный экипаж. — Не беспокойтесь! — крикнула она остолбеневшим Рустике и Сехисмундо, делая кучеру знак трогаться. — Через пару часов верну ее вам в отель целой и невредимой! Нелли приподняла вуаль, подмигнула Чиките и сказала, что они направляются к Якобу Розмберку, хозяину эзотерической книжной лавки на Клинтон-стрит в Нижнем Ист-Сайде. Квартал, конечно, не из лучших — всего несколько месяцев назад она брала интервью у тамошних малолетних проституток, — но дело того стоит. По ее сведениям, Розмберк занимается не только торговлей редкими и старыми книгами, но также изучает оккультные науки, иероглифические письмена и тайные языки. Чикита успокоилась и поблагодарила новую подругу. Хотя предпочтительнее было бы все же отложить поездку на другой день. Сегодня вечером Криниган собирался сводить ее в собор Святого Патрика. А вдруг она опоздает? Госпожа Симан пренебрежительно махнула и сказала, что собор и через неделю никуда не денется. А вот визит к книжнику откладывать нельзя. — У меня еще одна новость, — весело продолжала она. — После нашей встречи я решила, что Нелли Блай не может и дальше сидеть сложа руки, пока за морем кубинский народ истекает кровью в борьбе за независимость. Я поговорила с Пулитцером, обрисовала ему свой план, и он тотчас его одобрил. С тех пор как Херст наступает ему на пятки, он всегда рад хорошей идее. Она откуда-то извлекла сегодняшний номер «Уорлд» и показала длиннющую статью с портретом в три четверти страницы и огромным заголовком: «Нелли Блай, современная Жанна д’Арк, отправляется сражаться на Кубу». В статье говорилось, что мисс Блай (несмотря на замужество, для читателей она по-прежнему и навечно Нелли, бесстрашная девица) набирает добровольцев себе в полк. Она вполне способна командовать мужчинами на поле боя, отваги и решимости ей не занимать. Знаменитая журналистка как раз сейчас объезжает самые высококлассные клубы для джентльменов, дабы заручиться поддержкой. Ей нужны средства на экипировку своих солдат и на экспедицию. А также чтобы она могла доставить домой раненых и достойно похоронить тех, кто примет геройскую смерть в сражении. Мисс Блай, — вовсе не мечтательница, — писала «Уорлд». Она всегда добивается цели, и намерение создать полк не станет исключением. Она собственноручно разработала элегантную и удобную форму для своих бойцов! Нечего сомневаться: Нелли способна привести войска к победе. Да, она не поигрывает мышцами на каждом углу, зато обладает смелостью, выносливостью, смекалкой и обаянием, достаточными, чтобы вдохновить солдат на подвиг. Осталось лишь дождаться, когда правительство Соединенных Штатов примет решение помочь кубинским повстанцам (а это может произойти со дня на день), и отважная Нелли немедленно отбудет на Кубу со своим отрядом. — Чикита! — взревела госпожа Симан, отбирая у нее газету и швыряя в угол, — на острове мне потребуется помощник. Хотите ли вы занять эту должность и сражаться, как и ваш брат, за свободу несчастной разоренной Кубы? Обдумайте все хорошенько, сейчас отвечать не требуется. Чикита онемела. Это ведь какой-то бред. Может, Нелли и бесстрашная репортерша, но что она смыслит в военном деле? Хотя, конечно, такая длинная статья не может быть уткой, как бы нелепо ни звучала. И уж вовсе абсурдно вовлекать ее, Чикиту: какой из нее помощник, если всякий прохожий может ненароком ее затоптать? Она никогда не сидела верхом даже на пони и явно не удержит револьвер, не говоря уже о стрельбе. Разве что специально для нее смастерят крошечное оружие! — А вот и они, — вдруг пробормотала Элизабет и указала на экипаж, следующий за ними в некотором отдалении. — Мой ревнивец-супруг нанял детективов, чтобы следить за всеми моим перемещениями. Он полагает, у меня целый полк любовников. Чикита незамедлительно узнала, что первый год брака вышел не слишком счастливым. Семья Роберта Симана ненавидела Нелли и обращалась с ней как с какой-то мошенницей. — Если бы вы знали, какие унижения мне пришлось вынести! — чуть не плача, призналась Нелли. — Представьте, муж отказывает мне в деньгах на содержание моей матери, сестры и племянницы. Их всегда содержала я и теперь, замужем за миллионером, продолжаю, из собственного заработка. — Она высморкалась, глянула на Чикиту с любопытством и спросила, есть ли что-то между ней и Патриком Криниганом. — Что вы! — заюлила Чикита. — Мистер Криниган — всего лишь добрый друг. Элизабет недоверчиво хмыкнула и посоветовала в любом случае быть с ним осторожнее. Этот рыжий бес бывает совершенно неотразим — она имела возможность убедиться на собственном опыте. К облегчению Чикиты, в эту минуту экипаж замедлил ход. Они прибыли на пустынную Клинтон-стрит, и кучер смог стать прямо напротив нужного им ветхого здания. На жестяной вывеске готическими буквами значилось название лавки: «Пальма Деворы». Нелли опустила вуаль, помогла подруге, и они поспешно вошли в полутемное пыльное помещение, беспорядочно заваленное сотнями книг. — Миссис Симан? — раздался глубокий голос, и из-за горы томов выступил хозяин лавки. Не верилось, что мощный глуховатый бас исходит из такого тщедушного и мелкого тела, принадлежащего длиннобородому, опрятно одетому господину с завитками на висках. — Добрый вечер, мистер Розмберк, — ответила журналистка и, поняв, что книжник не замечает ее подругу, указала вниз и произнесла: — Со мной пришла мисс Сенда. Розмберк оглядел Чикиту без малейшего удивления и склонил голову в знак приветствия. Он провел посетительниц в дальнюю комнатку, где им наверняка будет удобнее. Представления об удобстве у мудреца были спорные: он просто сгреб книги с неказистого дивана и пригласил дам сесть. Сам согнал дремавшего в кресле кролика, уселся и начал показывать, какие сокровища имеются у него на продажу. Весьма ценные сочинения, такие почти невозможно найти, например «Немая книга» (полное название «Немая книга, в коей, однако, описываются все операции герметической философии»), приписываемая алхимику Сула; тайный дневник Герта Гроте, голландского богослова, который в XIV веке осмелился усомниться в том, что клирики ближе остальных к Богу, и основал тайную секту «Братство общей жизни», а также удивительный Grimorium Verum, древний сборник заклинаний для вызова бесов. Есть и не такие старинные, но не менее дорогие редкости. Скажем, весьма полезный Clavicula Salomonis, переведенный с древнееврейского на латынь равви Абогназаром, или описание суда над Еленой Опреску, бухарестской людоедкой, вдовой, приговоренной к повешению в 1870 году за то, что та убила собственную дочь, искрошила, приготовила из нее гуляш и отобедала на пару с любовником. Что именно ищут дамы? Книги, призванные утолить врожденное женское любопытство ко всему необычайному и сверхъестественному? Или особый подарок какому-нибудь придирчивому господину, увлекающемуся эзотерикой? Не ходя вокруг да около, Нелли Блай ответила, что они явились в «Пальму Деворы» не за книгами. Они хотят услышать его мнение о знаках, выгравированных на амулете. Не мог бы он объяснить, что они значат, или хотя бы опознать язык? Чикита передала талисман Элизабет, а та вложила его в руку книжника. Розмберк порылся в ящиках комода, нашел толстую лупу, навел на кулон и до ужаса долго всматривался в письмена. — Ну так что? — вырвалось у Чикиты, когда ждать вердикта, сидя на вылезших диванных пружинах, стало невыносимо. — Что вы можете сказать? Хозяин лавки лишь пробурчал: «Странно, очень странно», подергал себя за пейс и продолжал изучать иероглифы. Чикита с Нелли Блай обменялись нетерпеливыми взглядами и уже хотели потребовать талисман обратно и покинуть «Пальму Деворы», как вдруг мудрец повел мучительно медленную речь. Слыхали ли его гостьи про Geheimsprache der kleinen Leute? Скорее всего, нет. Это один из древнейших языков Центральной Европы, и о нем мало что известно. Многие вообще ставят под сомнение его существование. Однако профессор Иоахим фон Гроберкессель, крупнейший специалист всех времен по эзотерическим языкам, придерживался иного мнения и в посмертно изданном сочинении утверждал, что тайное наречие маленьких людей — вовсе не выдумка. Чем дольше Розмберк рассказывал про язык, которым якобы пользовались с незапамятных времен объединившиеся в братство карлики, чтобы общаться между собой и хранить определенные знания, тем больше все это казалось Чиките безумной фантазией, сродни полку Нелли Блай. Но подруга слушала очень сосредоточенно, и Чикита сочла за лучшее подражать ей. Тут книгопродавец вынул одну книгу из кучи, сваленной на столе с грязными кружками, послюнил палец и пролистал до нужной страницы. — «Все указывает, — прочел он вслух, — что корни Geheimsprache der kleinen Leute восходят к Древнему Риму, где спрос на слуг-карликов был таков, что многие родители сажали детей в ящики, дабы препятствовать их росту и обеспечить им место в каком-нибудь знатном семействе. Имеются свидетельства, что Конопас и Андромеда, вольноотпущенники на службе у Юлии, племянницы императора Августа, — оба вполне соразмерные и едва превышавшие два фута роста, — беседовали на этом языке, а остальные карлики из прислуги их не понимали. Снедаемый завистью Луций, любимый карлик императора, который был еще ниже упомянутых (около двадцати дюймов), устроил заговор, чтобы им отомстить. Однажды утром Конопаса и Андромеду нашли отравленными. И хотя Юлия умоляла дядю найти и наказать виновного, двойное убийство так и осталось нераскрытым». Розмберк поднял глаза на слушательниц, убедился, что они внемлют, и продолжал читать трактат фон Гроберкесселя: — «Возможно, в ту же эпоху этим языком пользовались и в Египте. По-видимому, и среди карликов, занимавших высокие должности при дворе фараонов, и среди простых пигмеев, обитавших на берегах Нила (об их виде и обычаях нам известно из сочинений Аристотеля и Плиния), многие владели языком, который века спустя укоренился в Европе и получил название Geheimsprache der kleinen Leute». Нелли вздохнула, и Чикита, мельком глянув на нее, заметила выражение легкой скуки. Ей тоже кажется, что Розмберк несет чушь? — Интересно, — сказал Розмберк с загадочной улыбкой, закрывая трактат, — что фон Гроберкессель в своем труде не только постулировал существование Geheimsprache der kleinen Leute, но и высказал смелую гипотезу. Документы, добытые в научных поездках, субсидированных Карлом Августом, великим герцогом Саксен-Веймар-Эйзенахским, и Милошем Обреновичем, князем Сербии, а также свидетельства весьма, весьма дряхлых карликов привели его к выводу, что, несмотря на отсутствие следов этого таинственного языка, он мог сохраниться до наших дней стараниями отдельных карликов, способных если не свободно говорить, то хотя бы читать и, вероятно, даже писать на нем. Чикита поняла, что точно не успеет на свидание с Криниганом в соборе Святого Патрика. У нее страшно разболелась голова. Хоть бы этот Розмберк говорил чуть побыстрее, а не так томительно ронял слова! — Значит, — перебила она несколько взвинченным тоном, — вы считаете, что на талисмане написано что-то на Geheimsprache der kleinen Leute, языке, которого никто не знает, но который, возможно, существует. — Утверждать не могу, — осторожно сказал Якоб Розмберк, — но подозреваю, что так. Для полной уверенности необходимы дополнительные изыскания. — И он попросил разрешения переписать письмена на бумагу, прежде чем вернуть талисман. — С кем из вас мне связаться, когда я что-нибудь разузнаю? — спросил он, тщательно скопировав надпись. — Со мной! — быстро ответила миссис Симан и протянула ему визитную карточку. — Сообщите, как только будут новости. Розмберк отказался брать деньги за потраченное время, поскольку пока еще не смог дать им никакого удовлетворительного ответа, и Элизабет решила купить переплетенный в телячью кожу зодиак в подарок кубинской подруге. Чикита не смогла поднять большой тяжелый том, и Розмберк донес его до экипажа. — Ах да! — воскликнул хозяин «Пальмы Деворы», когда дамы уже уселись. — Как к вам попал этот талисман? — Неважно! — ответила журналистка за Чикиту и звучно хлопнула об сиденье ручкой зонтика, вырезанной из слоновой кости, чтобы кучер трогался. Чикита выглянула в окошко. Книжник стоял на тротуаре и глядел им вслед, а экипаж детективов медленно катил по пятам.
Глава XIII
Талисман украден. В расследовании участвуют два детектива. Преступление на Клинтон-стрит. Нелли Блай прощается. Румальдо за решеткой. Истерическая афония. Волшебное зелье Лилли Леман действует. Триумфальный дебют во «Дворце удовольствий». Золотая кубиночка. Меньше народу — больше свободы. Тринадцать булавок для Клаппа. Последняя встреча со Свитбладом.Накануне премьеры Чикита легла сразу после ужина. День ожидался волнительный, и следовало встретить его отдохнувшей и свежей. Мундо с Рустикой последовали ее примеру, и даже Румальдо отказался от мысли «прошвырнуться» и улегся ранехонько. В три часа ночи, когда все сладко спали, кто-то проник в спальню Чикиты, сорвал у нее с шеи амулет великого князя Алексея и был таков. Чикита завопила, все тут же сбежались на помощь, но вора заметить не успели. Румальдо и Сехисмундо стали одеваться, чтобы сообщить служащим отеля о происшествии, а Чикита тем временем поделилась с Рустикой опасениями: уже не означает ли утрата талисмана предстоящие несчастья? — Хватит каркать! — отвечала служанка, прикладывая компресс к ссадине на шее хозяйки. Никто больше не смог уснуть, и до самого рассвета они строили догадки. Как злоумышленнику удалось попасть в номер? И почему, хотя рядом стояла полная шкатулка драгоценностей, он унес только золотой шарик? Чикита догадывалась, что кража как-то связана с походом в «Пальму Деворы», но, поскольку родные о нем не знали, предпочла помалкивать. Надо же так опростоволоситься! Она сама во всем виновата: не надо было столь наивно показывать талисман незнакомцу и тем самым искушать алчных, бессовестных негодяев… «Вероятно, лавочник по простоте своей навел кого-то на амулет, — решила она, — а то и сам устроил похищение». Рано утром в номер поднялся месье Дюран с извинениями. Подобное преступление — нечто неслыханное в истории «Хоффман-хауса». Все сотрудники клянутся и божатся, что ночью не видели ни одного незнакомца, входящего в отель или выходящего, но, с другой стороны, он не может исключить, что кто-то из портье проспал или даже вступил в сговор с преступником. Это единственное возможное объяснение, поскольку подозревать прочих гостей, порядочных граждан с безупречной репутацией, не приходится. Кроме того, месье Дюран пообещал нанять частного детектива, который найдет мерзавца и вернет талисман. Через некоторое время в номер постучался детектив с экстравагантной фамилией Свитблад. Это был человек среднего роста, с огромным красным, словно перец, носом, одетый в плохо скроенный костюм и, как рассудила Чикита по его манерам и разговору, грубоватый и недалекий. — Что, ценная была вещь? — поинтересовался он. — Она обладала скорее сентиментальной ценностью, — ответил Румальдо и пояснил, что сестре ее подарил один русский аристократ много лет тому назад. Чикита как могла подробно описала талисман, не забыв упомянуть об иероглифах, но, чтобы избежать упреков, промолчала, когда ее спросили, кого она подозревает. Свитблад задал еще три или четыре вопроса и попросил разрешения осмотреть спальню, где произошла кража. Чикита воспользовалась моментом, осталась с ним наедине и, взяв слово хранить молчание, рассказала о визите к книжнику. — Эврика! — шепотом воскликнул детектив, и лицо его озарилось понимающей улыбкой. — Это отличная ниточка, мисс Сенда. Не извольте беспокоиться, я и словом не обмолвлюсь о вашей поездке на Клинтон-стрит. Сдается мне, драгоценность найдется раньше, чем вы предполагаете. Чикита вздохнула с облегчением. Если амулет найдется — превосходно. Ну а если нет, остальные хотя бы не узнают о ее безрассудстве. Удивительным образом по отбытии Свитблада тут же объявился еще один детектив. В отличие от первого, он был молодой, загорелый и почти красивый, несмотря на хмурый вид. «Сержант Клапп», — представился он. Думая, что в агентстве напутали и прислали двух ищеек на одно дело, Румальдо попытался выставить его, но вновь прибывший ледяным тоном пояснил, что он из полиции. И пришел поговорить не о талисмане, а о преступлении, совершенном в Нижнем Ист-Сайде. — Якоб Розмберк, владелец книжной лавки, найден зарезанным, — сказал он, и у Чикиты кровь застыла в жилах. — Он несколько дней не открывал лавку, и соседи начали жаловаться на тошнотворный запах. Прибыв по вызову, мы обнаружили разложившийся труп, кишевший толстыми белыми червями. Неудивительно, при такой-то адской жаре! — Боюсь, вы заблуждаетесь, — ответил Румальдо, раздраженный таким описанием. — Мы не знаем этого господина, — на что сержант возразил: он, может, и не знает, а вот его сестре он известен. — У покойного в кармане мы обнаружили карточку госпожи Симан. А она только что сообщила, что четыре дня назад нанесла визит в «Пальму Деворы» в компании мисс Сенды. Кажется, вы приобрели там книгу, верно? Чикита мысленно прокляла журналистку за то, что та ее не предупредила, но постаралась сохранять спокойствие. На миг она заколебалась — а не рассказать ли полицейскому об истинной причине встречи с Розмберком, но внутренний голос отсоветовал. — Действительно, — неверным голосом произнесла она, силясь не замечать остолбенелых взглядов Рустики, Мундо и Румальдо. Если Элизабет Симан предпочла кое-что скрыть, лучше последовать ее примеру, чтобы дотошный хмурый полицейский не искал связей между смертью лавочника и талисманом. Оказаться замешанной в деле об убийстве в день дебюта — не самый удачный поворот. — Нас обеих влечет сверхъестественное, — быстро добавила она. — Мы узнали, что мистер Розмберк торгует книгами о призраках, загадках мироздания и тайных языках, и захотели взглянуть на его товар. Черт, черт! Зачем она сболтнула про тайные языки? Чикита раскраснелась. К счастью, сержанта удовлетворил ее ответ, наверняка схожий с тем, что дала хитрая Нелли Блай. — Заметили что-либо странное во время визита? — осведомился он. — По правде говоря, там все было довольно странным, — сбивчиво отвечала Чикита. — От самой лавки, заросшей грязью, душной и набитой странными книгами, до господина Розмберка, упокой Господь его душу. Хотя я могу преувеличивать, — поспешно пояснила она. — До приезда в Нью-Йорк я жила в полном уединении, никогда не бывала в подобных заведениях и не водила знакомств со специалистами по оккультизму. Клапп изобразил подобие улыбки, и на его иссиня-бледных щеках обозначились ямочки. — Судебно-медицинский эксперт не смог определить, произошло это до или после того, как Розмберку перерезали горло, но в язык ему воткнули множество булавок, — сказал он. — Точнее, тринадцать. — Похоже на месть, — робко заметил Сехисмундо. — Вот именно! — победно заявил детектив. — Месть! — Он встал, прошелся по гостиной и остановился перед Чикитой. — Но кто станет мстить торговцу книгами? И за что? Может, он сказал что-то не то? Что-то лишнее? — и, пристально вглядываясь в глаза Чиките, спросил, что она думает об этом. Эспиридиона помотала головой и попросила Рустику принести зодиак, подаренный ей госпожой Симан. Сержант повертел его в руках, прикинул вес, не стал открывать и вернул служанке. — А может, булавки — простоэксцентричная выходка какого-нибудь извращенца, — сказал он, как бы думая вслух, и объявил, что пока у него больше вопросов нет. Тем не менее уже на пороге он вроде вспомнил кое-что и попросил показать ему всю обувь Чикиты. Стараясь скрыть нетерпение, она сама провела его в гардеробную. Детектив тщательно осмотрел ботиночки, обращая особое внимание на подошвы, потом заглянул в спальню и окинул любопытным взглядом кровать и туалетный столик. — Обычная процедура, — сказал он по возвращении в гостиную. — Рядом с трупом Розмберка остались следы ног. Видимо, убийца или его сопровождающий ступил в лужу крови. А размер обуви у него очень, очень маленький. Правда, не скажу, что такой же маленький, как у вас, сеньорита Чикита. — Вы намекаете, что в преступлении может быть замешан ребенок… или карлик? — изумленно спросил Румальдо. — Вот это я и называю блестящей дедукцией, мистер Сенда, — ответил сержант и снова откланялся. Но и на сей раз, хотя Рустика уже распахнула перед ним дверь, он не вышел в коридор. Повернулся к Чиките и протянул ей блокнот с ручкой. На мгновение согнав хмурое выражение с лица, он попросил автограф для своей невесты. — Ее зовут Мария Перес, — сказал он и на ломаном испанском добавил: поскольку родители суженой — кубинские эмигранты, он взялся выучить ее родной язык. — Моему будущему тестю достался попугай Проктора, и нынче вечером вся семья придет посмотреть на ваш дебют, — и весело добавил: — Когда я расскажу, что вас допрашивал, точно не поверят! Но, едва убрав блокнот в карман, Клапп обрел прежний суровый вид и строго предупредил: может статься, что в зависимости от хода расследования он вынужден будет вновь их побеспокоить…
В полдень Чикита прилегла в надежде отоспаться перед выступлением, но не смогла уснуть. В голове роились тревожные мысли. Первому детективу она открыла истинную причину похода в «Пальму Деворы», думая, что это поможет ему найти амулет. Но второму они и словом про амулет не обмолвилась, и теперь это не давало ей покоя. А если Клапп разведает, что они с Нелли Блай солгали? Ведь они со Свитбладом могут обменяться сведениями, и тогда ей несдобровать. Элизабет Симан нагрянула в «Хоффман-хаус» в четыре часа дня. Чикита встретила ее в халате и шлепанцах и упрекнула было за то, что та не сообщила об убийстве Розмберка, но миллионерша только отмахнулась, словно не придавала преступлению большого значения. — Есть кое-что поважнее, — произнесла она тихо, так, чтобы Рустика с шитьем у окна и Мундо за фортепиано не расслышали. — Сержанта, который расследует убийство, и твоего частного детектива видели вместе в баре. Чикита покраснела. — Ты меня разочаровала, — в свою очередь упрекнула подругу репортерша. — Зачем было столько рассказывать Свитбладу? Заявили о краже — и хватит. Не все ли ему равно — искать кулон с иероглифами или без? Чикита стала оправдываться: она подумала, что этому простаку так будет легче найти пропажу. При слове «простак» Нелли нервно хихикнула: — Дорогуша, ты сама наивность, — и ущипнула Чикиту за щечку. — Если уж остерегаться кого-то на Манхэттене, то именно его. Свитблад — прожженная бестия, это мне прекрасно известно: мой муж нанимает детективов из его агентства за мной следить. Клапп уже наверняка вызнал, зачем мы ходили в «Пальму Деворы», и озадачился нашей скрытностью. — И что с того? — слабо защищалась Чикита. — Вранье — еще не преступление, и потом, не мы ведь убили Розмберка. — Думаю, его убил тот, кто украл талисман, едва не умертвив и тебя, — сказала Элизабет и указала на ссадину на шее, налившуюся за последние часы безобразным лиловым цветом. — Придется хорошенько загримировать это, — и вернулась к прежней теме: — Беда в том, мисс Сенда, что, пока не найдут убийцу, мы с вами останемся у полиции в списке подозреваемых. Чикита возразила: Нелли, видно, начиталась детективов сверх меры. Может, все это — лишь трагическое совпадение и между похищением талисмана и убийством нет никакой связи. — Совпадение? Не смеши меня! — фыркнула Нелли. — Наш поход в лавку, убийство Розмберка и кража амулета — звенья одной цепи. Не нужно быть Шерлоком Холмсом, чтобы это сложить! Но кому сдался этот паршивый амулет? Уж не в письменах ли кроется ключ ко всему? В эту минуту доставили исполинский букет чайных роз от Кринигана. В записке содержались пожелания триумфа этим вечером. — И еще кое-что, — сказала Нелли уже громче, и Рустика с Мундо догадались, что с тайнами покончено. — Завтра рано утром я отбываю в Лондон. Муж хочет, чтобы мы помирились, и уже согласился выплачивать содержание моей матери, сестре и племяннице. Возможно, мы несколько месяцев, пока он не поправит здоровье, проведем в Европе. Или даже год. — А как же полк, который должен сражаться за независимость Кубы? — поинтересовалась Чикита. — Тысячи читателей «Уорлд» ждут продолжения. — Знаю, — тяжело вздохнула журналистка. — Но муж ждет меня, и я должна с ним воссоединиться. Выйдешь замуж — поймешь, что брак священен. Кроме того, кубинцам может пойти и на пользу, если соседи не станут совать нос в их дела. Они сами начали войну — пусть сами и заканчивают. — И пророческим тоном добавила: — У некоторых доброжелателей лучше не быть в долгу. Нелли Блай пожелала подруге прекрасного дебюта, посоветовала держать язык за зубами в предстоящих беседах с детективами — «В особенности со Свитбладом!» — и исчезла из жизни Чикиты на добрых пять лет.
Разговор совсем выбил Чикиту из колеи, она глянула в зеркало и едва не разрыдалась. Бледна как смерть, под глазами огромные круги, а волосы, как ни старалась Рустика распрямить их, так и норовят взвиться дыбом. И вдобавок эта ужасная отметина на шее… Она надеялась, что примочки из арники уберут ее, но не тут-то было. И где носит Румальдо? Нет чтобы остаться с сестрой в трудную минуту — куда-то пропал, бессовестный. Наверняка ухлестывает за Хоуп Бут. Оставалось три часа до того, как поднимется занавес и сотни глаз вопьются в Чикиту. Покорит ли она нью-йоркскую публику? Обязана покорить, — решила она. Голова раскалывалась. Чикита захотела принять ванну, но теплая вода не избавила ее от мучительных размышлений. Имел ли Розмберк злые намерения или совершил трагическую ошибку, заикнувшись о талисмане хладнокровным злодеям? Поэтому ему воткнули в язык тринадцать булавок? За то, что сболтнул лишнего? Подозревает ли их Клапп, как опасается Нелли? Неужели они и впрямь на примете у полиции? И почему все это свалилось на нее именно сегодня? Рустика громогласно велела ей вылезать из воды, — а то скукожится, как черносливина, — и тем вывела из оцепенения. Пробило шесть, и тут Чикита, уже одетая для выезда в театр, обнаружила, что Румальдо так и не объявился. Она взбеленилась, стала изрыгать проклятия и пинать мебель. Приход Хоуп Бут на минуту успокоил ее, но та не замедлила сообщить скверную новость: Румальдо в тюрьме. Хоуп никогда не упоминала о своей интрижке с Румальдо, но теперь заговорила так, будто это ни для кого не было секретом. В два часа пополудни он заявился к ней без предупреждения, чтобы вместе провести «сиесту». Она согласилась, но предупредила, что дольше чем на два часа остаться не получится. В половине пятого она ожидает весьма щедрого господина, которому многим обязана. Но то ли из-за фляжки с виски, к которой он то и дело припадал, то ли из-за нелепой ревности Румальдо отказался покидать ложе в условленный час, и пришлось выставить его силой. Когда Хоуп прихорашивалась, чтобы принять своего покровителя, с улицы раздались крики. Она выглянула в окно, узрела целую толпу и все поняла. Румальдо подкараулил ландо своего сменщика и, когда тот намеревался войти в здание, яростно накинулся на него, даром что соперник ему в отцы годился. Или даже в деды. К счастью, кучер и прохожие их растащили. Жуткий скандал! Обоих забрали в кутузку. Жертву — со сломанным ребром и незначительными ушибами — сразу же отпустили, а вот кубинца отправили в общую камеру, и там ему и сидеть до суда, если только никто не выплатит за него залог. — Мы обязаны ему помочь! — воскликнула Хоуп. — Он, конечно, идиот, но не сидеть же ему всю ночь в этом гадюшнике. Я знаю адвоката, который его вмиг вытащит, но сейчас при мне только пять долларов. К ее изумлению, Эспиридиона Сенда отказалась участвовать в вызволении брата. Ах, Румальдо желает строить из себя рокового любовника? Вот пусть теперь и отвечает за последствия. «Ничего, посидит до суда. А если его там обхаркают и подпустят вшей — тем лучше, неповадно будет», — холодно заявила Чикита. И вообще, она опаздывает и должна немедленно ехать в театр, а потому мисс Бут уже пора. Обиженная Хоуп упорхнула, не попрощавшись. — Ни слова больше об этом деле! — бросила Чикита Рустике с Мундо, но, когда хотела добавить: «О Румальдо позаботимся завтра», голос не послушался. Она попыталась что-нибудь произнести, но вырвались лишь глухие хрипы. Хотела спеть — но куда там! Она осталась без голоса! В последующие полтора часа номер напоминал сумасшедший дом. Чикита вихрем носилась из комнаты в комнату и испускала беззвучные вопли, а Мундо гонялся за ней, стараясь успокоить и разубедить в том, что потеря голоса — лишь первое из зол, постигших ее после утраты амулета. При содействии месье Дюрана пригласили светило медицины, остановившееся на днях в отеле, осмотреть больную. Светило диагностировало истерическую афонию и прописало микстуру. Микстура не подействовала с желаемой быстротой, и Рустика прибегла к бабушкиным снадобьям. Но ни полоскания имбирным и капустным отваром, ни луковый сок, ни чай с чабрецом, ни обертывание шеи платком, вымоченным в теплом коньяке, не помогли. Голос не желал возвращаться. Напрасно Чикита жевала ломтики лимона, посыпанные содой, и возносила молитвы святым Власию, Лупу и Маргарите Венгерской, покровителям глоток. Мундо уже собрался звонить Проктору, чтобы отменить выступление, но тут Чикита вспомнила про волшебный настой Лилли Леман и знаками велела Рустике его разыскать. Собрав все свое мужество, она залпом осушила бутылочку magisches Gelee der Götter, и афонию тут же как рукой сняло.
Во «Дворце удовольствий» яблоку негде было упасть[66]. Выступавшие перед Чикитой артисты — и Дункан Сегоммер, тысячеголосый чревовещатель, и славянские акробатки Анна, Зебра и Вера, и Лоренц и Катерина, мастера мысленной телеграфии, и лорд Финч с его дрессированными голубями, курицами и утками — имели в тот вечер довольно холодный прием, что доказывало: зрители пришли только затем, чтобы увидеть новую звезду Проктора. После интермедии занавес разъехался в стороны. Сцена превратилась в благостный уголок кубинской глубинки. Босоногие девушки в свободных белых блузах стирали белье в реке и игриво обрызгивали друг дружку. У воды теснились пальмы, сейбы и гигантские кактусы. Чикита тщетно убеждала Проктора и сценографа, что эти колючие растения на Кубе почти не произрастают. Оба не потерпели возражений и заявили, что кактусы совершенно необходимы для придания картинке «подлинности». Вдруг на сцену высыпали испанские солдаты. Они несли сундук. Командовал ими не кто иной, как Валериано Вейлер. Спрятавшись за кустами, они принялись следить за играми девушек, а по сигналу разгоряченного Вейлера выскочили из укрытия и с вожделением набросились на несчастных. Девушки отбивались как могли, но силы покидали их. Когда солдаты уже совсем скрутили их и готовились обесчестить, послышалась звонкая трель корнета, и на сцену под кубинским стягом вылетели мамби верхом на великолепных скакунах, потрясавшие мачете. Во главе отряда находился человек в черных перчатках и с выкрашенным в черное лицом. Среди публики прокатился шепот: этот minstrel изображает Масео, отважного кубинского генерала, про которого столько пишут в газетах. Акробаты, изображавшие испанцев и кубинцев, вступили в бой, обильно сдобренный прыжками и кувырками, а оркестр подчеркивал бравурными аккордами их движения. Когда кубинцы обнаружили сундук, честь девушек оказалась в безопасности, поскольку теперь главной целью сражения стало право владеть сундуком. Что же внутри? — гадали зрители. Деньги? Боеприпасы? Лекарства? Противники отчаянно бились, но силы были равны, и никто не отступал. Внезапно раздался военный марш, исполняемый на флейтах и кларнетах, и на поле боя возник актер в сине-белых полосатых панталонах, синем сюртуке, цилиндре, с козлиной бородкой и с винтовкой в руках. Зрители захлопали как сумасшедшие: это Дядя Сэм прибыл положить конец сваре. Девственные селянки, скромно удалившиеся на время боя, снова выбежали, теперь уже облаченные в американскую военную форму и перевоплотившиеся в кокетливых воительниц. Недолго думая, Дядя Сэм прикладом расшугал испанцев и пнул в зад Вейлера, который позорно уполз на четвереньках. Наконец, чтобы отпраздновать победу и скрепить союз с повстанцами, он пожал руку «черному» вожаку. Публика устроила овацию, сопровождаемую радостными возгласами. Актеры сгрудились вокруг сундука, и под барабанную дробь Дядя Сэм открыл его. Через несколько томительных мгновений наружу выпорхнула, до глубины души поразив зрителей, Чикита, Живая Кукла. Декорации мгновенно изменились: река, деревья и холмы пропали, словно по волшебству, и уступили место позолоченным зеркалам, ветвистым канделябрам и гобеленам в стиле Второй империи. Сцена представляла собой элегантный салон. Танцовщицы и акробаты исчезли, и Чикита осталась одна с аккомпаниатором. В следующие полчаса лилипутка пела и плясала перед завороженной публикой, прервавшись лишь однажды, чтобы сменить синее бархатное платье с длинным шлейфом, расшитое жемчужинами, на другое, не менее изысканное, из сливового атласа с бледно-розовыми вставками. Безупречная акустика зала доносила ее чистый голосок и до партера, и до галерки. Если — что было бы неудивительно — Чикита и переживала из-за похищения амулета, преступления в «Пальме Деворы» и заточения Румальдо, она этого не показала, а, напротив, излучала такое очарование и уверенность, что каждый номер завершался громогласными овациями. За кулисами Проктор подпрыгивал от счастья и всем и каждому хвастал, что и «И Пикколини», и «Ди Лилипутанер» и в подметки не годятся его звезде. «Молодчина Чикита! — гордо восклицал он. — Золотая моя кубиночка!» Воспоминание о Паулине Мустерс, голландском воробушке, совершенно потускнело. Эспиридиона знала, что Патрик Криниган смотрит на нее из ложи, и для него одного станцевала медленный чувственный танец с веером из страусовых перьев, подарком Лилли Леман-Калиш. Во время тайных встреч она научила журналиста языку веера и теперь посылала ему страстные послания. Просто не верится — сколько всего можно выразить движениями этой безделки! Погладить себя по щеке значит: «Я тебя люблю». Прижать к виску и посмотреть вниз: «Думаю о тебе день и ночь». Если поднести к сердцу, сообщение выйдет более пламенным, чем-то вроде: «Я безумно тебя обожаю и не могу без тебя жить». Дотронуться веером до кончика носа — признак недовольства и подозрений: «Дело пахнет обманом, уж не изменяешь ли ты мне?» Откинуть им волосы со лба — явственное: «Не забывай меня», а уронить на пол — «Я твоя». Чикита кокетливо играла веером, а в конце захлопнула его и поднесла к губам. Если ирландец не забыл уроков, он поймет: «Поцелуй меня!» В финале представления танцовщицы вышли на сцену в красно-сине-белой расцветке стяга Воюющей Республики Куба. Чикита в третий и последний раз переоделась — в белую тунику и фригийский колпак. Костюмер Проктора утверждал, что публика моментально догадается: в таком виде Чикита представляет свободную родину. Но, чтобы помочь самым тугоумным, импресарио решил на всякий случай вложить ей в одну руку разорванную цепь, а в другую — крошечное мачете, смертоносное оружие, силой которого соотечественники Чикиты обращали испанцев в бегство. Грянул оркестр, слив мелодию с той, что начал наигрывать Мундо, и девушки запели «Голубку». К ним присоединились кубинские солдаты и Дядя Сэм, а в миг коды вся сцена заискрилась дивными фейерверками. Публика повскакала с мест. Апофеоз шоу не оставил сомнений: Пастору и Хаммерстайну нечего и мечтать о том, чтобы тягаться с «Кубинским водевилем» Проктора. Когда импресарио зашел в гримерную поздравить Чикиту, она рассказала ему о неприятности с Румальдо. Проктор успокоил ее: он найдет адвоката и вытащит бедолагу из тюрьмы. На выходе из театра Чикита, Рустика, Мундо и Криниган столкнулись с толпой, жаждавшей взглянуть на Живую Куклу. Тут же кубинские эмигранты раздавали листовки, агитировавшие за независимость острова, и торговали значками с надписью «Freedom for Cuba»[67]. В сумятице Чикита вроде бы различила детектива Клаппа. Ей почудилось или он в самом деле сделал знак, будто хотел поговорить? Разобраться она не успела: не дожидаясь распоряжений, Рустика подхватила ее на руки, укутала севильской шалью, сдвинула брови, выпятила губы и решительно двинулась к экипажу. Пусть только пальцем дотронутся до ее сеньориты! Народ струхнул и расступился перед ней.
Когда Румальдо вернулся (поникший, нечесаный, в заляпанном рвотой костюме), Чикита заговорила с ним так, будто ничего не случилось. Она рассказала об успешном дебюте и напомнила, что отныне у нее будет по две программы в день, в семь и в девять, со вторника по воскресенье. И все же за великодушным поведением проглядывало превосходство. Румальдо ночевал в кутузке, и ему светил суд — тем самым он был поставлен в невыгодное положение, а сестра своим пониманием и участием как бы подчеркивала это. В последующие дни, пока не состоялся суд, Румальдо вел себя как идеальный менеджер. Он пекся обо всех нуждах Чикиты и не спрашивал, куда это она намыливается после обеда, когда служащие докладывали, что ее ждет экипаж. Но этой благодати пришел конец, когда судья назначил штраф за нарушение общественного порядка, и выяснилось, что в сейфе их номера в «Хоффман-хаусе» не хватает денег расплатиться. Он растранжирил большую часть аванса от Проктора на пошив костюмов, дорогие рестораны и женщин, — признался Румальдо, боясь взглянуть сестре в глаза. Хуже того: они задолжали месье Дюрану за две недели. Чикита побледнела, но не стала устраивать скандал. Она сама исправит положение, раздобудет денег, но с одним условием: как только Румальдо отдаст долг правосудию, он должен убраться из отеля и навсегда оставить их в покое. — Мне здесь воры не нужны, — сказала она и, не дав ему времени ответить, ушла вместе с Рустикой. Через три часа они вернулись с ворохом долларов, одолженных у Кринигана, и вручили их Румальдо. — Получай, — решительно произнесла Чикита. — Надеюсь, когда я вернусь из театра, тебя здесь не будет. Румальдо тщетно пытался возмущаться и умолять. Зря грозился, что без его покровительства и защиты педик, черномазая и карлица («сраная карлица», — выразился он) не выживут в нью-йоркских джунглях. Чикита осталась тверда и сообщила, что Проктор уже в курсе разрыва. В дальнейшем ей не потребуются посредники, она сама будет договариваться о контрактах и получать гонорары. Вечером, по возвращении в отель, Мундо первым делом осмотрел комнату, которую прежде делил с Румальдо. — Он вывез все свои вещи, — испуганно и весело сообщил он. — Я боялась, избавиться от него будет труднее, — с облегчением выдохнула Чикита. — Он, конечно, мерзавец, но семейная гордость ему не изменила. Но ей пришлось сию же минуту взять свои слова назад: Рустика заметила, что шкатулка с драгоценностями тоже пропала. — Бандит с большой дороги, вот кто он такой! — заключила служанка и в утешение сеньорите припомнила старинную поговорку: — Меньше народу — больше свободы. Как сложилась дальнейшая судьба Румальдо? Несколько недель он обретался у Хоуп Бут, но та вскоре его выгнала. Она к нему привязалась, да и любовник он хоть куда, но его присутствие могло отпугнуть ее покровителей, а этого допускать никак нельзя. После этого Румальдо исчез. Куда? Чикита так и не удосужилась узнать. Опыт научил ее выкидывать людей из жизни и стирать всякое воспоминание о них. «Все равно как с гнилым зубом», — решила она.
Первые дни сентября оказались такими насыщенными, что за двумя ежедневными шоу, визитами поклонников и встречами с Криниганом Чикита совсем забыла про амулет и гибель книготорговца. Лишь иногда она на секунду задумывалась, чувствовала словно бы тревожный укол в живот и не могла взять в толк, почему детективы больше ее не допрашивали. И вот однажды вечером после первого выступления детектив Свитблад явился прямо в гримерную. Он рухнул на стул и мрачно уставился на Чикиту. — Вы, поди, ничего не знаете, — сказал он. — Или как? Мы сбили чертову прессу со следа, и до завтрашнего утра новость не напечатают, но, может, у вас свои источники. — О чем вы? — разволновалась Чикита. — Говорите уже, ради всего святого! — О том, что стряслось с Клаппом, — процедил Свитблад. — Проклятие! Он был славный малый. Фараон и брюзга, но человек порядочный. Собирался жениться на вашей землячке, слыхали? — Да, на Марии Перес, — ответила Чикита. — Вы что, ее знаете? — спросил Свитблад и подался вперед. — Нет, сержант просил для нее автограф. — Чикита вышла из терпения. — Так вы мне скажете наконец, что случилось? Клапп два дня не появлялся в участке. Коллеги знали, что он расследует дело об убийстве еврея-книжника, и не придали значения его отсутствию. Но на третий день пришла невеста Клаппа, которой также ничего не было известно о его местонахождении, и в участке заволновались. Сержанта искали повсюду, но он как сквозь землю провалился. — Видели сегодня парад чистоты? — вдруг спросил Свитблад. Чикита кивнула, удивляясь, какое отношение это имеет к пропаже Клаппа. Да, утром она видела парад из окна. Криниган предупредил, что такое не стоит пропускать. Джордж Уоринг, директор Департамента уборки улиц города Нью-Йорка, захотел, чтобы его подчиненные в новехонькой белой форме прошлись маршем по всему Манхэттену. Зрелище вышло выдающееся: больше двадцати оркестров и две тысячи человек с метлами и швабрами, в безупречном порядке толкающих тележки с чистящими средствами, готовых дать бой грязи. Отличный, по мнению многих, способ воздать честь труду дворников и мусорщиков, столь же важному, сколь неоцененному. Но при чем тут, черт побери, Клапп?[68] — Перед самым началом парада один мусорщик заметил, что в его тележке что-то лежит. Он откинул крышку, обнаружил человеческую ногу, поделился потрясением с коллегами, они тоже проверили свои тележки, и то тут, то там стали появляться части расчлененного тела. Парад чуть не сорвался, но, к счастью, представители этой профессии ко всякому привычны, и их так легко не запугаешь. Когда полицейские собрали эту зловещую головоломку, оказалось, что труп принадлежит бедняге Клаппу. Чикита закрыла лицо руками. — По всей видимости, его разрубили топором. Но это еще не все зверства, — продолжал Свитблад, — язык его был утыкан булавками, — и, помолчав, добавил: — В точности как у Якоба Розмберка. — Булавок было тринадцать? — предположила Чикита. Детектив медленно кивнул. — Перед исчезновением Клапп сообщил мне, что значительно продвинулся в расследовании. Я, само собой, знал, что вы ходили в «Пальму Деворы» не за книгами, а показать Розмберку знаки на талисмане. Клапп был уверен, что похищение талисмана и убийство Розмберка — дело одних рук, и дал мне понять, что вот-вот обнаружит виновных. Множество странных (он так и сказал, странных) людей интересовалось русским амулетом, но большего он мне не открыл. Мы договорились встретиться на следующий день и обговорить ход дела. Но он так и не появился. — А что же вам надо от меня? — Чикита заняла оборонительную позицию. — Судя по вашим словам, Розмберка и Клаппа прикончили одни и те же преступники, но клянусь вам, я понятия не имею, кто бы это мог быть. — Я вам верю, — успокоил ее Свитблад. — Но вдруг вы знаете или подозреваете, за что их убили. Я задам вам вопрос, мисс Сенда. Вы не обязаны отвечать, но, если надумаете ответить, — прошу начистоту. Розмберк открыл вам значение иероглифов? — Нет! Честное слово, нет! Он только сказал, что знаки, возможно, относятся к Geheimsprache der kleinen Leute, тайному языку, на котором люди очень маленького роста якобы переговаривались между собой много веков назад. Но это только гипотеза. Он собирался с кем-то еще посоветоваться или что-то прочесть. Я даже не приняла это всерьез — он сам сказал, что никто точно не знает, был ли такой язык на самом деле или это легенда… — Так что же вы не сказали всего этого Клаппу? — ополчился на нее детектив. — Знай он об этом — может, был бы сейчас жив. — Я думала, это неважно, — пролепетала Чикита. — Какая-то нелепость, бред — Geheimsprache der kleinen Leute! — Боюсь, Розмберк с кем-то говорил о вашем амулете, и за это его убили. Не исключено, чтобы избежать дальнейшего распространения сведений. — Свитблад вдохновенно принялся строить версию. — Потом те же типы проникли в отель и украли амулет. А когда они узнали, что Клапп усмотрел связь между двумя преступлениями и близок к разгадке, решили убрать и его. — Но кто способен на такую дикость? И зачем это все? Разве этот талисман стоит того, чтобы ради него убивать людей? — Не удивлюсь, если виновники похожи на вас — то есть это люди очень маленького роста. В последней нашей беседе Клапп упомянул о существовании тайного общества карликов или чего-то в этом роде. Вам известно, кому принадлежал талисман до вас? Не связан ли с каким-нибудь братством или сектой? Розмберк ничего такого не говорил? — Нет, нет! — испуганно воскликнула Чикита, которой становилось все больше не по себе. — Амулет мне подарил великий князь из династии Романовых. Я ношу его всю жизнь. К чему вы клоните? — К истине. И не успокоюсь, пока не доберусь до нее. Я в долгу перед Клаппом. И некоторым образом перед его невестой Марией Перес. Я видел ее в морге. Она безутешна. — Неудивительно! — с жаром сказала Чикита. — Ее суженого искрошили в фарш, а из языка сделали подушечку для булавок. Другая бы вообще лишилась рассудка. Свитблад пропустил это замечание мимо ушей. — Надеюсь, ради вашего же блага, что на сей раз вы ничего не утаили, — сказал он. — Не хотел бы, чтобы с вами случилось несчастье. — Если бы мне хотели навредить, навредили бы в ночь похищения, — ответила Чикита и поднесла руку к горлу. — К тому же теперь талисман не у меня. — Не у вас. Но теперь вам известно многое, чего в ту ночь вы не знали, и остерегайтесь болтать — а то как бы и вам не утыкали язычок булавками! — пробурчал детектив. Чикита не нашлась что ответить. Свитблад поднялся на ноги. — Отдыхайте, — сказал он и посмотрел на часы. — Вам скоро снова на сцену. — Вы не останетесь на выступление? — сама не зная почему, задала Чикита глупый вопрос. — Я бы с радостью, но не могу. У меня назначена встреча кое с кем по этому делу. Состоялась ли эта встреча? И поведал ли собеседник Свитбладу нечто важное? Чиките не суждено было узнать. Через несколько дней Мундо показал ей номер «Джорнал» с краткой заметкой о гибели детектива Джеймса Свитблада. Он шел мимо стройки, и ему на голову свалилась стальная балка. Эспиридиона Сенда не вполне разделяла мнение газетчика о «несчастном случае», но послала венок на похороны и анонимно пожертвовала некоторую сумму денег вдове и сиротам покойного. — К чему такая щедрость? — проворчал Криниган в постели. — Я понимаю — если бы он еще вернул амулет. Чикита чуть не попросила его выяснить, осматривали ли при вскрытии язык Свитблада, но вовремя прикусила свой собственный.
[Глава XIV]
Хоть режь меня, но эта глава у меня совершенно выветрилась из головы. Если память не изменяет, Чикита еще только раз упоминала о похищении амулета и смерти детективов — мол, больше она не получала известий об этих двух событиях. А вот другое отчетливо помню: письмо, которое Эстрада Пальма и прочие члены Кубинской хунты прислали ей после премьеры во «Дворце удовольствий». Оно было написано со всем уважением, но от похвал авторы воздерживались, скорее, давали понять, что разочарованы спектаклем. Даже просили внести изменения. К примеру, им не понравилось, что Проктор ошибочно поставил Масео во главе кубинских войск, в то время как в действительности главнокомандующим был Максимо Гомес. Но хуже всего, по их мнению, было то, что роль героя отводилась Дяде Сэму. Будто кубинцы не способны сами победить испанскую армию, и лишь вмешательство янки принесет им свободу. Плачевная мысль, оказывающая скверное влияние на революцию! Кубинская хунта стремится, чтобы Соединенные Штаты признали право кубинцев на независимость, а не посылали свои войска на чужую войну. В конце письма Чикиту просили проявить себя истиной патриоткой и изменить водевиль так, чтобы кубинцы в нем побеждали без чьей-либо помощи. Это, естественно, привело ее в бешенство. Она швырнула письмо в мусорную корзину и не подумала отвечать. «Ну почему, почему люди так близоруки и от всего воротят нос? — воззвала она к Рустике и Сехисмундо. — Они ведь придираются к мелочам, но пропускают главное: после каждого выступления зрители аплодируют до упаду и требуют свободы многострадальной Кубе». Кого волнует, что кубинцы побеждают при помощи Дяди Сэма, если публика вываливает из театра, горя желанием поддержать независимость Кубы? Точно утверждать не могу, но сдается мне, посмотреть на Чикиту во «Дворец удовольствий» стекались в основном голубые. Ну, ты понял, — извращенцы. Это я к тому, что в пору моего пребывания в Фар-Рокавей я имел возможность убедиться: содомитов к ней тянуло как магнитом. Сразу скажу: я ничегошеньки против педиков не имею. Когда я работал корректором в «Боэмии», у меня было много таких коллег, и мы никогда не ссорились. Иногда они, конечно, устраивали драмы и, так сказать, распушали перышки, но мне-то что? Есть пословица: «Всякий волен сделать из своей задницы барабан и искать, кто на нем лучше сыграет». Никто не имеет права лезть в личную жизнь людей. Жаль, не все с этим согласны. Был у меня дядя (не из Тампы, другой), так у того прямо была аллергия на голубых. Терпеть их не мог. Когда мы были маленькие, вечно советовал нам с двоюродными братьями: «Никого не допускайте до своей жопы, потому как, может статься, вы с одного раза к этому пристраститесь, и вся жизнь под откос пойдет». Странный совет, если вдуматься. По счастью, до сегодняшнего дня я ни разу не хотел даже потрогать другого мужика и в моем-то возрасте уже вряд ли захочу. Но кабы такое пришло мне в голову, в Фар-Рокавей это было бы проще простого, потому что Чикита дважды в месяц устраивала приемы, и девяносто девять процентов тех, кто туда ходил, хромали на голубую ногу. На этих «салонах», как она их величала, Чикита рассказывала про свои лучшие деньки, про страны, где она побывала, и про знаменитостей, среди которых ей довелось вращаться. Скажем, она всегда упоминала, что в Лондоне подружилась с писателем Уолтером Де Ла Маром и уговаривала его написать роман с главной героиней-лилипуткой. Якобы несколько лет спустя Де Ла Мар прислал ей роман, но она не смогла одолеть и первых десяти страниц, до того занудной оказалась книга. Голубые делали такие лица, будто были прекрасно знакомы с творчеством Уолтера Де Ла Мара, хотя, могу побожиться, ни один из них и слыхом о нем не слыхивал. Как и я. Это уж потом в Гаване мне попалась его книга про лилипутку. Неплохая, кстати, книга. «Мальчики», все как один тощенькие, белобрысые и бледные, с цветками в петлицах и яркими платками на шеях, завороженно слушали Чикиту, отвешивали ей комплименты и смеялись ее остротам. Она, конечно, не желала признаваться, но в глубине души тосковала по зрителям. В такие вечера она на глазах молодела, приходила в страшное возбуждение и, не замечая осуждающих взглядов Рустики, принималась доставать из сундуков шелковые и кашемировые платья, накидки из куницы, горностаевые боа и зеленые муфты из обезьяньего меха, атласные туфельки, расшитые полудрагоценными камнями, страусовый веер Лилли Леман-Калиш и целые пачки фотографий и газетных вырезок. Под конец, после долгих упрашиваний, она а капелла исполняла какую-нибудь из своих любимых вещиц, почти всегда «Голубку», а «мальчики» хлопали и улюлюкали. Чикита утверждала, будто это она сделала «Голубку» столь популярной в Штатах. Но это неправда. Еще до ее водевиля во «Дворце удовольствий» эту хабанеру в Нью-Йорке пела Прекрасная Отеро. И вот поди ж ты — я вспомнил! Как раз в этой главе Чикита рассказывала, как познакомилась с Прекрасной Отеро. Но об этом потом, а то ты еще запутаешься. Когда Чикита заканчивала петь, гости от нее отвлекались. Они всегда притаскивали с собой модные пластинки и заводили граммофон на полную громкость. В ту пору был бешено популярен Лу Голд и его оркестр, и все пели и танцевали под фокстрот «You’re the Cream in My Coffee»[69]. Иногда они втягивали и Чикиту, но обычно она благодушно наблюдала за ними из кресла. И меня поначалу тоже завлекали в свои игрища. Строили мне глазки и кокетничали, словно я Джон Гилберт или Дуглас Фэрбенкс-младший, но я никогда не поддавался и в конце концов им наскучил. А вот Рустику чуть ли не удар хватал всякий раз, как начинались танцы. Она скрепя сердце плелась в кухню и выносила подносы с канапе, со сластями и огромные кружки этого пойла, которое американцы почитают за кофе. «Мальчики», числом обыкновенно шесть или семь, иногда больше, набрасывались на еду и в мгновение ока сметали все дочиста. Я задавался вопросом: что их так манит в Фар-Рокавей? Общество Чикиты или возможность набить животы? Голодные были годы, чего уж там.На «салонах» присутствовал и один господин по фамилии Колтай, старый-престарый. Он здорово выделялся из всего этого сборища. Вел себя сдержанно, не размахивал руками, будто дирижер, не клал жеманно ногу на ногу, а когда остальные начинали спорить, кто красивее — Рамон Новарро или покойный Валентино, — оставлял свое мнение при себе. Поэтому я решил, что господин Колтай не голубой. Тогда я еще считал, что они непременно манерные. Но со временем понял, как сильно ошибался: зачастую самые мужиковатые мужики оказываются теми еще пидорами. Так что, если поразмыслить, старикан вполне мог быть таким же, как «мальчики». Ну, неважно. В общем, этот господин родился в Будапеште, жил в Квинсе, на голубого не смахивал (по крайней мере, на мой взгляд) и был крупным специалистом по лилипутам. Такое у него было хобби, даже пристрастие. Колтай мог часами рассказывать про карликов, про их странности и подробности жизни, поскольку многих из них знавал лично. С младых ногтей он занялся этой темой и стал истинным знатоком. Однажды какой-то захудалый род-айлендский журнал напечатал его статью (называлась, кажется, «Самые знаменитые лилипуты в мире»), и он везде носил с собой вырезку и при каждом удобном случае всем показывал. Я тоже прочел, мне понравилось, и я перепечатал ее на память. Чиките там был уделен крайне восторженный фрагмент. Копия валяется где-то там в коробках, так что не буду лишний раз надоедать тебе пересказом. Помню, я советовал ему расширить статью и сделать из нее брошюру. «Да, вы правы, в ближайшее время так и поступлю», — сказал он, но без особой охоты. Скорее всего, так ничего и не опубликовал, унес знания в могилу. На вечерах, пока наша голубизна жевала, глотала, хохотала и танцевала, мы с сеньором Колтаем устраивались в уголке и беседовали. То есть говорил больше он, а я только изредка задавал вопросы. Тема никогда не менялась, потому что Колтай был ходячей энциклопедией, состоявшей из одной-единственной статьи. Благодаря ему я уйму всего узнал про лилипутов. Сколько лет ему было — страшно представить, если он своими глазами видел выступления Чарльза Страттона, легендарного Генерала Тома Большого Пальца. И не в пору заката, когда тот растолстел, облысел и даже подрос на несколько дюймов. Нет, он застал его еще очаровательным юношей, которого сама королева Виктория принимала в Букингемском дворце. От Колтая я узнал, что в начале карьеры Том Большой Палец побывал в Гаване и однажды вечером проехал по бульвару Прадо в экипаже, запряженном карликовыми пони[70]. Еще он с большим уважением, даже с восторгом отзывался о Лусии Сарате, трагически погибшей мексиканке. Она ехала на поезде через Скалистые горы, случилась какая-то поломка, а тут еще и снежная буря — словом, поезд застрял. Ударил такой мороз, что несчастная Лусия скончалась от переохлаждения. Паулину Мустерс он также очень любил и всегда называл «голландской мушкой с кружевными крыльями и в рубиновой короне». У него имелась целая коллекция портретов разных лилипутов, я сам видел. Но сильнее всего Колтай гордился тем, что ему довелось присутствовать на бракосочетании Тома Большого Пальца. Я раз двадцать слышал от него эту историю. Свадьба Генерала Большого Пальца и Лавинии Уоррен стала событием в масштабе всей страны. В предстоящие дни газеты даже стали печатать меньше сводок о Гражданской войне, чтобы читатели не упустили ни одной подробности свадьбы. Невесте исполнился двадцать один год, а росту в ней было тридцать два дюйма; жених обгонял ее на четыре года и два дюйма. Юный Колтай из кожи вон вылез, но добыл приглашения на церемонию в церкви и праздничный банкет, устроенный Барнумом в отеле «Метрополитен»[71]. В дешевом, но отглаженном и накрахмаленном костюмчике он смешался с толпой миллионеров, сенаторов, генералов и дипломатов. Жениха и невесту поставили на крышку рояля, и оттуда они принимали поздравления. Но лишь немногие гости (и в их числе, разумеется, Колтай) знали, что женихом на этой свадьбе Чарльз Страттон оказался едва ли не случайно. Том Большой Палец с первого взгляда безумно влюбился в Лавинию Уоррен (та прибыла из родного массачусетского селения поработать несколько недель у Барнума в Американском музее). Роль Купидона разделили между собой Анна Свон, великанша шведского происхождения из Новой Шотландии, и Мадам Клофуллия, бородатая женщина, уроженка Швейцарии. «Ты должен познакомиться с мисс Уоррен! Она твоего размера, тебе понравится», — сказала великанша. «К тому же тебе самая пора жениться», — поддакнула бородатая. Поначалу лилипут воспротивился: он знать не желает никакую там девицу. «Да я перецеловал больше женщин, чем любой парень моего возраста, включая королев Англии, Франции, Бельгии и Испании, — похвастал он и презрительно добавил: — Она, наверное, толстая уродина, и ей лет под сорок». Великанша заметила, что Лавиния отличается редкостной красотой и ей едва сравнялся двадцать один, а Клофуллия рассказала, что по профессии она учительница, и, хотя ученики бывают намного выше ее, она вполне с ними управляется и пользуется их уважением. Том Большой Палец не хотел признавать, но на самом деле он мечтал жениться. Ведь, несмотря на свой рост и тоненький голосок, он был мужчиной в расцвете сил, каждое утро брился и имел те же нужды, что любой другой. Жена требовалась срочно. Поэтому с виду равнодушный Том при первой возможности отправился взглянуть на мисс Уоррен и убедился: Анна Свон и Мадам Клофуллия сказали чистую правду. Но мало кто знал, что у Лавинии уже был поклонник. Когда Генерал Большой Палец отправился в контору к Барнуму просить, чтобы тот представил их немедленно, импресарио рассказал, что еще один лилипут из его труппы, Коммодор Натт, также влюблен в Лавинию и вот уже несколько дней за ней ухаживает, так что преимущество на его стороне. Более того, он просил Барнума помочь с покупкой кольца, поскольку в самом скором времени собирается признаться в любви. Однако Барнум, полагая, что большим обязан Генералу Большому Пальцу — самому высокооплачиваемому из его «чудес природы», — чем Натту, обещал Тому всяческую поддержку. По счастью, поддержка не потребовалась. Как только Лавиния увидела Чарльза, она думать забыла про Коммодора Натта. Том Большой Палец был более опытным, более светским… и, да простится мне дурномыслие, более обеспеченным мужчиной. Так что она моментально переключилась на него. Натт бешено ревновал и хотел даже вызвать соперника на дуэль. Дело запахло жареным, и Барнуму пришлось вмешаться. «Послушай, дружище, — сказал он Натту. — Эту битву ты проиграл. Мисс Уоррен выйдет замуж за Чарли. Она испытывает к тебе глубокое почтение, но ты слишком юн, а ей в мужья нужен зрелый мужчина. Но не вешай нос, у меня отличная новость: у Лавинии есть младшая сестра, зовут Минни. На пару дюймов пониже. Невеста хоть куда». Барнум добился невозможного: Натт стал посаженым отцом на свадьбе. Убедить его было проще простого: ему сказали, что Минни будет посаженой матерью. Жаль только, Минни он совсем не понравился, и романа не получилось. Бедняга Натт умер холостяком. «Таких лилипутов больше не делают, — вечно вздыхал Колтай, рассказывая свои истории. — Теперь все как по одной мерке вырезаны. Какие-то мини-люди, и не только из-за малого роста, но и ввиду отсутствия индивидуальности. Теперь уж не встретишь благородства, как у Лавинии, стати Тома Большого Пальца, нежности Минни, остроумия Коммодора Натта». Он показывал пальцем на Чикиту и говорил: «Все, все представители золотого века перемерли. Только она одна у нас и осталась. Нам несказанно повезло, что она еще с нами». Колтай без устали твердил, что Чикита была звездой первой величины. Но иногда он наклонялся ко мне (что мне страшно не нравилось, поскольку дыхание у него было зловонное) и нашептывал про ее недостатки. Она, дескать, ветреная и самовлюбленная. Не умеет прощать. Никогда не ценила дружбу. Однажды он заметил, что самая большая ошибка Чикиты состояла в том, что она не смогла вовремя покинуть сцену. «Я видел ее дебют у Проктора и следил за ее карьерой до самого конца и могу сказать: надо было ей распрощаться с театром до того, как она утратила молодость и красоту, — почти неслышно произнес он. Огляделся и продолжал: — На последние выступления было горько смотреть. Перебор с гримом, платье не по возрасту, не говоря уже о жутком черном парике. Зачем было так пыжиться? Денег у нее хватало. Нет чтобы уйти с достоинством». «Наверное, хотела стать лилипутской Сарой Бернар», — беззаботно отвечал я. Но Колтай в сомнении покачал головой. «Зарубите на носу, молодой человек, —сказал он. — Лилипутке во цвете лет и делать-то ничего не надо, чтобы вызывать восторги, но та, что замазывает морщины и рядится в девичьи тряпки, всегда выглядит жалко». «Лавиния, вдова Тома Большого Пальца, выступала до глубокой старости», — возразил я. «Это другое дело. Она никогда не кокетничала и не выставляла декольте на сцене. Старела благородно и не пыталась убавить себе возраст. Чикита же едва не сгубила свою славу». Словом, я убедился, что Колтай, хоть уважал и ценил Чикиту, не был ей слепо предан. Это мне пришлось по нраву — не люблю фанатиков. Чтобы позлить Рустику, я придумал байку: будто бы господин Колтай давно уже скончался и перед нами — ходячий труп. Якобы всякий раз, как он собирается в Фар-Рокавей, родственники извлекают его из склепа, а по возвращении в Квинс закладывают обратно. Она обиженно выпячивала губу, потому что таких шуточек терпеть не могла. Я не раз хотел спросить: не кажется ли и ей тоже, что Чикита слишком мешкала с уходом со сцены? Но боялся, что она расскажет хозяйке, и тогда пиши пропало. Однажды утром Чикита вдруг перестала диктовать и спросила, о чем это мы с Колтаем шушукаемся на приемах. «О лилипутах, о чем же еще с ним говорить?» — напустив невинный вид, ответил я. «Всему на слово не верь, — предупредила Чикита. — Для своего возраста он довольно ясно мыслит, но некоторых винтиков ему все же не хватает. Возомнил, будто знает меня лучше меня самой, но кое-что в жизни и поведении Эспиридионы Сенды даже ему, самому крупному специалисту по лилипутам в мире, не под силу объяснить. А знаешь почему? Да потому, что мне самой это не под силу!» Я думал, на этом отступление завершилось и сейчас мы продолжим работу, но она завела: «Внешность обманчива, Кандидо. Всякий волк норовит притвориться овечкой. В следующий раз попроси сеньора Колтая рассказать, как он выпрашивал мои нестираные панталоны, чтобы сделать из них носовой платок. Или умолял меня плевать ему в лицо и хлестать кнутом до крови. Разумеется, я отказалась. Я такие извращения не поощряю. В отличие от некоторых других лилипуток…» Я долго не понимал, что за сложные отношения связывали их с Колтаем. Чикита при каждом удобном случае поносила его. Но старикану, кажется, нравилось, что на приемах Чикита его в грош не ставит, а если и обращается, то непременно с какой-нибудь колкостью. Думаю, он и впрямь питал нездоровую склонность к тому, чтобы карлики его унижали. Но вот зачем Чикита его приглашала, если так уж презирала? И однажды я додумался. Очень просто: Чикита не могла обойтись без Колтая. Она в нем нуждалась. «Мальчики» любили ее слушать и любоваться шляпками и нарядами, но в глубине души, скорее всего, не принимали ее рассказов за чистую монету. Другое дело — Колтай. Он-то знал, что все это правда. Был самым давним ее поклонником и единственным оставшимся под рукой свидетелем былого величия. Ну, кроме Рустики. Но Рустика, несмотря на безупречную преданность, никогда Чикиту не боготворила. Чикита и Колтай — каждый на свой манер — тосковали по прошлому, по безвозвратно ушедшей эпохе, когда, как бы противоречиво это ни звучало, лилипуты были великими.
Про Прекрасную Отеро расскажу коротенько, все равно она потом появляется в одной главе, которую ураган, к счастью, пощадил. Ты, наверное, и так знаешь, кто это была такая. Красавица-испанка, прославившаяся в Париже танцами, песнями и любовниками. Говорят, танцевала она не так уж прекрасно, да и пела из рук вон, но мужчины все как один мечтали затащить ее в постель и вовсе не затем, чтобы она там щелкала кастаньетами. Каролина Отеро была скорее не артистка, a demi-mondaine[72], то бишь дорогая шлюха. Она ведь не всякому давала, не подумай. Только богачам и тем, кто ей дарил драгоценности, а то и дома. Во Франции она оттанцевала всего каких-то четыре месяца и отправилась в Соединенные Штаты. Это было в конце 1890 года. Ее импресарио умудрился втюхать ньюйоркцам, будто она суперзвезда и отпрыск аристократического андалузского семейства. На самом деле Каролину звали Агустина, и была она незаконнорожденной дочкой галисийской крестьянки. Но бумага все стерпит, и народ поверил в байки, напечатанные в программках. В ту пору в Нью-Йорке жил Хосе Марти, готовил вторую войну за независимость Кубы. Несмотря на шумиху вокруг Отеро и всеобщее восхищение, он отказался идти на ее выступление, потому что у входа в театр «Иден-Мюзе», где она работала, вывесили испанский флаг. Но потом сняли, и Марти попал на шоу. В тот вечер он написал одно из лучших своих стихотворений — «Испанская танцовщица». Первый американский сезон вышел у Отеро таким успешным, что у Тиффани начали продавать золотые браслеты на лодыжку, точь-в-точь как у нее. Карменсита, до той поры самая известная испанская танцовщица в Штатах, выступала в соседнем театре, но Отеро затмила ее в два счета. Карменсита обладала недюжинным талантом, но вот красотой не отличалась, а ведь всякий знает: люди предпочитают хорошеньких бездарей одаренным дурнушкам. Через семь лет Прекрасная Отеро подписала еще один американский контракт. Вся усыпанная драгоценностями, она должна была плясать фанданго и качучу в театре Костера и Биэла. Однако на сей раз пресса отозвалась о ней холодно, и все не задалось. Ее называли «сиреной самоубийц», потому что несколько горемык действительно покончили с собой из-за нее, и народу это не понравилось. Чикита тогда как раз работала у Проктора, и в Нью-Йорке только и пересудов было, что о «кубинской Живой Кукле». Прекрасной Отеро тоже стало любопытно, и кто-то помог им устроить встречу. Некоторые прочили их знакомству дурной исход: якобы кубинка и испанка непременно передерутся. Но лилипутка враз полюбилась Каролине, и, к разочарованию тех, кто надеялся увидеть, как они вцепятся друг дружке в волосы, девушки подружились. Прекрасная Отеро уговаривала Чикиту как можно скорее приехать во Францию. Тем более что при ее содействии откроются все тамошние двери. В Париже умеют ценить артистов, не то что в Нью-Йорке, где сплошные деньги, а вкуса и утонченности — ни на грош. В припадке великодушия Отеро пообещалась представить Чикиту некоторым своим «друзьям и покровителям», например королю Бельгии Леопольду II, старому сатиру, владевшему Бельгийским Конго, или князю Черногории Николе, еще одной буйной головушке. Она даже могла бы обеспечить ей протекцию императора Германии Вильгельма II. Кайзер — мужчина видный и щедрый, правда, левая рука у него от рождения короче правой, зато все остальное отлично работает. В награду за чуточку ласки любой из них осчастливит Чикиту ценными подарками. Но она должна ставить себя высоко. Отеро быстро ее обучит, она в этом разбирается. Однажды некий господин предложил ей десять тысяч франков за ночь, так она в ответ послала холодную лаконичную записку: «Прекрасная Отеро не берет милостыни». Десять тысяч франков — ее цена за то, чтобы составить кому-то компанию за ужином! А хочешь большего — будь любезен раскошелиться. Чиките вовсе не понравилось, что подруга решила торговать ее честью, но из вежливости поблагодарила за предложение. Вскоре после этого импресарио испанки решили прервать сезон. Прекрасная Отеро успела до отъезда сходить на шоу Чикиты и на прощание расцеловалась с ней в гримерной. Кто бы мог подумать, что следующая их встреча выльется в ужасную ссору? Вот и все, что я помню из четырнадцатой главы. Немного, но что поделаешь? Дни выдаются разные. Сегодня память сыграла со мной злую шутку.
Глава XV
Глоксинии и лилии. Роковой Синьор Помпео. Чикита делит свое сердце. Ревность и ссоры. Любовники удаляются. «Концентрация» Мясника Вейлера. Досадный визит к Лилиуокалани, королеве Гавайев. Нежданное послание. Горести Мундо. Мистер Геркулес открывает истинное лицо. Встреча с Лавинией и Примо Магри. Фрэнк Ч. Босток, Король Зверей. Жемчужина.Чикита никогда не задумывалась над смыслом выражения «время летит», пока не обнаружила, что вот-вот кончится июнь 1897 года. Она уже год жила в Соединенных Штатах, срок контракта с Проктором истекал, а о продлении они пока не договорились. Проктор не хотел ее терять, но считал, что после Нью-Йорка неплохо бы устроить гастроли в других городах. Чикиту мысль о том, чтобы заделаться этакой цыганкой и кочевать туда-сюда, в те времена не прельщала. Да, она мечтала путешествовать, но не по Штатам. Вот если бы переплыть океан и оказаться в Европе! Но прежде чем рассказать о ее решении, следует упомянуть о событиях, последовавших за прощанием с Прекрасной Отеро и обещанием встретиться в Париже.
Начнем с личной жизни. Патрик Криниган долгое время властвовал над сердцем Чикиты, но потом ему вдруг пришлось удовольствоваться лишь одним ушком предсердия и одним желудочком, поскольку прочие части отбил у него маленький соперник: Синьор Помпео. Все началось, когда несколько членов труппы «И Пикколини» посетили «Дворец удовольствий». Итальянцы прибыли в конце октября; они уже месяц выступали в театре Пастора на Юнион-сквер, и им все уши прожужжали про Чикиту, вот они и решили на нее взглянуть. Франца Эберта и «Ди Лилипутанер», собиравших аншлаги в «Олимпии» Хаммерстайна, они знали по гастролям в столицах Старого Света и представляли, чего можно от них ожидать. Чикиту предупредили, что в одной из лож сегодня вечером засели конкуренты. Выйдя на сцену, она сразу краем глаза их нашла. На нее холодно уставились главные артисты труппы: Синьор Пикколломини и его невеста Синьорина Брунелла, близнецы Николай и Андре, Принчипесса Валентина и самый низенький из всех — Синьор Помпео, который мог похвастать, что даже до двадцати семи дюймов не дотягивал. После первой песни артисты Пастора сохраняли невозмутимость. Один Помпео, к изумлению товарищей, вскочил на ноги, бешено захлопал и зычно прокричал: «Брависсимо!» На следующее утро портье «Хоффман-хауса» принес в номер Чикиты прелестный букет из глоксиний и лилий с карточкой Синьора Помпео. Это был первый из множества подобных букетов и первое романтическое послание от итальянца. Польщенная регулярным прибытием глоксиний и лилий и напором Помпео, который мечтал об аудиенции, Чикита решила пригласить его на чай. Разумеется, за спиной у Кринигана, который ни о чем не догадывался. Помпео приятно удивил ее взор: у него были жгучие черные глаза, щегольские усики и белоснежные зубы. Он много жестикулировал и часто заливался звонким, живым, заразительным смехом. Одевался как истинный денди, питал слабость к изысканным украшениям, и Чикита сразу поняла: он привык, что дамы тают перед его чарами. Впервые прибыв к чаю, он принес коробку бельгийских шоколадных конфет и томик размером три на пять дюймов, под названием «Sfortunato cuore»[73], со стихами собственного сочинения. Не заставив себя упрашивать, он кинулся к ногам хозяйки и прочел пару вещиц, уснащая их пылающими взглядами. После чего открылся в своих чувствах. Нет, нет, Чикита не просто ему нравится, поспешил уточнить он. Это более глубокое и всепобеждающее ощущение. Их связывает невидимая нить — разве она не замечает? — Ты мой идеал, — промолвил он, целуя ей руки. — Я понял это, как только Дядя Сэм отпер сундук, и показалась твоя головка. Дабы охладить его пыл, Чикита призналась, что состоит в любовной связи с другим господином. «Лилипутом?» — быстро спросил Помпео и, услышав отрицательный ответ, снисходительно улыбнулся. «Я люблю его», — подчеркнула Чикита. Это не испугало итальянца. И что с того? Лично он согласен некоторое время делить ласки своей Пикколетты с другим, невозмутимо заявил Помпео. Он уверен что, как только она узнает его получше (тут его глаза сально блеснули), немедленно бросит своего верзилу. — Это же как дважды два, — воскликнул он и указал на их общее отражение в большом зеркале. — Бог создал нас друг для друга. Не надо быть гением, чтобы это сообразить. Чикита встревоженно уставилась на их фигуры в зеркальной глади. А что, если Помпео прав? На третьем свидании она решилась проверить это на практике. Велела Рустике и кузену прогуляться до памятника генералу Уорту и после, поломавшись немного, позволила итальянцу обнять себя за талию и осыпать страстными поцелуями. Эти влажные и горячие поцелуи убедили ее пойти дальше. Ведь она, можно сказать, впервые распробовала, что значит целоваться как следует: прильнув губами к губам, приоткрывая их, чтобы острый настойчивый язык, напоминающий озорную змейку, отыскал ее язык и слился с ним в лобзании. Как непохоже на неуклюжие поцелуи Кринигана с его огромным страшным ртом, словно готовым сожрать ее целиком, и гигантским никчемным языком. Когда Помпео предложил разоблачиться, она убедилась, что он не преувеличил: они и в самом деле созданы друг для дружки. Она познала сладость настоящего объятия и впервые, не боясь быть раздавленной или задушенной, насладилась весом мужского тела на себе. Одарив ее самыми дерзкими ласками — Помпео не солгал, назвавшись опытным любовником, — он вошел в нее несколько грубо, и это было восхитительно. Живот к животу, они превосходно подладились друг к другу и проделали кучу настоящих акробатических трюков, совершенно немыслимых на свиданиях с ирландцем, где каждую позу и каждое движение приходилось заранее обдумывать, чтобы сделать невозможное возможным. Несколько недель кряду — пока Криниган не подозревал об ее интрижке с Помпео — Чикита исхитрялась отдаваться обоим кавалерам и имела возможность сравнить их недостатки и достоинства. Итальянец, несмотря на непринужденность в общении и напускной лоск, был не в состоянии поддержать мало-мальски интеллигентную беседу. Обычно его разговоры вращались вокруг двух тем: сплетен шоу-бизнеса (в первую очередь о конкуренции между лилипутами) и необходимости зарабатывать все больше, чтобы и дальше окружать себя роскошью и удовольствиями. Его пошлость и необразованность раздражали Чикиту. Но заслуги в постели с лихвой перевешивали и этот недостаток, и все прочие. Вот уж в этом ведущий актер «И Пикколини» был мастер. В минуты близости он забывал про хорошие манеры, любил грязные словечки и требовал от любовницы, чтобы вела себя как можно бесстыднее, словно шлюха. Чикита с удивлением обнаружила, что когда тебя треплют, шлепают по ягодицам и называют «грязной бабенкой» и «ненасытной чушкой», то это очень возбуждает. Криниган же, напротив, даже в минуту обуревающей похоти оставался джентльменом. Иногда его деликатность выводила Чикиту из себя, особенно, когда он вставлял ей свой ключик. Интересно, он был таким со всеми женщинами или осторожничал только с ней из страха навредить? Он, конечно, тоже доставлял ей удовольствие, но вовсе не такое головокружительное, как Помпео… С другой стороны, хоть в постели ей не хватало сальностей итальянского любовника и естественного сплетения тел, Криниган давал Помпео сто очков вперед по части ума и чуткости. С ним она никогда не скучала и могла беседовать обо всем: от победы Мак-Кинли, «огайского идола», повергшего на президентских выборах демократа Брайана, до последней книги Марка Твена или обнаруженных на Юконе золотых месторождений. Однажды Криниган заявился в «Хоффман-хаус» без предупреждения, ворвался, словно ураган, в спальню Чикиты и застукал ее в постели за сложным па-де-де с Помпео. Ирландец чуть было не вышвырнул карлика в окно, но Чикита смогла его утихомирить и помогла открыть глаза на горькую правду. Да, она предала его и просит прощения. Но не пора ли поговорить начистоту? Они оба, и Помпео, и Криниган, ей просто необходимы. Каждый обладает тем, чего другому недостает, и она не желает отказываться ни от одного из них. Они все обсудили, как подобает цивилизованным людям, и пришли к соглашению: мужчинам придется терпеть друг дружку, а Чикита поровну поделит время между ними. — Я пошел на эту позорную сделку, потому что слишком сильно люблю тебя, — сказал Криниган, как только они остались с Чикитой наедине. — Когда у «И Пикколини» кончится контракт с Пастором, Помпео вернется в Италию, и у нас с тобой все станет по-прежнему. Но это оказалось не так-то просто. Помпео настаивал, чтобы Чикита разорвала контракт с Проктором в конце января, перешла в их труппу и отправилась в Европу. Их имена будут огромными буквами значиться на всех афишах, и люди будут давиться в очередях, чтобы услышать их пение дуэтом. Чикита молча слушала, но всерьез не задумывалась о подобном плане. Она знала, что «И Пикколини» получают всего 3500 долларов в неделю, и к тому же не могла вообразить, как будет исполнять неаполитанские песенки или проделывать трюки верхом на японском пони, подобно Принчипессе Валентине. Какой смысл ей бросать многообещающую карьеру примадонны и превосходные гонорары, чтобы стать пешкой в чужой труппе? Тем временем, невзирая на обещания наступить на горло своей ревности и не замечать соперника, великан и пигмей принялись отравлять друг другу жизнь. Ирландец заплатил шайке земляков, чтобы они приходили на выступления «И Пикколини» и освистывали Помпео. А тот, недолго думая, нанял мордоворотов, и те отмутузили Кринигана. Месть последнего была ужасна: он подкупил официанта из отеля, где жил Помпео, и велел подсыпать мощного слабительного ему в соус для спагетти. Дьявольский план сработал, и Помпео сутки напролет сидел в стенах уборной. После чего дал достойный отпор: еще не придя в себя, он отправил в редакцию «Уорлд» коробку в подарочной упаковке с бантом в виде листьев плюща. Криниган, пребывая в уверенности, что это от Чикиты, вскрыл посылку и обнаружил внутри кучу экскрементов. Чикита притворно сердилась и ругала любовников за эти выходки, но в действительности чувствовала себя польщенной и забавлялась от души, рассказывая Рустике, на какие глупости способны мужчины из ревности. В феврале 1897 года, по завершении контракта, «И Пикколини» вернулись в Италию. Перед отъездом Синьор Помпео пустил в ход все мыслимые доводы, чтобы его Пикколетта бросила Проктора и Кринигана и последовала за ним. Но в конце концов вынужден был отступиться и поднялся на борт в совершенном удручении. Чикита не стала сильно горевать. Она знала, что печали Помпео пройдут, как только ему на глаза попадется следующая красотка, а учитывая его донжуанский характер, ждать этого было недолго. Вечером она встретилась с ирландцем и объявила, что отныне он вновь единственный властелин ее сердца. Странным образом эта новость не обрадовала Кринигана. — Газета отправляет меня на Кубу корреспондентом, — сказал он с горечью. — Если бы не было тебя, я бы прыгал от радости, — сейчас журналист и мечтать не смеет о лучшей командировке. Но нам суждено расстаться, и это сводит меня с ума… Чикита дала ему понять, что краткая разлука ничего не изменит в их отношениях. Он вернется, их роман вспыхнет с новой силой, и все будет по-прежнему. Криниган с сомнением кивнул. Как все может стать по-прежнему после ее измены с итальяшкой? Патрика утешает лишь одно: он будет счастливым свидетелем перемен на родине возлюбленной.
Куба и вправду менялась час от часу. Декрет о «концентрации», введенный в силу Мясником — Валериано Вейлером, превратил остров в кромешный ад. Вейлер придерживался мнения, что для победы над повстанцами следует надавить также и на оказывавших им поддержку крестьян, и поэтому принудил их покинуть свои дома, посевы и скот и перебраться в города, где они теперь влачили нищенское существование. В своем стремлении подавить мятеж он, казалось, готов был истребить все гражданское население Кубы. Ужасы, описываемые американскими газетами, отнюдь не были плодами воображения репортеров. Иногда, за неимением новостей, корреспонденты и впрямь подпускали уток (однажды они выдумали женский батальон мамби-амазонок, которые якобы сражались верхом и с обнаженной грудью), но страшная система «концентрации» крестьян в городах существовала на самом деле. Чикита знала об этом из письма Манон. Та с ужасом писала, что по Матансасу бродят, словно призраки, сотни голодных, босых изможденных людей. Они спят под открытым небом и справляют нужду на любом углу. Из-за антисанитарии процветают дизентерия, малярия и желтая лихорадка. Комендантский час не отменяют, расстрелы продолжаются, а чванливые добровольцы и солдаты ведут себя так, будто они хозяева города. Еду раздобыть все труднее даже тем, у кого есть деньги. Единственное, до чего додумались власти для некоторого исправления этого кошмарного положения дел, — приютить часть крестьян под крышей театра «Эстебан». Чикита усмотрела кощунство в том, что несчастных поселили в храме муз, где сама Сара Бернар произносила расиновские строки. В конце письма Манон предавалась размышлениям: вернется ли жизнь на круги своя? «Сомневаюсь, и будь ты с нами, тоже утратила бы надежду», — писала она, прежде чем послать Чиките множество объятий и поцелуев. А в постскриптуме значилось: «От Хувеналя уже давно нет известий. Думаю, ему еще хуже, чем нам». Криниган отплыл в Гавану 4 марта 1897 года, в день инаугурации президента Мак-Кинли. Вечером того же дня Чикита впервые в жизни познакомилась с особой королевских кровей.
Незадолго до этого Проктор пришел к ней в гримерную и сообщил новость. — Со времен Тома Большого Пальца считается хорошим тоном дружба знаменитых лилипутов с монархами, — сказал он. — В Европе куда ни плюнь — нарвешься на уйму императоров, королей, принцев и великих герцогов, но у нас все куда как сложнее. И все же нам подвернулась прекрасная возможность. Капитан Палмер, личный секретарь королевы Гавайев Лилиуокалани, сам мне звонил. Ее Величество желает с вами познакомиться. Мы расскажем об этом в газетах, получится отличная реклама. Чикита испытала искушение напомнить Проктору, что Лилиуокалани — бывшая королева, потому что американцы вынудили ее отказаться от престола. Но он радовался, как ребенок, и она смолчала. На следующий день она отправилась в отель «Альбемарль» и склонилась перед государыней в реверансе. Визит обернулся, по мнению Чикиты, полным фиаско. Монаршая особа явно нервничала и чуть что прерывала беседу с гостьей, чтобы обратиться по-гавайски к своей фрейлине. По суровому нетерпеливому тону легко было догадаться, что мысли королевы витают где-то далеко. Что же касается ее тела, то Чикита ожидала от столь знатной дамы, пусть и бывшей, чуточку больше изящества и обаяния. Лилиуокалани, обладательница приплюснутого носа и пухлых предплечий, втиснутая в тесное платье невыгодного зеленого оттенка «шартрез», напоминала жабу вроде тех, которых жестокосердный Хувеналь в детстве препарировал на крыльце особняка в Матансасе. Проктор упомянул, что Лилиуокалани — большая любительница музыки (она даже баловалась композицией, как и ее брат, покойный король Калакауа), и Чикита взяла с собой Мундо на тот случай, если хозяйка пожелает услышать какую-нибудь кубинскую мелодию. Но время шло, королева никаких желаний не изъявляла, и Чикита сама проявила инициативу. О чем тут же пожалела, поскольку, едва Мундо сел за фортепиано и они стали исполнять «Чин-чин-чан», Лилиуокалани заерзала на стуле и с явным нетерпением посмотрела на часы. Тем не менее распрощалась она очень мило и несколько раз повторила, что нашла общество Чикиты очаровательным. — У нас с вами много общего. Нас связывает не только любовь к музыке. — А что же еще? — Чикита не смогла скрыть удивления. Королева таинственно улыбнулась и ответила, что им еще представится возможность об этом поговорить. Или гостья думала, это их первая и последняя встреча? О нет. Они увидятся вновь и, возможно, раньше, чем Чикита полагает… Провожая Чикиту и Мундо к экипажу, секретарь Палмер рассыпался в извинениях. Незадолго до их визита, сказал он, Лилиуокалани получила телеграммой дурные вести из Вашингтона и, естественно, расстроилась. Ее переговоры с сенаторами и прочими влиятельными людьми из правительства не приносили желаемых результатов… — Вы же не думаете, что Ее Величество прибыла в Соединенные Штаты, только чтобы совершать покупки и навещать друзей, как я был вынужден сообщить прессе, — прошептал он, озираясь. — Она не может публично выражать своих чувств, поскольку это помешает нашим планам, но в душе королева жестоко страдает из-за того, какую судьбу хотят навязать ее родине, и готова на все, лишь бы избежать этого. — Она хочет вернуть трон? — поразилась Чикита. — Я думала, если уж монарх отказался от престола, назад дороги нет. — Всякое бывает, — резко возразил Палмер. — Не забывайте, недруги силой выселили ее из дворца и отправили за решетку. Не отрекись она — кто знает, что бы с ней сталось! — окинув Чикиту неодобрительным взглядом, он сменил гнев на милость: — Сейчас главное — не допустить подписания договора об аннексии. Гавайи должны вновь обрести суверенитет! А уж потом видно будет, пожелает ли народ снова стать подданным своей возлюбленной королевы. И когда кучер уже натянул поводья, Палмер сказал на прощание: — В мире, управляемом великанами, маленьким людям остается только объединяться в тайные общества, чтобы вместе выживать. Мы с Ее Величеством питаем надежду, что вы, женщина, столько сделавшая для Кубы своим водевилем, поступите так же в отношении Гавайев при первой возможности. По дороге в «Хоффман-хаус» Чикита и Мундо долго гадали, почему Палмер решил ей довериться. Патрик Криниган считал, что аннексия Гавайев разумна и неизбежна, но Чикита все же усматривала в ней своего рода каннибализм. Но капитану Палмеру-то откуда это знать? Как, по мнению королевы — или бывшей королевы, — Чикита могла помочь Гавайям? Мундо пожал плечами и пренебрежительно ответил вопросом на вопрос: а она разве еще не поняла, что в Нью-Йорке чокнутый на чокнутым сидит и чокнутым погоняет? Начиная с Проктора с его говорящими попугаями и заканчивая этой Лилиуокалани, которую, при всем уважении, недолго спутать с мулаткой, из тех что в Матансасе торгуют тамалями на улице… С тех пор как Криниган уехал на Кубу, дни казались Чиките бесконечными. Она редко выходила из отеля и, как в прежние времена в Матансасе, много читала и вышивала. Наконец у нее дошли руки до «Окна в Трамсе», романа Барри, который тот для нее подписал. Но куда больше ей понравилось смелое сочинение Генри Джеймса «Бостонцы», купленное Мундо в соседнем книжном магазине. Приглашений на обеды и прогулки она получала предостаточно, но теперь, когда рядом не было надежного защитника, городская сутолока и шум действовали ей на нервы. Она аккуратно складывала в шкатулку телеграммы, приходившие от Кринигана каждые два или три дня, и вырезки его репортажей в «Уорлд» о ходе войны. Она скучала по Патрику. Синьор Помпео же безвозвратно выветрился из ее сердца, тем более что весточек он не присылал. Иногда какие-то незнакомцы поднимались прямиком в номер, минуя отельную стойку, и требовали, чтобы Чикита их приняла. Как правило, Рустика захлопывала дверь у них перед носом со словами «Miss Cenda has a big toothache»[74]. Так же она поступала с некоторыми людьми, которых Чикита предпочитала держать на расстоянии, например с нахалкой Хоуп Бут, заявившейся однажды вечером как ни в чем не бывало, чтобы снова напроситься на дружбу. Пару раз об аудиенции просили господа из Кубинской хунты, но Чикита не нашла в себе сил принять их, опасаясь новых нападок на ее водевиль. Хотя правда, в общем, была на их стороне: Масео, Бронзовый Титан, пал в бою в начале декабря, но Проктор отказался убрать его персонаж из действа. Он утверждал, что присутствие чернокожего генерала придает спектаклю «экзотический» оттенок, и пресек всякие попытки заменить Масео Максимо Гомесом, который оставался жив. Но однажды утром Рустика, не посоветовавшись с хозяйкой, впустила одного члена Хунты. — Он привез письмо, — пояснила она. — От сеньорито Хувеналя. Визитер (не кто иной, как господин с бородавкой на носу, смахивавшей на овода) вложил в руки Чиките грязный мятый конверт, недавно переданный ему одним кубинским патриотом. Чиките не терпелось вскрыть письмо, но из вежливости она сдержалась и побеседовала с посланцем. Тот сообщил, что руководители Хунты счастливы воцарению Мак-Кинли в Белом доме. — Что-то я не поняла, — сказала Чикита. — Разве вы не собирались голосовать за кандидата от демократов? — Политика — ветреннейшая из женщин, — шутливо отвечал господин с бородавкой. — За несколько дней до выборов мы встретились с Мак-Кинли, и он обещал нас не забыть, если мы поддержим его. И мы поскорее разослали указание всем нашим революционным клубам забыть про Брайана и голосовать за республиканца. Как только гость ушел, Чикита заперлась в спальне, рухнула на свою кроватку из палисандра и черного дерева и вскрыла конверт. Рассказ Хувеналя глубоко поразил ее. Когда Эспиридиона Сенда думала о войне, первым делом ей рисовались сражения, жестокие баталии, где один человек делал все, что в его силах, чтобы лишить жизни другого. Но из письма брата становилось ясно, что повседневная жизнь мятежников, о которой он писал без надрыва, но не опуская подробностей, почти так же ужасна, как самая кровавая битва. По словам Хувеналя, они с товарищами напоминали скорее не войско, а ватагу нищих. Все обросли бородами и космами за неимением лезвий и ножниц и ходили в замшелых шляпах, мятой нестираной форме и грубых башмаках. А кому особенно не повезло — довольствовались набедренными повязками. Многие вконец ослабели и перебивались тем, что ставили силки на птах, ловили мелкую рыбешку в грязных канавах или жевали сердцевины пальм, словно какая скотина. Однако Хувеналь не терял чувства юмора. «Я, хоть и скелет, зато на своих костях могу румбу сыграть», — писал он. Еще он рассказывал, как одного коня их эскадрона обнаружили поутру полностью обездвиженным. На крупе у него была гнойная рана, никто не поручился бы, что животное не заразилось столбняком. И все равно его зарезали и съели. Порезали мясо на шматы, изжарили и приправили лимоном. На следующее утро у некоторых на ногах повылезли болезненные язвы с твердыми лиловыми краями, вскоре загноились и долго не заживали. Иногда им везло больше. Как-то раз они обнаружили логово каймана, изловили его, отрубили хвост и слопали. Настоящий пир. Никто не удосужился добить каймана, и он, бесхвостый, уполз в кусты, оставляя за собой кровавый след. Бедствовали они и от нехватки лекарств. При малярии, косившей почти всех, пили бузинное слабительное и пытались заменить хинин листьями эвкалипта. Патронов не хватало, а большая часть ружей и карабинов проржавела, и приклады у них потрескались. Но Хувеналь не жаловался. Свободная Куба стоила всех жертв. В последнем абзаце брат поздравлял Чикиту с успехом, о котором узнал от Манон, и просил по возможности вносить вклад в дело революции. Дочитав, Чикита затерзалась совестью, разрумянилась и выписала Хунте чек. Посверлила взглядом, разорвала и выписала еще один, более щедрый. И отослала Эстраде Пальме с припиской: «От рядовой кубинки — освободительной армии».
Мундо в те дни переживал некий упадок духа. Он почти не ел, источал большую меланхолию, чем обычно, и перестал наигрывать Шопена в свободное время. Чикита долго допытывалась, в чем причина его апатии. «Тебе кажется», — защищался кузен. Но она не отступилась. Мундо изменился, и это не просто так. Наконец ей удалось вырвать признание: молодой человек по уши влюбился в Мистера Геркулеса, силача из водевиля, который поражал публику, тягая огромные железные гири и голыми руками разрывая цепи. Похвастать большим опытом Мундо не мог. После довольно бурного начала половой жизни (в котором его кузены сыграли решающую роль) он довольствовался спорадическими связями. Боязнь быть уличенным в «слабости» и отвергнутым Церковью и приличным обществом сковывала его, но во времена исполнения дансонов в оркестре Мигеля Фаильде он все же пережил тайный роман с тромбонистом. Мундо с ума сходил по Геркулесу, но не отваживался даже сделать намек. Когда они сталкивались за кулисами или в уборных для артистов «Дворца удовольствий», он стыдливо опускал взгляд и дрожал от волнения, поскольку пребывал в уверенности, что его страстные мечты несбыточны. Атлет — этакий кроманьонец, дюжий, грубый и косматый — в мгновение ока мог своей гирей размозжить голову любому, кто осмелился бы на непристойное предложение. Чикита придерживалась иного мнения. Она знала, что Проктор платит гроши тем, кто заполняет интермедии, и вызвала Геркулеса к себе в гримерную. Она сразу взяла быка за рога: прямо спросила силача, не желает ли тот заработать двадцать долларов. «Можете на меня рассчитывать», — пробасил Геркулес, выслушал указания без малейшего удивления и решительно отправился исполнять. Вечером, после второго шоу, Чикита притворилась, будто потеряла сережку, и велела Мундо оставаться в театре, покуда не найдет пропажу. Он нехотя подчинился, не подозревая, что все подстроено. Едва Чикита с Рустикой удалились, в гримерную проник Мистер Геркулес и едва не задушил Мундо первым же объятием. Ошеломленный и счастливый пианист не успел задаться вопросом, чем он заслужил такое чудо, потому что великан в два счета раздел его и утянул к кушетке. Довольно долго они неумело целовались и ласкали друг дружку, а потом Геркулес вдруг замер, приподнялся и прорычал: «Сехисмундо, я знаю, как сильно ты желаешь меня. Не будем ждать! Овладей мною сию минуту!» И, к горькому разочарованию пианиста, развернулся и подставил ему свой крепко сбитый волосатый зад. Что за злая насмешка судьбы?! Мундо не знал, плакать или смеяться. Он молниеносно оделся и выскочил в коридор. Чикита и Рустика страшно расстроились, узнав о случившемся. Но страданиям Мундо суждено было вскоре кончиться. Через несколько дней, без всякого вмешательства кузины, в уборных его настиг рабочий сцены. Это был носатый, низенький, тщедушный, безусый, прыщавый и писклявый юноша по прозвищу Косточка. К счастью, он ловко восполнял недостатки внешности выдающейся сноровкой в любовных играх: в два счета он отправил Мундо прямиком на седьмое небо и долго там нежил. Все время, что Мундо вздыхал по Геркулесу, Косточка тщетно пытался завладеть его вниманием. В отчаянии он решил взять инициативу на себя даже ценой возможного увольнения — ведь Мундо мог пожаловаться управляющему театром. После столь удачного исхода дела Мундо вновь обрел вкус к жизни и игре на фортепиано. А Чиките и Рустике частенько приходилось возвращаться в отель одним, пока Мундо в гримерке разыскивал злосчастную сережку, которая, что удивительно, никак не желала находиться, несмотря на всемерную помощь Косточки в поисках.
Как и обещала, Лилиуокалани очень скоро объявилась снова. На сей раз она не прибегла к услугам секретаря, а лично прислала записку с приглашением на поздний ужин с участием трех ее «весьма незаурядных» друзей. Чикита сперва хотела отказаться, но, пробежав глазами записку целиком, увидела, что среди гостей ожидаются Лавиния Уоррен, вдова Тома Большого Пальца, и Граф Примо Магри, ее второй супруг. Любопытство взяло верх, и Чикита приняла приглашение гавайской королевы. Но кто же третий? Еще один прославленный лилипут? Может, Барон Эрнесто Магри? Вполне возможно, ведь он брат Примо, и они с Лавинией выступают все втроем[75]. Почти каждый день после их первой встречи Чикита читала в газетах что-нибудь о королеве. Журналисты гадали, почему Лилиуокалани так часто перемещается из Вашингтона в Бостон, а из Бостона в Нью-Йорк. В одной статье высказывалось предположение: королева лишь делает вид, будто смирилась с потерей престола, а на самом деле плетет интриги, намереваясь выдавить американцев с прежде подчиненной ей территории. «Не удивимся, если она ведет переговоры с императором Муцухито и, когда придется выбирать метрополию, предпочтет аннексию Гавайев Японией, а не Соединенными Штатами», — развивал тему журналист. Как обычно, капитан Палмер поспешил разослать коммюнике с опровержением слухов о возможном союзе с японцами. Бывшей королеве нечего скрывать. Она ездила в Вашингтон не затем, чтобы вернуть трон, а затем, чтобы воспрепятствовать попыткам сделать Гавайи американской территорией. По мнению Лилиуокалани, аннексия явится нарушением воли и прав более чем сорока тысяч гавайцев, включая ее саму, несправедливо лишенную девятисот пятнадцати тысяч акров земли по решению островного правительства. О чем она уже сообщала президенту Кливленду в ходе дружеской встречи и не преминет сообщить Мак-Кинли, новому обитателю Белого дома, как только тот согласится ее принять. В одиннадцать часов вечера одетая в шелестящее платье из белого атласа, небесно-голубую накидку с оторочкой из лебединого пуха и все драгоценности, которые только смогла на себя навесить, Эспиридиона Сенда отправилась в отель «Альбемарль», где Лилиуокалани опять поселилась после возвращения из Вашингтона. Лавиния и Примо Магри уже были там и оживленно беседовали с королевой и капитаном Палмером. Третий гость блистательно отсутствовал. С первой минуты Граф рассыпался в любезностях перед Чикитой. Он поцеловал ее затянутую в перчатку ручку, похвалил костюм и поздравил с успехом водевиля. Вдова Тома Большого Пальца, наряженная в жемчужно-серое поплиновое платье, сначала лишь улыбнулась и устремила на Чикиту пристальный взгляд прозрачных голубых глаз, но чуть позже разговорилась с ней вполне дружелюбно. К тому времени Лавиния уже лет десять была замужем за Магри и, несмотря на почтенный возраст (ей исполнилось пятьдесят пять) и приобретенную полноту, по-прежнему собирала полные залы благодаря природному обаянию и превосходной репутации. Вне подмостков она вела себя так, словно все еще зарабатывала на хлеб учительством, а окружающие, как школьники, только и знали, что испытывать ее терпение. Магри пошутил, что по сравнению с Чикитой они с супругой просто «великаны», ведь превосходят ее почти на фут. Лавиния кивнула и добавила с тоской, что Чикита напоминает ей ее возлюбленную сестру Минни. Не внешностью, уточнила она: Минни походила на робкую фею, а Чикита — на цыганочку, готовую вот-вот запеть и заплясать, крохотную Эсмеральду. Но обе наделены неким исходящим изнутри светом, обе излучают сияние и к тому же обладают естественной способностью покорять сердца, даже против собственной воли. Лавиния вкратце поведала Чиките историю милейшей Минни. Несколько лет сестра гастролировала вместе с ней и Томом Большим Пальцем по лучшим театрам мира. Но в 1877 после долгого турне Минни решила выйти замуж за лилипута по имени Эдвард Ньюэлл и уйти со сцены. Отговаривать ее оказалось бесполезно. Минни, скопившая приличное состояние за годы работы, посвятила себя домашнему хозяйству и вовсе не скучала по поездам, кораблям, свету софитов и овациям. Вскоре соседи заметили, что она, сидя на крылечке, шьет одежки, больше похожие на кукольные. Крошечная миссис Ньюэлл была беременна. Они с мужем считали, что ребенок получится таким же маленьким, как они сами. Но они ошибались: дитя оказалось обычных размеров, и Минни так обессилила, что испустила дух через несколько минут после окончания родов. Шестифунтовый младенец скончался четыре часа спустя. После рассказа Лавинии в комнате воцарилось тяжелое молчание. Но ровно в полночь прибыл третий гость, и обстановка изменилась к лучшему. К удивлению Чикиты, это оказался не Эрнесто Магри, а высокий статный британец тридцати пяти лет от роду, импресарио и укротитель по имени Фрэнк Ч. Босток. За ужином Лилиуокалани показала себя безукоризненной гостеприимной хозяйкой. Она собственноручно усадила дам на достаточно высокие для них банкетки, а капитан Палмер оказал ту же любезность Графу Магри. Чикита опасалась, что вся беседа будет вращаться вокруг нудной темы аннексии Гавайев, но королева предпочла разговаривать о вещах менее серьезных. Например, о предстоящей премьере в «Мэдисон-сквер-гарден», комической опере, вдохновленной образом капитана Кука, «первооткрывателя» Гавайских островов. Ее пригласили, но она еще не знает, пойдет ли…[76] Блюда, поданные четырьмя официантами из кухни отеля, были восхитительны. Примо Магри успел осушить не один бокал превосходного «Верначча ди Сан-Джиминьяно», распространялся о непревзойденных сиенских белых винах и оглушительно захохотал, когда Босток признался Чиките, что, увидав ее выступление, мечтает похитить ее для своего шоу. — Ну, может, вам и не придется идти на преступление, — вмешалась Лилиуокалани. — Мы с мистером Палмером знаем из надежных источников, что контракт нашей подруги с Проктором вот-вот истечет. Секретарь, едва ли произнесший десяток слов за весь вечер, кивнул и многозначительно глянул на Чикиту. — На вашем месте я не стал бы ждать предложений других импресарио до последнего, — посоветовал он. — Проктор — неплохой человек, и уж он-то знает, как обращаться со звездами, — великодушно заметила Лавиния Магри. — Но все же, хоть он и пообтесался с тех пор, как выкрутасничал на трапеции под псевдонимом Фред Валентайн, в глубине души он все такой же… фигляр. — Баснословно богатый фигляр, владеющий театрами по всей стране, — возразил Палмер. — Я всегда старалась работать с истинными джентльменами, — примирительно сказала Графиня Магри. — Такими, как Барнум. Он не просто ценил нас с моим покойным супругом, как величайшие сокровища, — он нас понимал и любил. — Она заглянула в глаза Бостоку и добавила: — Насколько я могу судить, вы скроены по той же мерке. Беседа переключилась на отвагу укротителя диких зверей и его таланты к ведению дел. Относительно молодой британец отнюдь не был новичком в шоу-бизнесе. Все его детство прошло среди хищников, коих его родители имели великое множество и выставляли на ярмарках по всей Англии. В двенадцать лет он впервые заменил раненного львом дрессировщика на арене, а в двадцать с небольшим уже обзавелся первым собственным цирком. В 1893 году он привез свой зверинец в Соединенные Штаты. Вначале успех был весьма скромным, но благодаря выходкам Уоллеса, старого хитрого льва, слава вскоре настигла Бостока. В октябре Уоллес удрал из клетки и некоторое время наводил ужас на жителей Ирвинг-плейс на Манхэттене. Четыре месяца спустя он снова улизнул, на сей раз с выставки диковинок Кола и Миддлтона на Кларк-стрит в Чикаго. В обоих случаях Босток лично заточал льва обратно, и все газеты от Тихого до Атлантического океана трубили об его храбрости[77]. С тех пор дело Бостока приобрело размах. Его вагонов, биткомнабитых животными и неисчислимыми «чудесами природы», с нетерпением ждали во всех американских городах. Босток, как никто, разбирался в устройстве бродячих цирков и ярмарок и умело завлекал публику разнообразнейшими развлечениями и экстравагантными зрелищами. Обязанности руководителя не мешали ему часто браться за кнут укротителя. Он, как встарь, любил взглянуть в глаза опасности и запереться в клетке с дюжиной львов или коварных бенгальских тигров. За всей этой болтовней Чикита начала подозревать, что ужин — своего рода засада и присутствующие сговорились переманить ее от Проктора к Королю Зверей, то бишь Бостоку. Сама мысль об этом показалась ей гадкой. Она артистка, а не ярмарочный уродец. И не желает выступать вместе с какой-то скотиной и именоваться в программках «ошибкой природы». Сама того не сознавая, Чикита сверлила Бостока взглядом. Несомненно, он красив, эти румяные щеки, энергичная челюсть, пышные усы… Красивее Патрика Кринигана? Пока Чикита сравнивала, официанты расставили перед гостями тарелочки с десертом, имевшим вид нежнейшей устрицы из слоеного теста. Внутри каждой, пояснила королева, заключена жемчужина из миндаля, грецких орехов, восточных специй и крема, изобретенного главным кондитером «Альбемарля» (рецепт держится в строжайшем секрете). Лавиния постучала вилкой по краю бокала и предложила последний тост: — За будущее очаровательной Чикиты! — И за того счастливца, который станет ее новым импресарио! — лукаво добавил Магри, косясь на укротителя. Все выпили, кроме Чикиты, едва пригубившей бокал. Неловкость сменилась яростью из-за того, что кто-то осмелился так бесцеремонно лезть в ее дела. Она одна решает, оставаться ли у Проктора, и не нуждается ни в чьих там советах. Может, Проктор и был акробатом, но вот уже двадцать лет он к трапеции и близко не подходит, а вот Босток до сих пор дрессировщик. Очень, очень маловероятно, что она подпишет с ним контракт. Все уже смаковали свои жемчужины, и Чикита собиралась последовать их примеру в надежде, что сладкое смирит ее гнев. Но когда она, ловко орудуя серебряными приборами, приоткрыла слоеную устрицу, то застыла от изумления. А потом, наплевав на элементарный этикет, запустила внутрь большой и указательный пальцы и извлекла на свет божий амулет великого князя Алексея. Откуда здесь взялся золотой шарик? Десять месяцев спустя после похищения Чикита совсем отчаялась найти его. Она внимательно всмотрелась и убедилась, что таинственные письмена на месте. И только тут она заметила, что пять пар глаз озорно и взволнованно смотрят на нее. — Что это значит? — пролепетала она. Сидевшая во главе стола Лилиуокалани просияла и ответила: — Если желаете, можете поблагодарить господина Бостока за возвращение талисмана. Исключительно благодаря его упорству и находчивости мы смогли преподнести вам такой сюрприз. Воцарилась торжественная тишина, укротитель склонил голову, и Чикита ощутила, что заливается краской. Она хотела было потребовать объяснений, однако Лавиния Магри мягким, но властным жестом остановила ее. — Дорогая, — с материнской нежностью проговорила она голосом, сладким, как секретный крем, из которого главный кондитер «Альбемарля» состряпал жемчужины, — не просите разъяснить вам то, чего мы пока разъяснить не в силах. Когда-нибудь вы все узнаете об этом предмете — и что он собой представляет, и какую ответственность возлагает на вас. А покуда будьте терпеливы и разрешите опекать вас и лелеять.
[Главы с XVI по XIX]
Вот тут-то и настал каюк. Даже не мечтай: я не вспомню всего, что было в этих главах, как бы ни старался. Разве только перескажу тебе самое главное. Во-первых, вернув Чиките талисман, Босток незамедлительно предложил ей весьма заманчивый контракт, но она не клюнула на его удочку. На следующее утро она явилась в контору к Проктору и подписала с ним договор на три месяца выступлений в Массачусетсе, Коннектикуте, Огайо и Пенсильвании. Почему она не согласилась работать с тем, кто нашел ее талисман и предлагал больше денег, чем Проктор? Не хотела подводить своего первого импресарио? Сомнительно. В денежных делах она не угрызалась совестью. Или ей не понравилось, что Босток скрыл историю возвращения амулета? Кто знает… Логика поведения женщины — штука сложная, в особенности такой незаурядной женщины, как Чикита. Я склоняюсь к мысли, что она осталась у Проктора, потому что хотела и дальше выступать в роскошных залах и представать на афишах знаменитой артисткой. У Бостока ее ждали совсем иные условия. Его бизнес зиждился не на театрах, а на ярмарках, цирках и зоопарках, где выставляли вперемешку диких зверей и карликов, сиамских близнецов, великанов, альбиносов, невероятных толстяков и прочих фриков. Теперь про таких людей принято говорить с большим уважением. К примеру, Леди Виолетту, девушку миловидную и добрую, но безрукую и безногую, назвали бы сегодня «инвалидом», «человеком с ограниченными возможностями» или еще как-нибудь. Или Чарльза Триппа, канадца, тоже родившегося без рук, но умевшего писать, играть на фортепиано и плотничать пальцами ног. Но вот как отозваться с должным почтением о Живом Скелете, Гуттаперчевом Человеке или баронессе Сидонии де Баркси, знаменитой бородатой женщине? У них-то все было на месте. Просто они сильно отличались от обычных людей. Ты уж, верно, и сам заметил: в мире «ошибок природы», как тогда говорили, было страшно модно обзаводиться дворянскими титулами. Но по венам Сидонии в самом деле текла голубая кровь, поскольку происходила она из венгерского аристократического семейства. Любопытная у нее история, право. За барона Баркси, военного в больших чинах, она вышла еще безбородой прекрасной девушкой с румяными, словно наливные яблоки, щечками. Но все изменилось после рождения их единственного сына Нику. С первого взгляда стало ясно, что они произвели на свет лилипута, потому что размером младенец был примерно с мышь. А через двенадцать дней после родов у бедняжки Сидонии стала расти борода. Она каждый день брилась начисто мужниной бритвой, но к следующему утру вновь зарастала волосами. Тем временем барон, страстный любитель азартных игр, разорился в пух и прах, запил, и его отправили в отставку. Семейству оставалось только поступить в цирк. Сидония отпустила пышную бороду и выступала вместе с сыном, подросшим до двадцати восьми дюймов и избравшим сценическое имя Капитан Нику де Баркси. Даже барону подыскали должность: он стал цирковым силачом. Проклятие! Опять я сбился. Не знаю, с чего завел эту волынку про Баркси. Они ведь приехали в Штаты только в 1903 году, когда Нику исполнилось восемнадцать. Ах да, вот еще что: овдовев, Сидония тут же снова выскочила замуж за одного наполовину немца, наполовину индейца чероки, который в их цирке выступал с лассо, показывая чудеса ловкости под псевдонимом Мачо. Баронесса с сыном и Мачо купили участок земли в одной деревеньке в Оклахоме и зажили там, но эту историю я доскажу тебе как-нибудь потом… Возвращаясь к нашей теме: я говорил, что, по моему разумению, Чикита решила продлить контракт с Проктором, чтобы не снижать планку. В те годы ее еще волновала репутация серьезной актрисы, и она не желала выставляться в ярмарочном павильоне между слоном и Эллой Харпер, Девочкой-верблюдом. Но и в предусмотрительности ей нельзя было отказать: она связала себя обязательствами всего на три месяца, видимо, на тот случай, если подвернется лучшее предложение. Больше всего она мечтала выступать в Европе, но осуществить такую мечту было не так-то легко. В Соединенных Штатах с распростертыми объятиями встречали лилипутов из Франции, Германии, Италии и Англии, но у европейских импресарио имелось в распоряжении столько замечательных карликов, что нужды не было нанимать кого-то за океаном — разве что таких знаменитостей, как Том Большой Палец или его вдова. Так что Чикита, Рустика и Мундо уложили вещи, распрощались с месье Дюраном и другими служащими «Хоффман-хауса», где с такой приятностью провели первый нью-йоркский год, и на поезде отбыли в Кливленд, откуда начиналось турне. Потом перекочевали в Филадельфию и дальше колесили по Коннектикуту и Массачусетсу. Всего Чикита успела выступить в восьми городах. Представляешь, какие изматывающие гастроли? Восемь театров за три месяца[78]. Во всех городах шоу имело большой успех, а в последнем — Бостоне — кубинский водевиль произвел самый настоящий фурор. За билетами выстраивались длиннющие очереди. И это притом, что Проктор, желая урезать расходы, нанял для гастролей всего половину прежних акробатов и хористок. Все равно Чикита покорила бостонцев[79]. Тут, конечно, не обошлось без благоприятной политической обстановки, потому что война на Кубе была у всех на устах. В Соединенных Штатах ни прежде, ни после не интересовались Кубой так живо. Дай нынешнему янки карту и попроси показать, где Куба, — сам убедишься. Скорее всего, он ткнет в Галапагосы или Австралию. Но в 1897 году дела обстояли по-другому. Куба была в моде. Во время гастролей Чикиты в Мадриде убили премьер-министра Испании Кановаса дель Кастильо. И хотя убил его итальянский анархист Анджолильо по кличке Голли, некоторые американцы отпраздновали это событие как победу кубинского народа. Чикита рассказывала, что, когда президент Мак-Кинли направил Испании ультиматум с требованием изменить политику в отношении Кубы, в Штатах началось форменное безумие. Очень многие изъявляли готовность вооружиться револьверами и винтовками, сесть на корабли и отправиться сражаться плечом к плечу с мамби. Сам понимаешь, как неистовствовала публика всякий раз, когда Чикиту извлекали из сундука и она запевала хабанеры Ирадьера и плясала под дансоны Сервантеса. Кричали и хлопали так оглушительно, что иногда Мундо приходилось пережидать, чтобы зрители успокоились. К бостонскому дебюту Чикиту выдумала нечто экстравагантное: она перевела на английский стихотворение «Бегство горлицы» и между танцами его продекламировала. В зале воцарилась напряженная тишина, сменившаяся через минуту бурным всплеском восторга с воплями, слезами и даже парой сломанных кресел. Представь себе, до чего дошло: управляющий театром позвонил Проктору, а тот послал Чиките телеграмму с просьбой больше не читать этих стихов. Уж не знаю, с чего это бостонцы так расчувствовались, ведь у Миланеса в тексте ничего патриотического нет. По мнению Чикиты, они усмотрели в горлице символический образ Кубы, которая бежит из испанской клетки на вольную волю. Но если внимательно вчитаться, понимаешь, что такая трактовка, в общем, притянута за уши. Так или иначе, больше Чикита не исполняла «The Turtledove’s Escape» (так называлось стихотворение в ее переводе), чтобы бостонцы не разгромили Проктору весь театр. Благодаря турне слава Эспиридионы распространилась по многим городам. Но не подумай, будто трехмесячное путешествие вышло сплошь радужным. Чикита пребывала в сварливом состоянии духа, потому что не могла привыкнуть к постоянной смене поездов и отелей. Рустика старалась ее успокаивать и стойко выносила истерики и приступы гнева, но ей самой хуже горькой редьки надоело упаковывать и распаковывать чемоданы. Она только и делала, что вспоминала спокойные деньки в Матансасе. Однако мало-помалу они обе перестали сетовать на судьбу и привыкли к цыганскому житью. Другое дело — Мундо. День ото дня он чах на глазах и замыкался в себе. Чикита и Рустика догадались, что он ждет не дождется возвращения в Нью-Йорк и воссоединения со своим милым Косточкой. Тебе, должно быть, удивительно: как это женщина, которая первые двадцать шесть лет жизни почти не выходила из дома, привыкла заполнять долгие часы одиночества чтением и рукоделием и общалась только с семьей, близкими друзьями и слугами, сумела приспособиться к такой резкой перемене? Я тоже долго не мог понять, но Кармела в два счета мне все разъяснила. Я вроде говорил уже про Кармелу? Ага, та самая мулатка-гадалка, с которой я сошелся, когда вернулся в Матансас. Так вот, однажды я попросил ее составить астральную карту Чикиты. Сначала она надулась — подумала, что у меня с этой Чикитой шуры-муры. Но, узнав, что это сеньора, на которую я когда-то работал в Штатах, да к тому же лилипутка, оттаяла и расстаралась на славу. Хочу заметить, что я и сам мог бы составить эту карту. До Кармелы я знать ничего не знал об астрологии, но со временем насобачился. Хотя все равно у меня получилось бы хуже, чем у нее, — она-то была мастерица. Знаешь, что она мне сказала первым делом? У этого Стрельца в середине жизни произошла огромная перемена — так утверждали светила. — Может, какие-то неприятности, может, путешествие, хотя одно другому не мешает, — уточнила Кармела, и я аж похолодел — я ведь ничегошеньки ей про Чикиту не рассказывал. Она стала дальше рассказывать, что там выходило по астральной карте. Словно писала портрет Чикиты. — Она с роду была при деньгах, потом все потеряла и вскоре снова заимела. Не знаю, то ли заработала, то или еще как, но только денег ей с тех пор всегда хватало. Вижу, она любит красивые платья, духи, разные украшения. Характер, надо думать, — не подарок, потому что вот у нее асцендент в Козероге, а в доме рождения горят Сатурн и Меркурий. Марс в Козероге ясно говорит о том, что она капризная и властная, палец в рот не клади, как говорится. Уж не знаю, она такая обидчивая оттого, что мелкая, или отчего другого, но довольна бывает редко. Тут Кармела примолкла, нахмурилась и воскликнула: «Ну и потаскушка же твоя эта карлица!» Я спросил, как она это поняла, и она пустилась в объяснения: — В пятом доме у нее Юпитер, это планета Стрельца, указывает на бурную и страстную личную жизнь. Восходящая Луна в Тельце означает натуру романтичную, чувственную — словом, горячую, а в Водолее — Венера: не удивлюсь, если она вытворяла в постели всякое странное. Может, даже с женщинами, — скривилась Кармела. — Но в седьмом доме Уран. Осмелюсь утверждать, что все ее романы были недолгими, хотя и очень яркими. Кармела была всем астрологам астролог. Астральные карты составляла, как никто. Я не рассказывал, как с ней познакомился? Где-то через год после приезда из Штатов. Сначала дела у меня шли прекрасно. Я жил в двухкомнатном домике с матерью и крестной, устроился печатать на машинке в мэрию Матансаса и встречался с очень приличной барышней. Она играла на арфе и с отличием окончила курсы домашней хозяйки. Мы даже собирались пожениться, но тут все рассыпалось в прах. Меня вышвырнули с работы, а на мое место взяли родственничка мэра, который только одним пальцем и умел печатать, у моей бедной матушки обнаружили рак, за месяц сведший ее в могилу, а в довершение бед моя невеста, с виду такая скромница, на поверку оказалась натуральной бандиткой. Она наставила мне рога с заикой-коммивояжером, который торговал лекарствами, и сбежала с ним. Сам понимаешь, каково мне было. Я был разбит. На куски. Как ни старался, не мог даже голову поднять. И хотя по натуре не слабак, не раз думал кинуться вниз головой с моста Тирри — он не самый высокий в Матансасе, зато самый красивый, потому что железный. Тогда-то крестная свела меня к Кармеле, чтобы та мне погадала. Я сам никогда не верил в ясновидящих и всяких там ведьм, но в угоду крестной пошел. Но Кармела поразила меня в самое сердце. Глядя мне в глаза, она выложила такое из моего прошлого, о чем я не рассказывал ни одной живой душе. И заверила, что вскоре меня ожидает благоприятная перемена. Одна добрая и порядочная женщина — «а не прошмандовка, на которой ты чуть не женился» — утолит мои печали и принесет несказанное счастье. Она вызнала час, день, месяц и год моего рождения и велела назавтра вернуться за астральной картой. Я вернулся уже без крестной и узнал, что мне прочили светила на будущее. Оставался еще один тяжкий удар, но в дальнейшем все устраивалось наилучшим образом. Кармела угостила меня стаканчиком рома, чтобы это отпраздновать, и слово за слово — мы уже вовсю любились. Вот это была львица, доложу тебе. В сравнении с ней даже шведка из Бель-Харбор казалась монашкой. Так уж она мне понравилась в постели, что в тот же вечер я перевез к ней вещи и остался жить. Среди ясновидящих и вправду пруд пруди шарлатанов, которые всегда рады облапошить дурачков или людей отчаявшихся, но у Кармелы, смею тебя уверить, был самый настоящий дар. Иногда она даже не смотрела человеку на ладонь и ракушки не бросала, а уже прекрасно знала его будущее. Помню, как-то в воскресенье, пару месяцев спустя после того, как мы поладили, стоит она, жарит яичницу, потом как уставится в сковородку и говорит: «Ох, милый мой, несчастье-то какое! Твоей крестной семь дней жизни осталось!» Меня всего холодом пробрало, и я попросил Кармелу составить астральную карту крестной. — Неделя — и она покойница, — подтвердила она, посоветовавшись с Луной, Солнцем и звездами. — Уж прости, любовь моя. Вот он, тот удар, что тебе еще оставался. Карты могут наврать, линии руки иногда путаются, даже хрустальный шар бывает мутным, но светилам всегда можно доверять — они не лгут. И что ты думаешь? Ровно через неделю крестная поскользнулась на банановой кожуре у Испанского казино, расшибла затылок и поминай как звали. Но вскорости, как и предсказывала Кармела, один ее клиент добыл мне место в городском суде, и все у нас пошло лучше некуда. По вечерам Кармела из интереса учила меня составлять и читать астральные карты. Непростое дело, между прочим. Да не смотри ты на часы, я от этого не могу сосредоточиться! Вижу, ты думаешь, будто я совсем из ума выжил: плету все про Кармелу, а не про Чикиту. Но, как ни странно, между ними есть связь и еще какая! Однажды Кармела повела меня знакомиться со своей бабкой. Вообрази мое изумление, когда я узнал, что старуху зовут Каталина Сьенфуэгос. Понял теперь? Та самая мулатка, у которой был роман с Игнасио Сендой. Что и разрушило его брак с Сиренией. Я позадавал бабке наводящих вопросов и много чего разузнал. После нескольких любовников, в основном белых и обеспеченных, Каталина Сьенфуэгос вышла замуж за китайца, хозяина прачечной, и родила ему пятерых детей. Китаец был очень хороший человек и даже удочерил Каталинину девочку. Эта девочка как раз оказалась матерью моей Кармелы. Но, как ни старался, я не мог выведать, от кого именно из прежних ухажеров Каталина Сьенфуэгос ее родила. Неужто от Игнасио Сенды? Тогда получается, я каждую ночь сплю с родственницей Чикиты. Через неделю я опять отправился с Кармелой навещать бабушку и как бы между делом, оставшись наедине со старухой, заметил, что в Штатах работал с одной из семейства Сенда. — С малявочкой, надо думать, — сказала она и припомнила, что несколько раз видела Чикиту. — Не знаю, на что она похожа сейчас, годы ведь никого не красят, но в детстве была настоящая куколка, просто прелесть, милее не придумаешь. Она рассказала мне и про смерть Сирении от куриной кости. «По мне, так это на нее такую порчу наслали», — лукаво заметила она, искоса глядя на меня. Тогда я предположил, что доктор Сенда, видать, много для нее значил, если она так хорошо помнит его семью. — Ох, сынок, не стану врать, — вздохнула она. — Никому не говори: Игнасио один проник мне в душу. А ведь до того, как расписаться с Чанем, я во всей округе живого мужика не оставила… И все же она не сказала, от кого родила старшую дочь. «Много воды утекло, не помню», — произнесла она, поводя руками перед лицом, и так я и не узнал, приходится ли моя Кармела незаконнорожденной внучкой Игнасио Сенде. В те дни я частенько вспоминал Чикиту. Стоял 1935 год вроде бы. Я написал ей в Фар-Рокавей письмецо, рассказал, как мне живется. Но ответа не получил. Тогда-то я и попросил Кармелу составить астральную карту Чикиты и выяснить, что на ее счет говорят звезды. Я прямо ни о чем другом думать не мог, так мне было любопытно, уж не с племянницей ли Чикиты я живу. Но никакой возможности выяснить это наверняка не представлялось, потому что одна Каталина Сьенфуэгос могла разрешить сомнения, а она наотрез отказалась признаваться. И знаешь, как я получил ответ? Самым странным образом. Однажды утром в суде я печатал показания одного малого, которого обвиняли в краже. Его спросили, нет ли у него каких особых предмет, а он возьми и скажи: на письке родинка. Тут я вспомнил кое-что, что мне в Фар-Рокавей рассказала Рустика, когда я помогал ей ощипывать кур. Она была в благодушном настроении и посвятила меня в некоторые секреты. Среди прочего поведала об «отметине семьи Сенда». По ее словам, у старого Бенигно Сенды, того, что сошел с ума, когда партизаны сожгли его сахарный заводик, было алое родимое пятно размером с фасолину на самом интересном месте. Его сын Игнасио унаследовал пятно, как и внуки — Чикита, Румальдо, Хувеналь, Кресенсиано и Манон. Я, разумеется, никогда не осмеливался спросить у Чикиты, правда это или навет. Но, скорее всего, правда, потому что Рустика, хоть и бывала иногда сущей язвой, врать никогда не врала. Я едва дождался обеденного перерыва, как ты можешь себе представить. Обычно я обедал в кабачке рядом с судом, но в тот день ринулся домой, без лишних разговоров утянул Кармелу в койку и принялся изучать ее интимные области (волос там у нее, кстати, было видимо-невидимо) в поисках пресловутого пятна. И что же ты думаешь? Нашлась-таки отметина семейства Сенда. Кармела так и не поняла, с чего это меня так раззадорило, но ей мои поиски страшно понравились, а я избавился от сомнений и окончательно убедился: моя сладкая, словно мед, любимая — дочь единокровной сестры Чикиты. Тесен мир, а?В предпоследний вечер в Бостоне в гримерную к Чиките пришла очень элегантная дама и пригласила на спиритический сеанс, который сама и собиралась провести на следующий день у себя дома. «В потустороннем мире много желающих поговорить с вами», — намекнула она и была такова. Чикита сперва подумала, что это какая-то шарлатанка, но вскоре ее вывели из заблуждения. Леонора Пайпер, образованная дама из приличного семейства, считалась одной из лучших ясновидящих в мире. Годами к ней на сеансы ходили ученые в надежде застукать ее за какой-нибудь хитростью и разоблачить, но в конце концов вынужденно признавали ее феноменальную способность общаться с покойниками. Надо тебе знать — а то ты, вижу, не силен в этой теме, — что в те времена спиритизм был в большом почете. Богачи и умники обожали беседовать о мертвецах и наблюдать всякие сверхъестественные явления. Некоторые медиумы ведь и впрямь вытворяли такое, что у людей волосы на голове шевелились: летали, брали голыми руками горячие угли и не обжигались и даже материализовали из воздуха тела, до которых участники сеансов могли дотрагиваться, но легонько — в противном случае они исчезали. В Европе славу лучшей спиритистки завоевала Эвсапия Палладино, но многие считали, что Леонора Пайпер заткнет ее за пояс. В общем, Чиките стало любопытно, кто это из потустороннего мира зазывает ее на разговор, и она в сопровождении Мундо отправилась к медиуму. И кого бы, ты думал, они встретили в гостях у Пайпер? Королеву Лилиуокалани и ее секретаря капитана Палмера! Они только что вернулись из Вашингтона, где в очередной раз пытались перетянуть политиков на свою сторону и предотвратить аннексию Гавайев. У мертвецов имелось послание и для Лилиуокалани тоже. На сеансе, начавшемся около полуночи, присутствовали также некоторые родственники и близкие друзья медиума. В отличие от моей Кармелы, Леонора Пайпер не брала платы за услуги. Она не нуждалась в деньгах и выступала посредником между миром живых и миром мертвых «из любви к искусству». И не думай — всяких босяков к ней не допускали, только самые сливки Бостона. Медиум в два счета впала в транс, и к ней явился дух-проводник, чтобы наладить связь с потусторонним миром. Таких духов у нее было несколько, они чередовались. Иногда индейская девушка по имени Хлорин (каково имечко для индианки, а?), иногда — доктор-француз[80]. В тот вечер пришла Хлорин. Она взялась найти покойников, которые желали переговорить с Лилиуокалани. Сначала на смеси гавайского с английским к ней обратился ее предок, Камеамеа Великий, первый король Гавайев. За ним последовали другие. Королева слушала и менялась в лице. И было отчего. Знаешь, что они ей наговорили? Что ее племянница, принцесса Каюлани, с детства жившая в Англии, вот-вот вернется в Гонолулу с тайным намерением восстановить монархию и завладеть престолом. Перед этим принцесса на несколько дней задержится в Соединенных Штатах, чтобы завоевать симпатии американцев, — это крайне важно для ее намерений. Духи утверждали, что принцесса представляет опасность для тетушки и Лилиуокалани не следует доверять ее ласковым письмам и благонравному личику. С виду Каюлани и мухи не обидит, но на самом деле они с отцом (англичанином, бывшим губернатором одной из гавайских провинций) коварны и готовы на все — лишь бы королева больше не взошла на трон. Эти новости так удручили Лилиуокалани, что секретарю пришлось вывести ее из гостиной и доставить в отель. Потом явилось несколько духов с какими-то малозначительными делами. Но вдруг, когда Чикита уже начала бросать на кузена нетерпеливые взгляды, Леонора Пайпер подпрыгнула на стуле, расхохоталась жутким смехом, от которого у всех волосы дыбом стали, и заговорила басом на ломаном испанском. «Где Чикита, черти бы ее взяли? — вопросила она и хлопнула ладонью по столу: — Кукамба, в Господе всемогущем упокоившийся, хочет видеть эту карлицу!» Чикита остолбенела, поняв, что это сам конго Кукамба, тот дух, который много лет назад выбранил Сирению за жалобы на малый рост дочки. Разумеется, кроме них с Сехисмундо, никто и слова не понял из его речей, поскольку присутствовавшие не знали испанского. Негр поздравил Чикиту с успехом и сказал, что это только начало, а впереди ее ждет еще уйма триумфальных выступлений. «Далеко пойдешь, дочка, — говорил он. — Даже заделаешься королевой всех карликов». Но предупредил, чтобы смотрела в оба и остерегалась врагов, потому как иному человеку доверишься — а он тебя живьем сожрет. Тут Чикита осмелилась заговорить и спросила, что это за враги такие — вроде бы ее все любят. Кукамба одарил ее насмешливым взглядом и ответил: кабы не было в жизни кого бояться, все перемерли бы со скуки. Повсюду есть люди добрые, недобрые, злые и такие, что хуже злых. И карлики тоже бывают добрые, а бывают — сущие дьяволы. Да, повторил он: Чикита должна обдумывать каждый шаг, потому что эта штуковина, которую она таскает на шее, может и помочь ей, и погубить. Чикита пискнула, мол, хотелось бы подробностей. Но Кукамба лишь разразился леденящим хохотом и ответил, что в свое время ей все разъяснят и без него. А напоследок посоветовал не кочевряжиться и соглашаться на предложение Короля Зверей. В качестве прощального жеста конго пустил из ноздрей медиума струю такого густого и смрадного табачного дыма, что все закашлялись. А знаешь, что, по рассказам Чикиты, было самое странное на том сеансе? Пока миссис Пайпер говорила, вращала глазами и вообще вела себя как старый негр, ее правая рука начала двигаться как бы сама по себе. Схватила ручку и начала записывать в тетради послание, которое ей диктовал еще один мертвец. Потом уж Чикита и Мундо узнали, что Леонора Пайпер как раз и отличается от большинства медиумов тем, что может служить проводником нескольким духам одновременно. Один говорит ее языком, а второй тем временем пишет ее рукой. Словом, уникальная женщина! Кармела, тоже очень хорошая ясновидящая, не умела делать ничего столь же сложного и, так сказать, изощренного. Пайпер вышла из транса, вырвала листок из тетради и отдала Чиките. Та так и обмерла. Письмо было написано на ее имя и на безупречном испанском. Почерком ее отца. Говорилось в нем вот что:
«Возлюбленная Чикита! Надеюсь, это послание застанет тебя, а также Сехисмундо и Рустику в добром здравии и расположении. У нас, к счастью, все идет превосходно. Сперва мы чувствовали себя несколько странно, скучали по особняку и стеснялись разгуливать в чем мать родила. Но мало-помалу привыкли к новому существованию и перестали тосковать по вашему миру. Знай, что мы с твоей матушкой преодолели разногласия, удалившие нас друг от друга в последние годы брака, и теперь близки, как никогда. И хоть считается, что здесь все равны и слуг не бывает, Минга взбунтовалась и не успокоилась, пока ей не позволили жить (назовем это так) с нами вместе. Она, видишь ли, осталась нам верна и после кончины. Хорошо бы Рустика оказала такую же преданность тебе. О твоей бабушке Лоле ничего не могу сообщить: расстояния тут огромные, и мы с ней редко встречаемся. Дедушку Бенигно мы и вовсе ни разу не видели; стало быть, он, может, еще обретается в Матансасе, бог знает что и где творит, лишенный рассудка. Прости, что не привожу подробностей нашего здешнего бытья. Здесь не принято об этом распространяться. Не запрещено, но, сама понимаешь, от вновь прибывших ждут скромности и молчания. Дорогое дитя, позволь воспользоваться случаем и посоветовать тебе, далее не раздумывая, наняться на работу к господину Бостоку. У меня предчувствие, что так будет лучше. Босток — прямой и честный джентльмен. Он доказал, что является добрым другом и защитником таких людей, как ты. Твоя мать просит передать: она надеется, что ты, несмотря на все прежние ошибки, остепенишься и выйдешь замуж как полагается. Они с Мингой тебя крепко целуют. И я тоже крепко-прекрепко целую тебя в лобик. Обожающий тебя отец Игнасио Сенда»[81] По завершении сеанса Леонора Пайпер отозвала Чикиту и заметила, что, если только она не ошибается — а это маловероятно, — гостья и сама обладает сверхъестественными способностями, только еще не успела их развить. Не слышит ли она голоса, не имеет ли видений? Не сбываются ли ее предчувствия? Леонора могла бы помочь ей научиться управлять своей силой и познакомить с существами из потустороннего мира, зачастую враждебными, капризными и своевольными. Но Чикита вежливо отказалась и, сославшись на то, что ее поезд в Нью-Йорк отправляется завтра рано утром, поскорее улизнула из лап ясновидящей.
В пути Чикита все время вспоминала разговор с Кукамбой и перечитывала письмо отца. Ее занимало, как это они независимо друг от друга советовали ей принять предложение Фрэнка Ч. Бостока, Короля Зверей. Или они сговорились? Следует ли ей послушаться духов и порвать с Проктором? В «Большое яблоко» Чикита возвращалась утомленной, вымотанной долгим путешествием, но она была довольна результатами турне, и мысль о том, чтобы сменить театральный водевиль на зоопарк, по-прежнему казалась ей нелепой… Под стук колес она закрыла глаза, сосредоточилась и попросила амулет великого князя Алексея подать ей знак, но тщетно. После возвращения к хозяйке золотой шарик ни разу не испускал искр, не теплел и не холодел. Чикита опасалась, что ей вернули не сам амулет, а искусную копию. В «Хоффман-хаус» они ступили как в дом родной. Мундо, не приняв ванны, кинулся в Бруклин к своему Косточке, Рустика принялась распаковываться, а Чикита уселась читать бесчисленные письма, открытки и телеграммы от Кринигана, посланные на адрес отеля, сплошь романтичные и полные клятв в вечной любви. После полугода разлуки ирландец по-прежнему изъявлял твердое намерение жениться на Чиките. Криниган считал, что рано или поздно Чикита передумает, примет его руку, а он готов ждать сколько надо. В одном из писем он божился, что, хоть в Гаване полно прелестных и весьма кокетливых креолок, он не притрагивался ни к одной женщине после расставания с Чикитой. Мгновения рядом с ней были незабываемы, и теперь он попросту не представлял себе романа с другой женщиной. Вот это постоянство, скажи? В наши дни так не влюбляются, но тогда еще встречалась подобная необузданная страсть, как в романах. Письма ирландца польстили Чиките, но она не передумала. Ее совершенно не влекла возможность заделаться миссис Криниган. В биографии прямо не говорилось, но я лично думаю, что она, вкусив свободы, приохотилась к ней и не собиралась жертвовать всем ради какого-то там мужа. Несколько дней Чикита и слышать ничего не хотела о работе и отказывалась принимать Проктора, который рвался подписать новый контракт и отправить ее в еще одно долгое турне по восточному побережью. Когда наконец встреча состоялась, Чикита ясно дала понять: отболтавшись три месяца кряду невесть где, она согласна выступать только в Нью-Йорке — можно во «Дворце удовольствий», можно в «Театре на 23-й улице». Импресарио стоял насмерть — или гастроли, или ничего. Чикита рассвирепела, и они разругались самым неблаговидным образом. На прощание Проктор пригрозил, что Чикита еще пожалеет о своем высокомерии: лилипутов, желающих на него работать, с избытком, а вот она вряд ли отыщет другого такого заботливого и терпеливого импресарио. Но и Чикита в долгу не осталась и свысока отвечала: она звезда, и от предложений у нее отбою нет, а он, если будет так любезен, пусть исчезнет из ее жизни раз и навсегда, поскольку видеть его физиономию она больше не может. Буквально десять минут спустя после перебранки в дверь постучали. Кто бы, ты думал? Босток, повелитель львов, с предложением пять месяцев работать на звериной ярмарке в Чикаго. По словам Чикиты, в ту минуту она еще пребывала в такой ярости, что схватила бумаги и, почти не читая, поставила размашистую подпись. Но, поостыв, вновь засомневалась, а прилично ли артистке, покорившей Нью-Йорк, Бостон и множество других городов, сделаться экспонатом зоосада. И эти сомнения перевесили даже соблазнительную мысль о куда лучших, чем у Проктора, гонорарах. Чикита разрыдалась, словно дитя. Босток взялся ее утешать, но она все не успокаивалась. Тогда он заявил, что, раз уж ее так коробит перспектива выступлений бок о бок со зверями в клетках, он готов разорвать контракт в клочья. Но пусть сперва хорошенько подумает. В конце-то концов, разве весь мир — не что иное, как большой зоопарк? И выдал целую теорию, над которой трудно было не задуматься. — Не обольщайтесь, мисс Сенда, — сказал он. — Вы, я, ваша служанка, президент Соединенных Штатов, мальчишка-газетчик, королева Лилиуокалани, отельный портье — все, все до единого, мы обитаем в зоопарке, хоть подчас того не сознаем. В человечьем зоопарке полно клеток разного размера, какие-то лучше, какие-то хуже, и мы занимаем ту, что нам полагается. Если вы женщина — на вас наложены одни ограничения, если мужчина — другие. То же с бедняками и богачами, людьми образованными и неграмотными, людьми среднего роста или теми, кто нескольких дюймов не дотягивает до вышины, которую принято считать «нормальной». Эти ограничения (назовем их обычаями, условностями или неписаными правилами) — и есть прутья невидимых клеток. В отличие от животных, мы способны сломить прутья, но, то ли по привычке, то ли из лени, из почтения к другим или страха перед мнением общества, мы редко на это идем. По большей части люди довольствуются переходом из узенькой клетки в клетку чуть пошире или краткой прогулкой на воле, после которой возвращаются за надежные прутья, сулящие безопасность. А знаете, Чикита, как вырваться из клетки? Единственный способ — познать действительность, понять, что мир — зоопарк и все мы — его часть. Это позволяет нам видеть жизнь под иным углом, преодолевать границы и пренебрегать многими предрассудками. Так что проявите благоразумие, полно жеманиться, зарабатывайте деньги и будьте уверены: зоопарк со зверями ничем не унизительнее человечьего. На Чикиту эта речь произвела сильное впечатление, но в книге она писала, что на окончательное решение ее натолкнуло другое: пока она слушала разглагольствования Бостока, талисман, столько времени остававшийся «мертвым», вдруг забился под платьем, как бы подсказывая, что именно по этому пути следует отправиться. И она поехала к Чикаго работать на ярмарке. Начался новый этап ее жизни. Но перед этим ее ждало еще одно непредвиденное путешествие, связанное с ее кузеном и Косточкой.
Через пару дней после подписания контракта с Бостоком Косточка получил известие о том, что его двоюродный дедушка приказал долго жить и оставил ему в наследство бар у себя в городке. Бедняга Мундо впал в совершеннейшую истерику. Он просто не знал, как поступить. Его жених хотел, чтобы Мундо уехал с ним, — они бы вели вместе бизнес и жили как супружеская пара. О лучшем он и мечтать не смел: в отличие от Чикиты, в его представлении высшим счастьем был «брак» с любимым мужчиной. Но он боялся принять предложение Косточки и тем самым предать кузину. Он чувствовал, что обязан следовать за Чикитой всюду — хоть в Чикаго, хоть в к черту на рога, — потому что некогда в Матансасе принес соответствующую клятву и был человеком слова. В результате Мундо стал чахнуть, потерял сон и аппетит и так исхудал, что едва не превратился во второго Косточку. Как-то вечером он попытался отравиться опиумом, но, по счастью, Рустика вовремя заметила, ему промыли желудок и спасли. И тут у Чикиты случился странный приступ великодушия. Вообще-то, такое поведение ей было несвойственно, она, скорее, предпочитала распоряжаться чужими судьбами как вздумается. Но Мундо она вдруг захотела освободить от клятвы, призвала в свидетели Рустику и Косточку и во всеуслышание объявила о своем решении. Я печатал эту главу и умилялся, как это слезы Мундо так смягчили сердце Чикиты. Но Рустика вывела меня из заблуждения. Просто Босток предупредил, что в зоопарке ей пианист не понадобится: все ее обязанности будут состоять в том, чтобы разговаривать с людьми, а случится необходимость сплясать — так сойдет и граммофон. «Она его отпустила, чтобы сэкономить на содержании», — прошипела Рустика, которая временами бывала той еще змеей подколодной. Кто знает, как оно там было на самом деле? Теперь уж нам не суждено понять. Чикита поинтересовалась у Косточки, а в каком городке у его двоюродного дедушки был бар. В одном городке в штате Миссури — отвечал тот живо. Хоть убей меня, названия не вспомню, но точно где-то у канзасской границы. Чиките мысль о переезде в такую глушь представлялась не только нелепой, но и попросту опасной. По Мундо и Косточке за версту было видно, на какую ногу они хромают, как бы они ни пытались это скрыть. Что им делать в какой-то деревне на Диком Западе, где мужчины повально отличаются грубостью, владеют огнестрельным оружием, управляются с дикими быками и харкают на пол? Косточка, заметив ее озабоченность, расхохотался и сказал, что в тех краях голубых ковбоев куда больше, чем принято думать. Он ведь там вырос и слышал множество таких историй. Например, про банду «Блю-Раззберри-Бойз»: эти грозные разбойники совершали набеги на разные городки, грабили местных жителей и похищали юношей. Связывали, приторачивали к седлам, а после соблазняли. Невероятно, но факт: многие из похищенных, когда злодеи добивались от родственников выкупа или им просто надоедало держать жертв у себя, наотрез отказывались возвращаться. Так уж им нравилось заниматься всякими странными делами с бандитами, что они руками и ногами сопротивлялись — лишь бы остаться в шайке. Чикиту история изумила, но Косточка на этом не остановился и рассказал кое-что еще любопытнее: в некоторые салуны вообще воспрещалось допускать женщин, чтобы ковбои могли там веселиться напропалую этаким междусобойчиком и никто им не мешал. Но все равно Чиките втемяшилось, что перед разлукой она должна удостовериться, что у кузена все в порядке и ему всего хватает, а потому решила поехать с ним в этот городок, названия которого по-прежнему не припомню. Они с Рустикой нехотя погрузились в поезд и через несколько дней прибыли в Канзас-Сити (который находится вовсе не в Канзасе, как можно было бы ожидать, а в Миссури[82]), а оттуда в дилижансе добрались до бара Косточки. Чикита вспоминала, что сердце у нее упало при виде захудалого кабачка. После смерти владельца в нем поселились громадные чесоточные крысы, не боявшиеся даже Рустикиной швабры. Но и Косточка не испугался трудностей. Он раздобыл парочку котов, нанял плотника починить двери и стулья, а они с Мундо выкрасили фасад. Салун решили переименовать. Угадай, как он стал называться? «Matanzas the Beautiful»[83]. В первый вечер посетителей случилось всего трое или четверо, но вскоре пронесся слух, что хозяева поят хорошим дешевым виски, а расфуфыренная карлица поет и пляшет на столе, да еще и показывает кончик кружевного подола, и люди стали стекаться не только со всего городка (ты подумай, голову сломал, а вылетело название — хоть ты тресни), но и из окрестностей. Скоро от клиентов отбою не стало. Чикита пела в салуне несколько недель и впоследствии рассказывала, что легко могла бы навсегда осесть на Диком Западе, потому что тамошняя сельская жизнь пришлась ей по вкусу. Неотесанные, казалось бы, ковбои весьма ценили ее искусство, дарили аплодисментами и даже пускали слезу, когда под аккомпанемент Мундо на дребезжащем фортепиано она заводила «Голубку». В занюханном городке раньше не видали таких элегантных и утонченных дам. Местные мужчины сходу влюблялись в нее и наперебой заваливали подарками — от норковых и лисьих шкурок до драгоценных камней и прочих украшений, неизвестно каким путем раздобытых. Там Чикита в первый и единственный раз в жизни каталась верхом — ей подарили смирненького карликового пони. Словом, чувствовала себя как рыба в воде. Но Босток телеграммой напомнил, что пора бы ей появиться в Чикаго, и Чикита с Рустикой и пони вновь пустились в путь. Эпизод прощания с кузеном вышел в книге чудовищно безвкусным. Чикита умоляла Косточку беречь Мундо, все обнимались, рыдали, в общем, сплошная мелодрама. К счастью, городок был не очень далеко от Чикаго, и путешествие оказалось не столь утомительным.
Чикита целых пять месяцев проработала в столице Иллинойса, но в биографии о том периоде едва упоминала. Несмотря на все теории Бостока о человечьем зоопарке и невидимых клетках, она так и не свыклась с близостью целой кучи зверья. Писала только, что в зоопарке имела большой успех, сотни чикагских семейств ежедневно приходили посмотреть на нее и заработала она немало. Что же она делала во время выступлений, если даже пианиста у нее не было? Когда я набрался духу спросить, то получил очень уклончивый ответ. «Развлекала публику, — сказала она. — Рассказывала про Кубу, показывала свои драгоценности и коллекцию старинных кружев». Как я ни старался, добиться подробностейне удалось. И от Рустики, кстати, тоже. Только господин Колтай, венгерский специалист по лилипутам и частый гость на приемах в Фар-Рокавей, сквозь зубы поведал мне, как было дело. «В Чикаго она разбогатела, — сказал он. — Народ все время рвался до нее дотронуться, и Босток стал брать по двадцать пять центов сверх цены за право пожать ей руку. Она согласилась при условии, что будет в перчатках. Выгодное дельце. В те времена на двадцать пять центов можно было много всего купить, но люди с удовольствием их выкладывали». Однако, по словам Колтая, Чикита, хоть и купалась в долларах, чувствовала себя невероятно униженной оттого, что ее имя на афишах значилось рядом с кличкой шимпанзе, не уступавшей ей в популярности. «В какие-то дни в павильон шимпанзе народ валил охотнее, чем к ней, и это приводило ее в бешенство, — нашептывал мне Колтай. — Вообрази, злые языки утверждают, будто она заплатила одному типу, чтобы тот свернул обезьяне шею, только он в последнюю минуту струхнул и вернул деньги»[84]. Для Чикиты то была разительная перемена. Всего несколько месяцев назад ее конкурентами числились «И Пикколини» и «Ди Лилипутанер», а тут за внимание зрителей приходилось сражаться с шимпанзе. Но, повторюсь, в книге об обезьянке и слова не было. Так уж Чикита действовала: про что хотела — говорила, про что хотела — молчала. Если уж на то пошло, всякий имеет право рассказывать о своей жизни как заблагорассудится, верно ведь? Не подумай, будто одна только шимпанзе не попала на страницы биографии. Была, к примеру, еще такая кубинка, страшно популярная в Штатах, Эванхелина Сиснерос. Херст и прочие газетчики в одночасье превратили ее в героиню независимости Кубы. История у нее нехитрая, так что я тебе расскажу целиком. Была она крестьянка, жила в Сагуа-ла-Гранде, и в один прекрасный день у ее отца, который работал весовщиком тростника на сахарном заводе, нашли припрятанное оружие. Его обвинили в заговоре против Испании и приговорили к смертной казни. Эванхелина горы свернула, чтобы его спасти, дошла до самой Гаваны и незнамо как добилась приема у Вейлера. И, надо думать, растрогала его, потому что старику заменили смертную казнь на пожизненную каторгу на острове Пинос. Эванхелина отправилась вслед за ним, и в скором времени военный комендант острова попытался ее обесчестить. Она стала отбиваться, раскричалась, разошлась, и на помощь ей кинулись политзаключенные. Это одна из версий. Другая утверждает, будто Эванхелина участвовала в заговоре: должна была заманить коменданта в тихое местечко, а оттуда бы его похитили. В общем, после этого случая ее выслали обратно в столицу, приговорили к двадцати годам тюрьмы и, пока она ждала отправки в Сеуту, посадили в Женский исправительный дом. Тут-то про нее начали писать американские репортеры и окрестили «Кубинской Жанной д’Арк». За несколько дней слава мисс Сиснерос облетела все Соединенные Штаты. Сама матушка президента Мак-Кинли возглавила движение за ее освобождение и собрала аж двести тысяч подписей в поддержку «кубинской мученицы». Даже папа римский, вообще-то сторонник Испании, вмешался и просил помиловать несчастную. И в разгар всей этой свистопляски Херст дал поручение одному из своих репортеров помочь Эванхелине бежать и вывезти ее в Штаты. Удивляюсь, почему по этой истории до сих пор не сняли кино, побег-то был самый что ни на есть голливудский: решетки на окне темницы подпилили, а девушку переодели матросом. Сам понимаешь, американцы неотрывно следили за ходом дела, как теперь следят за мыльными операми. В Нью-Йорке Эванхелину ожидал фантастический прием, несколько богатых дам вызвались ее удочерить, а Вашингтоне ее принимал лично Мак-Кинли[85]. Однако, как оно и бывает, когда пресса выжала все возможное из этого случая, то тут же позабыла о нем, и очень скоро Эванхелина осталась не у дел. Но ее триумфальное прибытие в Штаты пришлось как раз на те дни, когда Чикита готовилась отбыть на Дикий Запад. Так вот, в книге она об этом вообще не упоминала. Ни полслова! Думаю, Чиките ох как не понравилось, что на горизонте объявилась соотечественница, способная затмить ее славу. Такой уж она была человек: любого, кто мог с ней потягаться — хоть женщину, хоть мартышку, — старалась смести со своего пути. Зато она много распространялась о том, как по прибытии в Чикаго полюбила кататься на «тихом скакуне» (так тогда поэтично называли велосипед). Босток заказал ей велосипед по росту, и она крутила педали вокруг прудика в зоопарке. Дети визжали от восторга, а взрослые хлопали в ладоши. Рустика до смерти боялась этих катаний и зорко следила, как бы не случилось какой аварии. И все равно как-то вечером Чикита умудрилась столкнуться с ослом, и тот так лягнул ее в живот, что она вместе с велосипедом отлетела далеко в сторону. То-то было паники! Чикиту отвезли в больницу, где несколько часов она лежала без сознания. Многие думали, что Кубинскому Атому настал конец, но лилипутка оказалась выносливее, чем можно было подумать, и к полуночи, перебинтованная и расшибленная, пришла в себя[86]. И кого же она первым увидела подле своей постели? Патрика Кринигана! Он только что вернулся с Кубы, получив краткий отпуск, узнал, что Чикита работает в Чикаго, и захотел сделать ей сюрприз. Вот только сюрприз преподнесла ему она: он не ожидал застать ее на грани жизни и смерти. Чиките велели соблюдать постельный режим, и Криниган встретил новый 1898 год вместе с ней в больнице. Они откупорили бутылку шампанского и начали провозглашать тосты. За здоровье Чикиты. За ее успехи. За Кубу. «И за нашу любовь», — вдруг промолвил Криниган, выудил из кармана коробочку с бриллиантовым перстнем, опустился на колени и, точь-в-точь как год назад, попросил Чикиту выйти за него замуж. Рустика рассказывала мне, что, застав коленопреклоненного перед хозяйкой журналиста, окончательно убедилась в чистой и безумно сильной любви этого мужчины. Но Чикита опять отказала, и он с разбитым сердцем уехал в Нью-Йорк, а оттуда уплыл в Гавану. Чудо еще, что «Уорлд» дала ему отпуск, потому что на Кубе все менялось час от часу. Под давлением Соединенных Штатов Испания отозвала Мясника Вейлера, ходили слухи об учреждении автономного правительства, которое могло бы удовлетворить островитян и отвлечь их от мыслей о независимости. Вот только на Кубе никто не желал автономии: ни испанцы, ни тем более кубинцы, которым этот путь представлялся насмешкой после долгих лет борьбы за полную свободу. Так что Криниган вернулся в Гавану писать новые репортажи о боях, арестах и расстрелах патриотов, а Чикита осталась в Чикаго злобствовать и завидовать ученой шимпанзе.
В этой части книги Чикита много писала о Кубе и о том безумии, которое началось в феврале, когда в порту Гаваны взорвался американский броненосный крейсер «Мэн». Ужасная трагедия: там погибло больше двухсот пятидесяти офицеров и прочих членов экипажа. Само собой, Штаты обвинили Испанию и запретили ей участвовать в международной комиссии по расследованию, но испанцы яро защищались и настаивали, что взрыв произошел из-за поломок на судне. В Штатах поднялась волна негодования, люди ожидали от президента Мак-Кинли решительных мер. Независимость Кубы стала вопросом национальной чести. Через пару дней после взрыва образовалось множество добровольческих отрядов, готовых сию минуту отплыть на остров и биться с испанцами. Но Мак-Кинли всегда был против введения войск и продолжал забрасывать королеву Испании ультиматумами, чтобы та провозгласила независимость колонии и военного противостояния удалось избежать. Конгрессмены, занятые до «Мэна» вопросом аннексии Гавайев, забросили прежнюю тему и принялись спорить, не пора ли вторгнуться на Кубу — или предпочтительнее сохранять благоразумие и изыскивать мирные решения? Газеты писали, что новый генерал-губернатор не лучше Вейлера, и публиковали жуткие репортажи о подвергшихся «концентрации» крестьянах, которым испанцы подсыпали яд, и прочих варварствах. Херст и Пулитцер обеими руками поддерживали войну, ибо нет ничего лучше для газетчиков, и что ни день подливали масла в огонь своими посланиями «от редакции». Почти все сходились во мнении, что Мак-Кинли слишком уж тянет с объявлением войны Испании, и Вашингтон был вынужден просить граждан успокоиться. Поползли слухи о некоем секретном плане, имевшемся у президента, но огромное большинство американцев не желало дипломатических решений и прочих половинчатых ходов. Они хотели пуль и крови, хотели отомстить за мучеников «Мэна» и потому слали в газеты письма и стихи с требованиями военного вмешательства и свободы Кубе. В обстановке такого переполоха главные мировые державы направили представителей к Мак-Кинли с целью сгладить волнения и избежать войны. В те времена великих держав было шесть и все они находились в Европе: Англия, Франция, Австро-Венгерская империя, Италия, Германия и Россия. Соединенные Штаты еще не считались бойцом в тяжелом весе. Президент принял послов, выслушал, но никаких обещаний давать не стал. Он смекнул, что его не выберут на второй срок, если он и дальше будет нюнить, и потому поступил в соответствии со всеобщими ожиданиями: представил конгрессу доклад, в котором говорилось, что кубинское восстание затянулось и откладывать наступление независимости более нет возможности. Он попросил разрешения вторгнуться на остров и положить конец вражде. Вот так Соединенные Штаты объявили войну Испании. Чикиту поразила реакция людей. Она вспоминала, что сирены всех фабрик в Чикаго взвыли в поддержку войны, а во всех церквях начали бить в колокола. Люди на улицах обнимались и плясали от радости. Удивительно ведь, правда? Пацифизм еще не вошел в моду. Мак-Кинли объявил о наборе ста двадцати пяти тысяч добровольцев, и мужчины выстроились в очереди перед пунктами призыва. Ни у кого, правда, не имелось оружия, боеприпасов или там лошадей, но зато воодушевления было с избытком, а о мелочах не задумывались. Вообрази, до чего доходил патриотизм американского народа (или фанатизм, или сумасшествие, тут уж как посмотреть): несколько человек наложили на себя руки, когда их признали негодными к военной службе[87]. Чикита и Рустика тоже поддались ликованию и жадно прочитывали все газеты. Так они узнали, что Теодор Рузвельт отобрал тысячу добровольцев из пяти тысяч кандидатов для ковбойского полка под его личным командованием. Он и его люди мечтали как можно скорее высадиться на Кубе и ожидали лишь приказа президента. Тем временем американский флот устроил блокаду не только Кубе, но и Пуэрто-Рико. Но самая удивительная новость состояла в том, что Матансас подвергся обстрелу американского броненосца. Да, да, ты не ослышался. Крейсер «Нью-Йорк», стоявший на рейде, чтобы ни одно судно не вышло из бухты и не вошло, нанес артиллерийский удар по испанским укреплениям на суше. Один снаряд убил мула в форте Пеньяс-Альтас, а другой упал в булочную «Ла-Памплонеса», но, к счастью, не разорвался. Его потом перенесли в скобяную лавку «Беа» и много лет выставляли. Я в детстве сам его видел. Чикита, как и прочие кубинские эмигранты, лелеяла надежду, что американское вмешательство враз положит конец войне и повстанцы больше не будут истекать кровью на полях сражений. Она вспоминала своего брата-мамби, Хувеналя, и молила талисман великого князя Алексея защитить его. Хотя, если вдуматься, о какой защите от испанских пуль и эпидемий можно было помышлять, если талисман не смог уберечь саму Чикиту даже от ослиных копыт? А еще в те дни Чикита от души потешалась над Проктором: он, дурак, решил убрать из репертуара кубинский водевиль, опасаясь, что публике это наскучило, но интерес к Кубе не уменьшался, а, напротив, рос со дня на день.
Знаешь, кому еще Чикита уделяла много внимания в этих главах? Анархистам. Вскоре после несчастного случая с ослом и взрыва «Мэна», возможно, чтобы выкинуть из головы ирландца, она закрутила роман с одним чикагским юношей, по уши втянутым в профсоюзную борьбу. Чикаго имел славу города высокосознательных рабочих. Анархические идеи там пришлись ко двору, особенно после трагического Первомая 1886 года. Ты, наверное, знаком с историей семи мучеников, которых повесили по обвинению во взрыве бомбы, убившем нескольких полицейских во время митинга. А незнаком — так поищи в какой-нибудь книжке, потому что мне лично недосуг ее разжевывать. В общем, Чикита втюрилась в этого анархиста, смуглого красавчика, и тот начал каждый день захаживать к ней на ярмарку. Он приносил в подарок букетики фиалок, кульки карамелек, пропагандистские листовки и все в таком духе, потому что был очень беден. Любовь разгоралась, но Чикита не заикалась о своем романе Бостоку, поскольку не раз слышала, как тот на чем свет стоит ругает анархистов, и не хотела провиниться перед импресарио. Молодой человек по имени, если я правильно помню, Боб (а неправильно — ничего страшного, пусть будет Бобом) попался до ужаса языкастый и вечно трындел про права рабочих и про то, что нужно свергнуть власти, развалить монополии и покончить с Церковью. Голли, тот анархист, что убил испанского премьер-министра, был в его представлении не преступником, а героем. И он только улыбался в ответ на замечание Рустики: мол, Господь дает жизнь, значит, одному Ему позволено ее забирать. Боб, прилежный ученик Бакунина, апостола всех анархистов, придерживался иного мнения: если Бог есть, то единственное, чем Он может помочь правому делу свободы человека, — это перестать существовать. Чикита находила идеи любовника новыми, зачастую шокирующими, но весьма любопытными. Она ненавидела насилие, но предпочитала считать себя тоже немного «анархисткой». Не потому, что собиралась умертвлять аристократов, подобно Лукени, вонзившему напильник в сердце австрийской императрице Елизавете, а потому, что не позволяла никакой власти помыкать собой. Разве она не порвала с предназначенной ей судьбой и не рискнула всем ради артистической карьеры? Разве не доказала, что, даже будучи женщиной и карлицей, имеет право выбирать собственный жизненный путь? Может, потому они и любила часами беседовать и спорить с Бобом. Например, их мнения об американском вторжении на Кубу не совпадали. Она считала, что это жест великодушия, солидарности с борьбой кубинцев, а с точки зрения Боба, это был империалистический грабеж, столь же грязный и подлый, как план завладеть Гавайями. Мысль о мире без государств и правительств была довольно соблазнительной, но, как ни старалась, Чикита не могла вообразить себе ничего подобного. Если уж, имея законы, человечество выживает с огромным трудом, то после отмены таковых вселенная и вовсе погрузится в хаос, — считала она. А вот и нет, возражал Боб, ибо поменяется само мышление масс: когда исчезнет угнетение, все трудности сосуществования отпадут сами собой. Очень скоро Боб начал тайком проникать в номер отеля, где остановилась Чикита, с понятными намерениями. Правда, осуществить эти намерения было непросто, потому что, в отличие от Кринигана, у анархиста был не маленький ключик, а громадный ключище. Но, надо думать, как-то они приспособились друг к дружке, потому что радостно упивались своим романом, особенно Боб, который надеялся заполучить идеологическую сторонницу. Против воли Рустики он начал водить Чикиту на собрания в доме Люси Парсонс, едва ли не самой известной американской анархистки. Эта Люси Парсонс, вдова одного из чикагских мучеников, давала лекции по всей стране, и рабочие ее страсть как уважали. В одном очерке, написанном в Штатах, Хосе Марти назвал ее «никогда не плачущей мулаткой», потому что мать Люси была мексиканкой с африканскими корнями, а отец — индейцем, а еще потому, что после убийства мужа она не пролила ни слезы, по крайней мере на людях. В общем, миссис Парсонс начала увещевать Чикиту примкнуть к их рядам, выйти замуж за Боба и посвятить жизнь пропаганде идей анархизма. «Вы способны на многое, — говорила она. — Например, вы могли бы положить на музыку наши лозунги и распевать их в театрах по всей стране». Чиките опротивело, что все кому не лень норовят использовать ее в своих целях. Члены Кубинской хунты желали, чтобы она поддерживала мамби, королева Лилиуокалани хотела, чтобы она выступала против аннексии Гавайев, анархисты мечтали превратить ее в рупор своих идеалов… Откуда это стремление вечно мешать ее искусство с политикой? Она не имела ничего против любого из этих начинаний, но совершенно не собиралась вставать под их знамена. Однако Чикита не хотела враждовать с человеком, которым так восхищался ее Боб, а потому притворялась дурочкой и делала вид, что соглашалась с Люси Парсонс, когда та предлагала ей стать первой анархисткой-лилипуткой. В Чикаго Чикита познакомилась и с Эммой Гольдман. Та прибыла в город с лекцией, а накануне присутствовала на собрании у Люси. С первой минуты Чикита поняла, что еврейка и мулатка не пылают друг к другу безумной любовью. Сначала она подумала, что дело в соперничестве — они никак не могут поделить славу самой уважаемой анархистки Америки, но оказалось, взаимная неприязнь — плод идеологических разногласий. Гольдман на каждом углу кричала о преимуществах свободной любви, а Парсонс, напротив, всячески защищала брак, разумеется, на условиях равенства между мужчиной и женщиной и их общей готовности бороться плечом к плечу до последнего вздоха, покуда над миром не взовьется черный стяг анархизма. «Хватит быть рабынями рабов», — гласил лозунг Люси. В тот вечер, как обычно при их встрече, всплыла тема брака, и разгорелся столь ожесточенный спор, что они едва не вцепились друг другу в волосы. Гольдман пригласила Чикиту на свою лекцию, и та, желая удостовериться в великолепных, по слухам, ораторских способностей Эммы, отправилась туда вместе с Бобом. Сперва все шло гладко. В зал набилась куча народу, выступающую представили с большой помпой, и Эмма начала говорить. Сначала она коснулась вопроса помощи филиппинским патриотам в их борьбе с колониальной Испанией, затем — свободной любви, видимо, чтобы позлить Люси Парсонс. Но под конец в зал ворвалась полиция и принялась арестовывать всех подряд, ссылаясь на то, что собрание неразрешенное. В общем, Чикита оказалась в кутузке вместе с Эммой Гольдман и другими женщинами и не на шутку струхнула, как бы ей не вчинили обвинение в анархизме и не загубили карьеру. Но ей повезло: не прошло и часа, как явился Босток и вытащил ее из тюрьмы, и журналисты не успели разнюхать, что ярмарочная карлица замешана в таких делишках. Это и вправду было бы плачевно, но Чиките чудом удалось спастись. Однако ты, наверное, задаешься вопросом: как же Король Зверей разнюхал, в какую переделку она попала? Я вот тоже озадачился. Сама Чикита этого так и не узнала наверняка, но подозревала, что не обошлось без талисмана. С той минуты, как Эмма Гольдман ступила на трибуну, он вдруг начал вести себя странно, то холодел, то теплел невпопад. Так или иначе, своевременное появление Бостока стало для Чикиты доказательством, что ее отец и конго Кукамба не ошиблись, посоветовав ей работать на укротителя. После этого случая Чикита охладела к анархизму, и ее отношения с Бобом быстро сошли на нет. Стоял конец апреля, пребывание в Чикаго подходило к концу. Чикита продлила контракт с Бостоком еще на пять или шесть месяцев, с тем чтобы выступать на Всемирной выставке, вскоре начинавшейся в Омахе. Но перед этим попросила отпуск. Кто-то рассказал ей про Фар-Рокавей, и она, мечтая побыть у моря, отправилась туда. Сняла домик на самом берегу и несколько недель провела в уединении, не помышляя, что этот курорт станет приютом в ее старости. В Фар-Рокавей ее настигло известие о смерти Манон, зятя и единственного племянника от тифа. Письмо пришло от крестной Канделарии, одной из немногих оставшихся в Матансасе корреспонденток Чикиты. Горестная весть страшно удручила ее, но тем не менее она выехала в Омаху даже несколько раньше задуманного: нужно было найти аккомпаниатора и отрепетировать кое-какие танцы и песни. Международная выставка представляла собой зрелище классом повыше, чем зоопарк, и тут, чтобы обставить множество прочих диковинок, следовало завлекать публику чем-то особенным. Чикита надеялась, что работа заглушит боль утраты, и так оно и вышло.
Всемирная выставка в Омахе прошла у Чикиты на ура. Ее театрик стал одним из гвоздей программы на Мидуэе. Знаешь такое слово? Так гринго называют центральную аллею, которая есть на всех выставках и ярмарках. Там обычно показывают дрессированных зверей, бородатых женщин, метателей кинжалов, факиров, великанов и, само собой, карликов. Обстановка была совсем не такая, как во «Дворце удовольствий», но и не такая, как в зоопарке. Яркий, звонкий, причудливый мир. Чикита не слишком любила толпу и суматоху, но тут ей сразу понравилось. В Омахе ей вновь довелось петь и танцевать (пианист, конечно, Мундо и в подметки не годился, но худо-бедно свои обязанности исполнял), и она по-прежнему зарабатывала кучу денег. Большинство посетителей мечтали дотронуться до нее или получить какой-нибудь сувенир и платили за подписанную фотографию и право пожать ей ручку. А это сотни и сотни людей в день! Выставка работала с раннего утра до позднего вечера, и народ туда валом валил[88]. Там Чикита впервые увидела выступление Фрэнка Ч. Бостока и убедилась в его безрассудной отваге. Он запирался в клетке с уймой бенгальских тигров и помыкал ими, словно котятами. И при этом почти не пользовался кнутом, а воздействовал на хищников силой взгляда. Еще на выставке Чикита впервые в жизни сдружилась с прочими артистами. Она никогда не была склонна излишне доверять коллегам и слыла высокомерной и самовлюбленной. Но в Омахе как-то размякла, а в книге много писала о своих товарищах по Мидуэю, зачастую также нанятых Бостоком. К примеру, она сделалась не разлей вода с Селиской, шпагоглотательницей, и Розиной, заклинательницей змей. Все они были почти ровесницами, любили посплетничать и завели обычай вместе обедать в фургончике у одной из трех подруг. Я же не сказал: в Омахе Чикита жила в отеле только первые две недели. Поняв, что, заведя фургончик, как большинство артистов, можно здорово сэкономить, она тут же последовала всеобщему примеру. Странно, говоришь? А я думал, ты уже привык к ее странностям. Рустика скрепя сердце согласилась: не то чтобы ее отпугивали неудобства или грязь — скорее сама жизнь бок о бок со всякими странным людьми. И ее страхи можно понять: на выставке, куда ни кинь, попадались те еще чудеса. Среди прочих в Омахе работали: Мадемуазель Фло, двухголовая женщина; Конго, Мальчик-черепаха; Живой Скелет и Джита, татуированная женщина, у которой по всему телу было больше ста тысяч рисунков. Но и не к такому человек привыкает, и Рустика вскоре поняла, что большинство этих людей очень добросердечны, несмотря на выпавшие им страдания, а выставляются, поскольку не имеют других средств к существованию. В Омахе Чикита вела отнюдь не монашескую жизнь. Она то и дело меняла любовников, и первым оказался воин-сиу по имени Свирепый Орел, которого ей представила шпагоглотательница Селиска. Он приехал поучаствовать в Индейском конгрессе, проводившемся в рамках выставки. Всего туда съехалось больше пятисот человек из разных племен. Даже Джеронимо, знаменитый вождь апачей, почтил конгресс своим присутствием. Только не подумай, будто это мероприятие устроили, чтобы индейцы могли обсудить свои трудности (а трудностей было хоть отбавляй: белые американцы вконец обобрали коренные племена, лишили их земель и бизонов). Ничего подобного! Правительство задумало шоу, чтобы отметить десятую годовщину последней битвы с индейцами и создать впечатление, будто в Америке коренных жителей уважают и заботятся о них. В общем, участники конгресса в Омахе выставлялись, как и все прочие. Показывали людям свое платье, еду, вигвамы и торговали изделиями своих промыслов. Еще играли на музыкальных инструментах, плясали, скакали верхом и устраивали парады. Словом, это была живописная экзотика. Но роман Чикиты со Свирепым Орлом кончился, едва начавшись. Она быстро выпихнула Орла из своего гнездышка и заменила его Бархатной Рукой, карманником родом из Чикаго, который выискивал на выставке жертв. Сам знаешь, где народ кучкуется — ворам раздолье. Но и эта история продлилась недолго: полиция поймала Бархатную Руку с поличным и отправила за решетку. А вот с Цзинь Линфу — совсем другое дело. Эта любовь окутала Чикиту, словно столп пламени, и едва не испепелила. Цзинь Линфу, китайский фокусник, пользовался большой популярностью в Европе, но в Штаты приехал совсем недавно и турне начал как раз с омахской выставки. Он выступал не в одиночку, а возил за собой целую труппу музыкантов, жонглеров и танцовщиц. У себя на родине он выучился традиционной магии, и на Западе народ дивился его фокусам до невозможности. Никогда прежде зрители не видали столько чудес зараз. Да и все восточное тогда было в моде. В начале шоу маг открывал рот и начинал изрыгать огонь, а потом вытаскивал у себя изо рта длиннющий прут, футов в пятнадцать. А один из самых знаменитых трюков, от которого у людей волосы дыбом вставали, состоял в отрубании головы китайчонку. При виде такого многие начинали в ужасе голосить и звать полицию, но по мановению Цзинь Линфу мальчик вставал, брал свою голову, надевал обратно на шею и колесом уходил со сцены. Фокусник произвел фурор в Соединенных Штатах, но в конце гастролей, в Нью-Йорке, сильно дал маху. Он, видишь ли, отличался тщеславием и запустил в газеты следующее пари: он-де заплатит тысячу долларов каждому, кто повторит его трюки. Такая реклама, понимаешь? Но она ему боком вышла, потому что ни с того ни с сего один фокусник из Бруклина принял вызов и стал показывать в своем захудалом театришке в точности все, что делал китаец. Ни в чем не уступил. Ошибка Цзинь Линфу состояла в том, что он отказался выплатить сопернику тысячу долларов, и тот в отместку начал наряжаться китайцем и выступать под псевдонимом Чэн Ляньсу. Он подражал костюмам, репертуару, афишам незадачливого противника. И соперничество их длилось не один год, потому что вскоре Чэн Ляньсу стал разъезжать по тем же странам, куда отправлялся на гастроли Цзинь Линфу, и отбирать у него публику. Однажды в Лондоне им достались залы буквально по соседству, и страсти накалились до предела. К тому времени Чэн Ляньсу уже позабыл, что родители его родом из Шотландии, а сам он родился в Бруклине, и всех уверял, что настоящий китайский маг — это он, а Цзинь Линфу — лживый самозванец. Он даже отказывался говорить по-английски и давал интервью через переводчика. То ли валял дурака, то ли вправду сошел с ума — этого никто так и не узнал[89]. Газетчики, естественно, как голодные псы, набросились на соперничающих магов и придумали, чтобы оба китайца выступили на одной сцене, потягались в талантах, а уж зрители решат, за кем останется победа. Но явился на дуэль один Чэн Ляньсу, потому что Цзинь Линфу счел это верхом унижения, собрал вещички и отбыл из Лондона со всей труппой. Англичане объявили победителем бруклинца, и он совершил триумфальное кругосветное турне. Но все это произошло уже после романа Цзинь Линфу с Чикитой. Его шоу на выставке в Омахе имело бешеный успех, и зрители выходили из театра в совершенном ошеломлении. Однажды Чикита условилась со шпагоглотательницей и заклинательницей змей, и втроем они отправились посмотреть на китайца. Цзинь Линфу выплыл на сцену в пестром шелковом халате. Весь череп у него был выбрит, но с затылка до пяток свисала коса. По воспоминаниям Чикиты, мужчина он был высокий, худощавый и выглядел лет на тридцать[90]. Фокусы, как обычно, привели публику в неистовство, но в тот вечер маг напоследок совершил нечто неожиданное. Перед самым уходом со сцены он выдул ртом клуб пламени, и тот, словно огненный змей, устремился в зрительный зал и оплелся вокруг талии Чикиты, сидевшей в первом ряду. Она рассказывала, что ощутила лишь приятное тепло. После этого у Селиски с Розиной не осталось сомнений, что иллюзионист положил глаз на их подругу. И точно: уже на следующий день он нанес ей тайный визит. Да, забыл сказать: Цзинь Линфу был женат. Его супруга и ассистентка зорко следила за ним и до ужаса ревновала. Она заметно превосходила мужа по возрасту, но отличалась редкостной красотой, роскошно одевалась и никогда не появлялась без макияжа и украшений. Она подозревала, что Цзинь Линфу хаживает налево, но никак не могла застукать, потому что всякий раз, перед тем как улизнуть в фургончик к Чиките, тот заклинанием погружал ее в глубокий сон. Чикита писала в книге, что ночи с Цзинь Линфу были незабываемы, ведь в постели маг оказался не менее искусен, чем на сцене. Он знал, как заставить их тела парить в воздухе, и в полете осыпал ее самыми изощренными и головокружительными ласками. В минуты близости он называл Чикиту Лотосом Тропиков и пел, подыгрывая себе на чем-то вроде контрабаса с одной струной. Когда они впервые занялись любовью, случилось нечто любопытное. Не успели они раздеться, как китаец попросил Чикиту снять талисман, потому что, по его словам, от золотого шарика исходили сильнейшие флюиды, препятствовавшие его органам прийти в полную боеготовность. Чикита повиновалась, Цзинь Линфу присмотрелся к амулету и лукаво воскликнул: — Так Лотос Тропиков, стало быть, входит в секту маленьких людей! Чикита побожилась, что не знает, о чем он толкует, и попросила рассказать подробнее об этой самой секте. Тогда, чтобы никто его ненароком не подслушал, маг сделал несколько пассов, и фургончик наполнился красным дымом, таким густым, что его почти можно было потрогать. Лишь после этого он прошептал на ушко Чиките: — Не жди от меня подробностей. Даже то немногое, что я сейчас поведаю, может стоить мне жизни, того и гляди — найдут наутро окоченевшим, с языком, утыканным булавками. Знай, что в незапамятные времена такие люди, как ты, создали тайное общество и его силами не раз меняли ход истории. Оно и сейчас существует. Тебя пока еще не призвали, но вскоре ты вступишь в братство. Талисман не оставляет сомнений: ты одна из избранных. Чиките все это показалось каким-то бредом, но, с другой стороны, следовало признать: и книготорговец Розмберк, и детектив Свитблад перед смертью упоминали о существовании братства карликов. Если оно и вправду есть, очень возможно, что вдова Тома Большого Пальца и Граф Магри входят в его верхушку. Но каковы его цели? И какими средствами они достигаются? Убийство хозяина «Пальмы Деворы» и обоих детективов — дело рук его членов? И когда ее призовут, если, как сказал Цзинь Линфу, амулет связан с обществом? Маг, утомившись ее расспросами, щелкнул пальцами, Чикита разом онемела, и ласки продолжились в полной тишине. Впоследствии Цзинь Линфу больше не заговаривал о секте. «Не думай об этом раньше времени», — отвечал он, если Чикита начинала допытываться. Она послушалась и перестала терзаться. «Успею еще, если придется», — говорила она себе. Через некоторое время и этому роману пришел конец. То ли фокусник забыл наложить на супругу сонное заклятие, то ли оно не сработало. В общем, она не уснула, прокралась за мужем и увидела, как он проникает в фургончик Чикиты. Рустика сторожила снаружи, чтобы любовников не беспокоили, но китаянка в два счета обездвижила ее заклинанием. Может, она сама и не была волшебницей, но за годы возле Цзинь Линфу кое-чего поднабралась. Она ворвалась внутрь и застала Чикиту и фокусника голыми, возлежащими в обнимку на облаке красного дыма. И угадай, что же эта негодяйка сделала? Выхватила из-за пазухи склянку с серной кислотой и хотела плеснуть в лицо Чиките. К счастью, в эту минуту Рустика вновь обрела способность двигаться, вбежала и схватила мстительную китаянку за ногу. Та потеряла равновесие, выронила склянку и в результате опрокинула ее себе на лицо. Тут она так завопила и стала изрыгать такие проклятия (на китайском, разумеется), что весь Мидуэй сбежался посмотреть, в чем дело. Какое действие возымела серная кислота, осталось неизвестным. Цзинь Линфу сотворил еще одно заклятие и вместе с женой мгновенно растаял в воздухе. Но с того вечера она всегда носила густую вуаль. Одни утверждали, будто половина ее лица страшно обезображена. Другие, напротив, говорили, что кислота едва забрызгала ее и оставила лишь маленький ожог на мочке, но гордая китаянка не хотела показывать даже его. Во время шоу она тоже не снимала вуали. Как уж там после все утряслось, в дальнейших гастролях по Штатам или по возвращении в Европу, — не могу сказать. Но Чикита вспоминала, что до самого первого ноября, когда выставка закрылась, жена Цзинь Линфу не открывала лица. Скандал навредил бы и лилипутке, и магу, а потому любовники вынуждены были расстаться. Чикита в благодарность за спасение от серной кислоты велела Рустике просить всего, что та пожелает. И знаешь, что она попросила? Попросила хозяйку немножко передохнуть от мужиков, потому что фургончик превратился в проходной двор, и Рустике порядком надоела эта вечная беготня. У Чикиты было немало недостатков, но держать слово она умела и пошла навстречу Рустике. Сохраняла обет гораздо дольше, чем служанка смела надеяться. Если ты думаешь, что в Омахе Чикита перестала следить за мировыми событиями, то глубоко ошибаешься. Она обожала читать газеты. Всякий раз, берясь за свежий номер, она со смешанным чувством нежности и тоски вспоминала Патрика Кринигана и в первую очередь, естественно, выискивала новости о Кубе. За пять месяцев чего там только ни случилось. Наконец-то, после долгого ожидания приказа от президента Мак-Кинли, американские войска во главе с ковбоями Рузвельта высадились на острове, возле Гуантанамо. Там они вступили в первую битву с испанцами, одержали победу и двинулись на Сантьяго-де-Куба. Ковбоям, видимо, никто не рассказывал, какой на острове климат, потому что на войну они прибыли в шерстяной форме, а провиант их состоял из консервов, которые сразу же после вскрытия портились на жаре. Не подумай, будто в американском десанте были только белые. На Кубе воевали два полка негров, только про них никогда не вспоминают: «мужественные всадники» Рузвельта захапали себе всю славу. В общем, американские морские пехотинцы задали жару испанским солдатикам. В Испании набирали на службу шестнадцати- и семнадцатилетних сопляков и отправляли за океан, почти не научив стрелять. Премьер-министр Кановас дель Кастильо до того, как анархист Голли повстречался на его пути, заявлял, что Испания готова пожертвовать последним мужчиной и последней песетой — лишь бы не потерять любимую колонию. Тем временем Эстрада Пальма убедил вожаков мамби стать под начало американцев ради скорейшего достижения независимости. Но мамби даже представить себе не могли, что после падения Сантьяго-де-Куба янки не позволят войти в город отрядам генерала Калисто Гарсии. Это, конечно, была подлость с их стороны, потому что победа в немалой степени досталась им усилиями отважных партизан! Что, им трудно было войти в город одновременно с кубинцами? Но нет, они вознамерились убедить весь мир, что выиграли войну в одиночку всего за десять недель. Кроме того, они, видимо, стеснялись маршировать рядом с оборванными мамби. Я тебе так скажу: даже не вмешайся янки — независимости уже было не миновать. Ну, провоевали бы кубинцы еще год или три — все равно рано или поздно они выбили бы испанцев с острова. Но что есть, то есть, и никуда от этого не денешься: в глазах мирового сообщества победа досталась Соединенным Штатам. Под предлогом войны с Испанией американцы вторглись заодно в Пуэрто-Рико и на Филиппины. Когда Чикита работала в Омахе, испанцы признали поражение и был подписан Парижский мирный договор. В Париж, разумеется, не пригласили ни мамби, ни пуэрториканцев, ни филиппинцев. Испания признала договор, по которому не только обязалась навсегда вывести войска с Кубы, но и уступила США Пуэрто-Рико и Гуам. По Филиппинам они долго не могли прийти к соглашению, но в результате острова достались Штатам за двадцать миллионов долларов. Незадолго до того Мак-Кинли аннексировал Гавайи, и шесть мировых держав стали с большим уважением посматривать на Соединенные Штаты. Эта страна немного опоздала к разделу мира, но теперь требовала серьезного к себе отношения. В те дни Чикита часто вспоминала королеву Лилиуокалани, ярую противницу аннексии, и даже хотела написать ей и выразить сожаление в связи с потерей островами независимости. Но куда отослать письмо? Королева только и делала, что моталась по разным городам. Как и предсказывал Криниган, акула сожрала сардинок. Чиките эта новая манера Штатов заглатывать всякий островок на своем пути вовсе не нравилась. Чем-то издевательским от нее попахивало. Как если бы незнакомец вдруг вломился в ее фургончик и надругался над ней, не имевшей сил сопротивляться. Разве справедливо распоряжаться судьбами других, все равно — стран или людей, — только потому, что они лилипуты? К утешению Чикиты, не все американцы (узнала она из газет) соглашались с присоединением Гавайев и Филиппин. Одни усматривали в этом акт вандализма. Другие находили отвратительным, что к их стране теперь относятся новые и вовсе не белые расы и культуры. Можно подумать, мало мороки с неграми, которых еще обтесывать и обтесывать. — Ну уж на Кубе такого не случится, — заметила Чикита Рустике. — Американцы пробудут там, только пока мы сами не научимся управлять республикой. — Разве мы дураки какие? — возразила служанка. — Столько лет воевали — неужто не сможем управиться с этой самой республикой самостоятельно? — Неблагодарная! — упрекнула ее Чикита. — Не плюй в протянутую руку помощи! Из Омахи Чикита отправилась в Сан-Франциско и семь месяцев работала на очередной ярмарке у Бостока. Там она, к слову, встретилась с Лилиуокалани, утратившей всякую надежду на свободу Гавайев и сдавшейся. Теперь она лишь желала вернуть отобранные у нее лично земли или хотя бы получить компенсацию. Она засыпала письмами президента, сенат и конгресс, но никто не отвечал, и это здорово действовало ей на нервы. Королева пребывала в трауре. Несколько недель назад ее племянница, принцесса Каюлани скончалась в Гонолулу от странной ревматической лихорадки. «Она ведь вовсе не зарилась на трон, — поведала королева Чиките со слезами на глазах. — Может, ее отец имел такие виды, но не она». Лилиуокалани раскаивалась в том, что охладела к племяннице. «Вышло недоразумение. В тот вечер у миссис Пайпер духи посмеялись надо мной, сбили с толку своими наветами и рассорили с Каюлани, а она и мухи в жизни не обидела», — призналась она. До сих пор все попытки бостонской ясновидящей связаться с Каюлани в загробном мире и попросить прощения не приносили плодов. Ни один из духов-проводников Пайпер не мог найти принцессу в тамошних закоулках. И все же бывшая королева не теряла веры. Собственно, только верой и надеждой ей и оставалось жить. Она была прирожденная оптимистка и потому упорно продолжала добиваться прощения племянницы и выплат от Вашингтона. Из Сан-Франциско Чикита на четыре месяца перепорхнула в Кливленд, где также имела огромный успех. Босток на нее нарадоваться не мог. Попроси Чикита луну с неба — достал бы. Но когда он захотел отправить ее на следующую выставку в Филадельфии, Чикита заявила, что совсем заработалась и собирается взять долгий отпуск для путешествия по Европе. На укротителя эта новость подействовала, словно ушат холодной воды, но он принял доводы Чикиты и не стал ее удерживать. Тогда она поехала в Нью-Йорк, где остановилась против обыкновения не в «Хоффман-хаусе», а в куда более шикарном «Вальдорфе». После нескончаемых фургончиков на нескончаемых Мидуэях хотела окунуться в роскошь. Не зря же, право, она месяцами горбатилась, пела, плясала, подписывала портреты и пожимала руки тысячам незнакомцев. В «Вальдорфе» она узнала от господина из Кубинской хунты (того, что с бородавкой на носу), что ее брат Хувеналь умер от перитонита вскоре после возвращения в Матансас в чине капитана. Бедняга столько воевал и так и не увидел Кубу полностью свободной. Ведь в ту пору над крепостью Морро еще развевался американский флаг: Куба стала республикой только в 1902 году. Для Чикиты это был тяжелый удар, но, вместо того чтобы скорбеть, она призадумалась о том, как скоротечна жизнь и как важно успеть урвать от нее все. «Сначала Манон, теперь Хувеналь, — сказала она Рустике. — Кажется, мы, Сенда, обречены юными покидать этот мир». И тут же решила наслаждаться жизнью на полную катушку, пока не придет ее черед сыграть в ящик. Перед тем как погрузиться на трансатлантический лайнер до Франции, Чикита постаралась выяснить, что сталось с Криниганом. Он ей больше не писал, а в «Уорлд» перестали выходить его статьи. Она позвонила в редакцию и узнала, что после войны он уволился и остался жить на Кубе. Кажется, обретается в Гаване и дает уроки английского. Потом Чикита переходила к описанию путешествия: корабль, мол, был прекрасный, плавание — спокойное, и вскоре они с Рустикой благополучно высадились в Гавре. Еще из Нью-Йорка она послала телеграмму Прекрасной Отеро и предупредила, что несколько недель пробудет в Париже, и та в ответ предложила ей свой hôtel particulier[91], намекая, что обидится terriblement[92], если Чикита вздумает остановиться где-то еще. И тут я замолкаю, потому что, к счастью для тебя и особенно для меня — что-то я подустал шевелить извилинами и вспоминать Чикитины приключения, — главы двадцатая и двадцать первая избежали горькой участи и спаслись от урагана и от моли.
Глава XX
Чикита наблюдает триумфальное выступление соотечественника на Олимпиаде. Прекрасная Отеро показывает ей Париж. Визит к Тулуз-Лотреку и печальная история Ла Гулю. В «Павильоне муз» у графа Робера де Монтпескью. Сплетни от аргентинского «секретаря». Гипсовая богиня для Всемирной выставки. Булонский лес. Мудрые советы дамы полусвета Эмильены д’Алансон.Engarde![93] Фехтовальщики выставили шпаги и обменялись вызывающими взглядами сквозь щели масок. Один, широкоплечий белокурый мужчина с квадратным подбородком, держал шпагу в правой руке. Его молодой противник — в левой. Это был высокий худой черноглазый и черноволосый юноша, которого, казалось, совершенно не волновало, на чьейстороне симпатии публики. Êtes-vous prêts?[94] 14 июня 1900 года Чикита сидела в первом ряду битком набитой трибуны в саду Тюильри и следила за финалом соревнований фехтовальщиков на парижских Олимпийских играх. Чемпион Франции Луи Перре сражался с семнадцатилетним кубинцем Рамоном Фонстом, выигравшим все предыдущие туры без единого туше. В ожесточенной борьбе за золотую медаль все решал один удар. Allez![95] Шпажисты смерили друг друга взглядами, и более плотный француз ринулся на соперника. Юноша пригнулся, ушел от удара и легко, словно в танце, вымоченным в краске наконечником шпаги оставил пятно на белоснежной куртке Перре. Зрители зааплодировали элегантному выпаду, однако судьи не сочли его чистым и не засчитали. Маркиз де Шасслу-Лоба, уважаемый спортсмен, сидевший возле Чикиты, предрек, что юному Рамону будет весьма сложно победить Перре. — И не из-за недостатка ловкости, — пояснил он. — Gamin[96] чертовски проворен. Нет, трудность представляли, скорее, несколько путаные правила боя. Кроме того, судьи отказывались верить, что антильский забияка сможет обойти чемпиона Франции. Вновь послышалось: Engarde! Теперь уже Фонст стремительно бросился в атаку и поразил противника в предплечье. На сей раз судьи спорили так долго, что кое-кто из публики начал их освистывать. В конце концов удар снова не засчитали. Маркиз закатил глаза и возмущенно фыркнул: — Merde alors![97] Парень два раза попал в цель, а эти кретины не желают признать победу. Кубинец явно сердился, но старался сохранять спокойствие. Он вновь принял стойку и после сигнала к началу боя стал делать ложные выпады и перемещаться взад и вперед по арене. Вдруг Перре порывисто выставил шпагу, пытаясь нанести удар, но Фонст опередил его и в третий раз запятнал краской белую куртку, прямо в середине груди. Зрители восторженно взревели, а Чикита в шуме и гаме печально задумалась о мимолетной судьбе кумира. За считаные минуты Перре лишился почитателей. Как только судьи признали победу кубинца, все кинулись его качать. Чиките хотелось подойти и поздравить земляка. Но в сумятице это представлялось совершенно невозможным. — В Париже я перевидала много удивительного, — прокричала она поверх всеобщего улюлюканья маркизу де Шасслу-Лоба. — Но удивительнее всего сегодняшнее событие: кубинский д’Артаньян завоевал олимпийское золото! И, заключив, что от города света она взяла все, что можно, Чикита вернулась в отель и велела Рустике паковать чемоданы. Они провели в Париже пять весьма насыщенных месяцев. Более чем достаточно.
В середине января Прекрасная Отеро любезно распахнула перед Чикитой двери своего hôtel particulier на авеню Клебер. В самый день приезда она усадила гостью в обитый голубым атласом экипаж, подарок одного из самых щедрых ее любовников, американского миллионера Вандербильта, и повезла показывать Париж, ставший ей второй родиной, уснащая экскурсию разными экстравагантными замечаниями. Начали они, естественно, с Триумфальной арки, поскольку испанка жила совсем рядом. Оттуда по Елисейским Полям добрались до площади Согласия. Чикита в детстве прочла книгу о Французской революции и теперь живо представляла, как катятся с эшафота окровавленные головы Людовика XVI, Марии-Антуанетты и мадам Дюбарри, но Прекрасная Отеро не дала ей погрузиться в исторические фантазии и быстро велела кучеру отправляться в квартал Мадлен, чтобы показать Чиките лучшие рестораны. Потом они проехались перед «Гранд-опера» («Правда, похожа на гигантский свадебный торт?»), перед «Комеди Франсез» («Никому не говори: Расин — лучшее снотворное»), перед Пале-Рояль («Здесь жил кто-то знатный, точно не помню») и, разумеется, перед «Галери Лафайет». Затем вывернули на улицу Риволи, обогнули Лувр и по набережной Сены добрались до Йенского моста, чтобы взглянуть на Эйфелеву башню. Отеро рассказала Чиките, что многие парижане до сих пор не могут привыкнуть к этому сооружению и находят его отвратительным. «Некоторые даже глаза завязывают, проезжая мимо, — заметила она со смешком. — А мне очень даже нравится». И сравнила башню с долговязой, костлявой и неуклюжей дамой, которая тем не менее обладает неизъяснимым шармом, — а ведь таких немало. «К „Мулен Руж“», — бросила она кучеру, не удосужившись справиться, не устала и не заскучала ли Чикита. Они проехали полгорода, только чтобы мельком глянуть на знаменитое кабаре на Монмартре, видевшее многие успехи Отеро, и та засобиралась домой: «На сегодня хватит. Вечером я выступаю в „Мариньи“, и ты обязана на меня посмотреть». Чикита не замедлила убедиться, что благоговение парижан перед Каролиной Отеро — никакая не выдумка. Спектакль состоял из нескольких номеров — в нем участвовали комики и шансонетки, шпагоглотатели и дрессированные собачки, — но гвоздем программы стала одноактная пантомима «Фиеста в Севилье». Сюжет ее был донельзя прост: тореадор погибает от рук ревнивой возлюбленной, когда она узнает о его романе с цыганкой Мерседес, в роли которой и выходила Отеро. В самом начале она исполняла песенку, а потом все сводилось к пантомиме и танцам. Публика не сомневалась, что перед ней — воплощение страстной андалузки (на самом деле Отеро была чистокровной галисийкой), и устроила овацию, когда артистка появилась на сцене в куртке матадора, расшитой драгоценными камнями. Чикиту привел в восхищение не сам наряд, чересчур кричащий на ее вкус, а то, как грациозно Отеро движется, таща на себе такой вес. Но самое интересное случилось в конце, когда занавес раздвинулся, и Прекрасная вышла на поклон. Супруга одного влюбленного в актрису господина вскочила со своего места в партере, выхватила револьвер, спрятанный в рукаве фасона «жиго», и выстрелила в соперницу. К счастью, в цель она не попала, но скандал разразился грандиозный. — Великолепно! — воскликнула Отеро по дороге домой. — Стараниями этой идиотки у нас будут аншлаги до конца сезона. А знаешь, что смешнее всего, Чикита? У меня никогда ничего не было с ее муженьком. Он считай что босяк, даже без счета в «Картье»!
За три года, прошедшие со встречи с Чикитой, Отеро утвердилась в статусе одной из самых желанных и дорогих demi-mondaines Парижа. По ее собственным словам, только Эмильена д’Алансон и Клео де Мерод могли с нею сравниться. С обеими она состояла в прекрасных отношениях и делила нескольких любовников. Некоторые самонадеянные особы тешили себя мыслью, будто входят в тот же круг, но в действительности были всего лишь банальным ветреницами с претензией на величие. «Да, дорогая, нужно знать себе цену и мужчин иметь немного, но богатых, — поучала Отеро Чикиту. — Будешь слишком разбрасываться — прогадаешь». Каролина, несомненно, купалась в любви сильных мира сего и рыбешек помельче. Один журналист недавно написал статью с предложением выставить ее как национальное достояние на вскоре предстоящей Всемирной выставке. И он не шутил! Престиж мужчины, которому удавалось зазвать ее на чашку чая в отель «Ритц» или на ипподром «Лоншан», мгновенно подскакивал до небес. Полненькая, вечно вооруженная милым моноклем Мими д’Алансон была само очарование, а самая юная из трех Клео сводила мужчин с ума детскими ямочками и аристократическими манерами, но ни та ни другая не могли похвастаться тем, что собрали у себя за столом с полдюжины европейских монархов. Это отнюдь не преувеличение: в день тридцатилетия Каролины Отеро «Максим» закрылся на частное празднование, чтобы танцовщице не мешали отметить рождение в компании Леопольда II, кайзера Вильгельма, императора Николая II, князя Монако Альбера, принца Уэльского и короля Испании Альфонса XIII. — Мы чудесно провели время, я танцевала для них босая, и они завалили меня подарками, — рассказывала Отеро. — Только я волновалась, ведь в конце вечера мне предстояло выбрать, с кем отправиться в постель. Но как никого не обидеть? К счастью, они сами все решили. Выбрали Альфонса XIII как самого молодого. Отличный выбор! В ту ночь король Испании вошел в мою спальню мальчишкой, а вышел самым что ни есть настоящим мужчиной. Чикиту очень удивило, с каким презрением ее гостеприимная хозяйка относится к «фее электричества». Но потом она узнала, что все аристократы и эстеты предпочитают сохранять верность свету свечей. Каролина не признавала и телефон, поскольку, в ее представлении, отвечать на звонки полагалось прислуге. Телефон как модная и дорогая новинка у нее, конечно, имелся, но пользовалась она им редко, общаясь с друзьями посредством записок, посланных с кучером. На людях Отеро всегда появлялась в дорогих нарядах от Ворта и мадам Пакен, но дома любила небрежность, забывала о каблуках и корсетах и расхаживала простоволосой, в пеньюаре и шлепанцах. Все утро спала, а пробудившись, неизменно выпивала рюмочку анисовки и раскладывала пасьянс. Каролине втемяшилось, что Тулуз-Лотрек будет счастлив написать портрет Чикиты, и очень скоро она привезла подругу в его студию. Художник, сидевший в инвалидном кресле, встретил их в скверном настроении. От него несло спиртным. Он накладывал последние мазки на холст, изображавший Мессалину, и вскоре выяснилось, что, кроме малого роста, у них с Чикитой нет ничего общего. Словом, Тулуз-Лотрек повел себя столь грубо и высокомерно, что визит продлился недолго. — Не суди его строго, — оправдывала приятеля Отеро. — Он только что вышел из сумасшедшего дома и утратил joie de vivre[98],— по мнению куртизанки, все несчастья низкорослого художника происходили от безумной любви к жестокосердной танцовщице Луизе Вебер, более известной под прозвищем Ла Гулю — «Обжора». Эта бабенка, в юности работавшая прачкой и натурщицей, стала королевой «Мулен Руж», потому что умела плясать канкан бесстыже, как никто: она высоко задирала ноги в черных чулках, и зрители прекрасно видели все, что находилось у нее под юбками. Тулуз-Лотрек написал несколько ее портретов, влюбился без памяти и терпеливо сносил все ее насмешки. К несчастью, Обжору привлекали больше дамы, чем господа. Однако это не помешало ей в один прекрасный день забеременеть, после чего она была вынуждена покинуть кабаре и оставить карьеру танцовщицы. После родов никто не брал ее на работу. Ла Гулю с горя запила, вконец отощала и нанялась в захудалый цирк, где ее выставляли в клетке, словно дикого зверя. Всякий раз, когда зрители кидали монетку в жестяное блюдце, она задирала ногу, как в лучшие времена в «Мулен Руж». Дабы избавить ее от таких унижений, Тулуз-Лотрек предложил ей руку и сердце, но она ответила, что предпочитает нынешнее жалкое существование супружеству с недомужчиной. Тогда художнику оставалось только ярко разукрасить стены фургончика, в котором она следовала за цирком по городам и весям. После такой любовной истории как не ожесточиться? Чтобы сгладить дурное впечатление, Отеро отвезла Чикиту в Нейи, пригород Парижа. Там в особняке под названием «Павильон муз» обитал граф Робер де Монтескью, которого Каролина представила как «прекрасного писателя, самого изысканного человека во Франции и апостола бонвиванов». Граф счел Эспиридиону Сенду simplement charmeuse[99] и тут же позвал Габриеля Итурри, своего секретаря и любовника, аргентинца по происхождению, с ней познакомиться. Чикита была приятно удивлена, узнав, что Монтескью очень дружен с Сарой Бернар, а все, в свою очередь, удивились тому, что и она не понаслышке знакома с Божественной. — Она сейчас репетирует «Орленка», новую пьесу, написанную нашим дорогим Ростаном специально для нее, и ужас как нервничает, — сообщил граф. — И неудивительно! — заметил аргентинец, поглаживая породистого кота, устроившегося у него на коленях. — Ей предстоит сыграть герцога Рейхштадтского, сына Наполеона. — Только не это! Опять мужчину?! — вырвалось у Отеро. Мужчины многозначительно кивнули, и Монтескью посетовал, что Бернар в последнее время слишком уж пристрастилась в мужским ролям. — В прошлом году был Гамлет, а раньше — Лоренцаччо у Мюссе, — припомнил он колко. — Она утверждает, что больше не пишут хороших женских ролей, но если так будет продолжаться, люди подумают, что она амфибия. Все расхохотались, кроме Чикиты, не уловившей суть шутки, и Итурри, перейдя на испанский, объяснил ей: — Так тут называют трибад. — Ах вот оно что! — воскликнула Чикита и тут же поинтересовалась: — А она разве трибада? — Это, дорогуша, что называется, une bonne question[100],— ответил Монтескью, прикрыл глаза и поправил цветок в петлице. — Сара пару раз попробовала, но это не любимое ее амплуа. Разумеется, в последнее время лесбиянки в моде, и все больше женщин примеряют золотые крепиды Сафо — от благородных девиц до кокоток. — Не говорите за всех, — возразила «андалузка». — Признаюсь, и я вкушала этот плод, но нашла его пресным и более к нему не прикасаюсь. — Мы прекрасно знаем, что вы ничего не забыли на острове Лесбос, — успокоил ее аристократ. — Я, скорее, имел в виду Вальтесс де ла Бинь, Мими д’Алансон, Лину Кавальери… — Ах, замолчите! — наигранно простонала Отеро и зажала ладонями уши. — А то от следующего имени у меня, чего доброго, разыграется мигрень! Итурри взял беседу на себя и принялся перечислять свежие сплетни. Начал он с того, что на Монпарнасе открылось некое элегантное закрытое заведение, где господа за кругленькую сумму получают возможность наблюдать любовные игры юных девиц с крупными псами и обезьянами. И кто же числится среди первых клиентов? Месье Эдвардс, газетный магнат. — Гадкий тип! — фыркнула Отеро. — Недавно мы случайно столкнулись в «Ритце». Сперва он битый час бубнил про необходимое отделение Церкви от государства, а потом не постеснялся пригласить меня к себе. Хотел, чтобы я у него на глазах испражнилась на блюдо, а он бы съел получившееся золотой вилкой! — Но, та belle[101],— несколько раздраженно сказал Монтескью, — всем известно, что Альфред Эдвардс знатный копрофаг. — Кто?! — удивилась «андалузка». — Буквально: говноед, — для быстроты пояснил Итурри и перешел к прочим сплетням. Бони де Кастеллан так устал от своей американской благоверной, что каждому встречному и поперечному рассказывает, будто их супружеская спальня — «камера пыток». Каков парадокс! Мужчину, столь преданного красоте, капризы судьбы вынуждают жить с уродливой миллионершей. А вот какая незадача приключилась с Жаном Лорреном, писателем, который подводит глаза тушью, чтобы казались глубже и таинственнее, и при всяком удобном случае поливает Отеро грязью в своих очерках: этот недоумок пригласил перекусить водопроводчика — грубого, но suprêment beau[102],— который делал какие-то починки у него дома. И накормил начиненными эфиром пирожными, чтобы отупить беднягу и насладиться его причиндалами. Но когда он уже спустил с водопроводчика брюки и увлеченно облизывал то самое, работяга очнулся и в бешенстве едва Лоррена не задушил. В тот же вечер писатель был зван на вечер оперы у виконтессы Трепен и, чтобы скрыть следы ручищ водопроводчика на шее, от кадыка до ключиц укутался в алый бархатный шарф, да еще убедил всех, будто это новая мода. Кроме того, Итурри рассказал новости про статую вышиной в двадцать шесть футов, которую должны установить у входа на Всемирную выставку, — богиню, стоящую на золотом шаре и символизирующую город Париж. По слухам, Клео де Мерод написала в комитет по устройству выставки и безвозмездно предложила себя в качестве натурщицы. Но господа из комитета лишь вежливо поблагодарили и пообещали, что будут иметь ее в виду, а пока рассматривается несколько кандидатур. Вскоре Чикита перестала слушать болтовню Итурри и стала рассеянно разглядывать коллекцию ваз Галле, украшавшую гостиную, но, разобрав в разговоре имя Альфреда Дрейфуса — поговаривали, он недавно подхватил ужасную простуду, — снова навострила ухо. В Штатах она много читала об этом капитане, еврее по происхождению, обвиненном в шпионаже в пользу Германии, приговоренном к пожизненному заключению и сосланном на жуткий Чертов остров в Гвиане. Его защитники, в том числе Эмиль Золя, добились повторного процесса, на котором Дрейфусу вновь вынесли обвинительный вердикт. Однако новый президент Франции, Лубе, его помиловал, и Дрейфус помилование принял, хотя оно не означало признания его невиновным, и с тех пор уединенно жил вместе со своими сестрами в городе Карпантра. — Неверный ход, — высказался граф. — Ему следовало дождаться полного оправдания. Зачем принимать прощение, если ты ни в чем не виноват? — Легко говорить тому, кто не сидел годами в одиночном заключении и имеет отменное здоровье, — парировала Отеро. — Впрочем, после выздоровления он продолжит борьбу и докажет свою невиновность. Все тут же пожелали узнать мнение Чикиты о Дрейфусе. Это вам не пустяки: вся нация разделилась на два непримиримых лагеря. Присутствовавшие, как и большинство писателей, художников и прочих творческих людей, были dreyfusards, то бишь выступали за новый процесс, чтобы Дрейфуса оправдали и вернули ему капитанские погоны. Присоединится ли Чикита к их рядам? Ей пора определиться, ведь, куда она ни направится, люди повсюду станут спрашивать, какова ее позиция, и относиться как к союзнице или как противнице. Отеро очень просто решила для себя вопрос: «Уживаешься с евреями — значит, ты за, а желаешь, чтоб они сквозь землю провалились, — против». — На чьей стороне Бернар? — спросила Чикита. — На стороне Дрейфуса, естественно, — ответил граф. — Тогда и я на его стороне. После этого страсти улеглись, и Итурри продолжал скармливать гостьям сплетни. Визит оказался весьма поучительным для Чикиты: теперь она знала, что больше всего на свете все изысканные парижане любят перемывать косточки друг другу. Дома Прекрасная Отеро справилась у Чикиты, какое впечатление на нее произвели граф и его секретарь. «Оба очень приятные собеседники, особенно месье де Итурри», — отвечала лилипутка. «Ах да, этот гаденыш пообтесался и научился вести себя очаровательно, — вздохнула Каролина. — Когда он только приехал в Париж, то торговал галстуками в бутике „Карнаваль де Вениз“, но барон Доазан вытащил его из лавочки и сделал своим любовником. Продлилось это недолго: Монтескью вцепился в него мертвой хваткой, увел у барона и в попытке придать аристократизма приставил к фамилии „де“. Вот это я называю удачей: приезжаешь из Аргентины голый и босый, а попадаешь в постель к потомку д’Артаньяна. Но никому ни слова! Хоть, по слухам, граф всего однажды был с женщиной (кажется, с самой Бернар) и после целые сутки мучился рвотой, он не раз вызывал на дуэль тех, кто клеймил его содомитом».
Нина (так называли Каролину Отеро близкие друзья) отложила прогулку по Булонскому лесу до тех пор, пока Чикита не обзаведется подходящим туалетом. В конце концов, именно там tout Paris[103] принимает или отвергает новичков. Первое появление в Булонском лесу должно быть безупречным. Поэтому она отвезла Чикиту в maison de couture[104] мадам Пакен на Рю-де-ля-Пэ и сдала модельерше. Пока помощница снимала мерки, Пакен взволнованно сообщила, что ее только что избрали председательницей Модного комитета Всемирной выставки. Ей поручено одеть гипсовую богиню, и она намеревается поразить публику чем-то необычайно драматичным. «Черное платье в стиле „принцесса“ с безумным количеством пуговок на спинке и длинная-предлинная горностаевая мантия», — мечтала она вслух. — Уже решили, кто будет позировать для статуи? — равнодушным тоном осведомилась Отеро, изучая свои длинные отполированные ноготки. — Нет еще, — ответила Пакен. — Кандидаток несколько, но кого выберут, неизвестно. Я так понимаю, Клео сама предложила свои услуги, и Мими тоже, и… — Да, да, — оборвала ее «андалузка», снова боясь услышать ненавистное имечко, — надо думать, многие готовы на все, лишь бы их выбрали. — И я в них камня не брошу, — заметила мадам Пакен. — Эта скульптура будет представлять всех парижских красавиц. Позировать для нее — огромная честь, — после чего лукаво спросила: — А ты, дорогая, не хотела бы подарить статуе свое личико и фигуру? — Мне ни к чему эти уловки, — отвечала Каролина. — У меня и без статуи забот полон рот. К примеру, сегодня днем я принимаю Лео, а вечером ужинаю с Берти. Чикита уже кое в чем разбиралась. Лео — это король Бельгии Леопольд II, самый богатый человек в мире, а Берти — принц Уэльский, пятидесятилетний бонвиван, любитель приключений, которого маменька, королева Виктория, снабжает огромными средствами — лишь бы путешествовал по миру и держался подальше от Лондона. Но также Чиките было известно, что после возвращения от Монтескью Нина первым делом написала записки всем своим влиятельным друзьям с просьбой замолвить за нее словечко в споре о выборе натурщицы. Как только достойный Булонского леса наряд был готов, Чикита и Прекрасная Отеро отправились на прогулку. Чикита была поражена. Она и вообразить не могла, что в одном месте может собраться столько знати, представленной в большинстве своем элегантными красавцами и красавицами. Одни катили в каретах, другие гарцевали верхом, а множество оригиналов взгромоздилось на трехколесные велосипеды… Среди последних было и несколько дам, облаченных в смелые широкие панталоны! Лес представлял собой лабиринт тропок под сенью вековых деревьев, садов, прудов с лебедями, пергол, беседок и кафе, до отказа забитых аристократами, плебеями-миллионерами, артистами, политиками, военными, девицами на выданье и кокотками… Тот, кто не появлялся в Лесу, не существовал для общества. Все желавшие отметиться в качестве значимой фигуры — обладатели «старых» и «новых» денег, кумиры публики, словом, все, кто хотел пробиться в избранные, — вынуждены были как можно чаще дефилировать по аллеям. Они прогуливались по тенистым дорожкам, щеголяли нарядами и драгоценностями, любовались друг дружкой, отвешивали комплименты и зубоскалили. Любознательной Чиките лес казался бурным морем, в которое, словно полноводная река, впадали Елисейские Поля. Они с Отеро вышли из экипажа в мехах от Дусе и огромных шляпах, украшенных цветами, фруктами и лентами, и, постукивая каблучками, направились к водопаду, одному из самых оживленных уголков леса. «Выпрямись, дорогая, на нас все смотрят», — прошипела куртизанка и, подавая пример, глубоко вдохнула и выпятила грудь. На них не просто смотрели (одни с восхищением, другие с завистью, третьи с удивлением), но и подходили поздороваться, отпустить галантное замечание и узнать, кто эта petite beauté[105], которая так грациозно вышагивает, едва доставая Каролине до колен. Может, это андалузская лилипутка? — Non, elle est cubaine[106],— с озорной улыбкой поясняла Отеро. — Чикита де Сенда, актриса, покорившая всю Америку песнями и танцами. Им повстречались Робер де Монтескью и его аргентинец, оба в черных шелковых цилиндрах и при тростях с набалдашниками из драгоценных камней, и составили дамам компанию. Во время прогулки они представили Чиките кучу знаменитостей: писателя Дюма-сына и поэта Валери, актрису Режан, композитора Рейнальдо Ана (уроженца Каракаса, который тем не менее едва изъяснялся по-испански и был любовником Марселя Пруста), Бони де Кастеллана и его денежную супругу (к слову, вовсе не такую уродку, как утверждал ее муж). Успешный дебют petite comédienne cubaine[107] состоялся. Матильда Бонапарт, племянница Наполеона I, почтенная восьмидесятилетняя мумия, взяла с Чикиты слово посетить один из ее приемов, а очаровательная Эмильена д’Алансон, рассмотрев лилипутку с ног до головы в причудливый монокль, предрекла ей счастливую судьбу в случае, если та решит пойти по их с Каролиной стопам. — Подмостки, возможно, приносят славу, но страстный мужчина бросит к твоим ногами куда больше, — промолвила Мими. Кому, как не ей, в юности дрессировавшей кроликов в третьесортном шапито, это знать? Она родила дочку от цыгана — метателя кинжалов и, казалось, была обречена на нищету и горести. Но Господь сжалился над ней и послал престарелого герцога, который забрал ее из цирка и увешал драгоценностями. — Театр — витрина, где ты можешь выставляться, но там не разбогатеешь. Мужчины — идиоты, а ты — вылитый херувимчик, и потому тебе не составит труда вертеть ими как вздумается. — И она обратилась к Каролине: — Я уверена, Лео с Берти просто с ума сойдут от нее. И махараджа Капуртхалы, тоже тот еще извращенец. — Я ей твержу о том же незнамо сколько, но она упряма как осел! — пожаловалась «андалузка». — Может, тебя послушает. — Если Бог наградил тебя даром воспламенять мужчин, грех им не воспользоваться, — назидательно сказала д’Алансон. — Вся недолга — иметь горячую щелку и холодную голову. — Мне вот подарили несколько дворцов, а император Муцухито даже пожаловал один остров, правда, точно не знаю, где он находится, — вторила ей Отеро. — А ты можешь добиться гораздо большего. — Только целься повыше, — посоветовала Мими. — Помни пословицу: «Если спишь с буржуа — ты шлюха, если с королем — фаворитка». Как обычно, когда ей предлагали заделаться дорогой проституткой, Чикита придала лицу каменное выражение, и Каролина с Эмильеной, отнюдь не дурочки, быстро сменили тему. А о чем же было говорить двум кокоткам в начале 1900 года, как не о богине Всемирной выставки? Многих этот вопрос занимал до невозможности. Выставка намечалась на середину апреля, а натурщицу все еще не выбрали. Прекрасная Отеро по-прежнему делала вид, будто ей это не интересно, но приятельница не купилась. — Расскажи кому другому, Нина, — промурлыкала она. — Я знаю, ты горы свернула, чтобы тебя выбрали. Но, чтоб ты знала, близкие люди мне шепнули, что месье Моро-Вотье не желает вдохновляться кокотками. Он, недоумок, считает, что это обесценит его творение. — Ну и пусть засунет эту статую себе в задницу, — ответила Прекрасная и расхохоталась таким диким смехом, что пол-леса обернулось. Почти в самом конце прогулки Чикита с изумлением заметила, что Монтескью, Итурри и «андалузка» проходят мимо некоторых дам и господ, не здороваясь. Зачем же пренебрегать элементарной учтивостью? Граф угадал ее мысль и, почти не разжимая губ, процедил: «Они ненавидят Дрейфуса».
Глава XXI
Третья встреча с Сарой Бернар. Неожиданный отъезд Прекрасной Отеро. Избранница Моро-Вотье. Богиня красоты. Женерез, курица, несущая золотые яйца. Чикита рискует жизнью. Парижские подлости, или Месть Габриеля де Итурри. Ослепительная Лиана де Пужи. Лесбосская чума.Послав уже вторую записку Саре Бернар с сообщением о том, что она в Париже и была бы счастлива повидаться с подругой, и вновь получив в ответ лишь молчание, Чикита решила отступиться. Либо актриса по горло занята премьерой «Орленка» (что неудивительно: нелегко, должно быть, перевоплощаться в семнадцатилетнего герцога, когда ты втрое старше), либо попросту не помнит Чикиту. В общем, лилипутка не стала больше терзаться и предпочла наслаждаться прогулками по Парижу в голубом атласном экипаже — иногда в компании Отеро, иногда в сопровождении Рустики. Граф Монтескью утверждал, что Сара прекрасно ее помнит, но разрывается между разучиванием роли и репетициями. Чиките следует запастись терпением. Такова уж Бернар: если готовит премьеру, до нее не достучаться. В одно прекрасное утро она проснется с непреодолимым желанием повидать маленькую приятельницу и отправит за ней экипаж. Так и вышло. Однажды поутру в понедельник Чикиту вызвали в особняк Бернар, где та встретила ее в форме наполеоновской армии, в высоких кожаных сапогах, кивере, под который была забрана рыжая шевелюра, и со шпагой в руке. «Нет, я не рехнулась, — успокоила подругу актриса, поднимая ее, чтобы расцеловать в обе щеки. — Вот уже несколько недель я не снимаю этот костюм, чтобы естественнее выглядеть в нем на сцене». Эдмон Ростан, автор «Орленка», обнаружился тут же, в гостиной, и был немедленно представлен petite amie cubaine[108], причем Сара не забыла упомянуть, какой у Чикиты горячий голос и как легко она кружится в танце. — Я открыла ей двери Нью-Йорка! — похвасталась она и поделилась внезапно пришедшей ей мыслью: — Дорогой Эдмон, мы еще успеваем вставить в пьесу новую роль для Чикиты. — Драматург не выказал ни малейшего воодушевления, и она постаралась надавить: — Да, да, не ленись, пожалуйста. Вообрази, в акте шестом, когда герцог лежит на смертном одре, — тут она зашлась жалобным кашлем, чтобы Ростан лучше представил себе мизансцену, — с небес слетает ангел и что-нибудь ему говорит, ну, к примеру, стихотворное. Чикита создана для этой роли! К облегчению писателя, гостья поспешила пояснить, что в Париже она на каникулах и пока не намеревается выходить на сцену. К тому же ее французский годится для дружеской болтовни, но не для декламации перед публикой строк самого месье Ростана. И пока Сара опять не перебила ее, Чикита быстро поинтересовалась здоровьем манхуари Буки, которого она, помнится, подарила Бернар при последней встрече. Где он? Она хотела бы его навестить. Бернар состроила печальную мину и сообщила, что Бука скончался вскоре после прибытия в Париж. — По-видимому, не смог приспособиться к здешней воде. — И тут же, давая понять, что тема закрыта, томно, по-кошачьи прикрыла глаза и спросила: — А как поживает тот миловидный юноша, твой кузен? Сама робость с виду, но по жилам его течет поток раскаленной лавы… Он тоже приехал? — О нет. Сехисмундо теперь живет… Ей не дали договорить. Пробили часы, и Ростан уныло предположил, что сегодня они опять опоздают на репетицию, а значит, не успеют подготовить постановку к дате премьеры. «Возможно, премьеру придется перенести», — заикнулся он. «Только через мой труп!» — отвечала Сара и колокольчиком вызвала мажордома проводить Чикиту. Они еще всласть наговорятся наедине, когда «Орленок» благополучно вылетит на волю. Вместо прощания она указала подруге на дверь, закатив глаза и раскатисто произнося: «Lève les yeux au ciel — et vois passer un aigle!»[109] Эспиридиона Сенда очень огорчилась смерти Буки. По дороге Рустика ее утешала, хоть и не слишком рьяно, потому что сама при жизни не испытывала большой любви к «костистой зверюге». Через несколько дней граф де Монтескью и Итурри поведали Чиките об истинной судьбе манхуари. Они присутствовали на приеме у Сары в тот вечер, когда Бука чуть не оттяпал ей палец, и слышали, как она разъяренно приказала вышвырнуть «предателя» в Сену. Но это уж потом, а пока Чикита пребывала в уверенности, что ее любимец почил, и дома у Прекрасной Отеро появилась вся в слезах. По возвращении слуга вручил ей письмо от Каролины. Обстоятельства вынуждают ее отбыть на несколько дней из Парижа. Она совсем забыла, что обещалась восседать на одной из платформ во время карнавала в Ницце. Не может же она разочаровать почитателей и не появиться на параде. Скорее всего, она заскочит и в Монте-Карло попытать счастья в казино, а потому точно не знает, когда вернется. Но все это неважно: дом и прислуга в полном распоряжении Чикиты. Только пусть та проявит осторожность в выборе новых друзей: в Париже живет множество прекрасных людей, но есть и мерзавцы. А чтобы Чикита не заскучала, она попросила графа де Монтескью и его «секретаря» время от времени выводить ее в свет. «Цалую», — по-испански заканчивала письмо Отеро, подражая забавному андалузскому выговору. Такое прощание развеселило Чикиту. Она вовсе не обиделась на приятельницу за неожиданный отъезд, а напротив, внезапно ощутила прилив жалости к бедной Нине, которой, может, до конца жизни предстоит притворяться андалузкой. Однажды вечером та разоткровенничалась и рассказала про свое нищее детство в галисийской деревушке и про то, как какой-то изверг изнасиловал ее, десятилетнюю, на большой дороге. Но разве не нелепо жалеть Каролину Отеро, фаворитку полдюжины монархов, которая позволяет себе ставить на кон целые состояния и лишь презрительно хохочет, если фортуна вздумает от нее отвернуться?
На следующий день Чикиту ждал еще один сюрприз. Месье Моро-Вотье, скульптор, которому поручили вылепить богиню для Всемирной выставки, нанес ей визит и попросил быть его натурщицей. Недавно он видел ее в Булонском лесу и остался очарован. — Сперва я загляделся на внушительный силуэт Отеро, — признался он, — но, заметив вас, мадемуазель, понял: вы — та муза, которой я ждал! — Благодарю за добрые слова, — ответила Чикита. — Но ведь кругом столько прекрасных женщин. Зачем же останавливаться на мне? Разве можно, вдохновившись кем-то вроде меня, создать монументальную скульптуру? Моро-Вотье не принял возражений: — Увеличим пропорции — только и всего! Мне все время пытаются — кто косвенно, кто напрямую — подсунуть кандидаток, но я с самого начала вполне ясно дал понять: если мне не дадут сотворить богиню по моему усмотрению, я откажусь от заказа. Не подведите меня, умоляю. — Но ведь я кубинка, а статуя должна представлять красоту парижанок. — С каких пор у красоты завелось гражданство? Скульптор был так настойчив, что Чикита пообещала дать ответ в течение суток и, оставшись одна, попросила совета у талисмана великого князя Алексея. Тщетно. Почему она упорно ждет от него знаков, если золотой шарик уже бог знает сколько времени не пульсирует, не искрит и не теплеет? Придется искать чужого мнения. Днем она отправилась в «Павильон муз», извинилась перед Габриелем де Итурри за внезапное появление и рассказала, какими сомнениями терзается. Она не лишена естественного женского тщеславия, и предложение, надо признать, соблазнительное, но не повредит ли эта авантюра ее репутации? — Я вконец запуталась, — сказала Чикита. — Мне было бы приятно пойти навстречу месье Моро-Вотье, но я не желаю, чтобы меня приняли за кокотку. Кроме того, это вряд ли понравится Каролине, а ведь она была так щедра ко мне. Подозреваю, что она, хоть и не показывает, сама надеется стать богиней. Аргентинец согласился, что положение щекотливое, и позвал на помощь графа. — Позируйте, дорогая, — недолго думая, вынес авторитетное решение Монтескью, глава всех парижских эстетов. — Только потребуйте от Моро-Вотье не разглашать вашего имени. Ваше участие должно оставаться в строжайшей тайне. Мы с Габриелем, разумеется, нашепчем немногим избранным ушам, кто позировал для статуи, — добавил он лукаво. — А вы все скромно отрицайте. Облачитесь, так сказать, в благоразумие и загадочность, а уж мы позаботимся, чтобы весь Париж узнал правду. Что же касается мадемуазель Отеро, не тревожьтесь о ее чувствах. Она крепче, чем вы полагаете. И потом, если уж выбирать между вами и некоей соперницей, которую Каролина ненавидит всем сердцем, пусть лучше натурщицей станете вы. Вот как вышло, что в последующие несколько недель Чикита, никому больше словом не обмолвившись, позировала Моро-Вотье. Рустика сопровождала ее до мастерской и зорко, словно Цербер, следила за приличиями, когда лилипутка оставалась в костюме Евы. Сначала скульптор сделал несколько набросков на мольберте. Потом соорудил гигантскую фигуру из железной проволоки, набил соломой, покрыл гипсом, а поверх гипса — глиной и приступил к лепке. Мало-помалу появилось сходство между статуей и Чикитой. Словно исполинская лупа увеличила славную уроженку Матансаса, не исказив гармонии ее черт и форм: двадцать шесть дюймов роста превратились в двадцать шесть футов. Правда ли, что между скульптором и моделью завязался роман? Клевета! Необоснованные слухи. Их связывали лишь эстетические узы. Чикита стала его идеалом, его Венерой. Эталоном женского очарования в миниатюре. Моро-Вотье сдержал обещание не выдавать имени музы. Но по мере продвижения работы Чикита начала замечать, что во время прогулок с Итурри в Булонском лесу или на приемах у мадам Бонапарт окружающие окидывают ее недоумевающими взглядами. За спиной не раз раздавался шепот: «Богиня, богиня». Однако, следуя советам графа, она не теряла невозмутимости. Когда скульптура была готова и мадам Пакен уже начала шить черное платье и горностаевую мантию, Чикита получила от Прекрасной Отеро телеграмму. Возвращение испанки откладывалось. Один турецкий миллионер, с которым она свела знакомство за зеленым сукном в Монте-Карло, «похитил» ее и удерживает на своей яхте в Средиземном море…
Чикита не сразу поняла, что Прекрасная Отеро сильно преуменьшила, назвав секретаря графа Монтескью «гаденышем». На самом деле Габриель Итурри (да, именно так, без «де») был натуральным ядовитым змеем, помесью гремучки с королевской коброй. За безобидной томной внешностью аргентинца скрывалась темная коварная душа. Больше всего на свете он любил строить козни. Как, как Чикита могла опростоволоситься и не заметить, что он за человек? А ведь признаков было немало. Пока они любовались Никой Самофракийской в Лувре, Итурри сам приподнял маску: захлебываясь смехом, рассказал, как одурачил некую маркизу, которая не пригласила его на день рождения. Рано утром перед приемом он отправил всем гостям записки на бумаге, схожей с той, что пользовалась хозяйка, и от ее имени предупредил, что soirée отменяется. — Никто не пришел, и старая ведьма заработала припадок на нервной почве, — злорадствовал Итурри, прикрывая рот перчаткой. — Графа очень позабавила моя espièglerie[110]. Шалость?! Скорее несоразмерная месть, порождение болезненной чувствительности. И всё же в ту минуту Чикита нашла шутку смешной. Габриель де Итурри, может, и гадил другим, но ее он явно обожает. Со временем ей пришлось переменить мнение. Любовник Монтескью кичился своим положением ангела-хранителя при Чиките и старался ее опекать, но это не удержало его от свинской выходки. Да уж, его поведение нельзя было назвать иначе, как свинским. Почему же он так поступил? Как ни странно, из-за курицы. В Париже все знали, что горделивый Робер де Монтескью происходит из очень знатного рода. Но никто не мог понять, как ему удается вести столь шикарную жизнь. По мнению знающих людей, его ренты и владения не приносили больших доходов. Поговаривали даже, будто несколько нет назад кредиторы так на него насели, что он был вынужден распродать портреты предков, чтобы расплатиться с долгами. Но внезапно денежные дела графа пошли в гору, и при этом ему не пришлось жертвовать собой, как Бони де Кастеллану, и жениться на богатой американке. Как так вышло? Неразрешимая загадка. Никто этого не знал, пока в один прекрасный день Эспиридона Сенда, сама того не желая, не раскрыла секрет. Она сидела в маленькой гостиной «Павильона муз» и ждала графа с аргентинцем, как вдруг из-за парчовой шторы, скрывавшей одну из дверей, выглянула рыжеватая курица, лишенная перьев вокруг глотки. Таких в народе зовут голошейками. Откуда на мозаичном алебастрово-перламутровом полу взялась курица? Чикита остолбенела, по позвоночнику пробежал озноб. Лилипутка страдала острой алекторофобией. Домашние птицы приводили ее в ужас. С детства Сирения и Минга вдалбливали ей, что любое из этих пернатых чудищ способно в два счета выклевать ей глаз. Беззаботная голошейка преспокойно бродила по комнате, словно Чикиты там и не было. Она и вправду не заметила человеческого присутствия или нарочно притворялась и не обращала на гостью внимания? Сначала Чикита подумала, что это какая-то пришлая курица, попавшая в дом по недосмотру прислуги. Но та так привычно поклевывала ножки столов в поисках воображаемых насекомых и так свободно взмахивала крыльями, чтобы освежиться, что стало ясно: ей не впервой перемещаться по аристократическим покоям. Наконец курица остановилась, повернула голову и искоса угрюмо глянула на окаменевшую Чикиту. После чего энергично взгромоздилась на диван, прорвав когтями обивку, и устроилась подле лилипутки. Целую бесконечную минуту она пребывала в странном сосредоточении, тихонько поквохтывая, а потом бросилась на пол и заметалась туда-сюда с оглушительным кудахтаньем, возвещающим, что она только что снесла яйцо. Чикита, дрожа, протянула руку и погладила яйцо. Оно было еще теплое, но в остальном отличалось от обычного. Золотого цвета и — Чикита попробовала его приподнять — очень тяжелое. «Оно же из чистого золота! — ошеломленно подумала она. — Неужто я теряю рассудок?» Но нет, она по-прежнему находилась в здравом уме. Золотое яйцо — чересчур неправдоподобно, но оно было до ужаса настоящим. Тут в гостиную ворвался Итурри и сгреб голошейку в охапку. С видимым недовольством он обернулся к разинувшей рот Чиките, вырвал у нее яйцо и спрятал в карман. — Ты гадкая, гадкая, гадкая! — выругал он затихшую от страха курочку. — Зачем ты удрала, Женерез? Граф запретил тебе выходить из ta chambre[111],— и, посматривая на Чикиту, добавил ледяным тоном: — Вот возьму рассержусь и сверну тебе шею — потом не жалуйся. Курица, будто вняв угрозе, забилась и раскудахталась, но Итурри одним шлепком заткнул ее. Чикита промямлила что-то. Задала вопрос? Или извинилась за то, что невольно увидела нечто неподобающее? Объясниться она не успела, потому что в эту минуту в гостиную вплыл Робер де Монтескью и взял слово: — Да, дорогая, в это трудно поверить, но перед вами la poule aux oeufs d’or[112],— сказал он со всей непосредственностью, как бы не придавая значения чудесному явлению. — Раньше я тоже думал, что курицы, несущие золотые яйца в двадцать четыре карата, бывают только в сказках. Но потом в моей жизни появилась Женерез и все изменила. Прощайте, заботы! Мы складываем яйца в сейф, два-три раза в год выезжаем за границу, сдаем яички в переплавку, а слитки продаем банкиру из Зальцбурга. Когда она стала жить у нас, мы переделали одну спальню в курятник со всеми возможными удобствами. Лишь у Габриеля есть ключ от этой комнаты, он сам кормит и поит нашу несушку. Только вот выросла она на свежем воздухе, в птичнике одного замка на Луаре, и не любит сидеть взаперти. Чуть что — норовит удрать и пугает нас до смерти. До сегодняшнего дня мы всегда ее находили, либо она сама возвращалась назакате. Но что, если мы потеряем ее навсегда? Не хочу даже думать, что с нами станется. И, устремив укоряющий взор на секретаря, он посетовал: — Очень жаль, что и сегодня, по непростительной оплошности, Женерез удалось сбежать. — Никто не знает и не должен узнать, что граф владеет таким сокровищем, — с нажимом сказал Итурри, пропуская намек мимо ушей и поглаживая пальцем гребешок голошейки. — Это тайна. — Он посмотрел Чиките в глаза и добавил по-испански: — За такую птичку многие готовы убить. Мы будем благодарны вам за молчание. — От меня никто и слова не услышит о Женерез, — заверила лилипутка тоже по-испански, стараясь не обращать внимания на нахальное кудахтанье la poule aux oeufs d’ors, смахивающее на язвительный хохот. Она повернулась к графу и повторила обещание по-французски. — Ничего другого я от вас и не ждал, — ответил Робер де Монтескью и, дабы скрепить негласную сделку, движением подбородка велел Итурри отдать мадемуазель Сенде сегодняшнее яйцо. Она вначале не хотела брать, но граф сломил сопротивление, назвав яйцо залогом их дружбы.
Чикита сдержала обещание: показала яйцо одной Рустике, но и той не призналась, откуда оно взялось. Однако толку от ее молчания было мало. Через несколько дней безутешный Монтескью сообщил, что по неизвестной причине Женерез перестала нестись. Ей удвоили ежедневную порцию кукурузы, старались воздействовать угрозами и мольбами — все втуне. После встречи с Чикитой курица, очевидно, утратила дар (или желание) производить чистое золото. — Как мы ни пытались найти объяснение ее поведению, все равно не можем понять, что стряслось, — пожаловался аргентинец и осведомился: — Оставшись наедине с Женерез, не обидели ли вы ее словом или делом? — Разумеется, нет! — возмутилась Чикита. — Я вообще не смотрела ей в глаза. Куры меня пугают. — Не волнуйтесь, дорогая, — успокоил ее граф. — Мы с Габриелем вовсе не виним вас в этой трагедии. Но не могли бы вы поговорить с Женерез? Может, увидев вас вновь, она вернется на путь истинный. Чикита была уверена, что план не сработает, но согласилась поехать в «Павильон муз» и пройти в роскошный курятник. Сначала Женерез не обратила на нее внимания, как в первый раз. Но когда Чикита завела речь, стараясь внушить курице, что пора бы уже вновь отложить золотое яичко, та как с цепи сорвалась. Она метнула на лилипутку гневный взгляд, громко угрожающе закудахтала и вдруг в совершенном неистовстве кинулась на Чикиту, норовя догнать и клюнуть побольнее. Чикита улепетывала от курицы и думала, что вот он настал, последний день ее жизни, а вспоминается ей, как ни странно, один Патрик Криниган. Она безуспешно пыталась отогнать Женерез зонтиком, что только сильнее раззадорило птицу. К счастью, когда пернатая тварь уже отрезала ей все пути к отступлению и надвигалась, разевая клюв и явно желая выклевать глаза, Монтескью и аргентинец прибежали на крики Чикиты и вызволили ее из фешенебельного курятника[113]. С того дня отношение Габриеля де Итурри к Чиките изменилось. Вроде бы он проявлял обыкновенную сердечность и учтивость, но Чикита приметила разницу. Итурри было безразлично, что она рисковала жизнью — лишь бы помочь Монтескью; он все равно винил ее в напасти, постигшей Женерез. В глубине души, хоть и не располагал доказательствами, он был уверен: из-за Чикиты они лишились золотых яиц, и потому месть его была изощренной. Вместо того чтобы честно предупредить об опасности, изворотливый мерзавец смолчал и позволил Чиките сблизиться с человеком, которого Каролина Отеро ненавидела больше всех на свете.
Однажды утром, возвращаясь в экипаже Прекрасной Отеро после прогулки в Булонском лесу, Чикита и Рустика заметили другой экипаж, застрявший посреди дороги. Одно его колесо было разбито вдребезги. Из кабины высунулась дама и замахала платочком, взывая о помощи. Они подъехали поближе, Чикита всмотрелась, у нее захолонуло сердце, и она звонким голоском велела кучеру остановиться immédiatement[114] и предложила даме доставить ее домой. Юная красавица поблагодарила и, умещая свой аккуратный задок на сиденье напротив, улыбнулась Чиките (ах, что за зубы, что за восхитительные ямочки на щеках и как чертовски хорошо сидит на ней шляпа размером с мельничное колесо!). У Чикиты пропали последние сомнения в том, что перед ней прекраснейшая женщина в мире, и она пихнула локтем Рустику, чтобы та подобрала свои лапищи и освободила побольше места сеньорите, достойной всяческого комфорта… Так Чикита познакомилась с Лианой де Пужи. Познакомилась? Нет, неверное слово. Оно не в полной мере описывает произошедшее тем утром. Скорее Чикита была ослеплена, ее безнадежно пленили ум и очарование Лианы, она стала ее ревностной почитательницей. Под действием какого неведомого колдовства она пристально вглядывалась в личико напротив, рискуя преступить приличия? Почему так стыдливо зарделась? Откуда взялся этот вихрь смешанных чувств, от которых сбивалось дыхание? Неужто она и вправду стала жертвой чар? Уж не подпоил ли ее какой-нибудь озорной Пак любовным зельем? Она никогда не испытывала ничего подобного. Кажется, именно это и называют любовью с первого взгляда. Но… «Любовь к женщине?!» — переполошилась она мысленно. Стараясь поддерживать со спасенной дамой сколько-нибудь связную беседу, Чикита одновременно задавалась сотней вопросов и с головокружительной быстротой перебирала ответы. Она по-прежнему в своем уме? До сегодняшнего дня она никогда не думала, что ее может привлечь особа ее же пола. Но все когда-то бывает впервые. А интересно, на что похожи поцелуи трибад? Что-то подсказывает — тут Чикиту пронзила сладострастная дрожь, — что они нежнее и чувственнее поцелуев мужчины. Они проникают прямиком в душу и переносят тело в иные измерения… Как-то раз Робер де Монтескью в ее присутствии заметил, что в Париже куда больше последовательниц Сафо, чем можно предположить. Может, в этом и кроется разгадка? Все женщины подвержены своего рода заразе, которая может настичь их в самую неожиданную минуту и разбередить чувства? Существует ли лесбосская чума? А, впрочем, черт с ней. Какова бы ни была причина, следствие на редкость приятно. Чикита ощущала странную живость, возбуждение, игривость, кокетливость. Словно кошечка. Но она опасалась сделать неверный шаг. Это плод ее разгоряченного воображения или грациозная Лиана де Пужи тоже изучает ее сверкающими глазами? Может, мило приподнятый в улыбке уголок рта что-то тайно сулит Чиките, болтающей от волнения всякий вздор? Ведь она и впрямь почти что бредит. Переживания так захватили ее, что она потеряла нить разговора. О чем они беседуют? О деле Дрейфуса? О поэзии лорда Байрона? Ах да, о театре. О «Фоли-Бержер» и «Олимпии». Лиана де Пужи — прославленная артистка варьете, покорившая Париж и многие другие столицы. — Как мадемуазель Отеро? — спросила с замиранием сердца Чикита. — Да, только лучше, — пошутила в ответ француженка и одарила Чикиту лукавым взглядом, намекавшим на взаимность влечения. Что же происходило в экипаже? Там словно ходили ходуном электромагнитные волны, летали невидимые искры, туда-сюда сновали стрелы из купидонова колчана. В общем, в обстановке чувствовалось нечто из ряда вон выходящее, и Рустика своим безотказным чутьем это, видимо, поняла, поскольку вдруг принялась фыркать, закатывать глаза и нарочито размашисто обмахиваться веером. Чикита не удостоила ее вниманием. Будь ее воля — она бы век вековала подле этой женщины с лебединой шеей, шелковистыми локонами и лицом, будто с полотен Боттичелли. Но сладкий сон вскоре оборвался: кучер остановил лошадей на авеню Виктора Гюго, возле дома Лианы де Пужи, отворил дверцу и помог красавице покинуть экипаж. А что, если они больше не увидятся? Случай больше не сведет их? Чикита почувствовала, как ледяной нож рассекает ей сердце, но Лиана незамедлительно зашила рану: поблагодарила за «спасение» и предложила как можно скорее встретиться. Да вот хотя бы нынче днем. Ни слова более! Она не примет отказа! К четырем она ждет Чикиту на чай. Чикита онемела от волнения и только кивнула в знак согласия, словно кукла или недоразвитая. «Oui, oui, à quatre heures, je le promets»[115],— подумала она, но вымолвить не смогла. — Не нравится она мне, — проворчала Рустика, оставшись наедине с хозяйкой. — Замолкни, губошлепка, — цыкнула Эспиридиона Сенда. — Твоего мнения никто не спрашивал. — Она порылась в ридикюле, вытащила часики и вздохнула: — Боже правый, до четырех еще целая вечность!
[Глава XXII]
Ты наверняка хочешь знать, во что вылилось притяжение между Чикитой и Лианой де Пужи. Проще говоря, замесили они, так сказать, запеканку или нет? Замесили, да еще какую — пальчики оближешь! Во всяком случае Чикита, прежде не пробовавшая этого блюда, пристрастилась к нему и с тех пор отведывала довольно часто, по крайней мере пока жила в Париже. Едва оказавшись дома, лилипутка позвонила Итурри якобы узнать, как у них дела с Женерез. «Отвратительно, — ответил тот. — Упрямица так и не отложила ни единого яйца — ни золотого, ни простого». Тогда Чикита как бы невзначай упомянула о своей встрече с мадемуазель де Пужи и спросила, знаком ли с нею Габриель. Риторический, вообще-то, вопрос: с кем же не знаком секретарь графа Монтескью? Лиана де Пужи не только подвизалась на подмостках варьете, но и была весьма дорогой куртизанкой, хотя далеко не сразу встала на этот путь. Анн-Мари Шассень (таково ее настоящее имя) происходила из бретонской семьи очень строгих правил и воспитывалась в монастыре. В шестнадцать лет ее выдали замуж за некоего лейтенанта, но брак продлился недолго. Вскоре после рождения первого и единственного сына муж застал ее в постели с сержантом. Неизвестно, что его больше разозлило: наставленные рога или тот факт, что жена выбрала младшего по званию. Так или иначе, он выхватил револьвер и стал палить в супругу, но, к счастью, дело обошлось царапиной на ягодице. Небольшой шрам всегда страшно смущал де Пужи, и она всячески старалась его скрыть, зато мужиков, заметь, он с ума сводил. После скандала Анн-Мари ушла из дома и сбежала в Париж, не подумав, как будет там выживать. Вскоре она свела знакомство с Вальтесс де ла Бинь, очень уважаемой куртизанкой, побывавшей любовницей Наполеона III и послужившей Золя прототипом Нана. Вальтесс спала с мужчинами ради денег, но слабость питала к женщинам и, увидев бретонку, тут же решила взять ее под покровительство. И, само собой, сделать своей любовницей. Она придумала ей псевдоним «Лиана де Пужи» и ввела в мир полусвета и лесбийской любви. Однажды Лиане втемяшилось, что она способна стать не только роскошной проституткой, но и актрисой, и она даже уговорила Сару Бернар давать ей уроки актерского мастерства. Правда, урок состоялся всего один, и в конце его Сара сказала: «Лиана, ты вполне можешь блистать на сцене, только, ради бога, молчи там и просто показывай тело. Твой зад красноречивее рта». Лиана последовала совету буквально, петь и декламировать стихи не стала, но посредством танцев, пантомимы и tableaux vivants превратилась-таки в звезду водевилей сначала в Париже, а потом и во всей Европе. Зато у нее был недюжинный талант к писательству. Она опубликовала несколько довольно успешных книг, но об этом потом, а то я вконец запутаюсь. Главной соперницей Лианы была Прекрасная Отеро, которая ее ненавидела лютой ненавистью. Когда-то, в начале знакомства, Эмильена д’Алансон, Лиана и Каролина вместе выступали в «Фоли-Бержер». Мими и Лиана в два счета сделались любовницами и хотели заманить к себе и Отеро, но она наотрез отказалась. Почему же испанка так невзлюбила Лиану, если с прочими куртизанками уживалась вполне мирно? Из-за мужчин? Не думаю. Любовников у Каролины было хоть отбавляй, и ощипывала она их в свое удовольствие. Кроме того, все дамы полусвета знали, что не имеют исключительных прав ни на одного короля или принца: монаршие особы свободно перепархивали из объятий в объятия. И вряд ли она завидовала внешности Лианы: та, конечно, была хорошенькая, но мужчины, как правило, находили Отеро более женственной и обольстительной. Я склоняюсь к мысли, что их рассорили газетные сплетни. Парижская пресса много писала про кокоток, потому что публике страсть как нравилось читать про их любовные победы, путешествия, драгоценности, которыми их задаривали поклонники, ну и про их размолвки, конечно, тоже. Почти ежедневно Прекрасная Отеро и Лиана де Пужи мелькали в какой-нибудь статье. Но у француженки было множество друзей-журналистов, вот они и начали писать, что она и на сцене, и в постели лучше испанки. Той, естественно, такие писульки стали поперек горла. Как-то раз они одновременно приехали в Монте-Карло, и ты даже не можешь себе представить, что там творилось. У казино собралась толпа посмотреть, кто из двоих соблазнительнее. Отеро облачилась в невероятное платье, увешалась бриллиантами, рубинами и изумрудами и появилась на публике королева королевой. Все хлопали как сумасшедшие и уже думали, что как бы ни силилась соперница, ей не затмить красоту Каролины. Но через пять минут прибыла Лиана, и им пришлось переменить мнение. Знаешь, как эта хитрованка выставила Каролину на посмешище? Она оделась в простое белое муслиновое платье и пренебрегла серьгами, ожерельями, браслетами и брошами. Ни единого украшения. Только приколола к груди алую розу. А следом за ней шла ее горничная в форме и с ног до головы увитая драгоценностями. Куда уж выразительнее и язвительнее! Отеро пережила огромное унижение. Вот из-за подобных выходок она терпеть не могла Лиану. Но не забывай, все это Чикита узнала гораздо позже. По телефону Габриель Итурри и словом не обмолвился о вражде куртизанок. Нарочно — чтобы поссорить Чикиту с Каролиной. Только расхвалил Пужи, вознес дифирамбы ее утонченности и уму, а также посоветовал прочесть роман, написанный кокоткой несколько лет назад[116]. В три часа пополудни на Париж обрушился ливень, но Чикита все равно разоделась, надушилась и отправилась к новой знакомой. Она не захотела брать с собой насупленную Рустику и попросила кучера помочь ей поместиться в экипаж, а потом выйти, хотя вообще поступала так крайне редко, поскольку терпеть не могла, чтобы слуги до нее дотрагивались. Ее встретила горничная и проводила прямиком в ванную комнату. Лиана де Пужи нежилась в ванне розового мрамора, до краев полной пены, и тут же как ни в чем не бывало пригласила Чикиту присоединиться. Судя по тому, как стремительно горничная раздела ее, Чикита поняла, что в этом доме принимать гостей в ванне — обычное дело. Что уж они там делали, когда остались нагишом наедине, не могу тебе сказать. В книге про это подробностей не было, а выдумывать не хочу. Но подозреваю, что время они провели с приятностью, потому что с тех пор Чикита заделалась настоящей «амфибией», и свидания в ванне случались очень часто.С Лианой Чикита никогда не скучала. В отличие от Прекрасной Отеро, только и болтавшей про наряды да про то, как тянуть деньги из мужчин, с ней можно было говорить об искусстве, истории, философии и обсуждать современность — от нового французского закона, ограничивающего рабочий день для женщин и детей одиннадцатью часами, до Англо-бурской войны в Южной Африке. Вместе они рукоплескали Бернар на премьере «Орленка» и вместе отправились на открытие Всемирной выставки. Честно тебе скажу, в последнее-то я не особо верю. Чикита, скорее всего, это выдумала. Потому что сам посуди — сколько народу собралось на открытии? И что в толпе могла увидеть этакая шмакодявка? Если она и ходила туда, ее только чудом не затоптали. Сама она клялась, что ходила, слушала речь президента Лубе и присутствовала при вручении наград устроителям выставки[117]. По мнению Чикиты, церемония вышла не вполне удачной, поскольку принцы, короли и императоры блистательно отсутствовали. Кайзер Германии сделал довольно спорное заявление: якобы французское правительство не в состоянии гарантировать ему безопасность и потому он не приедет. Царь Николай II состряпал более дипломатичную отговорку, но и ей мало кто поверил. Просто отношения между Францией и его страной в ту пору охладели. Русские, в большинстве своем сторонники буров, злились на Лубе и его министров за то, что они, не желая ссориться с англичанами, мялись и не принимали ни одну из сторон в конфликте. Парадокс! Ведь именно Россия стала почетным гостем выставки, и ее там всячески чествовали. Что касается короля Бельгии Леопольда, князя Монако и принца Уэльского, то они предпочитали посещать Париж ради увеселений и любовниц, а в официальных церемониях участвовать не желали. Чикита и Лиана веселились вовсю, катаясь на эскалаторах — модной тогда новинке — по всей выставке. У главного входа на золотом шаре в окружении флагов стояла гипсовая богиня в горностаевой мантии. По словам Чикиты, все посетители аж рты разевали от восхищения и любовались статуей[118]. Люди вскоре окрестили ее просто «Парижанкой» и принялись гадать, кто послужил Моро-Вотье музой. Одни считали, что Лина Кавальери, другие — что Иветт Гильбер. Всякий раз, проходя мимо, Чикита боялась, что ее узнают. Но не узнали. Кто бы мог подумать, что из такой крохотульки вылепят исполинскую скульптуру? Из-за дела Дрейфуса Франция тогда была не в почете у мирового сообщества, но выставка все равно прошла с большим успехом. Павильоны были один роскошнее и оригинальнее другого, и в каждом какая-нибудь страна представляла свои диковинки. От телескопов, артиллерийских орудий и разных станков до продуктов питания, косметики и народных танцев. Полный перечень мировых достижений, прощание с XIX веком, ода грядущему. Безумие ар-нуво! Там даже состоялся мировой конгресс по вопросам электричества, где впервые в истории было произнесено слово «телевидение». Чикита утянула Лиану во Дворец сельского хозяйства взглянуть на новинки сахарного производства и при виде электрических центрифуг и современных давильных установок с тоской вспомнила захудалый заводик в Ла-Маруке. В те дни Куба еще не имела самоуправления — с конца войны островом правили американцы, — но это не помешало ей присутствовать на выставке. В павильоне Соединенных Штатов имелся кубинский киоск, где чего только не было: и сахар, и сигары, и кофе, и ром, и лекарства, и еще куча всего. И товары, надо думать, имели успех, потому что им досталось сто сорок призов. Каково, а? Остров едва-едва выбрался из кровавой заварухи и тут же завоевал уйму золотых, серебряных и бронзовых медалей в Париже. Кто тогда мог подумать, что спустя девяносто лет весь этот прогресс пойдет псу под хвост и мы откатимся в доисторические времена? Это лучше сотри. Чего доброго — попадет запись в госбезопасность, и отправят меня куковать в места не столь отдаленные, на возраст не посмотрят. Тогда же Чикита познакомилась с Гонсало де Кесадой, который столько уговаривал американский конгресс поддержать кубинскую революцию. Янки послали его на выставку представителем будущей республики Куба. Он будто бы подарил Чиките первый том полного собрания сочинений Хосе Марти. В этом томе как раз содержалось стихотворение «Испанская танцовщица», и потому она купила еще один экземпляр в подарок Прекрасной Отеро, вдохновившей Апостола на эти строки. Бедняжка зря потратилась, ведь ей так и не удалось вручить подарок. Почему — еще узнаешь, не станем забегать вперед[119].
Однажды вечером в ванне Лиана прочла Чиките отрывок из романа, который писала в ту пору. В произведении рассказывалось о реальной любовной истории, которая случилась у нее несколько месяцев назад с Натали, девушкой из вашингтонского высшего общества, обучавшейся в Париже живописи[120]. Чикиту очень впечатлил литературный образ бывшей любовницы Лианы, и она захотела познакомиться с ней лично. Но быстро раскаялась, потому что кокотка в два счета связалась с Натали, и вот американка уже составляет им компанию в ванне и распускает руки, будто так и надо. — Я думала, эта любовь уже позади, — возмутилась бесцеремонно ощупанная Чикита, вновь оставшись наедине с Лианой. — Разумеется, та belle, — успокоила ее та. — Но мы не перестали быть подругами и по-прежнему развлекаемся время от времени. Словом, пришлось Чиките привыкнуть к ласкам Натали, сказочно богатой красавицы еврейского происхождения, которая не замедлила плениться лилипуткой и начала посвящать ей сонеты. Они с Лианой из кожи вон лезли ради Чикиты, покупали ей пирожные, духи, цветы и книги, возили прокатиться в метро, насладиться искусством на Парижском салоне и полюбоваться танцами Лои Фуллер, полусумасшедшей американки, кутавшейся на сцене в накидки и покрывала и не уступавшей в популярности Айседоре Дункан. Вот только Чикита никак не могла смириться с тем, что Лиана бросала ее всякий раз, стоило кому-то из «друзей» мужского пола потребовать ее внимания. Она старалась утешаться брошенной де Пужи фразой: состоятельные мужчины, может, и овладевают ее телом, но душа принадлежит лишь ее petite cubaine. Рустике, верно, не по нраву пришлось, что Чикита переметнулась на такую сторону, но могу только предполагать, потому как никогда не осмеливался заговорить с ней на столь щекотливую тему. Но не думай, будто из всех парижских лесбиянок Чикита общалась только с Натали и Пужи. Ничего подобного. Подруги водили ее на весьма изысканные частные вечеринки, где собирались десятки «амфибий». Там всякого можно было насмотреться: большинство жриц Сафо отличались женственностью и изяществом, но попадались и экземпляры модели «пожарник», мужеподобные тетки в смокингах, дымившие сигарами. Приглашали туда и голубых, но только избранных, надежных, потому что женщины хотели чувствовать себя свободно и предаваться любым безумствам без лишних глаз. Мне кажется, многие из них подавались в лесбиянки, чтобы утвердить свою самостоятельность, избавиться от ярма мужчин. В те времена жизнь женщин в Париже худо-бедно менялась: не менее пятисот девушек учились в университетах. А может, я чересчур заехал в социологию, когда на самом деле у них просто зудело в одном месте. На таких вечеринках было полно наркотиков. Прежде всего, опиума, гашиша, эфира и кокаина. Обстановка царила непринужденная, и никто не удивлялся, если посреди беседы девушка задирала подол и колола себе в ляжку морфин. Ну и без оргий тоже не обходилось, наготы никто не стеснялся. В общем, полное безобразие. Но утонченное, понимаешь, рафинированное. В передышках между «запеканками» они декламировали стихи, играли на фортепиано и пели lieds, потому что собиралась там, что называется, элита, сливки парижского Лесбоса. Там Чикита свела знакомство со многими сеньоритами из высшего общества, жаждавшими своими глазами взглянуть на таинственный мир, о котором столько твердили. Некоторые из них впоследствии присоединялись к их с Пужи игрищам в мраморной ванне. Лиана, кстати, никогда и ни за какие деньги не соглашалась впустить ни одного мужчину, желавшего насладиться зрелищем совокупления «амфибий». Кое-кто сулил ей миллионы, но она не нарушала этого правила. Дружба с Лианой и Натали так захватила Чикиту, что она совсем забросила Робера де Монтескью и аргентинца. Но однажды вечером устыдилась и позвонила им. — Кого я слышу! — промурлыкал Итурри. — Как там новые подружки? — Он ведь уже прознал, что Лиана, американка и Чикита неразлучны, словно три мушкетера. И с деланой наивностью поинтересовался, когда возвращается Прекрасная Отеро. Чикита уже давно не имела известий от Каролины. Несчастная! Очень скоро ей предстояло получить весточку. На следующий день, вернувшись домой к «андалузке» после сиесты в обществе Лианы де Пужи, она обнаружила Рустику сидящей на тротуаре, а рядом с ней — сундук и разбросанные платья, туфли и шляпки. — Что стряслось? — спросила Чикита из экипажа. Оказывается, их вышвырнули на улицу. Отеро внезапно нагрянула и первым делом побросала все Чикитины пожитки с балкона. — Я пыталась ее утихомирить, чтобы она хоть объяснила, на что взъелась, — сказала Рустика, — но она знай только твердила, что вы плохая подруга и бесстыдница. Чикита сделала глубокий вдох и постучалась, намереваясь исчерпать недоразумение. Кокотка, видимо, ждала ее, поскольку сама открыла дверь и, не впуская лилипутку, тут же высказала ей все обиды. Кое-кто («верный друг») письмом известил ее о предательстве. Чикита воспользовалась отсутствием Нины и сошлась с ее заклятой врагиней, гнусной тварью Лианой де Пужи! Так-то она отплатила за искреннюю любовь и гостеприимство? — Я многое могу простить, — гремела Отеро. — Даже то, что тебя выбрали богиней! Но как ты могла нырнуть в постель к этой гарпии?! Чикита пыталась объясниться, но андалузка (то есть галисийка) послала ее к черту и захлопнула дверь у нее перед носом. Вот тебе и положеньице. Обалдевшая лилипутка только и смогла попросить Рустику остановить первый же наемный экипаж. С помощью кучера они впихнули внутрь свои манатки и поплелись на постой к Лиане де Пужи, которая приняла их с распростертыми объятиями. — Бедняжка моя, что тебе пришлось пережить! — утешала Чикиту подруга, подхватив на руки и покрывая поцелуями. — Будешь знать: повадишься в свинарник — рано или поздно замараешься поросячьим дерьмом.
Со временем Лиана и Натали совсем измучили Чикиту жалобами и упреками. Знаешь почему? Потому что они стали ревновать друг к дружке. Чикита старалась поровну дарить их лаской, но им все было мало. Кокотка и американка дошли даже до ссор на людях, не заботясь о том, что их увидят. Однажды на Всемирной выставке (в павильоне Греции, представлявшем собой византийский храм) они так сцепились, что Чикита не выдержала и пригрозила уехать из Парижа, если они не уймутся. И я ее хорошо понимаю: с одной-то ревнивой бабой хлопот не оберешься, а уж когда их двое! Нагоняй охладил страсти, но ненадолго. Следующая свара случилась на мосту Александра III. Мост этот выстроили специально к выставке, и любопытных на нем собиралось великое множество. Так что зрителей у трех мушкетерш было пруд пруди. Завела всё Лиана: сладким голоском она попросила Натали не приходить в гости каждый день, потому что она хочет больше времени проводить с Чикитой наедине. Американке это не понравилось, и она с улыбкой напомнила, как часто ее бывшая любовница бросает Чикиту одну-одинешеньку и упархивает к клиентам. Какое-то время они продолжали друг друга подкалывать и ворошить грязное белье, однако воспитанно, не повышая голоса. Но потом Лиана вышла из терпения и стала кричать, что лилипутка принадлежит ей одной и делиться она не собирается. Тут уж в ход пошли самые жуткие оскорбления. Пужи схватила Чикиту за одну руку, Натали — за другую, и давай перетягивать каждая на свою сторону. Народ скучился вокруг, хлопал и смеялся, но потом люди сообразили, что дело серьезное и карлице, не ровен час, оторвут руку, и стали звать на помощь полицейских. Однако ни француженка, ни американка ничего не замечали, они так трясли Чикиту, что та выскользнула у них из рук, пролетела над перилами и упала прямо в Сену. Увидев, что она уходит под воду, Лиана и Натали испустили вопль, обнялись и зарыдали. Но тут же вновь заспорили, обвиняя друг друга в случившемся. Но на них уже, само собой, никто не обращал внимания. Все столпились у перил и с замиранием сердца ждали, когда же Чикита покажется на поверхности. Минуты шли, никто не выныривал, а потому лилипутку сочли погибшей и запричитали: дескать, такая хорошенькая дамочка — и такой ужасный конец. Подоспели полицейские, разобрались, в чем дело, и надели наручники на виновниц. Это было опрометчиво. Обе принялись осыпать их ругательствами, толкаться и кусаться. Жандармы не могли с ними справиться, и за этим шоу зеваки вовсе забыли о бедной утопленнице. Но тут кто-то закричал: «Смотрите, смотрите!» — и стал тыкать пальцем в волны, забурлившие ровно в том месте, где Чикита скрылась под водой. Все кинулись смотреть, включая Лиану и Натали, которые распихали народ локтями и оказались в первых рядах. Да, сомнений не оставалось: вот-вот что-то должно было подняться со дна реки. И оно поднялось! Сперва показалась голова Чикиты. Потом тело в обвисшем от воды платье и, наконец, ботиночки. У зрителей захватило дух. Как это получилось? Чикита стояла на ногах и, казалось, подобно Христу, могла идти по воде. И кулон у нее на шее сиял нездешним светом. Да, представь себе, столько времени не подавал признаков жизни, а теперь так заискрил, что люди аж жмурились. Но когда многие уже раскрыли рты и собирались вскричать: «Чудо, чудо!» — оказалось, что Чикита не ступает по водам, а стоит на спине у рыбы. То был Бука, дружище! Манхуари спас хозяйку со дна Сены. Не знаю, правда это или байка, но, как представлю себе эту сцену, аж мурашки бегут. Чикита рассказывала, что в воде талисман великого князя Алексея сразу же заиграл разноцветными лучами, и благодаря им Бука смог найти ее и помочь. Картина, вероятно, была потрясающая: Венера в миниатюре рождается из вод. Очень медленно и почтительно, чтобы Чикита не потеряла равновесия, Atractosteus tristoechus доставил ее к берегу, куда она ступила целая и невредимая под аплодисменты толпы на мосту. От испуга и холода Чикита едва могла шевельнуться, но все же склонилась и погладила старого друга по голове. Естественно, она страшно растрогалась. Она ведь считала, что Бука погиб, а тут вдруг вновь с ним встретилась. Тот будто бы догадался, что испытывает его бывшая владелица, и улыбнулся всей своей зубастой пастью, давая понять, что и он ее не забыл. Потом медленно ушел на глубину. Больше они не виделись. Чикита хотела бы вновь залучить Буку в аквариум и увезти с собой, но разве не жестоко с ее стороны было бы засадить за четыре стекла зверушку, которая годами вольготно плавала в Сене вверх и вниз по течению и привыкла самостоятельно решать свою судьбу? После этого приключения, едва не стоившего ей жизни, Чикита — излишне говорить — съехала от Лианы де Пужи и больше знать ничего не хотела ни о ней, ни о Натали, ни о мраморной ванне. Они с Рустикой поселились в отеле, где и провели последние недели в Париже. К тому времени Чикита завела множество приятелей, и приглашений на приемы и прогулки ей хватало. А потом парижане ей наскучили, и она решила продолжить путешествие. Каникулы только начинались, и еще столько интересных мест нужно было посетить!
[Главы XXIII и XXIV]
Этот пробел легче будет заполнить. В двадцать третьей и двадцать четвертой главах Чикита писала про города, куда отправилась после Парижа. Она побывала в Люксембурге, потом в Вене и по случайности прибыла в Берлин в тот самый день, когда граф Фердинанд фон Цеппелин впервые запустил свой знаменитый дирижабль. Она выглянула в окно, увидела эту махину среди облаков и тут же захотела познакомиться с изобретателем, чтобы в следующий раз он нашел место в гондоле дирижабля и для нее. Но фон Цеппелин был в те дни ужасно занят и Чикиту принять не смог, так она и не полетала[121]. Зато в Берлине Чикита познакомилась с трио французских лилипутов, выступавших в тамошних театрах с большим успехом. Было их двое братьев и сестра — Адрьен, Денизо и Маргерита Беарне. Они пели, танцевали и представляли комические скетчи. Целиком труппа именовалась «Колибри Беарне». Они остановились в том же отеле, что Чикита, и вскоре пригласили ее на свое шоу и подружились с ней. Одна беда: и Адрьен, и Денизо влюбились в нее и, хоть раньше всегда прекрасно ладили, вконец разругались между собой. Чуть до дуэли не дошло. Адрьен Чиките с самого начала не понравился — он был толстоват и лицом смахивал на поросенка, — а вот с Денизо по прозвищу Микроскопический Мужчина она пережила довольно бурный роман. Думаю, после всех этих совокуплений «амфибий» она соскучилась по чему-то другому. Денизо стал вторым ее любовником-лилипутом, и, как и с Синьором Помпео, они отлично подошли друг другу. Адрьен, узнав, что Чикита спит с его братом, пытался покончить с собой и устроил такой скандал, что даже в газетах об этом писали. С этой минуты колибри Маргерита ополчилась на Чикиту за то, что та рассорила братьев. Однажды вечером она пришла к ней в номер и потребовала уехать из Берлина. Чикита отвечала, что уедет, когда ей заблагорассудится, и тогда Маргерита накинулась на нее, как тигрица, и между ними завязалась ожесточенная драка с выдиранием косм и всем прочим. Если бы прибежавшая Рустика не разняла их, поубивали бы друг дружку. Чиките казалось, что между тремя колибри есть нечто темное, странное, и вскоре она выяснила истинную причину ненависти Маргериты. С юности та имела тайные интимные отношения с обоими братьями. Нет, ты вдумайся. На фотографиях — сущие ангелочки, а туда же. Эти кровосмесительные делишки Чикиту отпугнули, и, опасаясь мести Маргериты, она решила порвать с Микроскопическим Мужчиной. Когда она объявила Денизо о своем решении, колибри обернулся ястребом и пригрозил ей убийством в случае расставания. Словом, сплошная мелодрама в лилипутском стиле. Если вкратце, Чиките пришлось тайно сесть на поезд и, ни с кем не попрощавшись, отбыть в Италию. В Риме только и разговоров было, что о гибели Умберто I от рук Гаэтано Бреши, итальянского анархиста, который много лет прожил в Соединенных Штатах, а потом вернулся на родину только затем, чтобы укокошить короля. Утром, днем и вечером под стенами Колизея, в Трастевере и у собора Святого Петра люди судачили об убийстве, словно не имели других тем… И то же во Флоренции и в Венеции. Из Италии Чикита отправилась в Испанию. Она побаивалась, что там ее плохо примут. Поражение 1898 года оставалось свежо в людской памяти, а она мало того, что кубинка, так еще и долго жила и работала в Штатах. Но страхи не оправдались, испанцы обходились с ней очень дружелюбно и везде принимали с радостью. Сперва она посетила Севилью и закрутила роман с цыганом, который взял моду распевать коплы у нее под окном. К сожалению, он оказался мошенником: в первую же ночь, когда его допустили в спальню, спер золотое яйцо курочки Монтескью. Чикита так разозлилась, что на следующий же день выехала в столицу. В Мадриде она очень подружилась с писательницей Эмилией Пардо Басан. Они с первого взгляда пришлись друг другу по душе и вскоре стали неразлучны. Пардо Басан даже уговорила директора Прадо впустить их в музей вечером, когда он был закрыт для прочих посетителей, и Чикита в свое удовольствие насмотрелась на полотна Гойи, Мурильо, Эль Греко и Веласкеса, не боясь, что кто-то ее толкнет или загородит картины своим ростом. Больше всего ей понравились «Менины», надо думать, потому, что там изображаются карлики. Однажды Эмилия Пардо Басан устроила званый вечер, собрались художники, политики и дипломаты. Чикита отважилась спеть, словно настоящая мадридская маха, отрывок из сарсуэлы «Празднество голубки», очень модной тогда в Мадриде, а аккомпанировал ей сам композитор, маэстро Томас Бретон:Глава XXV
Встреча в Алфаме. Орден Нижайших мастеров Новой Аркадии. Как и где родилось братство. Великие магистры, Верховные мастера и подмастерья. Металлический нос Тихо Браге. Скверныевремена. Избранница Демиурга. Астральный двойник Чикиты посещает собрания.14 декабря 1900 года Чиките исполнился тридцать один год. Она весь день не выходила из своего нью-йоркского отеля. Было холодно, спать она легла рано. И все же несколько часов спустя она была уже далеко-далеко и поедала тресковый паштет в лиссабонском квартале Алфама. Как же ей удалось столь стремительно перенестись через океан во времена, когда авиация еще только зарождалась? Благодаря билокации. В ту ночь она узнала, что может находиться в двух местах одновременно: физическое тело спало на Манхэттене, а астральное внимало фаду на берегах реки Тежу. Этим редким даром владели и некоторые исторические личности. На протяжении веков становились известны множественные случаи билокации. Этот феномен часто описывался в анналах Католической церкви. Например, святой Антоний Падуанский и святой Мартин де Поррес свободно билоцировались по своему желанию. А когда алхимика Калиостро заточили в Бастилию, его астральное тело отделялось чуть ли не каждый день и люди видели его преспокойно разгуливающим по Парижу. Сперва думали, что он сбежал, и кидались сообщать тюремщикам, но те всякий раз заставали заключенного в темнице. Со временем все свыклись с мыслью, что Калиостро способен находиться в двух или более местах в одно и то же время. В ту ночь в Нью-Йорке Чикита уже совсем засыпала под одеялом, как вдруг заметила, что ее тело словно расслаивается надвое. Это неведомое ощущение очень ее напугало. Она не могла решить, следовать ли за астральным телом или оставаться в постели в физическом теле. Но выбирать не пришлось. Астральное тело само утянуло ее за собой, на леденящей скорости протащило по темному гулкому туннелю и приземлилось в некоей гостиной посреди Лиссабона. Кто же восседал за тамошним столом и вслушивался в доносившиеся издалека фаду? Граф Примо Магри и его супруга Лавиния, русский горбун Драгулеску и паша Хаяти Хассид, турецкий лилипут[122]. Лавиния заметила, что Чикита прибыла в неглиже и накинула ей на плечи шаль. Чикита нервничала, но все, кажется, были счастливы видеть ее, и она постаралась успокоиться в надежде, что кто-нибудь милостиво разъяснит ей происходящее. Налив ей бокал зеленого вина и угостив крокетами из трески, Лавиния начала материнским тоном: — Дорогая, настал час говорить начистоту. Чикита не сдержалась и перебила, умоляя развеять ее сомнения: сон это или нет? Все расхохотались. — Конечно же нет! — отвечала Графиня Магри и продолжила: они собрались поговорить о талисмане, который в детстве преподнес ей великий князь Алексей Романов. — Пора тебе узнать, что он собой представляет и чего ждут от тебя как его владелицы. И все четверо показали Чиките золотые шарики, подвешенные на шее, точь-в-точь как у нее. Кулоны немедленно замерцали и стали испускать во все стороны переплетающиеся и меняющие цвет лучи. После этакого краткого фейерверка талисманы утихли, и вновь заговорила Лавиния. — Дитя мое, — обратилась она к Чиките, глядя ей прямо в глаза, — готова ли ты выслушать долгую и запутанную историю? — Чикита кивнула, и повествование полилось. Прежде всего ей надо знать, что золотой шарик — никакой не амулет на удачу, вопреки тому, что сказал ее родителям великий князь Алексей. На самом деле это отличительный знак, полагающийся всем членам тайного общества, состоящего из людей очень маленького роста. Только лилипуты и карлики имеют право входить в орден Нижайших мастеров Новой Аркадии. Это общество основали в XV веке малорослые мужчины и женщины, обитавшие при дворах европейских королей, князей и герцогов. Одни служили шутами, другие становились наперсниками или слугами, но все были осведомлены о тайной жизни своих господ и дворцовых интригах. Со временем они заметили, что, помимо роста, их объединяет еще кое-что. Во-первых, их бесило насмешливое ли, сочувственное ли — в любом случае унизительное — отношение к ним людей «нормальных» размеров. Во-вторых, они считали, что лилипуты, где бы и как бы ни жили, заслуживают более справедливого и уважительного обращения, а их повелители, за считаными исключениями, казались им тупоумными дикарями. Тогда мастера-основатели (так назвали тех, кто создал братство) решили объединиться и начать тихо и изворотливо сосредоточивать в своих руках нити власти. Если они не научатся влиять на решения властей предержащих, мир погрязнет в эпидемиях, голоде, религиозной нетерпимости и войнах — словом, станет сущим адом. Таким образом, им предстояло выполнить две задачи: добиться от сильных мира сего большего благоразумия и обеспечить лилипутам и карликам выживание и процветание во враждебном мире. Так они определили свои главные миссии: предотвращать крушение мира и блюсти благополучие себе подобных. С самого начала орден задумывался как весьма закрытое общество. Его члены даже придумали особый язык для обсуждения общих дел и передачи сообщений — Geheimsprache der kleinen Leute, или тайное наречие карликов. Величайший знаток тайных языков своего времени, профессор Иоахим фон Гроберкессель ошибся, возведя его к Древнему Египту и Риму, — в действительности он возник гораздо позже, в конце XV века, примерно в то время, когда Христофор Колумб пытался раздобыть денег на свои экспедиции. По словам Лавинии, за четыре века безмолвного труда орден Нижайших сумел предотвратить несколько войн, и множество важных общественных завоеваний состоялось лишь потому, что члены общества вовремя нашептали кому следует подсказку или совет. Но «Книга откровений», своего рода учебник секты, возвещала, что наступит время, когда маленьким людям больше не придется действовать исподтишка. В один прекрасный день они станут управлять планетой в открытую, да так разумно, что превратят ее в огромную Аркадию. Сперва орден существовал только в Европе, но со временем распространил влияние и на другие континенты. Он имел пирамидальную структуру. На верхушке следил за всем и принимал важнейшие решения Великий магистр. Ниже ступенькой находились Верховные мастера, коих было четверо. Когда Великий магистр умирал, один из Верховных занимал его место. И наконец, в основании пирамиды стояли бесчисленные мелкие ячейки, составленные из трех-пяти подмастерьев. Если пятичленная ячейка залучала к себе шестого, она была обязана разделиться надвое. Великие магистры обычно управляли орденом в течение очень долгого времени. Джон Джарвис, к примеру, находился на посту двадцать лет. Этого лилипута ростом в два фута всегда высоко ценила Мария Тюдор, потому что он оставался предан ей в горе и радости; взойдя на английский трон, она сделала его почетным пажом и спрашивала его мнения по всем государственным вопросам. Жаль только, советы Джарвиса королеве в одно ухо влетали и из другого вылетали, и то короткое время, что было ей отпущено на престоле, она посвятила преследованию протестантов[123]. Более шестидесяти лет во главе секты стоял поляк Йозеф Борувлаский, фигура весьма известная в XVIII веке. В юности он объездил монаршие дворы Европы и Османской империи в качестве сопровождающего графини Хумецкой. Борувлаский был талантливым музыкантом и исполнял собственные сочинения на крохотной скрипке, которую графиня специально для него заказала у Амати, знаменитого скрипичного мастера из Кремоны. Образ жизни Борувлаского позволял ему общаться с сами знатными людьми того времени, он ходил в друзьях, наперсниках (а может, выступал и в других ролях) у множества дам, и все свои отношения обращал на пользу секте[124]. Чарльз Страттон, он же Генерал Том Большой Палец, стал самым юным Великим магистром. Его выбрали в 1855 году, когда ему едва исполнилось семнадцать, и занимал он должность до самой кончины в 1883-м. После чего была нарушена вековая традиция: впервые во главе ордена стала женщина — вдова Страттона Лавиния. Она управляла обществом вот уже более пятнадцати лет. Если Великие магистры надолго задерживались у власти, то Верховные мастера, напротив, менялись часто. Некоторые умирали в ранней молодости — например, голландская акробатка Паулина Мустерс, продержавшаяся в Верховных всего одиннадцать месяцев. Бывали и исключения: Драгулеску исполнял обязанности уже полвека. Поначалу в орден входили исключительно люди, проживавшие при королевских дворах, подле монархов и аристократов. Но со временем мода на придворных лилипутов и карликов прошла. Тогда управлять орденом взялись артисты, которые благодаря своей популярности заполучали доступ не только к знати, но и к разным президентам, конгрессменам и магнатам. Хорошим примером этой новой элиты могли служить Великий магистр Том Большой Палец и — в ту пору — Верховный мастер Лавиния: во время свадебного путешествия они нанесли визит Аврааму Линкольну и его супруге Мэри в Белом доме. Верхушка секты старалась не упускать такие возможности, когда они предоставлялись. Той ночью в Лиссабоне Чикита также узнала, что на протяжении своей истории Нижайшие от случая к случаю взаимодействовали с другими тайными обществами. Они заключали союзы с карбонариями, с которыми соглашались в вопросе необходимости устранения всякого абсолютизма — как монархического, так и религиозного или гражданского, — а также с розенкрейцерами. С другими объединениями они, наоборот, старались исподволь бороться, избегая прямых стычек. Это касалось, например, Общества Ангела-истребителя, стремившегося возродить суд инквизиции в Испании, и ку-клукс-клана, поскольку лилипуты и карлики, сами извечно страдавшие от дискриминации, отрицали принцип превосходства одной расы над другой. Как любое тайное общество, орден Нижайших отличался тщательной избирательностью. Кандидатов подвергали различным испытаниям с целью узнать, стоит ли включать их в свои ряды, и в случае положительного решения их ждал сложный обряд посвящения. В конце все участники церемонии делали надрезы на пальцах, смешивали кровь в одном бокале и давали выпить новому члену. Подмастерья в ячейках не получали золотых подвесок, эта привилегия оставалась за высшими ступенями пирамиды. Орден вообще был далек от демократии. Великого магистра и четверых Верховных мастеров избирали не голосованием: их назначала некая нечеловеческая (точнее, сверхчеловеческая) сущность или власть, называемая Демиургом. Тут Чикита перебила Лавинию, чтобы выяснить, не одно ли и то же — Демиург и Бог? Великий магистр ответила уклончиво: «Возможно… хотя, вероятнее всего, нет».
В первые годы братства находить новых Верховных мастеров было ой как трудно, потому что они появлялись не из среды подмастерьев. Демиург всегда выбирал на эти посты людей, знать не знавших об обществе. Когда Верховный мастер умирал, остальные начинали искать замену, руководствуясь оракулами и указаниями «Книги откровений», довольно путаными. Найденному наконец карлику или лилипуту, на которого падал выбор Демиурга, открывали тайну существования ордена и вручали отличительный знак. Это непростое дело — разгадать волю Демиурга и найти избранного — отнимало иногда год или два. Поэтому один из руководителей ордена, карлик по имени Джепп, придумал вот что: если бы у них была математическая формула, позволявшая заранее рассчитать, кого в определенный момент Демиург призовет в Верховные мастера, это значительно облегчило бы всем жизнь. С такой формулой они экономили бы кучу времени и сил, загодя вычисляли заместителей и избегали суматошных поисков. Но как обзавестись такой формулой? Джепп надеялся, что датский математик и астроном Тихо Браге поможет им в этом. — Этот астроном тоже был карликом? — поинтересовалась Чикита и получила отрицательный ответ. — У ордена Нижайших мастеров Новой Аркадии всегда находились союзники и благожелатели среди людей обычного роста, — сказала Лавиния. — Назовем, к примеру, великого князя Алексея и королеву Лилиуокалани. Чиките рассказали, что этот Тихо Браге был одним из величайших умов XVI века, но, к сожалению, отличался большой гневливостью. Из-за чего даже лишился части тела. Однажды, когда ему было двадцать лет от роду — тогда он учился в Ростокском университете, — он отправился в гости к одному профессору и там повстречался с неким студентом. Молодые люди заспорили о математике, разгорячились, и дело кончилось дуэлью. На беду соперник Тихо оказался столь же сведущ в фехтовании, сколь в исчислениях, и одним ударом оттяпал ему нос. Тут, конечно, было отчего погрузиться в отчаяние, но Тихо Браге отнесся к утрате спокойно. Он смастерил себе искусственный нос из сплава золота и серебра, куда добавил чуточку меди для прочности и пущей схожести с цветом собственной кожи. Нос так ладно пришелся, что только при длительном рассмотрении можно было отличить его от настоящего. Правда, теперь астроному приходилось везде носить с собой шкатулку особой мази, чтобы приклеивать отпадавший порой протез[125]. Заметив, что Чикита нетерпеливо подскакивает на месте, Лавиния на миг прервала рассказ и спросила: — Тебе кажется, я потеряла нить и говорю о чем-то, не имеющем отношения к ордену? Это не так. Нос Тихо Браге сыграл свою роль в этой истории, скоро сама убедишься. Завершив обучение в университете, астроном долго разъезжал по разным королевским дворам Европы и поражал всех способностью предсказывать затмения и рассчитывать орбиты комет. Но потом Фредерик II, король Дании и Норвегии, попросил его вернуться на родину. Он посулил Браге остров Вен и немалое жалованье, а также обещал способствовать в строительстве обсерватории. Астроном с радостью согласился, поехал на остров и выстроил там замок под названием «Ураниборг», где провел в наблюдении за светилами двадцать лет. В ту пору Тихо нанял в шуты Джеппа (не подозревая, что имеет дело с Великим магистром тайного общества), и карлик вскоре вошел к нему в доверие. Джепп упросил хозяина найти, основываясь на перемещениях небесных тел, требуемую ордену формулу. Тихо воспринял просьбу как вызов профессиональной чести и годами ломал голову, пытаясь помочь своему шуту. Когда Фредерик II почил, Тихо Браге пришлось покинуть «Ураниборг» и согласиться на должность Imperial Mathematicus при богемском дворе. Там он увлеченно продолжал расчеты и наконец вывел формулу, представлявшую собой крест, составленный из трехзначных чисел. Он передал ее Джеппу и научил ею пользоваться. Это открытие, которым Великий магистр незамедлительно поделился с четырьмя Верховными мастерами, значительно облегчило им жизнь, поскольку позволяло истолковать волю Демиурга и находить будущих членов верхушки очень рано (как только те появлялись на свет). Но не только этим нововведением было ознаменовано пребывание Джеппа во главе ордена Нижайших. Ему принадлежала и другая важная инициатива. Всякий раз, обнаружив малыша, которому предстояло превратиться в Верховного мастера, члены общества умудрялись вручить его родителям отличительный знак и таким образом получали возможность присматривать за ним до момента вступления в братство. Родителям, разумеется, говорили, что это приносящий удачу талисман, а о существовании ордена помалкивали. Из этой части рассказа Чикита наконец-то узнала, для чего служат золотые шарики. Все они были связаны и составляли своего рода «сеть», благодаря которой Великий магистр и Верховные мастера могли общаться между собой. Кроме того, с их помощью можно было узнать, что делают, думают и чувствуют избранники Демиурга, будущие руководители ордена. Посредством разнообразных знаков (пульсация, изменение температуры, движение письмен, излучение света) мастера и магистр направляли судьбу избранных, давали советы, а подчас и помогали в минуты опасности. Формула Тихо Браге была длинной и сложной, но Джепп заставил мастеров выучить ее наизусть. Однако, не полагаясь полностью на память помощников, предпочел также поместить копию уравнения в какое-нибудь укрытие. Желательно надежное укрытие — ведь у секты имелись не только союзники, но и заклятые враги. Но где найти такой тайник? Стоило одному из мастеров предложить место, остальные его тут же отвергали. Вот уже несколько недель они спорили, куда спрятать формулу, как вдруг Тихо Браге скончался в результате пьяного загула. Пока труп тащили до кровати, металлический нос отклеился, упал на пол, и, прежде чем жена, дети и слуги астронома заметили пропажу, Джепп быстренько подобрал его. В суматохе он улизнул из дома, отнес протез к ювелиру и попросил выгравировать формулу на задней поверхности носа. Когда несчастный закончил свою работу, Джеппу ничего не оставалось, как заколоть его насмерть ради успеха тайного начинания. Он вернулся домой, объявил вдове, что нашел нос, и приставил обратно. Великий магистр не успел предварительно посоветоваться с мастерами, но те согласились, что лучше тайника не придумаешь. Вот как Тихо Браге, его нос и тайна ордена упокоились в костеле Девы Марии перед Тыном в Праге. — Когда ты родилась и уравнение подсказало нам, что тебе суждено стать избранницей Демиурга, мы поручили Драгулеску, который отправлялся в Америку с великокняжеской свитой, доставить тебе отличительный знак, — сказала Лавиния Чиките. — Все сложилось наилучшим образом благодаря великому князю Алексею Романову. Чиките уже порядком надоело слушать неправдоподобную, по ее мнению, историю секты, но, не желая обидеть Лавинию и Верховных мастеров, она умолчала об этом и только спросила: — Тогда кто же пробрался в мою спальню в «Хоффман-хаусе» и похитил талисман? И, что важнее, имеете ли вы отношение к гибели книжника Розмберка и детективов? — Нет! — с жаром воскликнула Лавиния. — Это сделали другие. И призналась, что вот уже несколько лет орден Нижайших мастеров Новой Аркадии пребывает в глубоком кризисе.
Трудности начались с того, что некоторые лилипуты из разных ячеек во Франции, Италии и Соединенных Штатах потребовали, чтобы их рассматривали в качестве кандидатов в Верховные мастера. По их мнению, несправедливо было искать каких-то незнакомцев на эти должности, когда в самом ордене имелось множество заслуженных членов. Они также хотели, чтобы из общества исключили карликов и оставили только «чистых» лилипутов. Им претило находиться в подчинении у нелепо сложенных, несоразмерных людей или даже просто иметь с ними дело как с равными на собраниях. Мятежники поставили условие: они будут вести переговоры только с самим Великим магистром. Лавинии пришлось встретиться с идеологом отколовшихся — Принцем Колибри, лилипутом из Финляндии, работавшим во многих европейских водевилях. — Если обстоятельства вынуждают нас вступать в беседу с подмастерьем, мы надеваем маски, чтобы остаться неузнанными, — пояснила Лавиния. — Итак, я закрыла лицо и отправилась на встречу с Принцем Колибри. Меня подмывало сказать ему, что он со товарищи — шайка самовлюбленных разбойников, но я сдержалась и постаралась сгладить противоречия. Я объяснила, что, согласно «Книге откровений», Верховных мастеров дано назначать только Демиургу. И так же с Великим магистром — после его ухода только Демиург решает, кому из Верховных следует стать преемником. Принц Колибри перебил ее и нагло заявил, что Демиург — всего лишь выдумка, предлог, которым пользуются «верхи», чтобы никого не допускать до власти. Лавиния поняла, что переговоры с бунтовщиками обещают стать тяжелыми, потому что цель этих, по ее выражению, «задавак» состоит не в обновлении братства, как они утверждали, а в его разрушении и создании собственного общества. Главари раскольников проявляли все большее неповиновение и в конце концов вовсе вышли из ордена Нижайших мастеров Новой Аркадии. После чего при пособничестве последовавших за ними подмастерьев создали общество исключительно для лилипутов, которое назвали «Истинные Нижайшие». Они устроили выборы своего Великого магистра, и победил Принц Колибри. Но в их стане не прекращалась внутренняя борьба, несколько членов новой секты отделились и от нее, основали еще одно братство и назвали его «Настоящие Истинные Нижайшие». Этим сборищем управлял шотландец, работавший в плохоньких цирках, по прозвищу Полковник Овод. — С тех пор все они норовят завладеть нашими отличительными знаками. — Тут Лавиния указала на свой золотой кулон и язвительно добавила: — Уж не знаю, что они собираются с ними делать. Они ведь понятия не имеют, как с ними обращаться, а мы даже под пытками не выдадим нашего знания. Но несмотря на эти смелые заявления, Чикита подметила, что Великий магистр весьма обеспокоена. И Лавинию легко было понять. До сего времени ни один из Верховных мастеров не предавал ее, но что, если вдруг? В Графе Магри, ее супруге, не приходилось сомневаться. Что касается Драгулеску, то он как карлик являлся persona non grata и для «Истинных Нижайших», и для «Настоящих Истинных Нижайших». Турок тоже всегда вел себя безукоризненно, но жизнь научила Лавинию ни за кого не ручаться головой… Горько признавать, но орден — уже давно не то единое и могущественное сообщество, что во времена Джеппа, Джарвиса и Борувлаского. Раскол нанес непоправимый урон. Доказательство плачевного положения дел — тот факт, что несколько месяцев назад кто-то обнаружил тайник с формулой поиска новых Верховных мастеров. Могилу Тихо Браге в Праге осквернили и выкрали у астронома (вернее, у его останков) металлический нос. Не имея доказательств, Лавиния и Верховные мастера были тем не менее уверены, что кощунственная выходка — дело рук «Истинных Нижайших» или «Настоящих Истинных Нижайших». — К счастью, они не знают, как пользоваться уравнением, — сказала Лавиния. — Но если они нашли тайник, значит, кто-то из вас проболтался! — порывисто воскликнула Чикита, и остальные наградили ее такими взглядами, что она тут же пожалела о сказанном. — Нет, я никого не обвиняю, — оговорилась она, — но ведь, кроме вас, про нос никто не знает, верно? Великий магистр предпочла не отвечать и продолжала: — От старика из «Пальмы Деворы» наши враги узнали, что ты владеешь отличительным знаком, и решили украсть его с тем, чтобы попытаться понять принцип действия. Именно они убили книготорговца, а затем и обоих детективов. Они всегда так поступают: режут и расчленяют людей почем зря, лишь бы устранить препятствия на своем пути. Мерзавцы! Тебя бы они тоже с наслаждением отправили на тот свет. — Так почему же не отправили? — удивилась Чикита. Лавиния загадочно улыбнулась, и ее муж ответил вместо нее: — Нет, синьорина. На такое они бы не отважились. Может, они и предали орден, но прекрасно знают, что в «Книге откровений» не зря написано: брат, который убьет другого без дозволения Великого магистра, дорого заплатит за свое преступление. — Да и вообще, они не хотят вашей смерти, — добавил турок на ломаном английском. — Они хотят заполучить вас в свои ряды. — Этого добивался Помпео, — вновь взяла слово Лавиния. — Или ты думала, он и вправду влюблен в тебя? Как ты наивна, дитя мое! Этому мошеннику поручили тебя соблазнить… Чиките не верилось, что страсть Помпео была наигранной, но она предпочла оставить свое мнение при себе. Они засиделись допоздна, уже почти рассвело. Едва не проваливаясь в сон и желая поскорее покончить с откровениями, Чикита взяла быка за рога и прямо спросила, чего ожидает от нее орден Нижайших мастеров Новой Аркадии. Если они намерены предложить ей пост в руководстве, она вынуждена их разочаровать. Ее карьера не оставляет на это времени. Она не хотела бы согласиться из банальной вежливости, а после не справляться с обязанностями, наложенными братством. — Дорогая, вы не вполне поняли, — добродушно отвечал Драгулеску. — Никто из нас не выбирал себе орден — орден выбрал нас. — Совершенно верно, — подтвердила Лавиния. — Секта никого не приглашает. Она назначает — и точка. С рождения нам предназначена эта миссия, и мы обязаны принять ее, нравится нам или нет. Мы собираемся два-три раза в год, если только не возникает непредвиденных обстоятельств, и распределяем задачи. — А если я откажусь участвовать? — дерзко спросила Чикита, выпятив подбородок, разрумянившись, сдвинув брови и потемнев взглядом. Лавиния терпеливо пояснила: даже если она не пожелает присутствовать на собраниях, ее астральный двойник будет отправляться туда по первому зову. Именно так — посредством астральных проекций — на ассамблеи являются все высшие члены ордена. Этим даром наделены все избранники Демиурга. Обладатели золотых шариков могут раздваиваться и находиться в двух местах одновременно. И сопротивляться бесполезно, потому что воля астрального тела не зависит от воли тела физического. И тут Лавиния напомнила Чиките о «русском сне», привидевшемся ей незадолго до отъезда из Матансаса. Пока ее тело спало в особняке, двойник встретился с Драгулеску и его приятелями в Санкт-Петербурге. Такому испытанию обыкновенно подвергали будущих Верховных мастеров, чтобы проверить, как им удается билокация. Чиките удалась превосходно. — Некоторые — очень немногие — подмастерья также обладают этой способностью, — посетовала Великий магистр. — Один из «Истинных Нижайших» или «Настоящих Истинных Нижайших» (мы так и не выяснили кто) воспользовался ею, чтобы проникнуть в ваш отель, выкрасть отличительный знак и бесследно исчезнуть. И затем Лавиния официально поприветствовала Чикиту в качестве нового Верховного мастера — занимавший прежде это место карлик из Александрии недавно преставился. «Книга откровений» предписывала провести церемонию посвящения незамедлительно, но время было такое позднее, что формальности решили отложить на потом. Все астральные тела вновь воссоединились с физическими: Лавиния и Граф Магри отправились в Портленд, где проживали в отеле; Хаяти Хассид вернулся в Лондон, поскольку был занят в одном из тамошних водевилей, а Драгулеску отбыл в Санкт-Петербург. Последней покинула Лиссабон Чикита, не забыв забрать остатки трескового паштета, чтобы лакомиться по дороге домой. Проснувшись в отеле на Манхэттене, она приняла было случившееся ночью за сон или, точнее, кошмар. Но тут явилась Рустика и все время, что помогала хозяйке одеваться, громогласно удивлялась, почему от той так разит треской. В течение следующих недель астральный двойник Эспиридионы Сенды был занят по горло — Верховные мастера по очереди наставляли ее и посвящали в тайны братства. Научили посылать сообщения с помощью золотого шарика, а также преподали азы тайного языка карликов. Поначалу Чикита пыталась не отвечать на вызовы Примо Магри, Драгулеску и Хаяти Хассида, но вскоре поняла, что это бесполезно. Она билоцировалась против своей воли, и двойник как миленький отправлялся на собрания, а физическое тело тем временем вышивало, писало письма или читало. Сперва билокация оставляла у нее ощущение некоей пустоты, но со временем она привыкла.
[Главы XXVI и XXVII]
Сделай милость, не хлопай так глазами. Понимаю, тебе трудно поверить во все эти истории про секту и билокации, и я тебя не осуждаю. Со мной было точно так же. Когда я печатал этот отрывок, то думал, что все — сплошное Чикитино вранье. Но потом пришлось мне передумать, потому что в Фар-Рокавей пару раз заставал удивительные вещи… Однажды я поздно вернулся, заметил свет в щелке под дверью кабинета, ну и пошел выключить — думал, Рустика забыла. Но кого же я увидал за дверью? Саму Чикиту. Она сидела на стуле и рассеянно поигрывала кулоном. Я спросил, почему ей не спится, а она устремила на меня отсутствующий взгляд, словно марсианка, и отмахнулась — вроде как велела убираться и оставить ее в покое. Я стал подниматься к себе в комнату и на пороге Чикитиной спальни встретил Рустику. Она сказала, что Чикита лежит и едва не плачет от боли в суставах, так что надо бы растереть ее бараньим жиром, авось поможет. При этих словах я нервно хихикнул и ответил, мол, Чикита не может лежать в данную минуту у себя в спальне, я только что видел ее в кабинете. Рустика смерила меня взглядом, щелкнула языком и подтянула за рукав к двери спальни. Дружище, я так и окаменел. Чикита лежала в постели и тихонько стонала. Уж не знаю, как это правильно назвать — билокацией или еще как, но она точно находилась в двух комнатах в одно и то же время. Да, да, честное слово. А с чего бы мне врать?Ну да ладно. Если ты надеялся, что в этих двух главах Чикита рассказывала про свои труды на благо братства или приобретенные эзотерические познания, вынужден тебя разочаровать. Об этом она и не заикалась. Хотя могла бы — во времена, когда мы писали книгу, орден уже распался, и никто не наказал бы ее за разглашение. Но она предпочла умолчать об этой стороне своей жизни. И так, по ее словам, открыла слишком многое. Ты заметишь, что в оставшейся части биографии секта упоминается редко и не напрямую. Панамериканская выставка открывалась только первого мая, и Чикита скрепя сердце согласилась отработать остававшиеся месяцы в одном из зоопарков Бостока, только уже не в Чикаго, а в Балтиморе[126]. Она приехала туда в середине января, обустроилась с Рустикой в фургончике и начала выступать, как всегда успешно. Заведение напоминало скорее цирк, чем зоосад. На сей раз Чиките выпало соревноваться не с ученой обезьяной, а с двумя укротительницами. Одна, Бесстрашная Пианка, показывала номер с медведями, а вторая, Мадам Морелли, завоевала известность как «дама с ягуарами». Они друг друга сильно недолюбливали, но, как только объявилась Чикита и стала переманивать публику, выкурили трубку мира и вместе ополчились против лилипутки. Что они ей устраивали? Ну, всякие ужасные подлости, сам знаешь, на что способны женщины. Поливали мочой выход из фургончика, швыряли жаб и тухлые яйца в окошки, пачкали углем простыни и платья, которые Рустика вывешивала на просушку. Чикита не хотела доставлять им удовольствия и притворялась, будто ей все равно, но сама слала Бостоку телеграммы с жалобами. Тот разъезжал по стране и отвечал, что устроит дрессировщицам головомойку, когда приедет в Балтимор, а пока придется Чиките потерпеть. В ту пору он управлял не только собственными шоу и зоопарками, но и вел дела с братьями Фрэнсисом и Джозефом Ферари, его земляками, также поднаторевшими в цирковом бизнесе. Некогда ему было разнимать артисток. Однажды вечером Чикита и Рустика услышали легкий стук в дверь фургончика. Тук-тук-тук. Бесстрашная Пиаика и Мадам Морелли уже так достали их своими шуточками, что они решили не отворять. Но стук не затихал, и Рустика не выдержала, выглянула в щелку и сообщила Чиките, что снаружи стоит очень низенький лилипут, прилично одетый и с виду порядочный. Чикита велела спросить, что ему угодно. Тот ответил, что у него дело чрезвычайной важности к мисс Сенде и протянул Рустике визитную карточку, на которой значилось: Принц Колибри. Чикита поняла, что к ней явился главарь мятежников, о котором такие ужасы рассказывала Лавиния, — Великий магистр «Истинных Нижайших». Она едва не отправила его восвояси, но потом подумала, что вряд ли от него так легко отделаешься и лучше уж покончить с этим поскорее, оделась, впустила незваного гостя и попросила Рустику оставить их наедине. К ее изумлению, раскольник не только выглядел, но и вел себя как настоящий джентльмен. Он поцеловал ей ручку, попросил прощения за то, что под давлением обстоятельств столь внезапно свалился ей на голову, и наконец рассыпался в похвалах ее красоте и таланту. — Покорно благодарю, — сухо ответила Чикита, — но вы, вероятно, не затем вытащили меня из кровати, чтобы говорить комплименты. Поняв, что ему тут не слишком рады, Принц Колибри перешел к делу: он приехал в Балтимор просить Чикиту стать на их сторону. — Дни старого ордена сочтены, — уверял он. — Новая Аркадия — закат одной эпохи лилипутов, а мы — будущее другой. — А что же тогда «Настоящие Истинные Нижайшие»? — колко осведомилась Чикита. — Эти вообще ничего не решают, — презрительно бросил гость. — Я отвергаю ваше предложение. Надеюсь, вы не утыкаете мне язык булавками, — с вызовом сказала Чикита. Принц Колибри усмехнулся и заверил, что ни один из его людей никогда не осмелился бы и пальцем ее тронуть. — Но в ту ночь, когда был похищен талисман, меня едва не задушили, — возразила Чикита. Глава «Истинных Нижайших» извинился за этот неприятный случай и попросил поразмыслить над его предложением. Ведь он даже не требует порвать с орденом и отказаться от должности Верховного мастера. Напротив, для него выгоднее, чтобы Чикита по-прежнему посещала собрания и рассказывала ему об обсуждаемых там делах. Этим он окончательно вывел Чикиту из себя. Ей было начхать на орден, она и на собрания-то являлась только потому, что не могла управлять своим астральным телом, но ее оскорбляла мысль о том, что она может стать предательницей. — Вы заблуждаетесь на мой счет, — сказала она, испепеляя мятежника взглядом, — я вам не шпионка. Не тратьте попусту время, пытаясь завербовать меня. — Мы располагаем и другими методами убеждения. В ваших же интересах вступить в наши ряды, — ответил «Истинный Нижайший» тоном угрозы. Чикита встала и указала ему на дверь. На прощание Принц Колибри пообещал, что они еще встретятся — и тогда Чикита, возможно, передумает. Вышел из фургончика и растворился во мраке. Эта встреча очень встревожила Чикиту. Она делала вид, что не напугана, но и восторга не испытывала при мысли о том, что в любую минуту ее могут умертвить, а язык — истыкать булавками. Несколько дней она не могла прийти в себя и от всего шарахалась. Рустика, ничего не знавшая ни про какие секты, думала, что она так переживает из-за издевательств укротительниц, день-деньской поила хозяйку успокаивающими отварами и очень удивилась, когда приехал Босток, а та и не подумала пожаловаться ни на Пианку, ни на Морелли. Чикита связалась с Лавинией и Примо Магри и рассказала о визите (она уже умела пользоваться кулоном в этих и других целях), но они не придали значения угрозе со стороны Принца Колибри. «Брехливая собака не кусает» — так они выразились. И все равно Чикита ожидала чего-то плохого. И плохое не замедлило случиться. Несколько дней спустя зоопарк сгорел дотла. Чикита думала, что «Истинные Нижайшие» просчитались, а вовсе не желали устраивать такой огромный пожар. Они собирались просто припугнуть ее, спалив пару ближайших к ней кибиток, чтобы она одумалась и вступила с ними в союз, но огонь разбушевался и пожрал все вокруг. К счастью, среди людей жертв не было, но знаешь, сколько зверей сгорело заживо? Многие сотни. Львы, тигры, ягуары, пумы, медведи, страусы, гиены, кенгуру, обезьяны, собаки — словом, какой-то кошмар, ад кромешный. Лишь немногим (тем, что не сидели в клетках) удалось спастись: слонихе, верблюдам, осликам… Один лев с отчаяния разворотил свою клетку, сбежал и держал в страхе весь Балтимор, пока его не изловили. Жуткая выдалась ночь. Чикита и Рустика словно бы вновь пережили пожар в Ла-Маруке. Пламя пожирало доски, картонные перегородки и парусиновые шатры, лампочки взрывались, стекла лопались, животные вопили от страха и боли, служащие и артисты метались в дыму в поисках выхода, и надо всем витал страшный дух паленого мяса. Прибывшие пожарные делали все, что было в их силах, но шлангов залить пекло не хватало. Тогда решили спасти оставшихся в живых зверей и распахнули настежь парадный вход. Но стало только хуже, потому что приток воздуха лишь подпитал огонь, и несчастные животные все равно погибли. Фургончик Чикиты постигла общая участь. Они с Рустикой вовремя выбежали и даже успели прихватить кое-какие памятные и ценные вещи, но сама Чикита вспоминала, что в ту ночь утратила почти все украшения, а также лучшие платья и шляпы. Если она и преувеличила, то не сильно: я сам видел в Фар-Рокавей газетную вырезку, в которой описывали небывалые масштабы этого страшного пожара[127]. Балтиморская катастрофа стала ударом для Бостока, но он отнюдь не разорился. По всем Соединенным Штатам у него было еще множество зверей. Да и те, что сгорели, надо думать, были застрахованы. До Панамериканской выставки в Буффало оставалось три месяца, и Босток отправил Чикиту работать в театрах в Вашингтоне, Сиэтле и других городах, чем очень ее порадовал, ведь она смогла прославиться в тех частях страны, где ее еще не знали. Денег водевили приносили неизмеримо меньше, чем ярмарки и зоопарки, зато в театре Чикита чувствовала себя подлинной артисткой. Когда она выступала в «Гранд-опера-хаус» в Вашингтоне[128], Лавиния срочно вызвала ее на собрание. Так Чикита узнала, что в назидание за пожар в зоопарке Принц Колибри и несколько его приспешников были казнены верными ордену подмастерьями и бандитами, нанятыми лично Великим магистром. Правда или ложь? Узнать можно, лишь прочесав все американские и европейские газеты того времени. Может, где-то в криминальной хронике и попадутся упоминания об убиенных лилипутах с утыканными булавками языками. Но кто станет проводить подобное расследование? Да и зачем? На Чикиту эта кровавая расправа произвела большое впечатление, и она поняла, что орден, даже переживая не лучшие времена, еще ох как может за себя постоять. «Истинные Нижайшие» остались без главаря, нового выбрать не сумели и за неимением мозговитого руководителя вскоре и вовсе распались. «Настоящие Истинные Нижайшие» также ослабели, и их постигла та же участь. Они и раньше уступали первым бунтовщикам в напоре и окончательно увязли, когда их начальник, Полковник Овод, отказался от должности Великого магистра (видимо, из страха получить свою порцию булавок) и пустил все на самотек. Так что, как гласит пословица, нет худа без добра. В результате балтиморского пожара орден избавился от врагов и продолжил работать на благо мира, который чем дальше, тем больше распоясывался. В Вашингтоне Чикита поселилась в шикарной гостинице. Не помню, как называлась, но где-то поблизости от Белого дома. В одном из тамошних люксов когда-то останавливалась Пенни Линд, Шведский Соловей. Чикита жила как раз в ее номере[129]. Знаешь, кто такая Йенни Линд? И чему вас только учат в университетах? Одному научному коммунизму, видать. А как же общая культура? Я кого ни назову знаменитого — ты никого не знаешь. Йенни Линд была великой певицей. Ее прозвали Шведским Соловьем, и она считалась безответной любовью Ханса Кристиана Андерсена. Я говорю «считалась», потому что сам-то грешным делом думаю, Андерсен играл за другую команду. А любовь к Йенни — сказочка, уловка, чтобы скрыть голубизну. Чикита рассказывала, что, живя в этом отеле в Вашингтоне, не раз слышала по ночам, как женский голос исполняет арии. Она считала, что это призрак Шведского Соловья, по непонятной причине застрявший в ее номере. Я, само собой, не поверил ни единому слову, да и Рустика, сидевшая с нами в тот вечер, состроила, слушая эту историю, насмешливую мину, как бы давая понять, что про привидение Йенни Линд — все враки. Я уже говорил, Рустика нечасто баловала нас своим присутствием, когда мы работали. А иногда Чикита сама отправляла ее на кухню, если не хотела, чтобы та услышала, как она диктует мне тот или иной отрывок. Но если уж Рустика была на месте, мне стоило только глянуть на нее искоса, и я уже знал — правду мне рассказывают или лгут. Ну, продолжим. В Вашингтоне шоу Чикиты увидел личный секретарь президента Мак-Кинли. Они с супругой[130] стали горячими поклонниками лилипутки, подружились с ней и через несколько дней сообщили приятное известие: президент приглашает ее в Белый дом. Представляешь себе, что это приглашение значило для Чикиты? Ей предстояло стать первой кубинской и первой латиноамериканской актрисой в гостях у президента Соединенных Штатов! Как ни посмотри, а это огромная честь. Так что Чикита сшила новое платье и подкупила драгоценностей взамен тех, что сгорели в Балтиморе, потому что хотела явиться на эту встречу сущей королевой. Ее Величество Чикита Лилипутская. Разумеется, узнав о возможности закрытых переговоров с самим Мак-Кинли, руководители ордена дали Чиките поручение обсудить темы, важные для будущего всего мира и особенно для лилипутов и карликов. Чикита в книге не называла этих тем, только замечала, что блестяще справилась с заданием и по результатам встречи Мак-Кинли принял несколько благоприятных для целей братства решений. Точно не помню, в какой день Чикита отправилась в Белый дом[131]. Секретарь президента провел ее в элегантно обставленную гостиную. Мак-Кинли появился через несколько минут со словами: «Добро пожаловать, мисс Сенда!» Чикита поклонилась и поблагодарила президента не только за прием, но и за все, что он сделал для кубинского народа[132]. Сегодня нам может показаться, что не очень-то патриотично благодарить за военную оккупацию острова и интервенционное правительство, но в начале 1901 года Чикита и многие другие придерживались иного мнения. Они считали, что кубинцы еще не готовы к свободной жизни и нуждаются в сильной руке, которая научит их республиканскому правлению и демократии. Чикита мечтала видеть Кубу суверенной и независимой, такой, за какую сражался ее брат Хувеналь, и думала, что переходный период не только полезен, но и необходим: так кубинцы привыкнут к цивилизованной власти и мало-помалу примут управление родиной на себя. А кто же справится с задачей лучше Соединенных Штатов, представляющих прогресс, современность и справедливость? Мало обрести свободу — надо еще научиться ею пользоваться. Чикита не хотела, чтобы Куба, подобно большинству бывших испанских колоний, превратилась в отсталую республику, погрязшую в коррупции. Позволь тебе заметить: когда она диктовала мне этот кусок, мы довольно сильно повздорили, потому что я совсем по-другому оценивал вторжение. Мой дед Эваристо Оласабаль, старый мамби, все мое детство на чем свет стоит ругал американцев и поправку Платта. Всегда твердил, что янки увели победу из-под носа у освободительной армии, а временное правительство нужно было только затем, чтобы при республике американцы снова могли вмешиваться в кубинские дела как только захотят. Чикита отвечала, что дед забил мне голову всякой чушью, а на самом деле за три года у власти временное правительствоуспело сделать много хорошего. Прежде всего американцы озаботились вопросами здравоохранения и гигиены, откровенно хромавшими прежде. Далеко не в каждом доме были уборные, а туберкулез и желтая лихорадка так и косили людей. Так вот, американцы решили исправить положение: стали строить канализационные трубы и стоки, починили водопроводы, вымостили улицы и отремонтировали дороги. Они же ввели трамваи на электротяге, чтобы на мостовых было меньше лошадиного дерьма, и начали раздавать крестьянам семена и рабочий инструмент. И сверх того создали тысячи рабочих мест для учителей, а также назначили выборы местной власти в деревнях и городках, чтобы люди привыкали голосовать. Почему же было не поблагодарить Мак-Кинли за все это? Наоборот, она могла бы и подольше рассыпаться в благодарностях. Я в долгу не остался и заявил вслед за дедом, что все это они устроили ради «американизации» Кубы. — И что с того? — вскипела Чикита. — А вы с дедом, поди, хотели, чтобы Куба, вместо Штатов, подражала какой-нибудь отсталой стране? Заруби себе на носу: когда американцы ушли, то оставили нам в наследство гораздо лучшее государство, чем досталось им во временное правление. Однако, что касается поправки Платта, Чикита признавала: подло было заставлять кубинцев принять ее как обязательное условие независимости. Но что поделаешь? Хозяевами положения выступали янки, и, как выразился Мануэль Сангили, лучше уж республика с поправкой, чем поправка без республики. — Но когда меня принимали в Белом доме, никакой поправки Платта еще не придумали, так что не встревай с ней, — сказала мне Чикита. В тот день в Белом доме Мак-Кинли говорил мало, все больше внимательно слушал Чикиту, интересовался ее жизнью и политическими пристрастиями. Беседа несколько увяла, когда президент спросил, в скором ли времени Чикита собирается вернуться на Кубу. «Одному богу ведомо…» — ответила она, и повисло долгое молчание. Затем Мак-Кинли предложил представить Чикиту своей супруге и провел в другую гостиную. Чикита и первая леди, тяжело больная и много выстрадавшая дама, так и не оправившаяся от утраты двух дочерей, превосходно поладили. На прощание президент вынул из петлицы сюртука гвоздику и приколол к платью Чикиты[133]. А через несколько дней Чикита получила подарок из Белого дома: ландо по ее мерке и двух карликовых пони в придачу.
Глава XXVIII
На Панамериканской выставке. Тысяча и одна диковинка «Радужного города». Чикита становится официальным талисманом. Автомобиль впору. Королева лилипутов. Новые встречи со старыми знакомыми. Первое предсказание Джезерит. Пуля Буффало Билла спасает Чиките жизнь. Тоби Уокер, или прыжок гигантской белки. Му lovely Chick[134]. Большой парад на Мидуэе.До первого мая 1901 года Буффало был интересен туристам разве что близостью к Ниагарскому водопаду. Но с этого дня все поменялось, и до первого ноября миллионы человек успели приехать в Буффало, ставший одним из самых посещаемых городов США, чтобы увидеть грандиозную Панамериканскую выставку. Выставка, призванная продемонстрировать достижения человечества и укрепить торговые связи между разными странами Америки, занимала площадь в триста пятьдесят акров и размещалась в сотне ярко раскрашенных павильонов (двадцать из них отличались монументальными размерами). Самым выдающимся сооружением стала Электрическая башня высотой триста семьдесят пять футов. Посетители могли подниматься на лифтах на самый ее верх, где располагались рестораны и смотровые площадки. На верхушке башни сиял гвоздь программы: Богиня света, женская фигура из кованой латуни с факелом в руке. Богиня как бы покровительствовала тысячам и тысячам людей, бродивших по выставке, и следила за мостами, проспектами, площадями, перголами, скульптурными ансамблями, «версальскими» садами, фонтанами, водопадами и озерцами, составлявшими тамошний ландшафт. Днем «Радужный город» — так окрестила пресса территорию выставки — радовал глаз яркими красками, а на закате обретал особое очарование: двести сорок тысяч электрических лампочек зажигались в один миг и освещали все закоулки. Устроители Панамериканской выставки, одержимые стремлением превзойти Всемирную выставку в Чикаго размахом и числом посетителей, вложили в свое детище несколько миллионов долларов[135]. Едва ли кому-то удавалось прежде собрать в одном месте столько разнообразнейших чудес. Попасть на выставку через один из семи входов (билет — в зависимости от времени суток и дня недели — стоил от двадцати пяти до пятидесяти центов для взрослых и от пятнадцати до двадцати пяти для детей) не составляло труда — гораздо сложнее было выбрать, к какой диковинке отправиться первым делом. С чего начать? Может, с павильонов, посвященных электричеству, сельскому хозяйству, станкостроению, транспорту, графике или горнорудному делу? С садоводческого салона, образцовой молочной лавки, выставки народных промыслов? Стенды каждого из штатов, Канады и других стран Америки также заслуживали внимания. У Кубы был собственный павильон с разными продуктам, куда крупнее, чем павильоны Мексики, Гондураса и Гватемалы. Проложить маршрут по выставке оказывалось непросто, особенно для людей семейных, ведь у леди, джентльменов и ребятишек вкусы разнились. Два извечных и известных конкурента, стратегически расположенные друг напротив друга, сражались за сладкоежек. В двухэтажном здании «Шоколада Бейкера» гости могли наблюдать весь процесс превращения бобов какао в разные лакомства и наслаждаться кружками горячего шоколада. В трехэтажном здании «Шоколада Лоуни» продавались восхитительные наборы конфет знаменитой марки и открывались прекрасные виды из сада на крыше. Но не станем обманываться: большинство, прогулявшись по «серьезным» павильонам и взглянув на консервы, электрические пишущие машинки, новейшие удобрения, стиральные машины и моторизованные фонографы, направляло стопы к Мидуэю. Именно там были сосредоточены забавы, больше всего нравившиеся обычным людям. На широком бульваре публику поджидало целое войско зазывал, трубачей, клоунов и людей-сэндвичей, предлагавших билеты на такие соблазнительные зрелища, как «Эскимосское селение» с иглу, собачьими упряжками и морскими львами или «Африканская деревня», где в весьма убедительных декорациях джунглей племя свирепых «людоедов» плясало под барабанный бой. Зайдя в двери «Прекрасного Востока», посетители попадали на шумный арабский базар, кишевший торговцами, сказочниками и шпагоглотателями. Там всякий желающий мог посмотреть верблюжьи скачки, увидеть дервишей, паривших на коврах-самолетах, и полюбоваться Фатимой и Фатмой (известными, как Малая Буря и Великая Буря), обольстительными исполнительницами танца живота. А тех, кто выбирал «Мексиканскую улочку», ждали тамали с чили и текилой, бой быков, гигантские кактусы, игуаны и танцоры, отплясывавшие гвадалахарский харабе со шляпами. Мидуэй представлял собой пестрый причудливый калейдоскоп, «опись мировых чудес». Там за полчаса можно было побывать на страусовой ферме, прокатиться на самой крохотной на свете железной дороге и подняться под облака на металлических колесах вертолета-аэроцикла. А также зайти в «Храм Клеопатры» (с фресками, показывающими сцены из жизни египетской царицы), прогуляться по «Старинной плантации», южной хлопковой усадьбе в миниатюре, содрогнуться при виде извержения вулкана Килауэа, который выглядел таким реальным, что публика вопила от ужаса, и посмотреть пару кинокартин в «Синеографе» и «Мутоскопе». Расстояния между странами чудесным образом сокращались: человек, только что дивившийся табору Стеллиты, владычицы трансильванских цыган, через минуту оказывался в «Японской деревне» среди самураев, гейш, цветущих сакур и паланкинов, а потом попадал в «Американскую Венецию», безукоризненный слепок с Безмятежнейшей, включая все палаццо, церкви, мосты, каналы и гондолы. После чего мучительно выбирал: отправиться на кровавое сражение между белыми всадниками и индейскими воинами (шоу «Дикий Запад» Буффало Билла, представляемое на стадионе для двенадцати тысяч зрителей) или поглазеть на Пифагора, «коня с человеческим мозгом», умевшего складывать, вычитать, умножать и делить. Днем и ночью публика осаждала помещение, где в инкубаторах лежали недоношенные детки. Управляющий, доктор Коуни, настаивал на сугубо научной, а не развлекательной природе младенческого инкубатора, но разместили его все равно на Мидуэе. Медсестрам и врачам, нанятым заботиться о младенчиках (родившихся в Буффало или окрестных поселках), стоило больших трудов утихомиривать шумных посетителей и напоминать, что они все же в больнице. И во всей этой веренице ярких и поразительных диковинок были особенно востребованы четыре дамы. Первая, Кора Беквит, чемпионка мира по плаванию, выступала в крытом бассейне — «Нататориуме». Народ валом валил посмотреть, как мощно сложенная британская русалка плавает и ныряет по девять часов в день, не выходя из воды ни под каким видом. Вторая, Вайнона, юная индианка из племени сиу, участвовала в Индейском конгрессе и славилась необычайной меткостью в стрельбе из винтовки[136]. Третья, Крошка Патти, девятилетнее дитя сицилийских эмигрантов, услаждала слух гостей «Американской Венеции» великолепным сопрано[137]. А четвертая, ясновидящая Джезерит, выступала в шоу «Уголки Каира» и предсказывала людям будущее по ушам (при условии, что уши были чистые). Предсказания Джезерит (что значит «святая») сбывались непременно и очень скоро, за несколько часов, а иногда и минут. Например, у одной беременной женщины, которой по идее оставалось до родов три месяца, начались схватки, как только она вышла с представления «Уголки Каира», в точном соответствии со словами Джезерит[138]. Но кое-кому уступали в популярности даже Кора Беквит, сиу Вайнона, Крошка Патти и гадалка Джезерит. Да и все остальные развлечения Мидуэя. То была Чикита, которой предоставили целый огромный театр, выстроенный по левую руку от «Большого шоу зверей» Бостока. Люди выстраивались в очереди, чтобы взглянуть на нее, и, словно горячие пирожки, расхватывали ее фотографии и цветные значки с ее портретами, специально заказанные Бостоком к выставке[139]. Полное превосходство кубинской артистки над всеми подтвердилось во время церемонии открытия, где устроители объявили ее официальным талисманом выставки. Сперва это звание ее не воодушевило. «Что я им, кошка или собачонка?» — возмущенно воскликнула она, узнав новость. Но Босток убедил ее, что стать талисманом столь значительного мероприятия — не только честь, но и прекрасная реклама, сулящая неплохие доходы им обоим. Поразмыслив, Чикита нехотя согласилась принять титул. Сначала она появлялась на парадах, проводившихся в рекламных целях на Мидуэе и главных улицах Буффало, в ландо, которое ей подарил президент Мак-Кинли. Но потом Босток придумал кое-что получше и договорился с автомобильной компанией Дженкинса из Вашингтона. Через несколько недель официальный талисман получил в дар нечто, что привело в буйный восторг одних и вызвало жгучую зависть у других: роскошный кабриолет темно-зеленого цвета, миниатюрную копию популярной модели «Виктория», с никелированными колесами и кожаными сиденьями[140]. Босток нанял шофером чернокожего лилипута и сшил ему шикарную форму. Всякий раз, когда Чикита усаживалась в кабриолет, чтобы появиться на параде или сделать круг по выставке между выступлениями, люди расступались и аплодировали. Крошечная звездочка сияла ярче всех прочих на Мидуэе. Композитор Эрвин Кеппен даже сочинил песню и посвятил ее Чиките: «respectfully dedicated to Chiquita the Doll Lady»[141]. Босток отпечатал партитуру в типографии, снабдив волнующим снимком артистки, и присовокупил получившуюся брошюрку к выгодному сувенирному бизнесу[142]. «The Lilliputian Queen»[143] (так называлась песня) стала своего рода гимном красоте и уму той, кого в тексте называли «sweet Chiquita»[144], «one of the world’s great wonders»[145]. Она исполняла эту песню в конце выступления, и зрители хором подхватывали припев. Каждый день Чикита выступала трижды, но все равно нашла время встретиться со старыми знакомыми и завести новых друзей. Например, она увиделась с королевой Лилиуокалани и нашла ее весьма одряхлевшей. Как будто после аннексии Гавайев годы разом навалились на бывшую государыню. Кроме того, выставку посетили мастерица фотографии Элис Остин, бывший импресарио Чикиты Ф. Ф. Проктор, который ледяным, но учтивым тоном поздравил ее с «многочисленными успехами», а также месье Дюран, управляющий «Хоффман-хауса». К тому времени он вышел на пенсию и совершал увеселительные поездки в компании Мигеля, статного и мускулистого юного мексиканца, которого представлял как своего крестника. Чикита была рада повидаться и с Розиной, заклинательницей змей, с которой так славно дружила в Омахе. Розина оставила сцену после того, как один из питонов едва ее не задушил. Она так напугалась, что избавилась от всех пресмыкающихся и вышла замуж за менеджера странствующего шоу «Иерусалим в день распятия», представлявшего посредством циклорам страсти Христовы. В Буффало она то и дело, вместо того чтобы помогать мужу, прибегала в гримерную или фургончик к Чиките, и они вспоминали старые добрые времена или обменивались сплетнями. Несколько раз Чикита сталкивалась и с Нелли Блай, знаменитой журналисткой, которая пять лет назад отвела ее в «Пальму Деворы», чтобы разгадать тайну амулета. Нелли находилась в Буффало не по заданию газеты. Она лично рекламировала товары «Айрон клэд мануфэкчеринг», одной из металлургических компаний своего престарелого супруга. От Нелли Чикита узнала новости про Патрика Кринигана. Ирландец все еще жил на Кубе, где ему, по всей видимости, очень нравилось, и недавно обручился с креолкой, дочерью лавочника. Чикиту это известие выбило из колеи. — Дважды он делал мне предложение, а я отказывала, — сказала она. — И все же мне неприятно представлять его с другой. — У сердца свои резоны, — поддакнула Нелли Блай и, заметив на шее у Чикиты талисман великого князя Алексея, поинтересовалась, как удалось его вернуть. — Пару месяцев спустя после похищения моя горничная Рустика пошла за рыбой, купила окушка и в животе у него нашла мой кулон, — не моргнув глазом, солгала Чикита. — Как в сказке про оловянного солдатика? — усомнилась Нелли. — Точно, — ответила Чикита и побыстрее распрощалась с приятельницей, под предлогом того, что ей пора на сцену.
Однажды днем, когда Чикита совершала автомобильную прогулку, ее шофер едва не врезался в Гонсало де Кесаду, кубинского дипломата, с которым у них вышла такая милая встреча на Всемирной выставке в Париже. Кесада очень обрадовался и представил Чикиту генералу Леонарду Вуду, военному губернатору Кубы, занимавшему этот пост с конца Испано-Американской войны. Чикита нашла широкоплечего, седовласого и пышноусого генерала весьма привлекательным и, несмотря на присутствие супруги, немного с ним пофлиртовала. С лукавой улыбкой она спросила, когда же ее родина станет наконец свободной и независимой. Генерал расхохотался и заверил, что наверняка в самом ближайшем времени… если ее соотечественники «и дальше будут себя хорошо вести»! Независимость не за горами, ведь кубинские руководители только что согласились включить в конституцию поправку Платта, которую Вашингтон считал необходимым условием и гарантией того, что республиканские правительства всегда будут достойными и честными. «И покорными янкам», — прошипела Рустика, узнав про этот разговор. Чикита сделала вид, что не услышала. Она уже давно предпочитала не говорить со служанкой о политике в отношении Кубы, поскольку такие разговоры, как правило, выливались в ожесточенные перебранки, а Чикита не желала испытывать никаких неприятных чувств. Она переживала лучшие дни своей жизни: у нее были деньги, слава, красота, да вдобавок нечто похожее на любовь зарождалось в ее душе. Мечта, обещавшая скорое счастье, была связана с одним скромным и привлекательным молодым человеком, недавно появившимся в жизни Чикиты… Но об этом потом. А пока оговоримся: не все встречи со старыми знакомыми доставили Чиките удовольствие. Эмма Гольдман явилась к ней на шоу, а в конце подошла поздороваться. Она месяц прогостила в Рочестере у своей сестры Елены, а теперь решила заскочить на выставку и по возможности обзавестись здесь новыми сторонниками. Чикита выказала холодную вежливость, но Гольдман не смутилась и при всем честном народе начала громко вспоминать тот вечер, когда в Чикаго полиция ворвалась на ее лекцию, и они с Чикитой оказались в одной камере. — После возвращения из Европы я опубликовала пару книжек и хотела бы тебе их прислать, — сказала анархистка, и Чикита, чтобы отделаться от гостьи, посоветовала отправить их на адрес выставки, а уж она не преминет с удовольствием погрузиться в чтение. Любой Мидуэй, даже самый захудалый, полнится сплетнями, и в Буффало их было хоть отбавляй. Когда Чикита с Розиной устраивали себе перерыв за чашкой чая и печеньем, тем для разговора всегда хватало. Вскоре к их посиделкам присоединилась и гадалка Джезерит. Незадолго до этого они в компании Рустики отправились в «Уголки Каира» проверить, правду ли говорят об удивительных способностях ясновидящей. Внимательно изучив Чикитино левое ушко (правые, по словам Джезерит, всегда были «немыми»), гадалка объявила, что лилипутке предстоит пережить большое потрясение, но со счастливым исходом. Пророчество исполнилось раньше, чем они ожидали. Когда Чикита возвращалась к себе в павильон, невесть откуда выскочила гигантская белка и жадно набросилась на нее, вероятно привлеченная золочеными пряжками ее туфелек. Это был откормленный косоглазый самец с мощным хвостом, которого выставляли в «Индийском селении». Каким-то образом он умудрился удрать из клетки[146]. Рустика и Розина так переполошились, что только и смогли завизжать и обняться в полной уверенности, что Эспирионе Сенде пришел конец. Но когда белка уже норовила вгрызться в Чикитину плоть своими могучими клыками, раздался выстрел, и грызун пал к ногами лилипутки, забрызгав все кругом кровью и мозгами. Пуля, спасшая Чиките жизнь, вылетела из револьвера самого Буффало Билла. Знаменитый охотник отпихнул беличий труп носком сапога, присел на корточки и галантно взял дрожащую Чикиту под ручку. — Как вы себя чувствуете? — осведомился он, снял шляпу и, когда перепуганная жертва заверила, что все в порядке, добавил: — Я знаю, у вас контракт с мистером Бостоком, устраивающий вас обоих, но послушайте, что я скажу: если когда-нибудь устанете от него, сразу же разыщите меня. Я сочту за честь заиметь артистку вашего ранга в «Диком Западе». Буффало Билл подмигнул, надвинул шляпу на лоб и поднялся на ноги. Развернулся и, не удостоив взглядом Розину, Рустику и собравшихся зевак, удалился, позвякивая шпорами. После этого происшествия Джезерит и Чикита стали не разлей вода. Каждый день они в гримерной лилипутки обсуждали свежие слухи. Однажды, пока они дожидались Розину к чаю, гадалка снова осмотрела Чикитино левое ухо и выдала новое предсказание. — Не пугайся, — успокоила она подругу. — Тебя ждет что-то приятное, — и объявила, что Чикита вскоре влюбится. В кого и когда именно — оставалось неясным, ухо на этот счет «молчало». Но предстоящая страсть точно изменит всю ее жизнь. При иных обстоятельствах Чикита вряд ли бы так просто поверила, но после случая с белкой она поняла, что предсказания Джезерит лучше не пропускать мимо ушей. Однако это предначертание сбылось не так скоро, как предыдущее. Тоби Уокеру предстояло появиться в жизни Чикиты лишь через несколько дней. Зато когда он туда ворвался, то действовал не менее напористо, чем самец гигантской белки, — правда, Чикитину плоть он не стал грызть мощными клыками, а покрыл горячими поцелуями.
Американцы называют так цыплят — «Chick», а еще девушек. Тоби нежно обращался к Чиките: «Chick, ту lovely Chick…» Но это, разумеется, уже когда они поняли, что их прежняя нежная дружба перерастает в неукротимую, неподвластную никому и ничему страсть. Сначала он относился к Чиките со всем возможным почтением и благоговением. Обращаясь, всегда добавлял «мисс Сенда». Да по-другому и быть не могло. Чикита — звезда Мидуэя, а юный Тоби — всего лишь человек-сэндвич, один из многих, нанятых рекламировать ее шоу. Тоби Уокер приехал в Буффало из Эри в надежде найти работу на те месяцы, что будет длиться Панамериканская выставка. Ему повезло, Босток сразу же взял его, и на следующий день он уже прохаживался по Мидуэю, закованный, словно в доспехи, в два рекламных щита — на спине и на груди — с афишами выступлений Чикиты. В свободное время Тоби просачивался в театр и любовался танцующей и поющей лилипуткой. Однажды его попросили доставить Чиките в фургончик букет цветов, и, воспользовавшись случаем, он выразил актрисе восхищение. От чаевых отказался, но взамен попросил подписанную фотографию. С этой минуты Тоби стал личным курьером Чикиты. Когда что-то требовалось — от ледяной газировки до таблетки от мигрени, — Рустика окликала его и посылала раздобыть. Так между артисткой и служащим возникла взаимная симпатия, переросшая во влечение, переросшее в любовь. Днем они едва успевали перекинуться парой слов, но после полуночи, когда выставка засыпала, встречались у дверей фургончика и часами не могли наговориться. Тоби был простой малый, но далеко не дурак. Он пылал жаждой знаний и всегда просил возлюбленную рассказать о последних научных достижениях и о странах, где ей довелось побывать. А сам живописал, какую черешню и виноград выращивают его дед и бабка у себя на участке и каких карпов, тупохвостых форелей и желтых окуней он с братьями, бывало, вылавливал в озере Эри. Взявшись за руки, они любовались ночным небом, и Чикита показывала Тоби созвездия. Иногда они обменивались целомудренными отроческими поцелуями, прерываемыми Рустикиным многозначительным покашливанием. Как-то вечером, просветив Тоби насчет электричества, беспроводного телеграфа, рентгеновских лучей и прочих чудес современного мира, Чикита сказала: — Уже поздно, а завтра большой парад на Мидуэе. Тебе нужно выспаться, или утром на тебе лица не будет. Юноша поморщился и нехотя встал, но тут же снова уселся рядом с Чикитой, зарделся, словно дедова черешня, и, устремив взгляд на свои огромные башмаки, попросил позволить ему остаться на ночь. — Я тебя не потревожу, Чик, — сказал он и поднес руку к сердцу. — Честное слово, просто хочу посмотреть, как ты спишь. Растроганная Чикита ощутила, как время отступает назад. Она словно вернулась в те годы, когда болтала с кузинами Экспедитой, Бландиной и Эксальтасьон про поклонников и красавчиков, и не смогла отказать Тоби в том, о чем он так мечтал. Рустике пришлось вытащить свою койку из фургончика и, кляня судьбу, ночевать под звездами. Как и следовало ожидать, человек-сэндвич не сдержал пуританского обещания, и парочка утолила свою страсть. Тоби в два счета раздел Чикиту и как завороженный уставился на ее тонкую талию, высокую грудь, нежные, будто персики, ягодицы и округлые бедра. Но вскоре пришел в себя и стянул брюки, в свою очередь поразив Чикиту великолепным зрелищем своей мужественности. О да, несомненно, мать-природа очень щедро одарила этого тощего, долговязого и веснушчатого уроженца Эри. Тоби Уокер мог бы потягаться с самим незабвенным Томасом Карродеагуасом, только его инструмент был не темным, как тропический плод каймито, а ангельского нежно-розового оттенка. У Чикиты не хватало пальцев на руках и ногах, чтобы пересчитать всех мужчин, с которыми она успела вступить в интимную связь к своему тридцати одному году, но тут она растерялась и в первую минуту не могла понять, как ей поступать с этим. Всякое проникновение представлялось опасным: она не хотела после ночи любви оказаться на больничной койке. И все же она не спасовала. «Кто не рискует, тот не пьет шампанского», — подбодрила она саму себя и, подчиняясь инстинктам, начала целовать, гладить, тереть, лизать и сосать все более рьяно. Вскоре ей показалось, что все эти «О да, Чик, вот так, Чик, не останавливайся, умоляю, Чик!», которыми Тоби вознаграждал ее усердие, становятся слишком громогласными и вся Панамериканская выставка уже в курсе происходящего между ними. Но она отогнала эти мысли и позволила любимому — а после и себе — кричать от наслаждения сколько влезет. Когда в окошко пробились первые лучики рассвета и напомнили, что пора прощаться, Чикита и Тоби Уокер были столь же утомлены, сколь ублажены. — Я люблю тебя, Чик, — прошептал озерный юноша и, крепко прижав Чикиту к своей белесой безволосой груди, словно только что выловленную тупохвостую форель, норовящую ускользнуть, добавил: — Ты замечательная, и я хочу всегда быть с тобой.
Любовь творит чудеса. Через несколько часов цветущая и румяная Чикита уже блистала на Мидуэе, и никто не заподозрил бы, что она глаз не сомкнула всю ночь. Большой парад, начавшийся у Триумфального моста, получился грандиозным. Открывал его отряд часовых в белых брюках, голубых куртках и полированных шлемах, а также оркестр. За ними сто индейцев в роскошных уборах из перьев ехали верхом, и множество шло пешком. А кто же следовал за индейцами в автомобиле, сделанном по ее мерке, помахивал собравшейся по обе стороны бульвара толпе и посылал нежные воздушные поцелуи? Не кто иной, как официальный талисман Панамериканской выставки, Королева лилипутов, прославленная Чикита. Сразу за ней на трехколесном велосипеде катил Фрэнк Босток со львенком на коленях. Его доблестные укротители во главе с Капитаном Джеком Бонавитой вели за собой целую уйму зверей, словно сбежавших с Ноева ковчега: тигров, слонов, кенгуру, носорогов, зебр, верблюдов, медведей, пантер, волков, лис, антилоп, обезьян, ястребов и многих других. Затем на параде появлялись представители главных аттракционов Мидуэя: поющие и пляшущие под звуки мандолин Арлекин, Коломбина и Пульчинелла из «Американской Венеции»; острозубые тагальские воины в набедренных повязках, вооруженные луками и стрелами, из «Настоящих Филиппин»; дюжие крестьянки из «Немецкой деревни», несущие головы сыров, связки сосисок и банки варенья, а с ними — молочные коровы с отвисшими выменами и недавно выкупанные поросята; акробаты и кукловоды из «Японской деревни»; гавайские девушки, танцующие хулу, в цветочных гирляндах; негры и негритянки со «Старинной плантации», поющие заунывные спиричуэлс; атлетичная Кора Беквит в стеклянном аквариуме на колесах, который толкали несколько клоунов; бородатые мореплаватели-викинги при латах, щитах и мечах; развеселые цыгане и их владычица, красавица Стеллита на повозке, запряженной страусами; факиры, джинны и гурии из «Прекрасного Востока»… Почти в самом конце разношерстной процессии гордо вышагивали медсестры с младенцами из инкубатора на руках, а завершали парад несколько десятков ковбоев и индейских вождей из шоу «Дикий Запад» под началом Буффало Билла и знаменитейшей Бедовой Джейн.
Глава XXIX
Президент посещает Панамериканскую выставку. Говорящее ухо Леона Чолгоша. Чета Мак-Кинли навещает Чикиту. Неожиданное появление Микаэло, незаконного сына дона Бенигно Сенды. Клич за свободу Кубы. Путешествие на Луну. Кровь в «Храме музыки». Агония президента. Убийца отправляется на электрический стул. Королева Тумана бросается в Ниагарский водопад. Замужество Чикиты. Трагическое происшествие в цирке Бостока. Джамбо чудом спасается.Несколько недель Чикита упрекала себя в том, что не смогла предотвратить гибель президента Мак-Кинли. Умом она понимала, что ни в чем не виновата и ведет себя глупо, но никак не могла избавиться от угрызений совести. «Если бы я действовала быстрее, бедняга, может, сейчас сидел бы у себя в Белом доме целый и невредимый», — вздыхала она. Рустику это нытье порядком утомило, и она заявила, что каждому отпущена своя участь: если уж президента настиг кровавый конец, то, видно, Господь Всемогущий так судил по причинам, каковые следует смиренно принять, не требуя объяснений. Все идет как должно, а не как нам хочется. «Пальмового листа, который тебе предназначен, даже ослы не сожрут, — повторяла она, а еще твердила: — Понос незрелой гуаявой не лечат». Но пословицы не подняли Чиките настроения. Факты, собственно, свидетельствовали о правоте Рустики, ведь Мак-Кинли должен был отправиться в Буффало не в сентябре, а четырьмя месяцами ранее, и произнести речь по случаю открытия Панамериканской выставки, но хрупкое здоровье Иды, первой леди, воспрепятствовало поездке, и Мак-Кинли послал вместо себя вице-президента Рузвельта. Все лето президент забрасывал вопросами всякого, кто возвращался с выставки. Его стол был завален брошюрами, представлявшими разные павильоны. Мак-Кинли мечтал своими глазами увидеть Электрическую башню, но супруга была слаба здоровьем по-прежнему, а он не хотел ехать без нее. Наконец, когда миссис Мак-Кинли стало немного лучше, они погрузились в специальный поезд и с немногочисленной свитой отбыли в Буффало. И Ида, и Джордж Б. Кортелью, секретарь президента, были не в восторге от поездки. Ей вообще не слишком нравилась роль первой леди, она старалась избегать официальных мероприятий и с куда большим удовольствием вязала бы крючком в семейном особняке в Кантоне, штат Огайо. Кортелью, со своей стороны, считал довольно рискованным трехдневное пребывание на выставке и всячески пытался отговорить президента от плана. Он страшно пекся о безопасности и в любой толпе видел возможную угрозу. Но Мак-Кинли настоял на своем, и четвертого сентября 1901 года в пять часов вечера его встретили в Буффало полк ветеранов Гражданской войны, давший двадцать один залп в честь высокого визита, а также сотни взбудораженных граждан, мечтавших пожать президенту руку. В сопровождении военного оркестра и почетного караула супруги Мак-Кинли в открытом экипаже въехали на территорию Панамериканской выставки. Вечерело, и близ Электрической башни зажглась надпись из разноцветных лампочек: «Добро пожаловать, президент Мак-Кинли, лидер нашей нации и наших владений!» Мистер Джон Мельбурн, директор выставки, провел для гостей краткую экскурсию, чтобы они составили представление о масштабах мероприятия, а затем отвез в резиденцию, где они намеревались провести следующие три дня. За пару часов до прибытия президентского поезда Чикита сидела у себя в фургончике, попивала чаек с любезными Розиной и Джезерит, и вдруг к ней явился нежданный гость. Некий юноша привез ей книги от Эммы Гольдман и непременно хотел передать их лично в руки. Лилипутке пришлось впустить его и принять посылку в присутствии подруг. Молодой человек, представившийся Леоном Чолгошем, был бледный, робкий и довольно неопрятный. Чиките он вовсе не понравился, но она из вежливости пригласила его за стол. Чолгош, заикаясь, поблагодарил, но отказался — он спешил встречать президента. — Вы ученик миссис Гольдман? — поинтересовалась Чикита, чтобы поддержать светский разговор. Юноша кивнул и сказал, что недавно побывал на весьма вдохновляющей лекции анархистки в Кливленде, а потом случайно встретился с ней в Чикаго и рассказал, что собирается в Буффало на выставку. Тогда-то Гольдман и попросила доставить Чиките книжки. — Она необыкновенная женщина, знакомство с ней изменило меня, — выпалил Чолгош. — Послушав ее рассуждения, я осознал, какова моя миссия. Чиките и ее приятельницам было решительно все равно, какова его «миссия», и они промолчали, давая понять, что пора бы завершить визит. Юноша воспринял намек, неразборчиво попрощался и, спотыкаясь, спустился по ступеням фургончика. — Какой он странный, — заметила Розина, прихлебывая чай. — По-моему, он не в себе, — ответила Чикита. — И неудивительно, если Гольдман и все эти ненормальные заморочили ему голову. Египтянка молчала, они обернулись и заметили, как она побледнела. Тогда Джезерит заговорила. По ее словам, этот молодой человек с темными кругами под глазами, редкими усиками и безумным взглядом намеревался кого-то убить. — Ты уверена? — поразилась Чикита. — На убийцу вроде не похож, — возразила бывшая заклинательница змей. — Я все время смотрела на его ухо, и уверяю вас, этот Леон Чолгош, или как его там, задумал убийство, — заявила Джезерит, раздраженная недоверием подруг. — Не разглядела, кого именно он хочет прикончить, — он вот уже несколько дней не моет уши, и там полно серы, — но точно говорю вам, это готовый преступник. — Может, отомстит какой-нибудь барышне, которая ему отказала, — пошутила Розина. — Да уж, бедняга далеко не красавец, — заметила Чикита, но тут Джезерит сказала, мол, не ей, голубушке, судить о мужской красоте. — С тех пор как ты связалась с Тоби Уокером, у тебя все, кроме него, не красавцы, — пояснила она, а Розина одобрительно расхохоталась. Вошла Рустика и напомнила, что Чиките пора в театр на следующее выступление. «Проклятие! Если я не потороплюсь, мой муженек снимет с креста Иисуса и распнет меня!» — взвизгнула Розина и пулей унеслась в свой «Иерусалим». Джезерит, напротив, никуда не спешила. Она могла отлучаться из своего шатра в «Уголках Каира» на сколько душе угодно, ни перед кем не отчитываясь. Перед выходом на сцену Чикита попросила Рустику избавиться от книг Гольдман. «Вы что же — и посылку не откроете?» — с упреком спросила Рустика. «А зачем?» — пренебрежительно ответила лилипутка. В эту минуту пианист заиграл вступительные аккорды «Мулатки с корзиной фруктов», и она с улыбкой от уха до уха отправилась на сцену, обмахиваясь веером.
На следующий день на Панамериканскую выставку явилось больше посетителей, чем обычно. Этого и следовало ожидать, ведь газеты уже написали, что президент собирается произнести речь и почтить своим присутствием несколько павильонов. Официальный талисман втайне надеялся, что президент сходит и на ее шоу или по меньшей мере заглянет поздороваться. В конце концов, она бывала в Белом доме и лично знакома с мистером Мак-Кинли. Но, боясь насмешек, Чикита покуда оставила свои надежды при себе. Четверг вышел хлопотным. Чикита раздала столько автографов, что заработала мозоль на большом пальце, и не успела, вопреки обыкновению, недолго побыть наедине с возлюбленным. Она наскоро поцеловала его за кулисами и пообещала ночью вознаградить особыми ласками. Супруги Мак-Кинли прибыли около десяти часов утра. Первым делом они в сопровождении роя конгрессменов, сенаторов и дипломатов отправились в правительственное здание, павильон сельского хозяйства и к стендам приглашенных стран. Отобедали в представительстве штата Нью-Йорк, после чего, как и было условлено, президент с трибуны на Триумфальном мосту обратился к пятидесяти тысячам собравшихся на эспланаде с речью. Чикита на речь не успела, но ей рассказали, что это был оптимистический гимн науке, будущему страны и торговому обмену между американскими государствами. Затем президент продолжил экскурсию. Телохранители неотступно следовали за ним, но он не облегчал им задачу, поскольку не ограничивался помахиванием шляпой — на чем настаивал секретарь, — а то и дело останавливался, пожимал руки и беседовал с гражданами. Покончив с «серьезной» частью выставки, обитатели Белого дома отправились на Мидуэй. Тут они проявили избирательность. Зашли на «Старинную плантацию», заглянули в пару национальных «деревень» и переместились во владения Короля Зверей. Босток послал президенту приглашение — выжженное на изнанке леопардовой шкуры — на шоу в его честь, и приглашение было принято. Мак-Кинли желал лично убедиться в невероятных, по рассказам Рузвельта, размерах и талантах Джамбо, девятитонного слона, выкупленного Бостоком у британской армии. Во время шоу сам Босток вывел Джамбо на арену и заставил склониться в реверансе перед первой четой. Потом приглашенные увидели номер грациозной Мадемуазель Бофор с ее дрессированными гиппопотамами, а также Исава, «неизвестное науке звено эволюции», орангутанга, умеющего кататься на велосипеде, курить, завязывать галстук, пить шампанское и орудовать ножом и вилкой. Дабы с блеском завершить программу, Капитан Бонавита вывел из клеток двадцать семь тигров, заставил их вскарабкаться друг другу на спины, составив пирамиду, а сам взобрался на верхушку. Театр Чикиты находился в двух шагах, и президент с супругой, ведомые Бостоком, решили поприветствовать старую знакомую. Завидев их, Чикита прервала дансон Саумеля «Пепины глазки», объявила о прибытии высоких гостей и позвала их на сцену. Зрители повскакивали на ноги и оглушительно захлопали, когда Мак-Кинли неожиданно резво для своих пятидесяти восьми лет нагнулся и поцеловал артистке руку. Босток аж лопался от радости: как только известие о президентском визите просочится в прессу, очереди на выступления официального талисмана станут вдвое длиннее. После ужина президент опять появился на выставке, чтобы полюбоваться Электрической башней и прочими подсвеченными зданиями. Ида Мак-Кинли осталась дома: на следующий день они должны были отправиться на Ниагарский водопад, и она нуждалась в отдыхе.
Розина и Джезерит, конечно, ничего такого не сказали, но в пятницу утром Чикита заметила, что их снедает зависть. Во время прогулки по Мидуэю президент не зашел ни в «Уголки Каира», ни в «Иерусалим», и своими глазами они так его и не увидели, а Чиките он не только нанес визит, но и поцеловал руку на глазах у сотен зрителей. — Ох, хотела бы я предсказать ему будущее, — призналась Джезерит. — И не мечтай, — охладила ее пыл Розина. — Завтра он уедет, так и не узнаешь — волосатые у него уши или нет. Чиките захотелось их приободрить. Если уж им так неймется повидать президента вблизи, то нынче в четыре часа им представится такая возможность. Мак-Кинли собирается на органный концерт в «Храм музыки» и наверняка в начале действа поприветствует народ. — Приходите пораньше, — предупредила она. — Вы ведь не одни такие. После обеда Рустика растолкала Эспиридиону Сенду, имевшую обыкновение вздремнуть перед первым вечерним шоу. Вид у нее был такой, словно ей явилось привидение. — Помните Микаэло? — затараторила она и, сообразив, что Чикита понятия не имеет, о ком идет речь, объяснила: — Ну, старшенький Пальмиры, мулат, шустрый такой еще. Чикита спросонья кивнула. Ну разумеется, теперь вспомнила. Микаэло, любимый незаконный отпрыск Бенигно Сенды. Единокровный брат ее отца. Как не помнить? Он всегда защищал ее во время наездов в Ла-Маруку. Везде за ней ходил и отгонял дворовых псов, норовивших ее обнюхать. Много воды с тех пор утекло. Больше двадцати лет. К чему это Рустика про него завела? — Он там на улице и при нем еще парень и девушка, оба белые, говорит, им надо срочно вас повидать, — сказала Рустика. — Увидите — обомлеете. Симпатичный, высокий, словно пальма, а одевается и говорит как настоящий кабальеро. А глаза-то зеленые, ни дать ни взять светлячки. Точь-в-точь как у вашего почтенного дедушки, прости, Господи. Так я приглашу их? Чикита нерешительно засопела. Времени оставалось в обрез, но ей стало так любопытно взглянуть на Микаэло Сенду (да, все бывшие рабы из Ла-Маруки носили фамилию хозяев), что она решила принять родича. Рустика не соврала: молодой человек был очень хорош собой. Черты лица довольно тонкие, плечи широкие, ноги крепкие — аж брюки лопаются, улыбка открытая. Сочетание светлых глаз и кожи, цветом напоминающей бумажный кулек для карамелек, показалось Чиките очаровательным, и она подумала, что при виде такого типажа любая потеряет голову. Даже она сама… но, к сожалению, ей известно, что по их жилам бежит одна и та же кровь. — Простите, что заявляюсь вот так вдруг, столько лет спустя, — начал Микаэло, — но мы с друзьями должны просить вас о важной услуге. Девушка, пришедшая с Микаэло, выступила вперед и взяла слово. Она тоже была очень красива и, судя по тому, как она выражалась, по ее манерам и общему лоску, происходила из хорошей семьи. — Мы с Микаэло и моим братом специально приехали из Вашингтона, чтобы сегодня вечером оказаться здесь, — напористо сказала она. — У нас есть обязательства перед нашим возлюбленным отечеством, и ничто не помешает нам исполнить их. И она начала всячески поносить поправку Платта, «оскорбительный отросток», присовокупленный американцами к конституции будущей кубинской республики. Да, члены Учредительного собрания проголосовали за поправку, но только ради того, чтобы Соединенные Штаты отстали от Кубы и позволили ей составить собственное правительство. Следует привлечь внимание к грязной уловке гринго, и именно за этим они явились в Буффало. — Сегодня днем, когда президент придет на концерт в «Храм музыки», мы поднимемся и раздадим людям листовки с требованием безусловной свободы и независимости Кубы, — раскрасневшись, продолжала девушка, и по тому, как она оперлась на руку Микаэло (интересно, почему не на руку брата?) Чикита догадалась, что у них с мулатом любовь. — Скорее всего, нас арестуют и депортируют, — впервые заговорил третий делегат, — но честь родины стоит и не таких жертв. — А мне-то к чему все это знать? — недовольно фыркнула Чикита. — Вы не соображаете, что одними только этими словами втягиваете меня в преступление? — Кто мы такие? Три сопляка. А вы — звезда! Сам президент принимал вас в Белом доме, — ответил Микаэло. — Если вы пойдете с нами в «Храм музыки», этот глас вопиющего в пустыне услышит больше людей. О нашем кличе напишут в газетах, и весь мир узнает, что происходит на Кубе. — Вы, верно, рехнулись? — медленно проговорила Чикита. — Я не могу так поступить с мистером Мак-Кинли. Это все равно что вонзить кинжал ему в спину. — Это Кубе и идеалам, за которые пали наши патриоты, нанесли удар кинжалом в спину, — взвилась девушка и, с вызовом глядя Чиките в глаза, добавила: — В их числе пал и ваш брат, сеньорита Сенда. — Я васпонимаю, Чикита, — примирительно произнес Микаэло. — Но позвольте уточнить: наш протест направлен не против господина Мак-Кинли лично, а против его правительства. — Против империи, которая лишила наших соотечественников права быть свободными без опеки какой-либо метрополии! — поддакнул брат. У Чикиты застучало в ушах. Давление, что ли, поднялось? — Сожалею, — ответила она. — На меня не рассчитывайте. Все трое наперебой принялись уговаривать ее, повторяя на разные лады те же доводы, но, поскольку официальный талисман только отрицательно качал головой и уже не вслушивался, они в конце концов отступились. — В любом случае позвольте вручить вам кое-что, — разочарованно сказала девушка, извлекла из саквояжа прелестное платьице в цветах кубинского флага и вложила Чиките в руки. — Мы надеялись, вы наденете его в «Храм музыки». — Вдруг вы все же передумаете? — сказал на прощание Микаэло, и они втроем покинули фургончик. — Нет, каково? — воскликнула Чикита, обращаясь к Рустике, которая все время находилась здесь же. — Почему все думают, будто могут вертеть мною, как марионеткой? Рустика двусмысленно хмыкнула, забрала у хозяйки платье-стяг, внимательно рассмотрела и заметила, что сшито оно на славу. — Можно подумать, у них и мерки ваши были. Сядет как влитое. Изволите примерить? Чикита нехотя согласилась. Платье сидело великолепно. — Не убедили они вас? — промурлыкала Рустика. — По мне, так они правы в каждом слове. — И ты туда же? — рассердилась Чикита. — Что такого, что американцы преподают нам ускоренный курс демократии? Все только и твердят, что они явились к самому концу уже выигранной войны. Да только никто не вспоминает, что многие вожаки мамби перессорились между собой и каждый лез со своей волей. Какое бы у них получилось правительство, если они от зависти готовы были глотки друг дружке перегрызть? Я вот думаю, не так уж страшна эта поправка, как ее малюют. В конечном итоге Штаты прибегнут к ней, только если наше правительство плохо себя поведет. Рустика запальчиво возразила, мол, в этом-то и беда. Где это видано, чтобы одна свободная республика надзирала за другой? Разве Франция командует Англией? Или, может, Германия сует нос в дела Испании? — Неуважение, одним словом, — заключила она. Чикита нетерпеливо топнула ножкой, давая понять, что не желает больше об этом говорить. Она, как всегда, разнервничалась, ведь, хоть она и не желала признавать, совесть подсказывала: в поведении Соединенных Штатов, в их попытках держать кубинцев в узде и вправду было много заносчивости и стремления унизить. И все равно она была благодарна «северному соседу» за то, что положил конец долгой изнурительной войне, старался осовременить остров и прививал идеи демократии. — Помоги-ка снять платье! — велела она Рустике. Но платье осталось на Чиките, потому что в эту минуту в фургончик вихрем ворвалась египетская гадалка Джезерит, схватила подругу за руки и срывающимся от волнения голосом рассказала, что с ней только что приключилось: — Я торопилась в «Храм музыки», взглянуть на ухо президента, и на Фонтанной площади знаешь, кого встретила? — Не успела Чикита высказать догадку, как она продолжила: — Давешнего малого, этого Леона, как бишь его… — Чолгоша, — подсказала Чикита. — Вот-вот! Он меня не видел, а вот я хорошенько его разглядела. Он вымыл уши, и я такое там рассмотрела, подруженька, что от страха только и смогла развернуться и до тебя добежать! — Так говори уже толком, не томи! — Он тоже шел в «Храм музыки», но не послушать президента, как все остальные, а убить его! — Ты уверена? — пробормотала Чикита и сглотнула. — Хотела бы я ошибиться! — ответила Джезерит. — Если только не случится какого чуда, сегодня этот мерзавец отправит Мак-Кинли на тот свет. У Чикиты закружилась голова. Она спросила, почему Джезерит не заявила в полицию и не попыталась остановить Чолгоша. — Испугалась, примут за сумасшедшую или еще чего похуже, — подавленно призналась гадалка. Чикита глубоко вздохнула, высвободила руки из крепко вцепившихся в нее пальцев ясновидящей и решительно двинулась к выходу. — Вы куда это? — крикнула Рустика. — У вас выступление начинается! — Я должна предупредить президента, — ответила Чикита и бегом бросилась к вестибюлю своего театра. Джезерит и Рустика последовали за ней. У вестибюля выставляли в свободное от парадов время ее новенький автомобиль. Шофера нигде не было видно, поэтому Чикита сама уселась за руль и завела двигатель. Раньше она никогда не водила машину, но это ее не остановило. «Другие как-то ездят, и я смогу, — сказала она себе, нажала на педаль газа и рванула в сторону Мидуэя. — Только бы успеть, только бы успеть», — твердила она, кусая нижнюю губу и давя на клаксон. Автомобиль подпрыгивал и лавировал между прохожими. Она пронеслась мимо «Иерусалима в день распятия», повернула налево у Индейского конгресса и, обогнув павильоны сельского хозяйства, «Шоколада Бейкера» и горнорудного дела, завидела вдали фасад «Храма музыки» в стиле испанского возрождения. «Только бы успеть, только бы успеть, только бы спасти президента…» Было ровно четыре часа, в «Храм» набилось полно народу, а те, кто не попал на концерт, кучковались у входа в надежде, что судьба им улыбнется. При виде гнавшей вперед Чикиты толпа расступилась. Едва не врезавшись в решетку, официальный талисман дал по тормозам, шины взвизгнули, и машина остановилась. В этот миг по гигантскому концертному залу раскатился звук выстрела. А потом и еще один.
Поездка на водопад вконец измотала миссис Мак-Кинли, и президент отправился на выставку без жены. До концерта оставался еще час, и он попросил сводить его в павильон «Путешествие на Луну». Кортелью диву давался. Он уже давно не видел президента в таком приподнятом расположении духа. И хоть сам он недолюбливал подобные увеселения, ему ничего не оставалось, кроме как взобраться вместе с боссом в летательный аппарат «Луна» (нечто вроде исполинской сигары, обернутой в фольгу, с парой красных крыльев, как у летучей мыши) и «совершить путешествие» к спутнику Земли, дабы узнать тамошние тайны. Создатели «Путешествия на Луну» сумели добиться в четырех стенах под высоким потолком потрясающего эффекта полета. Корабль поднимался, и экипаж видел, как выставка постепенно уменьшается в размерах, как основные здания, включая Электрическую башню, становятся все более крохотными, а за ними — штат Нью-Йорк, территория Соединенных Штатов, американский континент, земной шар… Наконец, выжив в метеоритном дожде и полюбовавшись пронесшейся мимо грозной кометой со сверкающей гривой, путешественники прибыли на Луну и сошли с корабля. Им открылась непознанная вселенная. Серебристые лицом лунатики в серебристых одеждах поприветствовали их, показали свой причудливый город и угостили зеленым сыром. Прочие участники полета опасались отведать лунное лакомство, а вот президент решительно отправил ломтик в рот, посмаковал и высказал мнение: «Странно, но вкусно». Затем гостеприимные лунатики отвели их в замок, где сам лунный король, восседающий в горностаевой мантии, усыпанной драгоценными камнями, на перламутровом троне, благосклонно их принял и приказал лунным девицам исполнить танец в их честь[147]. После любопытной лунной одиссеи Мак-Кинли переместился в «Храм музыки». Там он, по-прежнему пребывая в превосходном настроении, под присмотром Кортелью и детективов-телохранителей, принялся пожимать руки господам, дамам и детишкам, дожидавшимся его в длинной, но весьма упорядоченной очереди. Позже тайные агенты пристыженно поясняли, что им и в голову не пришло заподозрить в Леоне Чолгоше — неказистом, чисто выбритом мужчине среднего роста с грустными голубыми глазами — опасного преступника. Они внимательно всматривались в каждого томящегося в очереди, стараясь выявить угрозу, но вид Чолгоша оставил их спокойными. Правая рука его была обернута платком, словно он поранился, и это придавало ему еще менее воинственный облик. Внимание агентов привлек — и даже полностью завладел им — черноусый тип, смахивавший на итальянца, который шел перед Чолгошем. И дело тут было не в произволе и не в национальных предрассудках: среди террористов, охотившихся на аристократов и политиков, действительно числилось множество итальянцев, так что за черноусым пристально следили не с бухты-барахты. Когда черноусый дождался своей очереди, подошел к президенту, пожал руку и поздравил с успехами, детективы расслабились. Потом вперед вышел Чолгош, протягивая левую руку. Мак-Кинли широко улыбнулся и собирался горячо ответить на рукопожатие; покушения было уже не избежать. Все произошло за считаные секунды: Чолгош выставил «забинтованную» руку и спустил курок револьвера тридцать второго калибра, спрятанного под платком. Он выстрелил дважды. Один из детективов бросился к президенту, а здоровенный негр, стоявший в очереди за Чолгошем, прыгнул на нападавшего и повалил на пол. Мгновение стояла потрясенная тишина, а потом в «Храме музыки» воцарился хаос. «Линчевать его!» — возмущенно кричали одни. «Повесить ублюдка!» — требовали другие. Люди обнимались, гомонили и бегали туда-сюда. Многие еще не понимали, что произошло. Микаэло Сенда и его спутники побросали на креслах листовки за свободу Кубы и поспешили к выходу. Они совсем опешили и не могли поверить, что какой-то террорист пустил псу под хвост их символический протест. Выскочив, они увидели Чикиту в платье-стяге, все еще сжимавшую руль. Быстро оттолкали автомобиль в угол, чтобы ее не затоптали бежавшие вон из зала, а также полицейские и зеваки, стремившиеся, наоборот, попасть внутрь. — В президента стреляли, — сообщил Микаэло, и, к его удивлению, лилипутка кивнула, словно уже знала о случившемся. — Наши планы, извините за выражение, накрылись медным тазом, — сказал второй кубинец, — но мы рады, что вы передумали и решили присоединиться к нам. — Простите, я была к вам несправедлива, — извинилась девушка и склонилась, чтобы заглянуть Чиките в глаза: — В дальнейшем я стану всякий раз приводить вас в пример, когда речь зайдет об истинных патриотках. Чикита не удосужилась разубедить их. Что толку объяснять, почему она оказалась здесь именно в этом наряде? Пусть себе думают, что хотят. В свои почти тридцать два она знала, что люди видят все не в истинном цвете, а в том, который им больше по нраву. Если они мнят Эспиридиону Сенду заступницей достоинства Кубы, тем лучше для них. И на ум ей пришло старое присловье Минги: «Всяк хозяин своего молчания и раб своих слов». Президент прожил еще восемь дней. Чикита, как и все вокруг, с жадностью слушала медицинские сводки и страшно огорчилась, когда Босток в разгар выступления, пока она переодевалась в гримерной, сообщил о его кончине. Она вышла на сцену, поделилась ужасным известием со зрителями и попросила почтить минутой молчания «память великого и доброго человека». «Храм музыки» меж тем превратился в самый популярный аттракцион на всей выставке. Люди хотели увидеть точное место, где выпустили по пуле в грудь и в живот президенту. Джеймс Ф. Паркер, чернокожий официант ростом в шесть футов и шесть дюймов, схвативший убийцу, в одночасье стал народным героем. Несколько импресарио предложили ему работу в своих шоу, но он предпочел собственный бизнес: продал пуговицы пальто, в котором был в день покушения, по двадцать четыре доллара за штуку и фотографировался с желающими за доллар. В полночь после покушения Чикита, Розина и Джезерит собрались и принесли клятву. Они никому и никогда не признаются, что познакомились с Леоном Чолгошем за двое суток до того, как он выстрелил в президента, и уж тем более не скажут, что Джезерит с первой минуты догадывалась о его зловещих намерениях. Если тот вдруг упомянет о посылке с книгами от Гольдман, то они — и Рустика с ними, разумеется — будут дружно отрицать факт визита. После показаний Чолгоша всем стало ясно, что он просто несчастный убогий одиночка, не сумевший переварить некоторые идеи анархизма. Он утверждал, что совершил покушение без чьей-либо помощи, однако подчеркивал, что вдохновился речью Эммы Гольдман. Анархистку заподозрили в сообщничестве, арестовали, допросили и в итоге отпустили. Гольдман признавала поверхностное знакомство со своим последователем, но отрицала какую-либо ответственность за его поступки. К счастью для Чикиты, ни убийца, ни его «муза» ни разу ее не упомянули. Процесс вышел недолгим. Суд признал Чолгоша виновным, приговорил к смертной казни, и приговор без лишних проволочек был приведен в исполнение 29 октября. Убийца умер на электрическом стуле, ни у кого не прося прощения. «Я убил президента, потому что он был врагом рабочего народа», — упрямо повторил он прямо перед тем, как ток в 1700 вольт обуглил его тело.
За десять дней до закрытия Панамериканской выставки одна сорокашестилетняя вдова, школьная учительница из Бей-Сити, штат Мичиган, явилась туда, намереваясь совершить нечто из ряда вон выходящее. В Буффало она велела заколотить себя в деревянную бочку (с надписью «Королева Тумана») и в день ее рождения, 24 октября, сбросить бочку с Ниагарского водопада. Вопреки всем ожиданиям дама по имени Энни Эдсон Тэйлор осталась жива и снискала всенародную любовь. Чикита, конечно, не кидалась в водопад, но примерно в те же дни сделала почти столь же рискованный шаг. Официально выставка уже закрылась, и «серьезные» павильоны начали распродавать на аукционах по цене от двухсот до пятисот долларов, но многие аттракционы на Мидуэе еще работали. Некоторые, например «Уголки Каира» и «Немецкая деревня», собирались продержаться на плаву еще несколько месяцев. Однажды вечером, исполняя «Королеву лилипутов» в конце шоу, Чикита почувствовала, что настал час остепениться и создать семью. Чувство это накатило на нее внезапно, но со страшной силой: откладывать решение не представлялось возможным. Она велела Рустике разыскать Тоби Уокера и, как только тот появился, в упор спросила, желает ли он жениться на ней. — Всем сердцем, Чик, — отвечал Тоби. Рустика решила, что они оба рехнулись. — Вы хорошо подумали? — с упреком обратилась она к Чиките. — Назавтра не раскаетесь? — Нет, — решительно сказала Эспиридиона Сенда. — Я люблю этого мужчину и хочу прожить с ним оставшуюся жизнь. Не теряя времени, Тоби отвел невесту к мировому судье Томасу X. Рочфорду, и тот, слегка изумившись представшей перед ним парочке, сочетал их браком. Рустика и супруга судьи выступили свидетельницами. На следующее утро Босток, услышав новость, едва не лишился чувств. Он решил, что над ним издеваются, и молодоженам пришлось предъявить ему свидетельство о браке. Импресарио, конечно, слышал кое-что о тесной дружбе, связывавшей любимицу публики и человека-сэндвича, но как-то не предполагал, что она окажется настолько тесной. Однако он не успел поразмыслить над возможными последствиями замужества для Чикитиной карьеры, потому что в эту минуту ему сообщили об ужасном происшествии среди его зверей. Во время купания слон Джамбо коварно напал на одного из служителей и в припадке ярости наступил задней ногой на маленькую девочку, переломав ей множество костей. Никто не мог понять, почему он так себя повел, — зверь не отличался особой покорностью, но агрессивным никогда не бывал. Босток так разъярился, что принял отчаянное решение: в наказание Джамбо казнят. Не слушая тех, кто молил пощадить слона — Чикиту и Капитана Бонавиту среди прочих, — он объявил, что Джамбо убьют электрическим током на стадионе при выставке. Желающие могут лицезреть показательную кару бесплатно. Общественное мнение всколыхнулось. Одни выступали за смертную казнь, другие считали, что на первый раз хватит с Джамбо и менее жестких мер. Но Босток держался кремнем: сутки спустя слона привели на стадион и в присутствии тысячи человек опутали его девятитонную тушу сложной сетью высоковольтных проводов. Джамбо совершенно не сопротивлялся. В то утро он выказывал полнейшее благодушие и, не зная, что минуты его сочтены, весело трубил и приветствовал публику, вздымая хобот. Когда Босток вместе с родителями пострадавшей девочки уже собирался опустить рычаг, приводивший в действие электрический приговор, на стадион галопом прискакал, размахивая какой-то бумагой, конный полицейский. Это было помилование! Доктор Конрад Дил, мэр Буффало, только что подписал приказ о помиловании толстокожего. Большая часть публики радостно зааплодировала нежданному deus ex machina, но, как ни странно, нашлись и такие, кто разочарованно засвистел и заулюлюкал. Все сошлись на том, что слону повезло больше, чем Леону Чолгошу. Но ведь и вина их была несоразмерна, — высказался один благоразумный джентльмен, присутствовавший на стадионе с супругой и детками. В конце концов, Джамбо не увлекался анархизмом и хладнокровно не убивал президента Соединенных Штатов.
[Главы XXX и XXXI]
В этой части Чикита рассказывала про первые дни своего брака. Не подумай только, что она сильно об этом распространялась. Управилась за три абзаца, словно тема большего не заслуживала. Писала только, что они с Тоби Уокером были созданы друг для друга и после свадьбы муж повсюду следовал за ней. Например, на выставку в Чарлстоне, начавшуюся через две или три недели после окончания Панамериканской[148]. Меня насторожила ее немногословность относительно замужества, и я подумал, дело тут нечисто. К чему губить такой сочный эпизод и сводить его к паре строк? Я пристал с расспросами к Рустике, но мало чего добился. Она только хмыкнула и закатила глаза. У Рустики имелся обширнейший репертуар хмыканий, которые означали все, что угодно, в зависимости от интонации и угла закатывания глаз. На сей раз я подметил смесь издевки и отвращения, что лишь подстегнуло мое любопытство. Оставалось только ждать очередного приема в Фар-Рокавей. Когда Чикита в сотый раз взялась декламировать своим голубкам «Бегство горлицы», я тихонько увел мистера Колтая из гостиной и учинил ему допрос. И многое узнал об этом браке. Много такого, о чем Чикита умолчала. Тебе, если хочешь, расскажу. Во-первых, я чуть не упал со стула, когда Колтай сказал, сколько мужу было лет. Если помнишь, в предыдущих главах Чикита все время называет его «юный Тоби», но точного возраста никогда не указывает. Так вот, этому сопляку едва исполнилось семнадцать. Их разницу в годах больше всего и смаковали газеты, когда о свадьбе стало известно, да и потом, во время скандала, тоже.Чикита и Тоби Уокер действительно познакомились на Панамериканской выставке, где он работал у Бостока человеком-сэндвичем. Насчет романа есть две версии. Некоторые считали, что Тоби охмурил Чикиту ради денег — понял, что, если женится на ней, жить будет как король. А другие — и Колтай в их числе — придерживались мнения, что он и в мыслях ничего такого не держал, а все началось по капризу лилипутки. Якобы она зазывала его в свой фургончик, обволакивала медовыми речами, кормила конфетами, поила ликерами, делала подарки и выставляла напоказ то ножку, то сосок. С точки зрения сторонников первой версии, Тоби был негодяем, канальей, альфонсом, приспособленцем, который только о деньгах и думал, а Чикита влюбилась в него, словно школьница. Их противники утверждали обратное: Чикита коварно соблазнила наивного простачка, потому что с годами становилась все охочее до молоденьких. Что до меня, я не знал, к кому примкнуть. Точнее, мне казалось, обе истории не лишены смысла. По описанию Колтая, Тоби более всего напоминал огородное пугало: тощий, долговязый, с длинными руками и ногами, бледный и белобрысый. Да еще и носатый и прыщавый в придачу. И что в нем нашла Чикита? Загадка. По крайней мере, в одетом виде он привлекательностью не отличался. Колтай даже подозревал, что парень приехал на выставку девственником, а первые уроки любви ему преподала как раз Чикита. Как бы там ни было, а это оказался один из самых страстных романов из тех, в которые Чикита то и дело ввязывалась. Тут ее так прошибло, что она хотела только одного — нежиться в постели со своим красавчиком. Даже стала укорачивать выступления, чтобы пользоваться перерывами на полную катушку. Тоби больше времени проводил нагишом, чем в своих рекламных латах. Чикита меня давно предупреждала, что господин Колтай — извращенец, но до того вечера мне не доводилось в этом убеждаться. Знаешь, в чем он мне признался, нимало не стесняясь? Он, мол, отдал бы что угодно, лишь бы подсмотреть в дырочку, чем занимались лилипутка и дылда в фургончике. И тут же начал фантазировать: делали ли они то, творили ли это, хватала ли его Чикита за одно, а он ее лапал за другое… Мысли у старикана были грязнее некуда. И описывал-то он все эти мерзости так живехонько, подлец, что я прямо начал себе представлять их воочию, а потом смотрю — у меня аж встал! Тут я так разозлился, что велел ему замолчать, хватит с меня гадостей. Тогда он стал рассказывать, что было дальше. Босток пришел в ярость, узнав о романе. Не потому, что у Чикиты завелся любовник — личная жизнь артистов его не интересовала, — а потому что она взяла моду не вылезать из постели в рабочее время. Тоби Босток в два счета уволил, в надежде, что тот вернется к себе в Эри и не будет мозолить глаза, но не тут-то было. Парень остался на выставке, нанялся корнетистом в шоу Буффало Билла «Дикий Запад» и продолжал видеться с Чикитой, но только по ночам, чтобы Босток не засек. Однажды вечером, даром что на выступление выстроилась длиннющая очередь, Чикита сказалась больной и отменила шоу, а сама улизнула с Тоби к судье, и они поженились. Даже Рустике ничего не сказала, и та ее, кстати, за это так и не простила. Мы с Колтаем никак не могли взять в толк, с чего ей приспичило выскакивать замуж за пацана почти вдвое младше. Ладно — спать с ним; это как раз можно понять. Но почему, дважды отказав Патрику Кринигану, она ни с того ни с сего вышла за едва знакомого юнца? По любви? Или она просто взбрыкнула? Может, назло Бостоку? Мы долго ломали головы, но ни к какому ответу не пришли. Внести ясность могла лишь сама Чикита, а у нее мы, само собой, боялись спрашивать. Дальше в дело вмешался случай. Пока Чикита сочеталась браком, Босток проходил мимо ее театра и удивился, почему это он закрыт в столь ранний час. Ему сказали, что лилипутка занемогла, и он решил навестить ее в фургончике, справиться о здоровье и вообще сгладить напряжение: он не хотел, чтобы передряга с Тоби дурно отразилась на их таком взаимовыгодном сотрудничестве. Рустика понятия не имела, куда девалась Чикита. Вот уже несколько часов о ней не было ни слуху ни духу. Босток велел своим людям искать ее по всей выставке, но Чикита как сквозь землю провалилась. Тогда укротитель решил, что Тоби ее похитил, и заявил в полицию. После церемонии молодые отправились в отель «Ирокез», самый большой и роскошный в Буффало, чтобы провести там брачную ночь. Но не вышло: отель оказался переполнен, номеров не нашлось. Когда они выходили на улицу, их настигла разыскная команда Бостока и накинулась на Тоби с кулаками. Как молодожены ни сопротивлялись и ни бранились, их разлучили, и Чикиту под белы руки доставили к Бостоку. И началось черт-те что. Тоби не бездействовал: он пошел в полицию и обвинил Бостока в том, что тот препятствует их воссоединению с законной супругой. Тот в ответ заявил: он вовсе не запрещает Чиките вернуться к мужу, да только она сама не хочет, поскольку, будучи особой ветреной, уже раскаивается в своем скоропалительном замужестве. Так они препирались несколько дней. Тоби делал заявления в прессе, а Босток сразу же их опровергал. Отец и братья Тоби прослышали про заварушку и приехали из Эри поддержать родную кровь. А что же Чикита? Чикита молчала как рыба. Выходила из фургончика, выступала и тут же снова запиралась. Дело дошло до суда, и Тоби обзавелся неплохими адвокатами. Те в надежде на лакомый кус добычи подначили его требовать у Бостока компенсации в двадцать тысяч долларов. И, само собой, чем больше газеты трубили о скандале, тем больше публики набивалось в Чикитин театр на Мидуэе. Ни «Немецкая деревня», ни «Уголки Каира», ни младенческий инкубатор — словом, ни одно из еще работавших шоу не могло похвастаться такой кассой. В этой части рассказа я стал задумываться: а уж не затеяли ли Чикита с Королем Зверей всю эту запутанную историю с тайной свадьбой и судом, чтобы привлечь народ и сорвать куш побольше в последние деньки в Буффало? Хотел бы я знать, где там правда, а где рекламный трюк, но теперь разве узнаешь? Так или иначе, даже если Чикита вышла замуж по наитию и вскоре пожалела, то со временем все же свыклась, потому что следующие годы прожила с Тоби. Что касается Бостока, то он больше в ее личную жизнь не вмешивался[149].
Тоби стал менеджером Чикиты. Он заботился о ней, следил, чтобы ей всего хватало, исполнял ее капризы. Рустика сердилась, потому что до сих пор это были ее обязанности. С другой стороны, менеджера ограничивали в правах: до контрактов Чикита его не допускала. Гонорары и условия работы обговаривала сама. А и вот еще что: фамилию мужа она носить отказалась. Никаких там «миссис Уокер». Оставалась по-прежнему Чикитой Сендой. «Этот Тоби был ленивее верхней челюсти, — вот и все, чего я добился от Рустики после нескольких дней улещиваний. — Сменять бы его на дерьмо — да прогадали бы на таре». Но ее мнение вряд ли можно было считать непредвзятым — Тоби она явно с самого начала терпеть не могла. По окончании выставки в Чарлстоне, продлившейся полгода, Чикита отправилась в турне по Югу с одним из шапито Бостока и Ферари. Она побывала в Атланте, Саванне, Детройте, Новом Орлеане и других городах, где жило — и сейчас живет — много цветных. При всяком удобном случае она в компании супруга и Рустики отправлялась в церковь слушать негритянские песни, а в книге с возмущением описывала сцены расизма, которые ей приходилось видеть. В те годы расизм был лютый. Знаешь, что удумал один «очень уважаемый» политик с Юга, когда Кубой еще правили американцы? Сослать на остров как можно больше негров и «отбелить» эту часть страны. Каково? На Юге Чикита узнала из газет, что 20 мая 1902 года Куба наконец-то станет свободной республикой, а ее старый знакомый дон Томас Эстрада Пальма выиграл первые президентские выборы. Чикита едва смогла прочесть Рустике репортаж про то, как Максимо Гомес поднял знамя в знак независимости, — от волнения у нее срывался голос. — А ты говорила, они в нас мертвой хваткой вцепились! — упрекнула она служанку. — Куба теперь свободное самостоятельное государство. Я знала, что нас не постигнет судьба Гавайев или Пуэрто-Рико. — Рустика помалкивала, и Чикита продолжала: — Какие у тебя теперь возражения? Вот тебе, пожалуйста, конституция, правительство и президент, как в любой уважающей себя стране. Рустика не нашлась что ответить, но по долгом размышлении все же придумала, как метнуть в ответ отравленный дротик. Для начала она восхитилась учеными голубями профессора Колумбуса из Чикитиного цирка. Они ведь такие смирные и так хорошо выдрессированы, что хозяин позволяет им вылетать из клеток и порхать где вздумается. К чему запирать их, если по первому свисту они возвращаются обратно? «Они, если вдуматься, тоже свободны и самостоятельны, — заметила Рустика. — Правда, профессор Колумбус, человек предусмотрительный, подрезает им крылья — пусть летают, да не слишком далеко». Чикита прекрасно поняла намек, выбранила Рустику (в частности, «скверной патриоткой» и «маловерной черномазой») и даже вознесла молитву, чтобы не все кубинцы были такими же упрямцами, как ее служанка. После турне Фрэнк Босток и полковник Фрэнсис Ферари прекратили совместный бизнес. Они разделили дела и пошли каждый своей дорогой. Ферари предпринял попытку заманить Чикиту к себе, но она предпочла остаться у Бостока. В 1903 году она работала в его новом нью-йоркском шоу, всего в нескольких кварталах от Центрального парка[150]. Публику туда завлекали, помимо Чикиты, с помощью Капитана Бонавиты — в этом сезоне он работал с двадцатью нубийскими львами — и боксерского матча между кенгуру и человеком, но желающие могли также полюбоваться жирафами, гориллами, ламами, крокодилами, гиенами, гремучими змеями и прочим зверьем. К неудовольствию Чикиты, ей вновь пришлось повстречаться с Мадам Морелли, насолившей ей в балтиморском цирке. Но укротительница вела себя паинькой: видно, Босток предупредил, что больше не желает никаких ссор из зависти. Помню, я очень осторожно спросил Чикиту, не было ли ней неловко выступать в зверином шоу на самом Манхэттене, где семь лет назад она блистала как звезда театра. И знаешь, что она ответила? «Лучше быть мышиной головой, чем львиным хвостом». Потихоньку от Бостока она попыталась найти работу в каком-нибудь водевиле, но ей предлагали только интермедии. Она семь лет не ступала на нью-йоркские подмостки, и никто не помнил ее золотых деньков во «Дворце удовольствий» Проктора. Да и все кубинское уже вышло из моды. Но в книге, естественно, ничего такого она не писала, а упоминала только, как сильно ей рукоплескали и как умирала от зависти «дама с ягуарами». Иногда она просила Тоби отвести ее в Центральный парк и с тоской вспоминала прогулки с Патриком Криниганом. Даже после замужества он не шел у нее из головы. Но вот уж чего она никак не могла предположить — так это, что вскоре после прибытия в Нью-Йорк станет главной героиней фильма. Однажды вечером к ней в гримерную пришел человек, сказал, что у него кинобизнес, и предложил сниматься в картине. Чикита, успевшая к тому времени заделаться прожженной деловой дамой, напустила на себя безразличие и осведомилась, сколько он собирается ей платить. Человек назвал не слишком большую сумму, но в конце концов они сторговались, и Чикита, понадеявшись, что кино обессмертит ее имя, согласилась. Сняли фильм прямо там же, рано утром, до прихода публики. Думаю, длился он всего несколько минут (ведь в 1903 году кинематограф был, считай, еще в пеленках), и Чикита в кадре танцевала да щеголяла драгоценностями и нарядами. Жаль, запамятовал, как того продюсера звали. Помню только, что он еврей и что, наряду с Эдисоном, он одним из первых в Штатах стал киномагнатом. Как же его, родимого, звали? Ну, может, еще всплывет. Или сам найдешь[151]. В общем, Чикита снялась в фильме, и показывали его повсюду. Не только в США, но и в Европе, так что популярности это ей и вправду прибавило. Ведь и конкурентов у нее было хоть отбавляй, а то как же. В те годы «живых кукол» развелось пруд пруди, и приходилось попотеть, чтобы оставаться самой высокооплачиваемой[152].
Но то был не единственный случай, когда Чикита предстала перед камерой. Много лет спустя она отправилась в Голливуд сниматься в фильме под названием «Уродцы». Это я точно знаю, потому что жил тогда в Фар-Рокавей. Ты фильм-то этот видел? Его в синематеке часто показывают. Там все происходит в бродячем цирке. Красавица-гимнастка Клеопатра вступает в сговор со своим любовником, цирковым силачом: она собирается выйти замуж за лилипута, отравить его и заграбастать его денежки. Лилипут по имени — если память не изменяет — Ганс в эту Клеопатру влюбляется и бросает свою невесту, карлицу Фриду. Главную роль сначала предложили Мирне Лой, но она отказалась соблазнять лилипута, пусть даже на экране, и роль ушла к Ольге Баклановой по прозвищу Русская Тигрица. Она была не такая знаменитая и, не кочевряжась, согласилась работать с «уродами». На съемки режиссер (тот самый, кстати, который снял «Дракулу» с Белой Лугоши) свез на студию «Метро-Голдвин-Майер» целую уйму «ошибок природы», набранных в разных цирках, шоу и водевилях[153]. В большинстве случаев они играли сами себя, что придавало сюжету правдоподобия. Некоторые утверждают, что «Уродцы» — фильм ужасов, где вся соль в чудищах, но я так не думаю. Напротив, я нахожу эту картину очень человечной и нравственной. Ее бы в школах детям показывать, чтобы с детства приучались к мысли: добро побеждает зло, а злодей за свое злодейство понесет наказание. Поучительный фильм. Ну так вот, одним прекрасным утром режиссер «Уродцев» заявился в Фар-Рокавей предложить Чиките не главную, но довольно важную роль — матери Фриды, той лилипутки, которую отвергает Ганс. И она согласилась. Я уж боялся, мне придется искать новую работу. Но Чикита меня успокоила. Она отлучится всего на две недели, сцен у нее немного, я же пока могу последить за домом. И они с Рустикой отбыли в Голливуд, а я остался шиковать в одиночестве. Но не прошло и недели, как они вернулись. Чикита на чем свет стоит кляла режиссера, Ольгу Бакланову и «Метро-Голдвин-Майер». С первого дня съемок она начала отравлять всем жизнь. Сначала жаловалась, что грим ее старит, потом — что костюмы ее не красят. Безуспешно добивалась, чтобы ей позволили играть в ее прежних театральных нарядах. К тому же мать Фриды должна была говорить с сильным немецким акцентом, а Чикита все время про это забывала, и сцены приходилось переснимать раз за разом. Чаша терпения режиссера лопнула, когда в эпизоде, где Чикита вступала в перепалку с Клеопатрой и говорила той, что она сущая гарпия, лилипутка отказалась сниматься, потому что у Русской Тигрицы якобы воняло изо рта. Она ушла с площадки и заявила, что не вернется, пока Бакланова не почистит зубы. Представляешь, что тут началось! Бакланова рассвирепела и пожаловалась самому директору студии: может, она и не Мирна Лой, но и не какая-то там соплячка, снялась в куче фильмов и заслуживает большего уважения. Бедняга-режиссер мечтал, чтобы обстановка на съемках была дружеская, но Чикита не давала этой мечте осуществиться: она не ладила ни с одним из прочих фриков и вообще ни с кем. Режиссер близко принимал к сердцу чувства «ошибок природы», ведь в шестнадцать лет он сам убежал из дому, влюбившись в цирковую танцовщицу, и работал клоуном на ярмарках. Этот мир он и хотел отразить в картине и нуждался в гармонии и содействии. Поэтому он уволил Чикиту и, чтобы не терять времени в поисках замены, убрал из сюжета ее персонаж. Немногие отснятые сцены пришлось пустить под нож. По словам Чикиты, в Голливуде ей понравилось только одно: там она познакомилась со Скоттом Фитцджеральдом, который в ту пору работал в отделе сценариев на студии «Метро-Голдвин-Майер». Писатель отличался простотой и приятностью в обращении и обедать предпочитал не со звездами и продюсерами, а с командой «чудищ» из «Уродцев». Чикита не преминула сказать ему, что «Великий Гэтсби» — один из любимых ее романов, и они разговорились о литературе. Она упомянула, что пишет книгу о своей жизни, и Фитцджеральд согласился, что лучше всего опубликовать ее посмертно, чтобы писать о ком и о чем угодно и не бояться задеть чьи-то чувства. Чикита очень жалела, что из-за внезапного увольнения не успела попрощаться с писателем. «Мы недолго были знакомы, но мне показалось, Голливуд — не для него, — сказала она мне. — Там он чувствует себя таким же фриком, как мы».
Но вернемся в 1903 год. Пока Чикита выступала в Нью-Йорке, Босток поехал в Европу. И в Париже, недолго думая, купил «Ипподром», зал на восемь тысяч мест. Купил и начал готовить грандиозное шоу, от которого парижане рты пораскрывают. Чикита думала, что Босток и ее возьмет туда, но он вызвал только Мадам Морелли. Колтай был склонен винить Тоби Уокера: на людях муж Чикиты и укротитель кое-как ладили, но на самом деле терпеть друг друга не могли. Чикита так расстроилась, что взяла отпуск и уехала в Эри к семье супруга. Но новые родственники, видно, не пришлись ей по нраву, потому что в начале 1904 года она уже снова работала. В Сент-Луисе устроили большую выставку в честь столетия Луизианской покупки, и Чикита выступала там почти целый год[154]. Босток остался очень доволен первым парижским сезоном. Он заработал кучу денег и, вернувшись в Штаты, объявил о скором возвращении в Париж с новым шоу, на сей раз с участием Чикиты. Она радостно погрузилась на корабль с Тоби и Рустикой, но веселью не суждено было продлиться долго. В биографии она писала, что отплыла из Нью-Йорка счастливой замужней леди, а в Европу прибыла безутешной вдовой. Тоби Уокер почти не пил, а на борту он вроде бы хватил лишку виски и не придумал ничего умнее, как прогуляться после этого по палубе. Вроде бы — ведь точно никто не знает, что стряслось. Один матрос видел, как он, шатаясь, бродил у кормы, и на этом основании все решили, что он выпал за борт, и сочли его покойником. Эпизод, в котором капитан приходил к Чиките в каюту с ужасающим известием, вышел невообразимо сопливым. Вообще, в книге хватало безвкусных и пошлых сцен, но с этой ни одна не могла сравниться. Чикита невообразимо страдала, однако по прибытии в Париж прекратила скорбеть и погрузилась в выступления в «Ипподроме». В этом ей не откажешь: в самую трудную минуту она брала силы невесть откуда, собиралась и двигалась вперед. И тут она тоже заглушила боль работой. А заодно и пополнила банковский счет изрядным количеством франков. Французы влюбились в нее с первого взгляда. Появлялась она и вправду эффектно: в кабриолете, за рулем которого сидел все тот же чернокожий шофер, что на Панамериканской выставке, усыпанная бриллиантами и в шляпке с перьями. Во все месяцы работы в «Ипподроме» Чикита старалась (и добилась своего) не встречаться ни с Прекрасной Отеро, ни с «амфибиями», ни с лицемером Итурри. Она и носа не казала в Булонский лес и прочие места, где часто бывала прежде в обществе бывших приятелей. А вот с Сарой Бернар она не прочь была повидаться, но не получилось — та кочевала по миру с очередными гастролями. Кроме того, невзирая на протесты Рустики, она несколько раз приходила на берег Сены в надежде обнаружить Буку, но манхуари ни разу не выплыл с ней повидаться. Печатая эту часть, я спросил, что сталось с орденом. С самого визита в Белый дом Чикита не упоминала о нем, и я посоветовал вернуться к теме, дабы не разочаровывать будущих читателей. К моему изумлению, она меня послушала. Собрания проходили все реже, а когда Чикиту все же вызывали, Лавиния и Верховные мастера без конца спорили, как быть с Русско-японской войной, как помирить французское правительство с Ватиканом и как препятствовать анархистам в покушениях на знать. Иногда Чиките (вернее, ее астральному двойнику) давали какое-нибудь задание, но в целом ассамблеи сводились к бесполезной болтовне. Как ни странно, исчезновение «Истинных Нижайших» и «Настоящих Истинных Нижайших», вместо того чтобы укрепить орден, ослабило его, словно отсутствие противников лишило его запала.
Во Франции на Бостока напал во время выступления семисотфунтовый тигр Раджа и едва не разорвал его на куски. Зверь был хитрющий, и у укротителя уже бывали с ним неприятности. Несколько лет назад в Индианаполисе он тоже пытался сожрать Бостока, но последствия парижского нападения оказались гораздо серьезнее: импресарио едва выжил и несколько дней не выходил на сцену. Зато когда он выздоровел и пришел на выступление, в «Ипподроме» яблоку негде было упасть. Все хотели видеть Раджу, тигра-убийцу. Родственники и работники Бостока пытались уговорить его завязать с дрессировкой и сосредоточиться исключительно на бизнесе, но он не согласился. Сказал, что ему необходимо противостоять диким зверям, чтобы чувствовать себя живым. Почти никто его не понял, кроме разве что Чикиты. Ведь она некоторым образом занималась тем же самым.
[Главы XXXII и XXXIII]
Что касается заработков, второй парижский сезон Бостока оказался еще лучше первого. Импресарио планировал, чтобы в 1905 году Чикита выступала в парке аттракционов «Дримленд» на Кони-Айленде, но за несколько дней до возвращения в Соединенные Штаты лилипутка объявила, что остается в Европе. Тайком ото всех она подписала контракт с одним дельцом из Лондона. Босток страшно огорчился. Он не мог поверить, что Чикита обделывает дела у него за спиной. «Разве я заслужил такое вероломство? — упрекнул он лилипутку. — Вы хуже Раджи». И засим вычеркнул ее из своей жизни. Больше ни слова ей не сказал. Похоронил заживо. На мой взгляд — и Колтай со мной соглашался, — порвав с Бостоком на пике карьеры, Чикита совершила глупейшую ошибку. Она поняла это не сразу, ведь в Лондоне дела у нее шли отлично, и она полагала, что успех и дальше будет ей улыбаться. Но если смотреть теперь, по прошествии времени, она, конечно, дала маху. Ради денег ли? Не думаю. Она хорошо зарабатывала, и, даже попроси она прибавки, Босток, скорее всего, дал бы. Может, она маялась скукой и мечтала о переменах в жизни? Не исключено. А может, так судили светила. В нашем распоряжении лишь догадки. В книге она никак не объясняла свой уход от Бостока. Не дав Чиките времени взглянуть на Букингемский дворец и Биг-Бен, новый импресарио повел ее знакомиться с будущим партнером по выступлениям в лондонском «Ипподроме»[155] — русским великаном по имени Федор Махнов. Отвлечемся на минутку. В те годы лилипуты пользовались бешеным успехом в цирках, водевилях и на ярмарках, но и великаны от них не отставали. Некоторые гиганты прославились на весь мир. Чтобы считаться великаном — или великаншей, все едино, — нужно было иметь по крайней мере семь футов росту с хвостиком. Но попадались люди и выше. Например, в китайце Чань By Го было восемь футов и три дюйма. Скажешь, удивительно? Так вот его сестра Миньмей была на два дюйма выше, только она не хотела выставляться. Сидела себе в родном кантонском селении и вышивала брату костюмы для выступлений. Китайский великан получил превосходное образование, говорил на нескольких языках (даже по-испански) и разъезжал по миру с весьма изысканным шоу, в котором участвовали музыканты, танцовщицы и лилипуты. Многие гиганты работали с лилипутами, чтобы подчеркнуть свой исполинский рост. Среди прочих подобных знаменитостей можно назвать Мьянко Кару, великана из племени сиу; Капитана Бейтса, «кентуккийского великана», и Кардиффского гиганта — возможно, самого прославленного — уэльсца, чья голова, казалось, достигала облаков. Великанши тоже встречались. К примеру, шведка Анна Густафссон, бешено популярная в Штатах, или Анна Свон, уроженка Новой Шотландии, супруга Капитана Бейтса. Публика на них надивиться немогла. Как и на Абому, африканскую великаншу, весьма элегантную даму ростом почти в восемь футов, вдоль и поперек объездившую с гастролями Англию и Австралию. Она всегда держалась горделиво и изящно, одевалась неизменно в белое и носила кружевные перчатки. Лишь раз Абома приехала в Соединенные Штаты и едва сумела найти себе пристанище: ни в одном отеле не хотели ее селить. Еще бы — великаншу, да еще и черную как уголь. А вот печальная — меня, по крайней мере, глубоко тронувшая — история шестнадцатилетней французской великанши, которая прибыла в Штаты в конце XIX века и стала выступать под именем Леди Альма. Она, несмотря на свой рост, с детства страдала туберкулезом. Многие считают, что дылды обладают железным здоровьем, но это не так. Они тоже болеют, страдают, маются зубной болью, ломают кости — словом, они тоже люди. Леди Альму всегда выставляли вместе с ее младшей сестренкой ростом в два фута. Вот какая штука генетика: у одних и тех же родителей — и великанша, и лилипутка. Ну и вот, через четыре месяца Леди Альма умерла. И как, ты думаешь, поступил ее импресарио? Отправил труп во Францию? Ни шиша подобного. Он его продал. Ты не ослышался. На аукционе. За него торговались два университета, и университет Айовы, предложив двести долларов, заполучил-таки останки Леди Альмы. С сестренкой не знаю, что сталось. Надо думать, и дальше выставляли по ярмаркам. Это я тебе назвал только тех великанов, которых с ходу вспомнил, а вообще их сотни крутились в шоу-бизнесе[156]. Люди, которые приходили на них взглянуть, в качестве сувениров обычно покупали громадные металлические кольца с их именами[157]. Гляди-ка, я уже полчаса тебе плету про великанов. Ты чего меня не заткнул? Я если стану отклоняться, не стесняйся, перебивай, а то мы так никогда не закончим. Тебе по большому счету интересен только Махнов. Другие в нашей истории роли не играют. Махнов с Чикитой так полюбились лондонцам, что контракт с ними продлили еще на несколько месяцев. Ничего из ряда вон выходящего они не показывали, но номер был симпатичный. Сначала каждый из них выходил на сцену по отдельности: русский в казачьем кафтане, а Чикита в платье со шлейфом и с веером из страусовых перьев. Он исполнял «донскую пляску», а она — венский вальс. Потом они выходили вместе: великан садился, а Чикита становилась на его колено и пела песню, заглядывая ему в глаза. Затем Махнов ложился во весь рост, и лилипутка прогуливалась вдоль по нему и становилась к нему на ладонь. И дальше в том же духе — всякие трюки, чтобы подчеркнуть удивительную разницу в размерах. Чикита описывала тот сезон как один из лучших в ее карьере, но Колтай мне нашептал, что публика валила в основном на великана. Ему и платили больше. То есть Чикита считалась не главным блюдом, а гарниром. Ей, конечно, тоже хлопали, но не так сильно, как Махнову, который обеспечивал «Ипподрому» аншлаги. Те, кто видел их на сцене, воображали, будто великан и лилипутка прекрасно ладят, но на самом деле они почти не разговаривали. Общаться они могли только на немецком, да и на том Махнов едва умел два слова связать. И потом, не было у них ничего общего. Махнову недавно исполнилось двадцать пять лет, и рост его, если верить газетам, составлял девять футов. Может, оно и неправда — импресарио всегда преувеличивали рост своих великанов. Он был женат на девушке из своей родной деревни и везде ездил вместе с ней и с их младенцем. Интересовался он, по всей видимости, только покером и водкой. Хотя Чикита ни разу не видела его пьяным. Он мог уговорить три бутылки зараз и оставался свежим, как огурчик. Несмотря на устрашающие размеры, человек он был простой и великодушный, добряк добряком. И менеджер, и супруга вертели им как хотели. Поначалу Чикита наивно полагала, что его, как и всякого мужчину, волнует политика, и пробовала заговорить с ним о том, что творилось в мире, особенно о трудностях, которые переживал царь Николай II (или, как его называла Прекрасная Отеро, Ники). Год, если помнишь, стоял 1905-й, и в России что ни день случались стачки и политические покушения. Но вскоре отступилась, сообразив, что великан понятия не имеет о событиях у него на родине, да и в остальном мире тоже. А кое к чему Чикита и вовсе не могла привыкнуть и содрогалась от отвращения. Например, великан утверждал, будто от сдерживания газов у него делаются жуткие колики, и пердел в свое удовольствие повсюду, в том числе на сцене. Однажды, пока Чикита распевала, стоя на нем, он испустил такой громкий пук, что дирижер оркестра едва не испепелил взглядом всю секцию духовых, полагая, что один из трубачей дал петуха. Любовь к сырому луку тоже не добавляла Махнову обаяния. Но самой ужасной была привычка не носить трусов. Махнов расхаживал в шароварах, и то самое здорово под ними выделялось (представляешь себе размерчик?) и вдобавок моталось туда-сюда, словно маятник. Чикита старалась не смотреть в ту сторону, но взгляд сам собой соскальзывал, потому как было в этих колебаниях нечто завораживающее, и противиться чарам не могли ни женщины, ни даже мужчины. «Неотесанный» — так отзывалась Чикита о Махнове в книге. Ну а чего еще ждать от крестьянского парня, не обученного толком ни грамоте, ни манерам, которого за шкирку вытащили из его украинской деревни? Ясное дело, с лондонским шиком и лоском он не очень-то вязался. Дабы лишний раз показать разницу между ними, Чикита нарочно начала говорить с британским акцентом и даже пристрастилась пить чай в пять часов пополудни, хотя Рустика считала, что от этого можно схлопотать запор. Кроме того, она свела знакомство с некоторыми писателями и художниками, в частности с Уолтером Де Ла Маром, который еще не прославился, но одну книжку уже опубликовал[158]. После окончания лондонского сезона Махнов и Чикита отправились в турне по европейским городам. В некоторых — например, в Берлине и Вене — она уже бывала, а другие — скажем, Будапешт, Прагу и Брюссель — посетила впервые. И так они проработали бы еще долго, но менеджер Махнова подписал несколько контрактов на единоличные выступления великана в разных местах, в том числе в Нью-Йорке, и на этом их сотрудничество завершилось. Больше они не встречались. Распрощались в Брюсселе раз и навсегда с легким сердцем. К тому времени Чикита уже почти год моталась по Европе, и Рустика посоветовала ей взять отпуск. Чикита согласилась. Вот только где бы этот отпуск провести? Конечно, очень хотелось вернуться на Кубу, но они обе страшились попасть в Матансас, где уже не было ни доктора Сенды, ни Сирении, ни Минги, ни Манон, ни Хувеналя… Да и список покойников полнился: пока Чикита сколачивала состояние по заграницам, костлявая увела и прочих ее родственников. Кого? Сперва Кресенсиано: ее брату кинжалом пробили легкое на петушиных боях. Потом приказала долго жить крестная Канделария. Кандела, как ее называли близкие, имела обыкновение держать у постели зажженную свечу, но однажды вечером неловко столкнула ее локтем, и москитная сетка с матрасом разом занялись. Весь дом сгорел дотла. Двери у нее были вечно заперты из страха перед ворами, а в дыму она не смогла отыскать ключей, ну и погибла в огне. Экспедита, одна из любимых кузин Чикиты, также скончалась — от родильной горячки. К чему возвращаться к одним лишь призракам? К тому же невыносимо было бы видеть особняк, населенный чужими людьми. Тогда они решили сесть на поезд до Гавра и сойти в первой уютной деревеньке, какая попадется на пути. Так и поступили: полтора месяца тихо-мирно прожили в домике на лесной опушке, набрались сил и в начале 1906 года отплыли в Нью-Йорк, не имея ни малейшего представления о том, что ждало их в будущем. В Нью-Йорке Чиките предложили только одну работу — в «Лилипутии», городке в миниатюре, который выстроили внутри парка «Дримленд» на Кони-Айленде. Она отказалась: там собрали больше трехсот лилипутов со всего света, и ей вовсе не улыбалось теряться в толпе[159]. Чиките, надо думать, пришлось тогда несладко, ведь пока она тщетно пыталась раздобыть стоящий контракт, Махнов с блеском гастролировал по Соединенным Штатам. Президент Рузвельт даже пригласил его в Белый дом. Чикита мне рассказывала, что во время визита Махнов ужасно расчувствовался, задрожал, как лист, пал на колени и хотел облобызать Рузвельту руку, словно российскому императору. Вспомнив про давнее предложение Буффало Билла, Чикита разыскала его и справилась, не найдется ли для нее работы в шоу «Дикий Запад». Но Буффало Билл к тому времени уже обзавелся другой лилипуткой по имени Принцесса Ноума-Хава и не собирался менять ее. Ноума-Хава была на пару дюймов выше, но зато на десяток лет моложе Чикиты, а это в шоу-бизнесе куда как важно. И как ты думаешь, кто взял ее на работу? Фрэнсис Ферари, что любопытно, бывший партнер Бостока. Он отправил ее на ярмарку в Сан-Франциско, и Чикита, не предвидя дурного, поехала. Через три месяца там случилось землетрясение. Город оказался полностью разрушен, погибло семьсот человек, а они с Рустикой спаслись лишь чудом. Тогда Ферари определил Чикиту в «Дикое королевство», парк увеселений на Брайтон-Бич, неподалеку от Кони-Айленда. Там Чикита проработала — ни шатко ни валко — несколько лет. Колтай по секрету сказал мне, что там ее держали в качестве приманки для публики. Она должна была наматывать круги по парку в крошечном ландо, вроде того, которое ей подарил президент Мак-Кинли, и раздавать рекламные брошюрки. Во время шоу она появлялась на сцене всего на несколько минут. Но в книге она, разумеется, все представляла в ином свете. Будто бы все эти годы народ приходил в «Дикое королевство», только чтобы полюбоваться ею. Но, по всей видимости, дела обстояли по-другому. Ее имя все еще появлялось в рекламных объявлениях, но таким шрифтом, что разве с лупой разберешь. Она, конечно, неплохо зарабатывала и получала свою долю аплодисментов, но былой славой не пользовалась. Начались времена ее упадка. Ты, возможно, задаешься вопросом: почему женщина, скопившая достаточно, чтобы жить безбедно всю оставшуюся жизнь, не ушла тогда со сцены? Во времена Панамериканской выставки газеты не раз писали, что ее состояние превышает сто тысяч долларов. То бишь на сегодняшние деньги миллиона два, выше крыши. Она спокойно могла все бросить, распрощаться с шоу-бизнесом, но не захотела. Предпочла остаться в строю. И она ведь не одна такая была. Лавиния Уоррен тоже могла бы успокоиться, когда овдовела, и вести тихое существование, но до глубокой старости путешествовала по миру. Большинство «ошибок природы» выставлялось напоказ, чтобы заработать на хлеб, но были и такие, кто делал это ради удовольствия. Я, к примеру, где-то вычитал, что Женщина-аист, которая снималась в «Уродцах», еврейка родом из Спрингфилда, владела пятью многоквартирными зданиями. Какая нужда была ей таскаться с ярмарки на ярмарку в качестве «чудовища»? Видно, охота к зрелищам жила у нее в крови — иначе не объяснишь. И у Чикиты, надо думать, тоже. Так вот, она довольно долго работала на Брайтон-Бич, но потом поссорилась с Ферари и ушла от него. Следующие несколько лет переезжала с места на место, выступая, где подворачивалось. Даже в Мексике побывала. Куда звали, туда и ехала. А Рустика с ней. В ту пору Чиките сравнялось почти сорок, но, судя по фотографиям, она довольно хорошо сохранялась. В книге эти годы сжаты до пары абзацев. Последние главы вообще немногословны. И это в какой-то степени моя вина. В один прекрасный день я вдруг понял, что вот уже три года сиднем сижу в Фар-Рокавей, и так захотел уехать, что аж внутри засвербело. Я был молод, стремился к переменам и, хоть обращались со мной очень хорошо, грех жаловаться, уже подустал от Чикиты, от Рустики и от книги. Мне надоело делать изо дня в день одно и то же и с утра до вечера слышать Чикитин голосок. Да и по Кубе я жутко соскучился. Умирал как хотел вернуться. Но все же мне было неловко просто взять и уехать и бросить Чикиту с неоконченной биографией. Она обошлась со мной по-доброму, даже в английском подтянула, и не мог же я в ответ подложить ей свинью. И позволь тебе признаться: к тому времени я как-то привык к мысли, что эта книга — отчасти и моя тоже. Я боялся, Чикита разочаруется и потеряет к ней интерес. Или того хуже — наймет абы какого халтурщика, и все мои старания пойдут насмарку. Когда я объявил, что хочу уйти с работы и вернуться в Матансас, Чикита вспылила. Рвала и метала. Она привыкла, что я рядом, и не хотела меня никуда отпускать. К счастью, вмешалась Рустика и урезонила ее: я долгие годы не видел матери и, совершенно естественно, тосковал по ней. Уж не знаю, вправду ли она так думала или просто хотела от меня отделаться, но на Чикиту это подействовало отрезвляюще. Она нехотя соизволила дать мне согласие, но поставила условие, что мы закончим биографию до моего отъезда из Фар-Рокавей. Мы дали себе срок в два месяца и не нарушили его. С другой стороны, сдается мне, даже если бы я не втемяшил себе в голову уехать на Кубу, Чикита все равно не стала бы особо распространяться о последних годах карьеры. В ее же интересах было подсократить эту часть. Она ведь хотела создать впечатление, будто всегда пребывала на вершине, а потому не могла вдаваться в подробности старения и ухода со сцены.Глава XXXIV
Годы признания. Вожделенное и несбыточное возвращение в Матансас. Вещие сны. Третье предложение Патрика Кринигана. Последняя ночь. Чикита скорбит и мучается чувством вины. Плачевное флоридское турне. Решение Рустики. Возрождение в похоронной конторе. Дом в Фар-Рокавей. Мировая война. Новая встреча с Нелли Блай. Прощай, кубинская королева лилипутов.Если бы мы взялись перечислять все триумфы Чикиты на протяжении следующих нескольких лет, список вышел бы столь длинным, что утомил бы и самого долготерпеливого читателя. Скажем только, что она продолжала успешно выступать на лучших площадках, и публика никогда не отворачивалась от нее. В зрелые годы слава баловала ее так же, как в начале карьеры. Она стала признанной артисткой — лучшей в своем роде, — и ее имя гремело в Соединенных Штатах и европейских столицах. И все же одна мечта оставалась неисполненной. Чикита страстно желала ступить на сцену в одном городе, где доселе не выступала, — в родном Матансасе. Она знала, возвращение будет горьким, но все равно хотела порадовать земляков своим искусством. Ей казалось нелепостью, что именно Матансас никогда не купал ее в аплодисментах. Она чувствовала себя в долгу перед малой родиной. Дважды она едва не отправилась домой, чтобы блистать в театре «Сауто» (так теперь назывался театр «Эстебан»), и всякий раз ее планы срывались. В первый раз она собралась на Кубу в середине 1906 года, после сан-францисского землетрясения, но положение дел на острове не благоприятствовало путешествию. Эстраду Пальму вновь выбрали президентом, и его противники усмотрели в этом мошенничество, начались стачки и бунты. Страной стало невозможно управлять. Президент, опасаясь гражданской войны, прибег к поправке Платта, попросил американцев о вводе войск и ушел в отставку. Кубинский стяг был спущен, и в течение двух лет и четырех месяцев островом правил «северный сосед». Вновь Чикита захотела вернуться в 1912 году, но тут разразилась «маленькая негритянская война». Тысячи негров и мулатов во всех кубинских провинциях подняли восстание за свои права. Они доблестно сражались за независимость, а теперь, при республике, их сделали гражданами второго сорта. Им не давали основать собственную партию, не давали работать в полиции, занимать дипломатические посты, и вот их терпение лопнуло. На несколько месяцев остров погряз в репрессиях, перестрелках и повешениях, пока армия жестоко не подавила восстание. На «маленькой войне» погибли более трех тысяч негров и мулатов. Чикита не захотела видеть Матансас охваченным расовой враждой и ненавистью. С тех пор возвращение становилось все более несбыточным и далеким. Чикита любила размышлять о нем, но в глубине души знала, что этой мечте не суждено осуществиться.
В середине 1914 года Чикита работала в одном питтсбургском водевиле. Однажды утром она призналась Рустике, что вот уж три ночи кряду ей снится Патрик Криниган. — Он постарел, — сказала она. — И поседел. — Вы тоже седеете, да только я вырываю у вас седые волоски, как замечу, — ответила Рустика, энергично расчесывая хозяйку, и спросила, сколько же времени прошло с их прошлой встречи с репортером. Чикита принялась подсчитывать. Выходило, что они не виделись пятнадцать лет, с тех пор как в Чикаго ее чуть не насмерть лягнул осел. Боже Всемогущий! Пятнадцать лет! Целая вечность. Сколько всего произошло за это время! Как изменился мир! Изобрели стиральные машины и тракторы, чайные пакетики и растворимый кофе, неоновое освещение и детектор лжи. Один американец добрел до Северного полюса, а один норвежец — до Южного, Земля чуть не столкнулась с кометой Галлея, а «Титаник» постигла горькая участь. Женщины соревновались на Олимпийских играх и без корсетов выходили на митинги за право голосовать. Самолеты летали из Нью-Йорка в Лос-Анджелес и перемахивали Альпы, Панамский канал соединил Атлантику с Тихим океаном, а врачи нашли чудодейственное средство от сифилиса под названием «Сальварсан». Президент Рузвельт пригласил на обед в Белом доме чернокожего гражданина, Мексику сотрясала революция, а недавно молодой террорист родом из Сербии прикончил в Сараево эрцгерцога Франца-Фердинанда, наследника австро-венгерского престола, с супругой. Утраты, сплошные утраты! Диабет доконал Габриеля де Итурри, великан Махнов пал жертвой безжалостного рака костей, а сердце Урсулы Девилль, Чикитиной наставницы, перестало биться во время урока вокала с одной особенно бездарной ученицей. Великий князь Алексей скончался в Париже, покрыв себя позором на посту главнокомандующего российским флотом в войне против Японии. И даже Фрэнк Босток отправился на тот свет, но не в результате поединка с тигром Раджой или другим диким зверем, как можно было ожидать, а вследствие банальной инфлюэнцы. Мертвые упокаивались в могилах, живые продолжали брать от жизни свое. Прекрасная Отеро удалилась со сцены и проматывала состояние в казино Ниццы и Монте-Карло. Лиана де Пужи вышла замуж за юного румынского аристократа, стала княгиней Гикой и предавалась ménage à trois[160] с мужем и понравившимися им обоим барышнями. Утомившись репутацией мясника, Валериано Вейлер написал двухтомную автобиографию, дабы отмыть свою честь. Соперничество китайских фокусников Цзинь Линфу и Чэн Ляньсу полыхало со всегдашней силой. Люси Парсонс и Эмма Гольдман по-прежнему читали лекции и писали статьи, пропагандируя идеи анархизма. А старая и больная Лилиуокалани тщетно требовала от американского правительства компенсации за потерю королевских угодий. Да, мир сильно изменился, но не так сильно, как сама Чикита. Что осталось от наивной мечтательной девушки, покинувшей родное гнездо в Матансасе и окунувшейся в огромный неведомый мир? Очень мало. Ничего. — Милый мой Криниган… — пробормотала она. — А знаешь, Рустика? У меня предчувствие, что в самую неожиданную минуту он объявится. Предчувствие ее не обмануло. Через некоторое время, когда она сидела днем в гримерной, сочиняла письмо к Мундо и ждала своей очереди выходить на сцену, в дверь заглянула Рустика и сказала: «Ни за что не угадаете, кто пришел». Но она сразу угадала: это был ирландец. Ее сны оказались вещими: Патрик Криниган здорово сдал. Рыжие вихры поседели, и когда он улыбался, лицо покрывала сеточка морщин. Но он сохранял всегдашнюю импозантность, стать и учтивость. Стараясь скрыть волнение, бывший любовник приветствовал ее шутливым: «Добрый день, доченька», словно они расстались накануне. «Добрый, каланча», — ответила он и попросила его наклониться, чтобы заключить его в объятия. Весь вечер они проговорили в номере Чикитиного отеля. Она забросала его вопросами. Чем он занимался все это время? Живет ли до сих пор на Кубе? Криниган кивнул и на смешном испанском заверил, что он теперь «такой же кубинец, как маяк в крепости Морро». Гавана — роскошный город, и он открыл там школу иностранных языков. Дела идут прекрасно. «Неплохой бизнес, — заметил он. — В наше время все хотят знать английский». Через несколько лет после их встречи в Чикаго Криниган женился на расторопной веселой кубиночке по имени Эсперанса. «Она была так похожа на тебя! — удивленно воскликнул он, словно осознал сходство сию минуту. — И тоже низенькая, хотя, конечно, не такая низенькая, как ты». Болезнь унесла ее пару месяцев назад. Детьми обзавестись не успели. — Я был счастлив с Эсперансой, но лишь потому, что ты не позволила мне обрести счастье рядом с тобой, — промолвил репортер. Опасаясь, как бы беседа не скатилась в сентиментальщину, Чикита спросила, довелось ли ему путешествовать по острову. Ну разумеется, отвечал Криниган. К примеру, медовый месяц они провели в прекрасной долине Виньялес. Сантьяго-де-Куба и Тринидад также не оставили его равнодушным. «Но больше всего меня взволновала поездка в твой город», — проникновенно сказал он. Однажды на рассвете он сел на поезд и отправился в Матансас своими глазами взглянуть на те места, о которых рассказывала ему Чикита: мост Согласия, замок Сан-Северино, часовню Монтсеррат, собор Святого Карла, старый театр, где она аплодировала Саре Бернар… — Я поспрашивал и нашел дом, где ты родилась, — рассказывал ирландец. — Там живет чудесная семья. Они мне все показали, от гостиной до кухни. И во дворик пустили: я видел пруд, где жила твоя рыбина, которой ты еще стихи читала. Он уже много лет стоит без воды — испортился от времени. Но есть кое-что неподвластное времени, Чикита: моя любовь к тебе. И с этими словами Криниган встал, поднял ее на руки и двинулся в спальню. Чикита томно вздохнула, когда он опустил ее на постель и медленно начал раздевать. Предвидя развязку вечера, Рустика постелила чистые простыни и надушила их жасмином. Они не спали всю ночь. С годами ключик Кринигана не увеличился в размерах, но и не заржавел. Работал как полагается, и, чтобы у любимой не оставалось сомнений, Патрик в ту ночь несколько раз отворил им нежный замок. Утром, когда они завтракали в постели, ирландец набрался смелости и в третий и последний раз предложил Чиките руку и сердце. — Выходи за меня, — молил он. — Мы можем вернуться на Кубу и жить в Матансасе. Или останемся здесь, — словом, где захочешь. Чикита чуть было не согласилась, но из благоразумия попросила несколько часов на размышление. «Встреть меня после вечернего выступления, и тогда я дам ответ», — лукаво сказала она. Вечером, когда Криниган направлялся к ней в театр, в переулке на него напали грабители, выхватили бумажник и пустились наутек. Он помчался за ними, громко призывая полицию, оступился и проломил себе череп. Все это Чикита узнала позже, прождав его до глубокой ночи, разуверившись и вернувшись в отель. — Вот это называется невезение! — посетовала Рустика. — Столько лет он вас уламывал и помер, когда вы решили согласиться! — И в качестве утешения она только и придумала: — Он ведь вас до беспамятства обожал, влюблен был, как телок. Сдается мне, второго такого вам не найти. Лилипутка была с ней согласна. Возможно, жизнь, щедрая на сюрпризы, еще пошлет ей новую любовь, но этой любви никогда не бывать такой сильной, долгой и чистой, как у Патрика Кринигана.
Чикита не могла больше и дня оставаться в Питтсбурге, собрала чемоданы и примкнула к водевильной труппе, отправлявшейся в турне по восточному побережью Флориды. До сих пор от всех горестей она лечилась работой: пела, танцевала, читала стихи, развлекала публику где угодно в любой день и час. Не было лучшего снадобья от душевных ран, от любых напастей. Она надеялась, что во Флориде, куда раньше ее нога не ступала, забудет о гибели Кринигана, но тщетно. В Джэксонвилле, где гастроли стартовали, она едва заставляла себя выйти на сцену. Ей было трудно улыбаться, в танце она двигалась тяжело, словно к каждой ноге привязали по утюгу, и впервые в жизни она забыла слова песни. Рустика надеялась, что настроение у хозяйки поднимется в Сент-Огастине, самом старом городе Соединенных Штатов, основанном испанскими конкистадорами. Но этого не случилось. Чикита по-прежнему шаталась по сцене, словно привидение, не выказывая ни толики прежнего изящества и задора. А когда пришла пора переезжать в Палм-Бич, она и вовсе захирела, оставила труппу, заперлась в номере отеля «Понсе де Леон» и погрузилась в молчание. Тогда Рустика поняла, что это не просто преходящая печаль: боль от утраты Кринигана усугублялась грызущим чувством вины. И она стала ломать голову, как вытащить Чикиту из этого омута. Выпросила разрешение готовить в кухне отеля и наделала домашних конфет, расставила в номере Чикитины любимые цветы и даже читала ей стихи Хосе Хасинто Миланеса. Все втуне. Чикита продолжала чахнуть и слабеть. Вконец отчаявшись, однажды вечером Рустика взялась вслух вспоминать их общие ребячьи проделки. — Помните, мы сыпанули соли в сливочный пудинг, который готовила моя бабка? А как подменили духи во флаконе козьей мочой? Воспоминания об этих и других проказах неожиданно вывели Чикиту из оцепенения. Она вдоволь насмеялась, а потом попросила помочь ей принять ванну и одеться, потому что ей захотелось прогуляться. На набережной она остановилась полюбоваться водой и с глубоким вздохом воскликнула: «Какое спокойное море!» И тут Рустика дала маху: она пояснила, что испанцы выстроили Сент-Огастин не на море, а на берегу полноводной реки под названием — вот ведь совпадение — Матансас. Не успела она договорить, как из-за бог знает каких причудливых ассоциаций вся веселость Чикиты улетучилась, словно по мановению. Она разрыдалась, как девчушка, бросилась ничком и принялась колотить мощеный тротуар кулачками и подвывать: «Матансас, Матансас, я могла бы сейчас быть с Патриком в Матансасе!» После этого случая у Рустики оставался только один выход. Она собрала чемоданы, отправилась на вокзал, купила два билета и, не спрашивая мнения Чикиты, запихала ее в поезд, идущий на север, — до городка, где жил Мундо. Путь был долгим и изматывающим, но Рустика молилась, только бы он не обернулся разочарованием. Чикита нуждалась в любви и ласке куда больше, чем Рустика была в силах дать, и только любимый кузен мог им помочь. На месте их ждал сюрприз. Заведение Мундо и Косточки по-прежнему носило название «Прекрасный Матансас», но радикально сменило профиль. Салун прогорел, и владельцы сделали из него похоронную контору. Чиките приготовили комнату для гостей на верхнем этаже дома, где жили сами хозяева, и заверили, что счастливы ее приезду, а она может оставаться у них сколько душе угодно. Рустика ужасно на себя злилась, готова была чуть ли не пощечин себе надавать. Она полагала, что постоянная возня с трупами и плач безутешных родственников точно доведут Чикиту до отчаяния. Но она ошибалась. То ли потому, что Мундо играл ей на фортепиано любимые вещицы, то ли потому, что в похоронном бюро она поняла — не ей одной выпало страдать по усопшему, а только настроение ее стало улучшаться. Она попросила Косточку обучить ее гримировать покойников и часами простаивала на скамеечке, накладывая кармин на губы и румяна на щеки. Со временем творческий порыв захватил ее, и в надежде придать лоска бдениям она, облаченная в траур и с ног до головы укутанная вуалью, стала под аккомпанемент кузена на органе исполнять во время церемоний «Аве Мария». Идея имела успех, и клиентов прибавилось. Чикита провела в «Прекрасном Матансасе» несколько месяцев и решила, что пора уезжать. Она никогда не перестанет горевать по Кринигану, но уже научилась жить с этой болью. — Хочешь вернуться на работу? — встревоженно спросил Мундо. — Нет, — едва слышно ответила она и с грустным смешком добавила: — Боюсь, мои рабочие будни уже в прошлом. — Тогда куда ты, черт возьми, собралась? — сорвался кузен. — У тебя же никого в целом свете, Чикита. Наша похоронная конторка — хоть какое-то подобие дома. — Благодарю, но настало время обзавестись собственным пристанищем, — сказала она и объявила, что намерена купить дом в Фар-Рокавей, тихом уголке Лонг-Айленда, где некогда провела отпуск. Косточка пробовал ее отговорить: если уж приобретать собственность и уходить на покой, то лучше поближе к ним, ее единственными близким в Соединенных Штатах. Но, обернувшись к Сехисмундо и Рустике в надежде на поддержку, он понял по их лицам, что сражение проиграно. Дом в Фар-Рокавей был делом решенным, и никто не смог бы разубедить Чикиту.
В нью-йоркском поезде Чикита прочла Рустике последние вести из Европы. Начавшаяся несколько месяцев назад заварушка между сербскими плебеями и австрийскими аристократами вылилась в небывалую войну, в которую оказалась втянута уйма стран. В тот день газеты писали, что в бою близ Ипра, в Бельгии, немецкие войска применили против французов и англичан хлорный газ. — Вот подлые! — возмутилась Рустика. — Ружей и пушек им мало, надо было изобрести еще и эту пакость. И они, редко в чем-либо соглашавшиеся, сошлись на следующем: эта война — неопровержимое доказательство того, что мир бесповоротно слетел с катушек. Среди заметок о добровольцах Красного Креста, которые, рискуя жизнью, выносили с поля боя раненых солдат, и женщинах, трудившихся на военных заводах вместо мобилизованных мужчин, Чикита обнаружила удивительную статью. Она касалась «Королевства Лилипутия», поселения в миниатюре, выстроенного в Париже и ежедневно привлекавшего сотни любопытных. На волне патриотизма, охватившей Францию, лилипуты, выступавшие в «Королевстве», явились на сборный пункт и потребовали, чтобы им, несмотря на малый рост, разрешили вступить в действующую армию и отправиться бить немцев. Вокруг их заявления развернулось множество споров, но в конце концов их приняли в войска, и храбрые солдатики выполняли важные задачи. Их размеры оказались очень подходящими, чтобы перемещаться из окопа в окоп с донесениями командованию и совершать опасные вылазки на вражескую территорию. В конце статьи сообщалось, что, вдохновленные примером своих товарищей, многие лилипутки из «Королевства» также направили письма в военные ведомства с тем, чтобы им позволили работать на полевых кухнях и в госпиталях[161]. Эспиридиона Сенда почувствовала себя крайне неуютно в кипучей обстановке нового здания Центрального вокзала. Когда она шла через огромный главный зал с высоченными мраморными стенами и нелепым зодиаком на потолке, ей показалось, что она съеживается и становится еще меньше, чем есть. Она поднажала и велела Рустике с носильщиком не отставать, чтобы поскорее выбраться из этого кошмара. На улице стояло такси, с виду свободное. Они ринулись к нему, но увы! В салоне уже сидела пассажирка и горячо пререкалась с водителем. Она вновь и вновь тыкала в счетчик и заявляла, мол, треклятый аппарат может показывать что ему вздумается, но лично она не намерена платить больше пятидесяти центов за милю, как и установлено законом. Шофер так устал от длинной перепалки, что сдался. Дама с победной улыбкой вылезла из такси, и тут Чикита узнала ее. Она немного располнела и сменила прическу, но это была все та же Нелли Блай, с которой они не виделись со времен Панамериканской выставки. — Чикита! — воскликнула Нелли, обнаружив старую приятельницу. — Где тебя носило все эти годы? — И, скомандовав носильщику грузить чемоданы лилипутки в машину, она рассказала ей последние новости о себе. После кончины Роберта Симана, супруга-миллионера, она унаследовала все его имущество и решила лично заняться делами. Будучи неисправимой идеалисткой, она попыталась воплотить в жизнь философию эффективных отношений между хозяевами и рабочими; последствия оказались плачевны. Ее промышленные предприятия обанкротились, ввергнув Нелли в разорение и долги. — Я все потеряла, даже дом в Мюррей-Хилл. Пришлось вернуться в «Уорлд» к Пулитцеру и вновь зарабатывать журналистикой, — сказала она и, не обращая внимания на таксиста, который грозился уехать с чемоданами, если Рустика и Чикита сейчас же не сядут в машину, сообщила, что завтра отплывает во Францию. — Да, старушка Нелли не теряет охоты к приключениям, — пошутила она. — Я буду первой женщиной — военным корреспондентом и стану присылать нашим верным читателям сводки с полей сражений. Чикита поздравила ее и хотела было спросить, знает ли она о смерти Кринигана, но тут таксист взревел мотором. И, видно, уехал бы, как обещал, кабы Рустика не кинулась ему наперерез, расставив руки. — Залезайте уже, или я за себя не отвечаю! — взвыл он, и кубинки сочли за лучшее послушаться. — Удачи на войне! — пожелала Чикита Нелли Блай из окна. — Буду читать твои репортажи. — Ой, Чикита, мне только что пришла в голову блестящая мысль! — крикнула журналистка вслед удаляющемуся автомобилю. — Почему бы нам не…? Чикита не расслышала конец фразы. И бог с ним. В любом случае она не согласилась бы ни на какую авантюру. Она была сыта по горло безумным миром, людьми и войнами. Ее совершенно не тянуло на сцену. Она знать больше ничего не желала про цирки, водевили, ученых шимпанзе и бестолочей-великанов. Путь самой маленькой женщины в мире подошел к концу. Прощай, Живая Кукла! Прощай, Рентгеновский Луч Венеры! Прощай, Мельчайшая Щепотка Человечества! Эспиридиона Сенда уходит навсегда. Единственное ее желание — как можно скорее купить дом в Фар-Рокавей и запереться в нем в компании Рустики и воспоминаний. Такси влилось в поток автомобилей, едущих в западном направлении по 42-й улице, и Чикита подумала, что пора опускать занавес. Ей не было еще и сорока пяти, но она чувствовала себя старой-престарой, словно один из холмов в долине Юмури.
Глава XXXV
Уединение в Фар-Рокавей. Предательство Хаяти Хассида. Орден Нижайших мастеров Новой Аркадии прекращает существование. Неожиданное появление Сары Бернар. Речь, сотворившая чудо. Чикита возвращается на сцену. Ее эпитафия.Все вроде бы указывало на то, что карьера Эспиридионы Сенды завершилась. Следующие два года она почти не выходила из дома, и вся жизнь ее сводилась к вышивке, прогулкам по саду, сочинению писем и чтению неисчислимых книг и газет. Она (точнее, ее астральный двойник) покидала Фар-Рокавей только ради собраний ордена Нижайших мастеров Новой Аркадии, но в начале 1916 года и эти выходы прекратились. Братство давно уже дышало на ладан, а война окончательно его доконала. С самого начала конфликта орден оказывал поддержку Франции, России, Англии и прочим странам Антанты, выступая против Германии и Австро-Венгерской империи. Однако один из Верховных мастеров, паша Хаяти Хассид, предал товарищей и тайком перешел под начало турецкого султана, безусловного сторонника кайзера Вильгельма II. Довольно долго он притворялся, будто охотно выполняет поручения Лавинии, но в действительности пользовался поездками по союзническим странам для сбора сведений в пользу врага. Обман открылся, когда британские секретные службы задержали Хаяти Хассида в Мельбурне и обвинили в шпионаже в пользу Османской империи. Новость облетела весь мир, и, хотя судивший Хаяти Хассида военный трибунал оставил его на свободе за недостатком доказательств, Лавиния и Верховные мастера прибегли к строгим мерам. Турку, правда, не воткнули тринадцать булавок в язык, но лишили отличительного знака и навсегда изгнали из рядов братства[162]. Это был тяжелый удар для единства ордена, и за ним последовал другой: Драгулеску скончался от инфаркта — возможно, вследствие потрясения из-за предательства Хаяти Хассида. В довершение печальной картины, лилипуты, назначенные верхушкой на замену Драгулеску и Хассиду, наотрез отказались иметь дело с орденом даже после увещеваний Лавинии. Уговоры на них не действовали, да к тому же оба обладали весьма посредственными способностями к билокации, так что даже их астральных двойников было практически не привлечь к собраниям братства. Из-за всех этих неприятностей орден распался. Семидесятипятилетняя Лавиния устала бороться. Ни один из оставшихся Верховных не оказывал ей требуемой поддержки: Магри, ее супруг, выказывал себя полным ничтожеством, а Чикиту братство никогда особо и не интересовало. На чрезвычайном собрании Великий магистр обратилась посредством оракула к Демиургу и спросила, не пора ли распустить орден. Верховное существо не удосужилось ответить, вдова Тома Большого Пальца пробормотала: «Молчание — знак согласия» — и торжественно объявила, что дни ордена Нижайших мастеров Новой Аркадии сочтены. Засим она сожгла «Книгу откровений» и развеяла пепел на все четыре стороны. После нескольких веков борьбы против тупоумия людей «нормального» роста лилипуты и карлики умыли руки. Им не суждено было управлять планетой. Они более не считали грядущее своей ответственностью: пусть человечество само разбирается. Последняя война, в которой якобы цивилизованные страны губили свою молодежь, не оставляла сомнений: мир стал с ног на голову. Лавиния умерла вскоре после победы Антанты, и супруг не замедлил последовать за ней[163], после чего Чикита осталась единственной живущей из бывших руководителей ордена. Но от него к тому времени оставались лишь воспоминания о странных ритуалах и неосуществленных грандиозных планах, и она благоразумно предпочла предать их забвению…
Чикита почти двадцать лет не видела Сару Бернар, но все время следила за ее похождениями. Она огорчилась, узнав, что в начале 1915 года актрисе ампутировали правую нижнюю конечность на несколько дюймов выше колена, и возмутилась предложению, которое осмелился сделать один делец из Сан-Франциско: он предложил Саре выкупить ногу за сто тысяч долларов, чтобы показывать на Панамско-Тихоокеанской международной выставке («Какую из двух?» — язвительно ответила Бернар, и всем ее поклонникам стало ясно, что с потерей ноги старая закалка и чувство юмора никуда не делись). Через пару недель после операции актриса уже устраивала вечера с декламацией стихов и собиралась в новое мировое турне. Европа воевала, и она решила начать с Северной Америки в надежде на скорое поражение кайзера и его союзников. В конце 1916 года она, прихватив терьера Бастера и коллекцию из двадцати пяти протезов, отправилась в Соединенные Штаты. Американские газеты вовсю расхваливали ее и объявили, что, несмотря на почтенный семидесятипятилетний возраст и одноногость, она молода и полна сил, как никогда. Дабы подтвердить это мнение, Сара охотилась на крокодилов в луизианских «байю», посещала в униформе Красного Креста митинги и произносила пламенные речи, заканчивавшиеся неизменным: «Vive l'Amérique, vive les Alliés, vive la France!»[164], a во время одного выступления в Квебеке (почему-то именно там у нее всякий раз случались неприятности), не теряя достоинства, метнула обратно в нахального зрителя гнилой помидор. Кроме того, словно остальных проявлений энергичности было мало, Бернар объявила, что намерена играть в водевилях. «Многие желающие видеть меня не располагают достаточными средствами, и я хочу дать им такую возможность, — отвечала она снобам, осудившим это решение. — Водевиль трогает людские массы». Чикита с трудом представляла себе, как это Сара Бернар станет выходить на одну и ту же сцену с певцами, танцовщицами, фокусниками, шпагоглотателями и дрессированными собачками, но, в конце концов, она уже привыкла к ее экстравагантным выходкам. От кумира чего угодно можно ожидать. Разве несколько лет назад в Далласе и Чикаго Сара не показывала «Даму с камелиями» в огромном цирковом шатре? Но при всем благоговении, которое Чикита испытывала перед Бернар, она не поехала в Нью-Йорк, чтобы увидеть ее в роли невероятно юной Жанны д’Арк. «Само собой, я была бы рада с ней встретиться, — сказала она Рустике. — Но как подумаю о дороге, желание напрочь пропадает». Ее пугала необходимость выбраться из уединения, подвергнуть уши испытанию уличным шумом и нырнуть в городскую толкотню. Она много месяцев просидела взаперти и обрела привычку к одиночеству. «Мир позабыл обо мне, и я отплачу ему той же монетой», — говаривала она. Не отданных жизни долгов у нее не оставалось, и сама она ничего от жизни не ждала. Жила будто по инерции, не обольщаясь и не надеясь на лучшее. Это безволие и стремление скрыться от мира очень тревожили Рустику, единственную свидетельницу того, как некогда неукротимая Эспиридиона Сенда медленно чахнет. Как только предоставлялась возможность, она принималась с тоской поминать времена, когда они кочевали из города в город и публика дарила хозяйку овациями. Более того, преодолевая собственный такт и немногословие, она заводила разговор о бывших любовниках Чикиты, надеясь, что кровь в ее в жилах побежит веселее. — Я вот тебя слушаю, и мне кажется, все это было с кем-то другим, — пренебрежительно вздыхала Чикита. — С тех пор прошла целая вечность! Замолкни уже, что толку ворошить воспоминания? Мое теперешнее спокойствие бесценно, и я никому не позволю его нарушать. Рустика запальчиво возражала: это никакое не спокойствие, а самая настоящая смерть при жизни. «Мистер Криниган, может, и отдал богу душу, но вы-то живехонька, — ругалась она. — Ну распрощались вы с театрами да ярмарками. Это еще не значит, что нужно сводить себя в могилу». Чикита притворялась, что не слышит, и погружалась в вышивку и чтение. Она понимала, что Рустика права, но как вернуть израненной душе радость жизни? У нее не было воли даже попытаться разузнать это. Но однажды в полдень ей пришлось-таки выйти из спячки. По Эмпайр-авеню подъехал лимузин, остановился возле ее бунгало, из него вышла стройная девушка и постучала в дверь. Рустика в кухне готовила обед и открыла только через пару минут. — Здесь ли живет мисс Чикита? — спросила девушка с британским акцентом. — Да, — ответила служанка, смерила ее взглядом и вытерла руки о передник. — What do you want?[165] Вместо ответа незнакомка обернулась к автомобилю и победно воскликнула: «Нашлась!» Мгновение спустя статная дама, опираясь на трость и руку секретарши, вылезла из лимузина и, прихрамывая, однако держа осанку, прошествовала ко входу. На ней былобархатное платье couleur bouton de rose[166] с высоким воротником и огромными карманами, серый жакет, напоминавший военный китель, и парижская шляпа en avant[167], из тех, что вошли в моду во время войны. — Сеньорита, бегите бегом сюда! — завопила Рустика, не веря своим глазам. — К вам сеньора Бернар приехала! — Мы чуть не умерли, пока тебя разыскали, та petite, — с порога упрекнула Сара хозяйку дома. — Как ты умудрилась забраться в такую глушь? Чикита указала ей на кресло, и Сара рухнула в него. Лилипутка пристально рассматривала старую знакомую. В свои семьдесят с гаком, лишившись ноги и набрав несколько фунтов, Божественная по-прежнему пленяла индивидуальностью и темпераментом. Говоря, она ярко жестикулировала, сверкала глазами и потрясала рыжими, как прежде, кудрями. И все же, когда первый восторг отступил, Чикита заметила, что годы не пощадили гостью. Сара оставалась молода душой, но тело являло безусловные признаки разрушения. Чикита полюбопытствовала, кто ей нашептал об убежище в Фар-Рокавей, и Божественная беззаботно махнула рукой. — Я никогда не выдаю своих лазутчиков, — заявила она. — Но эта особа не преувеличила, заметив, что живешь ты у черта на рогах. По обычаю, она завладела словом и, располагая вниманием Чикиты и секретарши-англичанки (Рустике, как ни грустно, пришлось вернуться в кухню к кипящим кастрюлям), завела длинный монолог о самых разных делах: начиная с решения впервые в жизни сыграть в пьесе на английском и заканчивая непоколебимой уверенностью в скором поражении Германии, сулящем ей возможность вернуться на родину. Пока она разглагольствовала, с кухни начали доноситься восхитительные запахи. Ноздри Божественной затрепетали и, оборвав на полуслове характеристику игры Этель Берримор в «Даме с камелиями», она призналась хозяйке, что умирает от голода и не прочь отведать этой вкуснятины — что бы там ни было, — которую сейчас готовят. Через несколько минут Бернар, секретарша и Чикита уже восседали за столом, и француженка с завидным аппетитом разделывалась с полной тарелкой кукурузной каши с жареной свининой. — Ну, — вдруг заговорила она и пытливо взглянула на Чикиту, — а где же ты выступаешь теперь? Чикита едва слышно пролепетала, что вот уже два года не работает. Сара сразу же помрачнела. — Мне говорили, да я не хотела верить, — сказала она, поддела вилкой кусочек свинины и отправила в рот. — Всего несколько лет назад ты просила у меня помощи, поскольку нуждалась в знакомствах, и я тебе бескорыстно помогла, считая, что твое призвание — как и мое — быть жрицей искусства. Чикита оробело уткнула подбородок в воланы блузки. Кому другому она, может, и возразила бы: прошло не всего несколько, а двадцать лет, — но только не Бернар, ведь она богиня, и, значит, представление о времени у нее не такое, как у смертных. — И что же внезапно, — почти что декламировала Сара угрюмым тоном, — открывается моему потрясенному взору? Я ошибалась в тебе! Ты прекратила служить искусству, не имея на то ни единой веской причины! Чикита хотела было что-то сказать, но секретарша сделала страшные глаза, как бы советуя хранить молчание. Божественную посетило вдохновение, и негоже ее перебивать. — Где та девочка, что была готова завоевать весь мир? — с надрывом гремела Сара. — Что сталось с ее мечтами о славе? Клянусь, я не узнаю тебя, Чикита. Я думала, мы с тобой из одного теста, но нет! Ведь истинные актрисы не предают свой талант. Ты разочаровала меня, и мне так горько, что ты даже себе представить не можешь. Чуть не плача и наплевав на немые сигналы от секретарши, Чикита собралась перечислить все причины, заставившие ее покинуть сцену, но не нашлась, с какой начать. Все они вдруг показались ей нелепыми, сказать было нечего. — Я так настрадалась, — только и смогла выдавить она в свою защиту. — Мне не везло в любви, и я все хуже понимаю этот мир. Бернар удостоила эту реплику лишь долгим и раскатистым театральным хохотом. Это ей-то, специалистке и в одном и в другом, Чикита смеет заикаться о боли и о любви? Нет уж, ничто не оправдывает ее предательства. Страдания и романтические превратности всегда питали и будут питать истинных артисток. — Посмотри на меня, — потребовала она и дотронулась сперва до морщин, с которыми уже не справлялся грим, а потом до протеза. — Пару дней назад я виделась с самим Гудини и сказала ему: «Гарри, вы лучший маг в мире, вы творите чудеса, но сможете ли вы вернуть мне ногу?» Он побледнел, рассыпался в извинениях и ответил, чтобы я просила о чем угодно, только не об этом. И что я тогда сделала? Зарыдала? Упилась жалостью к себе? Нет. Я улыбнулась и пошла дальше. Я одинокая хромая старуха, и вот уж полвека я мыкаюсь по театрам. Думаешь, это легко? Отнюдь нет. Но если бы я изволила запереться и жалеть себя, как ты, то предала бы свою истинную любовь, единственный смысл моей жизни, моего второго Бога: искусство. И она умолкла. Рустика воспользовалась минуткой, быстренько убрала тарелки и подала сладкое. — А что это? — поинтересовалась Сара, мигом позабыв про трагический тон, и с детской любознательностью наклонилась к блюдцу. «Цукаты из гуаявы с белым сыром», — пояснила Чикита и, пока Божественная смаковала десерт, нарочито постанывая от наслаждения, поблагодарила ее за то, что всегда служила ей вдохновением и образчиком настоящей актрисы. — То есть ты выйдешь из своего нелепого заточения? — сказала на это Сара. — Стареть отвратительно, Чикита, но стареть в четырех стенах — и вовсе свинство. Жизнь у нас одна, моя милая, и нет никакого смысла в том, чтобы добровольно отречься от ее удовольствий. Ты клянешься мне, что снова станешь играть? Чикита кивнула, глаза ее увлажнились, и в этот миг, словно очнувшись от оцепенения, она спросила себя, как могла потерять целых два года в захолустном Фар-Рокавей. Как могла отказаться от путешествий, от все новых и новых подмостков и в особенности от восхищения и любви благодарных зрителей, которые не забыли ее и ждут ее возвращения? Отведав кофе «по-кубински» и найдя его très fort[168], Сара взяла с Чикиты обещание, что та придет на ее спектакль в Бруклинской музыкальной академии. Антигерманская пьеса «Соборы» пользуется невероятным успехом. И уже по пути к лимузину она будто бы что-то вспомнила, обернулась к Чиките и сказала: — Я долгое время скрывала кое-что, а теперь хочу открыться. Это касается той рыбы, которую ты мне подарила. В последнюю нашу встречу я солгала тебе насчет нее и теперь прошу прощения… Чикита не дала ей договорить и заверила, что не стоит возвращаться к судьбе манхуари. — Неисповедимы пути Господни, — сказала она. — Если бы вы не велели швырнуть Буку в Сену, я, скорее всего, утонула бы и лежала на дне. Покарав его, вы спасли мне жизнь.
Разговор с Сарой Бернар — последний в их жизни — вернул Чикиту из добровольного изгнания. Она с новой силой вернулась к работе, и еще много лет публика рукоплескала ей в театрах и на выставках по всем Соединенным Штатам[169]. Чикита пленяла мир своим искусством, но никогда не забывала о корнях и гордилась тем, что она чистая кубинка «с головы до пят». До последних выступлений оставалась верна хабанерам Ирадьера и дансонам Сервантеса и Саумеля и не поддалась моде на чарльстон и фокстрот. Ее карьера явилась лучшим и неоспоримым доказательством того, что величие не знает размеров, а женщина ростом в двадцать шесть дюймов может, если поставит себе цель, добиться всеобщего уважения, как бы трудно ни было. В отличие от стольких островков и маленьких стран, ставших жертвами прожорливых империй, она ни разу не позволила собой помыкать и не утратила независимости. Она жила как хотела, высоко держала голову, мыслила свободно и везде заставляла к себе прислушиваться. Возможно, ее следы покажутся кому-то крошечными, но никто не посмеет усомниться в твердости ее поступи. Когда по состоянию здоровья она не смогла больше выступать и ушла со сцены, в почтовый ящик ее дома на Эмпайр-авеню начали поступать бесчисленные письма от поклонников, не желавших мириться с тем, что Живая Кукла завершила артистический путь. «Такой, как вы, никогда прежде не было и больше не будет» — значилось в одном из этих посланий. «Те, кому посчастливилось видеть вас, никогда вас не забудут», — говорилось в другом. Долгими зимами, когда ни бульон из ребрышек, ни горячий шоколад, приготовленные Рустикой, не могли прогнать пробиравший до костей назойливый холод, эти письма становились спасением Чикиты. Она читала их у камина и, словно по волшебству, согревалась, а в душе вновь начинали теплиться надежда и юношеская бодрость. Летом во дворе вили гнезда перелетные птицы, магнолия вдумчиво предавалась безмолвному цветению, а Чикита гуляла по саду под горячими лучами солнца и декламировала «Бегство горлицы». В зрелые годы она наконец поняла, почему эти стихи ее «почти деда» Миланеса оказывают на нее такое чарующее действие.
Кандидо Оласабаль рассказывает конец этой истории
Если живешь с гадалкой, никогда не знаешь, в какой час тебя вытащат из постели. В самую неожиданную минуту найдется желающий узнать будущее. Черт знает что. Людям невдомек, что у других тоже есть личная жизнь. Они считают, что эти другие двадцать четыре часа в сутки обязаны быть в их распоряжении. Однажды в воскресенье, в 1946 году, часов в девять утра я сладко спал в обнимку с Кармелой, и тут раздался стук в дверь. Этакий сухой, властный, настойчивый стук, от которого у кого хочешь испортится настроение. «Я открою», — сказал я Кармеле и нехотя встал. Не успел дойти до гостиной, как опять постучали. Видимо, дело не терпело отлагательств. Я приотворил дверь и не узнал чернокожую сеньору, стоявшую передо мной. Но стоило ей заговорить, как я аж похолодел: — Хм! И не поздороваетесь со мной, Кандидо Оласабаль? Пятнадцать лет прошло с моего возвращения из Штатов, но это хмыканье я узнал бы и через сто. Оно впечаталось в мою память. То была постаревшая, посмурневшая, отощавшая, но по-прежнему широкобедрая Рустика. Какая нелегкая принесла ее в Матансас? — И в дом не пригласите? — едко воскликнула она. — Не разговаривать же нам посреди улицы! — И, заметив, что я уставился вниз, как бы отыскивая взглядом Чикиту, она помотала головой и пояснила, что в Матансас приехала одна: — Сеньоры, царствие ей небесное, уже нет с нами, — пробормотала она. Я тут же провел ее в гостиную (жутко стесняясь, потому как застала она меня в майке и пижамных штанах) и побежал сказать Кармеле, мол, у нас гости, пусть кофе сварит. Потом вернулся к Рустике. Она осведомилась, как у меня дела. Я рассказал, что работаю корректором в газете «Импарсьяль», пописываю сонетики и вот уже кучу лет женат на Кармеле. Это я соврал напоследок, потому что мы с Кармелой просто сожительствовали. Жили гражданским браком, пока мне не предложили должность в «Боэмии» и нам не пришлось расстаться. Кармела ни в какую не желала переезжать в Гавану — боялась растерять клиентов, — а я не хотел отказываться от хорошего места в столице. Так что каждый пошел своим путем. И я даже рад, ведь, хоть я и любил Кармелу, но не до безумия, что называется. До безумия я влюбился в Бланку Росу, секретаршу в «Боэмии», и вскоре после того, как начал там работать, мы поженились. Бланкита — вот моя большая любовь. Но вернемся к нашей истории. Рустика выслушала мои новости и поведала свои. Начала с главного: Чикита умерла 11 декабря 1945 года, за три дня до своего семидесятишестилетия. — В могилу ее свел жестокий грипп, — уточнила она голосом, в котором не проскальзывало ни малейшего волнения. — Когда я обряжала ее, то решила измерить. Некоторые лилипуты под старость подрастают, но она как была, так и оставалась — двадцати шести дюймов. — И в этой фразе прозвучала странная гордость. До конца своих дней Чикита закрашивала седину и следила за новинками моды. И оставалась верна своим привычкам: много читала (всегда первым делом отыскивала в газетах кубинские новости), вышивала, принимала солнечные ванны в саду и два раза в месяц устраивала приемы. В последний год жизни почти каждую неделю переписывалась с Лианой де Пужи, княгиней Гикой, которая постриглась в монахини[170]. Голубые, которые приходили в гости к Чиките, когда я там работал, сменились новыми, помоложе, но и те писали кипятком при виде ее фотографий, вееров и танцев. Она рассказывала о своих золотых деньках страстно, но без тоски. — Когда она слегла, ни один из этих воздыхателей, без конца у нас ошивавшихся и набивавших пузо, даже не появился в Фар-Рокавей, — сказала Рустика. — Мне одной пришлось всем заниматься: и лечением, и бдением, и похоронами. По желанию Чикиты ее схоронили на кладбище Голгофа. Почему она выбрала именно это кладбище в Квинсе, а не что-нибудь поближе к дому? Очень просто: там лежал Криниган, и она заранее купила место рядом, чтобы упокоиться подле него, когда придет ее черед[171]. Чикита завещала половину своего состояния Сехисмундо и половину Рустике. Но денег к тому времени оставалось уже немного. После двух мировых войн сбережения ее сильно потеряли в цене. Дом выставили на продажу, и, едва получив за него деньги, Рустика решила вернуться на Кубу. — Сеньорито Мундо и Косточка (тоже те еще старые хрычи, сами понимаете, годы-то идут) звали меня жить с ними, — сказала она. — Они все еще держат похоронную контору и даже предложили мне вступить в долю, но я не захотела. Не по нраву мне доживать жизнь среди свечек и гробов. Вот я и подалась сюда. В Матансасе она купила домик неподалеку от кладбища, чтобы каждый день носить цветы бабке на могилу. — И дону Игнасио с доньей Сиренией, конечно, — уточнила она. — Иначе сеньора Чикита меня не простит, а я знаю: однажды мы снова встретимся, и уж она с меня спросит. Я поинтересовался, как она меня нашла, и она вытащила из сумочки мятый конверт. Я послал это письмо Эспиридионе Сенде, когда только начал жить с Кармелой. — Я ей не отдала, — призналась Рустика, глядя мне в глаза. — Не хотела сыпать ей соль на раны. Вы не представляете, как она по вам скучала, когда вы уехали! Я и не думала, что она к вам так прикипела. Долго переживала. Тогда я спросил про книгу. Напечатали ли ее после смерти Чикиты, как она и рассчитывала? Рустика опять хмыкнула и ответила, что лилипутка оставила соответствующие распоряжения своему адвокату. Но, как тот ни рыскал по всему дому, рукописи найти не смог, и воля покойной осталась неисполненной. — Это вы ее утаили! — догадался я по ее кривой ухмылке. — Но зачем? — Как я могла допустить, чтобы это напечатали? — возмутилась она. — Некоторые части были ничего, но другие — полное бесстыдство. Вы-то думали, я ничего не знаю, что вы там строчите, но я ночами потихоньку поднималась и читала. Местами аж воротило, вот не вру, тошнило. И чтоб люди читали такое свинство? Ну уж нет. По крайней мере, не при моей жизни. Что о сеньоре люди бы подумали? Она хотела сжечь рукопись, но в последнюю минуту ей не хватило смелости. Привезла в Матансас, чтобы отдать ее мне и больше не видеть. Перед уходом она взяла с меня обещание, что я зайду к ней за бумагами. Ей не пришлось долго ждать. В тот же вечер я отправился к ней, и Рустика отдала мне не только рукопись, но и множество фотографий Чикиты, газетных вырезок и даже семейных писем. Сказала, не знает, сколько ей еще времени отпущено, а кому попало оставить это все она боится. — Я еще кое что привезла и хочу, чтобы вы помогли мне от этой штуки отделаться, — таинственно произнесла она и вытащила из кармана платья не что иное, как кулон Чикиты: талисман великого князя Алексея. Если хочешь, считай меня нюней, но при виде шарика я расчувствовался. Мне впервые довелось подержать его в руках, пощупать и без спешки рассмотреть письмена. На ум мне пришла история ордена Нижайших мастеров Новой Аркадии. Как мудро было со стороны Лавинии распустить секту! Несмотря на добрые намерения, лилипуты никогда не смогли бы править миром. А знаешь почему? Потому что мир уже не исправить. И становится он все хуже и хуже. А теперь и вовсе все решается атомными бомбами. Вот до чего докатились. — Чикита распорядилась насчет талисмана? — спросил я. — Нет, — ответила Рустика, — но, зная ее, думаю, ей хотелось бы, чтобы его бросили в море. По какой-то причине и мне так казалось: лучшее, что мы можем сделать с талисманом, — пустить его на морское дно. Здесь же, в Матансасе. Да, надо полагать, Чикита была бы с нами согласна. В следующее воскресенье я встал пораньше, зашел за Рустикой еще засветло, и мы вышли в море на лодочке, которую я накануне нанял у ловца креветок. Лодочка была красная и называлась «Болеро». Мы выгребли из порта, лавируя между рыбацкими баркасами и торговыми судами, и добрались до открытого моря. Вода была темная и какая-то густая, а волны, как ни странно, не пенились. Солнце едва пробивалось на горизонте; небо мандаринового цвета походило на задник театральной сцены. Вдали, словно дымчатый амфитеатр, виднелся неясный, расплывающийся силуэт Матансаса. Где какое здание и холм, мог бы различить только местный житель. Мы молчали. Слышалось только кхеканье моторчика да биение волн о нос лодки. Рустика оделась во все черное, приладила к шляпке длинную вуаль и повесила сумочку на локоть. Ветер загадочно колыхал вуаль, но Рустика не обращала внимания, сидела, сжав губы и уставившись на горизонт. Я то и дело искоса поглядывал на нее и не мог понять, кого она больше напоминает: огородное пугало или зловещую невесту. — Хватит, приехали, — приказала она вдруг хозяину «Болеро». — Глушите мотор. Лодка остановилась, Рустика поднялась на ноги и велела мне тоже встать. Я неохотно послушался: плавать-то я так и не научился, а лодку покачивало, и я малость струхнул. Она вынула из сумочки талисман и вложила мне в ладонь, чтобы я швырнул его в воду. Рыбак тем временем закурил и с любопытством наблюдал за нами с кормы. — Думаете, нужно что-нибудь говорить? — с сомнением спросил я у Рустики. — Думаю, обязательно, — ответила она, вздергивая бровь. Я держал цепочку большим и указательным пальцем и лихорадочно соображал, что бы такого сказать. Я подумал о Чиките, о том, какая она была уникальная. Не только из-за роста, но и потому, что, в отличие от многих других «ошибок природы», никогда не позволяла вытирать о себя ноги. Нет, я не хотел возводить ее не пьедестал. Как всякий порядочный Стрелец, она обладала трудным характером, отличалась твердолобостью, а подчас и высокомерием. Она любила искусство — что правда, то правда, — но не меньше (а может, и больше) любила деньги. Могла врать, могла проявлять жестокость, но могла быть и бескорыстной, искренней и ослеплять окружающих обаянием. На свой лад она была патриоткой и, хоть дольше прожила за границей, чем на родине, никогда не переставала чувствовать себя кубинкой. Но все это не годилось, сказать требовалось что-то умное, достойное Чикиты, чтобы Рустика не разочаровалась. Вот тебе и на! Я помог ей написать биографию, жил под ее кровом, выслушал сотни семейных и личных историй, а теперь вдруг словно не знаю ее, словно никогда не был знаком с настоящей Чикитой. «А разве кто-то знаком?» — пришло мне на ум. Я уже совсем отчаялся, как вдруг случилось нечто неожиданное. Талисман замерцал, сперва тихонько, потом сильнее, и принялся рассыпать во все стороны разноцветные искры. Это на словах — хаханьки, а как увидишь — можно умереть со страху. — Пресвятая Дева! — недоуменно пробормотал рыбак и перекрестился. — Это что за бесовщина? — Но тут Рустика жестом велела ему молчать. Кулон не просто сверкал и искрил. Я вблизи мог разглядеть, что иероглифы движутся, словно пляшут в золоте, и причудливо меняют форму. — Давайте же, — поторопила меня Рустика. — Разве не видите, он сам просит, чтобы его отпустили? И тогда я сглотнул и сделал одну из самых нелепых вещей в жизни. Не смейся. Просто в голову взбрело. Посреди бухты (где подо мной была лишь зыбь, над головой — лишь небо, а перед взором — Матансас) я стал читать стихи Хосе Хасинто Миланеса. Да, да, честное слово. Полностью прочел «Бегство горлицы». На первой строфе голос еще немного дрожал, но по ходу я приободрился. Я умолк, глубоко вздохнул и швырнул кулон Чикиты как можно дальше в море. Когда тот ушел под воду, Рустика сжала мою руку и заплакала. Сначала она только глухо всхлипывала, но потом зарыдала в голос и завыла, словно с нее шкуру сдирали. Я изумился и помог ей сесть — а то как бы она не перевернула лодку и мы бы все не потонули. То бишь — мы с нею, рыбак-то, надо думать, умел плавать. Бедняга уже совсем сбледнул с лица, перепугался и решил, что мы предаемся какому-то странному колдовству. Но я не обращал на него внимания — дал Рустике выплакаться вволю. Что-то мне подсказывало: это первые слезы, пролитые ею за всю жизнь, и я терпеливо ждал, пока они не иссякли. Потом мы вернулись на пристань.Приложение I
Чикита,
Эсп. Сенда
Приложение II Лилипуты и карлики: чем меньше рост, тем больше слава Ф. Колтай
Издатели «Род-Айленд леди’з мэгэзин» поставили передо мной трудную задачу, заказав статью о знаменитых лилипутах и карликах. Формат газетной статьи не позволит перечислить всех персонажей, достойных упоминания. Следует ли начать с Кунапупа, карлика-раба на службе у фараона Дадкери-Асси, про которого в древних папирусах говорилось, что «ростом он не больше кота»? Или, может, с Фарсалия, человечка ростом в два фута, пользовавшегося покровительством Филиппа II Македонского? Или с Джеффри Хадсона, прозванного за свой рост в 18 дюймов Лордом Минимусом, любимца Карла I и Генриетты Марии? Следует отметить, что не все лилипуты и карлики древности были шутами, слугами или рабами. Нам известны личности, обладавшие блестящим умом и благородным происхождением, например Филит, древнегреческий поэт, про которого говорили, будто он перед выходом из дома вынужден накладывать камни себе в карманы и обуваться в свинцовые сандалии, чтобы его не унесло ветром. Словом, невозможно описать всех когда-либо живших знаменитых лилипутов и карликов. Я, пожалуй, упомяну лишь тех, кого мне довелось видеть за мою долгую жизнь в театрах, цирках, музеях диковинок и ярмарочных павильонах. Все они оставили неизгладимый след в моей памяти.Величайшие из величайших
Генерал Том Большой Палец. Наполеон среди лилипутов. При содействии Барнума Чарльз Страттон покорил сначала свою страну, а потом и весь мир. В первые годы карьеры он был весел и легок, словно бокал игристого вина, однако возраст добавил ему не только дюймов и фунтов, но и некоторой занудной торжественности. Полагаю, осознание невероятной популярности не лучшим образом повлияло на его талант развлекать публику. Тем не менее его звезда не закатилась. Даже после смерти он оставался кумиром. Мне повезло не раз рукоплескать ему на выступлениях, а также — высшая честь — присутствовать в 1863 году на его бракосочетании.Лавиния и Минни Уоррен. Рост этих очаровательных сестер родом из Миддлборо, штат Массачусетс, составлял 32 и 27 дюймов соответственно. Они прославились, когда Лавиния в возрасте 21 года вышла замуж за Тома Большого Пальца. Минни несколько сезонов выступала с сестрой, зятем и Коммодором Наттом, но потом ушла со сцены и во цвете лет умерла родами. Карьера Лавинии оказалась куда более длительной и успешной. Двадцать лет она была преданной супругой Тома Большого Пальца, овдовела и вторично вышла замуж за Графа Примо Магри в 1885 году. В обществе второго мужа (и его брата Эрнесто Магри) она гастролировала по миру и собирала овации вплоть до преклонного возраста. У Лавинии и Минни Уоррен была еще одна сестра, Каролина Делия, но она нас нисколько не интересует, поскольку роста была обычного.
Коммодор Натт. Если бы не Чарльз Страттон, Коммодор Натт стал бы самым прославленным и высокооплачиваемым лилипутом Американского музея Барнума. Многие помнят его лишь как «посаженого отца на свадьбе Тома Большого Пальца», но в действительности этот осанистый джентльмен ростом в 29 дюймов, уроженец Манчестера, проделал огромный путь в искусстве. Тридцатисемилетний Джордж Вашингтон Моррисон (таково его настоящее имя) умер в 1881 году холостым из-за заболевания почек. Ему очень не везло в любви: он ухаживал и за Лавинией, и за Минни Уоррен, но обе предпочли ему других кавалеров.
Лусия Сарате. Мексиканская красавица, уроженка Сан-Карлоса, прибывшая в Соединенные Штаты в 1877 году в возрасте 15 лет. Настоящий эльф — робкий и хрупкий, словно цветок. Рост — 19 дюймов, вес — 5 фунтов. Первое выступление — в Нью-Йорке, в «Мид’с Миджет Холле» на углу 14-й улицы и Пятой авеню. Я видел ее там, а двумя годами позже — в масонском храме Манхэттена. 30 октября 1880 года мисс Сарате отбыла в Лондон, где выступала в течение года. Умерла 30 июня 1890 года от переохлаждения в поезде. Обожала читать. Всегда выглядела грустной, и, возможно, то была не только маска.
Принцесса Паулина. Мисс Паулина Мустерс появилась на свет в Голландии. Ее родители и одиннадцать братьев и сестер отличались высоким ростом и могучим сложением, она же достигла лишь 17 дюймов и 8 фунтов. Путешествовала по Европе с акробатическими номерами, в Нью-Йорк прибыла в конце декабря 1894 года. Скончалась через несколько недель (14 февраля) в нежном возрасте 19 лет. Имела прозвище Голландский Воробушек.
Че-Ма, Китайский Карлик. Возможно, кому-то покажется странным, что в этой статье я уделяю больше внимания уроженцу Поднебесной, чем многим именитым лилипутам и карликам, увидевшим свет в нашей великой стране. Я поступаю так потому, что, хоть способности Че-Ма к танцам, пению и актерской игре были скудны, он являлся истинным философом в миниатюре. Выступая, снабжал зрителей советами и сентенциями, исполненными восточной мудрости. Я видел его в Лондоне в 1881 году и потом несколько раз в Соединенных Штатах. Рост его составлял два фута и один дюйм. Он родился 15 апреля 1838 года в китайском городе Нинбо. После выхода на пенсию поселился в Ноксе, штат Индиана, где и скончался месяц назад. В возрасте 71 года женился на своей экономке Норе Кливленд, даме ростом почти в шесть футов и весом около 200 фунтов. Через 14 лет они развелись.
Чикита. Горячая кровь, бегущая по ее венам (голубая кровь испанских идальго с небольшой мавританской примесью), всегда отличала ее от остальных. Она талантлива, остроумна и красива. С того дня, как я присутствовал при ее дебюте, состоявшемся в водевиле Ф. Ф. Проктора в 1896 году, я знал, что ей суждено почетное место на лилипутском Олимпе, и чутье меня не подвело. Все газеты нахваливали ее: «Девятое чудо нашей эпохи» («Нью-Йорк уорлд»), «Событие века» («Нью-Йорк Сан»), «Мельчайший атом» («Нью-Йорк джорнал»). Позже я также был свидетелем ее успехов у импресарио Фрэнка Ч. Бостока. Осмелюсь утверждать, что ее карьера остается непревзойденной. Ее легкость, благородство и изящество бесподобны. Бог не подарит человечеству второго такого создания. Ее рост — 26 дюймов. Хочу уточнить: Эспиридиона Сенда (Чикита) родилась не в Мексике, как ошибочно утверждают некоторые невежды, а в Матансасе, одном из старейших и прекраснейших городов острова Куба. Она дружила с президентом Мак-Кинли и его супругой. На пике карьеры люди выкладывали целый доллар за право пожать ей руку. Она получала ежемесячное жалованье, равнявшееся ее собственному весу, золотом (а этим не может похвастаться ни один из бывших и нынешних артистов).
Прочие незабываемые маленькие создания
Фрэнсис Джозеф Флинн (Генерал Крошка) и его супруга. Чудесные люди. Генерал Крошка был родом из округа Шенанго, штат Нью-Йорк, а его жена Милли (в девичестве Эдвардс) — из Каламазу, штат Мичиган. Поженились они в Манчестере во время долгих английских гастролей. Степанида Меркулова. Очаровательная русская дама. Ее коронный номер заключался в том, что она дуэтом с канарейкой насвистывала «Танец часов» Понкьелли. Много путешествовала по Европе, но никогда не выступала в США (по каковой причине я не включаю ее в главу о «величайших»). Сестра Куин, Коммодор Футе и Креветочка. Одаренное комическое трио. Я видел их выступление во дворце-музее Хьюбера на 14-й улице в 1890 году. Баронесса Симона Фламан. Эту озорную француженку я лицезрел в одном из парижских варьете в 1920 году. Объявляли ее как «самую маленькую личность на свете». Чистый динамит. Исайя А. Хэтч (Малютка). Родился в Провинстауне, штат Массачусетс, имел рост 3 фута и вес 80 фунтов. Был наделен выдающимся литературным талантом, опубликовал несколько поэтических сборников и сам продавал их по всей стране. Многие импресарио пытались заполучить его, но он предпочел сохранять независимость. Умер в 1894 году в возрасте 63 лет. Франц Эберт и «Ди Лилипутанер». В 1890 году я видел их дебют в «Найбло’с Гарден». Франц Эберт, руководитель труппы, был прекрасным комиком, хотя и отличался тщеславием и самодовольством. Эберт и «Ди Лилипутанер» несколько раз приезжали в Штаты. Ньюйоркцы их обожали. Принцесса Уи-Уи. Самая известная чернокожая лилипутка. Ее настоящее имя было Гарриет Элизабет Уильямс, она родилась в Брин-Мауре, штат Пенсильвания, в 1892 году. Я видел ее в сайдшоу в «Дримленде» в 1908 году, а после — в 1920-м, когда она входила в состав «Сестер Уитмен», труппы певиц и танцовщиц, выступавших в черных водевилях. Ее называли Уинни Уи, Живой Шоколадный Эклер. Маленькие бенгальцы. Французские гимнасты. Выступали во «Дворце удовольствий» Проктора в начале 1896 года. Азра, Лилипутская Леди Годива. Отважная и очаровательная леди! Я узнал о ее существовании в Брюсселе в 1913 году. Она также работала на Панамско-Тихоокеанской международной выставке в Сан-Франциско в 1915 году. Соня и Саша. Лучший лилипутский танцевальный дуэт из тех, что мне довелось видеть. Я познакомился с ними в Париже в 1917 году, когда они только прибыли из России. Теперь мы дружим. Зейнарды. Бесстрашные конные акробаты. Им я рукоплескал в Нью-Йорке в 1910 году. Мне известно, что они также долго выступали в «Тайни-Тауне» в Лондоне. Кэрри Эйкерс, Госпожа Кабанчик. Совмещала обязанности лилипутки и толстухи. При росте 34 дюйма весила 309 фунтов. Не обладала артистическими талантами, но одно зрелище ее за едой превосходило любое шоу. В этом я убедился, когда Барнум показывал ее в «Величайшем шоу на Земле». Принц Теодор ди Каноне. Скрипач и дирижер. Рост его не превышал 30 дюймов. Я еще мальчиком видел его в Лондоне. После выступления мой дядюшка Элек Колтай (прививший мне интерес и почтение к маленьким людям) познакомил меня с ним. Другие значительные фигуры. Я был бы рад поделиться впечатлением, которое произвели на меня Руфус, Великий Микроб; Элиза Нестел, Королева Фей; Адмирал Дот и его супруга Лотти; Смон Синь Пу, Бирманская Мушка; Мисс Корабелла; заклинательница змей Фанни Бернетт; филиппинцы — брат с сестрой — Мартина и Хуан де ла Крус; участники «Лилипутской оперной труппы» из Германии; Венатчи, Доблестный Вождь Индейцев; Доллетта Бойкин, Самая Маленькая Мама в Мире; турок Хаяти Хассид; Принцесса Кроха (у которой, помимо малого роста, имелась и другая особенность: по шести пальцев на обеих руках и ногах) и многие, многие другие. Но я и так уже вышел за пределы, указанные издателями, и вынужден закончить статью. Если будет на то воля Божия, мы продолжим разговор на эту увлекательную тему в другой раз[173].Приложение III Визуальные свидетельства
 «Мне нечего терять, а вот приобрести я могу многое». Вскоре после приезда в Нью-Йорк в 1896 году.
«Мне нечего терять, а вот приобрести я могу многое». Вскоре после приезда в Нью-Йорк в 1896 году.
 «У Чикиты был хорошо поставленный голос, куда более сильный, чем можно было бы предположить».
«У Чикиты был хорошо поставленный голос, куда более сильный, чем можно было бы предположить».
 Нет никаких документальных свидетельств того, что она умела играть на мандолине, но на рекламной открытке Чикита держит инструмент очень уверенно.
Нет никаких документальных свидетельств того, что она умела играть на мандолине, но на рекламной открытке Чикита держит инструмент очень уверенно.
 «Чикита, с которой я познакомился, была вовсе не подарок, отличалась высокомерием и любила командовать».
«Чикита, с которой я познакомился, была вовсе не подарок, отличалась высокомерием и любила командовать».
 «Она кокетничала напропалую и вечно стремились всех кругом соблазнить, опутать своими чарами».
«Она кокетничала напропалую и вечно стремились всех кругом соблазнить, опутать своими чарами».
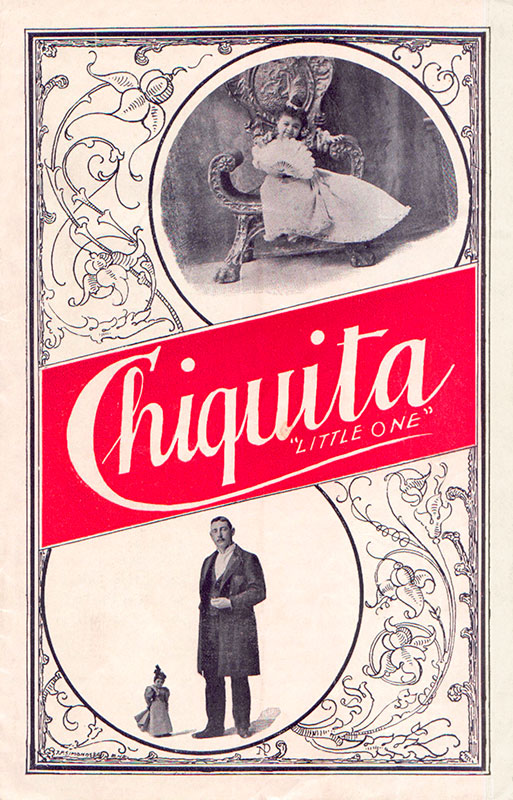 Обложка биографической брошюры Chiquita «Little One», напечатанной в Бостоне около 1897 года.
Обложка биографической брошюры Chiquita «Little One», напечатанной в Бостоне около 1897 года.
 Очевидно, она всегда питала слабость к кушеткам. Внутренняя сторона обложки брошюры Chiquita «Little One».
Очевидно, она всегда питала слабость к кушеткам. Внутренняя сторона обложки брошюры Chiquita «Little One».
 «На свой лад она была патриоткой». Стихи, приписываемые Чиките и напечатанные в брошюре Chiquita «Little One»
«На свой лад она была патриоткой». Стихи, приписываемые Чиките и напечатанные в брошюре Chiquita «Little One»
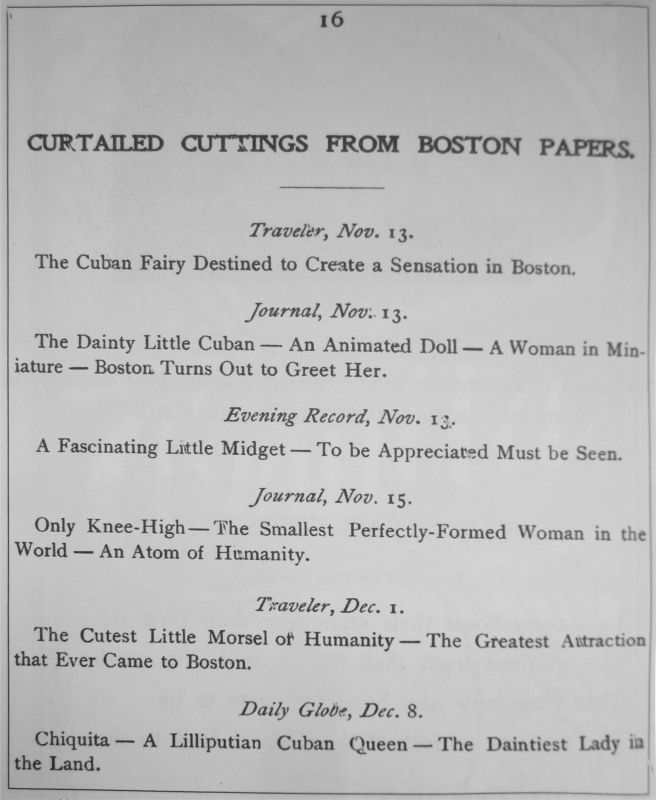 «Нью-Йорк ценит меня, а Бостон боготворит». Лестные рецензии из главных бостонских газет, включенные в брошюру Chiquita «Little One».
«Нью-Йорк ценит меня, а Бостон боготворит». Лестные рецензии из главных бостонских газет, включенные в брошюру Chiquita «Little One».
 После возвращения из первого путешествия по Европе в 1901 году. Хозяйка собственной судьбы и многообещающего будущего.
После возвращения из первого путешествия по Европе в 1901 году. Хозяйка собственной судьбы и многообещающего будущего.
 Большая Панамериканская выставка в Буффало в 1901 году присвоила ей титул официального талисмана.
Большая Панамериканская выставка в Буффало в 1901 году присвоила ей титул официального талисмана.
 Театр Чикиты был одним из самых посещаемых на Панамериканской выставке.
Театр Чикиты был одним из самых посещаемых на Панамериканской выставке.

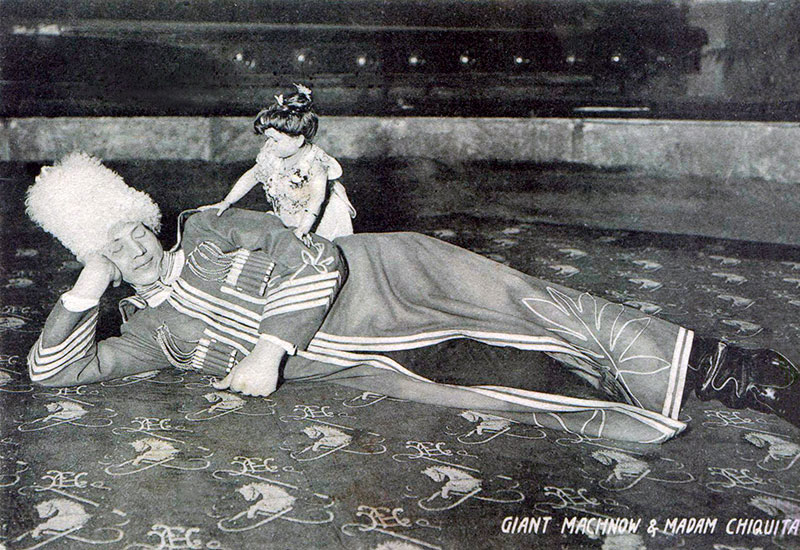 С русским великаном Федором Махновым в лондонском зале «Ипподром» в 1905 году. «Те, кто видел их на сцене, воображали, будто они прекрасно ладят, но на самом деле они почти не разговаривали».
С русским великаном Федором Махновым в лондонском зале «Ипподром» в 1905 году. «Те, кто видел их на сцене, воображали, будто они прекрасно ладят, но на самом деле они почти не разговаривали».
 Реклама выступлений в «Свободном театре братьев Лит» в Пенсильвании. Любопытно, что в биографии не говорится ни слова об этом эпизоде ее карьеры.
Реклама выступлений в «Свободном театре братьев Лит» в Пенсильвании. Любопытно, что в биографии не говорится ни слова об этом эпизоде ее карьеры.
 «Да, она гораздо ниже ростом большинства людей, но это вовсе не значит, что остальным позволено порабощать ее или за нее решать».
«Да, она гораздо ниже ростом большинства людей, но это вовсе не значит, что остальным позволено порабощать ее или за нее решать».
 В зрелые годы, неизменно элегантная и чувственная. Фотография с карандашным автографом Чикиты.
В зрелые годы, неизменно элегантная и чувственная. Фотография с карандашным автографом Чикиты.
 В коротком платье на рекламной открытке, продававшейся в округе Лейк, штат Огайо, в 1926 году. Чиките тогда было примерно пятьдесят семь, но в дарственной надписи на обороте она преуменьшает свой возраст, утверждая, что ей сорок четыре.
В коротком платье на рекламной открытке, продававшейся в округе Лейк, штат Огайо, в 1926 году. Чиките тогда было примерно пятьдесят семь, но в дарственной надписи на обороте она преуменьшает свой возраст, утверждая, что ей сорок четыре.
 Последнее фото?
Последнее фото?
Заключение
Я романист, то есть профессиональный лжец. Эта книга основана на биографии Эспиридионы Чикиты Сенды, но далеко не точно воспроизводит ее жизнь. Я считал отправной точкой ту абсолютную свободу, которую дает художественное творчество, и потому поменял все, что хотел, а также добавил несколько эпизодов, в которых знаменитая лилипутка была бы, вероятно, не прочь поучаствовать. Без всяких угрызений совести я мешал историческую правду с фантазией и предоставляю читателю самому определить долю того и другого на страницах этой своеобразной воображаемой биографии действительно существовавшего лица. Однако не советую поддаваться первым впечатлениям: некоторые факты, кажущиеся невероятными байками, документально подтверждены в современных им книгах и газетах. Я хотел бы выразить глубочайшую благодарность тем, кто был со мной рядом и поддерживал в течение пяти лет, что я посвятил этому роману. В первую очередь, Серхио Андрикаину: без его поддержки и веры в меня этой книги попросту не было бы. Она была написана для него и благодаря ему. Я также благодарю Чели Лиму, которая выступила в роли одновременно сурового и ласкового критика, а также психотерапевта. Она заставила меня переписать первые главы и изменить представление о героине. Спасибо Даине Чавиано, советчице и сообщнице, за то, что прочла разные варианты рукописи и всегда терпеливо и взвешенно отвечала на мои вопросы. Спасибо Илиане Прието за энтузиазм и умение вдохновлять. Лурдес Ренсоли за важные наблюдения и за то, что помогла мне разгадать внутренний мир Чикиты. Карлосу Эспиносе Домингесу за то, что благосклонно прочел рукопись и дал «добро». Нанси Гарсиа за то, что познакомила меня с Чикитой. Моей семье за то, что верили в меня. Также благодарю хранителей коллекции кубинского наследия в библиотеке имени Отто Г. Рихтера Университета Майами, и в особенности библиографа Лесбию Орту Варону. И — last but not least[174] — моего агента Томаса Колчи и его супругу Элейн, которые влюбились в Чикиту, как только я показал им ее портреты одним прекрасным вечером 2002 года в одном манхэттенском отеле, и посоветовали написать о ней книгу.Майами, ноябрь 2007 года
Примечания переводчика
♦ Маланга — корнеплод, широко используемый в кубинской и других латиноамериканских кухнях. ♦ Майомбера — жрица синкретической афрокубинской религии Пало-Майомбе (Пало-Монте, Пало-Конго), принесенной на Кубу представителями племен банту. Семь Молний — в Пало-Майомбе бог войны и грома, эквивалент бога Чанго в сантерии (синкретической религии, восходящей к верованиям йоруба) и святой Варвары в католицизме. ♦ Касимбирико — слово встречается только в записях заклинаний на языке конго, сделанных кубинским этнографом и антропологом Лидией Кабрерой. Судя по контекстам, означает «воинственное сообщество». Вероятно, коллективное обращение к духам. ♦ Нсамби, Самбиапунгеле, Инсамби — варианты имени верховного божества в Пало-Майомбе. Мама Кенге (Ма Кенге) — дух мудрости и справедливости. Отождествляется со Святой Девой Милостивой в католицизме. ♦ Великий князь Алексей Романов (1850–1908) — четвертый сын императора Александра II и императрицы Марии Александровны, генерал-адмирал Российской империи. ♦ Буффало Билл (настоящее имя Уильям Фредерик Коди; 1846–1917) — американский шоумен, охотник на бизонов, организатор знаменитого шоу «Дикий Запад». Генерал Филипп Генри Шеридан (1831–1888) — американский военачальник, один из командующих северян в Гражданской войне, с 1883 года — главнокомандующий армией США. Генерал Джордж Армстронг Кастер (1839–1876) — американский кавалерист, участвовал в Гражданской войне и Индейских войнах. ♦ Фердинанд VII (1784–1833) Бурбон — король Испании в 1808–1814 годы. ♦ Тамали — блюдо в первую очередь мексиканской кухни, но распространенное в целом в Латинской Америке; представляет собой рулетик из мелко нарубленной кукурузы, завернутый в кукурузный лист, обычно с начинкой из свиного фарша. Мохо — кубинский соус с чесноком и апельсиновым соком. Окра (бамия) — растение, стручкообразные плоды которого широко употребляются в пищу в регионе Карибского бассейна. Кубинское название — «кимбомбо́» — свидетельствует о том, что окра была завезена на остров из Африки. ♦ Святой Антоний Падуанский (1195–1231) — католический святой, монах францисканского ордена. ♦ Мамби — партизан кубинских войн за независимость XIX века. ♦ Имеется в виду роман «История кавалера де Грие и Манон Леско» (1731) французского писателя Антуана Франсуа Прево (1697–1763). ♦ Румпельштильцхен — главный герой сказки братьев Гримм. ♦ Чампола — молочно-фруктовый коктейль, как правило, на основеанноны или гуайявы. Аннона (гуанабана, сметанное яблоко) — крупный ароматный фрукт с толстой зеленой кожурой и белой мякотью. ♦ Хосе Хасинто Миланес (1814–1863) — кубинский поэт-романтик. ♦ Сейба — высокое раскидистое дерево, распространенное по всей Центральной и Южной Америке, а также на Антильских островах. У многих доколумбовых народов считалось священным. Почитается и в афрокубинских синкретических культах. ♦ Лукуми — потомки йоруба, живущие на Кубе и практикующие сантерию (или Регла-Оча-Ифа). Также вариант языка йоруба, сохраняющийся на Кубе. ♦ Билонго — колдовство, чары, сглаз. ♦ Манхуари (Кубинский панцирник) — напоминающая щуку пресноводная хищная рыба, эндемик Кубы. ♦ Джакомо Мейербер (1791–1864) — немецкий и французский композитор, родоначальник жанра большой французской оперы. Пласидо (настоящее имя Габриель де Консепьон Вальдес; 1809–1844) — кубинский поэт-романтик. Расстрелян испанскими колониальными властями по ложному обвинению в аболиционистском заговоре. ♦ Пьер Франческо Този (1654–1732) — итальянский певец, музыковед, композитор, автор трактата по вокальному искусству «Взгляды древних и современных певцов» (1723). Никола Порпора (1686–1768) — итальянский певец и педагог, представитель неаполитанской оперной школы. ♦ Сара (настоящее имя Генриетт Розин) Бернар (1844–1923) — выдающаяся французская актриса. ♦ Луис Мадзантини (1856–1926) — испанский тореро. Увлекся боем быков сравнительно поздно, дебютировал в 28 лет, ушел с арены в 1905 году и построил успешную политическую карьеру в Испании. ♦ Бандерильеро — участник боя быков, обязанность которого — воткнуть в тело (как правило, загривок) быка бандерильи, небольшие копья. Квадрилья — команда тореро, помогающая ему в ходе боя. ♦ Фанни Эльслер (1810–1884) — австрийская танцовщица, прима-балерина Парижской оперы. ♦ Антонио Масео (1845–1896) — один из руководителей борьбы за освобождение Кубы от испанского колониализма, герой войн за независимость. Максимо Гомес (1836–1905) — генерал, герой национально-освободительных войн на Кубе. ♦ Хосе Марти (1853–1895) — выдающийся кубинский писатель, поэт-модернист, идеолог национально-освободительного движения, национальный герой Кубы. ♦ Тамаринд — тропическое дерево с кислыми плодами. ♦ Олофи — в сантерии воплощение божественной сущности или одно их верховных божеств. Отождествляется с Иисусом Христом. Обатала — в сантерии верховный ориша (бог), создатель земли и человеческого тела. Милостивый и справедливый бог, судья прочих ориш. Отождествляется со Святой Девой Милосердной. Святая Рита Кашийская (1381–1457) — католическая святая, монахиня-августинка. В сантерии отождествляется с Обба — оришей жертвенной любви и супружеской верности, хозяйкой могил. ♦ Приап — античный бог плодородия. Изображался с огромным эрегированным членом, символизирующим оплодотворяющую силу природы. ♦ Финеас Тейлор Барнум (1810–1891) — крупнейший американский шоумен XIX века. ♦ Контрданс — английский народный танец, возникший на рубеже XVII–XVIII веков, впоследствии распространившийся во Франции. Мануэль Саумель (1817–1870) — кубинский композитор, автор контрдансов, реформатор национальной музыкальной традиции. Игнасио Сервантес (1847–1905) — кубинский композитор и пианист. Себастьян Ирадьер (1809–1865) — испанский композитор. ♦ …остров от края Маиси до мыса Сан-Антонио… — то есть от крайней восточной до крайней западной точки острова Куба. ♦ Эллис-Айленд — остров в устье Гудзона, пункт приема иммигрантов в США с 1892 по 1954 год. ♦ «Изеиль» (1894) — стихотворная драма Армана Сильвестра и Эжена Морана. ♦ Иветт Гильбер (1865–1944) — французская певица и актриса кабаре. ♦ Вильям-Адольф Бугро (1825–1905) — французский художник, представитель салонного академизма, автор множества полотен на мифологические, аллегорические и библейские сюжеты. ♦ Во время описанных выше гастролей в Гаване Сара Бернар якобы отозвалась о кубинцах как об «индейцах в сюртуках». Словосочетание стало легендарным и вошло в словесный обиход. ♦ Аксминстерские ковры — ковры, произведенные на мануфактуре в английском городке Аксминстер, существующей с 1755 года. Лилиан Рассел (1860–1922) — американская актриса и певица. Карменсита (настоящаее имя Кармен Даусет Морено; 1868–1910) — испанская танцовщица, много работала в американских водевилях, варьете и мюзик-холлах. В 1894 году снялась в короткометражной ленте «Карменсита», став, предположительно, первой женщиной, появившейся на экране в истории американского кинематографа. Прекрасная Отеро — Каролина Отеро (1868–1965) — французская танцовщица, певица, куртизанка испанского происхождения. ♦ Где б ты ни плавал, / всюду к тебе, мой милый, / я прилечу / голубкою сизокрылой… — Русское переложение «Голубки» сделано С. Б. Болотиным и Т. С. Сикорской. ♦ Ильма ди Мурска (1834–1889) — австрийская сопрано хорватского происхождения. ♦ Лиллиан Нордика (1857–1914) — американская сопрано, одна из ведущих оперных певиц рубежа веков. Вальтер Дамрош (1862–1950) — американский дирижер и композитор немецкого происхождения. Ландо — легкий четырехместный экипаж со складывающейся крышей. ♦ Генерал Улисс С. Грант (1822–1885) — американский военный деятель и политик, 18-й президент США (1869–1877). ♦ Уильям Каллен Брайант (1794–1878) — американский поэт и общественный деятель, один из вдохновителей создания Республиканской партии США. В Нью-Йорке способствовал основанию Метрополитен-музея и Центрального парка. ♦ Брогам (также: брум, брумовский кеб) — экипаж, изобретенный английским лордом Брогамом в первой половине XIX века. Тип кузова со съемной частью крыши над передними сиденьями. ♦ Витаскоп Эдисона — примитивный кинопроектор, разработанный компанией «Кинетаскоп» в 1895 году и представленный в рекламных целях как изобретение Томаса Эдисона. «Доктрина Монро» — декларация принципов внешней политики США, провозглашенная в 1823 году президентом Джеймсом Монро и предлагавшая концепцию невмешательства США во внутренние дела европейских стран и европейских стран во внутренние дела стран Западного полушария. ♦ Бенджамин Франклин Кит (1846–1914) — американский импресарио, владелец театров водевилей. ♦ «Немая книга» (Mutus Líber) — сочинение по алхимии, изданное в Ла-Рошели в 1677 году, представляющее в 15 гравюрах процесс создания философского камня, приписываемое некоему Жакобу Сула. Герт Гроте (1340–1384) — нидерландский богослов и проповедник. Grimorium Verum («Истинный Гримуар») — учебник магического искусства, опубликованный в XVIII в. во Франции и приписываемый некоему Алибеку Египтянину, якобы переведшему ее с древнееврейского в XVI веке. Clavicula Salomonis («Большой ключ царя Соломона») — знаменитый сборник гримуаров, сложившийся предположительно в XIV–XV вв. в Италии. ♦ Карл Август, великий герцог Саксен-Веймар-Эйзенахский (1757–1828) — немецкий аристократ, генерал кавалерии на русской службе в эпоху Наполеоновских войн. Милош Обренович (1780–1860) — князь Сербии, основатель династии Обреновичей. ♦ Святой Власий Севастийский (ум. ок. 316), святой Луп Труаский (426–478), святая Маргарита Венгерская (1242–1271) — святые, почитаемые православными и католиками (святая Маргарита — только католиками). ♦ Англ. minstrel — здесь: белый актер, загримированный под темнокожего, как в «менестрель-шоу», представлении народного театра, характерного для США XIX века. ♦ Уолтер Де Ла Мар (1873–1956) — английский поэт и романист. Упомянутый роман — «Воспоминания карлицы» (1921). Лу Голд (Льюис Мильтон Гольдвассер; 1885–1950) — американский композитор, пианист, руководитель джазового оркестра, завоевавшего огромную популярность в Нью-Йорке в 1910–1930 годы. ♦ Джон Гилберт (1897–1936) — американский актер немого кино. Дуглас Фэрбенкс-младший (1909–2000) — американский киноактер и продюсер. ♦ Рамон Новарро (1899–1968) — американский актер мексиканского происхождения, звезда немого кино. Рудольфо Валентино (1895–1926) — американский актер немого кино, игравший в амплуа героя-любовника, секс-символ ранней эпохи массового кинематографа. ♦ Статья Колтая на самом деле называлась «Лилипуты и карлики: чем меньше рост, тем больше слава» и включена в книгу в качестве приложения (см. Приложение II). ♦ Анна Свон (1846–1888) — артистка цирка Барнума, имевшая рост 243 сантиметра. Мадам Жозефина Клофуллия (1829–1875) — артистка шоу Барнума, работавшая в амплуа бородатой женщины. ♦ Калакауа (1836–1891) — седьмой король Гавайев, правивший островами с 1874 года до своей смерти. ♦ Леонора Пайпер (1857–1950) — американский «трансовый» медиум. Обладала безупречной репутацией и ни разу не была уличена в шарлатанстве. ♦ Эвсапия Палладино (1854–1918) — итальянский медиум. Практиковала «спиритическую материализацию». Была уличена в мошенничестве. ♦ Каюлани (1875–1899) — наследная принцесса королевства Гавайи. ♦ Остров Пинос (с 1978 года носит название Хувентуд) — крупный остров в 50 километрах к югу от Кубы, особый муниципалитет Республики Куба. Сеута — прибрежный анклав Испании на территории Марокко. ♦ Теодор Рузвельт (1858–1919) — американский политик, 26-й президент США (1901–1909). К началу Испано-Американской войны занимал должность заместителя военно-морского министра в администрации президента Мак-Кинли. ♦ Луиджи Лукени (1873–1910) — итальянский анархист. Елизавета Баварская (1837–1898) — императрица Австрии, супруга императора Франца Иосифа I. В массовой культуре известна как Принцесса Сисси. ♦ Эмма Гольдман (1869–1940) — знаменитая американская анархистка и феминистка. В США эмигрировала в возрасте 17 лет из Российской империи. ♦ Джеронимо (настоящее имя Гоятлай, 1829–1909) — вождь чирикауа-апачей, руководитель индейского сопротивления вторжению армии США на земли коренных племен. ♦ Эмильена д’Алансон (1869–1946) — французская танцовщица, актриса, дама полусвета. Клео де Мерод (1875–1966) — французская танцовщица, муза живописцев Прекрасной эпохи. ♦ Чарльз Фредерик Ворт (1825–1895) — французский модельер английского происхождения, основатель модного дома. Жанна Пакен (1869–1936) — французская кутюрье. ♦ Робер де Монтескью (1855–1921) — французский писатель, денди. Прототип (среди прочих литературных персонажей) Дезэссента в романе Гюисманса «Наоборот». ♦ Габриель де Итурри (1860–1905) — секретарь и компаньон Робера де Монтескью (с 1885 года до кончины). ♦ Крепиды — древнегреческие сандалии. ♦ Вальтесс де ла Бинь (1848–1910) — французская актриса, дама полусвета, писательница. Лина Кавальери (1874–1944) — итальянская оперная певица, куртизанка. ♦ Альфред Эдвардс (1856–1914) — французский журналист, основатель и владелец газетных изданий. ♦ Поль Эрнест Бонифас (Бони), маркиз де Кастеллан (1857–1932) — французский денди, знаменитая фигура Прекрасной эпохи. ♦ Эмиль Галле (1846–1904) — французский дизайнер, реформатор художественного стекла. ♦ Пергола — навес из вьющихся растений. ♦ Жак Дусе (1853–1929) — французский модельер. Режан (настоящее имя Габриэль-Шарлотт Режю; 1856–1920) — французская актриса. Рейнальдо Ан (1874–1947) — французский композитор, пианист, дирижер. ♦ Махараджа Капуртхалы — Джагаджит Сингх (1872–1949), махараджа туземного княжества Капуртхала в составе Британской Индии. ♦ Поль Моро-Вотье (1871–1936) — французский скульптор. ♦ Цитата из Второго акта «Орленка» Эдмона Ростана. ♦ Лиана де Пужи (1869–1950) — французская танцовщица, писательница, куртизанка. Пак — заимствованный из мифологии персонаж пьесы Шекспира «Сон в летнюю ночь», эльф, вручающий героям любовное зелье. ♦ Гонсало де Кесада-и-Аростеги (1868–1915) — кубинский политический деятель, сподвижник Хосе Марти. ♦ Парижский салон — художественная выставка, представляющая экспозицию парижской Академии изящных искусств и регулярно проходящая с 1667 года. Лои Фуллер (1862–1928) — американская танцовщица и актриса, основательница танца модерн. ♦ Искаж. нем. lieds — песни. Имеется в виду музыкальный жанр Lied, популярный у композиторов-романтиков. ♦ Копла — испанская стихотворная и песенная восьмисложная форма, четверостишие, характерное прежде всего для фольклора. ♦ Маха — представительница социальной группы низов испанского общества в XVIII–XIX веках, отличавшаяся характерной внешностью и поведением. Яркий образ махи отразился в искусстве, в частности в живописи Франсиско Гойи. Сарсуэла — испанский музыкально-драматический жанр, близкий к оперетте. Томас Бретон (1850–1923) — испанский композитор и скрипач. ♦ «Аполло» — театральный зал на улице Алькала в Мадриде, работавший с 1873 по 1929 год. …получила от султана… — В 1900 году Марокко правил султан Мулай Абд аль-Азиз, взошедший на престол в 1894 году. ♦ Туареги — народ группы берберов. ♦ Танец семи покрывал — апокрифический танец Саломеи: исполнив его, она требует в награду голову Иоанна Крестителя. В Евангелиях этот мотив не упоминается. Собственно «танцем семи покрывал» назван в пьесе Оскара Уальда «Саломея» (1896). ♦ Фаду — жанр португальской песни. ♦ Святой Мартин де Поррес (1579–1639) — перуанский монах, священник, врач. Первый американец-мулат, канонизированный Католической церковью. Изображается с метлой — символом скромности — в руках. ♦ Карбонарии — тайное общество, существовавшее в Италии в 1807–1832 годах и выступавшее против французского владычества и за объединение независимой Италии. Розенкрейцеры — тайное богословское общество, зародившееся в Германии в XVII веке. ♦ Поправка Платта — документ с функцией международного договора, закреплявший право США осуществлять интервенцию на Кубу и размещать на острове военные базы в случае необходимости. Отменена в 1934 году. ♦ Мануэль Сангили (1848–1925) — кубинский политик и борец за независимость. ♦ Доктор Мартин Коуни (1870–1950) — американский врач, пионер неонатологии — раздела медицины, который изучает новорожденных. Кора Беквит (1869–?) — американская пловчиха. На самом деле не принадлежала к знаменитой британской династии пловцов Беквитов, но использовала их фамилию для привлечения публики. ♦ Циклорама — круговая панорама, заключенная в цилиндр и дающая обзор в 360 градусов. ♦ Тагальские воины — то есть воины из народности тагалов, населяющей Филиппины. Спиричуэлс — жанр духовного пения, зародившийся в XIX веке среди чернокожего населения американского Юга. Бедовая Джейн (настоящее имя Марта Джейн Каннари Берк; 1852 (1856?) — 1903) — американская разведчица фронтира, участница Индейских войн. В шоу «Дикий Запад» выступала как виртуозный стрелок и наездница. ♦ Леон Чолгош (1873–1901) — американский анархист. ♦ Deus ex machina — Бог из машины (лат.), выражение, означающее искусственную развязку какой-либо ситуации. Применимо, прежде всего, к театральным постановкам и прочим зрелищам. ♦ «Уродцы» («Freaks») — американский художественный фильм, снятый режиссером Тодом Броунингом в 1932 году. Мирна Лой (1905–1993) — американская киноактриса, звезда Голливуда 1930-х годов. Ольга Бакланова (1896–1974) — русская и американская актриса театра и кино. Эмигрировала в США в 1926 году. Бела Лугоши (1882–1956) — американский актер, знаменитый исполнитель роли графа Дракулы. ♦ Луизианская покупка — сделка, по которой США приобрели французские владения в Северной Америке в 1803 году. ♦ Федор Махнов (1878–1912) — крестьянин, уроженец Витебской губернии Российской империи, имевший, по некоторым сведениям, рост около 285 сантиметров. ♦ Кардиффский гигант — не существовавший в действительности великан, а каменная фигура длиной около 3 метров, выдававшаяся за окаменелые останки человека. «Извлечен» из земли в Кардиффе, штат Нью-Йорк, в 1869 году. ♦ Байю — на юге США, особенно в Луизиане и Миссисипи, заболоченная местность. ♦ Этель Берримор (1879–1959) — американская актриса театра и кино. ♦ Гарри Гудини (1874–1926) — американский иллюзионист, знаменитый, прежде всего, трюками с побегами и освобождениями. ♦ Джеффри Хадсон (1619–1682) — придворный карлик королевы Англии Генриетты Марии Французской, прославившийся независимым характером и многочисленными приключениями. ♦ Филит Косский (340–285 до н. э.) — древнегреческий ученый и поэт. Был известен необычайной худобой; о его росте сведений нет.

Последние комментарии
1 день 22 часов назад
1 день 22 часов назад
1 день 22 часов назад
1 день 22 часов назад
2 дней 1 час назад
2 дней 1 час назад