Мемуары [Андре Моруа] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
Андре Моруа. Мемуары
ПРЕДИСЛОВИЕ
Прошу читать эти мемуары как личные воспоминания и как историю человека, а не эпохи. Я был естественно связан с великими событиями своего времени, но старался воспроизвести их такими, какими видел и чувствовал, а не такими, какими они рисуются мне теперь в свете прошедших лет. Этим правилом я руководствовался, когда писал биографии; я не мог поступить иначе в автобиографии. Например, и это совершенно очевидно, в Нью-Йорке 1940–1941 годов я очень плохо представлял себе, что происходило тогда во Франции. Никаких известий из оккупированной зоны я не получал: из так называемой «свободной зоны» приходили письма, написанные в страхе перед цензурой и искажавшие факты. Я должен был принимать решения впотьмах; я это делал со страстным желанием действовать наилучшим способом в интересах Франции. Надеюсь, мне это зачастую удавалось; мои сограждане, следуя иными дорогами, преследовали ту же цель. Я не считал возможным умолчать о нападках, которым не раз подвергался. Несправедливые, часто просто бессмысленные, они тем не менее составляют часть истории моей жизни. С другой стороны, я позволил себе привести несколько лестных для меня писем и высказываний. Прошу извинить меня: дело не в тщеславии. Похвалы меня всегда удивляют. Но опустить их полностью означало бы исказить перспективу. К тому же в свое время они доставили мне удовольствие: каждому человеку полезно иногда погреться в лучах чужого поклонения, особенно такому совестливому и склонному излишне сомневаться в самом себе, как я. Хотя я и знавал, иногда довольно близко, многих великих людей своего времени, в этой книге можно обнаружить лишь некоторые из бесед с ними. Те, что я записал, были опубликованы в другой моей работе под названием «Только факты». Любознательному и преданному читателю она может послужить дополнением к этим «Мемуарам». А теперь, с Богом! Как говорил Монтень, это честная книга; да прочитают ее с доверием. Андре Моруа 20 сентября 1967 г. (перед операцией)Часть первая Годы ученичества
1. Земной рай
Вот уже несколько дней, как я преподаю французский язык в колледже в Калифорнии. Из моего окна виден монастырь, построенный в испанском стиле, окруженный пальмами и кипарисами, под которыми прогуливаются красивые студентки. Небо, голубое со дня моего приезда, останется таким все лето. Как отличается этот устойчивый климат от переменчивой погоды в долине Сены, где я провел юные годы, и сколько непредвиденных событий потребовалось для того, чтобы подросток, затем владелец и наследник ткацких фабрик в Нормандии, стал пятидесятилетним преподавателем на побережье Атлантического океана! Из музыкального салона доносятся звуки фортепьяно: «Токката» Баха, которую исполняет умелыми пальцами маленькая китаянка мисс Лоу, светлая, чистая девушка. Во внутренний двор входят две монахини. Вчера одна из них, сестра Агнесса Рита, представила мне блестящее, хорошо построенное сочинение о Франсуа Мориаке; ее восковое лицо, обрамленное белым, напоминает портреты Филиппа Шампанского[1], уверенная речь кажется подкрепленной веками христианской мудрости. Хорошенькая блондинка, что улыбается монахиням, — Марион Моррис из Солт-Лейк-Сити, дочь и внучка мормонов[2]; она провела несколько лет в Париже и с любовью вспоминает улицу Жакоб[3], где ей знаком каждый старинный двор с железными балконами. Брюнетка с голубыми глазами — Беттина Шустер; она была вынуждена покинуть Вену и выучила в Женеве французский язык Руссо и Амьеля[4]. По-моему, она даровита, но я из тех преподавателей, которым всегда кажется, что он отыскал жемчужину. Вчера мне исполнилось пятьдесят шесть лет, и ученицы Миллз-колледжа написали по этому случаю пьеску. На сцене — библиотека. Полночь. Пробило двенадцать. И тогда герои моих книг: полковник Брэмбл, Филипп Марсена, Одиль, Дениза Эрпен, Бернар Кенэ — оживают и берут слово. «Вот, стало быть, и все, — мысленно говорю я, — что осталось от моей жизни и творчества!» Чуть позднее, возвратясь к себе, я подумал, что помимо этого о писателе остается легенда и удивительное мифическое существо, которое я называю «персонажем». Персонаж — это облик человека, такой, каким он видится другим людям сегодня или в прошлом. Он многолик. Два различных, иногда противоречивых и даже враждебных друг другу персонажа могут пережить нас, оставаясь в памяти друзей и врагов, и продолжить после смерти свое противостояние, в котором победит наша истинная личность. Мы можем быть сложными, замкнутыми, загадочными или просто честными тружениками — но это не мешает целой армии персонажей воевать за право представлять нас, и битва продлится до тех пор, пока эти воинственные марионетки не потонут в забвении. Что касается меня, забвение не заставит себя долго ждать. Но смятение страстей сегодня еще столь сильно, что, до того как наступит вечное молчание, я смогу произвести на свет еще несколько диковинных «персонажей». Одни будут лучше меня, другие хуже. Если меня должны любить или ненавидеть, мне хочется, по крайней мере, чтобы эта ненависть или симпатия была обращена к человеку, каким я являюсь на самом деле. Почему же не попытаться изобразить его таким, каким я его знал? В эту минуту, в то самое время, как листва эвкалиптов трепещет под порывами океанского ветра, проносящегося по звездному небу, я решил написать от своего лица, а не в форме романа, историю моей жизни. Как всякий биограф, я, естественно, буду допускать ошибки, по забывчивости или по недоразумению. Тем не менее я надеюсь, что, когда некий праздный эрудит или корпящий в поте лица над дипломной работой студент попытается отделить в этой книге поэзию от правды, он не обнаружит ни существенных упущений, ни тем более самодовольства. Если я смиренно отдаю себе отчет в ошибках и слабостях, то вспоминаю и многочисленные случаи, когда добровольно жертвовал собственными интересами во имя того, что почитал своим долгом. Я мог ошибаться, но в глазах Бога, как и благожелательного читателя, это не является смертным грехом. Тот, кого я вывел на этих страницах, как мне кажется, и есть мое подлинное «я». Простите же мне, люди добрые, все обиды, как и я прощаю своих обидчиков.* * *
Мое самое раннее воспоминание — утро воскресного дня в Эльбёфе, когда мне было четыре или пять лет. Город будили рожки пожарников. В допотопных касках они тащили шланг, чтобы испытать, как работает пожарный кран. Они всегда пели одну и ту же песенку:2. Древо познания
Всякий раз на прогулке, когда перед нами открывался с холмов вид города Эльбёфа, растянувшегося вдоль берега Сены, я испытывал радостное потрясение. Цепь меловых скал, увенчанных лугами и лесами, окаймляла грациозный изгиб реки, обрамленный на другом берегу тополями и плакучими ивами. Над городом поднимались несчетные тонкие и стройные минареты трудяг-труб; из них тянулись в небо столбы дыма. Среди черепичных и шиферных крыш поблескивали озерца с зеленоватой водой. Мы любили играть, отыскивая среди множества домов и предприятий нашу фабрику. Узнавали мы ее по длинному двору, двум параллельно расположенным зданиям ткацкого и красильного цехов, по огромной шестнадцатиэтажной прядильне. Мы страшно гордились: у нас такая большая фабрика! В полдень, во время обеденного перерыва, и в семь часов вечера, когда заканчивался трудовой день и рабочие покидали фабрику, мы восхищались людскими потоками, которые неожиданно заполняли обычно столь тихие улицы Эльбёфа. Нам нравилось смотреть и на вытекавшие из красильни стремительные ручьи, синие, красные, желтые. Переправившись на нормандскую почву, эльзасская фабрика не захирела. Наоборот, она развивалась с удивительной быстротой. К 1890 году на ней было свыше тысячи рабочих. Когда я читал по слогам слова, выгравированные золотом на черной мраморной вывеске над главным входом, меня огорчало, что там нет фамилии отца. Одна фабрика именовалась «Френкель — Блен», другая, также переместившаяся из Эльзаса, — «Блен и Блен». «Ф-Б и Б-Б», — говорили эльбёфские буржуа. «Лавочка» Френкелей и «лавочка» Бленов переманивали друг у друга рабочих. Я описал в «Бернаре Кенэ» непримиримое соперничество двух фирм. Френкели и Блены были двоюродными братьями и внешне поддерживали дружеские отношения. На деле же они жестоко, вздорно отбивали друг у друга клиентов и рынки. Фабрика Бленов, старше нашей на двадцать лет, была основана еще во времена Первой империи и считалась в промышленной иерархии выше фабрики Френкелей. Зато наша развивалась быстрее. Однажды, рассматривая вывеску, я спросил у отца: — Папа, а почему не «Френкель и Эрзог»? Лицо отца выразило такое страдание, что я понял, сколь тягостна была для него эта тема, и больше ее не касался. Вот суть драмы, о которой я узнал много лет спустя. Мой отец и его брат Эдмон были, по всеобщему признанию, самыми компетентными на фабрике специалистами. Отец, с присущим ему чувством ответственности, занимался ткацким делом. Он знал каждого рабочего, каждый станок и непрестанно изыскивал способы увеличить выпуск продукции, повысить доходы. Дядя Эдмон, с его купеческой жилкой, еженедельно ездил в Париж и привозил заказы, обеспечивающие нормальный ход производства. Но эти два человека, посвятившие предприятию всю свою жизнь, не были ни его основателями, ни законными владельцами. Отец с отчаянием и смирением, его брат с негодованием и затаенной яростью терпели патриархальную тиранию дядей. Эти дяди рисовались мне в детстве грозными, таинственными и злокозненными божествами. Братьев Френкелей было пятеро: Эмиль, Гийом, Адольф, Луи и Анри. Эмиль и Гийом скончались еще до моего рождения. Адольф, как я уже рассказывал, читал на диване Анри Мартена; «месье Луи», как называли его служащие, был в то время всевластным самодержцем. Он жил на территории фабрики, где и построил дом: его собственная квартира соединялась внутренней лестницей с конторой. Здесь была некая символика: «месье Луи» не имел личной жизни вне фабрики. С жесткой черной бородкой, в сюртуке черного сукна и черного шелка фуражке, он жил при складе, где накапливались готовые изделия. Был он совсем не злым, но любил напустить на себя величавый вид этакого текстильного бургграфа, которого в жизни ничего не интересует, кроме шерсти, драпа и ткацких станков. Когда моя матушка робко приводила меня на фабрику, он разглядывал и щупал материал, в который она была одета, и говорил: «Это наше» (или: «Это не наше») и более не обращал на нее никакого внимания. Господин Анри был не намного его человечнее. Он женился на тетушке моей матери и тем самым оказывался для нее родственником вдвойне. Эта тетушка Эмилия, сестра моей парижской бабушки, получившая столь же изысканное образование, стала в конечном счете в глазах дядей, включая своего мужа, всего лишь домашней принадлежностью, не нужной для фабрики и, следовательно, ни малейшего интереса не представлявшей. Бедняжка вела растительный образ жизни. Дяди обещали моему отцу и его брату, что оба они станут их компаньонами, как только переделают акт о правах каждого. Но однажды отец случайно узнал, что новый акт был уже подписан (это хранилось в тайне). И его кузен Поль Френкель, младший по возрасту, стал компаньоном раньше его самого. Это был шок, повергший отца в длительную болезнь. Именно тогда, впервые на моей памяти родители прекратили разговор при моем появлении в гостиной. Я помню только горечь и осуждение в тоне, каким матушка произносила слова «эти господа», имея в виду дядей. Много лет спустя она сказала мне, что советовала мужу выйти из игры. Такого же мнения придерживался и дядюшка Эдмон. — Давай заведем вместе маленькую фабрику, — предложил он моему отцу, когда тот поведал ему о своей беде. — И через десять лет заткнем за пояс «Ф-Б». Но такова была натура моего отца, скрытная и гордая, что он не только остался, но и не сказал ни слова. Однако что-то в нем надломилось, подорвалось вместе с доверием, и с тех пор он больше никогда не чувствовал себя здоровым. И двадцать лет спустя, уже когда справедливость была давно восстановлена, рассказывая мне эту историю, он еще трепетал от негодования. — Когда я увидел в документе имя Поля, а не мое, — сказал он мне, — я подумал, что схожу с ума… Слишком тесные узы связывали его с фабрикой, чтобы расстаться с ней. Многие из рабочих были эльзасцами, и он организовал в 1871 году их переезд во Францию. Поутру на обходе он останавливался перед каждым станком и обменивался несколькими фразами с чесальщиком или прядильщиком. Он был в курсе всех семейных дел, с ним советовались по поводу свадеб, он присутствовал на похоронах. «Месье Эрнест крутоват, но справедлив», — говорили о нем, уважая его невероятную работоспособность. Отец не допускал, чтобы хозяин приходил на фабрику позднее или уходил раньше рабочих. В годы моего детства работа начиналась в полседьмого, и он поднимался чуть не в пять часов утра. Он сам наловчился выполнять все самые сложные производственные операции и мог с ходу заменить ткача или прядильщика, жаловавшегося на трудности работы. — Месье Эрнест, эту основу не соткешь — нитки плохие… — Посмотрим. И если рабочий был прав, отец с ним соглашался. А какое было счастье, когда он брал меня с собой в обход. Хотя меня пугал шум станков, мне нравился запах влажной шерсти на сортировке, длинные жгуты, которые в красильне опускали в чаны с красками, и особенно — большая паровая машина с блестящими никелированными деталями. Отец ласково гладил шатуны, как укротитель зверей — послушного его воле хищника. — Как дела? — спрашивал он у механика. — Все в порядке, месье Эрнест… И обход продолжался. Когда мне исполнилось шесть лет, было решено, что меня пора готовить в лицей. Я предпочел бы заниматься с мамой, но она организовала у одной эльзаски, мадемуазель Полюс, маленький кружок, где я обучался вместе с двумя-тремя мальчиками. Я брал также уроки фортепьяно, сначала у мадам Ритленг, пожилой дамы с диковинными усиками, затем у месье Дюпре, органиста церкви Непорочного Зачатия и отца великого органиста Марселя Дюпре. Отличный музыкант, он сразу же заметил, что особыми способностями я не отличаюсь. — Ты чувствуешь музыку, — говорил он мне, — но пальцы тебя не слушаются. На уроках он чаще всего играл мне сам: Шопена, Шумана, Баха. Пусть он не сделал из меня пианиста, зато научил любить хорошую музыку, за что я ему признателен. Каждый год, когда он устраивал музыкальный утренник, я должен был выступать там для успокоения родителей. Я всегда играл в четыре руки с Дюпре некую «Восточную серенаду». — Ни о чем не беспокойся, — говорил он. — Бери просто ноту «ля», потом в октаву «ля, ля, ля», а уж импровизировать буду я. Он делал это столь изобретательно, что все меня поздравляли. Учили меня и языкам, английскому и немецкому. Моей первой учительницей немецкого стала старая дева Берта Бюсман, набожная католичка, полная и добрая. До меня у нее была в Эльбёфе другая ученица, «kleine Elisabeth»[12], а потом она так и осталась жить в нашем городе, где ее уважали за благочестие. Фрейлейн Берта рассказывала мне об одном из своих племянников Генрихе Брюннинге, расхваливая его ум и всяческие добродетели. Когда господин Брюннинг стал тридцать лет спустя рейхсканцлером, я задавался вопросом, не тот ли это случайно «маленький Генрих», в адрес которого я выслушал столько похвал. Но узнать было не у кого. Однако настал день, когда, встретив экс-рейхсканцелера в Америке у полковника Рузвельта, я смог задать ему этот вопрос. Это действительно был он, племянник фрейлейн Берты. Такой же серьезный и набожный, как она. Немецкому она меня не научила. Впрочем, я перевел с ее помощью пьеску «Gott sei Dank, der Tisch ist gedeck»[13] и вызубрил солдатскую песенку времен франко-прусской войны.Восьми лет я поступил в местный лицей в Эльбёфе, филиал лицея в Руане. Классы были крайне немногочисленны, по шесть — двенадцать учеников, поэтому учились все отлично. Учителя страстно любили свое дело. Учитель шестого класса Киттель, человек с черной бородкой, близорукий, лысый, худой, к тому же вспыльчивый, был женат на богатой женщине и преподавал не из-за денег, а по призванию. Он получал удовольствие от проверки тетрадей. По его требованию мы складывали страницы пополам по вертикали и писали только на одной стороне. Другую он исписывал размашистым, вычурным, с наклоном почерком, который походил на него самого. По четвергам он брал учеников на велосипедные прогулки, угощал на окрестных фермах клубникой со сливками и, глядя на открывающиеся виды, произносил строки Вергилия или Лафонтена. Киттель был первым, кто мне сказал, что, возможно, я когда-нибудь стану писателем. Мне исполнилось всего десять лет. Он дал мне задание — сочинить историю палки. Эта палка, срезанная в лесах Сен-Пьера, должна была сама написать свои воспоминания. Не помню, какое уж жизнеописание я ей сочинил, но легко придумал длинный рассказ, который он прочитал перед всем классом. На всю жизнь врезался мне в память урок, когда Киттель прочитал нам для изложения мудрую историю «Поликратов перстень». Поликрату, тирану Самоса, удавались все его начинания, и, опасаясь гнева богов, он решил пожертвовать своим самым дорогим перстнем и бросить его в море. На следующий день рыбак, вскрывая только что выловленную рыбу, обнаружил перстень и принес его тирану, а тот, напуганный знамением, решил, что для него началась полоса бедствий. И в самом деле, он в скором времени был побежден, разорен и умер в изгнании. Этот прекрасный рассказ смутил меня. — Раз он пожертвовал перстнем, — сказал я г-ну Киттелю, — боги могли оставить его счастливым. — Но, — ответил тот, — он пожертвовал только своим перстнем. Киттелю я обязан и своей первой публичной лекцией. Он предлагал нам (в десять лет) выступить перед товарищами. Сюжетом моего maiden speech[15] было: «Сравните Эсфирь Расина с библейской». Я готовился изо всех сил, но мой дебют омрачило лексическое недоразумение. Излагая историю Эсфири, я употребил по отношению к гордой Васти слово «конкубинка». Я не знал, что оно значило, но оно понравилось мне длиною и редкостью. После урока г-н Киттель попросил меня остаться и сурово отчитал. — Почему, — сказал он, — почему вы развращаете своих товарищей? Если вы начитались скверных книг, то будьте по крайней мере достаточно скромны, чтобы не делиться с другими этими своими познаниями. Я расплакался. Несколько смутившись, он стал меня утешать, но повторил, что «конкубинка» — чудовищное слово, которое не должны употреблять мальчики моего возраста. Этот случай заронил в мою душу смятение и любопытство, а реакция учителя вызвала куда более опасные мысли, нежели поведение надменной Васти. Но я бесконечно обязан Киттелю. Он привил мне вкус к чтению, научил меня уважать язык, заложил прочные основы латыни, после чего все мне показалось легким. Сегодня, когда я объездил столько стран и видел много школ, я понимаю, какая редкая удача выпала нам — получить в десять лет учителей, достойных преподавать в любом из университетов мира. Эти педагоги трудились бескорыстно, с единственной целью: наилучшим образом воспитывать поколения юных французов, — и так самозабвенно, что в конце каждого года страдали от расставания с учениками. Накануне раздачи премий Киттель прочитал нам «Последний урок» Альфонса Доде и едва смог закончить чтение: голос его задрожал от слез. Мы были удивлены и смущены. Мне он подарил на память книгу «Русская душа», в которую входили повести Пушкина, Гоголя и Толстого; на первой странице он написал мне посвящение, в котором просил не забывать его, когда я стану писателем. И я никогда не забываю его. В этой книге я впервые прочитал «Пиковую даму» Пушкина, которая поразила меня и вызвала желание писать такие же фантастические произведения. Другим моим увлечением стало ораторское искусство. Я побывал на лекции, которую прочел в Эльбёфском театре Фердинан Брюнетьер[16] о комедиях Корнеля, после решил также прочесть цикл лекций и обязать моих сестер слушать их. Несколько дней подряд я садился за стол со стаканом воды, а несчастные сестрички вынуждены были слушать разглагольствования о «Мизантропе» или «Гофолии»[17]. Они зевали, плакали, но я оставался неумолим. В двенадцатилетнем возрасте, то есть в четвертом классе, с большим трудом я сочинил пятиактную трагедию в стихах. Она называлась «Одетта де Шандивер», ее героиней была одна из любовниц Карла VI Безумного[18]. Чем меня заинтересовала эта женщина, я уже не помню, а сама драма затерялась. Ее унесли немецкие солдаты, когда в 1940 году ограбили дом моей матери. Это наиболее извинительное из их преступлений. Впрочем, новый учитель господин Леруа подавал нам иные примеры. Если Киттель являл собой образец добропорядочного буржуа, то он был по всем статьям «вольным художником». Леруа носил бархатный пиджак и огромную мексиканскую шляпу, тогда как Киттель ходил в сюртуке и цилиндре; Киттель был лыс, у Леруа — пышная шевелюра, Киттель отличался застенчивостью, Леруа был совершенно свободен в словах и мыслях, любил Флобера, Гюисманса, Мопассана, и его влияние оказалось для меня весьма полезным.
Еще одному учителю я в скором времени стал оказывать предпочтение. Это был наш математик Мушель. Он был сыном эльбёфского фабриканта: маленький, со свисающими влажными усами, в пиджаке, всегда измазанном мелом. Поначалу он, как и все в этом городе, выделывал сукно; но, обладая теоретическим мышлением, он додумался до весьма хитроумных принципов ткачества шерсти, что было смело, а затем опрометчиво применил их на практике; в итоге он разорил своего отца и разорился сам. Обанкротившись, он и преподавал в Эльбёфе алгебру и геометрию. Отец, весьма уважающий других моих учителей, выказывал неприязнь и недоверие, когда речь заходила о Мушеле. Неудача в промышленном деле казалась ему мало подходящей ступенью к учительскому званию. Человек, который не осилил суконного дела, по его мнению, не мог быть хорошим педагогом. Но отец, как и весь Эльбёф, ошибался. Мушель объяснял нам геометрию с замечательной ясностью. «Ну… сдал экзамены, получил диплом учителя. Понимаете, а?» — спрашивал он с мелом в руке и отпускал нас лишь тогда, когда нам действительно все становилось понятно. Благодаря ему я еще помню большинство эвклидовых теорем. Более того, он привил нам прилежание и методичность в работе. Тому, кто идет шаг за шагом поверному пути, все дается легко; тому же, кто надеется после нескольких потерянных лет наверстать упущенное, перескакивая с пятое на десятое, все становится невозможным. Разум, как и сердце формируется рано, и многие из нас остаются на всю жизнь детьми. «Ну… Понимаете, а?..» Благодаря маленькому Мушелю с влажными усами и запачканным мелом сюртуком мы научились рассуждать. Не в его силах было научить нас не слишком полагаться на рассудок. Для этого понадобился другой, более всемогущий наставник.
3. Утраченный рай
К двенадцати годам я закончил занятия в местном лицее, где было всего четыре класса. Теперь мне предстояло учиться в лицее Корнеля в Руане. Я оказался в другом измерении. Из промышленного центра я попал в столицу целой провинции. Прежде чем начать рассказ об этом новом мире, я хотел бы подвести черту и описать, в той мере, в какой я еще способен это сделать, каким я был по окончании четвертого класса. Для своего возраста я необыкновенно много читал. Родительская библиотека была хорошо подобрана. Она занимала полки стоявшего в маминой гостиной обширного позолоченного шкафа с резьбой. Это была парадная комната, окна здесь были постоянно закрыты ставнями, мебель покрыта белыми чехлами. Раз в неделю, по средам, у мамы, как у всех дам Эльбёфа, был приемный день. Другие дамы страстно спорили из-за шести приемных дней и считали смертельной обидой, если «новенькая» пыталась выбрать их день. Но матушка была лишена этого мелкого светского тщеславия и только радовалась, когда визиты оказывались редкими. Ни один мужчина визиты не наносил — в Эльбёфе было бы скандалом, если бы деловой человек показался за пределами фабрики или конторы до семи часов вечера. В четыре часа горничная подавала китайский чай в чашках розового фарфора, так что до сих пор вкус китайского чая вызывает у меня в памяти приемный день мамы и позолоченные переплеты библиотеки. По другим дням недели я был допущен в темную гостиную, где натыкался на призраки кресел в прозрачных белых саванах. Я приоткрывал ставни — открыть их нараспашку было бы святотатством — и рылся в библиотеке. Прежде всего там стояли классики семнадцатого века (восемнадцатый наводил на родителей ужас), затем великие романтики: полные собрания сочинений Гюго, Ламартина, Виньи, Мюссе; великолепное издание «Мемориала острова Святой Елены»[19], украшенное гравюрами, — любимая книга отца, пьесы Ожье[20], Лабиша[21], Дюма-сына. Целую полку занимали учебники литературы, по которым в юности училась мать: Вильмен[22] в коричневом переплете, Низар[23] — в синем. На Новый год и на день рождения родители дарили мне стопками по шесть — восемь томов «Беседы по понедельникам» Сент-Бёва, произведения Тэна, «Географию» Реклю и «Историю Франции» Мишле. Но в библиотеке я тайком брал многочисленные тома «Старых страниц». Этот исчезнувший ныне журнал перепечатывал шедевры французского романа. Благодаря ему я ознакомился, возможно в слишком юном возрасте, со всеми книгами Флобера, Мопассана, первыми романами Поля Бурже, Анатоля Франса, Марселя Прево, Мориса Барреса. У меня в голове мешалось хорошее и плохое, серьезное и пустяковое, история и вымысел. Но и лучшие, и худшие книги в равной мере возбуждали во мне живейшую радость и вожделение. Моя чувственность была ранней, смутной и безграничной. Стыдливость родителей не позволяла мне задавать вопросы на волнующие и притягательные темы. Отец, который краснел при любой вольной шутке приятелей, не мог даже вообразить, куда заводили меня мечты о мадемуазель де Мопен[24] и мадам Бовари. Моя истинная натура была романтической. В «Превратностях любви» я рассказал, как в книге, полученной в награду в школе, я прочитал о похождениях русских гимназистов, которые созывают свою армию и избирают королевой школьницу: «Королеву звали Аня Соколова. Это была на редкость красивая, стройная, изящная и умная девушка». Мне была по сердцу солдатская присяга королеве, готовность сделать любую работу, только бы ей понравиться и получить в награду улыбку. Не знаю толком почему, но эта книга безумно нравилась мне. Я сидел в сирени и, вдыхая запах цветов, читал и перечитывал «Маленьких русских солдат». Я мечтал о любви, которая была бы и страданием, и жертвой, и поклонением. В мучительную пору преждевременного созревания меня не поддерживала никакая вера. Я не ведал догматов религии, к которой по рождению должен был бы принадлежать. У отца была крепкая вера, но основывалась она на нравственных, а не метафизических принципах морали, и он прекрасно находил общий язык не только с пастором Рерихом, но и с аббатом Аломом, директором школы Фенелона, священником высокого дарования, к тому же нашим соседом, с которым он часто совершал прогулки. Хотя он уважал и соблюдал религиозные традиции семьи, но не скрывал, что соблюдение постов и выпечка мацы были в его глазах не столько божественными предначертаниями, сколько архаическими курьезами. Думается, повстречай я тогда образованного раввина, который познакомил бы меня с Библией и ее толкованием, я проникся бы этой возвышенной поэзией, мудростью царей и пророков, трагическим скепсисом «Екклезиаста». Но мое «Священное Писание» было довольно плоским кратким изложением, и я узнал Ветхий Завет (который читаю сегодня и которым восхищаюсь) значительно позднее, когда занимался английскими поэтами.Как множество детей (как, например, Эдмунд Госс[25], который поведал об этом в книге «Father and Son»[26]), я делал неудачные попытки проверить действенность молитвы. Когда мы должны были писать контрольную по географии, я молился, чтобы учитель задал нам притоки Сены, которые я знал, но не притоки Луары, которых я не мог запомнить. Но он выбрал притоки Луары, и моя вера была поколеблена. Какое-то время моя сестра Маргерит и я увлекались магией. Мы выдумали могучего демона, которого называли господином Роком; у него был храм в уголке коридора. Когда мы шли в этот уголок и кричали: «Господин Рок, сделайте так, чтобы в четверг нас взяли в цирк», молитве иногда внимали. Возможно потому, что ее слышала мама. В Эльбёфе, не прилагая к тому особых усилий, я был первым учеником. Раздача наград, которой отмечался конец каждого учебного года, была для меня волнующей и счастливой церемонией. Оркестр играл «Марсельезу», и даже сейчас, столько лет спустя, стоит мне услышать эту мелодию, как я вижу учителей в желтых или черных мантиях с узким белым меховым воротником, офицеров местного гарнизона с позолоченными эполетами, мантии судей — всю процессию важных и внушительных персон, не спеша поднимавшихся на сцену. Мы терпеливо выслушивали исполненную тяжеловесного юмора речь какого-нибудь Полония с университетским дипломом. Затем надзиратель читал список награжденных. Я заранее знал, что получу множество зеленых бумажных венков, позолоченную корону (высшая награда!) и кучу книг в красных переплетах; но понимал, что в столь малочисленных классах заслуга моя невелика. А вот на следующий год в лицее Руана все будет иначе, и я ожидал его с нетерпением. Родители должны были выбрать для меня один из двух путей: поместить меня в интернат при лицее (таким образом когда-то готовился к поступлению в Политехническую школу дядя Анри) или отправлять в Руан каждое утро, дабы я возвращался вечером. Ежедневное путешествие утомительно: чтобы сесть в поезд в 6 часов 49 минут утра, пришлось бы вставать без четверти шесть и тратить по меньшей мере два часа на поездку туда и обратно. Но мать испытывала инстинктивный ужас перед интернатом, и, хотя я был не очень крепкого здоровья, решили, что по вечерам я буду возвращаться в Эльбёф. К тому же вместе со мной ездили другие юноши, в том числе Андре Блен и один из сыновей пастора Рериха. В скором времени нас стали звать в лицее «эльбёфским поездом». Каждое утро на заре, зимой еще в ночной темноте, с портфелем в руке я проходил по Эльбёфу среди рабочих, спешивших на фабрику. Слышно было, как начинали работать машины. Ровно в половине седьмого внезапно освещались большие высокие окна. В купе, на сиденьях грязного бежевого сукна, при свете коптящей лампы я пытался повторять уроки. Сколько стихов продекламировал я между Эльбёфом и Руаном! До сих пор, вспоминая об этих уродливых вокзалах и пленительных видах лесов и рек, слышу стансы из «Полиевкта»[27], «Молодую узницу»[28], «Майскую ночь»[29] или: «Гнев, богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына…»[30] Порядок станций, расстояния между ними, странные и разнообразные названия составляли как бы музыкальную фразу, пленявшую сложным ритмом. Первой остановкой был Эльбёф-Рувале, полустанок, который от станции отправления отделял только вздох. До Буй-Молино следовал самый длинный участок пути, бесконечная пауза, перерезанная шумным тоннелем, в котором, не стесняясь других пассажиров, можно было орать: «Одиннадцатый год! Бесчисленных имен…» или «Долина смерти Ватерлоо…»[31] Затем в быстром и четком ритме сменялись Гран-Курон, Гран-Кевийи, Пти-Кевийи и, наконец, Руан. «Тах-тах… Тах-тах, тах-тах», — отдавалось каждодневное утреннее путешествие в моих детских мыслях; а когда неустанные усилия одного депутата привели к созданию станции Этр-а-л’Имаж, которая в середине леса разрезала мою самую длинную паузу краткой, совершенно ненужной остановкой, мне показалось, что в мою жизнь вторгся диссонанс.
Первый день, который я провел в лицее Руана, был омрачен столь тягостным и сильным впечатлением, что я счел бы нечестным опустить его в повествовании. По установившемуся обычаю учебный год начинался с обедни, которую служили в прекрасной часовне лицея, бывшего коллежа иезуитов. Богослужение должно было призвать на школьные занятия благословение Святого Духа. За несколько минут до начала службы старший надзиратель собрал нас всех во дворе старших классов и сказал: — Диссиденты, выйдите! «Диссидентами» были протестанты и иудеи. Человек двадцать протестантов и три-четыре еврея вышли из рядов. — Остальные, — продолжал генеральный надзиратель, — строятся в колонну по два и следуют за мной в часовню. Лицеисты построились и скрылись под сводчатым переходом. Наша маленькая группка, грустная, почти безмолвная, осталась под деревьями. Из часовни, что была совсем рядом, доносились звуки органа, на котором замечательно играл мой учитель Дюпре, и чтение молитв. Мы уныло бродили по кругу под каштанами школьного двора. Мы не испытывали ни малейшего стыда из-за того, что были протестантами или евреями, но, когда нас в эту торжественную минуту отделили от товарищей, мы почему-то почувствовали себя очень несчастными. Несмотря на этот неприятный эпизод, я сразу полюбил новый лицей. Помню парадный двор, обрамленный серыми симметричными зданиями, построенными иезуитами в XVII веке; латинские надписи, украшавшие циферблат солнечных часов на фасаде, и пьедестал памятника Корнелю; барабан, что бил зорю без пяти восемь утра; мгновенно выраставшие по этому сигналу две шеренги лицеистов. Дисциплина доставляла мне радость, то же самое я позднее ощущал в полку, когда под звуки военного марша мы шагали перед знаменем. Принадлежность к разумному порядку — это своего рода эстетическое удовольствие, и я думаю, что оркестранты испытывают то же чувство, что лицеисты и солдаты. В конце недели наш учитель Робино задал первый латинский перевод. Благодаря Киттелю писать я умел, а текст не показался мне трудным. Естественно, я не представлял себе, на какое место мог претендовать в классе из сорока учеников, которых совсем не знал. Через неделю директор лицея Дефур явился «огласить места», занятые по этому заданию. Бородатый, с брюшком, держа в руке цилиндр — воплощение власти, — он вошел в сопровождении надзирателя с большим листом. Весь класс встал. — Приветствую вас, месье Робино, — величественно сказал директор. — Садитесь, господа. Вот список мест. Надзиратель принялся читать: — Латинский перевод… Первый: Эрзог Эмиль… Директор прервал его: — Я хотел бы особо поздравить господина Эрзога. Это успех скромного эльбёфского… Держитесь, господа руанцы. Отличники предыдущего года смотрели на меня без малейшего намека на доброжелательность. Из-за искривления позвоночника я вынужден был носить железный корсет: мои движения были неуклюжими и медленными. Эта нелепица, мои школьные успехи, возобновление дела Дрейфуса[32] — все привело к тому, что на протяжении нескольких недель я был жертвой недалеких и жестоких ребят. Впервые я столкнулся с антисемитизмом. Я ужасно страдал: до этого меня окружали только тепло и ласка в семье и дружба в школе. Жизнь в лицее, которым я так восхищался, стала бы для меня невыносимой, если бы не поддержка всесильных поборников справедливости. То была компания спортсменов, вечно грязных и веселых, с привязанными веревочками пуговицами. Они называли себя семьей Морен. Бло, бесподобный нападающий в регби, был «папашей Мореном»; его семью составляли Лустоно, Бушар, Годе, Паньи, Пато (Морены называли его Паскали-ной). Мы сидели в столовой по восемь человек. Главный надзиратель произносил «Bénédicité»[33], точнее, бормотал «Sancti amen… Sancti amen…»[34]. Затем все рассаживались. Семеро Моренов, заметив мой несчастный вид, попросили надзирателя посадить меня за их стол; у них были самые крепкие кулаки среди сверстников, и моя дружба с ними, как и с духовником лицея аббатом Вакандаром, которому нравилось переводить со мной Цицерона и Тацита, заставила крикунов умолкнуть. Начиная со второго класса я мог целиком отдаться желанному учению. Я упивался французскими и латинскими поэтами. Мой учитель второго класса Небу признавал только романтиков. И внешностью — пышные волосы, широкий плащ, и лексиконом он копировал любимых писателей. В местном театре были поставлены две его драмы, написанные в духе Гюго. Он научил нас любить Вийона, Рабле, Монтеня, переводить Лукреция. Я обязан ему знанием наизусть сотен стихов Ронсара, Корнеля, Виктора Гюго, Мюссе. А вот преподаватель риторики Тексье, человек маленького роста, со слабым, но ясным голосом и лукавой улыбкой, был, напротив, поклонником классицизма. Благодаря ему я понял Вергилия, Расина, Мериме, Анатоля Франса. Каждую неделю мы писали сочинение: «Письмо поклонника Расина самому Расину после провала „Федры“»; «Письмо Гурвиля[35] принцу Конде с просьбой не брать командование армией, действующей против Франции»; «Письмо Постоянного секретаря Французской академии Конрара[36] Сент-Эвремону[37] в защиту Академии от его насмешек». Изучение предмета, работа с материалом, стилизация под старинный язык — все это было для меня первой школой писательского мастерства. В год, когда мы изучали риторику, у меня появилось трудно объяснимое честолюбивое желание. Ежегодно военный министр награждал медалью первого ученика лицея по гимнастике. Я только что освободился от железного корсета и страстно желал получить эту медаль. Я попросил учителя гимнастики Пишона, худого и мускулистого унтер-офицера в отставке с волосами ежиком, давать мне частные уроки. На всех переменах я занимался на параллельных брусьях и на трапеции. Как я и надеялся, упорство одержало победу над немощью, а Пишон научил меня множеству упражнений, не силовых, а на ловкость. Овладев своим телом, я начал совершенствовать упражнения. Выпрямив корпус, оттянув носки, расслабив мускулы, я крутил «солнце» на турнике, перелетал с трапеции на трапецию и заканчивал прыжком через параллельные брусья. В гимнастике, как в политике и на войне, успех зависит от безупречной координации. Надо успеть вовремя расслабиться и вовремя собраться, иначе сломаешь шею. Когда в конце учебного года состоялся конкурс лицея, я получил вожделенную медаль. Она принесла мне больше радости, чем диплом бакалавра. Получение степени бакалавра было моим первым экзаменом. Ученики из Руана сдавали этот экзамен на факультете университета Кана, древней столицы Нормандии; ее прекрасные и мощные церкви были построены по незыблемым канонам, как трагедии Корнеля. Тема французского сочинения, цитата из Ренана: «Славные подвиги в прошлом, общая воля в настоящем, великие устремления в будущем — вот что определяет понятие „народ“», понравилась мне до такой степени, что, наслаждаясь самим процессом писания, я забыл, где и зачем находился. Устный экзамен показался мне легким. Меня спросили о Декарте и его влиянии на литературу, о Тите Ливии, благословенном писателе всех экзаменующихся, и об одной песне из Гомера, которую я знал наизусть. Все шло как по маслу, за исключением географии. Некий старец в скверном расположении духа спросил меня, какова глубина Роны у Пон-Сент-Эспри. Я никогда не мог запомнить ни одной цифры, тем более такой, как эта, но, несмотря на сие преступное неведение, был аттестован с отметкой «отлично» и особо отмечен жюри. Несколько лет подряд я проводил каникулы в Париже, у родных матери, где атмосфера мало отличалась от лицейской. Мои четыре тетушки любили театр и поэзию. Каждое воскресенье одна из них водила меня на «классические» утренники в «Комеди Франсез». Вскоре я судил как знаток о Маскариле[38] Жоржа Берра[39], Пурсоньяке[40] Коклена младшего[41] или «Беренике»[42] Жюли Барте[43]. Увидеть Муне-Сюлли[44] в «Царе Эдипе», Коклена старшего[45] в «Сирано», позднее — Сару Бернар[46] в «Орленке» было для меня торжественным событием. Когда открылась Всемирная выставка 1900 года, «Комеди Франсез» организовала в театре «Трокадеро» поэтические утренники. Мои любимые актеры и актрисы в современных костюмах читали Шенье, Лафонтена, Гюго, Бодлера, Верлена. Я заранее знал их интонации и наслаждался неожиданными находками. Словом, я жил в нереальном мире поэзии. Жизнь в Париже наполняла меня особым восторгом, ибо я был влюблен, хотя сам точно не знал, в кого. Я мечтал умереть во имя прекрасной и несчастной возлюбленной. У греческих и латинских поэтов я с удовольствием читал историю Персея, освобождающего Андромеду. И с наслаждением повторял прекрасный сонет Ронсара: Судили старички, взойдя на Трои стены, Царицы красоту и женственную стать: «Все бедствия, все зло, что терпит наша рать, Способен окупить единый взгляд Елены».[47] На протяжении нескольких месяцев моей Еленой была самая молодая из тетушек, затем — случайно увиденная в лицее сестра товарища, затем — актрисы «Комеди Франсез»; я посылал им письма в стихах, на которые они не отвечали. Но ждал ли я ответа? Моя любовь была не от мира сего, и хотели они того или нет, эти прелестные особы принадлежали мне во сне. Однажды один из наших руанских учителей задал сочинение на тему «Палинодия Стесихора»[48]. «Венера лишает зрения поэта Стесихора, предавшего в стихах проклятую Елену за беды, принесенные грекам. Осознав свое заблуждение, он пишет палинодию, сожалея о своем кощунстве». Никогда прежде я не писал с таким жаром. Тема жертвы во имя красоты так тронула меня, что я работал два часа не поднимая головы, как будто предчувствовал, сколько у меня самого в тяжкой земной жизни будет причин сочинять палинодию Стесихора.
4. Река жизни
Последний школьный год, посвященный изучению философии, был в жизни юных французов порой умственного созревания. Из «Беспочвенных» Барреса видно, какое пагубное влияние оказала на него самого и его товарищей встреча с философом Бюрдо; столь же очевидно при знакомстве с биографией Пруста, сколь велика роль философии Дарлю в формировании взглядов писателя. Десять лет все наше внимание, сначала подростков, затем юношей, было сосредоточено на форме, грамматике, стиле. И вдруг озарялась суть произведения. Эпиктет и Эпикур, Платон и Аристотель, Декарт и Спиноза, Локк и Кант, Гегель и Бергсон оспаривали право на господство в наших умах. Метафизики растворяли вселенную в прозрачных туманностях или раздвигали индивид до пределов вселенной. Моралисты противоречили друг другу, утверждая вечные добродетели. Молодого человека, самонадеянного и опьяневшего, уносил вихрь идей. В 1901 году мои товарищи по руанскому лицею ждали «философского» года с большим нетерпением, поскольку наш философ был человеком знаменитым. Его звали Эмиль Шартье[49]. В народном университете Руана он выступал каждую неделю (эти группы взаимного обучения существовали по всей Франции еще со времен дела Дрейфуса), и даже его политические противники признавали, что его лекции превосходны. Его ученики, наши старшие товарищи, походили на пылких адептов некой тайной эзотерической религии. Один из них, Луи Кане, в дальнейшем директор отдела по делам религий на набережной д’Орсе[50], получил в предыдущем году похвальный лист по философии. — Ты увидишь сам, — сказал он мне загадочно, — его класс не похож ни на один другой. Нас не постигло разочарование. Мы продефилировали под барабанную дробь перед каменным Корнелем и заняли места в классе философии. Дверь открылась, словно распахнутая ветром. Вошел высокий молодой человек с крупными правильными чертами типично нормандского лица. Сел за стол на помосте, оглядел с улыбкой класс, подошел к доске и написал несколько греческих слов. Поискав взглядом, он обратился ко мне: — Переведите. — «Всеми силами души надо стремиться к истине». Шартье дал нам несколько минут на обдумывание изречения Платона, после чего начал читать лекцию по теории восприятия. — Рассмотрите, — сказал он, — чернильницу на кафедре. Что я обозначаю, когда говорю «эта чернильница»? Прежде всего белое и черное пятно, которое видят глаза. Затем ощущение гладкого и плотного под рукой. (Он протянул руку и дотронулся до чернильницы.) Но откуда мне известно, что ощущение гладкого и плотного и белое пятно представляют собой один и тот же предмет? Что может подтвердить это тождество? Мой глаз? Разумеется нет, ибо глаз не может ее касаться… Моя рука? Разумеется нет, ибо рука не может видеть… Таким образом, мы понимаем, что надо остерегаться утверждений философов, будто в разуме нет ничего, что не было бы сначала воспринято органами чувств. Не прошло и пяти минут, как все мы были разбудоражены, вызваны на бой, поставлены вверх ногами. В течение десяти месяцев мы жили в этой атмосфере страстного поиска. Шартье был великим поклонником Сократа и полагал, как и он, что лучшее средство заставить человека высказать свое суждение состоит в том, чтобы не предлагать ему разжеванные истины, а возбуждать аппетит и любопытство все новыми и новыми неожиданностями. Сократу нравилось, когда его звали Скатом, который сотрясает электрическим разрядом того, кто к нему прикасается. Шартье любил ошеломить парадоксом, который преподносил как образец логики. А затем или разрушал его сам, или предлагал искать спасительный выход ученикам. Как и Сократ, он любил приводить примеры и рассказывать занимательные истории. Некоторые рассказы неоднократно повторялись и стали у нас знаменитыми. Скажем, служанка раввина в бреду, уже при смерти, в первый раз в жизни заговаривает на иврите; старшему сержанту колониальных войск фельдшерица ставит на ноги пиявки, и он, заснув, видит себя в Африке среди кактусов; лабрадорская утка в неволе скребет перепончатыми лапами по цементному полу в надежде откопать червей. Эта утка служила иллюстрацией к лекции об инстинкте и привычке, совершенно так же, как служанка раввина поясняла теорию памяти, а старший сержант — сущность сна. В политике у Шартье были определенные пристрастия, которых он не скрывал. Он был радикалом, несколько в духе Жюльена Сореля. Но выражался его радикализм не столько в стремлении к реформам, сколько в постоянной бдительности и оппозиции властям. Свободой он дорожил больше, нежели равенством, и полагал, что лишь на абсолютной свободе духа зиждется равенство перед законом, единственное, которое он признавал. Не был он и социалистом, однако излагал учение этой партии столь умно, что я в течение нескольких лет питал склонность к социализму, о чем будет сказано ниже. Шартье был доволен. «Кто не был в шестнадцать лет анархистом, — говаривал он, — у того к тридцати не остается энергии, даже чтобы командовать пожарниками». Но его собственные политические симпатии были совсем иными. Верный почитатель Огюста Конта[51] и Бальзака, он был убежден, как и они, в необходимости обрядов, чтил традиции. Шартье был, вероятно, антиклерикалом, но наверняка человеком верующим. Мало кто умел так хорошо говорить о христианстве. Действительно, он первым открыл мне величие христианского учения, значительную часть которого я благодаря ему принял. Шартье часто цитировал «О подражании Христу» Фомы Кемпийского: «Разум должен следовать за верой, никогда не обгоняя ее и никогда ей не противореча». Он не задавался вопросом, верна ли идея Боговоплощения? «Она справедлива для веры, — говорил он, — а что значит она для рассудка?» И вот ответ: «Юпитер, бог греков и римлян, не был в полной мере ни богом, ни человеком. Что до Бога иудеев, то он совсем не был человеком. Бесконечный, отвлеченный, он был далек от человека, как великие мира сего далеки от народа, и проявлял себя только в эффектных чудесах, вроде огненных столпов, манны небесной, каменных скрижалей на Синае. Нужно было, чтобы Бог приблизился к людям. И вот христианская религия Его воплотила. Верить в Отца, не веря в Сына, — значит отказаться от познания Бога. Вифлеемские ясли — алтарь новой религии, здесь ее ключевое слово. Вглядитесь в Богомладенца. Его слабость божественна. В этой слабости и беззащитности и есть Бог. Он — надежда, перед которой правда — всего лишь идол». Эти нарочито темные суждения приоткрывали нам непостижимые глубины. После Шартье вольтерьянство самого Вольтера казалось мне столько же плоским, что и вольтерьянство господина Оме[52]. «Любое доказательство, — говорил наш учитель, — в моих глазах заведомо ложно». И этим ставил разум на подобающее место. Необыкновенно сильным было влияние Шартье и на мои литературные вкусы. В предыдущий год, в царствование изящного Тексье, я полюбил Анакреона и Катулла, хрестоматийных поэтов, прозу Вольтера, Поля Луи Курье[53] и Анатоля Франса. Шартье предпочитал вещи более весомые. Он тоже восхищался «Кандидом»[54], но Франса считал всего лишь хорошим писателем второго ряда. Он ощущал родство со Стендалем; проповедовал, как и он, свободу, пренебрежение к великим мира сего и любовь ко всему естественному. Когда он хвалил описание страстей в «Пармской обители» или в «Красном и черном», мы догадывались, при всей нашей неопытности, что он сам испытал подобные чувства. Его восхищение «Лилией долины»[55], романом, о котором тогда много спорили университетские критики и в котором мы, юные педанты, усматривали массу дефектов, говорило о тайнах его личной жизни. Шартье был страстным поклонником Бальзака. Он не только читал и сто раз перечитывал «Человеческую комедию», но и без конца ее цитировал и использовал персонажи Бальзака для примера на лекциях. Могло показаться неожиданным, что радикал, беспощадный к сильным мира сего, избрал своим любимым чтением творения католика и монархиста. Но таковы чудеса Франции. Стендалевские страсти Шартье сделали его недоверчивым и мятежным. Инстинкты нормандского крестьянина привели к бальзаковской мудрости. Я припоминаю, что особенно он восхищался «Сельским врачом», который мог бы стать настольной книгой любого французского консерватора. Благодаря ему творчество Бальзака стало частью моей жизни, и после года занятий литературой «Человеческая комедия» была всегда у меня под рукой. Ален был непревзойденным читателем-гурманом. Он вникал в самые мелкие детали текста и наслаждался их красотами. Он сам ограничивал число избранных им писателей, полагая, что увлеченный читатель должен иметь небольшую библиотеку и ежегодно перечитывать одни и те же книги. Если память мне не изменяет, его собственную библиотеку составляли Гомер, Бальзак, Стендаль, Сен-Симон, Тацит, Платон, Декарт, Спиноза и Гегель. Как и мой отец, он любил читать «Мемориал острова Святой Елены». Позднее я, кажется, убедил его присоединить к друзьям дома «Замогильные записки»[56], кардинала де Реца[57] и Редьярда Киплинга. Не было ничего труднее, чем заставить его прочитать современного писателя. — Лучше подождать, — говорил он. — Если через десять лет вы будете им по-прежнему восхищаться, я, может быть, попытаюсь. Тем не менее в период между двумя мировыми войнами он снизошел к Клоделю и Валери и анализировал их лучше, чем кто-либо. В наших сочинениях он придавал больше значения стилю, чем мыслям. «Это не написано», — было в его устах приговором, не подлежащим обжалованию. Темой первого сочинения он избрал мысль Платона: «Macroteran perijteon»[58] — «Надо избирать самый длинный путь». У меня сохранилось сочинение, на котором он начертал синим карандашом: «Пишите сжато, лаконично и заканчивайте, будто ударяете кулаком по столу». Часто он предостерегал меня против ритмической прозы, против громких фраз. «Вы смогли бы, — говорил он, — сами не желая того, стать выдающимся ритором. Это крайне нежелательно. Читайте почаще „Гражданский кодекс“ и „Анри Брюлара“[59]. Вот что упасет вас от громкой фразы». Темы, которые он предлагал, были нацелены на то, чтобы избавить нас от риторики: «Девушка готова прыгнуть в воду с моста Бойельдьё. Философ удерживает ее за юбку. Их диалог». Или вот: «Диалог между ризничим и пожарником о существовании Бога». Курс его лекций начинался с основательного изложения теории восприятия. Он доказывал, что для познания самой простой вещи необходимы очень сложные рассуждения, и эти рассуждения могут быть ошибочными, отсюда — обман чувств. Сколько раз рассказывал он нам о стереоскопе, о прямой палке, которая в воде кажется сломанной; о случаях, доказывающих слабость человеческого разума. Потом Шартье говорил об ошибках памяти, чувств, рассуждения. Они означали трудности поиска истины. Сократ и Декарт помогали нам в поисках исследовательского метода. Спиноза учил извлекать пользу из наших страстей. Кант отговаривал от того, чтобы стать на рельсы метафизики, доказывая, что она повторяет законы нашего мышления. Огюст Конт учил уважать существующие порядки и обряды. Была у Шартье характерная черта: когда он излагал учение серьезного философа, то никогда не полемизировал, а старался донести то положительное, что в этом учении присутствовало. Опровержение же считал жалким занятием: «Неспособность восхищаться — свойство посредственности». Сам он великодушно восторгался даже теми писателями, насмехаться над которыми считалось признаком хорошего тона, скажем, Виктором Гюго и Жорж Санд. Он относил, и совершенно справедливо, «Отверженных» и «Консуэло» к самым великим произведениям литературы. На занятиях он не терпел возражений, считая их бесполезной тратой времени. «Учитель учит, ученики учатся», — говаривал он. Я не в силах передать энтузиазм, который внушал нам такой наставник; всеобщее возбуждение на уроках, которые начинались с твердой верой открыть сегодня поутру тайну мироздания и заканчивались пониманием того, что такой тайны, быть может, и не существует, но что можно тем не менее оставаться достойным и благородным человеком. Когда я прочитал в «Киме»[60] историю ламы, благоговейно искавшего священную реку, я подумал о наших исканиях. Шартье давал нам не столько доктрину (он охотно повторил бы слова Жида: «Оставьте меня в покое»), не столько систему, сколько принципы и веру. «Всеми силами души надо стремиться к истине». Я запомнил его заповеди: ненависть к лицемерию, стремление понимать ближнего, уважать противника. На протяжении своей жизни я, как и все, допускал ошибки; если же я поступал верно, то только благодаря примеру отца и урокам Шартье. В конце учебного года он направил меня на национальный конкурс лицеев и коллежей. Сочинения писались под строгим контролем в префектуре. Темы доставлялись из Парижа в запечатанных конвертах. Лицей устраивал в честь участников конкурса праздничный обед: подавали омара и холодного цыпленка. Бутылку с майонезом передавали по кругу. В предыдущем году на подобном конкурсе я получил премию за латинское и греческое сочинения и занял первое место по истории. На этот раз темой сочинения было: «О роли привычки в личной и общественной жизни». Для ученика Шартье это была легкая задача. Оставалось только следовать его методике. Я приводил многочисленные примеры: боксер, гимнаст… Цитировал великих людей: «Подобно тому как одна ласточка не делает весну, один добродетельный поступок еще не добродетель». Припомнил слова Огюста Конта об общественных привычках… Инстинкт и привычка, лабрадорская утка… На сочинение отводилось восемь часов, я управился за четыре. Месяц спустя, когда я захворал ангиной, в Эльбёф пришла телеграмма от директора лицея: «Сердечные поздравления с присуждением почетной премии на национальном конкурсе». Верилось в это с трудом, но было правдой, и скоро из Парижа поступила кипа великолепных книг. Во время раздачи наград под звучную «Марсельезу» сам префект вручил мне диплом. Товарищи наградили меня овацией, которая была дороже, чем премия. Шартье — его атлетическое тело с трудом уместилось в университетской мантии — усадил меня рядом с собой на помосте. — Что ж, это хорошо, — сказал он. — Конечно, если вы поймете, что это не имеет ровно никакого значения. А теперь надо жить… Что вы собираетесь делать? Это вопрос, которым я и сам задавался. Больше всего на свете я любил образ жизни школяра. Слушать уроки талантливых учителей, заниматься, сдавать экзамены — то была моя стихия. Почему бы не остаться в школе на всю жизнь? Это представлялось мне возможным. Для начала поступить в Эколь Нормаль — профессия учителя была мне по душе. Я не надеялся пользоваться таким же авторитетом, как Шартье, но мог стать добросовестным, уважаемым, пожалуй, даже любимым преподавателем. К тому же я намеревался писать, и на спокойной должности в провинции у меня будет необходимый досуг. Я изложил эти планы Шартье, в то время как директор выкрикивал: «Класс начальной математики… Отлично: Лефевр Анри». «Полагаю, — сказал он, — что вы не правы. Дело совсем не в том, что эта карьера вам не по плечу. Я представляю себе, с какой легкостью вы поступите в Эколь Нормаль… Ну а потом? Вам будут грозить серьезные опасности. Вам все дается с необычайной легкостью. Я боюсь, что вы начнете писать до того, как созреете для литературного дела. Учитель не видит мира в той полноте, которую должен охватывать романист. Не имея никакого опыта, вы вступите в литературные салоны. Не так начинали Бальзак и Диккенс; один был клерком у нотариуса, печатником, другой — журналистом. Ведь ваш отец промышленник? Я бы предпочел, чтобы вы поступили на фабрику. Там вы сможете наблюдать, как люди трудятся. Вы станете Давидом Сешаром, Сезаром Биротто, быть может, доктором Бенасси[61]. А по окончании трудового дня будете переписывать „Пармскую обитель“ или „Красное и черное“, чтобы овладеть техникой письма, как начинающие художники снимают копии с полотен мастеров. Вот прекрасное начало жизненного пути». Нагруженный книгами, я вернулся тем же поездом в Эльбёф. Вечером я рассказал отцу о беседе с Шартье. Его лицо озарилось улыбкой. — Я не хотел с тобой спорить, — сказал он, — но раз сам Шартье дал такой совет, я с радостью соглашаюсь. Я тоже считаю, что тебе следовало бы пойти работать на фабрику или, по крайней мере, с этого начать. Если ты по-прежнему захочешь писать, у тебя будут свободные вечера, а если у тебя действительно есть талант, он не преминет сказаться. Не забывай, что рабочие привязаны к нашей семье, что впоследствии они признают тебя как начальника скорее, чем другого, что у нас есть обязанности перед эльзасцами. На фабрике перед тобой открывается блестящее будущее. Некогда я пострадал от самоуправства дядюшек, но они состарились, и молодое поколение Френкелей отнесется к тебе, как к Эдмону и ко мне, по-братски. Все это меня не прельщало. Что будет со мной, поклонником Платона и Декарта, среди штабелей сукна, грязных станков, влажной шерсти? Зачем обрекать себя на тяжкое существование в беспросветном труде, вдали от дорогих мне книг, когда, казалось бы, ничто не мешало мне вести образ жизни, для которого я был создан? И все же, когда Шартье и отец, два человека, которых я ценил больше всех на свете, дали мне один и тот же совет, я не мог к нему не прислушаться. В конце концов я добился отсрочки. И вот каким образом: в те времена молодой человек мог пойти на воинскую службу в восемнадцать лет и отбывать ее лишь год в особом взводе «освобожденных от воинской повинности» при условии, что он закончил определенную школу или получил университетское звание, в том числе звание лиценциата. Имело полный смысл получить это звание по литературе (или философии) к восемнадцати годам, отбыть воинскую повинность к девятнадцати и быть свободным, вольным принимать любые решения. Семья меня поддержала, и на следующий год я вернулся в лицей в Руане. Дорогой старый лицей! Он был для меня родным домом, куда я с радостью возвращался. Я решил, что лучше готовиться на степень лиценциата там, чем отправляться в Сорбонну или в Канский университет. Главным было остаться с Шартье. Вместе с тем я решил прослушать курс начальной математики, ибо подготовка к экзамену на степень лиценциата много времени не занимала. К сожалению, Шартье у нас в скором времени забрали. В предыдущий учебный год на национальном конкурсе кроме моей почетной премии Руан получил еще две высокие награды по философии. То был блестящий успех Шартье, его приглашали в Париж. Как-то в октябре директор департамента среднего образования Рабье неожиданно приехал в Руан, дабы присмотреться к выдающемуся педагогу, которому, несмотря на молодой возраст, светило быстрое продвижение. У меня осталось очень яркое впечатление от этого визита, так как он позволил мне лишний раз отдать должное моему учителю. В тот день Шартье, читавший курс этики, стал говорить о «должном отношении к проституткам». Мысль Шартье, с которой я согласен, сводилась к тому, что самое безнравственное — это покупать чувство. — Самая древняя профессия, — говорил он, — состоит в том, что эти женщины оказывают вам физическую услугу. Не думаю, чтобы они от этого страдали, но у них есть своя гордость. Им претит торговать своим сердцем. Не требуйте, чтобы они выказывали страсть, которой не испытывают. Вы поможете им таким образом сохранить чувство человеческого достоинства… Тут дверь неожиданно открылась, и появился служитель с двумя стульями. Мы знали, что это предвещало появление комиссии. Действительно, через несколько минут директор в сюртуке и цилиндре ввел в класс худого человека с черной бородкой. — Здравствуйте, месье Шартье, — прокартавил наш директор. — Директор департамента среднего образования приехал из Парижа, чтобы послушать вашу лекцию. Садитесь, господа. Шартье спросил у Рабье: — Что бы вы хотели послушать, господин директор? — Я хотел бы, — сказал Рабье, — чтобы вы продолжали лекцию с того места, где остановились, не обращая на меня никакого внимания. Мы переглянулись. Как поступит Шартье? Возможно, в эту минуту была поставлена на карту вся его карьера. Наступило краткое молчание, после чего Шартье продолжил: — Я говорил ученикам о том, как следует относиться к проституткам… Директор лицея подскочил на стуле; директор департамента и бровью не повел. У нас глаза засветились гордостью. Наш герой остался на пьедестале. К чести «ад-ми-ни-стра-ции» надо признать, что она не ставила Шартье в укор вольность его уроков. Через две недели он получил назначение в лицей Кондорсе в Париже, и мы лишились его уроков. Я был в отчаянии. Ведь, чтобы продолжать у него учиться, я пожертвовал драгоценным годом занятий в Сорбонне. Тогда можно было заменить устный экзамен на степень лиценциата краткой научной работой. Я написал работу на тему «Математическое доказательство по Канту, Лейбницу и современным математикам». Много времени спустя мне довелось ее перечитать, и что же: с тех пор я многому научился, например сомневаться и страдать, но я бы много дал, чтобы сохранить тогдашнюю энергичность и точность, которые и дали занятия математикой. Экзамен на степень лиценциата не показался мне трудным. Здание выдержало испытание, ибо фундамент был прочно заложен в лицее Эльбёфа Киттелем и Мушелем. На филологическом факультете в университете Кана старый преподаватель литературы отец Леаннёр, который считался самым придирчивым экзаменатором, встретил меня неприветливо. — Мне не нравится, сударь, — сказал он, — когда младенцы в пеленках собираются стать лиценциатами. После этого он ворчливо сунул мне отрывок из Тацита. К счастью, я справился с задачей успешно, и он смягчился. После экзамена именно он сообщал результаты. Объявляя, что я получил искомую степень, он улыбнулся и добавил: «…C весьма похвальной отметкой „отлично“ и поздравлениями жюри». Любовь к Тациту оказалась сильнее недоверия к юнцам.В награду за успехи родители отправили меня на каникулы в долгое путешествие с дядей Анри, инженером. Измученный сварливой, ревнивой и глупой супругой, он относился к тем французам, которые любят войну и кафе, «потому чтотуда ходят без жен», и пользовался любой возможностью покинуть семейный очаг. Так, он согласился войти в состав комиссии, которая должна была изучить работы по строительству Симплонского тоннеля, и взял меня с собой. Светлое воспоминание сохранилось у меня от тех дней. Нас сопровождало несколько семейных пар. Мы поехали в Швейцарию и Италию. Но вечерам в гостиницах все общество развлекалось. Молодые женщины устраивали маскарад. Беседы дяди, исполненные меланхолической и насмешливой поэзии, приводили меня в восторг. Он понимал лучше всех странного юношу, каким я тогда был, потому что ему были знакомы мои чувства. Школьные успехи, несмотря на мудрые советы Шартье, внушили мне опасную самоуверенность. Опираясь на великих философов, историков, ученых, я был всегда убежден в собственной правоте. Перед женщинами я корчил из себя завоевателя, разыгрывал сцены из Мариво или Мюссе, Дюма-сына или Бека[62]. По сути, моя натура была такая же, как у отца, застенчивая, любящая, скромная, но молодость и блестящий: дебют взбудоражили кровь, впрочем, ненадолго. Во время Путешествия я, помнится, осмелился подержать женщину за руку на вокзале в Италии и провести рукой по женскому затылку в кипарисовой роще на Борромейских островах. Далее моя отвага не шла. Что для меня значили реальные женщины? В глубине души я любил, как и в детстве, королеву из «Русских солдат», которая стала Наташей из «Войны и мира», Ириной из «Дыма». Я любил существо не из плоти и крови, а из лунного света и хрусталя. Когда меня волновала красота девушки, я наделял ее очарованием моей Сильфиды, умом Сансеверины, отвагой Клелии Конти. Если ее волосы были цвета спелой ржи, а глаза как незабудки, я был уверен, что она, как и я, сходила с ума по поэзии, жаждала знаний. И заводил с ней беседу о Спинозе, в то время как она, верно, ждала от молодого человека самых заурядных пошлостей.
5. Школа ротного командира
— Я видел немало парней, стремившихся избежать воинской повинности, — сказал военный врач с четырьмя нашивками, — но в первый раз встречаю такого, который упорно добивается службы. Он обращался ко мне. Тощий, как голодная собака, я стоял, голый, вытянувшись на антропометре. Согласно всем уставам я не подлежал призыву. Вес маленький, грудь узкая, спина сутулая. Сердце, говорили мне, не обеспечивает ровного дыхания. Но на столе военного врача лежало с десяток писем от докторов, друзей моих родителей, с просьбой зачислить меня в полк. Я желал этого больше всего на свете. Воспитанный, как отец и двое дядюшек, на рассказах о войне, с детства страстный читатель воинственных книг капитана Данри, а в последние годы Виньи, Стендаля, Наполеона, освобождение от призыва я счел бы немилостью. — Господин военный врач, — умолял я, — возьмите меня. Это не грозит вам никакими неприятностями. Да, я выгляжу хилым, но на самом деле я очень крепкий. В руанском лицее я получил медаль за гимнастику от военного министра. Последний довод оказался решающим, и меня послали на службу в Семьдесят четвертый пехотный полк. Казарма помогла мне открыть для себя иной Руан, доселе неизвестный. Ее окружал целый военный городок: кафе, кабачки, питейные заведения, меблированные комнаты, девицы в косынках, кирпичные дома низших офицеров в три окна и высших — в четыре, базары, где торгуют военным снаряжением, рестораны, похожие на обычные, но отличающиеся от них так же, как отличаются казармы от обычных квартир. Это жилища вечно спешащих молодых людей, переполненные людьми от ужина до подъема; усталые тела, дремлющие умы, которым не до философских размышлений. В Руане было несколько военных лагерей. В 1903 году мы, пехотинцы, знали два: лагерь Семьдесят четвертого полка с казармой Пелисье и лагерь Тридцать девятого с казармой Жанны д’Арк. Наши два полка были соперниками. Мне, солдату Семьдесят четвертого, всякий солдат Тридцать девятого казался неряхой, всякий офицер — неучем в вопросах тактики, всякий полковой обычай — нелепым. То был иной мир, постигнуть который оказалось нелегко. В Тридцать девятом шинели застегивали на правую сторону, у нас — на левую; повороты у них исполнялись медленно, приемы с оружием — нескладно, а строевые песни были ужасными. По вечерам унтер-офицеры и солдаты обоих полков встречались на представлениях в «Фоли-Бержер». В зале пахло сигарами и абсентом. Давали ревю, которое мы знали наизусть. Примадонну звали Жанной Паради; нам нравились ее красивые длинные ноги. Но после похода за Сен-Север хвойным лесом по дороге на Эльбёф в креслах нас размаривало. Каким далеким представлялся лицей! Он был хорошо виден с вершины холма Святой Екатерины, но мне всегда не хватало времени туда добраться. В целом мире не существовало ничего, кроме казармы и столовой. «Гнев, богиня, воспой Ахиллеса…» Когда становилось совсем грустно, я пытался представить себе ту милую сердцу жизнь: рассеянная мечтательность на занятиях, уроки Шартье, философические прогулки под каштанами, осенявшими двор старшеклассников. Но я находился в кругу чужих. Они не выбирали выражений, общаясь между собой, а, напившись, блевали между койками. Шел тяжелый запах от двадцати тел, чадила раскаленная докрасна печка. Все время фальшивя, солдаты пели грустные сентиментальные песни. «Год, еще целый год, — подсчитывал я. — Завтра останется триста дней…» По вечерам под нашими окнами раздавался необычайной чистоты звук горна: играли отбой. Казалось, в пустоте ночи, то поднимаясь, то опускаясь, протянулась длинная цепь нот. Я представлял себе, как, танцуя над домами Сен-Севера, она пересекала Сену и едва доносилась до мирно спящих лицеистов. Я в восторге ждал, когда мелодия, чуть смягченная расстоянием, повторится около казарм второго и третьего батальонов. Потом наступала тишина. — Тушите свет! — отдавал приказ капрал. За месяц взвод «нестроевых» был сформирован, и нас отправили в местечко Э. То был небольшой, но отмеченный историей нормандский городок, некогда в нем осаждали сторонников Орлеанского дома, здесь состоялась встреча Луи-Филиппа с королевой Викторией[63]; город окружен холмами и лесами, подходящими для учений местного гарнизона. Там мы и расположились в старинной казарме, бывшем королевском замке на берегу тихой живописной речки, где водилась форель. Состав нашего отряда был весьма разнороден. Многие из нас имели дипломы юриста, филолога, философа; среди них — Этьен Жильсон[64], впоследствии блестящий знаток средневековой философии, ныне мой собрат по Французской академии, а в те времена кучерявый, доброжелательный балагур. Немало было учителей, державшихся вместе. И наконец, попадались юноши, сдавшие самый легкий экзамен — на звание мастера — только ради зачисления в этот взвод; в основном это были дети фабрикантов, среди них — мои приятели по Эльбёфу: Легри, Бернейм и Буле. Вскоре я полюбил полк, как раньше любил лицей. В общем-то, наша жизнь напоминала жизнь школьников. Обучали нас офицеры. Один из них, лейтенант Брейна — из-за красивых черт женственного лица мы его прозвали по легко угадываемому созвучию Шошоткой, — вел занятия по военной истории; особенно подробно рассказывал он о войне тысяча восемьсот семидесятого года. Бедняга Брейна! Ему не суждено было пережить войну тысяча девятьсот четырнадцатого. Лейтенант Излер обучал нас топографии; лет тридцать спустя я повстречал его в Париже: он дослужился до брандмайора. Лейтенант Жиродо учил нас командовать отделением на местности. Полевая учеба тоже доставляла мне удовольствие. Каждый из нас командовал по очереди: «В колонну по четыре, налево!» Надо было незамедлительно, чисто механически повторять команду: «В колонну по четыре, налево!» Если кто-нибудь отдавал приказ ошибочно, два взвода поворачивались друг к другу спиной или их ряды перепутывались. Меня забавляла эта человеческая геометрия. Полевая учеба была еще и отдыхом на природе. Что может быть прекраснее, чем стоять весной на часах с добрым товарищем на опушке леса? Анемоны, примулы, барвинки напоминали воскресные детские прогулки. Мы ложились на траву, наблюдали жизнь насекомых. Где-то через час на дальней дороге появлялся силуэт всадника. То был наш начальник капитан Мулен, отличный малый, но начисто лишенный дара красноречия. В день первой встречи он обратился к нам со словами: — У всех вас… э… одно сердце… э… которое бьется под одной шинелью… э… Мы считали, что взвод находится в Э лишь потому, что полковник спросил у капитана Мулена, куда следовало бы нас направить. — Э… — должно быть, начал капитан. — Отлично, быть посему, — сказал полковник. — Они направятся в Э. Так вот, капитан приближался к кусту, за которым мы стояли. — Э… — говорил он. — Вы видели противника? — Нет, господин капитан. — Э… а кто у нас противник? Вы хоть это знаете?.. — Сержант Филипп, Жильсон и Буле, господин капитан. — Э… Ладно… А у них на кепи есть белые повязки? — Да, господин капитан. Он уходил. Раз в неделю он заставлял нас брать приступом часовенку, расположенную на вершине холма, что возвышается над речкой Бредь. Наш единственный горнист трубил «в атаку». Трудно было себе представить, что десять лет спустя Семьдесят четвертый пойдет в атаку из настоящих окопов. Учения представлялись нам забавной игрой. Вскорости начались контрольные марш-броски: двадцать километров с полной выкладкой, двадцать четыре километра, двадцать восемь километров. Ни одна строевая песня не была забыта. У нас был обширный репертуар, правда, менее целомудренный, чем папин: «Артиллерист из Меца», «Блоха и паук», «Папаша Дюпанлу», На большом привале Жильсон развлекал нас байками. — Бескрайняя пустыня. Направо — ничего. Налево — ничего. И только посередине одинокая фиговая пальма печально склоняет голову. Под пальмой сидят три бедуина… Проезжая верхом, капитан Мулен меня отчитывал. — Э… — говорил он. — Почему вы участвуете в походе?.. Ведь вы числитесь в категории «хилых». Я отдал приказ оставить вас в казарме. Я вставал по стойке «смирно»: — Сержант предложил мне остаться в казарме, но я попросил разрешения принять участие в походе… Поход я переношу отлично. — Э… Но ведь вы хилый… Его настойчивость меня раздражала. — Господин капитан, так утверждает военврач, но я этого не чувствую. — Э… — говорил он, — я понимаю. Вы — «хилый поневоле»[65]. И он удалялся, довольный своим остроумием. Как Дизраэли[66], я всегда считал: «Либо полное одиночество, либо полное понимание». Во взводе я нашел полное взаимопонимание у Жана Легри, человека чистейшей души: он стал одним из самых близких мне людей и был им до самой своей смерти на войне четырнадцатого года. Я был неразлучен также с парижанами Деманшем, сыном нотариуса, и Арле, сыном промышленника, выпускавшего электрооборудование. Избирательное сродство душ необъяснимо. Трудно понять, что нас объединяло: мы были почти во всем различны, но вместе нам было легко и радостно. Ужинать можно было за пределами казармы, и человек тридцать образовали вечерний клуб, в котором с должным авторитетом председательствовал Жан Буле, еще один выпускник эльбёфского лицея. Мы любили высмеивать армейский порядок, но когда в том была нужда, все оказывались способными на многое. Вспоминается, как однажды в середине июня суровый, даже свирепый старшина Сакам с раздражением объявил, что мы будем участвовать в параде 14 июля с гарнизоном Э, который состоял из батальона Тридцать девятого полка. — Это будет позор-р-рное зрелище, — добавил он, раскатывая звук «р», — ведь вы, нестроевые, мар-р-ршируете, как стоптанные башмаки. Он был прав: маршировали мы плохо. Наша сотня рук не сливалась в один хлопок по ремню ружья; приклады не били о землю разом. Обучавшие нас старые сержанты и огорчались, и ругали нас, но не могли ничего добиться. Но презрение Сакама задело наше самолюбие, и мы решили, что смотр 14 июля станет шедевром военного искусства. Изумленный старшина увидел, как в свободное от занятий время мы под командованием одного из наших же товарищей занимались военными упражнениями. В скором времени взвод стал отличным подразделением, получив от этого неожиданную радость. Успех общего дела — награда для каждого. Я сохраняю об этом параде под палящим солнцем воспоминание, как о прекрасном концерте. Этот скромный опыт помог мне позднее понять механизм военной диктатуры и ее притягательность для молодежи. Показательно и значение строевой подготовки для общего духа воинской части. После 14 июля мы уже могли хорошо показать себя в бою. В конце июля взвод сдавал экзамены. Проходили они очень серьезно. Председателем комиссии был полковник Боэль из Тридцать девятого полка. В комиссию входили майор из Военной школы, эльзасец по фамилии Рингейзен, блестящий, но жесткий, и наш капитан Мулен. Мы должны были уметь командовать учениями на местности, отдавать приказы, снимать план местности, знать уставы и владеть строевой подготовкой. Мне посчастливилось вытащить билет по Уставу внутренней службы, которым я восторгался не менее, чем шедеврами Боссюэ[67]: «Дисциплина составляет главную силу армии, следовательно, командир обязан добиться абсолютного послушания со стороны подчиненных». Я говорю это искренне. В строевой подготовке я был подобен хорошо отрегулированной машине и оказался первым во взводе. По возвращении в Руан начались неприятности. Восьмерке первых на экзамене было присвоено звание капрала. Так что в полку мне пришлось отвечать за помещение, в котором жили солдаты, то есть за состояние своей комнаты и общей казармы. Но мне претило наказывать тех, кто еще вчера был мне ровней. Посему я не получал от своих подчиненных того самого «абсолютного послушания». Если я приказывал «подмести помещение», какой-нибудь пьяница или грубиян мог ответить: «Подметай сам, бездельник!» Что делать? Лишить его увольнения на двое суток? За такой проступок капитан мог дать пятнадцать суток гауптвахты, а полковник — шестьдесят восемь. Сделать вид, что не слышал? Но так недолго вообще утратить всякий авторитет. А если комнату не подмели, капитан на обходе кричал: — Что за конюшня! Кто капрал? Лишается увольнительной в город. Целый месяц я оставался без увольнения. Мне пришлось дорого заплатить за свой скромный чин. Но, проводя все время со своими, как тогда выражались, «молодцами», я узнал много приметных черт французских рабочих и крестьян. До того времени я плохо знал народ. В казарме Семьдесят четвертого я спал, столовался — одним словом, жил с ними. И я нашел в них немало наблюдательности и чуткости. Мои «молодцы» безошибочно судили о своих начальниках. Они презирали капитана, который десять лет спустя показал, что он не достоин ими командовать. Они обожали лейтенанта, который на той же войне пал смертью храбрых. Они испытывали непреодолимое недоверие к богачам и сильным мира сего. Неосознанные патриоты, они не сомневались в своем долге защищать французскую землю и были готовы пожертвовать жизнью за родину, только не в пользу «толстяков». Поначалу, узнав, что я сын фабриканта, они мне устроили «красивую жизнь». Им ничего не стоило добиться, чтобы меня наказали, достаточно было не выполнить мой приказ или выполнить его кое-как. Но, увидев, что я не жажду мщения и настроен доброжелательно, они прониклись ко мне грубоватой нежностью и стали защищать от капитана Петри, негодяя, который делал все возможное, чтобы лишить меня увольнений: «Будучи дежурным капралом, выдал тринадцать порций пищи тринадцатому взводу, который насчитывает четырнадцать человек: четверо суток без увольнения… Недостаточно чисто выметено под койками: восемь суток без увольнения». Это было нестерпимо. Пришло время генеральской инспекции, и тут разразилась драма. Петри созвал сержантов и капралов. — Генерал, — сказал он, — не переносит метел. Он считает, что поднятая ими пыль распространяет туберкулез… И требует, чтобы полы протирали швабрами. Вам раздадут швабры, а метлы до инспекции надо спрятать. Объясните это своим подчиненным. Все ясно? Я вернулся в нашу казарму и передал распоряжение. Через два дня появился генерал. Швабры находились на видном месте под ружейной пирамидой. Генерал остановился перед одним из солдат, как на грех, самым тупым. — Чем ты подметаешь пол? — спросил он. — Метлой, господин генерал. — А где метла? — Ее спрятали от вас, господин генерал. После этого случая Петри возненавидел меня окончательно и отравил последние два месяца пребывания в полку. И все же через два года я с радостью вернулся в Семьдесят четвертый. Существовало правило, согласно которому нестроевые, прослужившие всего лишь год, на учениях возвращались к солдатам своего призыва, которые служили три года. За это время мне присвоили чин сержанта, и на большие маневры я был отправлен в должности командира взвода. Я дал себе слово заниматься этим делом со всем старанием. Во всем разделяя жизнь солдат, я ночевал вместе с ними в сараях и отказывался от кровати с матрацем, которую фермеры всегда уступали сержанту. Каждое утро я объяснял как можно лучше задачу предстоящего учения. Некоторые армии хорошо воюют благодаря механической дисциплине. У французов дисциплина более сознательная. Когда мои солдаты «усекали» задачу, они действовали умно и отважно. В скором времени полковник обратил на нас внимание. — Какой отличный взвод, — сказал он капитану. — Следовало бы присвоить сержанту звание младшего лейтенанта. Но я позабыл написать рапорт, и, когда восемь лет спустя началась война, я все еще ходил в унтер-офицерах.Если бы я захотел, мне ничего не стоило бы избавиться от солдатчины. Но я провел в армии свыше восьми лет. И не сожалею об этом. В безумной Европе XX века страна стоит столько, сколько стоит ее армия, и никто не может утверждать, что знает Францию, пока не узнал французскую армию. По-моему, я ее хорошо знал и глубоко любил, хотя и не был безразличен к ее недостаткам. У нее великолепные традиции, восходящие еще к старому режиму[68], к Империи[69] и колониальным войнам. Это один из тех редких институтов, которым удалось перейти по мосту Революции. В мое время офицеры, сложившиеся в профессиональных училищах, обладали в большинстве своем достаточно высоким уровнем образования и культуры. Многие из них шли в армию, как мне об этом впоследствии рассказывал маршал Лиотей, исполненные чуть ли не мистического чувства патриотизма. Во многих армейских соединениях ошибка состояла в том, что слабо поддерживался моральный дух солдатской массы. Армия, перед которой не поставлена четко определенная задача, в конце концов засыпает. В колониях офицеры трудились. В Военной школе преподаватели-энтузиасты заражали своим пылом воспитанников. В гарнизонах же повседневная рутина порождала безразличие. Мало усилий прилагалось к тому, чтобы применять достижения современной военной науки. Политические разногласия, особенно после дела Дрейфуса, не обошли и армию. Большой заслугой Пенлеве[70], а затем и Клемансо[71], впоследствии ставших военными министрами, было то, что они предпочитали партийным страстям воинские добродетели. Что касается солдат, они во все времена были «сыновьями Франции под единой хоругвью». Они были «ворчунами», вечно недовольными, но всегда готовыми пожертвовать жизнью, лишь бы потрудились сказать им, за что. Французу нужно понимать, что к чему. На маневрах мои солдаты делали все, что я требовал, ибо я обращался с ними как с умными и свободными людьми. Француз охотно работает, если работа кажется ему полезной; если он понимает, что зря тратит время, то ожесточается. Особенно он чувствителен к справедливости; поэтому начальники должны держать слово и нелицеприятно осуждать ошибки. Таковы уроки, полученные мной в армии; они пригодились мне и на фабрике.
6. Большой совет
Совместно с дядюшками отец решил, что, отслужив в армии, я вернусь на фабрику. Но к этому времени дядей представлял один «месье Анри», ибо с «месье Луи» случился второй апоплексический удар; наполовину разбитый параличом, он лежал в ожидании смерти в том самом помещении над магазином, откуда когда-то правил семьей. Таким же образом скончались все братья Френкели. Они работали без отпусков, без роздыху до шестидесяти пяти лет, пока однажды не падали без сознания и не приходили в себя с перекошенным ртом, непослушным языком, неподвижной рукой или ногой. И тогда начиналась иная, замедленная жизнь. Кто-нибудь из старых эльзасских рабочих-пенсионеров становился сиделкой у постели слегшего хозяина. Возвращалась речь, но затрудненная; больной мог сделать несколько шагов, опершись на крепкую руку, или, как дядя Адольф, читать, лежа на диване. Каждый вечер после работы компаньоны заходили посидеть у его изголовья. «Что слышно нового?» — спрашивал живой труп. Брат, сын или племянник сообщал ему о количестве вытканных или проданных штук сукна, курсе на шерсть, о результате инвентаризации, и искорка жизни на мгновение освещала остекленевшие глаза. И так до второго удара, который предварял развязку. В 1904 году штаб фабрики состоял из «месье Анри», моего двоюродного дядюшки Анри Френкеля, старца, которого под именем «месье Ашиля» я описал в «Бернаре Кенэ»; «месье Поля» и «месье Виктора», двух сыновей Луи Френкеля; «месье Эрнеста» и «месье Эдмона» — отца и дяди. Кто же был хозяином дела? По праву старшинства — Анри Френкель, но этот угрюмый старик, отлично знавший технический процесс, не имел никакого представления об управлении. В плане общественном Поль Френкель стоял выше его. Сдержанный, образованный, знаток латинского языка, он любил представительствовать. Он представлял наше дело в Торговой палате Эльбёфа, председателем которой должен был стать. Он являлся в Руан к префекту, если надо было обсудить вопрос о заработной плате; его наградили орденом Почетного легиона сразу же после дядюшки Анри, что стало для отца, старшего по возрасту и по стажу работы на фабрике, источником молчаливых, тайных и оскорбительных страданий. Эти награждения повторялись в семье с точностью апоплексических ударов. Они служили поводом для гигантских банкетов, которые фабрика, к тому времени еще более разросшаяся, давала полуторам тысячам рабочих. В день публикации декрета в «Правительственном вестнике» от каждого цеха являлась делегация с цветами, а администрация презентовала новому кавалеру аллегорическую бронзовую фигуру «Труд» или «Размышление». Через месяц устраивался банкет в огромных складах шерсти, украшенных зелеными растениями, красными драпировками и флагами. Поль Френкель приглашал префекта, сенатора от нашего департамента, министра или даже помощника государственного секретаря. Лилось шампанское, произносились речи. Затем нормандские рабочие пели «Да здравствует нормандский сидр», а эльзасские — «Hans im Schnockenloch» и танцевали. Поль и отец открывали бал с хорошенькими работницами. В Эльзасе мой отец был отличным танцором и помнил об этом. Обстановка на таких праздниках была самой дружеской. Но если называть «хозяином» предприятия того, кто налаживает производство, то им был дядюшка Эдмон. Каждую неделю в среду вечером он отправлялся в Париж, проводил там весь день, посещал все большие магазины, в первую очередь суконщиков, всех фабрикантов сукна и возвращался в пятницу утром с многочисленными заказами или, в периоды кризиса, выслушивая столь же многочисленные упреки. Доклад, который он делал компаньонам по пятницам, был основным событием недели. Церемония проходила в главном кабинете. Это было огромное помещение, затянутое синим военным сукном, на котором висели портреты покойных дядюшек. Каждый день в семь тридцать утра там собирались читать служебную корреспонденцию. На огромном прямоугольном столе с креслом по каждую сторону лежала кипа еще не распечатанных писем. Как правило, компаньон, пришедший первым, получал право распечатывать их. Но если в это время приходил компаньон постарше, молодой незамедлительно уступал ему место. Иногда я видел по утрам четыре последовательные смены «распечатывающих». Затем пришло время, когда, после смерти старших, я уже сам распечатывал корреспонденцию — великая честь, под стать праву сидеть в присутствии короля. В день возвращения Эдмона корреспонденция отступала на второй план. Какое значение имели эти письма провинциалов, если Эдмон мог привезти из Парижа заказ на тысячу, а то и на три тысячи штук сукна. К тому же он обладал искусством превращать отчет о своем рабочем дне в драматическое повествование, излагая события строго по порядку и никогда не портя рассказа сообщением об успехе с самого начала. Даже если во второй половине вчерашнего дня ему удалось перехватить у Елена заказы «Бон-Марше», что было величайшей победой, особенно сладостной потому, что был повержен наш родовой противник, он рассказывал об этом в своем месте, начиная холодно и степенно: — Итак, в восемь часов утра я был в «Самаритен», где встретился с Меллино… он жалуется на рубцы в пальтовом драпе… Доклад Эдмона часто содержал упреки в адрес той или иной службы фабрики. После доклада отец, отвечавший за ткацкое дело, и Поль Френкель, отвечавший за аппаратуру, излагали способы устранения дефектов или отводили обвинения. Если спор затягивался, старый дядя Анри, человек нетерпеливый, быстро делал правой рукой, костлявой и волосатой, характерный жест, будто заводит невидимую машину. Это был знак того, что поговорили достаточно и пора расходиться по цехам. Отец, который был знаком со всей фабричной техникой, хотел научить меня ткать, прясть, валять, стричь. Но прежде всего я должен был уметь разбираться в шерсти. Это было труднее всего, потому что тут глаз и рука требовали навыков, которые вырабатываются только со временем. Решили, что утренние часы я буду проводить у главного сортировщика Юрсена, старого нормандца, который работал вместе со своей дочерью, крепко сбитой красоткой. Мадемуазель Юрсен сразу же напомнила мне о «Жизни холостяка» Бальзака. Она сидела прямо напротив отца перед корзиной с шерстью, подлежавшей сортировке. Каждое руно представляло собой сверток шерсти, упакованный в тюк, который сначала требовалось вскрыть. И только тогда можно было различить части овечьей шкурки — спину, бока, брюхо, шею. Если шерсть поступала из Австралии, пряди были короткими и тонкими, если из Буэнос-Айреса — более широкими, а если из Франции или Марокко, ворс был совсем грубым. Папаша Юрсен научил меня, как снимать блестящие волоски, которые не берет краска и которые портят уже выкрашенную вещь. Затем я должен был отделять первый сорт от второго. Через несколько дней отец поинтересовался моими успехами. — Ну что, получается у него? — спросил он у папаши Юрсена. — Врать не стану, — сказал старик, — парень очень старательный, Эрнест. Но не особо умный. Драгоценный урок.Пополудни я шел в прядильню и ткацкую. Прядильня, где бесшумно вращались валы чесальных машин, а прядильные машины тянули дрожащие полотна, рассекаемые лучами фонарей, была царством порядка и красоты. Но я не любил ад ткацкой. Все здание дрожало от грохота станков. На всех улицах Эльбёфа слышался этот жесткий ритм, словно билось сердце города. В аппретуре я стал учеником папаши Фрица, старого эльзасского чародея, который обучал меня искусству «ворсования», то есть начесывания ворса на сукне и доведения его до блеска. Для этого использовались натуральные ворсовальные шишки. Эти рассортированные на тридцать видов в зависимости от времени сбора и длины колючек репьи играли необычайную роль в совершенствовании аппретуры. Старый Фриц рассматривал сукно с апломбом знаменитого врача. Он его щупал, проверяя на прочность, затем выносил приговор: — Тут свежая шишка не пойдет. Фабрики Северной Франции уже были оснащены ворсовальными станками со стальными крючками, но папаша Фриц не без резона оставался верен богатым возможностям природного материала. На нашу беду, как я в скором времени узнал, наш красивый и тяжелый драп, предмет отцовской гордости, продавался все хуже и хуже. Мужская одежда изменилась. Сюртуки из эльбёфского драпа встречались только в устаревших романах. Даже Бретань отказывалась от суконного пиджака в полоску в пользу республиканского сюртука. Гордостью нашей фабрики было производство черного сукна, но добропорядочное однообразие буржуазии XIX века сменялось стремлением к узорам и краскам. Правда, нам помогали выжить женщины, которые покупали одноцветные сукна — «амазонки», но, когда я поступал на фабрику, сумма оборота падала. Ранее она достигала десяти миллионов, теперь приближалась к девяти, а общие расходы оставались прежними. Этот постоянный спад ставил важные вопросы. Я расспросил рабочих разных цехов, сколько они получают, и ужаснулся, узнав, как мал их заработок. Ткач получал от двадцати до тридцати франков в неделю. Мне казалось, что для нормальной жизни этого совершенно недостаточно. — Но что делать? — спросил отец, которому я все это высказал. — Мы зарабатываем от трех до пяти процентов с оборота. Если бы ты даже целиком упразднил прибыль — вещь невозможная, ибо надо обновлять капитал, станки, — и разделил ее на полторы тысячи рабочих, то каждому из них досталась бы самая малость… — Хоть что-то это им все-таки дало бы. — Но недостаточно для того, чтобы изменить их образ жизни. А на что жил бы ты сам? Я спросил: — Нельзя ли продавать по несколько более высокой цене? — Ты отлично знаешь, что конкуренты этого не потерпят. Как только мы увеличим цену метра «амазонки» на десять сантимов, нас оттеснят Блен и фабриканты Северной Франции. — А если бы все французские фабриканты договорились одновременно поднять и цены и заработную плату? — Тогда зарубежные фирмы овладели бы французским рынком. — Его можно было бы защитить таможенными тарифами. — Разумеется. Но есть предел, который будет скоро достигнут страной, нуждающейся в экспорте, как наша. Немедленно последовали бы запретные меры против наших вин или предметов роскоши, а их производители обратились бы с просьбой в парламент. — Что же тогда можно сделать? — Я пытаюсь, — сказал отец, — уменьшать себестоимость, улучшая качество станков и увеличивая их производительность. Фабрика, которая производит в лучших, чем у других, условиях, может больше платить своим сотрудникам и рабочим. Ты видел новый автоматический станок? Одна работница может работать за двоих, что позволяет увеличить ей заработную плату. — Но таким образом упраздняется одно рабочее место? — Очевидно… Этот рабочий вопрос приводил меня в сильное смятение. Как говорилось выше, Шартье, который не был социалистом, говорил о социализме умно, с симпатией. Воспитанный им, я стремился не стать соучастником несправедливости или тем более грабежа. С отчаянием представлял я себе страдания работницы, обремененной детьми и не имеющей возможности растить их в пристойных условиях. С другой стороны, когда я видел жизнь такого человека, как отец, я убеждался, что он совершенно иной, нежели буржуа, описанные Золя в «Жерминале». «Если бы идеально организованное общество, — размышлял я, — искало для руководства заводом человека компетентного, справедливого, работящего, скромного, простого, умеренного во вкусах, оно не нашло бы более совершенного, чем отец». Кроме того, я ясно видел — от меня не было секретов, — что личный доход, как мне и говорил отец, составляет крошечную часть прибыли. Что следовало в таком случае думать? И в чем состоял наш долг?
Мой бывший преподаватель математики Мушель, социалист, стал мэром Эльбёфа. Я частенько встречал его на улице: усы влажные, сюртук измазан мелом. Он меня останавливал, дабы изложить свои планы. «Несколько крупных предприятий, — говорил Мушель, — газовая и водопроводная компании эксплуатируют этот злосчастный город. Я решил обходиться без них, не возобновлять контракты и построить свой газовый завод. Понимаете? Кроме того, я строю другой завод, где будут сжигаться все промышленные отходы. Таким образом, я получу бесплатную энергию. Понимаете, а? Через десять лет с доходами от муниципальных производств это будет самый передовой в социальном отношении город во Франции». Я поделился с ним своими сомнениями и опасениями — что до него, то он, естественно, был против всех форм капитализма. «Главная несправедливость, — сказал он, — состоит в том, что концентрация рабочих обеспечивает сверхприбыль, и эта сверхприбыль под названием доходов конфискуется капиталистами. Понимаете?» Нет, я не понимал. Я считал, что Мушель не прав, утверждая, что сверхприбыль приносили только рабочие. В таком промышленном районе, как Нормандия, две фабрики, почти однотипные, с одним и тем же количеством рабочих, приносили прибыль или убыток в зависимости от того, хорошо или плохо ею управляли. Сама продукция увеличивалась или уменьшалась в зависимости от способов, используемых администрацией. Но одна из форм социализма продолжала меня увлекать. Я допускал, что мой отец был праведником. Мне казалось возможным пойти дальше, нежели он, и стать святым, отдав фабрику рабочим и продолжая ею управлять. Это представлялось мне делом чести. Иногда по вечерам я. намечал себе такой жизненный путь. Но при свете зари понимал, сколь трудно было бы изложить свои планы на заседании Большого совета под проницательными взорами портретов покойных дядюшек.
Зато вечера принадлежали мне. Почти всегда я проводил их в отчем доме. Благодаря уединенной провинциальной жизни я прочитал книги, ставшие самыми любимыми. Всего Сен-Симона, Тэна, Сент-Бёва (и, в частности, «Пор-Рояль»), Огюста Конта, Маркса, всего Бальзака и множество научных книг. Читая, я делал заметки, и у меня были, вплоть до последней войны, большие тетради в картонных обложках, куда по вечерам я заносил свои мысли. Теория света и звука по Гельмгольцу соседствовала с анализом «Капитала», взволнованная заметка о «Лишенных почвы»[72] — рядом с точной и сухой заметкой о «Грамматике науки» Пирсона[73], Анри Пуанкаре[74] — с Вильфредо Парето[75]. Я никак не мог насытиться. Тем не менее с неизменным удовольствием возвращался все к тем же писателям: Бальзаку, Стендалю, Толстому, Киплингу. В двадцать лет мне особенно был близок Левин, не удовлетворенный своей жизнью, готовый отказаться от светских удовольствий и подчинить себя жестким ограничениям. Затем я пришел к мысли, что князь Андрей из «Войны и мира», дисциплинированный, молчаливый солдат, который безропотно приемлет судьбу, являет собой более высокий человеческий идеал. Меня прельщала мысль Марка Аврелия, что нетрудно быть мудрецом в одиночестве, но куда сложнее и благороднее оставаться мудрецом на троне в самой гуще мирских дел. Именно здесь, казалось мне, и было решение моей нравственной проблемы. Оно было небезопасно, ибо дьявол мог выбрать этот путь, дабы усыпить совесть императора или богатея. Все же именно Киплинг играл главную роль в становлении моих взглядов. Радикальным воззрениям Шартье, гражданина, восставшего против власти, человека, который больше всего на свете боялся тирании, Киплинг противопоставлял идею совершенно необходимой иерархии. Всякое общество, разделенное на враждующие части, погибнет само собой, учили меня рассказы Киплинга; всякое общество, не признающее вождя, обречено на гибель. Даже зверь, чтобы выжить, добровольно подчиняется законам джунглей. Но герои Киплинга, со своей стороны, должны были доказать свое право на власть свободным самоотречением и храбростью. Мне нравился его индийский герой: мастер высокого класса, преданный телом и душой своему делу, загадочный и молчаливый, верный с друзьями, строгий с мятежниками. Именно в нем я находил черты идеального промышленника. Мои тетради в картонных обложках хранят страстные диалоги с самим собой, где я поочередно защищаю взгляды Киплинга и Шартье. У всякого писателя есть свои личные темы, проекции сильных чувств, которые даже против его воли сквозят в его книгах. Так, Стендаль, целиком поглощенный темой молодого человека, каким он хотел бы стать, рисует его под именами Фабрицио, Жюльена Сореля, Люсьена Левена; так, Диккенса преследует образ женщины-ребенка. Хотя я тогда и не отдавал себе в этом ясного отчета, внутренние диалоги помогали сложиться мне как писателю, чьей главной темой станет противопоставление двух в равной степени искренних чувств и необходимость, дабы продолжать жить, примирения этих двух половинок собственного «я». Понемногу, благодаря ежедневному контакту с людьми и вещами, я начал догадываться о том, что понятия о действительности, привитые мне в школе, не присущи реальному миру, состоящему из множества человеческих существ, лысых или длинноволосых, близоруких или дальнозорких, с тонкими или жирными губами, с сильными или еще не проснувшимися аппетитами, страстями, желаниями, любовными увлечениями, безумствами. «Следует описывать, — нередко говорил я самому себе, — не абстрактный мир, где бесцельно сталкиваются различные формулы, а мир из плоти и крови, где все одновременно взаимодействует. Рассуждая отвлеченно, можно счесть, что католики, протестанты, иудеи представляют собой три враждебные группировки, но на улицах Эльбёфа аббат Аллом, пастор Рерих и отец, прогуливаясь вместе, составляют единое человеческое содружество. Вот об этом и следует писать…» В бессонницу я сочинял в уме прекрасные романы со счастливым концом, но поутру был не в состоянии взяться за перо.
7. Письмо делового человека
В детстве и отрочестве я мечтал стать писателем. Работа на фабрике не благоприятствовала этому замыслу. Но я не оставлял надежды. За последние годы, проведенные в лицее, я написал несколько рассказов: полковая жизнь вдохновила меня на повесть «Капрал Гоше», жизнь в Руане и Эльбёфе дала материал для рассказа «Союз». Уже этого было достаточно для издания книги. Я мечтал о-ней. Но с чего начать? В литературном мире я никого не знал. Парижские издатели казались слишком могущественными и недоступными. Я не догадывался, что каждая рукопись, отправленная в издательство, передается рецензенту и находится в равных условиях с другими. И посему решил отнести сборник своему другу, руанскому печатнику Вольфу, который издавал скромный «Лицейский журнал», и опубликовать книжку за свой счет. Через несколько недель я получил верстку. Лицезрение моих выдумок в напечатанном виде доставило мне некоторое удовольствие, я их перечитал. Увы! Впечатлению, что я создал шедевр, помешало увлечение классической литературой. Один из рассказов, «Последний летописец», был довольно оригинален, по крайней мере по сюжету. Я нафантазировал, что благодаря невероятному техническому прогрессу к десятитысячному году человечество полностью обходится в труде и даже на войне без применения физической силы. Женщины постепенно овладевают властью и, консервативные по природе, превращают человеческие сообщества в ульи. Большинство из них, бесполых, становятся работницами: всегда в серой форме, они ухаживают за детьми или собирают запасы продовольствия. Несколько королев обеспечивают воспроизводство рода. Что до самцов-трутней, разодетых в яркие кафтаны, то они сидят на ступенях ульев в ожидании краткого часа свадебного полета, играя на гитаре и сочиняя грустные стихи. Под страхом смерти женщины запретили им читать и писать, опасаясь восстания. Человек, который в моем рассказе все это описал, был последним грамотеем и, делая свои записи, прятался от взглядов посторонних, но, очевидно, на него донесли: он увидел приближающуюся к нему работницу-амазонку, потрясающую маленьким копьем с отравленным наконечником. Рассказ останавливался на середине фразы и не мог быть продолжен, ибо после казни рассказчика не осталось ни одного грамотного. Это было неплохо придумано, и если не совершенно, то, во всяком случае, неплохо сделано. Полковой рассказ, написанный в киплинговском ключе, также обладал некоторыми достоинствами: он был иллюстрацией к высокой и вместе с тем реалистической мысли об искусстве командования. Все прочее было слабо и явно композиционно не выстроено. Это относилось к отдельным рассказам, но и весь тон сборника не имел интонационного единства, которое присуще, скажем, сборникам Киплинга или Мопассана. У меня хватило ума это понять. Я сообщил своему другу-издателю, что, к сожалению, отказываюсь от публикации книги и он может уничтожить сие сочинение. Он попытался меня переубедить, но голос критика одержал во мне победу. «Напечатайте хотя бы дюжину экземпляров! — сказал он мне. — Это вам обойдется не дороже уничтожения верстки». Я согласился — и от моей первой попытки остались двенадцать тонких книжек в голубых переплетах, без заглавия и имени автора. Осталось и огорчение, которого никто не заметил, потому что я был очень скрытным и не любил жаловаться. «Теперь, — думал я, — с этим покончено: буду постепенно увязать в рутине. Еще три, пять, десять лет влияние Шартье, Стендаля будет сказываться. Затем инерция и житейские заботы сделают меня безразличным к литературе. Я буду говорить только о станках, тканях, заработной плате. В почтенном возрасте заступлю на место Поля Френкеля в качестве председателя Торговой палаты. По утрам буду, как отец, обходить цеха до того дня, как упаду, в свою очередь, загубив в этом склепе свою короткую и единственную жизнь…» Я предавался этим мрачным мыслям, сидя вечерами перед раскрытой книгой, которую не мог читать, пока отчаяние не толкнуло меня окунуться в местный свет, которым я до сих пор пренебрегал ради прилежных бдений. В Эльбёфе, как и в большинстве маленьких французских городов, насчитывалось несколько приятных семейств, состоящих из людей образованных. Мой товарищ по полку Жан Буле женился на очаровательной женщине, мой двоюродный брат Робер Френкель (он был чуть старше меня), толковый парень, приятный собеседник,хорошо подкованный в истории, женился на красивой итальянке Ольге Аллатини, которая разделяла мое пристрастие к музыке; семейства Блен и Бессан дополняли этот кружок красивых женщин и веселых мужчин, ведущих вольные и оживленные беседы. Вскоре я стал бросать на два-три дня в неделю свою вечернюю работу и присоединяться к ним. Так как я все же не мог не писать, то сочинил для нашей любительской труппы сначала журнал, потом комедию и испытал в этом узком кругу радости, выпадающие на долю драматурга. У меня хватало ума на то, чтобы видеть всю тщету образа жизни, который я тогда вел, и ничтожность и даже жуткую вульгарность сочинений, принесших мне маленькую местную славу. Но, разочарованный, отчаявшийся, я начинал разрушать в себе благородное представление о ремесле писателя, испытывая мрачное удовольствие женщины, предающейся распутству, когда она разочаровалась в истинной любви. Единственным человеком, который понимал, что со мной происходит, был Шартье. Он, покинув Руан, оставался учителем как для меня, так и для многих других, даже больше, чем когда-либо. Газета «Руанский курьер» начала в 1906 году публиковать его ежедневные размышления, которые я находил превосходными. Каждый писатель, как бегун, имеет дистанцию, на которой показывает свой лучший результат. У Шартье рассуждение на две страницы становилось и поэмой, и назиданием, и стилистическим шедевром. «Это мой коронный трюк, — говаривал он. — И только раз из ста он может не удаться». Он удавался ему почти всегда. Примечательно, что нормандские читатели сразу же заметили: «Руанский курьер» предлагает им в этих «Беседах» нечто совершенно новое, из ряда вон выходящее. Получив газету, многие из нас читали сначала «Беседы», потом новости. Это был наш утренний «моцион», необходимый и полноценный. Многие вырезали «Беседы» и сохраняли их. И действительно, статей столь высокого журналистского уровня не было и не будет. То, что ни один читатель не пожаловался на сложность «Бесед», на их насыщенность мыслью, делает честь человеческому разуму. Шартье подписывал «Беседы» псевдонимом Ален (разумеется, в честь поэта Алена Шартье) и впоследствии обрел известность именно под этим именем. Когда мне удавалось, довольно редко, провести несколько дней в Париже, я его навещал. Он стал преподавателем в лицее Кондорсе и жил поблизости от него на улице Прованс — занимал маленькую комнатку с кроватью, пианино и библиотекой из тридцати томов, которую считал необходимой и достаточной. Сидя рядом с ним на продавленном диване, я переносился в другой мир и готов был во всем довериться ему. Он выслушивал мои отчаянные признания в том, что я с юношеским максимализмом называл своей «духовной деградацией». «Легкомыслие, — говорил он, — чувство сильное». Суждения Алена о женщинах, как и суждения о них любимого им Стендаля, колебались от обожания до цинизма. Никто лучше него не писал о таких романах, как «Лилия долины» или «Пармская обитель». Но он также говорил: «Всякое не нашедшее выхода желание — яд. Если вам хочется посмотреть на голых женщин, ступайте в бордель». Думается, он считал меня склонным к опасным романтическим увлечениям, ибо неоднократно советовал быть циником. Прочитав «Сладострастие» Сент-Бёва, я обнаружил свои черты в юном герое, который испытывает возвышенное чувство к недосягаемой для него женщине, а покинув ее, осваивает веселые кварталы Парижа. По вечерам в Эльбёфе я наблюдал за молодыми замужними дамами и писал для них стихи, полные восхищения, которые боялся им показывать, а в субботу вечером, будучи в Руане, добивался при помощи билетерш свиданий с покладистыми танцовщицами из «Фоли-Бержер». Когда в Америке, а позднее и во Франции я наблюдал в отношениях между молодыми людьми и девушками раскованность при определенном равенстве влюбленных в культуре и обращении, я приходил к выводу, что эта молодежь, без сомнения, более счастлива. В наши времена в маленьких провинциальных городах девушек столь строго оберегали, а ранние браки столь ханжески не поощрялись, что молодой человек поневоле шел к профессионалкам. Это было опасным началом для любви и для-жизни. Тело и душа заражались пагубными пристрастиями. Душа, не найдя ответного столь же пылкого чувства, искала пристанища в мечтаниях. Тело приучалось отъединять желание от чисто душевной привязанности. Некоторые доходили до того, что стремились к обладанию только теми женщинами, которых презирали. Все это разочаровывало, да и было губительно для здоровья. В 1906 году народный университет Руана попросил меня прочитать лекцию. Я согласился и с удивлением обнаружил в себе способности оратора. Неразговорчивый в обыденной жизни, я начинал свободно разглагольствовать на кафедре. Эти лекции в Руане вернули меня к творческому труду, так как требовали серьезной подготовки. Они помогли мне обрести друзей и верную аудиторию. Политическая жизнь в Эльбёфе была в то время довольно оживленной. До дела Дрейфуса Нормандия считалась консервативной, затем победу одержали радикалы, и нашим депутатом стал Май, бравый нормандец с лицом римского императора, чей радикализм был настолько неярко выражен, что даже самые боязливые буржуа не могли желать лучшего. Но на выборах, которые состоялись сразу после моего поступления на фабрику, наш бывший преподаватель математики Мушель, мэр Эльбёфа, захотел стать еще и депутатом. Жорес[76] приезжал за него агитировать. Искусный оратор, он буквально затопил наш цирк, готовый развалиться, потоком прекрасных метафор. В начале избирательной кампании знатоки местной политики смеялись над кандидатом без денег, без опыта, который в своих выступлениях поднимал технические вопросы и приговаривал: «Понимаете? А?» Они забыли, что французы любят учителей. «Этот человек, — сказал мне папаша Юрсен, старый сортировщик шерсти, — говорит назидательно. Такие мне нравятся». Мушель обещал уменьшить денежное вознаграждение депутатам парламента и, сам оставаясь в бедности, сопротивляться всем парижским соблазнам. Его искренность трогала людей. В день голосования его избрали значительным большинством. Я агитировал в его пользу. С первых же дней своего депутатства он вызвал некоторое волнение в Бурбонском дворце, ибо осмелился, как и обещал, поставить вопрос о сокращении денежного содержания депутатов. «Почему, — спрашивал он, — мы, депутаты, живем лучше большинства наших избирателей?» Всеобщий ропот вынудил замолчать этого возмутителя спокойствия. Чуть позже он заявил протест по поводу того, что палата депутатов работает слишком мало. «Почему бы нам не собираться в семь часов утра, — сказал он, — и не принимать бюджет в положенное время?» И правые и левые считали его демагогом, но он был уверен в своей правоте. Я иногда встречал его на улицах Эльбёфа. «Наша муниципальная фабрика начала работать вовсю», — гордо заявлял он, пожевывая влажный ус. Я знал, что фабрика работала из рук вон плохо и отравляла чудовищными запахами газа целый квартал. На «аллее вздохов», где летом по вечерам прогуливались влюбленные, было нечем дышать, но Мушель чувствовал себя на седьмом небе. «Быть депутатом-мэром, — говорил он мне, — вот это жизнь! Что ни день — то событие. Вот вы, кажется, собирались стать романистом? Ах! Если бы вы только могли наблюдать романы, которые я вижу!.. К примеру, сегодня утром меня вызывают в городскую тюрьму: там один повесился. Тело еще теплое… Почему он покончил с собой? Я сейчас же начал расследование. Это необычайно увлекательно… Понимаете? А?» Вскоре по городу стали ходить тревожные слухи. Говорили, что муниципальная фабрика не может покрыть расходов: бедняга Мушель без разбора принял на фабрику всех своих избирательных агентов. Один из них, некий Д., хитрый и изворотливый нормандец, ткач у Блена, был назначен администратором предприятия за некие неясные заслуги, несмотря на полную некомпетентность. В кассе не хватало денег. Город занял два миллиона, чтобы оплатить строительство, и пришлось занимать еще, чтобы обеспечить работу фабрики. Префектура заявила протест: она не могла разрешить новые займы. Разве можно допустить, чтобы город Эльбёф обанкротился? Однажды поутру, когда мы пришли на фабрику, взволнованный консьерж сказал отцу: «Мушель покончил с собой». Я побежал в мэрию. Тело еще лежало на тротуаре; ждали представителя правосудия. Мэр-депутат провел ночь в своем кабинете, подбивая кассу, а на заре пустил себе пулю в лоб из большого револьвера офицера запаса. Его секретарь, славный парень, который был предан ему всей душой, весь в слезах рассказал мне, что накануне мэр то и дело повторял: «Я совершил ошибку… Я должен заплатить…» Но самопожертвование одного честного человека ничего не меняло. Эта смерть вылилась в триумф местных консерваторов, которые с самого начала авантюры предсказывали полное поражение. «Вот до чего доводит социализм!» — говорили они. Одна из «Бесед» Алена стала прекрасным надгробным словом Мушелю: «В этой драме, разыгравшейся в Эльбёфе, нам, по сути дела, не о чем жалеть и не от чего отрекаться. Использовать смерть праведника как аргумент против его веры — логика сытых…» Статья была замечательно написана. Она меня взволновала, ибо я любил Мушеля всем сердцем. Но на этот раз я впервые позволил себе не согласиться со своим учителем. Я написал ему: «Как и вы, я оплакиваю смерть праведника, но не считаю, что нам не о чем жалеть. По-вашему, выходит, что желать хорошего управления фабрикой или сожалеть о гибели города — логика сытых… Но разве истинная победа над сильными мира сего не состоит в том, чтобы управлять фабрикой и городом лучше, нежели они? Вы, Ален, капитан прогулочной яхты, и вам безразлично, когда вернуться в порт. А я — лоцман на борту торгового судна; и только огни порта обещают мне отдых». Два дня спустя, раскрыв «Руанский курьер» и сразу отыскав, как всегда, «Беседы» Алена, украшение и гордость газеты, я обнаружил, что он целиком опубликовал мое письмо под заглавием «Письмо делового человека». На следующий день он ответил мне в очередном «Рассуждении». Я снова ему возразил. «Я получил, — писал Ален, — новое и очень сильное письмо от делового человека о драме в Эльбёфе». С тех пор мои письма стали частью «Бесед». Он любил, когда я говорил о «деле» или описывал «дядюшек», которых он справедливо считал бальзаковскими персонажами. Вдохновляясь ими, он создал для своих «Бесед» образ человека по имени Кастор[77], который был своего рода папашей Гранде от промышленности, ограниченным, осторожным и рассудительным. Некоторые из максим «месье Анри» приводили его в восторг: «Все сведения лживы», и еще: «Недостаточно отдать распоряжение, надо еще самому его исполнить». Примечательная черта: радикалу Алену скорее нравилось, что у меня складывалась система политической философии, которая отличалась от его системы, но соответствовала, как он полагал, моей роли главы производства. «Я долгое время опасался, — сказал он мне однажды, — что вы станете слишком умным. Теперь я спокоен». Это заключение, внешне очень суровое, доставило мне странное удовольствие — оно исходило от читателя Бальзака и Конта, человека, который говорил: «Любое доказательство для меня фальшиво». В годы моего учения он опасался, что у меня разовьется абстрактный склад ума, который блистательно жонглирует словами и понятиями. То, что я стал «деловым человеком», представлялось ему необычайно важным. «Теперь, — ласково говорил он мне, — вы стоите дороже всех этих пустословов». Отец решил, что каждый год фабрика будет предоставлять мне месячный отпуск. В первый раз я провел его в Англии: с ранних лет я был вскормлен английскими поэтами и романистами, чувствовал свое близкое с ними родство и хотел получше узнать язык. Я поместил в одной лондонской газете объявление, в котором просил взять на пансион молодого француза. Пришла добрая сотня ответов. Я остановился на вдове, которая жила под Ричмондом, на Темзе, и имела трех дочерей шестнадцати, восемнадцати и двадцати лет. Это мое первое пребывание в Англии напоминало пьесу итальянской комедии или главу о семействе мистера Микобера[78]. Моя хозяйка миссис Д. была вдовой учителя танцев, происходившего из добропорядочной нормандской семьи; в наследство ей он оставил одно честное имя. Когда я жил у нее, единственный доход семьи, похоже, составляли именно те тридцать шиллингов, которые я выплачивал еженедельно. На эти деньги мы все и должны были жить; поэтому трапеза представляла собой нечто весьма эфемерное, но три сестры, Флоренс, Мэри и Дафна, были очаровательны. Если мне хотелось пойти с одной из них в театр или на речку, я должен был покупать вечернее платье или шляпку, ибо у них ничего не было, но какое это имело значение? Они были молоды и веселы. С ними я смотрел спектакли по первым пьесам Шоу, музыкальные комедии, а на обратном пути мы распевали новые куплеты и песенки Пелисье, которые обожал весь Лондон. Поначалу я относился ко всем троим беспристрастно и вывозил в свет каждую по очереди, затем старшая, Флоренс, вышла на первый план. Нежная брюнетка со взглядом Мадонны Ботичелли, она вела себя очень смело. Каждый вечер я добирался с ней до Ричмонда, брал лодку, и мы катались по Темзе. Острова на середине реки были окружены ивами. Мы привязывали лодку к одной из них и ложились рядышком на дно. В такой день мы далеко не уплывали. — Знаете ли вы, — спрашивала Флоренс, — что у нас называется поцелуем бабочки? Я этого не знал, но выражал полную готовность научиться. — Что касается меня, то я не люблю французские поцелуи, — говорила с вызовом Флоренс. Я пытался ее переубедить. Так протекали часы. Наступал вечер, и из бесчисленных лодок, окружавших острова, доносились взрывы смеха, вздохи и песни. Сколько очаровательных, беспечных дней, «запечатленных на воде», провел я между Ричмондом и Кью, под ивами благословенных островов! Удовольствия эти были небезопасными; прежде всего надлежало остерегаться прилива, на Темзе очень сильного. Иногда, потеряв счет времени, Флоренс и я забывали отвязать якорную цепь и неожиданно обнаруживали, что уровень воды упал и нос нашей лодки висит в воздухе. Дабы избежать катастрофы, я должен был проползти вдоль всей лодки до носа и высвободить веревку. Наши злоключения забавляли соседние парочки. Второй опасностью, более серьезной, оказалась любовь. Флоренс уже была невестой одного очень богатого рижского банкира, который в прошлом году жил у вдовы на пансионе. В конце августа она должна была к нему уехать и стать его женой. Я мучительно переживал, что потеряю ее в ближайшее время, но что я мог ей предложить? Когда наступил час разлуки, я пошел провожать ее с матерью и сестрами. В дорожном костюме она была, как сказал бы Стендаль, божественна. «А почему бы вам не поехать со мной? — предложила Флоренс. — Вы вернетесь во Францию из Риги, и мы будем счастливы еще неделю». Искушение было сильным, но я дал слово быть на фабрике первого сентября, а к своим обязанностям относился фанатически. Я оторвался от нее и побежал к сходням.8. Сильфида
Когда я вернулся на фабрику, было решено, что я должен пройти стажировку в различных цехах, прежде чем приступить к руководству конкретной службой. Жизнь рассудила иначе. Каждый год в конце июня проходил церемониал под названием «инвентаризация». По сути дела, речь шла об обыкновенном подведении баланса. В колонку «дебет» заносили капитал, долги, в колонку «кредит» — здания, оборудование, долговые обязательства, запасы сырья и продукции на складах; разница между колонками означала убыток или прибыль. Но учет складов большой фабрики, операция ныне упрощенная благодаря новым методам и счетным машинам, представлял собой нелегкий труд с сомнительным результатом. Посему инвентаризация превращалась в захватывающую драму с многочисленными перипетиями. В течение двух недель все служащие только и были заняты, что подсчетами стоимости сукна в производстве, ящиков с нитками… Отец в окружении своего штаба выкрикивал: «833 772… Кожа Ганнибал… Пятнадцать килограммов основы по три франка пятьдесят, шестнадцать кило уточной нити по три франка пятнадцать… 883 775… „Амазонка Дебюсси“… Шесть кило основы по восемь франков, одиннадцать кило уточной нити по три франка пятьдесят…» Счетчики сводили списки. Каждый вечер начальники служб цехов сообщали в Большой совет примерные результаты: «На складе продукции на одиннадцать тысяч франков… В производстве находятся одиннадцать тысяч штук сукна, так что средняя цифра будет примерно двести пятнадцать франков…» Каждый, чтобы уберечься от преувеличения, называл цифру меньше той, на которую надеялся выйти, и итоги всегда казались зловещими. В канун великого дня инвентаризации обнаруживались огромные убытки. На следующий день после нескольких сцен результат становился таким, каким был ежегодно с 1871-го: скромная прибыль в пределах нормы. Во второй год моего пребывания на фабрике эта установившаяся традиция была нарушена. В тот год по мере приближения назначенного часа конечный результат казался все более и более плачевным. Когда он был обнародован, пришлось признать, что год оказался катастрофическим. Это было серьезно. Предприятие, которое теряет доходность, быстро движется навстречу гибели. Чем была больна наша фабрика? Что за рак пожирал ее? У владельцев совесть была чиста: они сделали все, что могли, никаких послаблений, никаких излишних расходов, но их подвела капризница-мода. Великолепные черные сукна, однотонный драп, тот вид ткани, в котором они поднаторели, раскупался все хуже и хуже. Они потому теряли деньги, что сумма оборота снижалась, в то время как общие расходы оставались прежними. Вот уже который год Эдмон в своих докладах по пятницам твердил: «Если мы не перейдем на выпуск пестрых тканей, я больше не отвечаю за снижение доходов». Поначалу дядюшки только пожимали плечами: пестрые ткани — не их дело. «Цветочек покраснее или позеленее! — говорил с отвращением г-н Анри. — Ты этого добиваешься? Нет, мы фабриканты черного сукна. Каждому свое». Но плачевные итоги инвентаризации требовали героических усилий. Было решено создать цех пестрых тканей, руководство которым возлагалось на некоего месье Дени, я же назначался его помощником и должен был овладеть новым ремеслом. Месье Дени был щеголеватым красавцем увальнем, вполне безразличным к работе. Он носил цветок в петлице и весь день курил. «Цветок!.. В конторе!» — возмущался дядя Анри. Месье Дени пришел с фабрики Бретона в Лувье, маленьком городке по соседству с Эльбёфом, и мог бы научить нас производственным секретам при условии, что был с ними знаком. Но он не знал ровно ничего. Истинным создателем тканей на фабрике Бретона был сам Бретон, и вскоре нам пришлось убедиться, что Дени совершенно не способен создать «коллекцию», которая нам так была нужна. Обескураженный беспомощностью Дени, тревогой отца из-за уменьшения заказов и угрозы безработицы, я наконец осмелился ему сказать: «Да за чем дело стало? Находить каждый сезон несколько дюжин новых расцветок, следить за модой и подбирать сырье — только и всего!» Это казалось мне не труднее, чем написать латинское сочинение или решить задачу по геометрии. Но мне не хватало технических знаний. Мне были известны только самые основы ткачества. Однажды утром, когда на заседании Большого совета все как один признали полную несостоятельность Дени, я решился взять слово: «Увольте Дени, возьмите вместо него хорошего технического специалиста и позвольте мне попытаться составить с его помощью нужную коллекцию…» Моя дерзость вызвала нарекания, но все же я своего добился: томного Дени с цветком в петлице заменили Мартелем — здоровенным техником в синей спецовке; вместе с ним я приступил к работе. Прежде всего надо было дознаться, чего желает потребитель. Что это за английские и французские модели, о которых рассказывали чудеса? Несколько старых клиентов, друзей нашей фирмы, просветили меня. Они же дали образцы. Мартель их распустил на нити и указал составные элементы. Мой письменный стол был завален пакетиками с образцами разноцветных ниток. И тут я понял: чтобы сделать это узорчатое чудо, нужны сотни оттенков и комбинаций. Неужели мои старики-рутинеры, так боящиеся всего нового, согласятся дать мне на это необходимые средства? Когда мы с Мартелем разработали проект, я показал его отцу. Он нашел его слишком масштабным. Я урезал его. Торговцы, получавшие образчики тканей, поставили меня в известность, какие рисунки и расцветки запустят англичане на будущий год. Надо было, сохраняя модный стиль, придумать что-нибудь новое. Здесь-то и помогло мне знакомство с азами изобразительного искусства. «Прекрасное, — говорил нам Ален вслед за Кантом, — понятно без размышлений». Это равно справедливо по отношению как к ткани, так и к памятнику, картине или стихотворению. Мы с Мартелем взялись за создание понятных, простых и элегантных образцов. Мы проводили наши изыскания на маленьких станках Жаккара, уцелевших с прошлого столетия; ими управляли вручную старые мастера. Всю зиму Мартель и я работали на пределе возможного. Наконец к весне наш первый комплект образцов был готов. Он был не слишком велик, зато отличался разнообразием и изяществом. «А теперь, — сказал Эдмон, — в ближайший четверг ты поедешь со мной в Париж». Большой совет вздохнул, но смирился. Молодого человека берут в Париж! Подумайте, какое новшество! В среду вечером, как это было принято, в цилиндре и сюртуке я отправился в путь. Нас приняли радушно. Старые торговцы сукном Дормёй, Пезе, Шере, которые так давно знали нашу фабрику, жалели, что не могут более делать ей заказы. И были рады новым образчикам, к которым отнеслись с великодушной снисходительностью. Я вернулся вечером, продав все узоры и набрав заказов на три или четыре сотни штук сукна. Но мой запас моделей был исчерпан. Я не предполагал, что каждая крупная фирма пожелает приобрести ткань в эксклюзивное пользование, а значит, ассортимент должен быть куда обширнее. Но и этот скромный успех внушил доверие «старикам», и на следующий год мои полномочия расширились. Три года спустя мой отдел узорчатых тканей уже выпускал от восьми до десяти тысяч штук сукна в год, и сумма общего оборота фабрики превосходила на несколько миллионов цифры, достигнутые в годы наибольшего ее процветания. Моя личная заслуга в этом была невелика. Старая фабрика — это крепкий, могучий организм, всегда готовый к работе. Моя роль сводилась лишь к тому, чтобы сделать рывок, приближающий ее к новым временам; и она оказалась на высоте. Я чувствовал себя губернатором колонии, за спиной которого — сила и богатство обширной империи. В двадцать три года я стал самостоятельным и полноправным хозяином солидного промышленного предприятия. И нажил собственный опыт. Поколение дядюшек ничего не смыслило в новом для них ремесле. Они позволили мне делать свое дело, а поняв, что зависят от меня, даже зауважали. Я помнил о несправедливости, от которой страдал отец, и, как только окреп, стал добиваться того, чтобы дело именовалось «Френкель и Эрзог». Несколько позднее мне это удалось. Осознание своей власти и чувство ответственности изменили мою жизнь и в какой-то мере характер. Я был настолько загружен, надо было ежедневно принимать столько решений, что уже не оставалось времени на печальные раздумья о самом себе, о правах и обязанностях промышленника. «Гамлет — плохой принц, если размышляет над черепом», — писал мне Ален. Мне предписывались правила игры и обязанности командующего. Я мечтал написать труд «Рабство и величие индустрии», ибо зуд сочинительства не оставлял меня. На фабрике у меня был свой рабочий кабинет, забитый шерстью, войлоком, тканями. В тайном шкафу я прятал Бальзака, Паскаля, Тацита и большие тетради, куда, как только выдавалась свободная минута, записывал свои мысли и планы. К чувству удовлетворения от удавшегося дела, а оно было немалым, примешивалось чувство сожаления о книгах, которые никогда не будут написаны, и о творческой жизни, которую я никогда не проживу. В лицее я мечтал познакомиться когда-нибудь с Анатолем Франсом, Морисом Барресом, Редьярдом Киплингом. Но в мире, в котором я жил, не было места для общения с такими людьми. Как при образе жизни промышленника, деловом и замкнутом, мне выпадет возможность таких встреч? Где взять время на литературные занятия? Я не видел выхода и от этого страдал.Обретя самостоятельность, я стал ездить в Париж каждую неделю, устраивая по понедельникам обход магазинов и проверяя, как расходятся наши товары. Таким образом я получил возможность проводить воскресенье вдали от Эльбёфа. Я пристрастился к концертам классической музыки, от которых получал новый заряд сил. Когда-то Дюпре привил мне любовь к Баху, Шопену, Шуману, теперь Колонн[79] и Ламурё[80] открыли мне Бетховена. Я принял его всей душой. Все, о чем я думал и что не был в состоянии выразить, звучало в его симфониях. Как только начинал струиться могучий поток звуков, я отдавался на их волю. Бетховен напоминал о доброте, милосердии, любви, омывал и очищал душу, поневоле черствевшую по мере того, как я привыкал командовать. Урок Бетховена был мне в ту пору особенно необходим. Все время занятый делами, работающий до изнеможения, не имея свободной минуты, я становился властным, эгоистичным. Женщины уже представлялись мне не прекрасными дамами, которым поклоняются рыцари, а инструментами для получения удовольствия, служанками. И все-таки одна из встреченных мною оказалась достойной любви. Это была студентка-медичка, я познакомился с ней в парижском поезде. Случайно завязался разговор. Я нашел свою спутницу образованной, на удивление логично выражающей свои мысли. К тому же она была хороша свежестью белокурой фламандки; я пожелал с ней встретиться. Это оказалось совсем не трудно: хотя она и была замужем, но проходила практику при больнице, и лекции, занятия, а порой и ночные дежурства предоставляли ей большую свободу. Два-три раза мы пообедали вместе, затем я снял квартиру на улице Мадрид на первом этаже небольшого дома, в глубине двора, чтобы принимать ее у себя. Это была пора гарсоньерок, романов Бурже, «Алой лилии»[81], и мадам N. находила удовольствие в том, чтобы спешить на тайные встречи, закрыв лицо плотной вуалеткой. Сколько раз Сюзанна (так ее звали) просила: — Останьтесь в Париже на ночь, с понедельника на вторник. — Невозможно! — отвечал я. — Во вторник в семь тридцать утра я должен быть на фабрике. — Тогда освободите хоть часть вечера в понедельник. — Вы бредите, Сюзанна! А моя работа? Возможно, такое служебное рвение было и похвальным, но здесь выглядело неуместно. Я становился пуританином от промышленности. Когда наступило время отпуска, я отправился в Альпы в обществе опытных альпинистов, а на обратном пути остановился в Женеве. Я обещал навестить там артистку Мэгги Б. — подругу моего товарища Клода Жевеля. Она играла в театре парка O-Вив. Во время антракта я зашел в ее ложу. Рядом с ней сидела девушка. Мэгги ее представила: «Мадемуазель Жанина де Шимкевич». Захваченный врасплох невиданной красотой девушки, я утратил дар речи. Я часто грезил о прекрасном лице, в котором слились бы задумчивая серьезность подростка и хрупкая грация женщины. И вот оно было передо мной. «Мадемуазель де Шимкевич, — сказала Мэгги, которую я едва слышал, — пришла со мной посоветоваться… Она хотела бы стать артисткой». Я не мог оторвать глаз от нежданного видения, которое оказалось воплощением моих заветных желаний. Девушка была в гладком шелковом платье, украшенном только матросским воротничком синего шелка в белый горошек и поясом из той же ткани. Большая соломенная шляпа была перевязана белым в синий горошек платком. Она глядела на меня с улыбкой, смущенная моим молчанием. О чем говорила Мэгги в тот вечер? Понятия не имею. Помню только, как ждал конца антракта, чтобы остаться наедине с Жаниной; наконец раздался долгий звонок. — Вы возвращаетесь в зал? — спросил я. — Нет, — сказала она. — У меня нет билета. Я зашла только повидать мадемуазель Б. — Могу ли я вас проводить по парку? — Как вам угодно. Когда я воскрешаю в памяти эту сцену, то снова испытываю смешанное чувство восхищения, окрыленности и доверия. Я сразу же полюбил ее чистый, немного приглушенный голос, его поэтичность и печаль. О чем она тогда говорила? Она рассказала мне историю своей жизни. Ее мать, красавица из Лиона, завоевала сердце русского дворянина Константина Шимкевича. Тот умер совсем молодым, оставив двоих детей. Вдова отправилась в Швейцарию и поместила свою дочь в монастырь в Лозанне; сына она определила в интернат в Нёшателе. Жанина, вышедшая год тому назад из монастыря, чувствовала себя несчастной. — Почему же? — Это очень непросто объяснить. — Неужели так сложно? — Нет… скорее тяжело. — Но когда выговоришься, становится легче. Несколько минут спустя мы сидели рядом на скамейке в парке O-Вив; при лунном свете она мне объяснила, почему домашняя жизнь стала для нее нестерпимой. С той минуты как я ее увидел, во мне проснулась душа рыцаря моего детства. Она была королевой «Маленьких русских солдат», Наташей из «Войны и мира», Ириной из «Дыма». — Как ни странно, но я вас жду уже двадцать лет. Наши руки встретились в темноте. — Вы похожи, — сказал я, — на ангела Рейнолдса[82]. — Не надо меня переоценивать. Вы будете разочарованы… — Не думаю. Луна скрылась за деревьями. Моя новая знакомая встала. — Мне пора домой. Львы придут в бешенство. — Какие львы? — Моя мать и бабушка. Я проводил ее до двери дома. — Смогу ли я увидеть вас завтра? — Да. Приходите к четырем часам к нашей скамейке. Я там буду. Поужинаем вместе. Я вернулся в отель на берегу заснувшего озера. На душе было легко и радостно. От моего цинизма не осталось и следа.
9. «FOR BETTER, FOR WORSE»[83]
На следующий день я завтракал с Мэгги в кафе «Дю Нор» и подробно расспрашивал об ангельском видении, которое вчера вечером осветило ее ложу. — Вы только о ней и говорите, дорогой мой, — сказала Мэгги. — И ведете себя почти неприлично… Вы даже не остались досмотреть мою пьесу. Впрочем, я вас понимаю: эта малютка необычайно красива… Что вам сказать? Я познакомилась с ней у своих женевских друзей. Они находят ее очаровательной и сообщили, что она принадлежит к древнему славянскому роду. Когда-то ее мать бросила своего русского мужа ради швейцарского дипломата. Они поселились в Женеве… Законный муж давно умер, дядя, Жан де Шимкевич, который живет в Варшаве, высылает немного денег на воспитание детей. Я видела мать, она все еще красивая, веселая, щедрая. Но в делах — полнейший беспорядок. Дети из-за этого страдают. Представьте себе: в этом пуританском городе им дают понять, что их превосходная родословная имеет куда меньше значения, чем открытая связь матери. Их никогда не примут в кругах местной аристократии. Вот почему малышка хочет трудиться, зарабатывать на жизнь, поскорее вырваться отсюда… В назначенный час я был в парке O-Вив. Через несколько минут пришла мадемуазель де Шимкевич, и у меня закружилась голова: она была еще прекраснее, чем накануне. — Добрый день, — произнесла она нараспев. Она предложила нанять коляску и поехать обедать на ферму под Женевой. Так началась волшебная неделя. Иногда мы садились на прогулочный катер, курсирующий по озеру, она показывала мне свой монастырь в Лозанне или прекрасный собор с курантами на башне. Иногда мы бродили пешком по старым кварталам Женевы. Я всегда любил соединять живое чувство с литературными ассоциациями, и мы с Жаниной совершили паломничество к госпоже де Сталь в замок Коппе и к Байрону в Шильон. «Как прекрасно начинается любовь, — писал Гёте, — когда девушка жадно впитывает знания, а молодой человек охотно ими делится». Не знаю, так ли уж жаждала Жанина знаний, но она хотела понравиться мне и терпеливо слушала. В те далекие времена, пленившись красотой женщины, я тотчас стремился поделиться с ней своими мыслями. Об этом хорошо сказали Бодлер («дружба с пышными бедрами») и Лабрюйер («Ничто не может сравниться с обществом прекрасной женщины, обладающей достоинствами мужчины»), Я не понимал, что семнадцатилетняя женщина, при всем своем уме, остается ребенком. С бедной Жаниной, которая для своего возраста была довольно начитанна, искренне любила слушать стихи и музыку, но также разглядывать витрины ювелиров и цветочников, я рассуждал о философии и математике. Для нее рисовал палкой на песке геометрические фигуры, а вечером называл ей созвездия, которые отражались в водах озера. Она поворачивала голову и смотрела на меня с улыбкой. Весь мой просветительский пыл тотчас улетучивался, и я становился безумно влюбленным юношей. Время бежало. Вот уже два дня как я должен был вернуться на фабрику. Я дал телеграмму, где без всяких объяснений сообщал, что задержался в Швейцарии. До какой же степени я был охвачен Чувством, если дошел до столь предосудительной слабости! Я не имел ни малейшего представления, во что выльется это увлечение. Конечно, можно было спросить у мадемуазель де Шимкевич, согласна ли она выйти за меня замуж. Но это казалось мне полным безрассудством. Мог ли я объявить о предстоящем браке на Большом совете, представ перед грозными взорами дядюшек? — Кто невеста? — спросили бы меня. — Русская девушка, которая живет в Женеве. — Русская девушка?.. А сколько ей лет? — Семнадцать. — А чем занимаются ее родители? Какое приданое? — Она бесприданница… Отец умер… У матери одни долги… — Ты в своем уме? Разумеется, отец, натура романтическая, в конце концов поддержал бы меня, но какой прием окажет маленький промышленный городок чужестранке? Не будет ли она несчастна? Ответ представлялся мне очевидным. Впрочем, за всю эту блаженную неделю между Жаниной и мной ни разу не встал вопрос о будущем. Она просто боялась о нем думать. Ей казалось, что судьба омрачена предгрозовыми тучами. Она часто приводила фразу из неизвестного мне романа: «Рок тяготеет над тобой, берегись, златокудрая дева, рожденная под знаком Марса…» «Рок тяготеет…» — печально повторяла она певучим глуховатым голосом, и рассудительный юноша, чересчур уверенный в себе, неожиданно понимал, что под небесами существуют вещи, далекие от философии. Несчастья Жанины лишь добавляли в моих глазах обаяния ее красоте. С детства мысль о любви соединялась у меня с мыслью о преданном служении. Моей заветной мечтой было стать Персеем какой-нибудь Андромеды, Ферсеном[84] какой-нибудь Марии-Антуанетты. И вот жизнь стала похожа на сказку. — А Львы? — спрашивал я. — Что говорят Львы по поводу наших прогулок? — Львы, — говорила она, — поражены. Она согласилась представить меня своей матери: я встретил еще красивую женщину, полноватую и, что, впрочем, было совершенно естественно, несколько враждебно настроенную по отношению ко мне. На следующий день из Эльбёфа пришла телеграмма: «Не понимаем в чем дело — Работа коллекцией стоит из-за твоего отсутствия — Немедленно возвращайся». Как бы ни было сильно мое желание остаться, я не мог и не должен был ослушаться такого приказа. Надо было поставить Жанину в известность о моем отъезде. Это было в Нионе, на берегу озера, в тени деревьев, туманный профиль Монблана возвышался над цветущими холмами. Я ждал до последней минуты, чтобы не испортить наш последний день. — Я должен уехать сегодня вечером, Жанина… Ночным поездом. Я увидел на ее глазах слезы. — Что станется со мной без вас? За эту неделю я так привыкла видеть вас рядом. — Я обещаю вам вернуться. Она живо спросила: — Когда? — Очень скоро. Даже не дожидаясь рождественских каникул: я ведь могу садиться в парижский поезд в субботу вечером, проводить воскресенье с вами и возвращаться в Париж в понедельник к семи утра, к началу рабочего дня. — О! Поклянитесь, что так и будет! Я охотно дал клятву, поскольку и сам был очень огорчен разлукой. — А теперь попробую, — сказал я, — чтобы привыкнуть к вашему отсутствию, не смотреть на вас в течение пяти минут. Я отвернулся, но через несколько секунд наши взгляды встретились. — Не могу, — сказал я, — и тоже не представляю себе, как я буду без вас. Она вздохнула: — О, вы!.. Вы встретите других женщин… Вы меня забудете… — В них не будет вашей лунной прелести. Она проводила меня на вокзал в Женеве. А когда мне пора было садиться в купе, подставила мне губы. Мы оба плакали и улыбались сквозь слезы. — Я была слишком страстной, — сказала она, почти цитируя Джульетту Шекспира, — вы вправе опасаться, что из меня бы получилась ветреная жена. Швейцарский кондуктор легонько подтолкнул меня к поезду. — Поторопитесь! — сказал он. — Отправляемся! Я вернулся в Эльбёф совсем другим человеком, но никто этого на фабрике не заметил. Работа потекла своим чередом. Пока меня не было, стол завалили цветными нитками, образчиками тканей. Клиенты требовали встречи. Так что в воскресенье я поехал не в Женеву, а в Париж и увиделся на улице Мадрид со своей ученой сладострастной подругой. Она интуитивно почуяла опасность. — Что с вами? — спросила она. — Вы где-то витаете… Я отнекивался, но со следующей недели не выдержал и предупредил Сюзанну телеграммой, что в субботу меня не будет. Ночным поездом я приехал в Швейцарию, а другой в понедельник утром доставил меня в Париж прямо к началу работы. С тех пор у меня появилось довольно странное, но дорогое мне обыкновение проводить в Женеве все воскресенья. В восемь утра Жанина встречала меня на вокзале Корнавен. Она была очень набожной и, не желая пропускать обедню, брала меня с собой в церковь. Узнав, что я не католик, она была потрясена и озадачена. — Я обращу вас, — сказала она. Находясь рядом с ней в церкви, я испытывал чувство бесконечной нежности. Музыка, латинский язык литургии были дивными; строки из Евангелия, что читались по воскресеньям, таинственным образом совпадали с нашими мыслями. «Как счастливы, — думал я, — те, в чьей жизни поэзия переплетается с религией…» Еще в начале нашей дружбы Жанина сказала мне: — Дайте слово, что никогда не будете пытаться отвратить меня от веры. — Милая, я скорее попытался бы обратить вас в веру, не будь ее у вас.Такая кочевая жизнь продолжалась до начала декабря. Но однажды в Эльбёфе консьерж фабрики вручил мне телеграмму: «Буду субботу улице Мадрид — Львы стали опасными — Нежностью Жанина». Эта новость меня поразила. Не то чтобы я не был счастлив встречаться с ней в Париже, как до сих пор в Женеве, но что мне с ней было делать? Поломать жизнь этой молодой, очаровательной, гордой девушке представлялось мне чудовищным. Кроме того, я проводил в Париже всего два дня в неделю. Как жила бы она в остальные дни? Жениться на ней? Я этого страстно желал, но считал невозможным говорить о женитьбе с моей семьей, пока Жанине не исполнится по крайней мере двадцать лет, а мое положение в обществе не станет более устойчивым. Я провел две бессонные ночи, обдумывая все возможные решения, и остановился на мысли, которую многие сочли бы нелепой и которая могла прийти в голову только такому помешанному на учебе, как я. «Раз ей плохо дома, — размышлял я, — и раз я хочу на ней жениться, почему бы не использовать эти два года на пополнение ее образования? И не отправить ее за мой счет в Англию на один год в учебное заведение для девушек, а затем еще на год в университет?» Когда она приехала, решительная и непосредственная как всегда, со своим чемоданом («моим нехитрым скарбом» — говорила она с трогательными интонациями, вспоминая, очевидно, «Манон»), я поделился с ней своим проектом. Она была удивлена и немного встревожена: — В Англию? Но почему? Я не буду тебя видеть… — Я буду все делать так же, как и раньше, пока ты была в Женеве, — приезжать к тебе каждое воскресенье. — А это возможно? — Да. На пароходе, отплывающем ночью. — Но ты устанешь до смерти! — Я никогда не устаю. — И потом, я не знаю ни слова по-английски. — Именно поэтому ты должна овладеть английским языком. Тебе это будет очень полезно. Пролив много слез, она согласилась: — При одном условии… Ты отвезешь меня сам. — Таково и мое намерение. Я сам выберу тебе школу. Потребовалось немного времени, чтобы подготовиться к путешествию, пополнить ее гардероб, предупредить Львов. Пока я снял для нее комнату у знакомой. Во время рождественских каникул я под каким-то предлогом получил от отца разрешение на три свободных дня, чтобы отвезти ее в Брайтон, где по переписке нашел превосходную школу. Я получил массу удовольствия от беготни с ней по парижским магазинам. Наши отношения уже давно напоминали семейную жизнь, и я видел в том доброе предзнаменование. Странное ощущение — получать ежедневно из английского колледжа письма от пансионерки, которая была для меня и приемной дочерью, и ученицей, и невестой. Меня забавляло мое сходство с опекунами Мольера и Бомарше, которые воспитывают девушку, с тем чтобы на ней жениться. В Брайтоне, как и в Клектон-он-Си, где Жанина продолжала обучение, я выдавал себя директрисе за ее брата. Благодаря этому я мог платить за пансион и свободно с нею общаться. В Клектоне она сдружилась с молодой эльзаской Луизой (Лулу) Баумайстер и рассказала ей о наших похождениях. Столь романтическая ситуация страстно заинтересовала эту живую и очаровательную девушку, которая оказала нам, как я расскажу позже, неоценимую помощь. После года, проведенного в школе, Жанина настолько овладела английским, что могла уже заниматься в Оксфорде. Я не колеблясь поместил ее на пансион к мистеру Бертону, преподавателю французского языка в университете. У него была жена англичанка, безупречная хозяйка, благодарякоторой у Жанины сложился превосходный вкус; она же обучила ее и домоводству. Двадцать лет спустя Бертоны узнали, что мы разыграли невинную итальянскую комедию: «брат» их питомицы был на самом деле ее будущим мужем. Милые люди не обиделись на нас. Мистер Бертон взялся записать Жанину на различные курсы, которые читались в Оксфорде и на которых могла присутствовать девушка. Она успешно занималась литературой и скучала на лекциях по политической экономии, которую мы ей зачем-то навязали. Я до сих пор храню ее тетрадь, которую она испещрила смешными рисунками, перемежавшимися с обрывками теории заработной платы. Красота Жанины кружила головы студентам всех курсов, которые она посещала. Поклонники наперебой приглашали ее на прогулку или в театр. Когда во время нашей встречи она описала свои успехи, с юмором, но без тщеславия, ибо была скромна, я ее слегка приревновал. Что, если один из этих белокурых или рыжих парней атлетического сложения предложит ей руку? — Будь спокоен, многие уже предлагали. Я отвечаю всем, что у меня есть жених. — И это правда, — сказал я. В ее обществе я ознакомился с Оксфордом. Она показала мне храмы Святой Магдалины, Христа, Поминовения усопших, надгробный памятник Шелли. Под ивами на берегу реки мы обсуждали наше будущее. Мое решение жениться на ней окрепло. В ней за этот год появилась отвага, которая внушала уверенность в успехе задуманного плана. В Эльбёфе мой собственный авторитет был уже так велик, что я мог не бояться сопротивления со стороны семьи, когда все поймут, что я настроен серьезно. Я знал, что у отца были иные замыслы: он хотел с помощью брака сделать меня владельцем большого промышленного и финансового капитала, но я знал и его деликатность и чувствовал, что наша история его растрогает. В нашей семье никогда не умели сообщать неприятное или просто важное известие прямо тому, кого оно касалось. Телеграмма, извещающая о болезни, кончине и даже венчании, адресовалась дяде или кузену, который и должен был «подготовить» заинтересованное лицо. Верный этой традиции, я попросил свою младшую сестру Жермену, девушку энергичную и к тому же знакомую с ситуацией, «подготовить» мою мать. Оказалось, как и следовало ожидать, что для матери это не было новостью. «Я думала, — сказала она Жермене, — что твой брат уже тайно женился в Англии. За два года он провел там столько времени! Каждое утро он получает по письму, и все написаны одним почерком. Я была уверена, что он женат, но не решалась поговорить об этом с отцом». Итак, все снова повисло в воздухе. Лулу Баумайстер, эльзасская подруга Жанины, которая, закончив учебу в Англии, вернулась в Хагенау, высказала прекрасную идею. «Почему бы тебе, — писала она Жанине, — не провести каникулы в Хагенау? Семья твоего жениха могла бы там с тобой познакомиться. Они эльзасцы и, очевидно, будут счастливы взглянуть на свою родину, это размягчит их сердца. Что до моих родителей, которым я столько о тебе говорила, они охотно с тобой познакомятся и окажут тебе эту маленькую услугу. Кухня моей матери сделает всех покладистыми. Напиши, когда думаешь приехать». Я полагал, как и Лулу, что ничто лучше не склонит моих родителей к этой экзотической в их глазах, безрассудной женитьбе, чем дружественная атмосфера эльзасской семьи. Сколько раз отец рассказывал мне о Хагенау! Ведь он расположен по соседству с Бишвиллером, где находилась первая фабрика отца, и Буксвиллером, где он воспитывался. Со времен войны он ни разу не побывал в Эльзасе. Я знал, что там отец будет чувствовать себя свободнее, чем в Эльбёфе, где витали саркастические и суровые великие тени дядюшек, читая мысли и следя за распорядком. Я уже говорил, что нам с отцом было очень трудно разговаривать на интимные и щекотливые темы. Раз двадцать я увязывался с ним за компанию на соседнюю фабрику в Кодебеке или в Сент-Обене, решив побеседовать с ним по пути. Самое странное заключалось в том, что он прекрасно знал, о чем я собирался с ним говорить. Но был столь же застенчив, что и я, и мы возвращались на фабрику, так и не коснувшись этой темы. Наконец настоятельное письмо Лулу Баумайстер, в котором говорилось, сколь тяжкой для Жанины была двойственность ее положения, придало мне мужества. Отец принял новость с участием и тревогой. — Уверен ли ты, — сказал он, — что не совершаешь огромную ошибку, связывая свою жизнь с иностранкой, столь не похожей на нас? — Но, папа, я знаю ее три года и понимаю гораздо лучше, чем девушек из Эльбёфа или Руана. К тому же я не прошу твоего согласия прямо сейчас, я прошу лишь познакомиться с ней. — А кто эти Баумайстеры, у которых она живет? Родственники? — Нет, друзья, но они обращаются с ней, как с дочерью. — До семидесятого года, — сказал отец, — я знал одного доктора Баумайстера. Я понял, что дело пошло на лад.
Путешествие в Эльзас удалось. Мои родители были счастливы снова увидеть Страсбург и Бишвиллер. Семейство Баумайстеров им очень понравилось. Эта грубоватая прямота, дружеская фамильярность, эльзасская добротность напоминала им молодость. Kugelhopf'ы[85], торты со сливами, жареные гуси вызывали в памяти детские праздники. Жанина, ослепительная, нежная, трепетная, выделялась на этом фоне, как Пресвятая Дева в окружении коленопреклоненных донаторов на старинной картине. Ее хрупкая красота тронула отца. — Не знаю, прав ли ты, — сказал он мне, — но я тебя понимаю. Его успокаивало то, что ее окружает патриархальная эльзасская семья. Он забывал, что она находится в этом доме случайно, у подруги. Мать, более критически настроенная, оставалась вежливой и сдержанной. Я догадывался, что она предпочла бы иметь невесткой Лулу Баумайстер, молодую, блестящую, ловкую, как мольеровская служанка, поставившую этот спектакль и оживлявшую его своими выдумками. Но в день отъезда, когда господин Баумайстер, отлично подготовленный своей дочкой, дал обед с шампанским и провозгласил тост за «счастливое и близкое событие», мои родители нас расцеловали. Партия была выиграна. — А Львы? Что скажут Львы? — спрашивал я у Жанины, когда, выйдя из-за стола, мы оказались одни в комнате Лулу. — Львы? — сказала она. — Они будут огорошены. Она взяла на себя переговоры с матерью и варшавским дядюшкой-опекуном. Госпожа де Шимкевич только попросила, чтобы будущие дети стали католиками. Дядя-опекун одобрил. В Эльбёфе Большой совет воспринял новость о моей предстоящей женитьбе холодно. Но осуждать не решились: во мне нуждались. Дядя Анри положил конец стеснительному молчанию, заведя волосатой и костлявой рукой воображаемую машину. Нам нужен был дом. Я нашел подходящий около фабрики в Кодебеке, скромный, но комфортабельный, с великолепным садом. Жанине дом пришелся по душе. Но она пришла в ужас от грохота станков и особенно от молчаливого и неодобрительного приема, какой ей оказали «эти господа». Сказав несколько слов, месье Анри подкрутил машину времени, поторопив всех приступить к трудам. — Ты уверен, что твой дядя еще живой? — спросила она, выходя с фабрики. Я чувствовал, что она готова отказаться от нашего великолепного плана. — Не знаю, — сказала она с мрачным видом, — смогу ли я здесь жить… Тут все так уныло… — Совсем нет, — сказал я. — Вот увидишь. В городе много очаровательных пар. Постепенно ты с ними познакомишься. Она увлеклась покупкой мебели, приданого, и это ее несколько успокоило. Прежде у нее не было ничего своего, кроме маленького костяного слоника со сломанным хоботом, которого она торжественно принесла в приданое. Бракосочетание состоялось 30 октября 1912 года в Париже, в мэрии IX округа. Несколькими месяцами ранее я покинул улицу Мадрид и снял квартиру на улице Бланш, напротив церкви Святой Троицы. В этой-то церкви нас и соединил старый приветливый священник. Мне было очень сладко держать в своей руке руку Жанины и надеть ей на палец обручальное кольцо. — For better, for worse, — сказала она мне серьезно, спускаясь по ступеням лестницы. В церковном сквере стаи голубей кружились в лучах солнца.
10. О, время! Приостанови свой бег!
Наш дом в Кодебеке был скромен, но мил. Тонкий вкус помогал Жанине творить чудеса. Приехав из Оксфорда, она сразу же подобрала у парижского обойщика английскую мебель. Полированные панели красного дерева отражали расставленные повсюду вазы с цветами. Составлять букеты было одним из главных увлечений моей жены. Она любила разные вазы, длинные и узкие, китайские, венецианские, хрустальные. Она могла долго рассматривать изгиб цветочного стебля, зеленое облако аспарагуса, умела делать воздушными и легкими плотные гроздья. Наш сад, как у всех в Эльбёфе, был банальным и беспорядочным: клумбы бегоний и герани, бордюры из незабудок или гелиотропов; но Жанина быстро все переделала по-своему: разбила огородик, а по периметру посадила кусты с яркими цветами наподобие высоких живых барьеров в Оксфорде. Она показала себя хорошей хозяйкой, и в переписке с бабушкой, с матерью, с Лулу кулинарные рецепты занимали большое место. Была ли она счастлива? Разумеется, ей нравилось после стольких страданий от неуверенности в своем будущем иметь клочок земли и дом и не думать о материальных нуждах. Мы любили друг друга душой и телом, наши вкусы во многом совпадали, мы проводили вместе чудесные вечера, я читал вслух романы или комедии, она играла на фортепьяно или рассказывала о своем детстве. Не желая ничего большего, я с наивным эгоизмом полагал, что и она совершенно счастлива. Много лет спустя, после ее смерти, из писем, найденных мною, и от подруг, посвященных в ее тайны, я узнал, как трудно было ей акклиматизироваться в семье строгих нравов, все время себя контролировать. «Наша отшельническая жизнь», — говорила она. Разумеется, она страдала в Женеве от взбалмошности и деспотизма матери. Но, как и ее брат Алекс, она любила шутки, веселье, а в Эльбёфе им не было места. Для меня после целого дня в кабинете в обществе Мартеля и ворчливых компаньонов увидеться с ней за столом, под сенью тополей, ощутить близость молодой восхитительной женщины в светлом платье, всегда готовой меня выслушать, было просто чудом. Для нее же эти минуты близости перемежались нескончаемыми скучными часами. Что она могла сделать? Отношения с моей матерью сложились не так, как хотелось бы. Жанина восхищалась ее добродетелями, уважала ее, но постоянно чувствовала укор, который ее смущал, и некоторый холод. Окунувшись целиком в благотворительные дела, мать предпочла бы иметь невестку, которая бы ей в этом помогала. Жанина была слишком молода и нетерпелива. Она любила моего отца и аккомпанировала ему изредка по вечерам, когда он пел мелодии из «Корневильских колоколов»[86] или из «Маленького герцога», но он проводил весь день на фабрике; к тому же он был слишком стар и слишком замкнут для доверительных бесед. С трудом налаживала она дружеские связи с молодыми женщинами Эльбёфа. Две из них, моя кузина Ольга и жена моего друга Жана Легри, могли и должны были ей понравиться. Но за независимой, едва ли не надменной манерой поведения Жанины таилась застенчивость. Она оставалась дома и скучала. Когда я пытаюсь тридцать лет спустя посмотреть на нашу семейную жизнь глазами своей жены, я думаю, что она должна была испытывать крайнее изумление, а порой и смятение. В семье все было подчинено чести, труду и долгу, но всех угнетало бремя невысказанного. Невидимые монстры витали среди наших ваз с цветами и полок с книгами. Отец, такой целомудренный, и мать, такая деликатная, предпочитали грустное умолчание и недомолвки. Вытеснение в подсознание, которое, по учению Фрейда, маскирует сексуальные переживания, у нас скрывало скорее оттенки чувств, раны самолюбия, борьбу мнений. А все, что замалчивалось, приобретало ложную значительность. Время должно было показать всю опасность такого отношения к жизни. Я долго верил в добродетельность молчания; с годами же пришел к пониманию освободительной силы откровенности. К счастью, мы каждую неделю ездили в Париж, где Жанина могла вздохнуть свободно и развлечься. Теперь я проводил в Париже два дня, включая воскресенье, и мы решили снять квартиру более удобную, чем гарсоньерка у собора Святой Троицы. Мы нашли подходящее жилье на улице Ампера в только что выстроенном, со вкусом отделанном доме. Жанина чудесно убрала наш уголок. В то время в Париже мы никого не знали. Я был очень привязан к семье матери и считал достойными пера Диккенса или Бронте четырех пятидесятилетних сестер, всегда одетых в черное, ежедневно собиравшихся в гостиной на улице Токвилль у своей семидесятилетней матери; они сидели там часами, как безмолвные памятники дочерней преданности, изредка погружаясь в семейные воспоминания. Но, восхищаясь умом и отличной памятью своей бабушки, ее здравыми и суровыми суждениями об Анатоле Франсе, Ромене Роллане, Андре Жиде и удивляясь, как она могла сохранить главенство над тремя поколениями, я в то же время чувствовал, что Жанина испытывает смертельную скуку от этих посиделок, и водил ее на улицу Токвилль очень редко. Со своими клиентами я виделся каждый день и вовсе не горел желанием встречаться с ними вне работы. Мы были, таким образом, одиноки, но ни в ком не нуждались. Театров, концертов, а для Жанины, в мое отсутствие, портных и модисток было достаточно для того, чтобы заполнить нашу жизнь. Фабрика тем временем разрасталась. На ней трудилось уже около двух тысяч рабочих. С господином Анри, последним из оставшихся в живых дядюшек, случился первый апоплексический удар. Однажды утром он почувствовал скованность в правой руке, той руке, которой он, заводя свою невидимую машину, столько раз ломал ход моих мыслей и рассуждений; в два часа дня паралич сковал одну сторону его тела. Этот железный человек стал живым трупом. За дядей ухаживал старый эльзасец, нагловатый, но преданный ему; когда дядя нуждался в его услугах, то будил его палкой. Каждый вечер три брата Френкеля и два брата Эрзога усаживались у его изголовья. — Что нового? — спрашивал он, с трудом шевеля языком. Ему отвечали потоком цифр: данными о продукции, заказах, курсе на сырье. В это время происходили события, которые могли и должны были его заинтересовать: война в Марокко, рост агрессивности Германии, но об этом с ним никто не говорил. Наконец-то по решению мэрии отец был награжден орденом со следующей прекрасной формулировкой: «В 1871-1872 гг. благодаря его преданности и стараниям для Франции были сохранены четыреста французов. Он был инициатором и участником многих общественных начинаний. Сорок лет проработал в промышленности». Рабочие отнеслись к этому награждению тепло и торжественно, что было для отца дороже всего. Многочисленные делегации с букетами цветов и классическими бронзовыми статуэтками сменяли друг друга в его кабинете; он получил также множество писем от ткачей, прядильщиков, и везде звучало: «Браво, месье Эрнест, хоть на этот раз правительство поступило по справедливости…» С приятным волнением наблюдал я, как этот скромный человек был по достоинству оценен теми, кем он руководил, я делал вывод, что трудолюбие, бескорыстие, справедливость по-прежнему высоко ценятся французскими рабочими. Отец, естественно, дал банкет всему персоналу в ангаре, где обрабатывали шерсть, и открыл бал в паре с Филоменой, самой старой из эльзасцев, которую в 1871 году девочкой привезли в Эльбёф на тачке. Несколько недель спустя он подал в отставку. Здоровье у него было неважным, и с привычной щедростью он уступал мне свое место, тем более что у меня уже была семья. Да и сам я становился «старшим». Двое из моих молодых кузенов, Пьер Эрзог и Андре Френкель, сдав экзамены на степень бакалавра и отбыв воинскую повинность, пришли в 1912 году на фабрику. Оба закончили Школу офицеров запаса, новое учебное заведение, которого не было в годы моей службы. Пьер стал пехотинцем, Андре — пешим егерем. Отныне я был спокоен за будущее фабрики. С Робером Френкелем мы образовали дружную и увлеченную команду, воодушевленную общими взглядами. Пьер и Андре имели самые возвышенные представления об обязанностях руководителя фабрики по отношению к рабочим, служении интересам нации, долге самопожертвования. Я был так счастлив найти единомышленников, что забыв на несколько месяцев о вечно кровоточащей в сердце ране — несостоявшемся литературном призвании. Тем паче что я больше не писал — быв слишком занят. Все предсказывало мне карьеру крупного предпринимателя, управляющего своим маленьким царством и вполне этим счастливого. В мае 1914-го на улице Ампер родился наш первенец; Жанина тяжело болела — открылось сильное кровотечение, и она была очень слаба, но радовалась появлению на свет ребенка. Английская няня, особа средних лет, рыжая, властная, вошла в дом. С нею в конце июня мы вернулись в Эльбёф. В поезде, стоявшем на вокзале Сен-Лазар, открыв номер «Тан», я прочитал в «Последних известиях» об убийстве в Сараеве эрцгерцога, наследника престола Австро-Венгрии, и его жены и сказал об этом Жанине. — Кого убили? — Эрцгерцога Франца-Фердинанда. Она осталась безразличной. Эта новость и эта минута положили конец нашему мирному счастью, но разве можно было это предугадать? Все первую половину июля нас занимали бутылочки молока и прибавка в весе ребенка, мы только об этом и говорили. Неожиданно Жанина оказалась очень хорошей матерью, и это открытие изменило отношение к ней моей семьи. — До сих пор, — сознался мне дядя Эдмон, — я смотрел на нее как на чужестранку, завезенную вещь, утиное яйцо или даже яйцо экзотической птицы, но теперь принимаю ее в нашу семью. Фабрика продолжала работу, заканчивался выпуск очередной коллекции тканей, и мы строили планы на отпуск. К 20 июля сообщения газет стали тревожными. Писали об ультиматуме, предъявленном Сербии. Но идея войны в масштабах Европы даже не приходила нам в голову… Два дня спустя пришлось все-таки такую возможность допустить. Из ящика стола я достал свое мобилизационное предписание. В первый же день мобилизации мне следовало прибыть в расположение Семьдесят четвертого полка в Руане. Я так и остался в чине сержанта. — До чего же я был недальновиден, — с грустью заметил я жене, — мне стоило написать пару слов, чтобы получить младшего лейтенанта. Началась война, а я пойду на нее унтер-офицером. — Ты серьезно думаешь, — спросила Жанина, — что будет война? — Не знаю… Но к тому идет… — А что будет со мной? — спросила она с тревогой. Меня самого мучило беспокойство. Жанине в Эльбёфе было легко, пока я там находился. Что станется с ней, когда она окажется одна в кругу семьи, которая так и не стала ей родной? Я не мог себе даже представить. Но уже предчувствовал, что становлюсь жертвой чудовищных обстоятельств. Заголовки на газетных столбцах были все более зловещими: «ПРИГОТОВЛЕНИЯ К ВОЙНЕ В ГЕРМАНИИ… ВСЕОБЩАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ В РОССИИ… КАК ПОСТУПИТ АНГЛИЯ?» К 30 июля даже таким оптимистам, как я, невозможно было сохранить малейшую надежду. Не доверяя интендантству, я зашел к Бонвуазену, эльбёфскому сапожнику, купить крепкую походную обувь; затем достал кожаный пояс с карманом для золотых монет; я был воспитан на рассказах капитана Паркена, солдата Империи, которого всегда спасал в последний момент золотой из кармана на поясе. Жена, несмотря на свою хрупкость и усталость, сопровождала меня повсюду. «Я с тобой, — говорила она. — Пока я держусь за тебя, мне кажется, я тебя не потеряю». С того дня, как она приехала со «своим нехитрым скарбом» в Париж, я еще не видел ее столь прекрасной и трогательной. С детскими, жалобными и неуловимо насмешливыми интонациями она повторяла: «Бедная Жинетта! Бедная Жинетта!» Улицы Эльбёфа, обычно совершенно пустынные в часы работы фабрик, были теперь даже днем заполнены взволнованными горожанами. На фабрике началась суматоха. Всех молодых хозяев, Пьера Эрзога, Андре Френкеля и меня, забрали в первый же день мобилизации. Робер Френкель, освобожденный от воинской повинности по близорукости, не захотел оставаться дома и поехал в Руан в надежде, что его возьмут в армию. Отец, который только что вышел на пенсию и весьма нуждался в отдыхе, заявлял, что заменит меня на все время войны, и отказывался от жалования. Патриотизм был всеобщим. В августе 1914-го Франция чудесным образом объединилась. Мобилизованные молодые рабочие приходили пожать руки хозяевам. «Ну как, месье Андре, — говорили они Андре Френкелю, — вас взяли в конные егеря? А меня в пехтуру, в Сто двадцать девятый Гаврский полк». Служащий склада Сатюрнен, который с легкостью носил штуки сукна на голове, как разносчик воды на восточных базарах, старый солдат, участник кампании в Африке, со шрамом, пересекавшим лицо, рассказывал: «Вы услышите, как пули летают, месье Пьер; это не бог весть что… П-ш, п-ш — и все». Эльзасцы назначали отцу встречу в Страсбурге: «Мы вернем вам Бишвиллер, месье Эрнест, и вы там еще откроете фабрику!» Мы провели с Жаниной полный нежности и грусти вечер. Погода стояла теплая, ясная, мы пошли в сад посидеть под деревьями, взялись за руки и больше молчали. — Надеюсь, — сказал я, — ты была не слишком несчастлива? — Я была так счастлива, — сказала она, — что хотела бы прожить всю жизнь как этот последний год… Но я так боюсь за всех нас… — Моя семья позаботится о тебе; я их уже просил. — Да, — сказала она, — они попытаются, но не смогут. Когда ты уедешь, между мной и ними не останется никакой связующей нити…Звезды над нами постепенно блекли, а мы продолжали беседовать в теплом сумраке ночи до самой зари. Не успели мы лечь, как нас разбудила барабанная дробь. Объявлялась мобилизация. Только раз, еще в полку, я слышал, как барабаны бьют мрачную общую тревогу. Она меня потрясла. Барабанный перестук, переходя от одного предместья к другому, болью отзывался в наших сердцах. Потом на колокольнях церквей Эльбёфа, Кодебека, Сен-Пьера забил набат. Мирная жизнь кончилась. Не позднее вечера я должен был явиться в Руан. Мы встретили в саду наше последнее утро. Окаменевшая, как все англичанки в тяжелую минуту, няня молча поставила перед нами коляску с малюткой. После барабанной дроби и тревожного призыва колоколов наступила тишина и показалось, что впереди бесконечные волшебные часы. Возможно ли, чтобы этот покой предшествовал стольким дням ужаса? Из города, где тихо прощались, не доносилось более ни песен, ни привычного гула. Слышно было лишь, как пчела собирает дань с подстриженных лип. В памяти осталось от этого утра, одного из самых трагических в моей жизни, чувство чего-то прекрасного, но хрупкого, готового того гляди разрушиться, ощущение общности перед лицом обшей беды. Я чувствовал, что эти стремительно убегающие часы были последними часами моей молодости. Родители, пришедшие со мной попрощаться, нарушили очарование. По просьбе отца я облачился в форму. Пехота еще носила синий мундир и красные шаровары. Все это, отдающее нафталином, вытащили из старого шкафа. Портянки стесняли ноги, привыкшие к свободе. Скрывая волнение, отец осмотрел меня строгим взглядом старого солдата. «Надо почистить пуговицы», — сказал он чуть дрогнувшим голосом. Мой отъезд его огорчал, но он был исполнен надежд на победу Франции и счастлив, что его сын примет участие в реванше, о котором отец мечтал всю жизнь. Объявился Жан Буле — он должен был отвезти меня в своей коляске на вокзал. Я попросил Жанину не провожать меня до казарм. На пороге она меня поцеловала. Ее ресницы увлажнились, но она не расплакалась. Когда я садился в коляску, она побежала в сад, вернулась и протянула мне нашего малыша; тот вскрикнул, удивленный красным цветом кепи. Но коляска уже тронулась. В Руан! «Бедная Жинетта», — подумал я.
11. BRITISH EXPEDITIONARY FORCE[87]
Казарма Семьдесят четвертого в Руане перестроилась на военный лад. Во дворе за длинным столом из трех досок, поставленных на козлы, сидели сержанты-каптенармусы и листали призывные списки. У стола толпились люди в гражданском: буржуа, рабочие, крестьяне. Я занял место среди них. Когда подошла моя очередь, офицер, стоявший около стола, просмотрел мои бумаги. «Нет! — сказал он. — Вы не отправляетесь с полком. Вам в особую миссию… Идите в корпус „Б“, комнату 52, там вы найдете своих товарищей». В 52-й комнате корпуса «Б» я встретил Буле, который довез меня до казарм, Легри, Андре Блена, много руанцев и парижан, которые представились мне: «Марокетти, Бретёй…» Но что это за особая миссия? Некоторые из нас, более информированные, утверждали, что мы будем прикомандированы к англичанам и выступим вместе с ними. — С англичанами? Но я не хочу воевать вместе с англичанами. Лучше я останусь в своем полку. — Не переживай, — сказали мне. — Неизвестно даже, прибудут ли англичане. Ведь Англия еще не объявила войну. Я пошел к майору, которого хорошо знал по последним маневрам. — Господин майор, я не знаю, что это за особая миссия, но если речь идет о работе с англичанами, то это абсурд. По-английски я говорю неважно, зато, полагаю, был бы хорошим командиром взвода. — Вы правы, но я ничем не могу помочь. Эта миссия не имеет отношения к полку. Ею командует генерал Юге, и вы подчиняетесь только ему. Впоследствии я узнал, что пресловутая миссия готовилась в полном секрете. Однажды к родителям явился жандарм и спросил у матери, говорю ли я по-английски. Получив утвердительный ответ, он занес меня в какой-то список. Не было никакого экзамена, никто из заинтересованных лиц не был предупрежден. Матушка позабыла сказать мне об этом посещении. А жандарм оказался для меня тем вестником невысокого ранга, которых, по Гомеру, посылают боги, дабы распорядиться судьбою смертных. Вернувшись в казарму, я узнал, что нам разрешено выйти в город. Жители, исполненные воодушевления, высыпали на древние улицы Руана. Возле кафе «Виктор» оркестр исполнял национальные гимны союзников: «Марсельезу», «Брабансону»[88], гимн Российской империи, Сербии. Кто-то потребовал исполнить «God save the King»[89]. Руанцы слушали, обнажив головы. Рядом со мной плакал старый краснолицый англичанин с седыми усами: «By God! I hope the boys will come»[90]. При последних звуках гимна толпа стала кричать: «Да здравствует Англия!» Я зашел в кафе и спросил, можно ли позвонить в Эльбёф. Мне сказали, что можно. Я позвал к телефону Жанину и с волнением услышал ее голос. — Какое счастье! — сказала она. — Я уже представляла тебя на поле боя. — Да нет, я еще в Руане. Приезжай завтра, повидаемся. Что ты сегодня делала? — Ничего, — жалобно сказала она. — Немного поплакала, думала о тебе. На следующий день она приехала с Жерменой Легри, муж которой тоже числился в нашей миссии. У нас объявился командир — капитан Ридель, артиллерист запаса, парижский промышленник. Это был маленького роста, живой, точный, любезный и легкий в общении эпикуреец. Он привез из Руана свою жену, энергичную, рыжую, образованную даму. Наши семейства сразу же подружились, и я стал доверенным лицом капитана — к счастью и к несчастью. К счастью, потому что Ридели остались нашими друзьями; к несчастью, ибо Сюзанна Ридель, сочувствуя одиночеству Жанины, любезно попросила мужа оставить меня в Руане на возможно более долгий срок. — Когда английская армия отправится на фронт, — объявил он мне, — я останусь здесь на несколько недель, а возможно и месяцев, чтобы создать базы и организовать снабжение. Вы мне понадобитесь. — Но, господин капитан, я предпочел бы отправиться на фронт вместе со всеми. Я хочу воевать. — Ну, это от вас никуда не уйдет. Война будет долгой. А вам следовало бы подумать о своей бедной супруге! Она объяснила моей жене, в каком положении находится; ведь своей родни в Нормандии у нее нет, а к вашей она не слишком-то привязалась; к тому же она еще не оправилась от нервного потрясения при родах. Она скрывает от вас свое состояние, но ей очень худо… Впоследствии я часто упрекал себя за тогдашнюю слепоту. Мужчины никогда не обращают внимания на опасную усталость женщин. Моя обожаемая жена страдала от сильнейшего нервного истощения, а я ничего не замечал; я заставлял ее совершать ежедневные поездки ради удовольствия провести с ней часок-другой, думая не о том, как наилучшим образом устроить ее жизнь, а о том, как мне совместить обязанности семейного человека и солдата. Капитан Ридель, оставляя меня в Руане, хотел оказать мне услугу, которая на деле обернулась злом для нашего семейства. И вот почему. Жанина выходила замуж за молодого влиятельного промышленника, оказалось же, что она связала свою жизнь с унтер-офицером, крохотным колесиком мощной машины, подчиненным бесчисленным начальникам. Когда я покидал ее в Эльбёфе, я был в ореоле смертельной опасности, навстречу которой шел с искренним мужеством. Перед отходом поезда она страстно целовала воина, а осталась на перроне с мелким чиновником. Я болезненно ощущал этот контраст. Наш полк отправился в действующую армию с красными гвоздиками в стволах ружей, в сопровождении поющей толпы женщин, стариков, детей. Полк был хорош и отлично маршировал, а я сожалел, что не мог продефилировать в его рядах. Опустевший город замер. Шли дни, и вот однажды утром капитан прислал приказ: «Явиться к 10 часам на набережную Кавелье-де-ла-Саль, встретить полковника Мура. Вы поступаете в его распоряжение». Я сохранил самое волнующее воспоминание о прибытии в Руан первых английских частей в августе 1914-го. Вверх по Сене шли огромные транспортные суда, до такой степени набитые солдатами в форме цвета хаки, что являли собой как бы одну живую массу. С берега молодые француженки бросали им цветы и махали платочками. — Гип! Гип! Ур-ра! — дружно отвечали солдаты. Англичане восхитили нас дисциплиной, щедростью, а также верностью традициям великого народа. У нас, пехотинцев Третьей республики, казарма ассоциировалась с запахом дегтя, тесными тужурками и задубевшими сапогами. Английские полки своим великолепием и блеском напоминали нашу армию времен монархии. Яркие барабаны с королевским гербом, кони в белой сбруе, клетчатые юбки шотландских горцев приводили нас в восторг, вызывая в то же время некоторое опасение. Как примут нас, бедных малых из французской пехтуры, невразумительно лепечущих по-английски, эти блестящие рыцари-крестоносцы. Но мы напрасно беспокоились. Они не только встретили нас в высшей степени любезно, но и полюбили, как диковинных и полезных зверушек, которых принесла в дар Франция. Неделю спустя английский полковник не мог обойтись без «своего француза», будь то Буле или Андре Блен, Легри или я; в чужом краю с непонятными обычаями мы стали добрыми ангелами для него и для всего батальона. Мой командир полковник Мур был деятельным честолюбивым ирландцем, стремившимся поразить начальство и Генеральный штаб быстротой исполнения приказов. Я помогал ему по мере сил. Организация военной базы — дело в чем-то сходное с работой фабриканта. Дни и ночи я снимал склады, вел переговоры с портовой администрацией, с военными властями. На мой скромный чин не обращали внимания, раз я говорил от имени британской армии. С командирами и товарищами у меня установилось полное взаимопонимание. Но радоваться было рано. Немцы наступали. Мой несчастный Семьдесят четвертый потерял под Шарлеруа половину личного состава. Поговаривали, что со дня на день Руан может оказаться под угрозой сдачи. Сентябрьской ночью полковник Мур разбудил меня: — Отправляемся немедленно. Машина внизу. Едем в Нант готовить новую базу на случай, если нельзя будет удержать Гавр и Руан. Немцы захватят Руан… А как же моя жена? Я сказал об этом полковнику. Он оказался снисходительным. — Черкните пару слов жене и посоветуйте ей завтра же отправиться в Нант. Только не пишите, по какой причине и что там она застанет вас. Бедная Жанина ехала два дня и две ночи вагоном третьего класса, потому что поезда были забиты беженцами с севера Франции, а пути — воинскими составами. А когда она, измученная, больная, добралась до Нанта, стало известно о победе на Марне. — Нам больше нечего делать в Нанте, — сказал мне полковник Мур. — Надо срочно возвращаться в Руан. Так я продолжал надрывать сердце моей жены: у нее уже не оставалось сил, а я оставлял ее в чужом городе.Недели шли за неделями. Все происходившее не соответствовало нашим ожиданиям. Я отправлялся воевать: командовать взводом, стрелять, рисковать жизнью. Но мое желание принести себя в жертву повисло в воздухе, и я был выбит из колеи. После Марны я надеялся на скорую победу. Но войска, окопавшиеся в траншеях, не двигались с места. Они нуждались в безугарном древесном угле для своих железных печек. Во Франции его почти не осталось. Полковник Мур сказал мне: — Нам нужны тонны древесного угля. Займитесь его производством. Вместе с капитаном Риделем я наладил в нормандских лесах целое промышленное производство угля. Мы обеспечивали горючим печки в окопах. Но мучительно было думать, что в это самое время мои друзья сражаются на фронте. Я получал мужественные и мрачные письма от кузенов Пьера и Андре. Оба имели благодарности в приказе по армии. Андре, лейтенант пеших егерей, не сомневался в своей участи: «Уверенность в прекрасной смерти, — писал он мне, — не оставляет места для страха…» В начале 1915-го, поднимая роту в атаку, он был убит пулей в лоб. Я его очень любил. Его смерть меня потрясла. Я сказал Риделю: — Умоляю вас, господин капитан, не оставляйте меня в Руане. Я не могу сидеть в тылу, когда такие, как этот юноша, которому я же и внушал высокие идеалы, складывают головы в бою. — А как же ваша жена? — Неужели вы думаете, что ее такая жизнь устраивает?! Я знал, что это не так. В Эльбёфе она вступала в молчаливый, но бесповоротный конфликт с моими родственниками; в Руане же ей приходилось видеться со мной только в обществе докучливых майоров и полковников. По ее мнению, наша личная жизнь была принесена в жертву воинской службе. Моя отправка на фронт позволила бы ей устроиться в Париже в нашей милой квартирке на улице Ампер. Мы не ощущали нехватки в средствах: к нашему удивлению, фабрика, которая, казалось, должна была бы свернуть производство, работала полным ходом. Разумеется, она потеряла большую часть рабочих, призванных в армию, но сотни беженцев из Северной Франции пополнили ее кадры. В марте 1915-го Ридель был назначен офицером координации и связи при Девятой Шотландской дивизии и обещал взять меня с собой, как только получит согласие полковника Мура. Полковник Мур, которого мы на индийский манер называли «отцом и матерью», отбивался как мог, ведь миссия собиралась отобрать у него одного за другим двух его французов и заменить неизвестно кем. В конце концов он сам был переведен с повышением, и я смог присоединиться к Риделю. В это время поездки были затруднены, даже засекречены. Станционный комиссар вручал вам путевой лист, на котором был указан только номер воинской части, сажал в поезд с приказом сойти на такой-то станции, где уже другой комиссар направлял вас на соответствующий путь. После долгих часов ожидания, беготни и медленного продвижения я очутился в Бетюне и только тогда узнал, что там расположен штаб Девятой дивизии. Со всех сторон доносились артиллерийские залпы, видна была часть города, разрушенная бомбардировками; поезда останавливались, не доезжая до вокзала, ставшего мишенью для немцев. В маленьком помещении рядом с вокзалом я нашел капитана Риделя. Он был таким же, что и в Руане: напористым, веселым и дружески ко всем расположенным. — Нам повезло, — сказал он. — Эта шотландская дивизия — отборная часть. Мы много чего повидаем. Позже он доверительно, под большим секретом сообщил мне, что английская армия готовится к газовой атаке, подобной немецкой на Ипре. Под Лоосом я впервые в жизни увидел настоящее сражение. В честь этого великого дня Ридель передал меня в распоряжение командира дивизии генерала Тезиджера. За несколько дней до атаки штаб дивизии покинул Бетюн и расположился в небольшом замке по дороге на Лоос. Зрелище войск, занимавших боевые позиции, голов, склонявшихся под летящими снарядами, как колосья пшеницы при порыве ветра, пахнувших землей и порохом свежих воронок пробудило во мне страстное, давно забытое желание писать. Контраст между спокойствием солдат в форме цвета хаки, регулирующих автомобильное движение уверенными жестами полисменов с площади Пикадилли, и опасностью, их поджидающей, показался мне достойным пера. Позже, в день битвы, более печальным, но не менее прекрасным увиделся мне другой контраст: появление поутру генерала в красном с золотом мундире, изысканного, державшего себя с достоинством, и возвращение вечером того же дня его окровавленного бездыханного тела. Моя роль в сражении была точно та же, что я отвел позже переводчику Орелю в своей первой книге. Мне было приказано обеспечивать связь с французскими батареями, поддерживавшими дивизию. Прогулка по мокрому лесу, где бродили отставшие от своих частей солдаты, показалась мне чем-то нереальным и романтичным. Я воображал себя Фабрицио на поле битвы Ватерлоо и думал только о том, чтобы удачно сыграть свою крохотную роль. В итоге я заслужил британскую военную медаль «За отвагу в бою». К несчастью, наступление под Лоосом провалилось жутким образом. Сменивший направление ветер понес на наши войска газы, предназначенные противнику. Потери Девятой дивизии были столь велики, что после неудачного наступления было решено дать нам отдохнуть. Позже возникла необходимость усилить оборону Ипрского района, куда штаб нас и отправил. Для уставших войск это был трудный участок. Вся земля Фландрии была изувечена. Дом, не обезображенный хотя бы трещиной, приводил в удивление. Одна половина городка Поперенг лежала в развалинах, в то время как в другой томми и джонсы покупали в роскошных магазинах кружева молодым фламандкам. От Ипра остались лишь место и название. Местечки Вламертинг, Дишбуш, Ренингельс, где расположилась наша дивизия, еще насчитывали несколько домов-призраков, в которых мы оставляли спальные мешки. Прибыв в сектор обороны, мы с капитаном Риделем поселились в монастыре Хоогеграф, где обитали шесть старых монахинь и настоятельница. Монахини великодушно уступили нам две кровати в комнате, прилегавшей к их дортуару, при условии, чтобы мы приходили до наступления ночи и дожидались заутрени, прежде чем уйти. Условия эти беспрекословно выполнялись. Позже я стал делить место в палатке с одним английским врачом. Шли дожди. Да еще какие! Жирные поля превращались в болото, опасное, предательское из-за оставшихся в земле бураков, о которые мы то и дело спотыкались. Пока я не обзавелся резиновыми сапогами, ноги были все время промокшие. Порой по ночам внезапный ливень сносил нашу плохо укрепленную палатку; чтобы высвободиться, приходилось ползти по грязи под мокрым брезентом. Британская армия выделила для меня неплохого коня, и, вспоминая уроки Шарпантье, я учил его брать препятствия. Но однажды, перескочив ров, конь поскользнулся на глинистой почве и свалился, подмяв меня под себя. До сих пор вижу придавившую меня огромную тушу, а над ней черные тучи на мертвенно-бледном небе. Из-за этого происшествия я очутился в лазарете, где познакомился с врачами и священниками и наслушался их рассказов. Там меня осенила мысль написать без всяких комментариев диалоги, которые характеризовали бы Англию и Шотландию изнутри. Я подружился с блестящим психиатром доктором Джеймсом, человеком очень умным и саркастичным; под впечатлением одного из его рассказов я написал первую главу этой будущей книги, озаглавленную «Конь и фавн». Суровая проза этой жизни рождала вымученную, я сказал бы, граничащую с безумием поэзию. Поначалу она принимала музыкальные формы. В офицерской столовой каждый вечер из граммофона полковника неслись звуки одних и тех же песен: «Destiny Waltz», «We’ve come up from Somerset», «Pack up your troubles in your old kit-bag»[91]; затем звучала скрипка Крейслера, голоса Карузо и Финци-Магрини, любимой певицы полковника. Грохот орудий и стрекот пулеметов снаружи создавали великолепный контрапункт. Время от времени кто-нибудь из лихих офицеров рассказывал о своих подвигах в Индии, Египте, Новой Зеландии. Я слушал с непередаваемым восторгом. Перед моими глазами будто оживала прекрасная экзотическая картина. А когда все умолкали и только музыка нарушала тишину, я думал о Жанине, о родителях. Что они делают? Я воскрешал в памяти прекрасное лицо жены, склонившейся над колыбелью. Не забудет ли она меня? Ежедневно я получал от нее длинные письма, посылки с продуктами и шерстяными вещами. Я же посылал ей стихи, написанные в палатке под свист ветра и грохот пушек. О чем она думала? С кем встречалась? Я ее об этом без конца спрашивал. Как скажется на ней парижская жизнь? «Я беру уроки, — писала она. — Занимаюсь итальянским. Езжу верхом. Учусь водить машину в Булонском лесу… Была на улице Токвилль и повидала всех тетушек». Ее мать с братом переехали из Женевы в Париж, и я опасался, как бы их влияние не перевесило мое. Словом, без всякой видимой причины для беспокойства я мучительно страдал. Тревога звучала во мне жалобной мелодией в противовес спартанскому спокойствию моих товарищей. Тайный, чуть слышный голос нашептывал в глубине души: «Не станет ли эта тревога, умело изображенная, украшением твоей книги?» Иногда с кем-нибудь из офицеров я наведывался в Ипр. И вот однажды вместе с одним старым полковником медицинской службы отправился доставить лекарства моему другу доктору Джеймсу в Мепл-Колс, лесом на передовых позициях. Уже на въезде в город сильный артиллерийский обстрел остановил нас, и мы застряли на дороге, забитой военным транспортом. Разрывы снарядов приближались. Вокруг нас вспышки пламени рвали на куски автомашины, людей и лошадей. Впервые я физически ощутил чувство страха, которое сводит внутренности, искажает лицо. Я не испытывал этого в Лоосе, потому что выполнял тогда задание, но на этом перекрестке смерти мы оказались в вынужденном бездействии. Полковник, заметив мою бледность, протянул мне флягу: — Выпей-ка! Доктор Джонсон говорит, что бренди— напиток героев. Он оказался прав. Несколько глотков доброго коньяка вернули мне бодрость духа, и бомбардировка стала казаться спектаклем. Хотя каждый день тянулся еле-еле, недели и месяцы сменяли друг друга довольно быстро. Генерал Ферз занял место генерала Тезиджера, убитого под Лоосом. Ферз был, что называется, strafer[92]. Стоило ему появиться в спокойном секторе, как он сразу же начинал ершиться, открывал артиллерийский огонь, переходил в атаку и вызывал ответный удар противника. Ридель нас покинул — его перебросили в артиллерию. Вместе с Жоржем Рише, сменившим его, я начал переводить английскую книгу о войне «Первые сто тысяч» Яна Хэя, который под именем майора Бейза числился одним из офицеров-пулеметчиков дивизии. Издательство «Нельсон» приняло наш перевод и опубликовало книгу. Другим нашим соседом был командир батальона подполковник Уинстон Черчилль, но тогда я его видел только мельком. Когда мы покинули сектор Ипр, нас послали на отдых в Утерстин, что расположен за Байёлем. Это оказалась настоящая французская деревня, живущая трудами мирного времени, где завязалась нежная дружба между мною и красивыми, разумными дочерьми местного трактирщика. За время отдыха я лучше узнал моих шотландцев. Я посетил полки всех горных кланов. Повсюду собирал в копилку интересные типы, забавные истории для книги, о которой мечтал. Я наблюдал матчи по боксу в амбарах и футбольные матчи на покрытых грязью лугах; играм предшествовали торжественные звуки волынок и барабанный бой. Когда наступило Рождество, меня попросили обеспечить дивизию индейками и шалфеем для фаршировки; в день святого Андрея я наблюдал волынщиков, сопровождавших в офицерскую столовую блюдо haggis[93]. Так постепенно рисовался фон, на котором я собирался изображать своих персонажей. Их черты тоже прояснялись, смутные тени обретали плоть, заимствуя повадки и мысли моих знакомцев. Я не торопился, зная, что в свое время плод созреет и сам упадет с ветки. Штаб направил нас из сектора Байёль в сектор Армантьер. Он был гораздо спокойнее предыдущего, но от переутомления, пережитых потрясений и тоски по друзьям, к которым я успел привязаться, я захворал. Английские врачи решили эвакуировать меня в Гавр. На карточке, не предназначенной для моих глаз, я прочитал: «Аневризма аорты». Неужели все обстояло так серьезно? Трудно было в это поверить. Я чувствовал себя истощенным, но еще не умирающим. В санитарном поезде румяные белокурые английские санитарки обращались со мной как с хрупким предметом. Я не сопротивлялся. Последние десять месяцев жизнь была столь тяжелой, что капля женской заботливости пришлась очень кстати. И потом, я наконец-то встречусь с Жаниной… Что мне до врачей с их диагнозами? Мое сердце билось от радости.
12. «Полковник Брэмбл»
Из английского санитарного поезда я переместился во французский военный госпиталь в Гавре, где, на счастье, встретился с другом нашего семейства доктором Ледюком из Пон-де-Ларша. Он тщательно осмотрел меня. — Клянусь честью, — сказал он, — у вас нет никакой аневризмы аорты, но плохое дыхание и учащенный пульс. Я вас переведу в нестроевую часть. Я умолял его не делать этого: меня наконец-то представили к чину младшего лейтенанта, а мне очень хотелось стать офицером. В тылу это было исключено. — Ну хорошо, — согласился он. — Я буду наблюдать вас в течение трех месяцев, пока вы останетесь здесь на базе. Затем проведу еще один осмотр и, если не будет никаких противопоказаний, направлю вас на фронт. Узнав об этом решении, французская миссия при английской армии перевела меня в распоряжение генерала Ассера, командующего британской базой в Гавре. Генерал Ассер, необычайно рослый, был когда-то главнокомандующим в Судане; египетское солнце чуть не выжгло ему глаза под сдвинутыми бровями; он был, как говаривал Киплинг, «личностью». Словно рожденный командовать, энергичный, суровый, когда этого требовали обстоятельства, он умел выслушивать возражения, щадил самолюбие подчиненных и сплотил команду, преданную ему до самопожертвования. Его заместитель генерал Уэлч, маленький брюнет, некрасивый и суровый, служил ему как верный пес. Британские солдаты называли их the White General[94] и the Black General[95]. На деле генерал Уэлч был таким же «белым» и таким же безупречным солдатом, как и его начальник, но носил маску неумолимого человека, поскольку в силу быстрого продвижения по службе он был моложе большинства своих подчиненных. Поначалу он добивался их уважения страхом, а уж потом подкреплял его справедливостью. До моего появления с англичанами работали лейтенант Реймон Boor, одаренный художник, хороший товарищ, и сержант де Шабо-Латур, утонченный аристократ, до крайности скрупулезный; он был чем-то вроде церемониймейстера при генерале. Располагая некоторым количеством времени, я снял у подножья холма Сент-Адресс очень милый домик и вызвал жену. Это было запрещено, так как Гавр находился в зоне военных действий. Но командиры, ставшие мне друзьями, закрыли на это глаза. В Гавре мы были счастливы, как прежде. Думаю, Жанина была довольна. В Гавре у нее появились друзья. Она любила море, порт с тонкими мачтами, словно нарисованными на свинцовом небе. Она наверняка охотно поселилась бы со мной в этом оживленном городе. Но ничто не вечно в дни войны. Британские армии жаловались на плохую организацию транспорта и снабжения, и генерал Ассер, отлично себя зарекомендовавший, был неожиданно назначен General Officer Commanding the Lines of Communication[96] с полномочиями командующего армией. Сэр Джон Ассер (он получил от короля титул лорда) взял с собой Уэлча, который стал его помощником, и попросил миссию присвоить мне офицерское звание и прикомандировать к его штабу. Аббевиль… Над городом возвышался собор с изящной башенкой, служившей наблюдательным пунктом. Старинные деревянные дома с резными балками окружали памятник адмиралу Курбе, протянувшему руку «поглядеть, не идет ли дождь», как шутили местные жители. Недоверчивые пикардийцы, всегда себе на уме, походили на буржуа XV века, изображенных на балках их домов. Коммерсанты, заключавшие с английским штабом выгодные сделки, отказывались эвакуироваться, хотя немецкие самолеты частенько навещали город. Предприимчивые девицы, рискуя жизнью, продавали томми почтовые открытки и пиво. Меня поселили по-королевски, в прекрасном доме мадемуазель Домаль, а обедал я в офицерской столовой штаба с группой офицеров, к которым сильно привязался. Генеральный штаб поручил ведение боевых действий полковнику Уорру, сыну знаменитого итонского Headmaster[97]. Полковник Уорр, маленького роста, подтянутый, был знаменит в британской армии тем, что выиграл в Индии кубок Кадира, присуждавшийся тому, кто, вооруженный рогатиной, одолевал кабана. Этот юношеский успех придавал авторитет его стратегическим замыслам. Его заместитель майор Уэйк, также выпускник Итона, вел родословную от Херварда Зоркого, последнего предводителя саксов, сражавшегося с норманнами во времена Вильгельма Завоевателя. Блестяще образованный, саркастически настроенный любитель парадоксов, он стал позднее в моей книге майором Паркером, хотя этот персонаж был наделен еще и чертами помощника генерала полковника Дженнера, потомка Дженнера, открывшего противооспенную вакцину. Адъютант генерала молодой артиллерист Дуглас, перенесший тяжелое ранение, сидел в одном со мной кабинете, наигрывал рэгтаймы на клавишах моей пишущей машинки, жонглировал папками и улюлюкал, как на травле зверя, когда я, пытаясь дозвониться, боролся с телефоном. Поверхностное сходство с ним имеет юный Дандас из моей книги. У меня было много работы. Генерал Ассер отвечал за оборону и организацию снабжения огромной территории, находившейся в ведении французских властей. Отношения с ними были тесными, но порой весьма затруднительными. Иногда приходилось отправляться на машине с миротворческими задачами: унимать жителей какого-нибудь городка, недостаточно защищенного от вражеских самолетов, или улещать французского генерала, возмущенного слишком категоричным приказом британцев. Дружба с генералом Уэлчем оказалась для меня бесценной. Ежедневно мы пили вдвоем чай, и тогда я мог откровенно говорить с ним о множестве важных вещей. Сами английские генералы, зная, что он прислушивается к моему мнению, обращались ко мне по щекотливым вопросам: — Если бы вы могли сказать пару слов Уэлчу, вы бы очень помогли нам… Я был серым кардиналом серого кардинала, отцом Жозефом во второй степени. Кроме того, став офицером-переводчиком, я командовал подразделением численностью в тридцать человек и был обязан регулярно посещать их, обеспечивать денежным довольствием, быть в курсе их дел. Одним из моих «людей» был Жак де Бретёй, друг принца Уэльского, другим — востоковед Эсташ де Лорей. Все знали свое дело и особого беспокойства мне не доставляли. С генералом Ассером я был не так близок, как с Уэлчем, он не удостаивал простых смертных своим обществом (а если и спускался иногда с Олимпа, то по таким же причинам, что и Юпитер), но и он частенько обращался ко мне по делам и в связи с приемами. Когда Клемансо прибыл на фронт в район реки Соммы, мы его сопровождали. В другой раз президент Пуанкаре и король Георг V встречались в Аббевиле, и мне поручили встретить президента на вокзале. — Задержите его на четверть часа, — сказал мне Ассер. — Король хочет побеседовать с начальниками кафров, что несколько меняет график. Это странное поручение навлекло на мою голову проклятия французского генерала, сопровождавшего президента, и поставило меня в затруднительное положение во время первой беседы с Пуанкаре. — Как это понимать? — возмутился генерал. — Король заставляет ждать президента, потому что, видите ли, хочет поговорить с какими-то кафрами. Это немыслимо! — Но, господин генерал, тому есть причина. Речь идет о работниках, заключивших контракт только на один год. Они отработали и хотят вернуться домой. Но их нужно оставить для рытья окопов, и есть надежда, что авторитет короля сыграет свою роль. — Хорошо, — смирился Пуанкаре. — Но смешно ждать на вокзале. Нельзя ли удлинить мой маршрут? — Увы, господин президент, это невозможно из-за почетного караула — он уже выстроен. — Ну тогда пойдем медленно, но только пойдем! Генерал схватил меня за плечо. — Вперед, черт возьми! — закричал он. Я уже почти выиграл необходимые пятнадцать минут, и мы могли идти. Над нами кружилась эскадрилья вертолетов «Сигонь», которая отвечала за охрану глав государств. В конце войны каждую не слишком темную ночь Аббевиль подвергался налету немецкой авиации. Зенитная артиллерия, которой мы располагали, самолеты не сбивала. В десять часов вечера выстрелом из пушки объявляли тревогу. Двадцать минут спустя слышалось прерывистое ворчание немецких бомбардировщиков. Город и прилегающие склады боеприпасов озарялись осветительными ракетами. Потом четверть часа рвались бомбы. Когда все было кончено, мы шли осматривать воронки, порой огромные, считали убитых и ложились спать. После прорыва фронта Пятой армии налеты стати еще более мощными; мы пытались уходить на ночь из города и возвращаться на работу рано утром. Но это было утомительно, сопряжено с массой неудобств, и штаб скоро от этого отказался. Неожиданность во многом сопряжена со страхом перед опасностью. Как только к ней привыкаешь, страх уходит и лень одерживает верх над предосторожностью. Каждые четыре месяца я имел право на отпуск. Первый из них я провел в Париже с женой в нашей квартирке на улице Ампер. Он был испорчен некоторым чувством неловкости. Как это легко было предвидеть, около Жанины, красивой, оставленной в Париже в одиночестве, кружило множество разного народу, что не способствовало занятиям и скромному образу жизни, который я ей предназначал. Я был далеко, и она, понимая, что кое-кто из ее новых друзей не придется мне по душе, никогда о них не писала. Вернувшись, я не мог не заметить происшедших в ней изменений, не услышать новых имен, не обратить внимания на новые привычки, мне незнакомые, и ей это было неприятно. В течение всего отпуска она очень мило, даже усердно, пыталась угодить мне, но у нее ничего не получилось; я уехал, унося воспоминания о загадочных телефонных звонках и непонятных намеках. Она это почувствовала и на перроне Северного вокзала поцеловала меня с тревожной, отчаянной нежностью. Другой отпуск совпал с первыми обстрелами Парижа «Большой Бертой». Выйдя с вокзала, я не нашел ни носильщиков, ни такси. В Париже была объявлена тревога. С тяжелым чемоданом я шел по опустевшим улицам. Время от времени раздавались взрывы. Странный это был налет. Вечерние газеты еще писали о каких-то самолетах, но за время отпуска мне все стало ясно, и я посоветовал Жанине уехать из Парижа. В предыдущем году она провела лето сначала в Баньоле, потом в Довиле; теперь она стала переезжать с места на место. Жила несколько месяцев в Бретани, снимала виллы на юге Франции. Кроме нашего ребенка и воспоминаний, у нас оставалось мало общего. Война поломала нашу совместную жизнь, и далеко не только нашу, и эта трещина, нарушившая столько союзов, стала не самым малым из печальных последствий войны. В те времена я писал жене много писем в стихах, но они были адресованы скорее воображаемой Наташе и Ирине, чем реальной мятущейся женщине, которой нужен был я сам, а не мои поэтические послания. Мне запомнились два четверостишия:Это была не единственная перемена в моей жизни. В 1914-м, покидая Эльбёф, я был провинциальным фабрикантом; мой маленький город, мой маленький мир, моя маленькая семья казались мне центром вселенной. Я и мои близкие составляли часть прочной устойчивой системы, у которой были свои незыблемые законы, позволявшие предвидеть события и строить планы. Война продемонстрировала, что насилие может разрушить за несколько дней целую империю, как землетрясение в считанные минуты превращает в руины самые высокие здания большого города, а под обломками государства могут быть погребены и огромные богатства, и весьма благополучные домашние очаги. Разумеется, я принял решение возвратиться в Эльбёф и снова тянуть лямку, но прежнего пыла и веры во мне не было. Я потерял их. Слишком велик и разнообразен оказался мир, чтобы я мог и дальше полагаться на стабильность механизма, которым должен управлять. Не признаваясь открыто самому себе, я в глубине души вынашивал замысел, четыре года тому назад немыслимый: покинуть фабрику, родной город, насиженное место и попытаться заново строить жизнь на оставленном войной пепелище.
Часть вторая Время трудов
1. Возвращение
Из эльбёфской красильни струилась ручьями синяя, зеленая, желтая вода. Воздух дрожал от однообразного гула ткацких станков. В узком дворе фабрики грузовики со штуками сукна, бочки с нефтью, ящики проволоки — все напоминало о прошлом. Мне снова бил в нос крепкий запах влажного пара и немытой шерсти. Но возле решетки перед входом появилась вторая доска из черного мрамора: позолоченными буквами на ней был выгравирован длинный список предпринимателей и рабочих, павших за Францию. Список открывался двумя именами: КАПИТАН ПЬЕР ЭРЗОГ, Кавалер ордена Почетного Легиона и Креста за боевые заслуги. ЛЕЙТЕНАНТ АНДРЕ ФРЕНКЕЛЬ, Кавалер ордена Почетного Легиона и Креста за боевые заслуги. Молодые командиры в последний раз вели за собой незримую роту погибших воинов. Каждое утро, придя на фабрику, я останавливался в раздумье перед этой доской с эльзасскими и нормандскими именами. Все мы, и фабриканты и рабочие, являлись на работу позднее, чем прежде. По предложению Клемансо парламент принял закон о восьмичасовом рабочем дне. От дядюшек остались лишь не очень светлые воспоминания. Мы никак не могли после четырех лет непрерывных ожиданий, печальных событий, опасностей вернуться к привычному образу жизни. Со старыми солдатами я говорил охотнее о войне, нежели о фабрике. Наш приятель, складской служащий Сатюрнен вернулся с медалью, отвоевав на Ближнем Востоке и попав в плен в Германии. О Каире и об Александрии он рассказывал, как американский турист. В Баварии богатая фермерша предложила ему руку и сердце. Он предпочел, как и прежде, таскать на голове отрезы черного сукна и синих «амазонок». Цеха заполняли бравые герои войны, которые ровным счетом ничего не боялись и откровенно скучали. Да я и сам никак не мог привыкнуть к мягкому гражданскому костюму и к тому, что надо мной нет командира. Чтобы жена скорее поправилась, врачи посоветовали нам жить за городом, и я купил на Нейбурском плоскогорье в живописной деревушке Ла-Соссе под Эльбёфом дом, окруженный парком. Имение отличалось стройной планировкой. Четыре гектара образовывали точный прямоугольник. Кирпичный дом, покрытый черепицей, находился в самом центре угодий. Четвертую часть парка занимали яблони, другую — цветы, четверть — огород, на оставшейся части выросли высокие липы. Розарий с яркими Dorothy Perkins и Crimson Ramblers[99] фестонами обрамлял центральную аллею, что вела к воротам, за которыми виднелась колокольня. Крохотная деревня была построена в очень отдаленные времена капитулом каноников; церковь окружали украшенные скульптурами домишки. Некогда она находилась под защитой укрепленной стены. От нее остались лишь ворота с римскими аркадами. Какой прелестный вид! Я сразу же полюбил наш дом в Ла-Соссе, окруженный со всех сторон бескрайними полями пшеницы, расцвеченными маками, колокольчиками, маргаритками. На вечерней прогулке его можно было найти издали по трем тополям, которые возвышались, как мачты, над липами, в чьих кронах гудели пчелы. Привязалась ли Жанина к своей новой обители? Она только что вернулась со своей личной войны — болезни — с омертвевшими душой и телом. Посторонним это не бросалось в глаза, потому что улыбка ее оставалась детской, а прекрасное лицо — по-прежнему молодым. Но к обычной меланхолии прибавилась особая горечь. Оставшись на четыре года одна, без защитника, без наставника в беспощадном и опасном мире, она познала измену, жестокость, коварство. Короткая встреча с суровой прозой жизни наградила ее мучительным цинизмом, замаскированным игривостью, поэтической веселостью, наигранным легкомыслием, и от этого яда не было лекарства. Как во времена наших женевских прогулок, она иногда шептала: «Рок тяготеет над тобой… рожденная под знаком Марса» и добавляла: «Марс… Бог войны. Ты видишь, я была права, опасаясь его». Раньше она любила одиночество и спокойно радовалась всему, что давала ей жизнь; теперь же в ней появилось пристрастие к роскоши, дорогим платьям, драгоценностям, интерес к танцам, ночным клубам, джазу; все это после длительных лишений было совершенно естественно, но огорчало строгого моралиста, затаившегося в глубине моего «я». Наблюдая ее жизнь, я вспоминал выражение Алена: «Легкомыслие — недуг тяжелый». Возможно, она могла бы стать счастливой, если бы я ее принял такой, как она есть, и сделал все, чтобы примирить ее с жизнью. И я был погон добрых намерений, готов подчинить свои желания желаниям Жанины. Я предоставлял ей все, что она хотела: великолепную квартиру в Нёйи, поездку в Довиль, путешествия, дарил множество подарков, но облекалось это в такую форму, что дар становился вынужденной уступкой и поводом для упреков. Я говорил ей: — Почему бы тебе не помогать в благотворительных делах моей матери? Война оставила столько горя… Почему бы не заняться детьми погибших воинов? И зачем тащить меня в Довиль, если здесь я могу спокойно работать над книгой? Когда я перечитал в зрелом возрасте драмы Клоделя, и особенно «Заложника», где так вдохновенно говорится о самоотречении, я понял, правда, слишком поздно, что именно погубило наш союз после воссоединения. Чтобы вновь завоевать Жанину, я готов был пожертвовать чем угодно, кроме привычного образа мыслей, иначе говоря, повторяю, я не мог принять ее такой, какой она была. Эгоизм писателя — чувство, в котором сочетаются материнская заботливость и отцовское тщеславие, — непомерно разросся во мне. Наша семейная жизнь, по видимости столь спокойная под прекрасными липами Ла-Соссе, от этого страдала.Этот эгоизм становился тем более требовательным, что в плане творческом я был собою недоволен. Успех «Молчаливого полковника Брэмбла» показал, что я способен написать книгу и найти своего читателя. В апреле 1918 года я начал писать второй роман. С первых же посещений Оксфорда у меня в голове зрела мысль о жизнеописании поэта Шелли. Мне казалось, в романе о нем я смог бы выразить те чувства, которые некогда испытал сам и которые продолжали меня волновать. Я, как и Шелли, стал под влиянием юношеских чтений теоретиком и хотел применить рациональные методы к области чувств. Как и он, я встретился с живой материей чувств, которая не подчинялась моему разуму. И, как он, я страдал сам и причинял страдания другим. Я досадовал на свои юношеские заблуждения, но не корил себя, потому что понимал — иначе не могло быть. И мне хотелось рассказать о таком юноше, объяснить, что и почему в нем было хорошего и дурного. Шелли познал те же страдания по сходным причинам, но большего масштаба. Достаточно вспомнить его отношение к Гарриет, неспособность понять и принять легкомыслие этой женщины-ребенка, уроки математики, занятия эстетикой, проповеди, обращенные к Ирландии. Я понимал, что при тех же обстоятельствах в том же возрасте совершил бы те же ошибки и, возможно, еще совершу их. Гордость и самоуверенность подростка сменились во мне смирением и жалостью, в чем я тоже усматривал сходство с Шелли, каким он стал под конец жизни… Да, тема была поистине близка мне. Но в ту пору я жил в Аббевиле, где не было английской библиотеки, необходимых документов, об исследовательской работе, без которой нельзя написать биографию, нечего было и мечтать, пока не кончится война. Тогда меня осенила мысль написать роман, исходя из реального жизненного материала, то есть перенести историю Шелли, Гарриет Уэстбрук и Мэри Годвин в современную жизнь. Но возможна ли такая романтическая история в эпоху, когда романтизм далеко позади? Эта задача весьма меня занимала. Я очень любил город, куда меня забросила война. Полюбил прекрасные церкви, мощеные дворы старинных особняков и дома с резными украшениями. Я взялся читать материалы по истории Аббевиля, в том числе «Переписку» аббевильского эрудита Буше де Перта. Он легко читался, к тому же меня интересовала эпоха. Это был конец царствования Луи-Филиппа, революция сорок восьмого года и начало правления Наполеона III. Мне казалось, что 1848 год — это лучшее время, когда образ Шелли мог бы укорениться на французской почве. Его переживания, возвышенные чувства, идеализм были тут вполне уместны. А раз уж я так любил Аббевиль, то почему бы не поселить его там? Оставалось разобраться, что происходило в этом городе в 1848 году. Супрефект дал мне разрешение ознакомиться с архивами, и там я сразу же заинтересовался досье управления путей сообщения. По нему можно было проследить невзгоды некоего несчастного инженера, воевавшего с самим морем; его лучшие, наиболее тщательно сделанные сооружения смывали волны. Этот символ пришелся мне по душе; техника же была мне знакома благодаря дяде Анри; я решил, что мой Шелли станет инженером. С этого момента работа над романом пошла с поразившей меня самого скоростью. Его герой Филипп Виньес воплощал мое прежнее «я», которое стало мне теперь враждебно. Книга вышла в 1919 году и большого успеха не имела. «Полковник Брэмбл» был продан в количестве ста тысяч экземпляров; а из тиража романа «Ни зверь, ни ангел» разошлись всего семь или восемь тысяч. Бернар Грассе грешил на заголовок, который он счел заумным. Сам я вынес роману обвинительный приговор. Зато Алену он понравился, что меня удивило и придало бодрости. «Вы хорошо усвоили уроки Стендаля», — заметил он. Я их действительно усвоил, но при этом не смог выразить себя самого. Я считал, что мне было что сказать, но самое серьезное и даже важное из задуманного сказано не было; причиной тому, скорее всего, послужил образ Шелли, по-видимому, было бы лучше не делать из Шелли инженера сорок восьмого года, а просто описать историю его жизни. Отсюда пришло страстное желание прочитать все, что было написано Шелли: его переписку, его поэзию, — и создать биографию, которая стала бы анализом не столько творчества, сколько личности. Это желание стало потребностью, оно рождало нетерпение. Фабрика, семья — все мне казалось ненужной тратой слов и времени. Моей мечтой стало уединиться и читать, писать, отрешиться от суеты, окружить себя образами, созданными моим воображением. Эту мечту я впоследствии переадресовал Шелли, который, впрочем, ее и сформулировал: «Ему казалось, что в кристально чистых областях его мысли Гарриет и дочь были сгустками неподатливой живой материи. Напрасно всей силой разума он пытался их удалить; грубая тяжелая реальность ломала его воздушные укрепления».
* * *
Работой на фабрике я тяготился. Без сомнения, потому, что меня влекли другие занятия, более близкие по духу, но также потому, что послевоенная промышленность не походила на довоенную. До 1914 года, если конкуренция и была жесткой, а прибыль — ограниченной, осторожный человек мог по крайней мере вести свой челн более или менее уверенно. Цены на сырье служили ему надежными ориентирами. Денежный курс колебался незначительно. Заработная плата повышалась медленно. После войны все компасы сломались. Курс франка, фунта, доллара, песеты беспорядочно скакал. После перемирия потребности Европы стали таковы, что промышленники, казалось бы, могли рассчитывать на громадные прибыли. До 1914 года заказчики были тиранами, о которых говорили с почтительной опаской и которые диктовали искавшим сбыт промышленникам-одиночкам свои требования. В 1920 году промышленники, засыпанные заказами, договорились между собой усмирить потребителей. Трое братьев Блен предложили нам заключить союз, то была дипломатическая революция, столь же неожиданная, как тогдашнее сближение Англии и Германии. Когда я приезжал в Париж, моей целью было не получить заказы, а аннулировать их. На бумаге мы невероятно обогащались, в действительности же, если считать по покупательной способности, беднели с каждым днем, но были столь невежественны в экономике, что не замечали этого. Рабочие, видя, что фабрика успешно работает, естественно, требовали свою часть прибыли; они верили, что каким-то чудесным образом заработки повысятся, а цены упадут. Каждую неделю тот или иной цех требовал увеличения зарплаты на десять или двадцать процентов. Хозяева шли на все. Какое это имело значение, если отпускные цены продукции безгранично росли? Воспротивились они лишь тогда, когда профсоюзные лидеры взяли в свои руки вопрос заработков, чтобы сделать его инструментом своего влияния. Тут уязвленные промышленники встали на дыбы. Эльбёф вступил в полосу политических стачек. В романе «Бернар Кенэ» я описал самую значительную из всех забастовок, грустную тишину умолкнувших цехов. Те немногие рабочие, которые хотели продолжить работу, подвергались унижениям, нападкам. Я невыносимо страдал от этой вражды между соплеменниками. С самого начала работы на фабрике я стремился по мере сил быть справедливым. Но в обоих лагерях противники более руководствовались эмоциями, чем чувством справедливости. Кому нужны были мои усилия? Я устал от этой борьбы без союзников и даже сожалел о военных временах. По крайней мере, если и страдали, то жили сплоченно. Скоро гиперинфляция привела к кризису. Он был неожиданным и страшным. Заказы резко сократились, за несколько дней половина их была аннулирована. На смену забастовкам пришла безработица. Рабочие, вчера еще настроенные к нам враждебно, заносчиво, стали снова дружелюбными и покладистыми. На фабрике останавливались цеха. Продукция стремительно обесценивалась, и мы убедились, что за эти три безумных года капитал фирмы лишь убавился. — Мы оказались детьми, — грустно сказал мой двоюродный брат Робер Френкель. — Надо было вести бухгалтерию в пересчете на золото. Ориентируясь на нестабильную валюту, мы разоримся окончательно. Он был прав; но когда мы с ним стали требовать, чтобы велись двойные подсчеты, старшие родственники только пожимали плечами. — Что еще за сложности! — говорили они. — И зачем? Мы о таком и слыхом не слыхивали. В литературе я преуспевал больше, чем в промышленности, и утешался тем, что в пору наших невзгод опубликовал новеллу «Понижение и повышение».Весной 1922 года я получил от Поля Дежардена, преподавателя литературы в Эколь Нормаль в Севре, основателя «Союза за правду» и всеми уважаемого критика, приглашение провести летом декаду в аббатстве Понтиньи[100]. В очень любезном, написанном каллиграфическим почерком письме объяснялось, что там каждый год собираются писатели, ученые и просто интересующиеся люди из разных стран, чтобы обсудить какую-нибудь литературную или этическую проблему. В этом году остановились на теме «Чувство чести». Должны были принять участие Андре Жид, Роже Мартен дю Гар, Эдмон Жалу, Робер де Траз, Жан Шлемберже, англичане Литтон Стрейчи и Роджер Фрай. Программа и состав меня заинтересовали. Я восхищался многими из этих писателей, и мне страшно хотелось окунуться в беседы об идеях и книгах, а не о забастовках и положении на рынке. Я попросил Жанину, которая не пожелала ни сопровождать меня, ни оставаться в Ла-Соссе, пожить в Трувиле и принял приглашение Дежардена. Цистерцианское аббатство Понтиньи находится под Оксером, вблизи Бона, в Бургундии. В купе поезда моими соседями оказалась пара, которая сразу же привлекла мое внимание. На муже, чуть старше меня, почти лысом, с прекрасными задумчивыми глазами и длинными свисающими усами, был широченный пиджак с карманами, из которых высовывалось множество остро отточенных карандашей. Жена, свежая завитая блондинка, казалась очень скромной и детски чистой. Их разговор, который я невольно слышал, заинтересовал меня. Впрочем, увидев на моем чемодане наклейку «Понтиньи», они представились: «Шарль и Зезетта Дю Бос». Имена эти мне ни о чем не говорили, но только в силу моей неосведомленности, ибо Шарль Дю Бос уже опубликовал прекрасные исследования о Бодлере, Мериме, Прусте, которые высоко оценили их немногочисленные читатели. Он изъяснялся необычайно медленно, тщательно подбирая эпитеты. И слова его не просто были точными и правдивыми, они выражали самую суть того, о чем шла речь. Когда он рассказывал о писателях, с которыми нам предстояло встретиться, его серьезность, доскональный анализ характеров, постоянные ссылки на английских поэтов меня поразили. В нем словно слились персонаж Пруста и герой Диккенса. Я и не подозревал, что этот красноречивый собеседник станет одним измоих самых близких друзей. На перроне вокзала Понтиньи нас встречали Дежарден и Жид. Хозяин аббатства был похож на Толстого. Такая же нечесаная борода, такие же резко очерченные скулы, тот же вид гениального фавна. Церемонный, зачастую тихий, он смущал насмешливым тоном. В Жиде, наоборот, было что-то успокоительное. В накидке горца, в серой мексиканской шляпе, странно сочетавшейся с лицом самурая, он удивлял и покорял молодостью духа и живым интересом ко всем новым людям. В этом обществе, изобиловавшем талантами, я был новичком и боялся, что оробею в непривычной обстановке, но очень скоро завел друзей. Правила здесь были монастырскими. Ели все вместе под готическим сводом бывшей монастырской трапезной, мадам Поль Дежарден, невестка Гастона Париса[101], сидевшего во главе стола, рассаживала приглашенных. Меня она посадила рядом со своей дочкой Анной, черноглазой дикаркой, поражавшей умом и темпераментом. Анну окружала ватага учеников Дежардена, она пользовалась в Понтиньи заслуженным авторитетом и судила о нас не без лукавства. Мы с ней сразу же поладили. Наш распорядок дня был весьма прост. Первая половина дня — свободная; одни ходили на прогулки в Оксер, в Боне, Везеле вдоль реки; другие занимались в библиотеке аббатства, которую Дежарден с ложной скромностью называл «деревенской», необычайно богатой по количеству и качеству книг. После обеда рассаживались под сенью деревьев и начиналась дискуссия. Каждый день она оборачивалась маленькой драмой, ибо с первых минут сталкивались болезненная чувствительность Дежардена и педантичная серьезность Шарля Дю Боса, дьявольская изворотливость Жида и наивность кое-кого из иностранцев. Молчаливый, невозмутимый Роже Мартен дю Гар с лицом нормандского нотариуса внимательно слушал, иногда вынимал из кармана записную книжку и делал короткую заметку. Философ Эдмон Жалу терпеливо скучал и ждал, пока все это кончится, чтобы пойти в кабачок Понтиньи и выпить дозу «шабли». Немцы Куртиус[102] и Гротхюзен переводили ясные мысли французов в план туманных абстракций. Шарль Дю Бос (или Шарли, как его все звали в Понтиньи) остерегался слишком ясных мыслей и охотно сказал бы, как императрица Евгения о Вольтере: «Я не прощу ему того, что он сделал мне понятными вещи, которые я никогда не пойму», поэтому поддерживал взглядом Куртиуса и Гротхюзена. Литтон Стрейчи скрещивал длинные ноги, закрывал глаза, удивлялся отсутствию у нас чувства юмора и засыпал. — А что, по вашему мнению, господин Стрейчи, самое важное на свете? — неожиданно спрашивал Поль Дежарден. Наступало продолжительное молчание. Затем из застывшей бороды Стрейчи раздавался слабенький фальцет. — Страсть, — говорил он с вальяжной небрежностью. И члены нашего торжественного сборища, в одно мгновенье ставшего раскованным, громко смеялись. В четыре часа колокол звал к чаепитию. Как и обед, оно проходило в трапезной. После ужина собирались в гостиной для изощренных ученых игр. Например, в портреты-ассоциации: — Если бы это была картина, то какая? — «Венера» Рафаэля, подправленная Ренуаром, — серьезно отвечал Роджер Фрай[103]. Или в портреты-оценки: — Ум? (Речь шла о Бенжамене Констане.) — Девятнадцать, — отвечал Жид. — Любезный друг, — с волнением перебивал его Шарль Дю Бос, — если разрешите, я бы скорее сказал: восемнадцать и три четверти… — Чувствительность? — Ноль, — говорил Жид. — Ну что вы, любезный друг, — в отчаянье возражал Шарли, — по меньшей мере средняя, скажем, двенадцать или двенадцать с половиной… Я был счастлив очутиться в этом новом для меня мире. Воспитанный среди философов и поэтов в лицее, затем неожиданно оказавшийся на фабрике и лишенный любимых занятий, я нашел в Понтиньи то, что было близко мне по духу. В Эльбёфе мое увлечение литературой было ни к чему и только создавало мне репутацию чудака. В Понтиньи же начитанность нашла применение. Меня пригласили как автора забавного, но несерьезного «Полковника Брэмбла», а встретили знатока Бальзака (что связывало меня с Жидом) и Толстого (что роднило меня с Роже Мартен дю Гаром). Шарль Дю Бос, слегка шокированный легковесным, по его мнению, тоном моей первой книги, а также тем, что я был учеником Алена (он не принадлежал к его поклонникам), отнесся ко мне поначалу с опаской, но наша общая знакомая Анна Дежарден, заметив мое восхищение Шарли, привела его, оттаявшего и расчувствовавшегося, ко мне перед завершением нашей декады. С этого года у меня завязались в Понтиньи бесценные дружеские отношения. Перед отъездом Андре Жид спросил у меня: — А что вы сейчас пишете? — Жизнеописание Шелли. — Почему бы вам не приехать ко мне за город и не показать свою рукопись? Это недалеко от вас. — Но книга еще не окончена. — Вот и отлично… Я люблю только незаконченное… Из него еще можно что-то вылепить. Я согласился. И хотя обещал Жанине приехать за ней в Трувиль, чтобы вместе поехать на несколько дней в отель «Нормандия» в Довиле, удалился на три дня к Жиду, который жил по ту сторону широкого устья реки между Гавром и Феканом. Знал я его еще мало и полагал, что попаду в интерьер 900-х годов в стиле «Болот». Очутился же в длинном, белом, очень тихом доме, владении крупных французских буржуа. После ужина Жид попросил меня почитать ему вслух мою рукопись. «Это опасное, — сказал он, — но кардинальное испытание для литературного текста». Сильно взволнованный, я читал очень плохо, но он допоздна слушал меня с напряженным вниманием. Время от времени он делал записи. Когда я кончил, он сказал, что книга написана неплохо, крепко сбита, но ему хотелось бы увидеть более глубокий анализ поэзии и других произведений Шелли. Я ответил, что сюжет книги иной. Затем он сделал ряд частных замечаний, и все попадали в точку, по поводу неудачных выражений, излишних красот стиля. Он посоветовал мне пожертвовать несколькими выигрышными местами, выбивавшимися из общего стиля и мешавшими развитию действия. Вкус у Жида был отменный, и его урок пошел мне на пользу. От этих бесед у меня сохранилось светлое и благодарное воспоминание. Встречи в Понтиньи повторялись ежегодно, и дружеские отношения, которые там завязались, оказали на меня глубокое влияние. Разумеется, общество это было не без погрешностей. Оно, бывало, склонялось к манерности, поощряло разобщение на группки, поддерживало педантов и схоластов. Но достоинства намного превосходили недостатки, а маленькие группки возглавлялись светилами.
2. Дважды утраченная Эвридика
Все четыре года войны я провел с англичанами. К сожалению, после победы наши связи оборвались. В двадцатом, а затем и двадцать первом году мои товарищи по штабу генерала Ассера приглашали меня на памятные обеды. Некоторых из них я позвал в Париж. Генерал Бинг, с которым я повстречался в Лондоне, сказал мне: «Вы хорошо узнали английскую армию, но совсем не знаете Англию. Я вас с ней познакомлю. Пожалуйте отобедать со мной в „Атенеуме“». И он устроил оригинальный обед, на который пригласил двенадцать англичан — представителей двенадцати профессий из различных кругов общества. Припоминаю, что там были адмирал, министр (он оказался сэром Остином Чемберленом), спортивного вида епископ, художник, юморист (Оуэн Симен[104] из «Панча»), промышленник, коммерсант, сельский дворянин-землевладелец. После каждого блюда я должен был менять место, чтобы к концу обеда, поговорив со всеми, узнать Англию. За шампанским лорд Бинг произнес короткую речь и, обращаясь ко мне, сказал: «Здесь мы все Брэмблы…» Так оно и было. Армия была для меня не единственным связующим звеном с Англией. Когда вышла моя первая книга, романист Морис Бэринг, который служил во Франции в британской авиации, прислал мне забавное письмо. Оно положило начало нашей дружбе. Когда я приезжал в Лондон, Бэринг всегда устраивал скромный обед в своем живописном обиталище в Линкольн-Инн. У него я познакомился с Дафф-Купером и его будущей женой леди Дианой Мэннерс, с Хэрольдом Николсоном, Десмондом Мак-Карти, леди Ловет и леди Уилсон. Бэринг, обращенный в католицизм, отличался пылкой и искренней верой. Как все праведники, он был человеком добрым и жизнерадостным. Письма, что он мне писал (до последней войны их набралось несколько), имели диковинный вид: строки, напечатанные на черной или красной ленте, стихи, отделенные от текста сплошной отбивкой из букв «W» или «X», написано все на французском и английском вперемешку, а перед подписью стояло что-нибудь вроде «С предружественнейшим приветом» или «Ваш воистину» (буквально переведенное «Yours truly»). Все это было странновато, смешно, мило и умно; здесь и там глубокая мысль неожиданно освещала бездну чувств. Таким был Морис. Так называла его вся Англия. Его очень любили, и он этого заслуживал. Он отличался скромностью и неизменным великодушием. Когда я его представил аббату Мюнье, Мориса тронуло, как аббат восхищался Гёте. У него хранилось первое издание «Вертера». По возвращении Мориса в Англию книга отправилась на улицу Мешен, где проживал каноник. У Бэринга была коллекция живописи Кармонтеля[105]. Один из его французских друзей заметил: — Вот что обогатило бы музей Карнавале. — Вы полагаете? — сказал Бэринг. — Я их туда отправлю. На следующий день он так и поступил. Когда библиотека губернатора Кипра Роналда Сторса была сожжена во время мятежа, Бэринг послал ему телеграмму: «Библиотека в пути». Узнав о катастрофе, он отдал все свои книги. Морис был склонен к фантастическим выходкам, способным ошеломить даже француза. Долгое время в отеле в Брайтоне он каждый год давал ужин друзьям в честь своего дня рождения, который приходился на разгар зимы, а после ужина в полном парадном костюме бросался в море. Я видел собственными глазами, как во время обеда у себя дома он встал из-за стола, чиркнул спичкой и поджег гардины: беседа показалась ему вялой. Однажды, в бытность студентом Кембриджа, он пересекал двор Тринити-колледжа и незнакомый студент-индус хлопнул его по плечу. Морис Бэринг обернулся. — Ах, извините, — залепетал студент, — я полагал, что вы мистер Годвери. — Я и есть мистер Годвери, — спокойно ответил Морис. Меня забавляла эксцентричность Мориса, но я больше ценил серьезные стороны его дарования и советовал ему писать возвышенные, целомудренные романы, для которых он, казалось, был создан. В «Daphne Adeane» он осуществил мои пожелания, и я представил книгу французскому читателю, написав предисловие. Меня принимали и в других лондонских домах. Леди Оксфорд и миссис Роналд Гревил познакомили меня с политическими деятелями, леди Колфакс — с литераторами. У нее я впервые встретился с Редьярдом Киплингом, которым так восхищался. И он не разочаровал меня. Киплинг говорил как Киплинг. Киплинг был персонажем Киплинга. Он первым предостерег меня против благодушного пацифизма, который грозил разоружить Англию. «Не забывайте, — сказал он мне, — что в конце концов страны становятся похожими на собственные тени». Эти слова показались мне загадочными, но ход истории сделал их провидческими. Позже, в 1928 году, он пригласил меня к себе в Беруош, где у него был старинный дом и великолепный сад. Там разворачивалось действие книги, написанной для его единственного сына, который погиб в той самой битве под Лоосом, где я получил боевое крещение. Эта смерть поразила Киплинга в самое сердце, творческие силы иссякли, и он бросил перо. Я видел его недовольным своей страной, беспокоящимся за мою Францию и пророчащим несчастья. Но сама возможность видеть воочию того, кого я долгое время почитал сверхчеловеком, приводила меня в трепет. Самым английским из моих пристанищ была усадьба Эйвбери, великолепный елизаветинский замок с островерхими крышами, окруженный доисторическими дольменами и тысячелетними тисами. В замке был классический декор: кровати с балдахинами, высокий камин, где трещат сухие дрова, столы, уставленные голубоватыми уотерфордскими бокалами, богатые библиотеки. За время пребывания у полковника Дженнера, владельца этого дома в Уилтшире, я познакомился с Англией графств, традиционной, консервативной и при этом либеральной. Там я увидел жизнь сельских дворян, которые вместе с лондонскими купцами долгое время составляли остов всей нации и еще продолжали играть немаловажную роль в армии, на флоте и в Foreign Office[106]. У них хватало недостатков: упрямства, гордости, узости взглядов, — но они обладали и бесценными добродетелями: храбростью и целеустремленностью. Учитывая все, я находил, что они приносят пользу своей стране и, главное, всегда готовы ей служить. Полковник Дженнер первый руководил моими чтениями по истории Англии. Он отменно знал ее и пересказывал, как старый тори, пристрастно и саркастически. Он пояснил мне, почему парламентские институты, столь оспариваемые во Франции, в Англии принимались всеми как должное. Мне показалось важным и полезным для нас изложить эти принципиальные различия, и я замыслил написать когда-нибудь «Историю Англии». Этот замысел я смог осуществить только много лет спустя, да и то под давлением энергичного издателя. В 1923 году я закончил наконец жизнеописание Шелли, дав ему заглавие «Ариэль». Шарль Дю Бос, который прочитал мою рукопись с тайным сожалением, ибо Шелли был одной из его тем и он собирался о нем написать книгу, совсем не похожую на мою, посоветовал предварить ее предисловием, где объяснить критикам свое намерение. Я последовал его совету и, думаю, напрасно, ибо с этим кратким предисловием в литературоведческий обиход вошло, совершенно независимо от моей воли, бессмысленное и рискованное выражение «романизированная биография». Сам я никогда этим термином не пользовался. Более того, утверждал, что биограф не имеет права сочинять, когда речь идет о фактах или высказываниях, но может располагать подлинные события как в художественном произведении и открывать перед читателем целый мир, увиденный глазами одного героя, — именно в этом заключена суть романа. Но мало кто умеет читать, вчитываясь, особенно в предисловия, и успех «Ариэля», неожиданный и для меня, и для издателя, способствовал появлению на книжном рынке серий часто никуда не годных «романов-биографий» или «любовных романов-биографий». Из-за этого потока написанных второпях и крайне посредственных биографий рикошетом досталось от критиков и мне. Когда же я вновь вернулся к этому жанру, то стал внимательно прислушиваться к мнению специалистов, скрупулезных, дотошных, порой желчных. К моему облегчению, самый известный английский критик сэр Эдмунд Госс весьма лестно отозвался об «Ариэле», и недовольные присмирели. Правда, мой учитель Ален в восхищение не пришел. — Почему бы вам не писать романы? Вы будете себя чувствовать куда привольнее… Мне гораздо больше понравился «Ни ангел, ни зверь», не говоря уже о «Брэмбле». Он жил теперь на улице Ренн. Время от времени я заходил за ним в лицей Генриха IV, где он преподавал, и приводил к себе. Война сильно его изменила. Освобожденный от воинской службы, в 1914 году он настоял на том, чтобы его взяли рядовым в артиллерию. Соприкосновение с армией позволило ему написать суровую книгу «Марс, или Приговор войне». Для него, столь ценящего свою независимость, главным бедствием войны была не смерть, не опасность, а упразднение гражданских свобод и права на любую критику. Ведь любой спор в армии решается в зависимости от того, сколько галунов и звезд у спорящих. Можно представить, как от этого страдал наш Сократ-артиллерист. И суждения его о войне резки и безжалостны. Из-за ревматизма, который он подхватил в грязи окопов, он стал приволакивать ногу. Но при этом научился лучше понимать Гомера и Тацита. Этим человеком я восхищался больше всех на свете. О «Брэмбле» он отзывался с похвалой: — Вы не говорите там всю правду, но и не лжете. Это уже много. А ваш полковник мощен, ужасен. Он останется в литературе. После «Ариэля» он написал мне: «Узнаю вашу тонкую натуру. Постарайтесь меньше страдать». Жанина прочитала «Ариэля» с вниманием, удивлением и волнением. До той поры она не придавала большого значения моему сочинительству. «Брэмбл» вышел в то время, когда она была тяжело больна. Неудача «Ни ангела, ни зверя» внушила ей скепсис. Она обладала литературным вкусом, читала Шекспира, Суинберна и переписывала в тетради понравившиеся стихи. Но она выходила замуж за состоятельного фабриканта, любила жизнь в достатке, на широкую ногу, у нее было уже трое детей: дочь Мишель и два сына, Жеральд и Оливье, — и она совсем не хотела, чтобы я бросил процветающее дело ради сомнительных затей. — Вместо того чтобы по вечерам марать бумагу, — ворчала рыжая английская nurse[107], — лучше бы месье выводил мадам в свет, а днем занимался бы делами. Жанина передала мне эту фразу, вроде бы потешаясь над простоватой англичанкой, но сама была недалека от ее взглядов. После «Ариэля» она стала относиться к моей работе более уважительно и терпимо. — Я и не предполагала, что ты способен написать такую книгу… Там ты рассуждаешь о женщинах куда лучше, чем когда говоришь со мной. — Возможно, я затем и написал эту книгу, чтобы высказать тебе то, о чем не решаюсь говорить… Она читала рукопись и дважды перечитала книгу. Искала намеков, объяснений, выписывала отрывки. Я понял, почему ее удивило, что я явно осуждал Шелли именно за то, чем страдал сам: за непоколебимую серьезность, пристрастие к общению с учеными мужами, которые казались ей скучными, за неосознанный эгоизм творца. «Почему же, — казалось, вопрошала она, — раз он все понял, то ничего не меняет в нашей жизни?» Я привел в дом моих новых друзей из Понтиньи. Знакомство оказалось не из удачных. Она называла их занудами и книжными червями. Они же нашли ее прекрасной, как мечту поэта, но при этом легкомысленной, насмешливой, слишком много внимания уделяющей туалетам. Они приняли за душевную черствость застенчивость перед людьми, совершенно не похожими на нее. Впрочем, Шарли Дю Бос с его чувством трагического, разглядел в ней под горностаями и бриллиантами «существо, отмеченное роком». По моей просьбе Жанина разрешила устраивать в нашей гостиной в Нёйи, что выходила в прекрасный сад, лекции, которые пожелал читать Шарли. Каждую среду на улице Боргезе собирались тридцать — сорок человек, которым Дю Бос с величайшим воодушевлением рассказывал о Китсе, Уодсворте или Кэтрин Мэнсфилд. Шарли отличался высокой культурой, и многие его лекции были превосходными. С юношеских лет он читал целыми днями, подчеркивая одним из остро отточенных карандашей, которыми всегда были набиты его карманы, целые страницы и запоминая их наизусть. Глубокие познания в музыке и изобразительных искусствах помогали ему улавливать неожиданные аналогии между Моцартом и Китсом, китайской вазой и стихотворением Малларме. Но медленный темп речи, патетичность, обилие длинных цитат отталкивали не слишком серьезных слушателей, и мы с трудом собирали каждую неделю самых упорных. Шарли и Зезетта приехали к нам в Ла-Соссе летом 1929 года. Дю Бос оказывал на меня глубокое и благотворное влияние. Он был настоящим духовным наставником, одно его присутствие возвышало тех, кто имел счастье дружить с ним. Он пребывал в самых высоких сферах духа, где воздух несколько разрежен, зато сияет чистый свет. Он рекомендовал мне углублять и упорядочивать мои чувства. Этого не требовалось другим, и прежде всего ему самому, склонным скорее к излишней методичности. Я же по природе своей тяготел к ясности, быстроте, упрощенности. Шарли заставил меня, глядя на него, пройти школу глубокомыслия, неторопливости, сложности. И это пошло мне на пользу. Но мою семейную жизнь этот драгоценный опыт не упрочил. Утомленная моими слишком серьезными друзьями, Жанина упрекала меня в том, что я заражаюсь их причудами. «Ах, до чего же с тобой стало трудно жить!» — говорила она мне. С некоторых пор у меня в Париже появились подруги, у которых мне случалось проводить вечера без нее. Со своей стороны, Жанина часто появлялась в обществе своего брата, ставшего известным модельером, в кругах, мне совершенно чуждых. С отчаянием мы убеждались, что надлом, появившийся в наших отношениях после четырех лет разлуки, продолжал углубляться. Как человек, увязший ногами в илистом дне, отчаянно дергается и при этом погружается в тину все глубже, так и наши попытки угодить друг другу, наши маленькие жертвы оставались обычно незамеченными, непонятыми, неоцененными, и мы все яснее понимали грозящую опасность. И все же у Жанины и у меня было столько счастливых воспоминаний, так сильно и свято было первоначальное чувство, что мы не могли смириться с духовным разрывом. Летом 1923 года Жанина снова стала религиозной, она вела долгие беседы с аббатом Лемуаном, священником из Ла-Соссе. То был сельский кюре, молодой, стройный, строгих правил; он мужественно переносил бедность, почти невероятную в этом краю богатых фермеров. Я восхищался его бескорыстием и верой, и он относился ко мне дружелюбно. Быть может, следуя его советам, Жанина попыталась восстановить атмосферу первых месяцев нашего двенадцатилетнего супружества.* * *
Было приятно посмотреть на троих детей в большом саду. Мишель, гордясь своим новым велосипедом, каталась вокруг клумб. Мальчики, которых мать звала Топи и Little Man[108], возились с цветами, кроликами и курами. Жанина нежно любила всех троих и проводила большую часть времени с ними, но ее преследовали мысли о смерти. Несмотря на свою молодость, она только об этом и говорила. Однажды вечером в Ла-Соссе она зажгла в библиотеке большой костер и спалила множество наших писем, чем сильно меня огорчила. — Зачем ты это сделала, Жанина? — Сама не знаю… Я не хочу ничего оставлять после себя… — Почему после себя?.. Ты проживешь еще тридцать, сорок лет! — Неправда! — сказала она, и во взгляде ее был ужас. В октябре Шарль Дю Бос продолжил свои лекции. Он много внимания уделял Браунингу, который был одним из его излюбленных авторов. Больная Жанина, почти не встававшая с постели, не присутствовала на его занятиях. К Рождеству она нашла в себе силы заняться украшением елки, детскими подарками. Она так любила праздники! По секрету от меня она заказала в Лондоне шестьдесят томов «Dictionary of National Biography»[109]. Она слышала, как я сожалел, что этого словаря нет в нашей библиотеке. Какой же радостью она сияла в тот день, когда подвела меня к полкам, где расставила свой «сюрприз». Перед глазами у меня также стоит ее осунувшееся, но по-прежнему прелестное личико, мелькающее за стеклянными дверьми столовой, где обедают дети. В конце декабря 1923 года врачи предписали ей провести несколько месяцев на юге Франции. Она умоляла меня сопровождать ее: — Побудь со мной… Мне недолго осталось докучать тебе… Я узнавал шутливо-жалобный тон «бедной маленькой Жинетты», которому не мог противиться. Время для отпуска было неурочное, но, несмотря на недовольство компаньонов, я бросил фабрику в самый разгар работы и устроился с женой и детьми в местечке Ла-Напуль под Каннами. У Жанины там было несколько английских и американских друзей, которых полюбил и я. Мы проводили время на вилле или у моря, вели долгие и откровенные беседы. Эти недели могли бы стать по-настоящему счастливыми, если бы не холодная погода, болезнь детей и сварливый нрав няньки. Все эти неприятности так портили настроение, что в начале февраля мы решили вернуться домой. Жанина была на пятом месяце беременности, тоска по-прежнему терзала ее. Не успели мы вернуться в Нёйи, как она слегла в сильной лихорадке, зубы ее стучали. — Что с ней? — испуганно спрашивал я у врачей. — Сепсис. Похоже, дела обстоят плохо. Врачи решились на хирургическое вмешательство. Жанина отнеслась к операции спокойно, но без всяких иллюзий. Она попросила разрешения повидаться с детьми. Двое малышей уселись около ее кровати, играя во врачей: «Mammy, we are two piggy doctors»[110]. Когда действие хлороформа закончилось и она очнулась, ее страдания усилились. Я оставался возле нее вместе с сиделкой. Она ясно понимала, что конец близок, попросила меня заказывать обедни за упокой ее души. Внезапно она вскрикнула: — Я ничего не вижу! Голова ее упала на подушку, и все было кончено. Я не мог ни поверить в случившееся, ни смириться с этим. Вызвали врача, он попытался вернуть Жанину к жизни уколами адреналина в сердце, но тщетно. До рассвета я стоял на коленях перед постелью и держал холодеющую руку. Когда стало светать и на улице заскрипели железные шторы лавок, я пошел за цветами и вернулся с охапками лилий и роз, которые разложил возле нее. «Бедная Жинетта, — подумал я. — Первый раз в жизни ты не сама разбираешь цветы…» Я громко разговаривал с распростертым телом, у меня не укладывалось в голове, что Жанина мне больше не ответит. Она была так хороша, так безмятежна! Едва заметная улыбка проглядывала в уголках побелевших губ. Аромат лилий заполнял комнату и напоминал мне детство, первые книги и королеву «Маленьких русских солдат». Я нашел свою королеву, я ее выбрал, завоевал, а теперь утратил. С тех пор запах лилий всегда пробуждает во мне воспоминания об этом скорбном ложе, ледяном лбе Жанины, о моих слезах. Поутру пришли первые друзья. Я оставил двух монахинь в комнате покойной и принял горячо соболезновавшего мне Шарля Дю Боса. Он взялся заказать службу в церкви Святого Петра в Нёйи. Я пожелал, чтобы исполнили прекрасный реквием Форе и «Largo» Генделя, которым она так восхищалась. Я до сих пор бесконечно признателен церкви за красоту этой заупокойной мессы. И, хотя я невыразимо страдал об утрате, божественная музыка Форе, торжественное песнопение: «Requiem aetemam, dona eis Domine… Requiem aetemam… aetemam… aetemam…»[111] утешили меня. Мне казалось, что если и впрямь существует иной мир, где та, кого я любил, продолжает жить, то, должно быть, ей там хорошо и она снова стала той ангелоподобной, пылкой девушкой-ребенком, какой я увидел ее в наш первый вечер при свете луны в парке О-Вив.3. И все же надо жить
В смерти любимого существа мучительней всего невосполнимость утраты. Nevermore[112]. Никогда больше я не услышу ее мягкого голоса, не увижу ее прекрасного лица; никогда больше не будет у нас с ней «разбирательств» — так она называла наши долгие объяснения, тягостные выяснения отношений; только теперь я начал ценить их и с готовностью отдал бы остаток жизни, чтобы вновь увидеть Жанину хоть на час, хоть на минуту. В марте 1924 года стояла чудная погода, но раннее весеннее тепло лишь напоминало о моей утрате. Вслед за ночью неизменно наступал новый день, и на безоблачном небе снова появлялось солнце. Я не мог работать. Каждое утро я выходил из дома, покупал белые цветы и подолгу расставлял их так, как это делала Жанина — то передвигая немного розу, то меняя изгиб стебля, — и водружал букеты перед ее портретами, стоявшими во всех комнатах. После обеда ко мне в кабинет приходила малышка Мишель и усаживалась напротив; ее детская и вместе с тем серьезная забота на некоторое время возвращала меня к жизни. Узнав о моем трауре, полковник Дженнер написал мне: «Приезжайте к нам в Эйвбери. Места всем хватит. Полдома в вашем распоряжении, а нас вы даже не будете видеть. Вам надо сменить обстановку…» Я принял его приглашение, но, покинув Нёйи, все же не обрел душевного покоя. Напрасно я до изнеможения бродил среди трав и камней Эйвбери. Каждую ночь я возвращался во сне к моей Жанине, и пробуждение надрывало мне сердце. Вернувшись во Францию, я узнал, что готов склеп, который я велел построить в Ла-Соссе. Я перевез туда гроб жены, поставил перед могилой полукруглую мраморную скамью и вазон для цветов, посадил иву. Каждый день я приходил на это маленькое кладбище и погружался в прошлое. Нередко меня сопровождали дети. — Пошли отнесем mammy цветов, — звали они. Мишель становилась задумчивой и скрытной. Унаследовав красоту и изящество матери, она походила на меня своей молчаливостью, сосредоточенностью на внутренних переживаниях. Мальчики, розовощекие и белокурые, были прелестны, особенно когда играли на зеленой траве, одетые в яркие комбинезоны. Мне нравилось наблюдать за их бесхитростной счастливой жизнью. Каждый день с тем же деловым видом, с каким когда-то мой отец обходил завод, ребята обходили наш сад. Они увлеченно искали землянику, обследовали душистый горошек, с восторгом рассматривали розы, считали снесенные курами яйца, вертелись около садовника. Потом, как и я в их возрасте, собирали букетики полевых цветов. Ближе к вечеру, облаченные в бледно-голубые пальтишки с хлястиком, они отправлялись гулять, и их пшеничные головки терялись на тропинках среди колосьев, маков и васильков. Как только ко мне вернулась способность писать, я принялся за работу. Давно уже вынашивал я замысел «Диалогов об управлении». Мысли мои на этот счет, еще с тех времен, когда я учился у Алена, были весьма противоречивы. Учитель наш намеренно выступал в роли гражданина, восставшего против властей. Он внушал нам, что чем меньше правительство правит, тем лучше оно управляет страной, и что любой вождь неизбежно стремится стать тираном. Жизнь (как и «Республика» Платона) научила меня другому: отсутствие добровольно признанного лидера и добровольного ему подчинения приводит общество к беспорядкам, а вслед за тем и к тирании. Где же истина? Мне хотелось разобраться в собственных мыслях и заставить спорить, по выражению Ренана, левую и правую половины мозга. За год до того мне довелось познакомиться в Понтиньи с лейтенантом Блак-Белером, сыном кавалерийского генерала, возглавлявшего мюрскую военную школу. Лейтенант Эмери Блак-Белер командовал округом в независимой зоне Марокко. Это был пылкий молодой человек, горячий поклонник Жида, очень серьезно относившийся к своему солдатскому ремеслу. Сам того не ведая, он стал одним из собеседников моих «Диалогов»; другим собеседником я сделал Алена. Весь июль лейтенант и философ спорили во мне. Рассудок мой старался быть беспристрастным; но сердцем я склонялся к лейтенанту. Вероятно, потому, что одним из самых сильных моих чувств всегда был страх перед беспорядком. Это не значит, что я сторонник тирании; я ее ненавижу. Но я чту справедливую и твердую власть. Без дисциплины немыслима никакая деятельность. Это и стало моей темой. К концу лета книга была закончена. Оторвался я от нее лишь однажды, когда в Ла-Соссе съехались гости: Андре Жид, чета Дю Босов и Анна Дежарден. В их обществе мы с Мишель совершили увлекательное путешествие в Шартр. Мои друзья из Понтиньи заменили мне друзей юности, погибших на войне. Бернару Грассе, моему издателю, «Диалоги» понравились. Он хотел выпустить их под каким-нибудь греческим названием и предложил «Никий»[113]. Звучало это красиво, но не соответствовало духу книги; так что заглавие осталось прежним. «Диалоги об управлении» вышли в свет и имели некоторый резонанс. Кое-кто ошибочно воспринял их не как литературное произведение, а как своего рода политическое кредо. В действительности у меня никогда не было определенной политической позиции. «Не вполне четкая», — говорил о моей ориентации Ален. Я придавал огромное значение основным политическим свободам и считал (а теперь просто уверен), что они являются непреложным условием для счастья и самоуважения человека. Вместе с тем я полагал, что эти свободы достижимы лишь при добровольном соблюдении определенной дисциплины, злоупотребление же свободой свободу и уничтожит. С другой стороны, я страстно любил Францию. Я желал для нее благоденствия и величия; я видел, что представительная форма правления, процветающая в Англии, во Франции не приживается по вполне понятным для меня причинам. И искал других путей. Я пытался объяснить молодому поколению Франции, будущим руководителям, политикам, военным, предпринимателям законы их предстоящей деятельности, которым научили меня история и личный опыт. Только и всего. Ярые поборники левых и правых идей не могли поверить, что моя книга — не более чем диалог, и пытались перетянуть меня каждый на свою сторону. Однако великие солдаты, такие, как маршал Файоль[114], и великие государственные мужи, как, например, Жюль Камбон[115], писали мне мудрые письма. Бергсон[116] прислал скрупулезный и глубокий анализ «Диалогов»; ему понравилась мысль, что интуиция столь же важна для правителя, сколь для художника. Ален узнал себя в одном из собеседников и, кажется, остался доволен. — Не хотите ли познакомиться с маршалом Петеном?[117] — предложил мне однажды в ноябре Бернар Грассе. — Вы можете побеседовать с ним о ваших «Диалогах». Он их прочел. Второго декабря он обедает у одной из моих знакомых, мадам де Кайаве. Будут Робер де Флер[118] и Поль Валери[119]. Мне поручено пригласить вас. — Вы знаете, что я в глубоком трауре и не появляюсь в свете, — отвечал я. — Речь идет не о приеме, а о деловом обеде. Вы занимаетесь определенными проблемами. Вам представляется возможность обсудить их с выдающимися людьми. Что же тут такого? В конце концов я согласился. О мадам де Кайаве я, разумеется, слышал. Это была старинная подруга Анатоля Франса, мать Гастона де Кайаве[120], написавшего в соавторстве с Робером де Флером «Короля», «Мальву» и «Зеленый фрак». Я готовился увидеть пожилую даму, властную, непреклонную и согбенную. Но, явившись вместе с Грассе на бульвар Мальзерб, был приятно удивлен, когда нам навстречу вышла молодая женщина. Хозяйка была хороша собой и одета в черно-белое платье, очень ей шедшее. Взглянув на нее, я почему-то вспомнил о Жанине, хотя внешне они не были похожи. Мадам де Кайаве знала, что я в трауре, и растрогала меня выражениями сочувствия. За столом собрались Поль Валери, Робер де Флер, Анри-Робер[121] и Грассе. Из-за каких-то важных дел маршал так и не явился. Тем не менее обед удался, и благодаря интересным собеседникам и самой мадам де Кайаве, которая много знала и оказалась остроумной рассказчицей, мы приятно провели время. Ушел я вместе с моим издателем. — А теперь, — сказал я ему на улице, — объясните мне эту загадку… Я предполагал увидеть очень немолодую даму… Грассе долго смеялся. — Вы заблуждаетесь, — сказал он. — Мадам Арман де Кайаве вот уж пятнадцать лет как почила в бозе. Это ее внучка, Симона де Кайаве. — А почему же тогда ее называют мадам? Почему не мадемуазель де Кайаве? — Она была замужем. Во время мирной конференции вышла за иностранного дипломата. Три года спустя брак распался. — И что, она несчастлива? — Об этом не берусь судить… Мать ее вышла замуж вторично за своего кузена и носит теперь имя Морис Пуке. Робер де Флер, опекун Симоны, заменил ей отца. В ее доме собираются многие писатели и политики. Одни приходят поговорить с умной женщиной, другие — ради Робера де Флера. — А дети у нее есть? — Девочка четырех лет. — А сама она что-нибудь пишет? — Писала когда-то стихи, статьи. Не знаю, пишет ли теперь. Во всяком случае, очень интересуется литературой. Послушайте, ведь вы любите Пруста. Вам надо поговорить с ней на эту тему. Она его близко знала. Мадам де Кайаве попросила меня надписать кое-какие из моих книг, и вскоре я снова посетил ее. Хозяйка была дома и приняла меня; я, признаться, этого ждал. Во второй раз я уже лучше рассмотрел ее квартиру: на стенах висели тяжелые, темно-зеленые гобелены, чересчур высокие и предназначенные скорее для какой-нибудь средневековой залы. Между нами завязалась оживленная беседа — разумеется, о Прусте… — Он был связан с моей матерью узами детской дружбы, переменчивой, но прочной… С нее он написал (по крайней мере, отчасти) одну из своих героинь: Жильберту Сван… А из меня сделал дочь Жильберты, мадемуазель де Сен-Лу. И она рассказала, как через двенадцать или тринадцать лет после того, как ее мать вышла за Гастона де Кайаве, Пруст явился к ним в полночь и попросил познакомить его с маленькой Симоной. — Но она давно спит! — пыталась отговорить его мадам де Кайаве. — Разбудите ее, я вас очень прошу. — Он так настаивал, — продолжала свой рассказ Симона, — что меня вытащили из кровати… Возможно, вы вспомните сцену, где он это описывает?.. Моя собеседница вышла и вернулась с томиком «Обретенного времени». Она показала мне отрывок, о котором шла речь. Заканчивался он следующим образом: «Я нашел ее прекрасной: еще полной надежд. Смеющаяся, сотканная из тех лет, что мной утрачены, она была воплощением моей юности». Затаив дыхание, я смотрел на сидевшую рядом женщину, которая была прообразом мадемуазель де Сен-Лу. — Хотите, я покажу вам письма Пруста? — Он вам писал? — Очень часто. Она достала из шкатулки листы, исписанные хорошо знакомым мне быстрым почерком. Марсель Пруст к мадам Гастон де Кайаве: «Я видел ваши висячие сады, ваши античные колонны и даже, несмотря на мое притворное небрежение, взглянул на автограф Наполеона. Все более чем мило. Но больше всего мне пришлась по душе ваша дочь и яркие проблески ума в ином ее взгляде или восклицании. „Я делаю все, что в моих силах!“ (чтобы быть послушной дочкой) — это поистине великолепно…» Марсель Пруст к Симоне де Кайаве: «Вы огорчили меня, назвав „дорогой месье Марсель“ вместо прежнего „дорогой друг“. Так обходятся в полку с разжалованным офицером… Прочли ли вы „Мельницу на Флоссе“?[122] Если нет, то умоляю вас, прочтите… Как вам удается исписывать или, вернее, изрисовывать столько страниц вашими китайскими палочками? Это не буквы, а какая-то диковинная живопись. Она восхитительна, это акварельный этюд, это цветущий сад, а не написанный текст». Я попросил показать мне эти письма, похожие на китайский сад, и нашел их, вслед за Прустом, «восхитительными». В них было нарочитое, чуть напряженное изящество. Марсель Пруст к мадам Гастон де Кайаве: «Как сильно можно любить существо во всем тебе противоположное! Я влюблен в вашу дочь. С ее стороны нехорошо быть такой улыбчивой, ибо именно улыбка свела меня с ума; улыбка придает особый смысл всему ее облику. Как мне было бы спокойно, если бы ваша дочь была букой! Я пытаюсь понять, лепестки какого цветка напоминают мне ее щечки, когда она смеется?.. Очень бы хотелось вновь увидеть эту ее улыбку». Бернар Грассе дал мне прочесть предисловие, которое в 1918 году Анатоль Франс написал к сборнику стихов «Латинские часы» Симоны де Кайаве, бывшей в ту пору юной девушкой. Ее портрет, созданный писателем, весьма примечателен. Франс видел в ней «загадочное, гордое и немного дикое» дитя. Вот что он пишет: «В пять лет Симона со знанием дела бралась за сочинение романов, записывая их в школьные тетрадки. Это удивительно само по себе; но еще удивительней то, что она их заканчивала… Не всякий, кто хочет, хочет по-настоящему. Симона умела хотеть. Природа наделила ее несгибаемой волей; это было видно по красиво очерченному маленькому строгому рту и упрямому подбородку, это сквозило в горделивой посадке головы и решительной походке… Ей на роду было написано следовать за своим внутренним демоном, забывая о куклах». То же волевое начало находил Франс и в стихах молодой женщины: «Врожденное упрямство, жажда преодоления препятствий бессознательно влекут ее к мудреному искусству стихосложения. Ей нравится неподатливая материя. Эта девушка — труженица в самом благородном смысле слова. Пусть смело и с достоинством примет этот титул. Минерва-труженица — ведь именно так древние афиняне называли свою богиню». Пруст показал, как вкусы человека определяют его сердечные привязанности. Сван, страстно любивший живопись, воспылал любовью к Одетте в тот момент, когда нашел в ней сходство с Сепфорой, дочерью Иофора, запечатленной Боттичелли. О Симоне де Кайаве я не знал почти ничего: ни как она жила, ни каковы были ее вкусы и нрав, но молодая женщина, которую в детстве водил по парижским музеям Анатоль Франс и в которую несколькими годами позже влюбился Марсель Пруст, была для меня овеяна волшебным ореолом, окутана покровом благородной прозы и дивных легенд. Впервые за целый год я испытал к женщине интерес, влечение и что-то похожее на надежду. Я пригласил ее дочку, ровесницу моих сыновей, к нам поиграть, после чего откланялся. Франсуазу привели. Это было хрупкое дитя, беспокойное, легко ранимое, чересчур умное для своих лет. Мать сама зашла забрать ее. Атмосфера моего дома, где в каждой комнате перед траурным портретом склоняли белые венчики цветы, должно быть, показалась ей тяжкой. (Арнольд Беннетт[123], посетивший меня приблизительно в ту же пору, записал потом в дневнике, что в моем доме на всем лежал гнетуще-таинственный отпечаток.) Мы опять говорили о поэтах и композиторах. На следующий день я послал ей в подарок «Этрусскую вазу» Мериме и «Интермеццо» Гейне. Она была удивлена, так как ожидала получить цветы. Но я оставался все тем же восемнадцатилетним упрямцем, который развлекал девушек комментариями к «Tractatus politicus». Давно уже я обещал друзьям приехать в Италию и в январе 1925 года наконец собрался. В последнее время я все меньше занимался фабрикой, и кузены, видя мое безразличие к делам и догадываясь о скором отъезде, распределили мои обязанности между своими зятьями. Формально я все еще оставался в дирекции, но был намерен окончательно отстраниться от дел, как только мои новоявленные заместители немного оперятся. В Риме я встретился с синьорой Паоло Орано. Француженка по происхождению, в девичестве Камилла Малларме, она была племянницей великого поэта и автором весьма неплохого романа «Черствый дом» («La Casa secca»). Познакомились мы с ней во время войны. Синьора Орано предложила мне встретиться с Муссолини, который еще только восходил к вершинам власти. Из любопытства ясогласился, и тогда меня отвезли в палаццо Киджи. До сих пор живо помню бесконечную галерею, крошечный столик, а за ним — человека с мощной челюстью, рассуждающего о «Божественной комедии». На следующий день я ходил к пирамиде Цестия[124] и положил фиалки на могилу Шелли. Потом бродил по Палатинскому саду и созерцал сверху Форум, омытый золотистым светом. Ища встречи с Шатобрианом, гулял в окрестностях Рима и уже ночью, под сенью Колизея, призывал тень Байрона. Мои призраки не оставляли меня ни на минуту, так что живых людей я почти не разглядел. Незадолго до годовщины со дня смерти жены я вернулся на родину. Заказал в церкви Сен-Пьер де Нёйи заупокойную мессу; во время службы исполнялась та же музыка, что и в день похорон. Произведения Форе, Генделя и хоровое пение пробудили и вновь утолили мою печаль. На мессе присутствовала Симона де Кайаве, рядом с ней сидели мои друзья из Понтиньи, спутники военных лет и некоторые писатели. Грассе познакомил меня с Франсуа Мориаком[125], Жаном Жироду[126], Полем Мораном[127]. Благодаря Дю Босу[128] я сблизился с Водуайе[129]; а Эдмон Жалу[130] и его жена Жермена стали моими бесценными друзьями. Жермена Жалу была блестящей пианисткой и учила меня понимать Вагнера. На ее концертах я встречался с Симоной де Кайаве, тоже горячей поклонницей этого композитора. Я регулярно бывал у Симоны дома и виделся там с Анри де Ренье[131], Габриелем Аното[132], Полем Валери и обаятельнейшим аббатом Мюнье — это был довольно невзыскательный, романтически настроенный священник, передавший мне свою любовь к Шатобриану. Всякий раз, увидев меня, он вспоминал какую-нибудь благозвучную цитату: — Ах, месье Моруа! Вы помните лунную ночь в Комбуре и «великую тайну печали, которую луна нашептывает вековым дубам и древним морским берегам»?..[133] Прекрасно, не правда ли? Его глаза при этом восторженно горели, волосы вздымались вокруг головы благородным белым облаком, брыжи подрагивали. Я очень любил аббата.Мать Симоны де Кайаве, еще вполне молодая женщина дивной красоты и безжалостного язвительного ума, занимала особняк на авеню Ош и продолжала традицию своей первой свекрови мадам Арман де Кайаве. Вскоре я начал бывать у нее каждое воскресенье. В ее доме я познакомился с четой Пуанкаре[134], близкими друзьями хозяев; с профессором Дюма[135], адмиралом Лаказом[136], генералом Вейганом[137], а также с Анной де Ноай[138], Полем Суде[139] и многими писателями моего поколения. Я был робок и говорил мало, оглушенный стремительностью парижских бесед. Мне больше нравилось видеться с Симоной де Кайаве наедине и слушать ее рассказы о парижском свете, которого я почти не знал, тем более что моя собеседница обладала беспощадно точной памятью. Мой собственный опыт был в ту пору узок и однообразен. Живя в провинции, я не подозревал о скрытых связях, соединяющих политиков, банкиров, литераторов и свет. Социальной роли такого института, как Французская академия, я и вовсе не представлял себе. И понятия не имел, каким образом провинциальные политики, явившись в Париж, делают карьеру в столичных салонах. Все эти тайны раскрыла мне мадам де Кайаве. Вместе с тем эта лукавая умница умело подчеркивала собственную незначительность, чем очень меня трогала. Было очевидно, что неудачное замужество мало значило в ее жизни. Она вспоминала о нем без горечи, с удивительным безразличием. Зато любила делиться детскими воспоминания-, ми. Воспитывала ее англичанка, мисс Варлей, к которой Симона была очень привязана и которая по-прежнему жила в доме ее матери. Благодаря своей гувернантке Симона хорошо знала английский язык и литературу, и это нас как-то сблизило. Будучи совсем малышкой, она читала наизусть Шекспира еще прежде, чем выучила детские стишки. Декламировала «Most friendship is feigning, most loving mere folly»[140] в возрасте, когда уместней было бы играть в куклы. Даже игры этого ребенка были шекспировскими. Ее мать рассказывала, что Симона играла в «шагающий лес» и важно расхаживала по аллеям перигорского парка с дубовой веткой в руках. Для закаливания родители решили купать ее в реке — девочка ответила, что согласится только в том случае, если на нее наденут белую рубашку и венок — «чтобы играть в мертвую Офелию». Если ее посылали вымыть запачканные чернилами руки, она кричала: «Все благовония Аравии не отмыли бы этой крошечной ручки!» Я умилялся, слушая эти истории. В марте 1925 года я покинул Париж и отправился в Марокко. Маршал Лиотей[141], с которым я состоял в переписке еще со времен моего «Брэмбла», пригласил меня на открытие первой марокканской железной дороги, соединившей Касабланку и Рабат. Сопровождал меня мой друг Эмиль Анрио[142]. Лиотей встретил нас в Касабланке на набережной. Там я впервые увидел его мужественное, изборожденное глубокими морщинами лицо, его беспорядочно торчащие усы (ударом копыта лошадь раздробила ему когда-то челюсть), густой ежик волос; у него была стремительная походка, выдававшая горячий, упрямый и нетерпеливо-деятельный нрав. В разное время случай сводил меня со многими великими людьми нашей эпохи; но немногие с первой же встречи вызывали у меня такое восхищение, какое вызвал Лиотей. Не то чтобы он был лишен недостатков; у него были странности, и причуды, и капризы, и приступы ярости. Но слабости он превращал в орудие своего величия. Его гением восхищались, его фантазии любили. Он пользовался этим, чтобы внушить к себе уважение. Сокрытого в нем мощного источника энергии хватало на то, чтобы заполнить не только собственную жизнь, но и жизнь нескольких тысяч других людей. И после этого у него оставалось еще столько сил, что вечером, покончив со своими бесчисленными делами, он сокрушался из-за вынужденного безделья. Это был самый замечательный образец «деятельной натуры», который мне доводилось встречать. Лиотей показал нам Марокко, принял у себя в Рабате и затем свозил в Марракеш. Видя результаты его трудов, я лишний раз убедился в том, что человек реально может многое изменить, а великий человек способен на великие свершения. Мир инертен и неохотно поддается изменениям, людей непросто подвигнуть на что-либо, но воля, особенно если ей сопутствует терпение, способна преодолеть любые препятствия. Марокко показалось мне воплощением порядка и красоты; за пятнадцать лет до этого там был сплошной хаос и нищета. Чудо свершилось по воле одного-единственного человека. В Фесе маршал поселил нас в великолепном дворце Бу-Желу, комнаты которого были отделаны кедром, а высокие двери украшены резьбой. По утрам мы выходили босиком в уже нагретый солнцем дворик, мощенный фаянсовыми плитами, по которым разбегался голубой узор. Апельсиновые деревья, растущие меж плит, наполняли воздух теплым ароматом, а в фаянсовом бассейне тихо журчал арабский фонтанчик. В Фесе командовал генерал Шамбрён, которого я знал еще с Парижа. Жена его, урожденная Клара Лонгуорт, была тонким знатоком Шекспира. С ними обоими я бродил по холмам за городскими стенами, наблюдая, как гаснут и уходят одна за другой во тьму белые террасы, а потом слушал грустные и пронзительные песни марокканок. Однажды вечером мы с Анрио ужинали у генерала Шамбрёна. Хозяева старались казаться веселыми, меж тем мы не могли не заметить каких-то странных перешептываний; время от времени трапезу нарушали гонцы, сообщавшие загадочные вести на ухо генералу; беспокойство и смутное ожидание висели в воздухе. — Не кажется ли вам, — спросил я у Анрио, — что в доме кто-то серьезно болен, но из вежливости это стараются скрыть от гостей? — Да, что-то явно не так, — согласился Анрио. — Я слышал, как один из офицеров спросил: «Этот пост выдержит?» На следующий день, когда все уже садились за стол, явился глава генштаба генерал Эш. Этот остроумный эльзасец сразу стал душой застолья. Но едва мы встали из-за стола, как он заперся с генералом Шамбрёном, и больше они уже не показывались. Мы попрощались с хозяйкой и к полуночи вернулись в наш чудный апельсиновый дворик. В три часа утра нас разбудили какие-то тени. Это оказался адъютант в сопровождении нескольких солдат. — Что случилось? — спросили мы. — Господа, генерал просит вас немедленно выехать в Уджду[143]. Автомобиль ждет у дверей. — Автомобиль?.. Но зачем? — Генерал хотел бы, чтобы вы как можно скорей добрались до Орана[144]. Он приказал положить в машину винтовки. — Винтовки? Что еще за шутки? Мы оделись, не переставая ворчать. В машине нас действительно ждали три винтовки и ящик патронов. За рулем сидел молоденький солдатик, южанин, неглупый и шустрый. Нам удалось его разговорить. — Как, — удивился он, — разве вы не знаете? Так ведь война же. Абд-эль-Крим[145], тот, что разбил испанцев, поднял восстание в Рифе… К нему примкнули все племена. Вон, смотрите… Мы как раз пересекали пустыню и на гребне белых песчаных дюн увидели статных арабских воинов, верхом, с длинными ружьями за спиной. Они отправлялись на священную войну. — Как вы думаете, они на нас нападут? — Кто его знает, — отвечал шофер. — Во всяком случае, буду рад, когда мы окажемся в Уджде. Добрались мы благополучно, защищаться не пришлось. Французский консул месье де Витасс и его жена, оба люди образованные, усадили нас в кресла, напоили чаем и предложили «Нувель ревю франсез». — Ах, как хорошо, что вы наконец приехали, — сказали они. — Генерал уже трижды звонил из Феса, справлялся о вас… Очень беспокоился. Много позже я снова встретился с генералом Шамбрёном в Париже, и он, смеясь, признался: — Знаете, когда я заставил вас покинуть Фес, я не был уверен, что вы прорветесь! — Но зачем же было рисковать, мой генерал? — На следующий день Фес могли окружить и даже взять… И ведь оказалось, что я поступил правильно. В Марокко, как и в Понтиньи, у меня появилось много друзей. Некоторые, например майор Селлье, Пьер Вьено и лейтенант Блак-Белер, принадлежали одновременно к обоим кругам моих знакомств. Однако это путешествие и более поздние встречи на улице Бонапарт позволили мне узнать ближе маленькое и очень сплоченное общество людей, связанных по работе с маршалом Лиотеем, которого они сердечно величали «патроном». К этому обществу принадлежали Пьер Лиотей, Владимир д’Ормессон[146], Феликс де Вогю, капитан Дюрозуа[147] и другие. Вернувшись в конце года в Париж, «патрон» часто приглашал меня к себе. Мне нравился сам дух его окружения. Вокруг него объединились люди, которые в первую очередь думали о деле и о долге, а потом уже о себе и своих принципах. Лиотей был одним из немногих лидеров, которые при всей разнородности нашего общества умели привлекать к себе людей самых различных убеждений и конфессий и заставлять их сообща трудиться во имя величия Франции. Будучи убежденным монархистом, Лиотей любил радикала Эррио[148] за его патриотизм. Ревностный католик, он числил в своем близком окружении и протестантов, и евреев, и мусульман, и свободомыслящих. Когда Мильеран[149], президент Франции, приехал в Марокко, маршал сказал ему: — Господин президент, я знаю, что в Париже вы не ходите в церковь, но здесь я прошу вас присутствовать на мессе каждое воскресенье: арабы очень религиозны и не поймут вас. И неверующий президент стал регулярно сопровождать в церковь наместника-католика. «Маршал — великий человек», — говорили мне марокканцы, когда в Рабате или Марракеше мимо проносился автомобиль «патрона». Я был с ними полностью согласен.
4. Валькирия[150]
Вернувшись из Марокко, я узнал, что мой отец готовится к опасной операции. Перед тем в течение двух лет он страдал воспалением простаты. Он уже перенес одну операцию, которая дала ему возможность жить, — но очень осторожно, подвергаясь бесконечным раздражавшим его процедурам. Несмотря на плохое состояние, предостережения врачей и советы повременить, отец решился на вторую, очень рискованную операцию. — Смерти я не боюсь, — сказал он, — а жить так больше не могу. Он лег в клинику Братства святого Иоанна Божьего в Париже и отдал себя в руки Провидения. Накануне операции я навестил его, и мы долго разговаривали. Он казался счастливым и веселым. — Что бы теперь ни случилось, — сказал он, — главное, что я дожил до того времени, когда Эльзас снова стал французской провинцией. Сразу после операции стало ясно, что она прошла неудачно. У отца началась рвота, он жаловался на мучительные боли и вскоре впал в состояние комы, вызванное уремией. На следующий день хирург предупредил нас, что положение безнадежно. За минуту до смерти отец открыл глаза и позвал меня. — Ты здесь? — спросил он еле слышно. — Тогда все в порядке. Он вздохнул несколько раз и, казалось, заснул. Санитар поднес зеркало к его губам. Отец уже не дышал. Вот и остановилось искреннее, благородное сердце. Для моей матери, возлагавшей на операцию все надежды, это было страшным ударом и практически концом жизни. Тем не менее держалась она мужественно. Похоронили отца в Эльбёфе, так, как он хотел. С кладбища, приютившегося на склоне холма, над раскинувшимся в низине городом, видны были длинные рыже-красные крыши и высокие трубы фабрики, которой отец отдал всю жизнь. Проводить его пришла толпа рабочих. Старые эльзаски плакали. Один из ткачей, Беллуэн, верный отцовский помощник, произнес простую проникновенную речь. А аббат Аллом написал мне из Гавра: «Ваш отец был человеком редкого благородства. В те времена, когда я жил в Эльбёфе, у него не было ни одного недоброжелателя». Это была чистая правда.Со смертью отца оборвалась последняя моя связь с фабрикой. Я еще продолжал там появляться, но каждую неделю отказывался от какой-нибудь из моих бывших привилегий. Даже приезжая на лето в Ла-Соссе, я почти все время отдавал литературе. Работал я тогда одновременно над двумя книгами. Одной из них был роман о жизни промышленника, «Бернар Кенэ», где я развернул сюжет моей старой новеллы, озаглавленной «Подъем и спад». Подобно Веронезе, дважды изображавшему себя на некоторых своих полотнах, я в романе раздвоился: я был одновременно Бернаром и Антуаном Кенэ. Бернар — это тот, кем бы я был, если бы пошел по пути, намеченному в «Диалогах об управлении»; Антуан — кем мог бы быть, останься в живых Жанина. «Бернар Кенэ» не был в полном смысле слова «романом»; это была искренняя и, смею надеяться, правдоподобная картина мало кому знакомого мира. Другой книгой, гораздо более важной для меня, была «Жизнь Дизраэли». Почему именно Дизраэли? Во-первых, меня вдохновило высказывание Барреса[151]: «Три наиболее интересные фигуры XIX века — это Байрон, Дизраэли и Россетти[152]». Так у меня возникло желание получше узнать жизнь и произведения Дизраэли. Это был герой в моем духе. «Я радикал и сторонник коренных перемен, когда надо с корнем вырвать зло, — говорил он. — Я консерватор, если надо сохранить добро». И еще: «Сохранять — значит поддерживать и переделывать». Мой собственный опыт привел меня к тем же политическим и философским заключениям. Чем больше я изучал историю и людей, тем больше убеждался, что цивилизация, выражаясь словами Валери, это «нагромождение химер». Общепринятые условности лежат в основе порядка; под защитой этих условностей процветает свобода. Английские условные нормы казались очень странными; но именно потому, что они соблюдались всеми, страна избежала потрясений и революций и стала одной из самых свободных в мире. Еще со времен войны я всецело разделял преклонение Дизраэли перед английской традицией. Многие его изречения нравились мне лаконичностью формы и глубиной содержания. «Life is too short to be little»; «Never explain, never complain»; «Or perfect solitude, or perfect sympathy»[153]. Такие высказывания мгновенно находили во мне отклик. А его неизменная любовь к жене была олицетворением того, чего бы я желал для себя и в чем мне было отказано. Влияние Дизраэли в обществе было для меня, далекого от власти и не стремящегося к ней, как бы восполнением того, чем сам я не обладал. Никогда еще работа над книгой не приносила мне большей радости. Выдающиеся добродетели Дизраэли постоянно напоминали мне, что еврей, пожелавший преодолеть вековые предрассудки, обязан быть настолько безукоризнен, насколько позволяет человеческое естество; его честность и надежность должны быть живым опровержением злопыхательских вымыслов. Сказочная храбрость Дизраэли сломила сопротивление недругов, и он добился всеобщей любви и признания. Известно, что Дизраэли был крещен в детстве по настоянию отца, и это избавило его впоследствии от необходимости самостоятельно принимать решение, оправдать которое могли бы лишь искренние религиозные убеждения. Со своей стороны, как я уже говорил, я восхищался христианством и воспринимал Новый Завет как величественное продолжение Ветхого. При этом я не считал своим долгом непременно обращаться в христианство. Моим родителям, я знал, это причинило бы боль. Они не были набожными, не соблюдали религиозных обрядов, но чтили семейную традицию. После дела Дрейфуса мой отец пришел к убеждению, что раз быть евреем небезопасно, то смена вероисповедания является проявлением трусости. Я придерживался той же точки зрения и, несмотря на упорное давление любящих меня людей, не делал решительного шага. Лучшие мои друзья, Шарль Дю Бос, Морис Бэринг[154] были ревностными католиками. «Ведь на самом деле вы христианин, — убеждали они меня, — anima naturalites Christiana[155]… Почему вы лишаете себя радости признать это?» Однако мне была неведома благодать, внезапное озарение, которое описывает Клодель[156] и которое познал Дю Бос. Положение мое было мучительно. Женившись на богомольной католичке, я постепенно привык сопровождать ее в церковь. Я любил церковные обряды, духовную музыку, прекрасную латынь молитвенных текстов. Но я оставался хоть и восхищенным, но сторонним наблюдателем богослужения, которое так благотворно действовало на меня, — и это двусмысленное положение казалось мне единственно достойным.
Так что писать о Дизраэли было для меня подлинным наслаждением. В июле я прервал работу, с тем чтобы съездить на несколько дней в Перигор, родовое гнездо мадам де Кайаве по материнской линии, то есть по линии Пуке (сами Кайаве происходили из Бордо). Клану Пуке принадлежал небольшой замок Эссандьерас, между Перигё и Лиможем, старый, со средневековыми башенками. Он был куплен в 1794 году Антуаном Шери Пуке, нотариусом из Ангуэса. Рядом, на том же холме, стоял новый дом, некрасивый, но более удобный, выстроенный дедом Симоны, биржевым маклером; дом был убран с роскошью и дурным вкусом эпохи Луи-Филиппа[157]. Гобелены, мягкая мебель, тяжелые портьеры и безделушки переносили вас в те далекие времена. Мне было чрезвычайно забавно находить в Эссандьерасе общие черты с нашим семейным Эльбёфом. Как рабочие когда-то моему отцу, прислуга и работники Пуке подарили деду Симоны аллегорическую бронзовую скульптуру «Труд» из мастерской Барбедьена, с выгравированной надписью: «На возделанной ниве плодоносна победа…» Так же, как в Эльбёфе, здесь стояли на столах фотографии, но совсем особенные. На них можно было видеть Анатоля Франса, рассматривающего цоколь античной колонны или созерцающего пирамиды; юного Пруста с черными бархатными глазами; Викторьена Сарду[158] в берете; многочисленных Роберов де Флеров и Гастонов де Кайаве, исполненных взаимной дружбы и сияющих улыбками; были и актрисы: Жанна Гранье, Лантельм, Мари Леконт, Ева Лавальер. Из окон замка открывался веселый живописный вид на долину реки Иль; по ней были разбросаны фермы со звучными названиями: «Бруйак», «Гишарди», «Ла-Сериз». От дороги к замку сходились две аллеи — дубовая и каштановая. У подножия холмов, вгрызаясь в эссандьерасские луга, текла своенравная речка Лу (или Лув, «Волчица»). Кроме мадам Кайаве и мадам де Пуке в замке я нашел мужа последней, инженера горнодобывающей промышленности, умом и эрудицией которого нельзя было не восхищаться; еще там была бабушка Симоны, женщина замечательная, но взбалмошная; была мисс Варлей — англичанка до мозга костей, убежденная викторианка. По правде говоря, за эти десять дней я никого толком не видел, кроме Симоны де Кайаве, так как она затеяла показывать мне Перигор и мы с утра до вечера разъезжали по окрестностям. Кончилось это тем, что я влюбился в перигорские края, а заодно и в моего экскурсовода. Она была горячо привязана к этим местам, в рассказах проявляла глубокое и живое знание местной истории и культуры, чем окончательно растрогала меня. В каждой деревне, куда мы заезжали, был замок, у каждого замка — своя легенда. Моя спутница поведала мне историю Пряхи из Жюмийака[159] и историю Дамы из Монталя[160], рассказала о замке Бирона[161] и о замке Отфор[162]. Мы совершили литературное паломничество по следам Монтеня[163], Брантома[164] и Фенелона[165]; потом съездили в Монтиньяк, где некогда жили Жубер[166] и Эжен Ле Руа[167]. О них и об их творчестве Симона знала решительно все. Я был поражен основательностью ее ума. Мы спускались в ущелье Падирак, карабкались по крутым тропинкам к крепости Домм, откуда открывался дивный вид на долину Дордони, извивающейся меж величественно-прекрасных замков и растрепанных тополей. Наблюдая за моей новой подругой, я обнаружил, что она замкнута, почти сурова. Несмотря на несколько лет замужества, она сохранила в своем характере много девического. Симона была воспитана в религиозном духе, в отвращении ко греху и страхе перед низменной любовью. «Умеющая страдать и боящаяся радости больше, чем боли», — писал о ней Анатоль Франс. Позже она призналась мне, что, зачарованная романом своей бабушки и Анатоля Франса, с ранних лет мечтала посвятить себя целиком творчеству какого-нибудь писателя. Она собиралась «уйти в литературу, как уходят в религию». Однажды вечером у нас сломалась машина, и шофер вынужден был отлучиться на целый час, чтобы ее починить. Мы остались в лесу одни. Ночь стояла ласковая и теплая. Лунный свет, пробиваясь сквозь листву, освещал аллею, по которой мы шли; под ногами мягко шуршал ковер опавшей хвои, мха и сухих листьев. Бесхитростная красота уснувшей природы сломила отчуждение меж нами. Я осмелился признаться Симоне, что люблю ее. Но я не знал, как примирить это молодое, горячее и новое чувство с траурными тенями прошлого, во власти которых я все еще пребывал. Зимой в Париже мы виделись почти каждый день. Ходили вместе в театры, на концерты. Страстная почитательница Вагнера, Симона задалась целью открыть мне его. И прекрасно справилась с этой задачей, тем более что, со своей стороны, я не менее страстно желал понять ее самое; вагнеровские грезы раскрывали мне ее внутренний мир, созвучный более Брунгильде, нежели Изольде. Она верила в сверхъестественную мощь Парсифаля, порожденную его целомудрием; она испытывала отвращение к распутным девицам — физическое отвращение, граничащее с ненавистью. «Горе тем, через кого приходит соблазн»[168], — говорила она, когда я упрекал ее в чрезмерной суровости к другим женщинам. Музыка сближала нас. Симона находила в Вагнере отражение и, возможно даже, разрешение своих проблем. Я же, продолжая отдавать предпочтение Бетховену, получал от Вагнера ценные для писателя уроки. Идея, озаряющая и делающая понятным могучий каскад звуков, должна озарять и упорядочивать запутанный клубок фактов истории или биографии. В «Траурном марше» Зигфрида, в финале «Гибели богов» я видел неподражаемый образец того, каким должен быть финал великой книги. Я пытался объяснить это моей очаровательной спутнице и помочь ей понять через музыку, чем является для меня искусство слова. Еще одно обстоятельство связало нас очень близко: работа. Она призналась как-то, что в Эссандьерасе отец заставил ее учиться машинописи и теперь она не видела для себя интереснее занятия, чем перепечатывать мои рукописи. Я воспринял ее предложение как шутку. Но Симона упорно возвращалась к этой теме; наконец я дал ей на пробу начало рукописи «Бернар Кенэ». Каково же было мое удивление, когда вскоре она принесла мне безукоризненно перепечатанный текст, причем ей потребовалось для этого так мало времени, что стало ясно: она просидела за работой всю ночь. Строго выровненные строчки напомнили мне удивительный китайский сад ее почерка. Я стал давать ей другие рукописи. Однажды в шутку я сказал, что если бы она владела еще и стенографией, я не мечтал бы о другой секретарше. Тогда, ни слова никому не говоря, она стала брать уроки стенографии и через несколько месяцев уже попросила меня диктовать ей письма. Благодаря настойчивости и неустанному труду она в рекордно короткий срок превратилась в лучшую стенографистку, с которой мне когда-либо доводилось работать. Верно сказал о ней Анатоль Франс: «Минерва-труженица», исполняющая свою работу с педантичной, кропотливой тщательностью. Мы так счастливы были вдвоем, что пропускали мимо ушей жалобы родственников и друзей, для которых у нас не оставалось свободного времени. Окружающие лучше, чем мы сами, понимали, что дело идет к свадьбе. «Как ты можешь жить без женщины в доме? — спрашивала моя мать. — Кто будет воспитывать твоих детей?» Я соглашался, что она права и что мне, вероятно, следует жениться вторично. В таком случае Симона — именно та спутница, которая мне нужна, способная жить моим творчеством; к тому же я по-настоящему ее любил. Но и ее, и мои друзья пытались нас отговорить. В Понтиньи считали, что союз с миром «Зеленого фрака» — легкомысленный шаг, таящий опасность для меня как для писателя. Шарль Дю Бос с заботливой и торжественной серьезностью предостерегал меня против «салонов». Знал бы он, сколь чужды они мне самому, как неуютно я себя чувствую в этой среде и как стремлюсь в уединение моего кабинета! Симону убеждали: «Это же безумие — выходить замуж за вдовца с тремя детьми! Вы будете вечно не в ладах с бабушками и гувернантками!» К тому же Симона любила повторять, что больше замуж не выйдет. Ей несколько раз предлагали блестящие партии, но она всем отказывала. В независимой жизни, возможной благодаря отцовскому наследству, она нашла умиротворение. Пусть оно было несколько однообразно, но замужество ей этого дать не могло. В итоге стало очевидно, что при строгих нравах и обычаях наших семей связывавшая нас любовная дружба могла продолжаться только в законном браке. Наши чувства оказались сильнее сопротивления друзей. Однажды вечером между мной и Симоной произошло долгое объяснение, закончившееся уже на рассвете. Мы решили пожениться летом. Маленькая Франсуаза была ровесницей моим мальчикам и прекрасно с ними ладила. Почему бы не соединить оборванные нити наших судеб и не сплести их в счастливый союз? Мы отправились в Эльбёф сообщить эту новость моей матери, и она восприняла ее с радостью. Свадьбу мы решили устроить в Перигоре, в присутствии одних только свидетелей. Мне было жаль отказываться от поездки в Понтиньи, и в конце августа я все же покинул Эссандьерас и отправился в Бургундию, чтобы, как обычно, провести декаду в обществе Жида, Шарля Дю Боса и Мартена дю Тара. Но 4 сентября 1926 года я уже снова был в Перигоре. Там я встретился с аббатом Мюнье, который собирался сочетать нас браком (он венчал когда-то мою тешу и в один прекрасный день должен был совершить тот же обряд над моей дочерью); кроме него там были Габриель Аното и Робер де Флер, наши свидетели. Я пригласил также Эмери Блак-Белера, лейтенанта из «Диалогов об управлении», и его жену, к которым был искренне привязан. За истекший год я близко узнал родных Симоны. Ее мать, живая и остроумная, была настоящей актрисой, а проявлялся ее талант, когда она принималась что-нибудь рассказывать. Она была беззаветно предана тем, кого любила, но те, кого она недолюбливала, имели в ее лице опасного врага. Эта властная женщина с трогательной и наивной готовностью признавала один лишь авторитет — собственного мужа. Морис Пуке, уроженец Перигора, выросший в родовом поместье и закончивший Горную школу, сочетал в себе крестьянскую мудрость с почти энциклопедической эрудицией. Он был осведомлен о самых неожиданных и разнообразных вещах, от промышленной техники до техники изящных искусств, от истории Египта до истории Швеции, от геологии Парагвая до секретов выращивания трюфелей. Казалось, он способен преуспеть в любой области, будь то сельское хозяйство, промышленность или банковское дело. Во время войны 1914 года он разработал для французской авиации метод аэрофотосъемки. Правда, познакомившись с этим человеком поближе, я обнаружил, что его знания довольно поверхностны и все, за что бы он ни взялся, он делает кое-как. Тем не менее в начале нашего знакомства я относился к нему с восторгом. Сколько блаженных вечеров провел я в Эссандьерасе, слушая на террасе его рассказы; над кедрами медленно поднимались созвездия; падающие звезды огненными росчерками царапали летнее небо; сова, обитательница замка, покидала свою башню и отправлялась на охоту; и гигантская равнина, уснувшая у наших ног, дышала ночным туманом. Свадьбу мы отпраздновали просто, уютно, по-семейному. В скромной деревенской ратуше Пьер Пуке, дядя моей жены и мэр коммуны, задал нам обычные в такой ситуации вопросы. Робер де Флер произнес блистательную речь в своем духе, остроумную и сентиментальную. Он красноречиво описал чистую, суровую и благородную жизнь моих родителей, о которой знал со слов Симоны; потом он рассказал о самой Симоне и о ее готовности взять на свои плечи нелегкую долю жены писателя; он сказал мне, что надеется когда-нибудь принять меня во Французскую академию и после обычного «дорогой мой Андре» в течение часа называть меня «месье». В крохотной церквушке аббат Мюнье сочетал нас браком и сказал много хороших и высоких слов о любви, верности и связи искусства с верой. Затем состоялся праздничный обед, во время которого мы наслаждались обществом Габриеля Аното, политического деятеля в отставке, историка по роду занятий, все еще бодрого телом и духом. Обед, по перигорскому обычаю, был обильный и очень вкусный. Омлет с трюфелями, гусиный паштет и пирог со сливами вперемежку с шутками и каламбурами Габриеля Аното сделали нашу трапезу поистине французской. Аббат Мюнье сыпал цитатами из Шатобриана, Жубера и даже из Гёте и Шекспира. Симона была очаровательна, разговорчива и блистала умом; я был горд за нее. В дневнике Мэри Шелли между замечаниями по поводу прочитанных книг проскальзывает фраза: «Состоялась свадьба…» Эта сухая сдержанность понравилась мне; у меня родилось странное желание вплести мою вторую женитьбу в повседневную жизнь, ничего в ней не меняя. Симона, как и всякая молодая женщина, мечтала о свадебном путешествии, о нескольких неделях вдвоем в классической Италии или исполненном неги Марокко. Она, разумеется, была права, ибо первое соприкосновение двух разных судеб нуждается в оторванности от привычных мест, связывающих нас с прошлым. Но в результате какого-то непонятного ослепления я решил, что на следующий день после свадьбы мы должны отправиться на курорт Андай, где в это время отдыхали мои дети и их бонна. Мне нечего сказать в свое оправдание, я могу лишь объяснить мотивы моего поступка. Вероятно, в какой-то момент я начал находить горькое и мрачное удовлетворение в положении безутешного вдовца, которым я был в глазах друзей и в собственных своих глазах; я впал в сентиментальный фетишизм, в котором не было ни мудрости, ни благородства. Возможно, это были отголоски древнего, как само человечество, культа мертвых, внутренняя необходимость умиротворить их маны. А мои белые цветы, священные портреты и поминальные ритуалы были лишь завуалированной формой жертвоприношения. Эта сентиментальность была поначалу естественным выражением безграничной печали; потом в ней появилось что-то нездоровое и, как писал Беннетт, гнетуще-таинственное. Живые должны жить среди живых и для живых; если чтить умерших — похвально и благочестиво, то приносить им человеческие жертвы — жестоко. Одолеваемый беспокойством, раздираемый воспоминаниями, мучимый невозможностью хранить верность прошлому, я постарался из второй женитьбы сделать ничего не значащий пустяк; по-видимому, я смутно и наивно надеялся, что эта новость, сжатая до двух слов, не достигнет печального царства. По тем же причинам, вернее, из-за того же суеверного страха и вопреки просьбам моей новой жены я долгое время отказывался говорить ей «ты», прячась за самые нелепые отговорки; я привез ее в Нёйи, в квартиру, дышащую воспоминаниями о другой женщине, и когда она попыталась отнестись к моим детям, как к своим собственным, я препятствовал их сближению такими придирками и оговорками, на которые не способно ни одно здравомыслящее существо. Мой нелепый запрет называть Симону «мамой» надолго поселил между ней и детьми чувство неловкости, воздвиг прозрачную, но непреодолимую словесную стену. Увы, я не был здравомыслящим существом. Чары мертвых сильны и опасны. Мертвые неподвластны случайностям, искушениям и ошибкам, ибо «раз и навсегда их изменила вечность». В течение двух лет, никем не останавливаемый, я создавал неземной образ, любовно оттачивал воспоминания, сочинял траурные гимны. Я совершил непростительную ошибку, пожелав приобщить к этому культу женщину, которой отдал свою любовь. Она уступила мне, но очень страдала. Прислуга и бонна противились ее приказам, ссылаясь на волю «мадам»; «мадам» стала неуловимым, заколдованным призраком. Перемена власти вызвала всеобщее недовольство: кухарка, шофер, его жена, которую дети звали «mammy Georges», упрямо отстаивали свои права, принадлежавшие им якобы с незапамятных времен. Лишь много позже Симона призналась мне, что, несмотря на узы глубокой любви, связывавшие нас, в первый год нашей совместной жизни она была до отчаянья несчастна. Я ни о чем не догадывался. Мы слепы, когда речь идет о чувствах других. Налаживание отношений с друзьями для новой супружеской четы тоже дело нелегкое. Мои друзья из Понтиньи с угрожающим упорством продолжали настраивать меня против светских знакомств и их гипнотического воздействия. Правы ли они были? Свет в лучших своих проявлениях многому научил меня, а в тяжелые времена успокаивал своей неизменностью и надежностью. Мои связи никак не отразились ни на моих политических взглядах, которые остались теми же, какими их сформировал Ален, ни на круге чтения, ни на жизненном опыте. Для писателя единственная опасность светской жизни заключается в том, что она отнимает много драгоценного времени, которое следовало бы посвятить чтению или размышлениям. В свете романист находит своих персонажей, но теряет время, а нередко и право описывать своих героев правдиво. Возможно, лучший выход из положения нашел Пруст: изучить светское общество, а затем отстраниться от него: заболеть или уйти в затвор. В жизни человека творческого трудно вычислить необходимую меру одиночества. Приблизительно в это же время я открыл для себя политиков. В былые времена в Нормандии я знавал лишь местных лидеров невысокого полета. Вожди политических партий, министры и президенты казались мне личностями легендарными. И если бы мне, как доктору Коттару у Пруста, Сван сказал: «Я обедал у президента Республики», я был бы не менее его ошеломлен. Меж тем Пуанкаре, бывший президент Республики, а в ту пору президент Государственного совета, запросто приходил к моей теще — как обыкновенный смертный, готовый ответить на любые вопросы и даже озабоченный тем, чтобы его поняли и оценили (так месье де Норпуа приходил к мадам де Вильпаризи[169]). Как-то раз один американский журнал заказал мне статью о бывшем президенте, и Симона попросила Пуанкаре рассказать про начало его карьеры. Он с готовностью принялся вспоминать все до мельчайших подробностей, оборачиваясь то и дело к жене и говоря ей нежно и трогательно: «Верно, Анриетта?.. Ведь это было в 1897-м?..» В тот день я узнал, что политиком он стал случайно, никогда не помышляя о политической карьере. Как ни странно, он был застенчив и от этого несколько категоричен. «Не ездите слишком часто по заграницам, — сказал он мне, — как только покидаешь площадь Согласия, в голову начинает лезть всякий вздор». Бриан[170] также был желанным гостем на авеню Ош, но никогда не появлялся там одновременно с Пуанкаре. Они были слишком разными, чтобы понять друг друга и получить удовольствие от встреч. Пуанкаре был законоблюстителем, Бриан — поэтом. Пуанкаре любил суровые земли Лотарингии, Бриан — морские пейзажи Бретани. Пуанкаре избегал тривиальности благодаря детальной точности; Бриан достигал того же непринужденной простотой. Пуанкаре не мог обойтись без цифр и фактов; Бриан их не выносил, и если кто-нибудь по неосторожности все же приводил ему цифры, он их немедленно забывал. Пуанкаре записывал свои речи от начала до конца мелким, четким, наклонным почерком и знал их наизусть; Бриан импровизировал, крутя папироски, и проверял свои доводы на случайных слушателях, зато потом без труда добивался бурной реакции аудитории. Деловые бумаги Пуанкаре были аккуратны и безукоризненны, как ряды стрелковых батальонов, которыми он когда-то командовал; когда же за составление документа брался Бриан, то результат получался настолько удручающим, что он сам бросал листок с отвращением. Пуанкаре управлял канцеляриями, Бриан — сердцами. Пуанкаре, уроженец Лотарингии, выросший в близком соседстве с Германией, немцев боялся; Бриан вырос в Бретани, поэтому смотрел на них чересчур бесстрашно. У Пуанкаре были благие принципы, у Бриана — благоразумие. Пуанкаре был очень чувствителен к людскому мнению; Бриан вообще не читал того, что о нем пишут, и с удовольствием повторил бы за королевой Викторией: «Важно не то, что они думают обо мне, а что о них думаю я». Кто-то остроумно заметил, что Пуанкаре все знает и ничего не понимает, а Бриан понимает все, но не знает ничего. Это не вполне верно, ибо Пуанкаре во многих вещах отлично разбирался, а Бриан знал куда больше, чем показывал. Жорж Клемансо, третий столп эпохи, уже не посещал дом на авеню Ош; тем не менее мы были немного знакомы. Я встречался с ним в армии, во времена моего «Брэмбла»; несколько позже он прислал мне краткое, но живое и проникновенное письмо по поводу «Диалогов». Я отправился поблагодарить его. Он занимал маленькую квартирку на улице Франклин. Когда я вошел, Клемансо сидел за полукруглым письменным столом в пилотке, сдвинутой на одно ухо, в черных перчатках на старческих руках и разговаривал со своим врачом. — Этот доктор утверждает, — сказал он, — что жить мне осталось несколько месяцев. — Мне много раз обещали то же самое, господин президент, но я до сих пор жив, — отвечал я. — Да, но вы молоды… Над чем вы сейчас работаете? — Собираюсь написать о жизни Вудро Вильсона[171]… — Не пишите! Этот человек причинил нам много зла. За его спиной висела картина Клода Моне, пейзаж с видом на Крёз. — Красиво? — спросил он меня. — Какие скалы! Мне кажется, если по ним стукнуть тростью, то посыплются искры. Увидев своими глазами и послушав великих политиков, я убедился, сколь непохожи они на образ, творимый молвой; они оказались во сто крат человечнее тех теней, которые отбрасывали на стены моей эльбёфской пещеры. «Ад существует, — учил меня аббат Мюнье, — потому что нам завещано так думать; положим, ад и в самом деле существует, но только там никого нет…» А Ален говорил: «Ад населяют только те люди, которых не знаешь…» Я собирал тогда великих деятелей Франции в чистилище моего суда и, как маленький Марсель Пруст у подножия колоколен в Мартенвиле, ощущал смутное, нелепое, неодолимое желание написать о них. Начиная с 1927 года в «садке», где я выращивал замыслы моих будущих книг, записывая идеи и план работы, на каждой странице стала появляться пометка: политический роман. Роман так и не был написан. Много позже из этого замысла вышел сборник заметок под названием «Голые факты».
5. Превратности любви
Друзья и книги, война и путешествия дали мне возможность узнать англичан настолько, насколько можно знать народ. Разумеется, это немного. Но об Америке я не знал вообще ничего. Она представлялась мне такой, какой изобразили ее Жюль Верн и Марк Твен; к этому впечатлению добавились разве что Чарли Чаплин, Теодор Драйзер и книга Андре Сигфрида[172]. И вот в 1927 году Джеймс Хейзен Хайд, занимавшийся в Париже делами Французской ассоциации в Соединенных Штатах, организатором которой он являлся, предложил мне поехать в Америку в качестве официального лектора ассоциации. Он объяснил свой выбор тем, что я сделался в Америке довольно известным. «Брэмбла» там еще не издали, зато «Ариэль» прочли тысячи американцев; а на «Дизраэли» незадолго до того обратил внимание «Book of the Month Club»[173]. Как лектор я дебютировал в Париже в 1925 году вследствие ряда случайных совпадений. «Вьё-Коломбье»[174] организовал серию лекций о проблемах кино, и так как я написал на эту тему статью, меня пригласили выступить. Мадам Адольф Бриссон (Ивонна Сарсей), председатель лекторского общества«Анналы», оказалась в числе моих слушателей и предложила рассказать у нее на пробу, в серии лекций по XVIII веку, о Хорасе Уолполе[175] и мадам дю Деффан[176]. Другое крупное просветительское общество Парижа возглавлял Рене Думик, бессменный секретарь Французской академии, директор журнала «Ревю де дё монд». Это был могучий владыка в царстве Словесности. Он пригласил меня зайти к нему на Университетскую улицу в редакцию журнала. Принял он меня, сидя за письменным столом, принадлежавшим когда-то Брюнетьеру и Бюлозу[177]; ноги его были укутаны в одеяла. Он предложил мне весной 1927 года читать перед членами общества «краткий курс» из четырех лекций. «Длинный курс», десять лекций, был бы, по его мнению, чересчур ответственным для дебютанта. Он дал почувствовать, что оказал мне этим честь и я должен оправдать столь высокое доверие. Я принял его предложение. Далее предстояло выбрать тему. На этот счет Думик всегда имел свое особое мнение, чем подчас шокировал авторов и ораторов. О нем можно было сказать то же, что лорд Солсбери говорил о королеве Виктории: достаточно узнать ее мнение, чтобы сделать вывод о мнении среднего англичанина. Думик хорошо изучил вкусы своих слушателей. Если он заявлял: «Для французов существует только четыре английских писателя: Шекспир, Байрон, Диккенс и Киплинг», — то мог удивить и расстроить лишь того лектора, который желал поговорить о Джоне Донне, Китсе или Суинберне; в сущности, Думик был прав, и постоянство его слушателей оправдывало категоричность его суждений. Для первого раза он выбрал Диккенса. Тема была большая и в четыре лекции никак не укладывалась. Так что результат получился весьма средний. Тем не менее Думик не изменил своего ко мне отношения и продолжал обращаться ко мне со смесью уважения и грубоватой прямоты, за что я бесконечно ему благодарен. Уважение он выказал тем, что доверил мне один из своих бесценных курсов; а прямота его заключалась в следующем: после первой лекции он заметил мне, что я плохо артикулирую, задние ряды ничего не слышат, и вообще мне следует последить за собой и не глотать окончания. Я постарался исправиться и, видимо, достиг кое-каких успехов, потому что замечаний мне он больше не делал. Путешествие в Америку было для меня равносильно ее открытию. Поехал я один, опасаясь, что суета переездов утомит жену. На борту «Парижа» я впервые пересек океан и познал эфемерную близость, которую может создать морское путешествие. Палуба, свежий ветер; в шезлонгах — женщины; их ноги обернуты легкой тканью наподобие бакалейного кулька; бесконечные разговоры ни о чем под темным звездным небом; из-за горизонта выползает красная луна, оставляя длинный светящийся шлейф на гладкой водной равнине. Впервые в жизни я подплываю к Нью-Йорку: над кораблем парят самолеты и птицы; вокруг скользят лодки рыбаков и шумные катера санитарной службы; холмы-крепости, приближаясь, оказываются небоскребами; проплывают мимо игрушечные острова, застроенные старыми лоснящимися домами; на реке Гудзон — особенное живописное оживление; потом — пирс номер 57 на Френч-Лайн, взлетающие над головами носовые платки, таможенная сумятица и, наконец, — геометрический, чудовищный город, неохватный и все же человечный. Через несколько дней в письме к одной приятельнице я писал: «Приезжайте в Америку. Ничто не заставляет так радоваться жизни, как солнечное утро на Пятой авеню. Приезжайте. Воздух здесь пьянит, пешеходы не ходят, а бегают. Толпа, послушная красным и зеленым сигналам, наплывает волнами, точно море. Церкви похожи на маленьких детей, которых держат за руку небоскребы. Приезжайте в Америку. Здесь поездам на шею вешают колокольчики, как швейцарским коровам, а у негров-носильщиков — роговые очки, как у французских женщин. Приезжайте в Америку. Долина, вдоль которой мчится наш поезд, называется Наугакуа. Она напоминает долину Сен-Мориц[178] и извивается среди скал. Одна станция сменяется другой, и каждый раз так и ждешь, что из деревянного вокзала выйдет переодетый священником Чарли. Слева и справа от железной дороги полукругом стоят сотни автомобилей. Приезжайте. Америка — это огромная пустыня, в которой время от времени попадаются оазисы Форда. Приезжайте же, и вы снова поверите в жизнь и, может быть, даже в людей. Приезжайте и попробуйте за несколько месяцев стать моложе на несколько веков». Что же, собственно говоря, так мне понравилось? Понравилось все: живописные долины, широченные реки, яркая растительность, очаровательные деревушки Новой Англии. А еще — молодость и доверчивость. Америке 1927 года были не знакомы скепсис и нервозность, которые принесет Великий Кризис. В университетах я отдыхал от европейской разочарованности, наблюдая американское усердие, жажду знаний и веру в будущее. Особенно же понравилась мне атмосфера дружбы и доброжелательства, которой была отмечена социальная жизнь. Разумеется, здесь, как и везде, имущие были эгоистичны, неудачники завистливы, а интеллектуалы брезгливо-придирчивы. Но порядок вещей, присущий любому обществу, был здесь, как мне показалось, смягчен всеобщим искренним желанием не причинять никому напрасного зла. Возвращаясь на «Иль-де-Франс» в Европу, я записал: «С каким чувством я буду вспоминать эти два месяца? Приятным или неприятным? Безусловно, с приятным. Америка мне понравилась… Отныне я буду помнить, что там, за океаном, на расстояний в несколько дней морского пути, существует гигантский источник сил и дружеского тепла… Обычно усталый и нервный, в эти два месяца, несмотря на сумасшедший ритм жизни, я был бодрым, счастливым и здоровым. Я помолодел. Эта дивная американская осень зарядила меня своей свежей энергией». Память о скрытом за морями «источнике сил и дружеского тепла» очень пригодилась мне. Не успел я вернуться во Францию, как пришлось искать спасения в воспоминаниях. По своей провинциальной простоте я не подозревал, что у меня могут быть враги, как вдруг оказался предметом яростных, нелепых нападок, подготовленных с поистине макиавеллиевским коварством. Мой издатель, Бернар Грассе, предупредил меня: «В ваше отсутствие против вас сложился настоящий заговор. Группа литераторов из „Меркюр де Франс“[179]: Луи Думюр[180], Валетт[181] и Леото[182] — решили извести вас. В чем дело? Они считают, что вы слишком быстро достигли успеха. „Брэмбл“, „Ариэль“, „Дизраэли“… Огромные тиражи и благосклонность критики не дают им покоя. Они хотят доказать, что ваши книги списаны с английских источников. Все это нелепо, но злоба и зависть не рассуждают». Грассе оказался прав. Враги искали какого-нибудь известного специалиста по английской культуре, который бы согласился предъявить мне обвинения. Разумеется, найти такого было непросто. Все, от Легуи[183] до Косцуля, были на моей стороне. Тогда роль обвинителя предложили А. Давре[184]. Он посоветовался с Уэллсом[185], которого переводил. Уэллс ответил: «Не связывайтесь. Это глупые обвинения». И Давре отказался. Леото написал Арнольду Беннетту, которого хорошо знал, и получил категорический отказ. Так и не найдя компетентного критика, согласного взяться за это гнусное предприятие, и вконец отчаявшись, заговорщики остановили свой выбор на молодом литераторе, писавшем иногда для «Мерюор» и воспылавшем ко мне столь же яростной, сколь необъяснимой ненавистью. Атака заговорщиков была неистовой и совершенно безрезультатной. Бедняга-литератор сопоставлял тексты самым нелепым образом. Всякий раз, как он находил в английских источниках и в моих книгах невинные совпадения типа «У маленькой Айанте, дочери Шелли, были голубые глаза», он громко трубил победу. Чего же он хотел? Чтобы из соображений оригинальности я заявил, будто глаза у нее были карими? С «Дизраэли» вышло еще глупей. Мой оппонент обвинял меня в копировании книги Монипенни и Баккла! Меж тем как Баккл был в ту пору еще жив и не только на меня не жаловался, но даже поздравил с выходом в свет моей книги. В действительности не существовало никакой литературной связи между его замечательной, объективной биографией Дизраэли, состоящей из нескольких толстенных томов, и портретом, написанным мной, — сугубо субъективным и импрессионистским. Все эти детские нападки были тем не менее опубликованы в журнале, считавшемся серьезным. Я не мог оставить публикацию без внимания. Сознание собственной невиновности придало мне сил, и я отправился к Валетту, директору «Меркюр», которого Грассе считал человеком порядочным. Я сказал, что удивлен тем легкомыслием, с которым он решился напечатать бездоказательную и клеветническую статью, противоречащую мнению лучших английских писателей. «Ваши обвинения беспочвенны, — сказал я ему. — Если бы вы показали мне гранки, что было бы учтивым и благородным шагом, я бы убедил вас в ничтожности предъявляемых ко мне претензий». Впоследствии мои слова были до неузнаваемости искажены одним из присутствовавших при разговоре. Валетт проявил совершенное непонимание, которое меня изумило, и ответил, что подобные «кампании» в традиции его журнала и что, если я считаю необходимым написать опровержение, он будет счастлив его опубликовать. Более опытные литераторы, мои друзья, уговаривали меня не делать этого. «Вы сыграете им на руку, — убеждали они меня. — Чего они хотят? Поднять шумиху, привлечь к себе внимание. Не помогайте им». Я вспомнил девиз Дизраэли: «Never explain, never complain». Но я был настолько уверен в своей правоте, что не мог молчать и написал длинный ответ. Самые видные английские критики, в том числе Эдмунд Госс, разобравшись, в чем дело, прислали мне заверения, что они всецело на моей стороне. Заговорщики нашли себе лишь одного сообщника среди англичан, да и то совершенно некомпетентного — Фрэнка Хэрриса. Кампания провалилась. Позже, во время оккупации, ее подхватят пронемецки ориентированные газеты. А Леото и Валетт пожалеют о том, что они ее затеяли. Когда вышли «Превратности любви», Леото сказал: «Хороший роман он написал. Зря мы на него нападали». В сущности, это был неплохой человек, только несчастный. Мое кажущееся счастье задевало его. «Превратности любви» открыли ему, что я тоже страдаю, и он смягчился ко мне. Я, со своей стороны, простил его. После этой бальзаковской истории и моих «утраченных иллюзий» у меня осталось странное ощущение, что я уже давно являюсь предметом недремлющей и неослабевающей ненависти каких-то неведомых мне людей. До описанных событий я плохо себе представлял, что такое ненависть, ибо никогда не питал ни к кому этого чувства. Я никогда не завидовал собратьям по перу, но моей заслуги в этом не было, так как литературный мир, в который я попал, оказался доброжелательным и справедливым. Когда Робер де Флер сказал мне: «Я собираюсь присудить вам „Гран-при“ Французской академии за лучший роман», я посоветовал ему отдать премию другому писателю, более, на мой взгляд, достойному. И тот ее получил. Однако завоевать друзей любовью и справедливостью труднее, нежели нажить врагов небрежением и неосторожностью. Возможно, я когда-то, сам того не ведая, обидел кого-нибудь из коллег, не назвав их моими учителями или забыв поблагодарить за статью или присланную книгу. Поглощенный работой, я не заботился о том, что обо мне думают. Усердие и увлеченность творчеством не мешали мне радоваться успехам моих любимых писателей и вместе с тем строго судить собственные произведения, которые всегда получались хуже замысла. Поэтому я несказанно удивился тому, как изобразил меня зоил[186]. По правде говоря, я совершенно упустил из виду, что с тех пор, как стал приобретать известность, за моей спиной начал расти некий «персонаж», созданный и вскормленный завистниками и недоброжелателями. Что же это был за «персонаж»? Писатель, вышедший из деловых кругов и озабоченный исключительно тиражами (на самом деле, работая над «Жизнью Шелли», я, как и мой издатель, был уверен, что книга, написанная для себя, мало кого заинтересует). А может, богач, окруженный сонмом секретарей, выискивающих для него материалы (тогда как единственной моей секретаршей была жена, а сам я не знал большего наслаждения, чем рыться в источниках). Или очень занятой господин, диктующий свои книги стенографисткам (в действительности я писал их собственноручно от начала до конца и переделывал по пять-шесть раз). Если бы я встретил где-нибудь такого «персонажа», то первым бы его возненавидел. Живой человек, напротив, был страстно влюблен в свою замечательную профессию, всей душой желал творить добро, быть справедливым и «приятным», как сказал бы Пруст. Так что если бы мой зоил знал живого человека, он, вероятно, нашел бы его вполне безобидным и достойным уважения. Но зоил видел только «персонажа» и потому оставался зоилом.Если разобраться, враги приносят нам немалую пользу. Их недружелюбные выпады вызывают в других дружеские чувства. Писатели, которые до сего момента, казалось, не питали ко мне симпатии, вдруг разом стали на мою сторону из-за того, что я подвергался столь недостойным нападкам. Одаренные молодые люди более радикальных воззрений, чем я сам, энергично выражали мне свое расположение. «Выходит, — писал социалист Жан Прево[187], — что ни самое корректное поведение, ни самая взыскательная профессиональная совесть не могут оградить писателя от клеветы». Такое заступничество обрадовало меня больше, нежели огорчили наговоры. И когда после этого вышла моя следующая книга, «Превратности любви», то единодушная благожелательность и теплота, с какими она была принята, окончательно примирили меня с жизнью. У этого романа странная история, ибо родился он как бы помимо моей воли. «Ревю де Пари» заказал мне новеллу на четыре-пять тысяч слов, и я задумал описать событие, свидетелем которого мне довелось стать. С одним из моих приятелей в Марокко случился сердечный приступ, и он упал в обморок, врач же без обиняков заявил, что жить ему осталось несколько часов. Придя в себя, обреченный собрал своих близких и сказал, что хочет остаться в их памяти таким, каким был на самом деле, после чего приступил к длинной публичной исповеди, как в русских романах. Волнение. Слезы. Прощания. И наконец, ожидание скорой смерти. Но смерть так и не наступила. И несчастный остался жить в окружении друзей, знавших о нем всю подноготную и не верящих больше в легенду, которую он создавал о себе прежде. Я назвал эту историю «Марокканская ночь, или Смерть и воскрешение Филиппа». Исповедь героя касалась его отношений с тремя женщинами и была, в сущности, описанием страданий, которые он причинял им своими слабостями. Когда Симона перепечатала рассказ и я его прочел, оказалось, что из трех женщин две вышли живыми и правдоподобными (первая и третья), а вторая, актриса Женни Сорбье, была совершенно фальшивой. Не прописался и марокканский антураж. Убрав его и Женни, я получил костяк нового романа. Начал писать его почти бессознательно, и он на редкость легко «пошел». Может быть потому, что чем-то напоминал мою собственную жизнь. Вымысел, правда, был весьма далек от реальности, и те, кто прочтет подряд «Превратности» и мои мемуары, увидят, насколько они различны. Люди, не посвященные в алхимию вызревания романа, будут искать прямые соответствия между жизнью и литературным произведением. Но их не существует. Я лишь напитал моих вымышленных персонажей подлинными человеческими страстями, отсюда и их правдоподобие. В первой редакции романа Филипп Марсена, похоронив Одиль, решается на фиктивный брак, чтобы оградить себя от романтических увлечений. Он берет в жены собственную кузину, Рене Марсена, немолодую и некрасивую девицу сурового нрава. Когда я перечитал написанное, то обнаружил некоторые несоответствия. Мой Филипп, каким он выведен в первой части, видел в Одиль Сильфиду своих грез и не мог решиться на брак по расчету, который я ему навязал. Чтобы женить Филиппа вторично, надо было уверить его в том, что он вновь обрел исчезнувшую Сильфиду, и придумать ему женщину «в его духе», такую, чтобы он искренне поверил в перевоплощение Одиль. Изабелла родилась из невозможности женить Филиппа на Рене. В сущности, Изабелла — это Филипп в юбке, точно так же, как у Стендаля Ламиель[188] — это Жюльен Сорель в женском варианте. Изабелла становится для Филиппа не столько второй Одиль, сколько олицетворением его собственной юности. Закончив второй вариант романа, я понял, что первая часть вышла волнующей, а вторая — неприятной. В чем же дело? Да в том, что в первой части герой не устает повторять: «Я любил, но не был любим»; во второй части он причитает: «Я любим больше, чем люблю сам», и в этом сквозит гнусное самодовольство. Я решил «вывернуть» вторую часть, превратив ее в исповедь Изабеллы. Вот так, вынужденно, а вовсе не по изначально продуманному плану, роман принял форму диптиха, которую одни сочли оригинальной, а другие ругали за искусственную симметрию. Из всех моих книг «Превратности любви» снискали наибольшее число читателей, правда, не в англосаксонских странах, хотя Вирджиния Вульф написала о ней необыкновенно умную и проницательную статью; книгу читали во Франции, Германии, Италии, Испании, Польше и Латинской Америке, а теперь еще и в СССР. Стоит ли книга того? Отражает ли она истинное лицо любви? «Да будет судьей любящий, а я воздержусь от решения». «Превратности любви» я закончил в Шаддорф-Парке, в Суррее[189], куда мы уехали на лето. Весной того же, 1928, года я читал в Кембридже ежегодный курс лекций по литературе — Clark Lectures. В 1927 году этот курс читал Э. М. Форстер[190]; Десмонд Мак-Карти[191] должен был читать его в 1929-м. Форстер взял себе темой «Взгляд на роман», я выбрал «Взгляд на биографию» и постарался раскрыть своим слушателям некоторые премудрости ремесла биографа. Курс длился шесть недель; на этот период лектора селили в Харкуртских палатах Тринити-колледжа — величественных апартаментах, свидетелях многих исторических событий; трапезы мои проходили за Высоким столом, бок о бок с главой колледжа, видным физиком сэром Джозефом Томпсоном. — Почему Англия дает миру столько знаменитых ученых? — спросил я его однажды. — Потому что мы не преподаем науки в школах, — объяснил он. — Свежие головы, интересующиеся физикой, приходят сразу в лабораторию, не успевая погрязнуть в рутине теории. Я всей душой полюбил Кембридж, его старые колледжи из серого камня, вытянувшиеся вдоль реки; нежно-зеленые береговые склоны; ивы, нависшие над водами Кейма; старинные мостики, под которыми снуют плоскодонки с молодежью; залу, насчитывающую не одно столетие, в которой я читал свои лекции, преследуемый веселым и беспощадным взглядом Генриха VIII, увековеченного Хольбейном. Кроме сэра Джозефа на моих лекциях присутствовали еще два знаменитых профессора: поэт Хаусмэн[192] и историк Тревельян[193]. Когда я принялся рассказывать о Литтоне Стрейчи[194], Тревельян заметил: — В истории английской биографии XX века важнейшим событием является не портрет королевы Виктории, выполненный Стрейчи, а победа королевы Виктории над Стрейчи. В Тринити-колледже, где я жил, учился некогда Байрон. Я частенько ходил к тому месту у излучины реки, где он любил нырять в глубокую заводь и, достигнув дна, цепляться за старый сгнивший остов дерева. В то время я делал записи, собирая материал для будущей книги. В «Ариэле» я набросал его портрет, но остался им недоволен. Мне казалось, что я был к Байрону несправедлив и что в его внешнем цинизме больше благородства, чем в чувственном идеализме Шелли. Его письма, которые я старательно изучал, восхищали меня резким и откровенным противопоставлением голых фактов, что напоминало манеру иных живописцев играть на контрасте чистых цветов. Тем же летом я сделал вылазку в школу Харроу и нашел имя Байрона, вырезанное им когда-то на дубовой обшивке стен; посетил могилу Пичи, куда приходил думать хромой поэт; видел розовый куст на могиле его дочери Аллегры. Кроме того, на самом севере Англии я посетил аббатство Ньюстед, родовое имение Байронов. Монастырская церковь была разрушена, но жилые здания все еще поражали величием и благородством; при виде этих готических арок, монастырских стен, леса и озера, я вдруг понял, что испытал маленький мальчик, когда после невзрачного Абердина[195] вдруг сделался полновластным хозяином этих дивных владений. Мне более чем когда-либо стало ясно, сколь важно для биографа посетить места, где жили его герои. Ньюстед дал мне ключ к пониманию детства Байрона: то, что его враги называли позже снобизмом, было всего лишь изумлением маленького Байрона, привыкшего к Абердину, перед лордом Байроном, хозяином Ньюстеда. Неподалеку от Ньюстеда, в Эннесли-Холле, все еще жили потомки Мэри Чауорт, первой любви поэта. Я попросил их показать мне лестницу, где Байрон услышал слова юной особы: «Как мне может понравиться хромой мальчик?» И дверь, которую он изрешетил пулями, стреляя из пистолета. Обитатели Эннесли, мистер и миссис Мастерз, мало что знали о той, чей род продолжали. Совершенно иной оказалась леди Ловлейс, вдова внука Байрона, ревностно и благоговейно хранившая семейные архивы. Я знал, что в ее руках находится множество ценных бумаг, в том числе дневник леди Байрон, разрешавший спорную проблему инцеста. Невозможно было правдиво описать жизнь Байрона, не изучив эти единственно достоверные источники. К счастью, у нас оказалась общая знакомая — леди Джордж Хамильтон, — и я, получив разрешение прочесть документы, отправился на несколько дней в Окхэм-Парк, замок леди Ловлейс. Там ночи напролет при свете двух свечей я увлеченно расшифровывал невероятные свидетельства — записи рьяной до бесстыдства пуританки; повествование ее было столь живо, что я почти видел Байрона, шагающего своей прыгающей походкой вдоль серых каменных стен, и слышал его голос. Вернувшись в Лондон, я пришел с визитом к престарелому лорду Эрнлю, который (под своим первым именем — Протеро) опубликовал когда-то письма Байрона. — Я в затруднительном положении, — сказал я ему. — Вы всегда утверждали, что между Байроном и Августой не было инцеста… Я могу доказать обратное, и в то же время мне неловко вам противоречить… Как быть? Он весело рассмеялся: — Как быть? Да очень просто. Если был инцест, так и скажите. Мне же почти восемьдесят, в моем возрасте негоже менять убеждения. Чтобы завершить байроновские исследования, мне пришлось повторить маршрут Чайлд-Гарольда. Воспользовавшись этим заманчивым предлогом, в 1928–1930 годах я много путешествовал по Европе. Меня сопровождала жена. От нежных австриячек мы попадали к прекрасным гречанкам; от болот и сосен Равенны переезжали к венецианским дворцам; из Акрополя стремились к лагунам Миссолонги[196]. Путешествуя по гостеприимной, многоликой Европе, могли ли мы предположить, что через десять лет она будет лежать у ног завоевателя, во власти нищеты и раздора. Когда мы вернулись из путешествий, Хэрольд Николсон, автор замечательной книги «Byron, The Last Phase»[197], дал мне прочесть записки Томаса Мура о Байроне с комментариями его лучшего друга Хобхауса; а леди Ловлейс предоставила мне многочисленные письма, среди которых были письма Байрона-отца, по стилю напоминавшие сына и чрезвычайно интересные с точки зрения деталей, характеризующих жизнь родителей поэта. Редко биограф имеет в своем распоряжении столько неизданных документов. Возможно, что с художественной точки зрения моя книга от этого пострадала. Она получилась чересчур длинной, что, безусловно, плохо, но мне не хотелось жертвовать бесценными материалами. Все же Байрон, кажется, вышел похожим на себя. Некоторые критики принялись упрекать меня в том, что я написал не повесть о жизни Байрона, как, скажем, о жизни Дизраэли, а университетскую диссертацию. Я, признаться, сам давно не перечитывал книгу и уже не знаю, чего она стоит. Во всяком случае, она принесла мне ощутимую пользу, освободив от ярлыка «романизированной биографии». Хорош или плох мой «Байрон», но он, несомненно, свидетельствует об огромной подготовительной работе. «Не стоит забывать, — писал английский критик Десмонд Мак-Карти, — что это самая серьезная и полная книга, которая была написана о Байроне». Помимо всего прочего, эта биография примирила меня с учеными мужами. Я поджидал их без трепета, укрывшись в бастионе сносок и ссылок. И они явились не противниками, но друзьями. В литературе, как и в жизни, готовность к войне укрепляет мир. Гранки «Байрона» я правил в Альпах, в Виллар-де-Лансе, на Рождество 1929 года. Мы приехали туда к Франсуазе, дочери моей жены: врачи велели ей жить в горах. В биографии Байрона было одно действующее лицо, трогавшее меня до глубины души. Это была Аллегра, дочь Байрона и Клер, которая умерла в итальянском монастыре, одинокая и несчастная. Судьба малышки Франсуазы оказалась похожей на судьбу Аллегры — и мы ничего не могли изменить, хотя оба нежно любили ее. Будучи совсем крошкой, она очень страдала оттого, что у нее нет нормальной семьи. Она так хотела расти вблизи любящих друг друга родителей, играть с братьями и сестрами. Глядя на счастливые семьи, она испытывала смутное чувство собственной неполноценности. Наша с Симоной свадьба несказанно ее обрадовала. — Бог скоро пошлет мне сестричку, двух братиков и папу, — гордо объявляла она детям, с которыми играла в парке Монсо. Но недолго предстояло ей радоваться жизни в кругу новой семьи. Переболев брюшным тифом, она получила осложнение на печень, а еще через некоторое время врачи констатировали склероз печени. Они не стали скрывать от нас, насколько это опасно. Лишь высокогорный климат давал надежду на выздоровление — увы, призрачную. Два последних года своей коротенькой жизни Франсуаза провела в горах, разлученная с нами. Чувствовала она себя неплохо, но оставалась такой слабенькой и бледненькой, что невозможно было смотреть на нее без жалости. Играть в подвижные игры ей было запрещено, ибо открывшееся кровотечение означало бы для нее смерть. С утра до вечера она читала и в свои девять лет вела дневник. «Если бы Бог и в самом деле был такой всемогущий, то не должно было бы быть бедных… — писала она. — Я ничего не сделала плохого, за что же я наказана? За что меня отослали из дома, где мне так хорошо было играть с братиками?» Когда сиделка читала ей вслух «Оливера Твиста», она говорила: — Я не все понимаю, но это чудесно… Печальнее всего было то, что она не знала, как тяжело больна, и считала себя несправедливо изгнанной из дома. Бабушка обожала ее и подолгу оставалась с ней в горах; мы все тоже навещали ее так часто, как только могли. Тем не менее она страдала, и вместе с ней страдала ее мать. Наконец под Рождество 1929 года мы вроде бы разрешили эту трудную проблему. Несколько дней мы все были вместе, и Франсуаза заметно оживилась. Она просто светилась счастьем от встречи с Жеральдом и Оливье. Я много времени проводил с детьми и написал для них историю — «Толстопузы и Скелетины». Соединение нашей обычно разрозненной семьи стало для всех нас праздником. Но, увы, подошло Крещение, и пришлось спуститься с небес на землю. Жеральду и Оливье пора было возвращаться в Нёйи, в лицей Пастера; меня тоже ждали дела. В отчаянии Франсуаза видела, как снова рушится ее мечта о счастливой семье. Она умоляла, цепляясь за шубу матери: — Останьтесь, мама! Останьтесь! Потом вдруг сделалась решительной и серьезной. И пока мы садились в машину, невозмутимо стояла на ступеньках лестницы. Я смотрел на ее белое платье, на худенькие ручки, смотрел в ее умные, ласковые глаза и восхищался ее молчаливым мужеством. Бедная девочка! В ней дремала чудная, героическая женщина, которой ей не суждено было стать. Едва мы вернулись в Париж, как жена легла в больницу на операцию. Два часа я провел у ее изголовья, а когда пришел домой, мне позвонил врач из Виллар-де-Ланса и сообщил, что у Франсуазы опасное кровотечение; она потеряла сознание; кислород и камфора уже не помогают; надежды никакой. К одиннадцати вечера он позвонил мне вторично и сказал, что Франсуаза умерла. Когда ее укладывали в постель, она попросила: — Дайте мне фотографию моих братьев… Медсестра дала ей в руки маленький моментальный снимок, на котором весело смеялись Жеральд и Оливье, оба в серых пиджачках и коротких штанишках. Потом наконец подействовал кислород, и сознание ее затуманилось. Умерла она без мучений. Можно себе представить, как невыносимо тягостно было сообщать это ужасное известие Симоне, еще не оправившейся после операции. Она была очень слаба, и на похороны в Перигор мне пришлось ехать одному. Теща, тесть и я сопровождали маленький гроб до старой церкви, где аббат Мюнье венчал нас когда-то. Поля, которые я помнил залитыми солнцем и отягощенными созревшими хлебами, теперь заледенели и тонули в густом тумане. На деревенском кладбище перед разверзшимся склепом, хранившим прах четырех поколений, прошли чередой фермеры. Я вспоминал маленькую девочку в белом платье, старательно и бодро улыбающуюся нам с заснеженного крыльца. Смерти и несчастья, свалившиеся на меня за последние годы, сильно меня изменили. Я рассказал, как быстрые успехи и управление огромным предприятием сделали меня в начале моей жизни опасно самоуверенным. До тридцати лет я не знал, что такое неудача. Результатом этого были пробелы в моем духовном развитии и поразительная инфантильность. «Лучшее, что может случиться с человеком, это потрясение». Потрясения долгое время были мне неведомы. Но война перечеркнула все мои достижения и оторвала от всего, что я любил; следом за нею на меня обрушились душевные страдания, болезни и смерть близких. Это была моя школа боли. В ней я научился терпению и милосердию.
6. Сумерки богов
Во время моей первой поездки в Америку мне очень понравился Принстонский университет, который, как мне показалось, похож на Оксфорд и Кембридж. Английская готика, разумеется, неподражаема, но Принстон мог похвастаться и грандиозными зданиями XVIII века, и великолепными лужайками, и системой «наставничества» (работа с небольшими студенческими группами), которая напоминала оксфордских tutors[198]. В Принстоне у меня завязались знакомства с президентом университета Хиббеном, с деканом Госсом, Перси Чэпменом, одним из самых высокообразованных американцев, которых я в ту пору встречал. Общался я также с очаровательным французом Морисом Куандро. В 1930 году я получил письмо от президента Хиббена с уведомлением, что в университете открывается новая французская кафедра, названная именем принстонского студента, погибшего на войне, Мередита Хауленда Пайна. Мне предложили стать первым преподавателем этой кафедры, и я с радостью согласился. В отрочестве я мечтал стать преподавателем, и теперь, в зрелом возрасте, мне наконец представилась такая возможность; я был в восторге. Уезжал я надолго, и Симона поехала со мной. Кроме того, мы решили взять в Америку Эмили и Гастона Вольфов, чету молодых эльзасцев, которые уже несколько лет у нас работали и были столь преданны и сообразительны, что стали нашими друзьями. У одного профессора, находящегося в долгосрочном отпуске, университет снял для нас дом (по американскому обычаю, каждые семь лет преподаватель получает годичный отпуск и может посвятить его чтению, путешествиям или самообразованию). Это был деревянный домик, окруженный кленами и яворами, которые американская осень ярко раскрасила в красный и желтый цвет. Наши лужайки сообщались с лужайками соседей; эта страна не любила перегородок, столь дорогих европейскому сердцу. Под окнами скакали белки. На нашей улице жили только преподаватели; это была тихая провинциальная улочка. От Принстона у нас с женой остались ничем не омраченные, дивные воспоминания. Мы там были безмятежно, безмерно счастливы, как никогда не были ни в Нёйи, ни в деревне, ни в сумбурных наших путешествиях, где неизменно нас настигала суета, профессиональные обязанности, семейные хлопоты, воспоминания прошедших лет. В нашем домике на Бродмид мы жили совершенно одни и соприкасались с миром только через работу, которая была нашим общим делом и которую мы оба любили. Ничто не омрачало нашего счастья. Мои коллеги были вежливы, приветливы, но не настаивали на дружеской откровенности, столь свойственной нашим европейским друзьям. По меньшей мере раз в день мы садились за стол вдвоем, и так было почти все время. В Европе этого никогда не случалось. — Ну вот наконец и свадебное путешествие, — говорила Симона. Те из парижских знакомых, которые плохо знали мою жену, считали, что она не может жить без светских раутов, торжественных обедов, посольских вечеров, — а она всего лишь играла предписанную ей роль. Теперь я хорошо понимал ее побуждения. Крайне добросовестная и прилежная, она во что бы то ни стало стремилась исполнить свой долг, будь то долг перед Богом, перед работой, передо мной или перед обществом. Ее учтивость была сродни набожности. Отказ от принятого приглашения был для нее равносилен прегрешению, и лишь траур или болезнь могли его оправдать. Не ответить на письмо, не послать вовремя поздравления или выражения соболезнования — все это было в ее глазах непозволительным проступком. Позже, когда она посвятит себя общественной деятельности в сельской коммуне, то с той же щепетильностью и самоотдачей, с какой прежде участвовала в жизни света, она будет участвовать в местных мероприятиях и ради какого-нибудь муниципального советника будет усердствовать не меньше, чем ради короля. В Принстоне ей нравилось вести тихую обывательскую жизнь, ходить на рынок, в мясную лавку, к мороженщику, поить чаем моих студентов. К этим занятиям добавлялось ежедневное восьмичасовое сидение за пишущей машинкой. — Я никогда еще не была так счастлива, — говорила она мне. Мы вступали в новую жизнь — такую, о какой мечтали. Курс, который я читал, назывался «Французский роман от „Принцессы Киевской“ до „Поисков утраченного времени“». К занятиям были допущены пятьдесят студентов, сдавших экзамен по французскому и обладавших необходимым уровнем подготовки. Два раза в неделю я читал лекции. В остальные дни студенты приходили ко мне по семь-восемь человек, садились на ковер и, покуривая, обсуждали со мной произведения Бальзака или Стендаля, Флобера или Анатоля Франса — в зависимости от того, что я задавал им прочесть. Беседовали мы свободно, весело и оживленно. Говорили о литературном мастерстве, истории, нравственности, философии. Я испытывал неведомую мне дотоле радость оттого, что находился среди молодых, и как будто сам становился студентом. В конце семестра президент Хиббен сказал мне: — Ваши лекции имеют успех; студенты к вам привязались; вы прирожденный педагог. Не хотите ли остаться у нас на постоянной работе? Восемь месяцев в году вы будете жить в Соединенных Штатах, а четыре месяца каникул проводить во Франции… Предложение показалось мне заманчивым, и я решил посоветоваться с женой. Мы колебались. В Принстоне мы были невообразимо счастливы. Кроме того, мы понимали, что старая Европа стоит на пороге великих бед и не мешало бы, вероятно, подыскать себе безопасное пристанище. Но остаться в Америке значило для нас бросить Францию, воспитывать детей за границей. Мы решили, что не имеем на это права. Я отказался. Было ли это ошибкой? Думается, что если бы я тогда сказал «да», жизнь моя сложилась бы много легче. Но была бы она такой же богатой и яркой или нет? На этот вопрос никто ответить не может, а я привык считать, что если чего-то не произошло, значит, и не могло произойти. Из Америки я вернулся с убеждением, что французский писатель, говорящий по-английски, обязан при всяком подходящем случае поддерживать и укреплять франко-американские духовные связи. Это вовсе не значило, что я отвернулся от моих английских друзей, но в тот период отношения Франции и Англии складывались не лучшим образом, и разгадку этого, возможно, следовало искать в Вашингтоне. Во время войны 1914 года, когда я рассказывал французам об англичанах и англичанам о французах, я находил отклик аудитории, ибо интересы двух наций во многом совпадали. После войны интересы разошлись. Франция потребовала гарантий безопасности и, не получив их, стала вести самостоятельную политику в Рурском бассейне и с восточными союзниками. Англия, вспомнив былые страхи наполеоновских времен, вернулась к устарелой системе уравновешивания одной силы другою. Опасаясь усиления Франции, она поощряла перевооружение Германии. Я, как мог, в статьях и в лекциях старался объяснить опасность разрыва и прекращающихся разногласий между двумя державами, заинтересованными в сохранении европейского мира. Я даже произнес речь в Чатем-Хаусе[199] о внешней политике Англии — увы, пророческую. К сожалению, я чувствовал, что взаимное недоверие двух стран не ослабевает. — Мы, англичане, — говорил мне лорд Тиррелл, новый английский посол в Париже, — совершили после войны две ошибки: решили, что французы, коль скоро они победили, стали немцами; и что немцы, раз они проиграли, стали англичанами… С лордом Тирреллом я познакомился в Лондоне, в доме леди Колфакс, — тогда он звался сэром Уильямом Тирреллом. Он был ирландец и католик и более отзывчив на все французское, чем англичане-протестанты. В качестве бессменного секретаря он долгое время руководил Министерством иностранных дел, а затем сам себя назначил послом в Париж. Ловкий, проницательный и находчивый, он многое сумел сделать, насколько это было возможно в то время. Вскоре после своего назначения он оказал мне честь, пригласив на очень занятный ужин в тесном кругу. В Англии вот-вот должен был прийти к власти лейборист Рамси Макдональд[200], и лорд Тиррелл нашел ловкий ход, представив его на ужине некоторым лидерам французских левых сил. Он пригласил к себе в тот вечер братьев Сарро[201], Пенлеве и Леона Блюма[202]. Так как Рамси Макдональд ни слова не знал по-французски, званый вечер дополняли говорившие на обоих языках французы и англичане, которые должны были выступить в роли переводчиков. В их числе был я и, если мне не изменяет память, Андре Сигфрид. По правде говоря, одну из главных опасностей для франко-английских отношений представляли встречи политических деятелей, которые были не в состоянии понять друг друга. Франция ждала установления четких обязательств, Англия всеми силами стремилась этого избежать. Пуанкаре раздражал англичан своей непреклонностью; Керзон[203] своим высокомерием выводил из терпения французов. Англичане любили Эррио, потому что в их представлении он был типичным французом, а еще потому, что он рассказывал им об их истории. Французы симпатизировали Остину Чемберлену[204] за его слова: «Францию я люблю, как любовницу», — неосторожная фраза, стоившая ему министерства. Чемберлен и Бриан были большими друзьями. Оба — натуры увлеченные, и оба, столкнувшись с кипением народных страстей, вынуждены были отступить. Политическая мудрость редко вознаграждается в этом мире. Говорят, неблагодарность — признак сильных народов; это ложь. Послевоенная Франция (я имею в виду официальную Францию) не была сильной: лишь неблагодарной. Кто поддержал Бриана, испробовавшего все средства для сохранения мира? Кто интересовался Пуанкаре, великим французским деятелем, когда он, обедневший и парализованный, умирал где-то на одинокой южной вилле, забытый всеми, кроме нежно-заботливой жены? Кто воздал справедливость Лиотею, подарившему Франции ее могущество? Всего лишь маленькая группа друзей, к которой я имел счастье принадлежать. Я навещал его порой в местечке Торе, в Лотарингии. Маршал был уже глух, и общаться с ним было трудно. Но я любил слушать, когда он рассказывал о своих великих делах, или смотреть, как он, сидя в саду, чертит план аллеи с той же внимательной сосредоточенностью, с какой в былые времена намечал план города или проводил линию будущей железной дороги. Мало-помалу, слушая его рассказы, я начал понимать, что молодому поколению Франции, еще не нашедшему себя в жизни, полезней всего было бы прочесть «Жизнь Лиотея». Я знал ее достаточно хорошо. О его детстве читал в его же мемуарах. Лиотей написал их сам, очень талантливо, в благородно-рыцарском стиле, в духе французской литературной традиции. Что касается других событий его жизни, то я располагал его письмами, рассказами и многочисленными свидетельствами. Единственное обстоятельство меня смущало: впервые я собирался писать книгу о живом человеке. Предоставит ли маршал мне свободу суждения? Я надеялся, что предоставит, и не ошибся. Когда я поведал ему о своем замысле, он мгновенно загорелся и отдал мне весь архив. Я начал работать. Лиотей предложил читать каждую готовую главу и на два года стал для меня самым энергичным и, в конечном итоге, самым разумным помощником. Он попросил меня выбросить из книги некоторые забавные истории; я согласился, поскольку они не имели большого значения. Работать мне частенько приходилось в непривычные для меня часы, потому что герой мой почти не спал. Зато помогал мне самоотверженно. До выхода книги многие французы не знали, чем был для Франции Лиотей. Теперь у него появилось много новых приверженцев. «Вы меня придумали», — писал он мне. Разумеется, это была шутка, но маршал был счастлив. Теперь меня нередко приглашали рассказывать о нем в юношеской аудитории. Благодаря ему я вошел в бригады Робера Гарика: это было движение молодых интеллектуалов, несших культуру в народ, но существовало оно не в виде народных университетов, а в более доступной форме кружков из десяти — двенадцати человек, что напоминало мне принстонское наставничество. «Дня не проходит, — писал мне Лиотей, — чтобы я не получил письма от незнакомого человека. Это все благодаря вам». Если я хоть сколько-нибудь, худо-бедноспособствовал своей книгой тому, чтобы старость этого человека была окружена славой и почетом, без сомнения, заслуженными, то нет произведения, которым бы я гордился больше. Нередко Лиотей грустил. У него случались провалы в памяти, очень беспокоившие его друзей, которые из уважения пытались их от него скрывать. Однажды мы сидели вдвоем в его кабинете на улице Бонапарт, как вдруг он замолчал и замер в пугающей неподвижности. Я не осмеливался произнести ни слова, боясь спровоцировать приступ, только оставался рядом с маршалом и заботливо за ним следил. Время тянулось бесконечно долго. Вдруг он посмотрел на меня и спросил: — Ведь ты Пеймиро, верно? Генерал де Пеймиро был одним из его помощников в Марокко во времена двадцатилетней давности. Я не решился возразить, и постепенно Лиотей вышел из забытья. А однажды я был свидетелем того, как из подобного состояния его вывела, легко и непринужденно, будущая королева Англии. Это было в 1931 году, на Колониальной выставке, которую со своей неизменной изобретательностью открывал Лиотей. Выставку посетили герцог и герцогиня Йоркские. Лиотей показал им все: от ангкорской пагоды до алжирской деревни, от Таити до Джибути, а потом пригласил выпить чаю на берегу озера, где были расставлены столики на трех человек. Маршал, утомленный долгой ходьбой, был угрюм. Он пригласил герцогиню за столик, после чего обратился к ней с вопросом: — Кому Ваше Королевское Высочество окажет честь занять третье место? Случилось так, что герцогиня, с которой я был знаком (в Лондоне она просила меня выступить в поддержку ее произведений), заметила меня в толпе. — Мистеру Моруа, — сказала она. К моему великому смущению, меня пригласили за стол. Молодая принцесса сказала мне из вежливости несколько слов, а затем повернулась к маршалу: — Господин маршал, — сказала она, — вы всемогущи: вы создали этот удивительный Марокко, вы устроили эту великолепную выставку. Не могли бы вы сделать также кое-что для меня? — Для вас, мадам? — удивленно замялся Лиотей. — Но что я могу сделать для Вашего Королевского Высочества? — Видите ли, — продолжала принцесса, — мне в глаза светит солнце… Не могли бы вы его убрать? Лиотей смотрел на нее в замешательстве, как вдруг солнце погасло, скрывшись за облачком. — Спасибо, господин маршал, — сказала принцесса как ни в чем не бывало. — Я знала, что для вас нет ничего невозможного. Маршал улыбнулся и повеселел. А герцогиня призналась мне тихонько: — Я видела, что наплывает облако. Когда Колониальная выставка закончилась, Лиотей загрустил, не зная, к чему применить свои нерастраченные силы. Для человека энергичного, как и для донжуана, старость непереносима. Рожденный творить и править, он даже в своей лотарингской деревушке царил, как монарх. — Боже мой, — жаловался он мне, — неужели никто не замечает, что я не нахожу себе места? Или я уже не способен служить? Разве нельзя найти мне какое-нибудь применение? Нет, никому я больше не нужен… Видно, умирать пора… — Господин маршал, разве можно обойтись без такого человека, как вы? Правительство придумает вам какое-нибудь занятие. — Придумает, мой друг!.. Придумает!.. Все это, конечно, очень мило, но мне вот-вот стукнет восемьдесят… Если я собираюсь делать карьеру, то пора начинать. Умер он в 1934 году, когда я был в Англии. Немедленно вернувшись во Францию, я поспешил в Торе, но на похороны все равно опоздал. Маршал Лиотей остался среди нас, и мы, горстка знавших его французов, в дни сомнений и одиночества вспоминаем этого великого человека, и в эти мгновения к нам возвращается надежда.7. Утраченное время
Выбрать правильную дорогу в жизни для писателя непросто. Постигнут ли его временные неудачи — нескончаемые заботы лишат его возможности творить и наполнят горечью сердце. Если же ему улыбнется удача и он станет знаменит — все его силы будут уходить на общественную жизнь, а время для работы придется отмерять по часам. Известность в такой коммуникабельной стране, как Франция, порождает обязательства, манкировать которыми просто невозможно. Мудрецы ограждают себя от общения; остальные с великим трудом урывают ежегодно несколько месяцев для работы, большую же и лучшую часть времени тратят на бессмысленные занятия, к которым вовсе не стремятся, но не имеют мужества от них отказаться. По правде говоря, я лукавлю, говоря о бессмысленных занятиях. Обстоятельства, мои книги и мои друзья сделали из меня поборника и воплотителя идеи тесного союза Франции, Англии и Америки. Едва между тремя странами возникали разногласия, правительство обращалось ко мне с просьбой написать статью по-французски или по-английски, чтобы рассеять недоразумение. На каждом франко-британском мероприятии, будь то литературный или спортивный праздник, день рождения великого писателя или юбилей какого-нибудь события, требовалось мое присутствие, а иногда и выступление. Мог ли я отказать? Мог бы, конечно, если бы не глубокая убежденность в необходимости оберегать хрупкие связи между народами для того, чтобы спасти нашу либеральную цивилизацию. В сущности, за эту роль никто, кроме меня, не брался. Время, потерянное для литературного труда, я тратил на служение благородному, в моем понимании, делу. Это оправдывало меня в собственных глазах, но нисколько не утешало. В период с 1932 по 1939 год я мог бы написать, но не успел, несколько больших романов, очертания которых уже обозначились в моих записных книжках. Своим примером я хотел бы показать начинающим писателям, что лишь в уединении обретут они необходимый покой. «О одиночество, — говорил Баррес, — ты единственное спасало меня от пошлости». Слишком часто в течение семи лет я брал на себя роль дипломата in partibus[205]. Как-то зимой мы три месяца провели в Египте, где я согласился дать ряд уроков во французском лицее, в Александрии. Египет был прекрасен и радовал глаз. Люди — и миссионеры, и далекие от церкви, — несшие туда французскую культуру, нуждались в нашей помощи. Мы получили огромное удовольствие от посещения гробниц Саккары[206] и знаменитой каирской крепости-мечети. Правда, ежедневно приходилось встречаться с журналистами и дипломатами из Франции, Англии, Сирии и Египта, а также с арабскими, коптскими и еврейскими официальными представителями. О суета сует! Весной мы отправились на Мальту, так как я имел слабость согласиться написать об этом острове небольшую книжечку. Английский критик Десмонд Мак-Карти снабдил нас рекомендательным письмом к своему родственнику, адмиралу сэру Уильяму Фишеру, прославленному моряку и главнокомандующему британским флотом в Средиземном море. Неожиданно для себя мы оказались почетными гостями и разрывались между праздниками, экскурсиями в военные порты и морскими путешествиями. Вернувшись домой, мы сразу же отправились в Англию и пробыли там часть лета. Наши английские друзья, полковник Стирлинг и его жена, обладавшие безукоризненным вкусом, находили нам пристанища в дивных местах. Основным требованием для наших жилищ была близость к Лондону, где я работал в библиотеках над «Историей Англии», заказанной мне издателем Файаром[207]. Один год мы снимали Ормели-Лодж в Хэм-Коммон — дом из красного кирпича, на белокаменном архитраве и деревянных панелях которого повторялось изображение трех перышек герба принца Уэльского. Дом был когда-то подарен регентом своей морганатической супруге Марии Фицхерберт[208]. Из нашего сада открывался вид на Ричмонд-Парк с его могучими дубами и ланями, гулявшими среди молодой поросли. — Как было бы здорово жить там, — вздыхали мы. Но в парке стояло лишь три-четыре дома, и принадлежали они английской короне. В 1934 году наши бесценные Старлинги сняли для нас один из них: Пемброук-Лодж, в котором во времена Билля о реформе[209] жил лорд Расселл[210]. В нашей гостиной была объявлена Крымская война; в розарии находился пригорок, на котором Генрих VIII ждал сигнала, возвещавшего казнь Анны Болейн[211]; на лужайке перед домом красовался миниатюрный памятник, поставленный лордом Расселлом в ознаменование «пятидесяти лет семейного счастья». Ночью необъятный Ричмонд-Парк весь был в нашем распоряжении, и под вековыми деревьями мы не раз встречали пугливых ланей, замиравших при нашем появлении и косившихся на нас блестящими глазами. В один прекрасный летний день из Пемброук-Лоджа я отправился в Оксфорд получать звание доктора honoris causa[212] и докторскую шапку. Лорд Халифакс, канцлер университета, произнес мое имя вместе с именами лорда Тиррелла, сэра Сэмюэла Хоара[213], Артура Хендерсона[214] и сэра Мориса Хэнки. Он с достоинством шествовал во главе торжественной процессии в театре Шелдона[215], облаченный в длинное одеяние черного бархата, расшитое золотом, а сын его, одетый пажем, нес шлейф его мантии. Представляя каждого нового доктора, оратор зачитывал на латыни краткие сведения о нас. «Молчание полковника Брэмбла» он перевел как «Vepris illius, tribuni militum silentia»[216]. A Артур Хендерсон, которого английские рабочие звали «дядюшка Артур», превратился в латинском варианте в «Plebi laboriosae quasi avunculus»[217]. Эти ученые игры очень забавляли англичан. Я же, склонившись перед лордом Халифаксом для принятия инвеституры, думал о той, кто двадцать четыре года назад, будучи еще стройной и жизнерадостной, в первый раз подвела меня к оксфордским серым стенам. В этот год мы, как и прежде, продолжали поддерживать старые дружеские связи; кроме того, у нас появилось много новых друзей. Я нашел наконец англичанина, который понимал опасность перевооружения Германии и необходимость союза между Великобританией и Францией — это был сэр Роберт Ванситтарт, постоянный заместитель государственного секретаря в Foreign Office. Я стал свидетелем его бесед с Шарлем Корбеном, французским послом в Лондоне, которые проходили в волшебном саду Ванситтарта, в Денхэме. Оба деятеля здраво оценивали международную ситуацию и констатировали опасную недальновидность французских и английских политических лидеров. В этом же саду, на берегу пруда с пышно цветущими лилиями, окруженная облаками белоснежного кустарника, мне запомнилась леди Ванситтарт: она показалась мне шекспировской героиней. В Чивнинг-Парке у лорда Стэнхоупа я вновь увидел Киплинга. Он любил лежать на траве, окруженный молодыми людьми, и расспрашивать их об армии и флоте. Живописный дом стоял посреди огромного парка, гуляя по которому, мы встречали то стада овец, то лосей. Сам лорд Стэнхоуп вел свой род одновременно от Питта[218] и от лорда Честерфилда[219]. В его доме была великолепная библиотека. — Что вы собираетесь сегодня делать? — спрашивал он меня. — Не хотите ли почитать неизданные письма Вольтера? Или Руссо? Или, может, рукописи лорда Честерфилда? Дом Спенсеров в Олторпе был полон воспоминаний о Мальборо[220]; на стенах висели портреты владельцев дома всех поколений, писанные лучшими мастерами каждой эпохи. — Кому вы заказали ваш портрет? — спросил я хозяина. — Огастесу Джону[221]. Дженнеры, мои старые друзья, жили теперь в Бате; я отправился навестить их и посетил один из прекраснейших городов мира. Красота Англии все больше покоряла меня. Какая благородная, какая прелестная страна! Как бы мне хотелось связать ее с моей Францией прочными узами! Но что могу я сделать? Как ничтожны мои лекции, как тщетны мои статьи в борьбе с враждебными силами, которые даже могущественный лорд Ванситтарт не в силах одолеть. В 1931 году после долгих колебаний с моей стороны мы сменили нашу квартиру на улице Боргезе в Нёйи, все еще полную дорогих и трагических воспоминаний, на другую. Симона неоднократно предлагала мне на выбор разные дома, но все они мне не нравились. Наконец одним я соблазнился. Квартира находилась на бульваре Мориса Барреса, в доме, расположенном по соседству с белым особняком, принадлежавшем некогда писателю, чье имя носил бульвар. В особняке жил теперь сын Барреса Филипп. Из наших окон открывался вид на Париж и Булонский лес: под окнами колыхалось зеленое море листвы; слева вырисовывалась сквозь серый или золотистый туман, в зависимости от погоды, Триумфальная арка; справа высился, напоминая собой Флоренцию, поросший кипарисами холм Валерьен. Довольно скоро я привязался к новому жилищу, полюбил его белые стены, вместительные книжные шкафы из красного дерева, напоминавшие мой первый дом в Эльбёфе; немногочисленные, но заботливо отобранные картины на стенах (Марке, Кислинг, Буден, Леже). Обстановка была очень простая, пожалуй, даже скупая и неуютная, но в то же время выдержанная в определенном стиле. Мы мечтали, что будем доживать в этой квартирке свой век. Неподалеку я купил квартиру для матери, чтобы она могла приезжать на зиму в Париж. Как и прежде, пять сестер, одетых во все черное, собирались каждый день на улице Токвилль, возле моей бабушки, которая в свои девяносто лет все еще сохраняла живой ум, жадность до книжных новинок и рассудительность. Как когда-то Жанина, Симона поначалу дивилась этим долгим посиделкам, во время которых тихие черные жрицы монотонно, будто читая псалмы, по очереди вспоминали все смерти, рождения, скарлатины, кори, аппендициты, экзамены на степень бакалавра, свадьбы и продвижения по службе всех членов семьи, изредка прерывая повествование благоговейным молчанием. Впрочем, благодаря своей феноменальной памяти Симона очень быстро начала разбираться в генеалогических хитросплетениях клана не хуже престарелых весталок. Это был странный, душный и безмолвный мир, напоминавший романы сестер Бронте[222], но Симона вошла в него, исполненная снисходительного и нежного внимания. К несчастью, в Париже, как и в Лондоне, все мое время было поглощено «делами». Только в Эссандьерасе мне удавалось не отрываться от работы. Перигор покорил мое сердце и открыл много нового. Прежде, в полку и затем на фабрике, я имел возможность наблюдать нормандских буржуа и рабочих; в Ла-Соссе я узнал богатых мопассановских фермеров. В Перигоре я мог изучать землевладельцев, потомков старинной местной аристократии. Это был класс, играющий важную роль в жизни Франции и недооцененный Парижем, Лондоном и Вашингтоном, — он давал офицеров для армии и дипломатов для набережной Орсе. Я наблюдал работающих без устали арендаторов: прижимистых, не ждущих помощи ни от церкви, ни от знати, готовых в любую минуту поделить крупную собственность и отстаивать мелкую. Время от времени они вдруг становились социалистами; по складу ума симпатизировали радикалам; в силу традиции стояли на стороне консерваторов и, переплюнув всех, выступали вдруг ярыми, стихийными патриотами. Слушая, как наши соседи ссорятся из-за политических убеждений, я думал о том, что Франция безнадежно разобщена; а глядя на памятник погибшим, насчитывающий куда больше имен, чем деревня домов, убеждался в том, сколь она едина и всегда готова сплотиться перед лицом врага. Ни писатель, ни историк не поймут Франции, если не будут смотреть на нее одновременно с двух точек — из Парижа и из провинции. Я знал мою родную страну по Нормандии и по Перигору. Это были две важные точки отсчета. Наша жизнь в Эссандьерасе была монотонна и заполнена работой. Каждый день в восемь утра, распахнув окно на холмы, реку, деревни и рощи, я садился писать. Ничто не нарушало тишины: лишь урчал где-то комбайн, жужжали осы, ревниво слетевшиеся на мои цветы; вдалеке, в низине, билась о камни речка Лу да постукивала клавишами пишущая машинка Симоны, которая в соседней комнате перепечатывала главу, написанную накануне. Я заходил за ней в одиннадцать часов, и мы шли гулять по двум аллеям — обычная для Эссандьераса прогулка, — сначала по дубовой, затем по каштановой. Именно там расхаживала маленькая Симона, играя в макбетовский лес. Мы доходили до фермы «Гишарди» и останавливались расспросить фермеров об их детях, об урожае. Где-нибудь в полях или на лугах мы встречали управляющего Менико, бывшего солдата, который, в зависимости от времени года, следил за пахотой, жатвой или сенокосом. Мы подходили к нему узнать, что нового в имении. К нашему возвращению в столовой уже ждал заботливо продуманный, изысканный перигорский обед, который оживляло остроумие моей тещи и радостная возня детей. Затем мы с Симоной снова садились за работу — каждый за свою. К пяти часам по дубовой или каштановой аллее мы вновь отправлялись на прогулку, в этот раз более длительную, и бродили порой по два часа, обсуждая развитие романа. Я рассказывал о будущих главах. Симона одобряла или спорила. Когда речь шла о героине, она лучше меня чувствовала, какой сюрприз это непокорное создание может нам преподнести. Мои персонажи были для нас живыми людьми и действовали помимо, а иногда и вопреки моей воле — как в то время, когда я писал «Превратности любви». Я, например, вовсе не хотел, чтобы Дениза Эрпен, героиня «Семейного круга» (роман был закончен в Эссандьерасе летом 1931 года), становилась любовницей Жака Пеллето до свадьбы. Но однажды утром, бродя по дубовой аллее, я вдруг понял, что они все же допустили эту неосторожность. — Я сделал все, чтобы этому помешать… — сказал я Симоне. — Но он солдат, к тому же еще и раненый. И должен вновь отправляться в часть. А в ней такая жажда самопожертвования… Короче, что делать, это произошло! — Что подумает Думик? — только и спросила жена. «Семейный круг» и в самом деле был предназначен для «Ревю де дё монд». Закончив его и опасаясь неблагоприятного впечатления, которое могут произвести на Думика прегрешения моей героини, я прочел начало романа его зятю, моему близкому другу Луи Жилле[223]. Он уверил меня, что все в порядке, и я понес рукопись Думику. Неделю спустя тот вызвал меня к себе и принял, как всегда, сидя и спрятав ноги в одеяло. — Весьма сожалею, — сказал он. — Я очень хотел бы напечатать вас, но опубликовать этот роман мой журнал не может… Нет, поймите, это действительно невозможно. Подписчики будут возмущены. — Но почему? — Как — почему? И вы еще спрашиваете? Эти бесконечные супружеские измены… — Помилуйте, сударь, ни один выдающийся французский роман не обходится без адюльтера… «Госпожа Бовари»… «Отец Горио»… — О да, разумеется! — возразил он. — Мой журнал, к сожалению, вынужден иногда мириться с адюльтером, но только в случае искреннего раскаяния персонажа… А ваша героиня и не думает это делать. Госпожа Бовари, та, по крайней мере, умерла! Итак, мой роман был отвергнут; я не обиделся на Думика, уважая его за твердость и нисколько не сомневаясь, что он лучше меня знает своих подписчиков. Толчком к написанию «Семейного круга» послужил рассказ одной молодой женщины, моей приятельницы, о том, как она была потрясена в детстве, обнаружив, что к ее матери тайком от отца ходит мужчина. Эта история произвела на меня сильное впечатление, и я спросил, что же было дальше. Она рассказала и это, припомнив множество ярких деталей. Но реальный роман закончился очень быстро, а мне необходимо было продолжение. Тогда я вспомнил еще об одной знакомой, чья жизнь могла бы послужить примером того, что сталось с Денизой Эрпен, неудачно вышедшей замуж. Из слияния этих двух характеров с прибавлением некоторых штрихов других моих знакомых и родился «Семейный круг». Мне нравилось воскрешать в моей новой книге кое-каких персонажей из «Превратностей любви» и «Бернара Кенэ». Потом я написал «Инстинкт счастья», где постарался связать промышленную Нормандию моих первых книг с земледельческим Перигором моего последнего романа. Это было неплохое начало для целого цикла романов, которые составили бы картину послевоенной Франции и которые я мог бы написать, если бы времена были другие и жизнь моя была более спокойной. Над этим-то и советовал мне работать Ален, считавший меня, вопреки бытующему среди критиков мнению, в большей степени романистом, нежели эссеистом. Прочтя «Превратности любви», он написал мне: «Дорогой друг, не буду рассуждать в письме о вашем романе. Слишком много надо сказать. Прочтя книгу дважды очень обстоятельно, я заметил, во-первых, что интерес к ней не ослабевает, что она захватывает, и наконец, что это именно то, что я называю „настоящим чтением“. Что касается стиля, то он безупречен и по изяществу не уступает „Брэмблу“; теперь вы должны населить мир. Нет чувств более для меня естественных, чем те, которые вы пробуждаете в читателе. В первую очередь это нежность — и она сразу заметна; но есть еще и ярость — и ее, по-моему, нет нужды так сдерживать. (Почитайте о ревности Моски. „Надо избежать кровопролития“ — в „Пармской обители“.) Не думаю, чтобы этих чувств- не было в „Превратностях“, но — возможно, от избытка деликатности — вы их старательно скрываете. Разве писатель должен быть деликатным? Ведь наше первое движение — изничтожить. Разумеется, вторая часть, от лица женщины, сложнее. Но увлекшись, я не находил уже, к чему придраться. Правда, „Кенэ“ мне нравится больше, потому что чувства там перемешаны с практическим интересом и работой; тем не менее „Превратности“ в своей камерности лучше прописаны, возможно, потому, что чувства там замыкаются на себе, к чему они, собственно, всегда стремятся… „Кенэ“ более трагичен — там все труд, все забвение. Полагаю, если бы какая-нибудь революция вас разорила, вы бы копали еще глубже». Это письмо порадовало меня и в то же время заставило о многом пожалеть. «Теперь вы должны населить мир», — писал Ален. Я сам хотел бы этого, но был недостаточно вооружен для такого деяния. Я не знал о французском обществе всего того, что знал Бальзак. Кого, собственно говоря, я успел изучить? Нормандских промышленников, перигорских земледельцев, а в Париже — лишь литературный и политический мир. «Если бы вы разорились…» — писал Ален. Вероятно, он был прав. Если бы я разорился, то узнал бы Гобсека. Мне казалось, что для формирования действительно крупного писателя бальзаковского или диккенсовского уровня необходима по меньшей мере бурная юность. Моя юность была другой. Разве написал бы Виктор Гюго «Отверженных», если бы его любовницей не была Жюльетта Друэ, девушка из народа? А Бальзак — «Сезара Биротто», если бы сам не обанкротился? Будучи слишком благополучным, я вынужден был для изучения общества опираться на чужие рассказы. Разве можно это сравнить с жестоким поединком, где противником выступает нужда? В искусстве, как и в любви, познание дается опытом. И все же я пытался пустить в ход все имеющиеся в моем распоряжении средства, а было их у меня немало. Сначала «Превратности любви», затем «Семейный круг» были попытками последовать совету Алена. Я послал ему последний роман, приписав в искреннем смирении, что скорей всего не способен, как он того хочет, «населить мир». Он ответил на книгу в высшей степени хвалебным письмом, сурово выговорив мне за сомнения. «Я возмущен тем, что вы не знаете себе цены, — писал Ален, — это просто нелепо. Вам не остается ничего другого, как поверить мне на слово; я читаю только настоящих писателей и не ошибаюсь». Ален был не из тех, кто стал бы лукавить. Впрочем, критики единодушно хвалили «Семейный круг». А Роже Мартен дю Гар написал мне: «Вам удалось то, что я сам безуспешно пытаюсь сделать». Еще два романа — один в набросках, другой наполовину уже написанный — ждали моего внимания. Первый назывался «Белокурая раса», второй — «Огненные птицы». «Ну что ж, — думал я, — попытаю счастья». Но жизнь сложилась иначе. Политические события в Европе причиняли всем столько беспокойства, что о том, чтобы спрятаться в вымышленном мире, не могло быть и речи. В 1932 году потерпел поражение на выборах Тардьё[224]. Мы хорошо его знали, так как он тоже нередко захаживал на авеню Ош. Это был бонвиван, очень образованный и циничный, во всяком случае на словах. Истинные чувства прятались в глубинных тайниках его сердца. У него были больные почки, и врачи предупреждали, что если он будет продолжать есть и пить в свое удовольствие, то до старости не доживет. — Ну и что из этого? — ответил он. — Пусть лучше мой век будет мал, да удал. Во времена, когда Тардьё был главой правительства, я оказался свидетелем трагического события: какой-то сумасшедший с русской фамилией Горгулов убил президента Республики Поля Думера[225]. В Париже ежегодно устраивали благотворительную ярмарку в пользу вдов и детей тех писателей, что погибли на войне. На этой ярмарке собиралось много литераторов в сопровождении красивых актрис; они раздавали автографы. Президент обычно удостаивал празднество своим появлением. В 1932 году я, как всегда, сидел за столиком, заваленным моими книгами. В тот момент, когда я подписывал «Превратности любви» для одной пожилой дамы, поднялся шум, который долго не прекращался: в павильон вошел президент. Потом я услышал два щелчка, на которые, впрочем, не обратил особого внимания. Начавшаяся беготня, крики и последовавшее затем гробовое молчание заставили меня поднять голову, и я увидел главу государства распростертым на полу, а рядом с ним, на коленях, каких-то людей. — Что происходит? — спросил я. Встав из-за столика, чтобы выяснить, в чем дело, я обнаружил, что Клод Фаррер, президент нашей ассоциации, ранен в руку: он пытался заслонить собой Думера. Потом врач, склонившийся над телом, выпрямился и произнес: — Господа, обнажите головы… Президент умер. В тот момент он ошибся, ибо раненый открыл глаза и пошевелил губами. Вдруг широко распахнулись двери залы, и появился Тардьё, в пальто с меховым воротником и в цилиндре. Я не забуду отчаянное и гневное выражение его лица. — Господи Боже мой! — воскликнул он. — Да что же это такое? Почему? Только в этот момент я подумал об убийце и увидел окруженного полицейскими здоровенного верзилу с тупой физиономией. Кто-то коснулся моего плеча. Я обернулся. Пожилая дама все еще стояла рядом. — Так как же, месье? — сказала она. — Как же автограф? Поскольку Думер был убит у писателей-фронтовиков, решили, что четверо из них будут нести караул у гроба во время народного прощания в Елисейском дворце. Вместе с тремя товарищами я стоял по стойке «смирно» у смертного одра, на котором, вытянувшись, облаченный во фрак с пересекавшей его широкой пурпурной лентой ордена Почетного Легиона, лежал президент. Мимо плыла печальная, благоговейная толпа. Со мной поравнялась супружеская пара, и я заметил, как жена, внимательно в меня вглядевшись, сказала мужу: — Это точно он! В результате выборов 1932 года к власти пришел Эррио. На Лозаннской конференции он пытался урегулировать вопросы, связанные с репарациями, которые усложняли отношения Франции с Германией и Англией. Однажды утром мне позвонил Жан Жироду, атташе при кабинете Эррио, и сказал: — Не хотите ли поехать в Лозанну? Меня уполномочили вас привезти. Я согласился, и не зря, ибо увидел своими глазами, как работает международная конференция. Конфликтовали главным образом самолюбивые и гневливые ученые эксперты, а неученые, но благонамеренные государственные деятели пытались их примирить. Великодушный и красноречивый Эррио, парящий высоко над колонками цифр, блестяще рассказывал анекдоты из жизни Луи-Филиппа и беседовал с немцами о музыке. Английская делегация, зная, что он автор книги о Бетховене, старательно подготовилась к разговору на эту тему, но Эррио заговорил с ними о поэтичности джаза и поставил их в тупик. Рамси Макдональд приехал на конференцию в сопровождении дочери Ишбел, четы Рансимэнов и несчастного Ральфа Уигрэма, который, несмотря на полиомиелит, продолжал мужественно работать. Министр внутренних дел и член французской делегации Паганон каждый вечер принимал журналистов. — Нельзя сказать, чтобы сегодня мы сделали шаг вперед, — говорил он, — но нельзя также и утверждать, что мы отступили… Если вы хотите четко обрисовать читателям ситуацию, напишите, что, несмотря на то что нельзя пока отметить сколько-нибудь значительного изменения в положении дел, атмосфера нашей работы (не так ли, месье Моруа?) улучшилась… Или нет! Скажите так: неуловимо улучшилась… Положительным результатом конференции было то, что Франция отказалась от репараций, но вопрос с американскими займами так и не был решен. По завершении заседаний делегаты в последний раз искупались в Женевском озере. В последний день вновь появился Жироду, который исчез куда-то почти на все время конференции, подобно своему герою Жерому Бардини[226]. — Послушайте, Жироду, — дружески заметил ему Эррио, — из всех состоящих при мне вы самый самостоятельный.8. Перстень Поликрата
Рассказывать о политической жизни Франции 1932–1937 годов здесь, разумеется, не место. В книге «Голые факты» я писал о своих встречах с политическими деятелями. Что меня самого поражает, когда я перечитываю записи тех лет, — это моя близость к представителям всех течений. Я свободно и без чинов беседовал с Леоном Блюмом и с Тардьё, с Эррио и с Манделем[227]. Английские послы — сэр Уильям Тиррелл и сэр Джордж Клерк — нередко обращались ко мне за советом. Я не стремился брать на себя какую-либо роль, но независимо от моего желания и безо всякой связи с крупными событиями мне приходилось исполнять роль советчика или, как выразился один критик, «разъяснителя». Не имея никаких политических пристрастий, а лишь некоторые твердые принципы, я был в состоянии понять, оценить и связать. За нашим столом почти еженедельно сходились сильные мира сего, уверенные во взаимной неприязни и неожиданно проникавшиеся друг к другу уважением. В 1936 году, когда образовался Народный фронт[228], Леон Блюм попросил у меня гранки «Истории Англии», которую я только что закончил, и высказал много умных и интересных, как всегда, замечаний. Книга вышла в 1937 году. Я с опаской ждал отзывов со стороны профессионалов. Историки оказались ко мне благосклонны. Крупный английский историк Х.А.Л. Фишер, преподаватель Оксфорда, написал мне: «Вы совершили воистину великое дело, создав для ваших соотечественников блестящую и правдивую картину английской истории. Это в высшей степени замечательная книга как по своей продуманности и композиции, так и по трезвости политических оценок». Французский историк Луи Маделен[229] отозвался так: «Вот наконец всеохватная историческая книга, которой так хотелось. Я восхищен!.. Непринужденность, с какой вы будто играете девятнадцатью веками английской истории, является для меня, старого профессионала, верхом артистизма». А вот отзыв Бергсона: «Ваша история является одновременно и философией, ибо именно ваша концепция событий, постоянно присутствующая in the background[230], позволила вам рассказать столько всего in a nutchell[231]. Прочтя вашу историю, намного лучше начинаешь понимать Англию». Премьер-министр Великобритании (Болдуин) и глава оппозиции (Эттли) выразили мне благодарность. Выиграв это сражение, в 1937 году я взялся за подготовку курса лекций о Шатобриане, который обещал прочесть на следующий год в обществе Думика. Впоследствии я собирался издать этот курс в виде книги. Мои отношения с Думиком, несмотря на то что он отверг «Семейный круг», постепенно переросли в дружбу. Он доверял мне, зная, что если я за что берусь, то делаю это пусть не всегда хорошо, но во всяком случае добросовестно; я тоже доверял ему, так как много раз убеждался в его разумности, строгости и решительности. Он уже в третий раз предлагал мне прочесть «большой курс» из десяти лекций, хотя когда-то решил, что это мне не по плечу. Тему мы выбирали вместе, в редакции его журнала. Он предложил мне Шекспира. — Domine, non sum dignus?[232] — ответил я и предложил взамен Шатобриана, который давно уже меня привлекал. Аббат Мюнье был первым, кто за театральной маской открыл мне Шатобриана-человека. С тех пор я много его изучал и теперь хотел воскресить к жизни. — Существует лишь одно затруднение, — сказал мне Думик, закутывая ноги в одеяло. — Однажды мы уже давали цикл лекций о Шатобриане, читал его Жюль Леметр[233]. Впрочем, это даже не препятствие, поскольку Леметр, который блестяще прочел Расина и весьма недурно Руссо, из Шатобриана сотворил нечто, не достойное ни его самого… ни Шатобриана. Так что приступайте. К этому он не моргнув глазом добавил, что если лекции пройдут успешно, то наградой за них может стать академическое кресло. Я поблагодарил его, не придав значения словам: я их слышал от него не в первый раз. Это была вполне безобидная, отшлифованная традицией формула вежливости — приманка, которой академики дразнят самолюбие своих менее везучих собратьев. Еще в 1925 году, когда я был очень молод, Барту[234] посоветовал мне выступить претендентом на академическое кресло покойного Анатоля Франса — ему был нужен дополнительный кандидат в противовес Леону Берару[235]. Отрочество мое протекало под сенью классиков, в прилежном учении; я вынес из него те же чувства и мечты по отношению к Академии, которые студентам Оксфорда или Кембриджа внушает английский парламент. «Как это прекрасно, — думал я, — быть избранным своими предшественниками и равными тебе современниками и заседать в окружении высокого братства, к которому принадлежали Корнель и Расин, Вольтер и Виктор Гюго, Тен и Ренан». Позже мои друзья из Понтиньи: Жид, Мартен дю Тар и Шарль Дю Бос — научили меня с недоверием относиться к кандидатам в Академию. Впрочем, когда я в 1925 году получил письмо Барту, на моем счету было еще очень мало книг, и были они столь незначительны, что не могли послужить оправданием его выбора. Я ответил, что существует много весьма талантливых писателей, которые имеют бесспорное право быть избранными прежде меня. Несмотря на то что Барту настаивал, я остался непреклонен. Восемь лет спустя Поль Валери спросил меня: — Вы или Мориак? Я ответил: — Мориак. И к моей величайшей радости, Франсуа Мориак, имевший, несомненно, больше заслуг и шансов, нежели я сам, был принят во Французскую академию. После этого многие мои друзья стали академиками: Жалу, Дюамель[236], Жилле. Наконец в 1936 году Думик сказал мне: — Теперь ваш черед. Мне послышалось пение сирен, и в течение нескольких недель, сам себе дивясь, я верил, что хоть я не маршал, не кардинал и не при смерти, но одержу победу с первой же попытки — что, впрочем, противоречило строгим правилам этого института. В последний момент у меня неожиданно появился конкурент — свою кандидатуру выставил сельский писатель Жозеф де Пескиду[237], много писавший для «Ревю де дё монд», протеже маршала Петена. Думик мгновенно от меня отступился, и я проиграл. Когда мы вновь встретились, он сказал мне, поглаживая бороду: — Не расстраивайтесь… Виктор Гюго проваливался трижды… Впрочем, из тридцати одного голосующего в вашу пользу высказалось одиннадцать… По крайней мере, вы попробовали свои силы. Это было обычное в такой ситуации утешение. Но вовсе не мечты об Академии заставили меня приняться за Шатобриана. Я любил моего героя. А какие прекрасные женщины его окружали: Полина де Бомон[238], Дельфина де Кюстин[239], Натали де Ноай, Жюльетт Рекамье[240] и, наконец, сама Селеста де Шатобриан. Эпоха, в которую жил Шатобриан, одна из самых драматичных в истории Франции, стоила того, чтобы ее изучить. К тому же хотелось заново пережить восхитительные «Замогильные записи». Я уехал в Бретань и исколесил ее от Сен-Мало до Комбура, от Фужера до Гран-Бе, стараясь проникнуться атмосферой, в которой прошла юность моего героя. Мало кто из современных авторов имеет столько почитателей, сколько их у Шатобриана. Существует даже общество его памяти; во главе этого общества стоял тогда доктор Ле Савурё, который вместе со своими единомышленниками очень помог мне и предостерег от многих ошибок. Графиня де Дюрфор, урожденная Сибилла де Шатобриан, позволила мне изучить комбурские архивы, и если бы жена, неизменная моя помощница, не была тяжело больна, я бы с радостью забыл все на свете и с головой ушел в работу. Но тот год был омрачен для нас загадочным недугом Симоны, который пугал меня своими проявлениями. Подготовка «Шатобриана» почти завершилась, и мы с Думиком уже искали названия для каждой лекции, как вдруг он слег с пневмонией. Незадолго до этого он заметно ослаб; когда 2 декабря 1937 года мне сообщили, что он умер, я был потрясен и страшно горевал. В то время я часто виделся с маршалом Петеном, президентом Французской службы информации для Соединенных Штатов; администратором этой службы был я сам. На заседаниях Петен был приветлив, требователен, пунктуален и категоричен. Однажды вечером, после совещания, он сказал мне: — Почему бы вам не предложить свою кандидатуру в Академию на освободившееся место Думика? Я замялся: — Господин маршал, я как-то не думал об этом… К тому же второй провал причинит мне куда больше боли, чем победа может принести радости. Тем не менее я посоветовался с друзьями — Мориаком и Жалу. Они нашли мысль Петена удачной и всячески меня поддержали. Я послал письмо в Академию, на имя бессменного секретаря. Взвешивать приходилось каждое слово, ибо послание принято было зачитывать вслух перед всеми членами Академии, а потом отдавать на суд суровым критикам. Обычно от письма с предложением кандидатуры требуется сдержанность, простота и краткость. Далее настает период визитов и определения сторонников. Многие кандидаты вспоминают об этом с содроганием. Но я воспринял все совсем иначе. Посетить тридцать девять академиков, из которых почти все — в высшей степени замечательные люди: писатели, генералы, прелаты, адмиралы, ученые, дипломаты, — что же в этом неприятного? Как раз наоборот. Те, кто собирается голосовать за вас, говорят об этом сразу, и беседа становится веселой и доверительной. Те же, кто настроен враждебно, прибегают к различным тактическим приемам от бесцеремонной прямоты до ловкого увиливания; за ними очень интересно наблюдать. Если вдруг генерал в течение часа толкует вам о Фридрихе II, а археолог беседует с вами исключительно о храмах, вы наверняка знаете, что они уже обещали свои голоса другому, но зато вы услышали две блистательные лекции, прочитанные персонально для вас, и получили два урока дипломатии. Это ли не стоит потраченного времени? Самым коротким оказался мой визит к маршалу Франше д’Эспере[241]. Я знал его и любил за солдатское прямодушие. — Знаю, зачем вы пришли, — сказал он при моем появлении. — Хотите в Академию? И правильно… Как вам в этом отказать? Только я составил себе последовательный список… У вас второй номер. А первый у Жерома Таро[242]. Если Таро выдвигает свою кандидатуру против вашей, то я голосую за Таро. Если нет — голосую за вас… Всего хорошего, друг мой. Таро не выдвинул свою кандидатуру, и моим соперником стал Поль Азар[243], человек несравненной честности и учтивости, так что меня ждал поистине рыцарский турнир. У нас было много общих друзей, и некоторые из них, будь моим соперником кто-либо другой, голосовали бы за меня, как, например, адмирал Лаказ, Жозеф Бедье[244], Луи Мадлен; но так как конкурентом оказался Азар, они честно предупредили меня, что на первом туре будут голосовать за него. Я не учитывал их голосов в предварительном подсчете, но даже без них на моей стороне, как мне казалось, было большинство. — Не стройте иллюзий, — предупреждали меня опытные тактики, такие, как Абель Эрман[245]. — Были случаи, когда по предварительному подсчету кандидаты набирали до двадцати семи голосов, обещанных формально, а реально, в день голосования, получали только три. Приближался решающий день; я с интересом следил за колебаниями моих шансов и бурлением предвыборных интриг. Шомекс[246], член избирательной коллегии, был настроен ко мне враждебно и собирался выдвинуть в противовес кандидатуру Анри Бернстейна[247]. А Луи Бертран[248], увлекшийся во время поездки по Германии идеологией нацизма, затеял против меня дикую травлю. Придя с визитом к Бергсону, я просидел у него более двух часов. Он признался, что желал бы отдать мне свой голос, но уже несколько лет не заседает в Академии. Он не мог двигаться из-за деформирующего ревматизма, заседание превратилось бы для него в пытку. Идя к нему, я знал, что в выборах он принимать участия не будет и мой визит — не более чем формальность. Но он говорил о таких важных вещах и так хорошо, что встреча с ним стала для меня событием. Предвыборная кампания запомнилась мне также мужественным поступком Жоржа Леконта[249]. Он был опасно болен и готовился к операции. Но ради того, чтобы принять участие в голосовании, и вопреки настояниям врачей операцию отложил. У академиков — академический героизм. В день выборов — это был четверг, 23 июня 1938 года, — я отправился с детьми гулять в парк. Симона, страстно желавшая моего успеха, попросила одного знакомого позвонить ей и сообщить результаты. Она осталась сидеть у телефона, снедаемая беспокойством. Небо было чистое, день — теплый, мы радовались чудесной прогулке. Весело болтая обо всем на свете, мы не заметили, как пролетело время. В тот момент, когда мы входили в дом, раздался телефонный звонок. Звонил какой-то журналист. — Месье, освободите линию! — в нетерпении воскликнула Симона. — Я жду очень важного звонка. — Сейчас освобожу,мадам, — ответил он. — Я только хотел сообщить, что ваш муж принят во Французскую академию. Жена вскрикнула от радости и выронила трубку. Мы прибежали на шум. Вот и настал счастливый миг. Уже через десять минут начали приходить друзья. Выборы прошли быстро, и на втором туре я победил, получив девятнадцать голосов «за» и тринадцать «против». Я был, выражаясь словами Дизраэли, «на самой верхушке масленичного шеста». Вечером мы оставили ужинать самых близких наших друзей. Их присутствие и искренняя радость были дороже самой победы. Я не просто питал к ним дружеские чувства, я любил их и восхищался ими. «Друзья мои, — думал я, — как я благодарен вам за то, что вы такие, какие вы есть, и в то же время что вы — мои друзья!» В тот день у меня даже возникло мимолетное ощущение, что я выиграл главное в своей жизни сражение и что старость моя будет, как и полагается, окружена покоем, уважением и любовью. Однако подспудно в душе рождалась и нарастала, как в «Нибелунгах»[250], тема рока. Счастье для меня никогда не бывало безоблачным и долгим. В 1918 году радость победы была омрачена болезнью. В 1924-м, когда я уже поверил было в возрождение своей семьи, все перечеркнула смерть. В 1930-м Рождество, сулившее надежду, обернулось кончиной маленькой Франсуазы. И вот теперь, в 1938-м, моя жена, болевшая два года, начала наконец поправляться; враги мои, казалось, были повержены; жизнь вот уже несколько месяцев напоминала волшебную сказку, в которой добрый волшебник осыпает дарами владельца магического талисмана. Но глядя на пенящееся в кубке золотое шампанское, я в смятении думал о том, что боги ревнивы и что настал час бросить в пучину перстень Поликрата.После моего избрания я во что бы то ни стало хотел увидеться с Аленом. В своих «Беседах» он нередко нападал на Академию. Я же не находил в ней ничего плохого — это было одно из немногих учреждений, сохранившихся от монархии, как бы мостик, соединяющий послереволюционную Францию с ее прошлым. Но я очень дорожил мнением своего учителя и должен был знать, что он об этом думает. Ален давно ушел на пенсию и больше не преподавал в лицее Генриха IV. Несколько зим подряд он, правда, еще вел факультативный курс в колледже Севинье, и я, присутствуя на его занятиях, был счастлив вновь почувствовать себя школьником, сесть у ног учителя и снова слушать его бесподобные, уникальные уроки. Потом он потерял способность двигаться, скованный, как и Бергсон, деформирующим ревматизмом, который заработал в сырых окопах 1914 года. Франсуа Порше[251], ездивший к нему в Везине, сказал, что он похож на «обугленный дуб». Ален жил теперь в маленьком домике под присмотром заботливой подруги. Голова и лицо его остались прежними, и как только он заговорил, я узнал моего учителя. — Я вас не только не осуждаю, — с улыбкой заверил он меня, — но я счастлив за вас. И он снова сказал мне ласковые слова, которые уже говорил однажды: — Я хорошо вас знаю. Вы — чувствительный мальчик. То, что опасно для других, для вас полезно. Потом мы стали говорить о Шатобриане. Я привез ему в подарок мою книгу, которая только что вышла, и надписал сверху, как во времена ученичества: «Lege quaeso»[252]. Ален так же хорошо, как и я, знал «Замогильные записки». Это была одна из его любимых книг. Мы увлеченно проговорили целый час. Лето 1938 года я, как всегда, провел в Перигоре и посвятил его составлению вступительной академической речи. Я должен был рассказать о заслугах Думика. Его сын, Жак Думик, и зять, Луи Жилле, предложили мне для работы его личные бумаги и дневник. И передо мной предстал очень странный, но, несомненно, достойный человек. То, что я сам хорошо его знал и работал с ним, очень мне помогало. Я старался, чтобы портрет ожил и был похож на оригинал. Работа подходила к концу, когда прокатились первые раскаты мировой грозы. Берлин угрожал Праге. Французское правительство объявило мобилизацию нескольких призывных разрядов.
Отрывки из моего дневника
Эссандьерас, 10 сентября 1938 г. Не знаю, что из всего этого получится: война или мир, но мы в страшном волнении. Вот уже неделя, как мы не отрываемся от радио. Иногда ловим Лондон, он холоден и невозмутим: «По сообщениям полиции…», «Weather forecast…»[253] Самые страшные новости англичане преподносят так, словно речь идет о рядовых событиях. Иногда удается поймать Тулузу или Париж: они не так раздражают, зато сильней пугают. Единственное утешение — это работа (закончил речь о Думике, вот только произнесу ли ее когда-нибудь?) и музыка. Вчера, несмотря на атмосферные и душевные бури, с наслаждением слушали симфонию Франка. А передача «Мастера вокала» с чудным Питером Кадоганом показалась нам божественной, несмотря на то что это был первый день Нюрнбергского конгресса. Послезавтра возвращаемся в Париж. Неужели война? Смерти я не боюсь. Иногда зову ее. Мир так глупо устроен. Но порой мне кажется, что жизнь прекрасна и труд оправдывает все. Даже в дни катастроф можно с восторгом шлифовать фразу, и если в этот миг луч солнца позолотит лес или выхватит из дымки старый замок Эксидёй, я замираю от счастья. Принял решение: если начнется война, буду работать не покладая рук — как офицер и как писатель — и постараюсь не думать о будущем, которое все равно невозможно предугадать. Сегодня с утра все вспоминается одно байроновское четверостишие[254]: Here’s a smile to those who love me And a sigh to those who hate, And, whatever sky’s above me, Here’s a heart for every fate.[255]11 сентября 1938 г. Последний день в Эссандьерасе. Смотрю на дивный пейзаж, на волшебную долину с темными островками ферм и думаю: «Увижу ли их вновь?» Как всегда, утро провел за работой. Получил почту: медицинский журнал просит написать для них статью «Литература в 2038 году». Ответил им, что мы в тот год как раз выйдем из нового пещерного века. Днем приходило много соседей. Пертинакс[256] с женой. Он настроен не так пессимистично. «Один шанс из ста, что начнется война, — сказал он. — Но до чего же неловки были французские политики в последние двадцать лет!» Бывший император Аннама[257] со своей дочерью, красавицей-принцессой… Вечером слушали по радио выступление Бенеша[258], затем долго и безуспешно искали хорошую музыку. По Би-би-си какой-то юморист читал свои истории. Не нашел ничего смешного. Ночь провел без сна.
Нёйи, 12 сентября 1938 г. Из Перигора вернулись на машине. Проезжали Лимузен, Солонь, Иль-де-Франс. Солнце по-осеннему мягкое, краски природы слегка пожухли. Деревни, колокольни, черепица и аспид. Никогда еще Франция не была так прекрасна. Люди на дорогах внешне спокойны. И тем не менее в каждой семье призвали сына или взяли в резерв мужа. Вопреки всему фермеры группами идут на охоту, прихватив три-четыре ружья, мальчишек-загонщиков и испытанных псов. Вот удивился бы Гитлер. Вернувшись в Париж, сразу отправились в «Фигаро». Виделись с Ромье[259]: «Все еще может уладиться, если кто-нибудь не совершит безумства».
Того же мнения придерживался Эрик Фиппс, английский посол в Париже. Сэр Эрик и леди Фиппс были моими старыми друзьями. Познакомились мы после войны, когда Фиппс впервые получил назначение в Париж. Позже он был министром в Вене, потом послом в Берлине, но когда возвращался на время отпуска в Англию, я всегда навещал его в загородном доме в Уилтшире. Что касается Фрэнсис Фиппс, то я за всю свою жизнь не встречал женщины добросердечнее. Она была очень набожной католичкой и втайне от всех расточала материальную и духовную помощь, чем спасла от нищеты и отчаяния множество людей. В течение этого года правительства обеих стран приложили немало усилий для возобновления почти заглохших франкоанглийских отношений. В июле Францию посетили король с королевой и, как в давние времена их дедушка Эдуард VII, покорили Париж. В ноябре с официальным визитом прибыл Невилл Чемберлен[260]. Мы обедали с ним на набережной д’Орсе; а после обеда, возвышаясь над слушателями своей маленькой птичьей головкой, он рассказывал о своих поездках в Берхтесгаден[261] и в Годесберг[262]. Чемберлен, еще больший островитянин, чем любой житель Англии, совершенно не представлял себе, что такое Адольф Гитлер. Один из моих английских друзей заметил мне: «Чемберлен, конечно, не думает, что Гитлер состоит вместе с ним в Бирмингемской промышленной корпорации, но полагает, что он наверняка уж член Манчестерской». По признаниям самого Чемберлена, во время своей первой «беседы» с немецким канцлером в Берхтесгадене он был оглушен неуемным словесным потоком и потрясен невозможностью вставить хоть слово. Во второй раз, в Годесберге, Гитлер обрушился на него с такой яростью, что продолжать беседу просто не имело смысла. Каждые пять минут (видимо, следуя заранее разработанному сценарию) входил офицер и вручал фюреру депешу. «Чехи убили еще двух немцев! — начинал кричать Гитлер, делая страшное лицо. — Они дорого заплатят за пролитую немецкую кровь! Чехи должны быть уничтожены!..» «Видя фюрера в таком гневе, притворном или искреннем, — продолжал свой рассказ Чемберлен, — я сказал переводчику, что хочу вернуться в гостиницу. Для этого мне предстояло пересечь Рейн на самоходном пароме. Заметив, что я собираюсь уйти, но все же продолжая кричать, Гитлер последовал за мной на террасу. Там он вдруг замолчал, и выражение его лица мгновенно изменилось. Он посмотрел на реку, которая плескалась у наших ног, и проговорил тихим, почти нежным голосом: „Ах, господин премьер-министр, какая жалость… Я мечтал показать вам дивный вид… но он пропал в тумане…“ Никогда не видел, чтобы человек мог так внезапно переходить от звериной ярости к поэтическому умилению», — закончил свой рассказ Чемберлен. Один из дипломатов, сопровождавших Чемберлена в Германию, признался мне, что премьер-министр сохранил о своих поездках крайне тягостные воспоминания, а гневные выкрики фюрера настолько его покоробили, что теперь, когда при нем произносят имя Гитлера, «на лице его появляется гримаса ребенка, которому дают касторку». Однако Чемберлен был убежден, что спасти мир — его долг, и надеялся свой долг исполнить. В январе 1939 года, читая лекции, я побывал в разных частях Великобритании и обнаружил, что общественное мнение опередило правительственные указы. Власти не решались объявить призыв; страна же настойчиво этого требовала. Англичане и англичанки всех слоев общества говорили мне одно и то же: «Нельзя позволить этому человеку задушить Европу; у нас должна быть сильная армия и мощная авиация». Вернувшись в Париж, я написал статью, в которой сообщил, что в марте текущего года в Англии будет объявлена мобилизация. Большинство моих французских друзей ответили, что я сошел с ума, что никогда Великобритания не решится ввести всеобщую воинскую повинность, противоречащую многовековой традиции. Тем не менее в марте 1939 года мобилизация была объявлена. Внезапное присоединение Англии к политике европейского сотрудничества неизбежно сблизило ее с Францией. В июне 1939 года франко-британская ассоциация устроила в Париже банкет, на котором присутствовали английский военный министр Хор-Белиша, министр иностранных дел Франции Жорж Бонне и генерал Гамлен. Хор-Белиша объявил, что в дни войны британская армия встанет под французские знамена и что он счастлив сказать «наш генерал Гамлен». Генералу долго аплодировали, в то время как он оставался невозмутим. После банкета вместе с Хор-Белишей мы отправились в польское посольство, где шумел грандиозный праздник. Английский министр счел своим долгом на нем присутствовать, чтобы выразить дружеские чувства, которые Англия питала к Польше. Это торжество произвело на меня жуткое впечатление. Стояла чудная летняя ночь. В саду особняка Саган, отданного польскому посольству, сверкали под звездами беломраморные сфинксы. Оркестр играл вальсы Шопена. Пожарными всполохами озаряли ночь бенгальские огни. На лужайке красавицы в кринолинах (среди них были две очаровательные дочки немецкого посла) танцевали с польскими и французскими офицерами. Надвигалась война, Польша должна была принять на себя первый удар; этот праздник напоминал бал, который лорд Веллингтон[263] дал в Брюсселе накануне Ватерлоо. Но веселящийся свет это нисколько не заботило; гости пили шампанское и болтали о пустяках. Кого волновало плаванье «Пастера», а кто вслух мечтал о том, чтобы уехать в Южную Америку. Несколько дней спустя Хор-Белиша снова приехал во Францию с Уинстоном Черчиллем[264], чтобы присутствовать на параде 14 июля. Никогда еще французская армия не выглядела столь внушительно. Для этого парада мы собрали все, что составляло нашу гордость: стрелков, зуавов, морскую и штурмовую пехоту, Иностранный легион. Черчилль ликовал: «Слава тебе, Господи, что у французов такая армия!» Но никто из нас тогда не знал, что мужество солдат, их отличные боевые качества и даже традиции прославленных полков — ничто, если армия вооружена устаревшей военной техникой. Колонна танков убедила трибуны Елисейских полей, они ликовали, но кто мог знать, что у немцев на вооружении танков больше и одеты они в более прочную броню, которую нашими пушками не пробить. В тот же день в сопровождении своего адъютанта Хор-Белиша приехал к нам в Нёйи. Он рассказал о трудностях реорганизации английской армии. — Всеобщая воинская повинность — дело хорошее, — сказал он, — но в данный момент она существует больше на бумаге, чем в реальности… Я не могу призвать всех, кто взят на учет, потому что у меня нет для них ни снаряжения, ни офицеров, способных их обучить. — Но ведь есть офицеры, прошедшие ту войну… — Они не знают новой техники. — А если война начнется завтра, сколько вы сможете прислать нам дивизий? — Сразу?.. Не более шести. Я пришел в ужас. Но ужас мой еще усилился, когда несколько позже я узнал, что наш генеральный штаб просил у Англии на все время войны в Европе всего лишь тридцать две дивизии. Меж тем как в 1918 году с нами воевало до девяноста пяти английских дивизий, а американцы, русские, итальянцы и японцы были нашими союзниками — и войну мы при этом выиграли с трудом. Так что причин для тревоги было предостаточно. В феврале 1939 года мы собрались в Америку: я согласился на длительную поездку с лекциями по разным городам. Когда 15-го числа мы покинули Гавр, отношения между Францией и Италией были очень натянутыми. Мы готовились к тому, что, едва высадившись на берег, вынуждены будем вернуться обратно. В день нашего прибытия нью-йоркские газеты пестрели крупными заголовками: «64 итальянца и 12 французов убито на тунисской границе…» Правда, на следующий день появилось опровержение. В этот раз Америка была недружелюбно настроена к Франции и Англии. Все мои американские друзья возмущались мюнхенским соглашением[265]. — Ну хорошо, а чем бы вы могли нам помочь? — спрашивал я. — Ничем, — искренне отвечали они. В сущности, в тот год Америку больше всего занимала не ситуация в Европе, а президентские выборы 1940 года. Деловые круги, недовольные президентом, тяготели к изоляционизму, стремясь воспрепятствовать избранию Рузвельта[266] на третий срок, сторонники же президента проявляли в области внешней политики осторожность, дабы не подорвать его шансов. Такое положение дел было на руку Гитлеру. Одержимость американцев поразила меня. У одной пожилой дамы с Пятой авеню — мы сидели рядом за обедом — я спросил: — Неужели вы согласились бы пожертвовать вашей страной, и моей тоже, лишь бы только воспрепятствовать политике New Deal?[267] — Мистер Моруа, — отвечала дама, — пусть лучше весь земной шар разлетится на куски, чем Рузвельт в третий раз станет президентом! На мой взгляд, это был ярко выраженный случай dementia politica[268]. Мой manager, Хэролд Пит, организовал мне замечательное путешествие: Филадельфия, Бостон, Цинциннати, Миннеаполис, Детройт, Омаха, Талса, Чикаго. В Чикаго друзья пригласили меня на ужин в обществе экс-президента Гувера[269]. Блистая юмором, он говорил о том, как будут удивлены люди через две-три тысячи лет, когда, изучая наши экономические достижения, обнаружат, что мы бурили скважины в Африке, тратя на это колоссальные средства, добывали там руду и делали из нее золото, потом переправляли это золото в Америку и, опять тратя колоссальные средства, бурили скважины в Кентукки, чтобы зарыть там драгоценный металл. Несмотря на охватившее Европу безумие, Гувер верил в демократию: — Это единственный политический режим, позволяющий при неблагоприятном стечении обстоятельств изменить направление политики без применения силы. Но для того, чтобы механизм действовал, надо, чтобы демократические свободы соблюдались не только в теории, но и на практике. Несколько позже я обедал с группой писателей в Белом доме и был представлен президенту Рузвельту. Мне понравились его изысканные светские манеры. Патриций виг и плебей тори в эпоху Билля о реформе — вот кого напомнили мне Рузвельт и Гувер. 15 марта, когда я находился в Далласе, штат Техас, немцы вошли в Прагу. Значит, война? Многие американцы, похоже, хотели ее, но воевать не рвались. Более того, они голосовали за строгий нейтралитет. Могли ли Франция и Англия победить без их помощи? Я понимал, что нет. Поэтому счел своим долгом на конгрессе Pen Club’ов[270], который состоялся в Нью-Йорке в дни Всемирной выставки, призвать их к умеренности и бдительности. Я всегда преклонялся перед солдатами, которые жизнью своей добывают победу, и с недоверием относился к аэдам, издалека вдохновляющим их на подвиг. Именно об этом я и говорил на конгрессе американских писателей, хотя подобные заявления вряд ли могли там кому-нибудь понравиться:
«Если бы люди понимали, какую опасность таят в себе некоторые слова, то словари на витринах были бы перевиты красной ленточкой с надписью „Взрывоопасно. Обращаться осторожно“. Военные эксперты пишут о зажигательных бомбах, которыми можно спалить весь континент. У нас на вооружении есть противовоздушные пушки; но нам нужны также противолексические орудия. Романисты, биографы, историки, наш с вами долг нарисовать наш крошечный мир как можно точнее. Нам ведь не нужно ни точить штыки, ни биться за успех на выборах… В эти опасные дни самое полезное, что мы можем сделать для сохранения мира, — это положить под спуд все взрывоопасные слова, усмирить страсти и говорить нашим читателям правду, одну только правду и ничего, кроме правды. Да поможет нам Бог».
* * *
Возвращение во Францию на борту теплохода «Нормандия» по сверкающему на солнце океану напоминало Ватто, Мариво и Понтиньи одновременно: лихорадочно-бессонные ночи, нескончаемые разговоры о политике, шутливо-сентиментальное воркование в салонах. В моих записях, сделанных на борту теплохода и опубликованных сразу же по возвращении, я читаю следующее: «Что предпримут Соединенные Штаты, если мы вступим в войну? Ничего — в течение года. Через год они начнут оказывать нам финансовую и промышленную помощь. В войну они включатся через два года после ее начала…» Предсказание, которое впоследствии сбылось. Подплывая к Гавру, мы увидели остов полузатонувшего, перевернутого вверх дном «Парижа» — только вздувшееся его брюхо торчало из воды. Загадочным образом возникший пожар уничтожил корабль, на котором я впервые пересек Атлантический океан. Не вражеская ли это диверсия? Вернулись мы как раз к моменту моего вступления во Французскую академию. Но еще до торжественной церемонии я был на другой, которая очень меня взволновала. Директор Руанского лицея попросил меня присутствовать на открытии нового памятника Корнелю во дворе лицея. С грустью я узнал о том, что моего любимого гипсового Корнеля, мимо которого я проходил столько раз, созданного Давидом д’Анже[271], размыли дожди. Цветущий кавалер, заменивший его на пьедестале, привел меня в замешательство. Но рассказывать о Корнеле в стенах, где сорок лет назад я начал читать его творения, было для меня истинным счастьем. Открытие памятника завершилось торжественным приемом, и мои бывшие товарищи подарили мне бронзовую доску, отлитую одним из них, скульптором; на одной стороне доски был изображен мост Бойельдьё над Сеной, по которому я ходил каждое утро в лицей, а на обратной стороне — парижский мост Искусств и возвышающийся за ним купол Академии. Глядя на моих старых руанских товарищей, убеленных сединами, обремененных солидными животами и все же немного похожих на прежних юношей, я испытывал приблизительно те же чувства, которые описывает Марсель Пруст, повествуя о приеме у герцога Германтского. Все эти мальчики, с которыми я когда-то играл в мяч, казалось, просто переоделись в стариков. Один из них стал префектом, другой — сенатором, третий — полковником жандармерии. Многие уже ушли на пенсию. Дюпре, открывший мне когда-то красоту музыки, еле ходил, опираясь на две клюки. Моя мать специально приехала сюда из Эльбёфа, как когда-то приезжала на вручение премий, и упоенно слушала проникновенные речи, в которых хвалили ее мальчика. А я думал: «Вечер на исходе пригожего дня…» Увы, вечер только начинался, а на горизонте уж собирались грозовые тучи. Церемония принятия в Академию — одна из красивейших французских традиций. Все в ней по-своему замечательно: старинное здание причудливой архитектуры, тесная зала и собравшиеся в ней люди, мундиры, ритуальные фразы, а иногда и высокая риторика. Речь, которую новый член Академии должен читать на заседании, сначала утверждается комиссией. Этот последний в своей жизни экзамен я сдал, снискав любезные похвалы. Герцог де ла Форс[272] заметил мне: — Надо заменить слово «безустанно» — его нет в Академическом словаре. Он был прав. После этого последнего испытания новоиспеченный академик может участвовать в заседании. В тот момент, когда он входит, вся Академия вежливо встает; новичок отвечает поклоном, затем садится и впервые присутствует при работе над словарем. В контрасте между простотой церемониала и величием института есть особое благородство и изысканность. В четверг, 22 июня 1939 года, состоялось открытое заседание. Для родственников и знакомых нового академика секретариат отводит двадцать мест, так что я смог усадить на них лишь мать, жену, детей, родителей жены и кое-кого из близких. Некоторые мои друзья раздобыли билеты через других академиков, и, входя в зал, я увидел много дорогих лиц. Мое появление сопровождалось барабанной дробью, стража при этом взяла на караул, а офицер салютовал шпагой. Сидя между старшими собратьями, немного стесненный новой зеленой формой и треуголкой с плюмажем, я рассматривал скульптуры, возвышавшиеся по обеим сторонам зала: Боссюэ и Фенелон. Чуть ниже меня сидели генерал Вейган и дипломат Палеолог[273]; в течение всего заседания я больше всего, пожалуй, заботился о том, чтобы не толкнуть стоявший передо мной на узенькой полочке стакан воды и не опрокинуть его на прославленные головы. — Слово предоставляется господину Андре Моруа для зачтения благодарственной речи… Сердце мое бешено заколотилось, я встал. И тут раздались такие дружные аплодисменты, что я сразу успокоился. Вслед за мной слово получил Андре Шеврийон[274]; на этот раз он воздержался от обычных колкостей, так что мой звездный час не омрачила ни одна неприятность. Слушая его, я вглядывался в плотные ряды внимательных лиц. У самого стола президиума на высоких табуретах сидели парижские красавицы: Эдме де Ларошфуко, Марта де Фель и Анриетта де Мартель. В середине амфитеатра я заметил нежное лицо Фрэнсис Фиппс; чуть дальше — блестящие глаза Анны Эргон, напоминавшие мне вечера в Понтиньи; Жанна Мориак сидела рядом со своими дочерьми, а Бланш Дюамель — со своими сыновьями; еще выше восседали четырнадцать внуков покойного Думика, группа нормандских лицеистов, мои товарищи по оружию и несколько старых эльбёфских друзей, вызвавших в памяти грохот станков и дым фабричных труб. Необыкновенно радостно было в такой важный день видеть вокруг себя друзей, с которыми связаны самые важные моменты моей жизни. Но почему, пока Андре Шеврийон говорил о Байроне, Дизраэли, Лиотее, в мозгу настойчиво звучала пророческая и скорбная строка из греческой трагедии? Почему в этот торжественный день перед моими глазами стояло гордое и кровавое лицо Муне-Сюлли из «Царя Эдипа»? Почему в то время, как мне улыбались сотни губ, я не мог не думать о том, что Рок коварен во все времена и печальная мудрость Софокла по-прежнему верна: «Счастливым никого не почитай, пока не кончен срок его земной»?9. Последние мирные дни
Обрамленные ивами и тополями долины Перигора в июле 1939 года казались еще более веселыми и безмятежными, чем прежде. На закате среди зеленой листвы, как и раньше, пламенела карминовыми крышами ферма «Бруйак», и веяло от этой красоты привычным спокойствием. И, как всегда, только осы, слетавшиеся к цветам на столе, нарушали мое утреннее уединение. Но мне казалось, что эта тишина и бездвижность словно заколдованной природы, как и в июле 1914 года, таит в себе опасность. Каждое утро, разворачивая газету, мы готовились прочесть смертный приговор нашему счастью. Польша, Данциг, коридор… Когда было опубликовано сообщение о Версальском договоре[275], люди дальновидные сразу догадались, что с этой странной карты, с этих в шахматном порядке поделенных территорий и начнется следующая война. Сколько бы ни юлили политики, это было самое уязвимое место, и Марс, похоже, целился именно в него. В начале августа мы получили известие о смерти Шарля Дю Боса. Горе мое усугублялось тем, что мы давно с ним не виделись. Последние два года он преподавал в университете штата Индиана. Ритм американской жизни оказался слишком быстрым для его слабого здоровья. Я потерял близкого друга, который направлял меня, воодушевлял и заставлял жить, выражаясь его же словами, «на острие самого себя». Как и все, кто знал его, я нередко в душе посмеивался над его всегдашней серьезностью, вечным арсеналом карандашей под рукой, страстью к длиннющим цитатам и озабоченностью каждой своей болячкой. Но, как часто бывает, его смерть доказала, что мы напрасно записывали его в «мнимые больные». Отныне мы вспоминаем о нем только хорошее. В памяти остались внимательные, ласковые глаза моего друга, длинные, подрагивающие усы, тяжелые пиджаки, в которые он прятал свое иссохшее тело. Кто же мне будет теперь рассказывать о Бенжамене Констане, о Гёте? Кто с неиссякаемым дружеским участием расскажет мне обо мне самом? От свидетелей его кончины мы узнали, что умер он, как святой и как поэт. Бедный Шарли! Он мучился двадцать лет, но сумел обратить телесные страдания во спасение своей души. Возможно, и нам предстоит однажды пройти тот же путь. К 20 августа стали доходить все более скверные новости. Объятые тревогой, мы решили не оставаться в Эссандьерасе на сентябрь и, заехав в Малагар к Франсуа Мориаку, вернуться в Париж. Дом его был именно таким, как мы его себе представляли и каким его описывал хозяин: белый, обожженный солнцем домик виноградаря, а вокруг, насколько хватает глаз, бледно-зеленые виноградники, обсыпанные голубым сульфатом. Все там имело особый, тонкий, неповторимый привкус старого ликера. Нас встретили Франсуа и Жанна, а еще их дети и аббат Мориак. Как это часто бывает в окрестностях Бордо, воздух был тяжел, будто перед грозой; всюду вились назойливые мухи. Под палящим солнцем мы совершили длинную печальную прогулку, разговаривая о нависшей над всеми опасности. Мир всецело зависел от России, с которой Франция и Англия вели переговоры. Вечером, после ужина, Франсуа читал нам свою новую пьесу «Нелюбимые». Читал он хорошо, глухим, надломленным голосом, который еще добавлял пафоса его и без того патетичным персонажам. Пьеса нам понравилась. В ней была воссоздана та же атмосфера неприкаянности и потаенной ярости, что и в «Асмодее»[276]. Между вторым и третьим актом мы слушали новости. Москва объявила о подписании пакта о ненападении с Берлином. Кто-то из детей спросил: «Что это значит?» Я ответил: «Это значит — война». На следующий день мы уехали в Париж. По железным дорогам уже ползли составы с солдатами. Едва вернувшись, мы, как и год назад, бросились к Люсьену Ромье, но на сей раз пророк не сказал ничего утешительного. Несколько дней мы не отрывались от радио. Печальные и серьезные выступления Даладье[277] были созвучны надеждам на мир, которые продолжали питать французы. Но люди устали от бесконечного тревожного ожидания. — Нет, с этим пора кончать! — сказал мне мой парикмахер, готовившийся к отправке на линию Мажино. Почти каждый вечер мы с Пьером Бриссоном[278] обедали в каком-нибудь ресторанчике в Булонском лесу, а затем отправлялись в редакцию «Фигаро» читать свежие телеграммы. Днем стояла тропическая жара; вечера были чудно свежи. Вдруг 31 августа, в четверг, нам показалось, что наша взяла: Польше предложены приемлемые условия. Домой мы вернулись вне себя от радости. Но на следующий день пришло опровержение; Польша захвачена. Значит, опять война, но война без участия России, при упрямом нейтралитете Америки и слабой подготовке Англии, против Германии с ее авиацией, куда более сильной, чем наша собственная. Общественность еще не выработала твердого мнения и пребывала в замешательстве. Мобилизованные солдаты не выказывали и тени энтузиазма 1914 года. Прежде чем самому отправиться на фронт, я успел написать статью в «Фигаро», где пытался объяснить, почему для нас эта война является справедливой. Эта статья принадлежала к тем выступлениям, за которые меня лютой ненавистью возненавидело немецкое радио. Вот она:«В ЧЕМ ДЕЛО? Данциг? Коридор? Нет, на самом деле мы не за это сражаемся. Правда в том, что за последние три года жизнь Европы и всего мира была отравлена бесконечной чередой насилий над народами. Сценарий прост. Из числа сопредельных государств Германия выбирала себе жертву. В немецком меньшинстве выбранной страны находили честолюбивого, ничем не брезгующего гауляйтера. Затем заявляли о притеснении немецкого меньшинства. Германская пресса развязывала яростную кампанию, вслед за которой следовала мобилизация войск на границах с государством-жертвой. Закончив все эти приготовления, Германия оборачивалась к другим европейским государствам, заверяя их в самой искренней дружбе и клятвенно обещая, что это будет последний акт кровавого спектакля, десерт страшного пира, что отныне она не покусится ни на пядь чужой земли. Германия заклинала Европу не начинать всеобщую войну из-за какой-то ничтожной нации, не достойной даже ступать по земле. Добропорядочные европейские правительства, надеясь избежать войны, были склонны верить торжественным клятвам рейха и со вздохом бросали жертву на произвол судьбы. Но едва проглотив эту жертву, чудовище выбирало новую из числа тех стран, в любви к которым оно клялось, когда нуждалось в их расположении. И комедия повторялась. Этот фарс удался с Австрией. Потом с Чехословакией. Он удался потому, что едва оправившаяся после предыдущей войны Европа жаждала мира. Потому, что вопреки очевидности мы все же продолжали надеяться: может, хозяин рейха сдержит наконец свои обещания. Теперь мы на кровавом опыте научились понимать, чего стоят нацистские пакты. Ежегодно мы становимся свидетелями того, как из-за безрассудства нескольких человек мир замирает в напряженном ожидании, останавливаются работы, разбиваются семьи, рушится счастье. Довольно! Отныне мы знаем, что отступать перед Германией — значит готовить почву для нового шантажа. Довольно! Мы не хотим, чтобы ненависть, ложь и насилие выдавались за добродетели. Довольно! Мы любим жизнь, но мы хотим жить в таком мире, где можно растить детей, творить, строить важные и смелые планы без страха быть оторванным дважды в год от всего этого из-за ненасытности свирепого чудовища. Мы хотим восстановить в правах честность и благородство. Честные люди всего мира да помогут нам в этом».
Хотя я давно вышел из призывного возраста, но тем не менее подал прошение о том, чтобы меня оставили офицером запаса. Второго сентября я пришел на Парижскую площадь, но там узнал, что Военное министерство приписало меня к Комиссариату по информации, во главе которого поставлен Жан Жироду и которое будет располагаться в отеле «Континенталь» на улице Риволи. Это противоречило моему стремлению попасть на фронт, но временно пришлось согласиться на «Континенталь». Я отправился туда. У дверей дежурили полицейские. В коридоре было не протолкнуться: пожилые полковники, дипломаты в отставке, преподаватели Коллеж-де-Франс… Они вели блистательные беседы посреди устрашающего хаоса. На плечи злополучного Жироду свалилась — вдруг, посреди войны — тяжелейшая ответственность: организовать службу, которая в Германии действовала уже много лет. Задача невыполнимая. Он выбрал себе в помощники человека энергичного и надежного, преподавателя Гарвардского университета, своего друга Андре Мориза. В воскресенье, третьего сентября, в пять часов истек срок ультиматума. Началась война. Я находился в кабинете Мориза, и, когда часы пробили пять, мы пожали друг другу руки. — Это первая минута войны, — сказал он. — Давайте помнить, что мы провели ее вместе. Я думал о трагедии, которую второй раз за короткую человеческую жизнь мне предстоит пережить: люди, бегущие по дорогам под бомбами, разрушенные деревни и города, осиротевшие семьи. Столько горя из-за того, что какой-то визгливый полоумный капрал разродился идеей германского превосходства, а слабые, безответственные правители не удосужились вовремя вооружить Францию; из-за того, что ни Англия, ни Америка не пожелали заглянуть в будущее, которое уже возвещало о себе кровавыми зарницами. Нам предстояло исправить последствия этих безрассудств. В роковую минуту начала войны я поклялся себе сделать все, что в моих силах, чтобы повергнуть кровожадное чудовище и объединить силы тех, кто готов с ним сражаться. Вечером Жироду вызвал меня к себе в кабинет. У ног его лежал великолепный пес, которого он гладил и время от времени разговаривал с ним. Я смотрел на Жироду, элегантного, обворожительного, и прислушивался к его безукоризненным, изящным, ироничным фразам. Но сутью их была чистая, благородная любовь к Франции, какой она ему представлялась, и то была подлинная Франция; и своеобразное чувство чести — и то была подлинная честь. Было странно и страшно сознавать, что этот великий писатель, заклеймивший когда-то воинственные речи Пуанкаре, возглавлял теперь нашу военную пропаганду. Один высокий военный чин спросил его пренебрежительно, что же французское сознание может противопоставить измышлениям Гитлера, и он не задумываясь ответил: «Кира Великого»[279]. Ответ мне понравился, но кто мог сказать наверняка, помогут ли нам фантазия и находчивость самого французского из всех французов.
Следующая глава выпадает из череды воспоминаний. Я написал ее в 1941 году в Нью-Йорке, на башне, возвышающейся над Парк-авеню. Поражение Франции забросило нас с женой в Америку. Я поместил этот текст в финале первого тома моих «Мемуаров», который заканчивается 1939 годом и включает две части: «Годы ученичества» и «Годы труда». Хронологически повествование продолжается в «Годах бедствий».
10. Царство Божие
Царство Божие внутри вас.Сегодня утром в лиловом предрассветном тумане мне почудился раскинувшийся у моих ног итальянский город, вознесший к небу церковные шпили и крепостные башни. Вдали сквозь бледную зелень и прозрачную дымку проступает голубое озеро Сентрал-парка; оно напоминает крошечные средневековые пейзажи, едва различимые в светящемся мареве заднего плана картины. С раннего утра по улицам, как по шахматной доске, движется бесчисленное множество желтых, серых, черных машин, послушных в своем продуманном танце ритмичному чередованию красных и зеленых огней. Прохожие кажутся сверху темными и светлыми точками. Забираясь на такую высоту, я иногда чувствую себя монахом-столпником и отрешаюсь от суеты и городского шума. Возвышенность этих мест располагает к молитве. Подведем итог. «На земле мы как на спектакле, — писал Шатобриан. — Стоит на мгновение отвернуться, как раздается свисток и волшебные дворцы исчезают. Когда же мы снова устремляем взгляд на сцену, то видим лишь голые доски и незнакомых актеров…» На сцене собственной жизни я долго глядел на привычные декорации и считал их неизменными. «Здесь такая панорама!» — сказал мне архитектор, когда я покупал дом в Нёйи. В декорациях, изображавших Булонский лес, Париж, Францию, двадцать лет кряду играли известные мне актеры; я знал их амплуа и творческие возможности, я разбирался во всех перипетиях пьесы и, казалось, угадывал развязку. Вдруг свисток: вмешивается Судьба. Панорама исчезает; Булонский лес уплывает вверх, в колосники; силуэт Триумфальной арки бледнеет; в темноте колдуют рабочие сцены. Когда вновь вспыхивают огни рампы, на заднике изображены Рокфеллеровский центр и Эмпайр-Стейт-Биддинг, а на сцене — совсем другие герои, говорящие на чужом языке. В счастливые дни я писал: «Жизнь моя похожа на сказки „Тысячи и одной ночи“, где колдун, разыскав в какой-то лавочке бедного башмачника, делает его халифом. Жизнь моя — это волшебная сказка. Утро — я живу в провинции, в глуши, и робко восхищаюсь прославленными деятелями, которых мне не суждено узнать ближе. Вечер — я давно покинул тихий уголок, а те, кого я обожал издалека, стали моими друзьями». Я забыл только, что на последней странице колдун снова может превратить халифа в бедного башмачника. Странная сказка моей жизни заканчивается именно так. У меня было все: друзья, состояние, почести, семейный очаг — и всего я лишился. Осталась только моя лавка уличного писца. Жизнь снова похожа на сказку, но последнее слово осталось, кажется, за злыми волшебницами. Подведем итог. Подобно тому как на детских фотографиях мы с удивлением обнаруживаем черты, сохранившиеся в старческом лице, так же и нами всю жизнь руководят страсти, зародившиеся еще в детском сердце. До сих пор, вынуждая меня поступать наперекор обстоятельствам, мною движет неутолимая жажда самоотдачи, которую впервые я испытал, читая «Маленьких русских солдат» на развилке ствола высокой нормандской сирени. А наслаждение от хорошо написанной фразы, которое я впервые испытал, когда был лицеистом и начал изучать классиков, до сих пор остается для меня самой большой радостью. Первые доллары, заработанные в этой стране, я потратил на то, чтобы снова окружить себя произведениями Паскаля и Боссюэ, Реца и Сен-Симона. Мои ученические добродетели, жажда знаний и стремление ими делиться помогли мне этим летом провести несколько упоительных недель в Миллз-колледже. У меня есть два брата, два литературных персонажа, которые помогают мне лучше разобраться в себе. Это князь Андрей у Толстого и доктор Антуан Тибо у Мартен дю Тара. Оба — люди безупречно нравственные, и не из принципа, а просто в силу цельности своей натуры. Внутренний нравственный импульс — вот, пожалуй, тот код, которым можно объяснить мои поступки. Мне кажется, в безразличном к нам окружающем мире человек не может опереться ни на природу, ибо ее законы не имеют никакого отношения к нашим чувствам; ни на толпу, чье поведение сродни явлениям природы. Человек может рассчитывать лишь на себя и себе подобных союзников. Царство Божие лишь в сердце верных. Всю свою жизнь, подчиняясь скорее инстинкту, нежели продуманному решению, я старался хранить верность принятым обязательствам, людям, которых любил, своей стране. Иногда императив верности чему-то одному исключал верность другому, и тогда приходилось делать трудный, а подчас и невозможный выбор. Я старался как мог, но не избежал оплошностей, ошибок и страданий. Я сказал «верность стране и людям», но я не имел в виду ни определенную идеологию, ни определенную партию. Я вообще более чем далек от духа партийности. Не люблю политических теорий и не верю в них. Борьба разных группировок для меня, как говаривал Монтескье, «лишь повод поохать». И я всегда готов принять ту форму правления, которую свободным волеизъявлением выберут себе французы, если только она обеспечит им единство, независимость и безопасность. Но, легко принимая самую строгую дисциплину в действиях, я убежденно стою за свободу мысли. Добросовестные учителя, преподававшие физику, химию и историю, научили меня чрезвычайно уважительному отношению к фактам. Если какое-либо положение удачно укладывается в мои умозаключения, это еще не значит, что оно истинно. Противника я слушаю с опрометчивым желанием понять его. Мне трудно заподозрить кого-то в озлобленности, злонамеренности и коварстве. Отсюда моя наивная доверчивость, сотни допущенных неосторожностей и бессмысленная надежда доказать фанатикам, что они заблуждаются. Ведь фанатики сами хотят заблуждаться. Похвально ли это? По-моему, нет. Но многие люди, к которым я отношусь с большим уважением, придерживаются иного мнения. В этих неистовых упрямцах они видят соль земли. «Вам не хватает воинственности», — повторял мне Люсьен Ромье и был прав, потому что присущее мне чувство меры делает мои суждения не такими резкими. «Истина есть крайность, — учил нас когда-то Ален. — Нужно далеко зайти за черту умеренности, чтобы понять даже самую простую вещь». «К чертогу мудрости ведет тропа чрезмерности», — писалБлейк[280]. Я прекрасно понимаю, что они имеют в виду, но крайности мне чужды, противопоказаны, как, я думаю, и истерзанной Франции. Должно быть, для устойчивости мира нужно всего понемногу: и безумцы — чтобы расшевелить народ, и спокойные умы — чтобы с восходом солнца унять беснующихся фурий, дочерей тьмы. Иных бедствия ожесточают, меня они излечили от многих предрассудков. Я начал свою жизнь в клане тех, кто повелевает, и долго не мог понять недовольство других — тех, кем повелевают. Например, прежде я готов был повторить вслед за Гёте: «Несправедливость я предпочитаю беспорядку». Теперь я уже так не скажу. Невзгоды научили меня терпимости, выдержке и состраданию. Или еще — я долгое время считал, что любая женщина, поразившая меня своей красотой, непременно должна быть умна, скромна и добра. Опыт обманул мои ожидания, прозрение было мучительным. Но главное, чему я научился в этой школе, — это самопожертвование: если оно не замешано на гордыне, то дарит ни с чем не сравнимую радость. Самые счастливые мгновения в своей жизни, моменты озарения и восторга я пережил, когда, движимый любовью или состраданием, забывал о себе. Как отрадно забыть себя. В смирении, если оно добровольное и безусловное, чудесная защищенность. У Сайна в «Заложнике»[281] есть такая реплика: «И вот я сел на последнее место, чтобы никто меня не потеснил». Темнеет. Сумерки окутывают город, в котором меж тем загораются мириады огней. Длинная цепочка рубинов рассыпана по Парк-авеню; неожиданно они гаснут, и на их месте уже сверкают изумруды. Ближе к Ист-Ривер на земле больше огней, чем звезд на перигорском небе. Те, что вблизи, неподвижны; а на горизонте они мерцают сквозь колышущийся туман и складываются в неведомые созвездия. На юге начинают светиться башни и колокольни. В ослепительном свете прожектора изрытый темными ячейками окон фасад Радио-Сити похож на гигантские соты на фоне грозового неба. Контуры других зданий размыты, растворены во тьме; только горящие окна взлетают вверх, к звездам, и кажутся витражами огромного, размером с город, собора. О чем молятся собравшиеся в нем люди? Ах, я знаю, о чем они просили бы, будь они мудры, или, вернее, что́ они всеми силами старались бы удержать. То, что уже имеют, — свободу, терпимость и относительную либеральность нравов. Счастливая Америка, помни наши ошибки, наши страдания; не думай, что путь в будущее лежит через забвение прошлого; обновляя, сохраняй; созидая, не разрушай. Чему научили нас бесчисленные катастрофы? Что не бывает справедливости без порядка. Я был и остаюсь либералом. Это значит, я убежден, что люди будут лучше и счастливее, если получат основные свободы. Я понял также, что нет свободы без защищенности и нет защищенности без единства. Я знаю, что если по окончании войны Франция хочет остаться великой державой, она должна будет засыпать «кровавую пропасть» и примирить всех французов. Прошлым летом, когда студентки Миллз-колледжа анализировали героев моих книг, я был поражен, как часто встречается у меня тема примирения. «Полковник Брэмбл» — попытка объяснить французам английскую душу, а англичанам — французскую; «Бернар Кенэ» — попытка доказать, что порядочность в равной степени может быть свойственна как рабочим, так и их хозяевам; «Превратности любви» — попытка доказать правомерность мужского и женского взгляда на брак; «Семейный круг» — попытка примирить поколения. Я всегда считал, что слова разъединяют людей больше, чем действия, тогда как молчание и труд могут привести их к согласию. Даже сегодня в этом хаосе, где гибнет цивилизация, я продолжаю напряженно искать возможности сближения. Неудачи не убили во мне упрямой и, пожалуй, нелепой веры, что ненависть между людьми будет побеждена любовью. Иллюзии? Не совсем, ибо любовь есть реальность. Разумеется, невозможно освободить человека от страстей; но нужно создать такие условия, при которых даже страсти будут объединять людей и сплачивать общество. Я думаю, что это возможно. За время нашей истории счастливое равновесие достигалось не раз. Без сомнения, когда война закончится, такое равновесие будет найдено. Лет десять — или сто — оно будет казаться прочным. А потом снова хрупкое строение пошатнется. «Какие из законов лучше?» — спросили как-то у Солона[282]. «Для какого народа и в какое время?» — ответил он вопросом. Народы, как и люди, весь свой век взбираются на крутой хребет, по обеим сторонам тропы зияют пропасти, и отдохнуть на краю обрыва невозможно. Каждая минута — восхождение, каждый день — борьба. Жизнь — это игра, из которой нельзя выйти, забрав свою ставку. До моей башни доносятся иногда кое-какие вести. Меня хочет видеть незнакомый молодой человек. Он приехал из Эльбёфа и показывает мне маленькие снимки, на которых можно разглядеть руины домов, окружавших меня в первые годы жизни, и все, что осталось от живописных руанских набережных — каждое утро, проходя по мосту Бойельдьё, я любовался ими, как будто видел в первый раз. Я начинаю расспрашивать гостя и выясняю, что он внучатый племянник начальника пожарной охраны, того самого, которого я помню с раннего детства, в медной каске с красным султаном. — Что с ним стало? — Я не знал его, — объясняет гость. — Он был чем-то вроде семейной легенды… Сын его, мой дядя, умер несколько лет назад в чине полковника. Однажды по телефону мне сообщают, что бывший директор Руанского лицея покинул Европу и живет в Нью-Йорке у дочери. Я отправляюсь его навестить и с радостью нахожу старого и обходительного французского эрудита, который посреди всей этой неразберихи продолжает философствовать, цитируя классиков. — Как прекрасен был наш парадный лицейский двор, — говорит он. — Корнель работы Давида Анжерского… И великолепная иезуитская часовня, перед которой мне, государственному служащему, пришлось реставрировать памятник Лойоле…[283] Пришло письмо от Луи Жилле — удивительное, героическое, совершенно в духе этого благородного человека. Приходят и другие: от Андре Жида — серьезное и проникновенное; от Роже Мартен дю Тара, от Жана Шлюмберже[284], от Анны Эргон. Она в Алжире и изо всех сил старается подкармливать моих детей, потому что во Франции голод; проблемы еды горячо обсуждаются в наших письмах. Жеральд нашел себе место и через силу работает. Оливье болен и живет в горах, в школе-санатории. О дочери и матери, которые сейчас в Париже, я узнаю от тещи, но и ее письма по известным причинам осторожны, сдержанны, и смысл их порой прямо противоположен тому, что она хочет сказать: все мы вынуждены остерегаться многоэтапной цензуры. От этих истерзанных, испещренных цензорскими клейкими заплатками конвертов веет страданием. Когда их вскрываешь, в горле стоит комок. И начинаешь мечтать о том, как хорошо было бы увидеть любимых и сказать им все, о чем неизбежно молчат письма. Но ждет работа. В соседней комнате уже застрекотала машинка жены. Мы занимаемся одновременно этой книгой, подготовкой моих лекций и, что самое трудное, работами, связанными с войной. Так что живем одни и не знаем ни минуты покоя. Счастливый брак — это непрекращающийся диалог, который всегда кажется слишком коротким. Иногда по вечерам, когда из Франции приходят утешительные вести и дневные труды завершены, ночь тиха и огни над городом величественно прекрасны, нас посещает мимолетная, неуместная и дерзкая надежда на лучшее. — Как же, — говорит тогда Симона, поеживаясь, — опять что-нибудь стрясется. Она теперь, как и я, знает, что счастье подобно анемонам, бело-розовым цветам моего детства, которые нельзя срывать. Возможно, она права. Вот-вот прозвучит новый свисток, и рок сменит декорацию, как уже сменил однажды. Рокфеллеровский центр и Эмпайр-Стейт-Билдинг могут исчезнуть так же быстро, как исчез Булонский лес. Возможно, теперешняя наша жизнь, такая неустойчивая, ненадежная, с таким трудом кое-как налаженная за год, рухнет в один миг, как рухнула прошлая, казавшаяся незыблемой. Что предстанет перед нашими глазами, когда вновь зажгутся огни рампы — если они зажгутся? Этого не может знать никто. В глубине души теплится боязливая, но упрямая мысль, что, может быть, это вновь будет декорация милого сердцу, славного Перигора, длинная долина с подступившими к ней вплотную тополями, карминовая черепица «Бруйяка», пылающая в лучах садящегося солнца… Ночью же, когда совсем стемнеет, поверх платанов и кедров засверкают на небе знакомые созвездия, которые на самом красивом языке мира назовут родные голоса.Евангелие от Луки, XVII, 20
Часть третья Годы бедствий
1. SITZKRIEG[285]
Предыдущую главу я писал в Нью-Йорке, в 1941 году. Это был период мрачного отчаяния. Почва уходила у меня из-под ног. Во Франции остались мать и дети, над ними нависла смертельная опасность; немцы захватили мою фабрику, мой дом, конфисковали имущество. Книги мои были запрещены. Живя в Нью-Йорке, я продолжал служить Франции и приносил ей немалую пользу. Я поставил перед собой две задачи: не дать потускнеть образу Франции, достойной любви и восхищения, и убедить американцев, что это не только наша, но и их война. Потом, как только Соединенные Штаты в нее вступят, я намеревался снова пойти служить во французскую армию. Долгая политическая изоляция стала невыносимой, а клеветнические обвинения в мой адрес вышли за все мыслимые пределы. Это угнетало меня до такой степени, что я начал помышлять о самоубийстве. Спасли меня только моя миссия, которую никто, кроме меня, не мог выполнить, самоотверженность жены и поддержка преданных друзей. Сегодня, когда все битвы выиграны, я могу сказать: «Блажен, кто в трудную минуту слушает только голос своей совести». Итак, я писал предыдущую главу, полагая в тот момент, что она заключительная. Я смиренно подчинил долгу мою боль и искал утешения в самоотречении. Меня не оставляла робкая надежда, что я вновь примусь когда-нибудь за «Мемуары» в нежно любимом славном Перигоре, любуясь из окна на окаймленную тополями долину, глядя на кедры и кипарисы, растущие прямо перед окном, и на подернутую голубоватой дымкой даль, в которой тонет мирный и солнечный день освобожденной Франции. Мечта моя сбылась. Двадцать пять лет спустя, в августе 1965 года, я вновь сажусь утром за работу в своем кабинете, перед окном, из которого открывается вид на наши сады, леса и холмы. «Синее небо над кровлей, мир и покой»[286]. В этом уголке распоряжается теперь моя жена. Она сделала из него произведение искусства. Какой разительный контраст с убогостью наших трудных лет! Все разрушенное войной теперь восстановлено, и если бы бесконечные несчастья не научили меня сомнению, я мог бы поверить, что старость моя будет безмятежной. Мне исполнилось недавно восемьдесят, и не только Франция, но и все другие страны тепло поздравили меня с этой солидной датой. Из Нью-Йорка и Москвы, из Лондона и Барселоны, Рима и Тель-Авива прилетели в Эксидёй тысячи телеграмм. Моя последняя книга «Прометей, или Жизнь Бальзака» имела такой успех во всех странах, какого я не знал за всю жизнь. Я был удивлен — и несказанно обрадован. Неужели и в самом деле я усну последним сном, согретый всеобщей любовью, столь сладостной для меня после бесконечных мытарств? Боюсь в это поверить. Четверть века назад по воле рока исчезли со сцены декорации, казавшиеся мне столь прочными. Все что угодно, какие угодно беды могут разбить мое хрупкое счастье. Монтень писал: «Похоже, что фортуна дожидается порой последнего дня нашей жизни, чтобы разрушить в один миг то, что строила долгие годы». Мне случается вспоминать слова Софокла из «Эдипа в Колоне»: «Выигрывает тот, кто не родился. Для тех же, кто явился в этот мир, счастливейший исход (хоть ждать его приходится немало) — вернуться поскорей туда, откуда мы пришли». Мне недолго осталось ждать возвращения. Сколько еще? Год, три? Как знать… В 1961 году я перенес тяжелую болезнь, но затем здоровье мое восстановилось, и я вновь обрел обычную работоспособность. Ничто пока не предвещает конец спектакля. Время, правда, неумолимо, и все мы смертны. Однажды часы пробьют полночь и занавес опустится. Предчувствуя близкий конец, я не пугаюсь, не начинаю спешить. Я бы хотел работать до последнего мгновения и умереть за письменным столом. Или в пути, на очередном этапе главного дела моей жизни — всеобщего примирения. И конечно, мне хотелось бы закончить «Мемуары». Когда они выйдут, до моей смерти или после, неважно. Главное, чтобы образ, который останется жить после меня, соответствовал истине. Итак, я возвращаюсь к тому моменту, когда в 1939 году часы пробили пять, возвестив начало второй мировой войны.Сентябрь 1939 года. «Континенталь». Именно так называли Главный комиссариат по информации, расположившийся в одной из старейших парижских гостиниц. Я приходил туда ежедневно к девяти утра, обязательно в форме. Жироду спросил меня, чем бы я хотел заниматься. «Всем, что вы сочтете необходимым, — ответил я. — Но мне кажется, я мог бы быть полезен для связи с Англией: сообщать англичанам о наших нуждах, убеждать их в необходимости тех или иных действий, рассказывать французам о результатах». В тот момент Жироду согласился со мной, но ему предстояло создать несметное количество новых служб. В общем, когда вывесили списки, я оказался заместителем Жюля Лароша, бывшего французского посла в Варшаве, возглавившего отдел по подбору материалов для французской прессы. Едва ли когда за всю свою жизнь я испытывал такое отчаяние и уныние, как в период службы в «Континентале». Точно так же, как в 1914 году, я был исполнен искреннего рвения, стремился на фронт. А мне говорили: — Заказывайте статьи. — Статьи? Но кому? — Кому хотите. — А о чем? — О чем хотите. — Для какой газеты? — Для любой, которая согласится их напечатать. — А кто будет за эти статьи платить? — Только не просите денег, у нас нет ни франка! Самое невероятное, что Главный комиссариат Франции по информации в годы войны действительно не имел дотаций. Кроме того, как и всякое учреждение, его сразу же начали раздирать политические противоречия. Правые считали его рассадником коммунизма; левые — гнездом реакционеров. Коллеж-де-Франс находил, что там слишком много дипломатов, а на набережной д’Орсе — что там засилие ученых. На улице Сен-Доминик сетовали, что там недостаточно офицеров. Вскоре все эти распри сделались для меня, не выносящего ссор, настолько тягостными, что я просил генерала Шардиньи, командовавшего в комиссариате военными, а значит и мной, о переводе. — Господин генерал, я не боюсь опасности, — сказал я, — но сил нет терпеть бездействие, неразбериху и озлобление. — Куда же вы хотите? — спросил меня этот умница. — Ведь нет пока никаких военных действий. Иногда вдруг какой-нибудь эпизод или забавный случай оживляли бюрократическую беспросветность «Континенталя». Так, однажды сэр Эрик Фиппс, английский посол и наш преданнейший друг, вызвал меня к себе «для встречи с офицером английского морского флота в целях совместного выполнения секретного задания». Я отправился к Фиппсу. Он принял меня сразу же, улыбаясь и откровенно веселясь. — Введите тайного агента, — сказал он секретарше. Дверь открылась, и на меня напал смех: посланником богов оказался мой друг Ноэл Ковард[287], очень импозантно выглядевший в морской форме. Сэр Эрик открыл один из красных цилиндрических футляров, в которых обычно приходят из Англии государственные документы. — Вот ваше задание, — сказал он. — Вам поручено образовать комиссию, в которую кроме вас двоих должны войти видные французские германисты и два офицера военно-воздушных сил, один с французской, другой с английской стороны. Комиссия будет писать пропагандистские тексты, назначение которых — отвратить немцев от нацизма. Тексты будут распечатаны на тонкой бумаге и связаны в пачки таким образом, чтобы, будучи сброшенными над Германией с самолета, развязались и рассыпались по обширной территории. Необычная комиссия приступила к работе. Один профессор из Коллеж-де-Франс диктовал нам, какие, по его мнению, аргументы могут убедить немцев. Мы с Ноэлом Ковардом как профессионалы сочиняли тексты. К сожалению, практическое осуществление задачи не увенчалось успехом: пачки либо не развязывались, либо падали в воду. Сначала было смешно, но потом захотелось плакать. Так войну не выиграешь. Несколько раз по просьбе Жироду я выступал по радио, в частности чтобы объявить французам о высадке английских войск и убедить их, что Великобритания, как и в первую мировую войну, протянет нам руку помощи. Это и в самом деле было необходимо, поскольку немецкая пропаганда во Франции шла куда успешнее, чем французская в Германии. «Англичане ничего не делают», — качали головами люди. По правде говоря, мы и сами во время этой нелепой войны мало что делали. При всяком удобном случае я говорил Эрику Фиппсу, что ненавижу работу в «Континентале» и хочу в армию. Должно быть, он сильно похлопотал за меня в Англии; во всяком случае, в тот момент, когда я уже потерял надежду, вдруг пришло письмо с рельефным оттиском «War Office»[288]. Вот оно:
«Сэр, я получил приказ Верховного военного совета передать вам сердечное приглашение стать официальным наблюдателем с французской стороны при генеральном штабе британской армии во Франции. Имею также сообщить вам на тот случай, если вы примете это предложение, что наш военный атташе в Париже получил специальные инструкции, как устроить вашу встречу с британским главнокомандующим. Наконец, мне поручено сообщить вам, что Верховный военный совет в состоянии оценить тот огромный вклад, который писатель вашего уровня, отличающийся глубоким знанием английского характера, может внести в дело поддержания добрых взаимоотношений, издавна связывавших французский народ и английских солдат — этим отношениям вы немало способствовали своими произведениями. Надеюсь, ничто не помешает вам оказать нам честь, приняв это предложение. С тем остаюсь, сэр, вашим покорным слугой. Постоянный помощник Государственного секретаря по военным делам Х.-Дк. Крид».Нетрудно догадаться, как обрадовало меня это письмо. Оно означало свободу и возможность, несмотря на мой почтенный возраст, принимать участие в событиях. Я бросился к генералу Шардиньи и Андре Моризу, и они в один голос посоветовали мне согласиться. Я понимал, что, продолжая служить — в «Континентале», я так и останусь в запасе и не принесу никакой пользы. Явившись к английскому военному атташе полковнику Фрейзеру, я узнал, что британский генштаб расположился в Аррасе, меня там ждут и явиться я должен к полковнику Рейнолдзу. Жена моя, исполнявшая теперь роль не только секретарши, но и шофера, отвезла меня в Аррас; правда, остаться там она не имела права. В этом старинном испанско-фламандском городе я уже бывал во время предыдущей войны. Он снова кишел солдатами в форме цвета хаки, и мне показалось, что время вернулось на двадцать пять лет назад. Неужели тот же самый человек, в той же униформе, снова приехал в английскую армию? Иногда, глядя в зеркало, я вдруг замечал свои седые волосы и вздрагивал от удивления и огорчения. Я чувствовал себя еще таким молодым и неискушенным. И в то же время все было совсем иначе, чем в 1914-м. Солдат 1939 года немногого ждал от жизни. Партия его была сыграна, то, что он успел сделать, было ничтожно по сравнению с юношескими мечтаниями, а то, что он хотел сказать, он так никогда и не скажет. Он пытался разгадать тайну вселенной, ее золотое правило, и пришел к выводу, что никакого золотого правила нет. Мы увидим позже, как он заблуждался, ибо в дни несчастья ему откроется подлинное счастье, не ощутимое в счастливые дни. Итак, официальный наблюдатель… Так называлась моя должность, и название мне очень не нравилось. Функции мои были достаточно туманны. Полковник Рейнолдз, к которому прикомандировало меня посольство, жил в одной из аррасских гостиниц, там же находилась служба Public Relations, ведавшая прессой, цензурой, кино и радио. Полковник оказался очень милым и очень рассеянным человеком: он внимательно выслушивал то, что ему говорили, затем откидывался назад и громко хохотал, после чего все забывал. Я был для него человеком новым и к тому же весьма неудобным… Еще бы, официальный наблюдатель… — Наблюдатель чего? — спросил он смеясь. — Здесь ничего не происходит. Вскоре я предстал перед главнокомандующим. Генерал Горт поселился неподалеку от Арраса, в замке Абарк. Сначала меня приняли его адъютанты: блестящий шотландский офицер Гордон, одетый в клетчатую национальную юбку, и любезный лорд Манстер, внебрачный потомок Вильгельма IV Английского. Пока я ожидал приема, Гордон и Манстер напоили меня странным и очень крепким коктейлем, который они называли «the Habarcq Horror» (абаркская жуть), а затем объявили: — Ну вот, теперь мы проводим вас к генералу. Никогда прежде я не видел так скромно обставленного генеральского кабинета. На двери, нацарапанная кое-как и пришпиленная четырьмя кнопками, висела табличка «Office of the С. — in С.»[289]. Мебели в комнате не было никакой, за исключением рабочего стола лорда Горта — голой доски, положенной на деревянные подпорки. Простота была нарочитой: Горт считал, что командующий должен жить так же, как его солдаты. Человек он был очень энергичный; единственным развлечением, или спортивным упражнением, которое он позволял себе во время войны, была ходьба пешком. На рассвете его можно было встретить в окрестностях Арраса: он бодро шагал по размытым дорогам под проливным дождем — локти прижаты, голова в красно-золотой фуражке гордо поднята. Обычно его сопровождали, едва за ним поспевая, два адъютанта. Наша первая беседа была краткой и непринужденной. Сначала лорд Горт рассказал о планах Гитлера: — Вопрос в том, пойдет ли он через Бельгию… Мне кажется, это единственно возможный вариант… Знаете, что говорит ваш Фош? «На войне приходится делать, что можно, пользуясь тем, что есть под рукой…» Только не представляю, как Гитлер может начать наступление зимой, по этой фландрской грязи… А если нам придется ждать еще несколько месяцев, боюсь, мои люди заскучают. Не так уж это весело, знаете ли, когда темнеет в четыре часа и солдатам приходится сидеть в темных сырых бараках с одной свечкой на всех… — Но, сэр, ведь в 1914 году мы сидели в блиндажах и траншеях… — Тогда было другое дело: перед нами был враг, который придумывал нам занятие… Здесь же я держу передний рубеж от Лиля до Дуэ, — он резко встал, чтобы показать на карте, — и перед нами нет ничего, кроме нейтральной Бельгии… Попробуйте сохранять боевой дух в этих условиях… Так что, если мы будем и дальше сидеть сложа руки, людей придется развлекать. Лорд Наффилд готов снабдить нас радиоприемниками, но вот незадача: их некуда включать, в лагерях нет электричества. Значит, нам понадобятся радиоприемники на батарейках. Батарейки, как известно, время от времени надо менять… В общем, пока что я занят тем, что готовлю машины, которые будут ездить из части в часть и обслуживать радиоприемники. Нет, я уже не генерал! Я ремонтная мастерская! Потом он рассказал мне, какие укрепления немцы возводят в Польше против русских — это были данные английской разведки. Значит, немецко-русский пакт продержится недолго. Генерал объяснил, чего он ждал от меня: — Я бы хотел, чтобы вы рассказали моим людям о французской армии, а французским солдатам — о нашей. Надо также дать полкам возможность встречаться… Вот вчера мои уланы обедали у французских кирасиров. Великолепно! Я сам время от времени встречаюсь с генералом Жиро[290]. Он на левом фланге командует вашей Седьмой армией. Замечательный солдат! Сигарета, которую он мне предложил, уже догорела и начинала жечь мне пальцы. Генерал поискал глазами пепельницу, потом сказал: — Да бросайте на пол. Убрав от себя все лишние предметы, лорд Горт остался без пепельницы. Он предоставил мне машину для разъездов и сопровождающего офицера. Им оказался капитан Грант, мой приятель с мирных времен и, как выяснилось, английский издатель моего «Вольтера». Полк, которым он командовал, был моторизован, сам же Грант оказался в чине «не подлежащего моторизации кавалериста», чем несказанно гордился. Он не очень хорошо представлял себе, чем мы должны заниматься, но спутником был приятным. Так мы и остались вместе. Я должен был подыскать себе квартиру, но аррасские гостиницы были скверны и шумны. Кроме того, ни у Гранта, ни у его друзей не было офицерской столовой. Я совсем уже было пришел в уныние, как вдруг представился удобный случай. Как и полагалось, я пришел отрекомендоваться французскому генералу, командовавшему аррасским подразделением. Принял меня «исполняющий обязанности» полковник Жилло. Его начальник штаба майор Пумье, служивший в инженерных войсках, заговорил о моих книгах, о Мориаке и Жюльене Грине, обнаружив осведомленность и вкус. Он пригласил меня на обед. — На улице Капуцинов мы втроем снимаем квартиру со столовой: полковник, я сам и саперный капитан Пютом. Приходите. За столом велась интересная беседа, сотрапезники были веселы и радушны. После обеда они спросили, не желаю ли я поселиться с ними. Я с радостью согласился. Вскоре полковник Жилло вышел в отставку и уехал от нас. Его преемник, генерал Эмело, был женат и жил с семьей, так что «капуцинов» осталось только трое, но двери нашей столовой были открыты для всех. У нашего «котла» перебывало множество славных ребят: Пьер Лиотей, Жан Файяр, Симон де Пейеримофф. Они приходили из соседних с Аррасом полков или штабов на обед или ужин. Генерал Ворюз и полковник де Кард из французской миссии встречались за нашим столом с лордом Манстером и майором Гордоном. Если личная дружба может как-то способствовать военному альянсу, то аррасские «капуцины» оказались отличными посредниками. Для взаимного доверия армий необходима дружба. Отношения между французами и англичанами были теперь совершенно другими, чем в 1914 году. Они удачно складывались на уровне штабов, но среди простых солдат и гражданского населения преобладало недоверие, а порой и открытая враждебность, подогреваемая недремлющей немецкой пропагандой — настырной, язвительной и хитрой, цепляющейся за старые французские обиды: сожжение Жанны д’Арк, остров Святой Елены. О, живучие стереотипы! «Англия будет стоять до последнего француза!» — дразнило штутгартское радио. Малейшее недоразумение между британскими солдатами и французскими крестьянами загадочным образом становилось известно немцам, немедленно предававшим событие широкой огласке. Генеральный адъютант британской армии генерал Браунриг, досадуя на подобные каверзы, попросил меня написать «Десять заповедей английскому солдату во Франции», затем отпечатал их огромным тиражом и велел распространить в войсках. Вот они:
1. Помните, что в глазах наблюдающих за вами французов вы — представители Англии. О вашей стране будут судить по вашему внешнему виду, поведению и дисциплине. 2. Ферма, которая для вашего батальона является лишь временным пристанищем, для французского солдата — родной дом, где с каждой вещью у него связаны воспоминания. Задайте себе вопрос: «Если бы война шла на моей земле и французы пришли в мой дом, как бы я хотел, чтобы они себя вели?» 3. Если вы во Франции впервые, не спешите осуждать французов. Обычаи в этой стране другие, но это не значит, что они плохие. Вспомните предыдущую войну и роль, которую сыграла в ней французская армия. 4. Помните, что поведение, кажущееся вам нормальным, потому что так принято в Англии, может неожиданно для вас задеть и даже оскорбить французов. Вы привыкли, что люди должны относиться друг к другу несколько отстраненно. Ваши союзники более требовательны в отношениях между людьми. Своему французскому другу уделяйте больше внимания, чем вы уделили бы другу-англичанину. 5. Женщины, оставшиеся в домах, где вы живете, не имеют других защитников, кроме вас. Обращайтесь с ними так, как вы бы хотели, чтобы обращались с вашими женами и дочерьми в ваше отсутствие. Вы видите, как они, заменяя ушедших на войну мужчин, выполняют тяжелые хозяйственные и полевые работы. Помогайте им в свободное от службы время. 6. Трудитесь, чтобы стать отличными солдатами. Враг старается усыпить нашу бдительность, затягивая наступление, и измотать нас ложными тревогами. Старайтесь извлечь пользу из ожидания; к ложным тревогам относитесь как к серьезным упражнениям. Учитесь лучше владеть оружием. Старайтесь, чтобы ваш батальон, или батарея, или эскадрилья были безупречны. Очень большое значение имеют военная форма и дисциплина. Армия оценивается по ее традициям и обычаям. 7. Франция доверила вам охранять участок своей границы — отныне это ваша граница. Вам оказана большая честь. Не уступайте врагу ни пяди французской земли. 8. Старайтесь не обращать внимания на слухи и не способствуйте их распространению. Цель вражеской пропаганды — посеять смятение и панику. Не пересказывайте того, в чем вы не уверены. Если кто-то заявляет: «Сам я не видел, но говорят…» — то он незаметно для себя становится пособником врага. Будьте хладнокровны. Англичане славятся своей сдержанностью; это блестящая репутация, храните ее. 9. Пользуйтесь тем, что вы живете во Франции, и изучайте французский язык. Помогайте вашим хозяевам овладеть английским. Цель нашего союза — выиграть не только войну, но и мир. Это возможно лишь при условии, что наши страны будут дружны. Они будут дружны, если будут понимать друг друга. 10. Франко-британский союз родился из политической и военной необходимости. Отныне он должен стать человеческим союзом. Мы нужны друг другу и должны относиться друг к другу с безоговорочным уважением. В ваших силах сделать так, чтобы десять, двадцать, сто французов видели в Англии союзницу, достойную дружбы и доверия.
Сегодня, когда я перечитываю эти заповеди, у меня сжимается сердце… Генерал Ворюз, возглавлявший французскую миссию по взаимодействию, поручил мне аналогичную работу среди французских офицеров: я должен был читать им лекции об англичанах и их армии, что я и делал. Занятия проходили в Окси-ле-Шато. Не так давно на одной из лекций в Военной школе полковник Кайу вспоминал о моих выступлениях: «Франко-британским отношениям очень содействовал один лейтенант (впоследствии капитан), скрывавший за внешней скромностью выдающиеся литературные заслуги. Это был академик Андре Моруа, вновь надевший военную форму… Он остался жить в Аррасе и регулярно посещал части наших союзников. Он оказался великолепным посредником, столь же мудрым, как и в войну 1914–1918 годов, когда служил переводчиком». На самом деле я всего лишь повторял простые, но полезные веши. В Окси-ле-Шато меня почти всегда сопровождал полковник де Кард. Я любил наблюдать, как этот острый на язык беарнец раздает приказания и наводит порядок. Точный, быстрый, властный, он обладал всеми достоинствами кадрового военного. Присутствуя на заседаниях штаба, он приходил в ужас от непоследовательности союзнических планов: то готовилось вступление в Финляндию, то отменялось; то отправлялись войска в Норвегию, то не отправлялись. Казалось, содружество лишено единого руководства. Бельгийская граница производила удручающее впечатление. Рубеж был едва укреплен. В 1937 году французские инженерные войска построили здесь небольшие бетонные блиндажи, соединенные рвом. Но блиндажей было мало, а ров годился к делу только под прикрытием противотанковых орудий. Но именно орудий и не было. Для укрепления оборонительных сооружений англичане рыли траншеи образца 1914 года. Глина была мокрая, и стенки мгновенно оплывали. Разве могли эти убогие окопы остановить огромные танки и укрыть от пикирующих бомбардировщиков? Мои друзья — журналисты из английских и французских газет, среди которых многие солдатами прошли войну четырнадцатого года, куда лучше, чем генералы, видели убожество нашей обороны. Но они не смели раскрыть рта. Да и сам я не мог написать правду. Цензура не пропускала никакой критики. Но факты оставались фактами, и реальное положение дел было хорошо известно врагу: на нашей границе была построена узкая, эфемерная линия укреплений, начисто лишенная огневой зашиты; за этой линией была пустота, полное отсутствие резервов. Quos perdere vult…[291] Правители наши давно впали в безумие. Визиты генерала Гамлена в штаб тоже были малоутешительными. Я хорошо знал генерала еще с мирного времени. Его считали одним из вдохновителей битвы на Марне в 1914 году. Я надеялся, что теперь он проявит себя как блестящий стратег. Но в штабе Горта и позже, в Венсене, я видел уставшего, угасшего человека, сникшего под грузом навалившейся на него ответственности. Лорд Горт, понимавший, как слабо укреплены наши рубежи, спрашивал Гамлена: — Вас ничто не тревожит, господин генерал? — Меня тревожит, — отвечал тот, — что вопреки моим приказам лотарингские крестьяне продолжают сваливать навоз прямо перед домом. Время от времени в нем все же просыпался военачальник, и тогда он говорил: — В этой войне первый, кто высунет нос, погибнет. И еще: — Нельзя выстраивать войска вдоль границы… Наполеон никогда так не делал. Что вы тут устроили? Таможенный кордон? Надо оставить в запасе мобильные части, чтобы в случае необходимости быстро перебросить их на участок прорыва. Увы, когда дошло до дела, оказалось, что у Гамлена нет мобильных частей. Он был в большей степени интеллигент, нежели солдат: умно рассуждающий и ничего не делающий. У него была голова на плечах, но не было станового хребта. При этом человек он был крайне доброжелательный, придававший огромное значение мелочам. — Как? — спросил он меня в первый же раз. — Вы все еще лейтенант? — Да, господин генерал. — Но это же просто смешно. Вы получите чин капитана. И я его действительно получил. Специалисты сходились во мнении (вопреки предсказаниям генерала Горта), что нападения через Бельгию не будет. «Зачем Германии добавлять к числу своих врагов Бельгию, обладающую большой, хорошо вооруженной армией?» — рассуждали они. Кроме того, они утверждали, что линия Мажино неприступна, следовательно, Гитлеру остается только два пути: через Голландию и через Румынию. Но маловероятно, чтобы он ими воспользовался, так как Роттердам — последнее легкое Германии, а Румыния и так уже отдала Рейху всю свою нефть. Из этого следовал вывод, что летом наступления можно не ожидать, что положение складывается в нашу пользу, ибо «время работает на нас». К тому же в 1941 году мы добьемся господства в воздухе, а к 1942 году у нас будет достаточно тяжелой артиллерии и танков, чтобы атаковать немецкую линию Зигфрида. Как легко верится в то, чего желаешь! Гитлер пригрозил: «Я сгною их войска» — и выполнил свою угрозу, обрекши нас на долгое зимнее бездействие. Людям наскучило рыть окопы под проливным дождем, чтобы спрятаться от противника, которого они никогда не видели. А ведь можно и должно было на построенных укреплениях проводить интенсивные тренировки, готовя дивизии к совершенно новой войне, страшной для неподготовленных. Необходимо было вспомнить все, чему научила нас гитлеровская кампания в Польше. Но «боевой дух» был чужд союзникам. Военачальники пасовали перед препятствиями, с которыми можно было считаться лишь в мирное время. Я помню, как-то спросил одного из них, почему он не приучает своих пехотинцев к виду приближающихся огнеметных танков и пикирующих бомбардировщиков: — Ведь если их первое знакомство с новым способом ведения атаки произойдет на поле боя, то начнется паника… Если же они привыкнут к этому зрелищу, впечатление не будет столь сильным… — Вы правы, — ответил мой собеседник, — я неоднократно просил об этом… Но гражданские власти решительно против, поскольку танковые маневры погубят урожай. Никто в тылу не думал об угрозе неприятельского нападения, зато все говорили об опасности скуки. В начале войны солдатам не хватало одеял, теплой одежды, обуви, и тогда были созданы благотворительные общества: «Посылки для армии», «Сигареты для армии». Женщины трудились не щадя сил, и вскоре результат превысил потребности: солдат буквально завалили посылками и подарками. — При всем желании я не смогу выкурить двести сигарет в день, — с серьезным видом пожаловался мне один английский солдат. Тогда в высших кругах парижского и лондонского общества родились новые инициативы: «Книги для армии», «Радио для армии», «Досуг для армии», «Мюзик-холл для армии», «Спорт для армии», «Искусство для армии», «Театр для армии». Одна мудрая женщина сочла этот перечень чересчур легкомысленным и предложила создать «Военное дело для армии». И хотя она была права, общественности это не понравилось. На британском участке фронта разъезжали с концертными программами известные актеры в сопровождении умопомрачительных girls; путешествовали они в военных машинах, торжественно эскортируемые офицерами. Морис Шевалье[292] любезно согласился петь для солдат обеих союзных стран. Его появление наделало в Аррасе больше шума, чем визит президента Лебрёна[293]. Солдаты не хотели отпускать его: — Морис, «Валентину»! — кричали французы. — Морис, «The Rain drop»![294] — перекрикивали их англичане. Когда он сходил с подмостков, к нему устремлялись толпы алчущих автографа: — Морис, it’s for my kids…[295] — I’m a papa, you know…[296] Уходя, Шевалье останавливался на пороге, оборачивался и произносил: — God bless you, boys…[297] Все это было очень мило, но ни в коей мере не соответствовало оборонительным целям. В один из самых драматических моментов истории, когда для исправления ошибок, укрепления оборонительных сооружений и обучения солдат Франции оставалось всего несколько недель, французы и англичане почти по всей линии фронта продолжали вести себя как служащие, подчиняясь скучным требованиям военной бюрократии. В Аррасе проживало несколько тысяч старых солдат из территориальных войск. Их тоже мобилизовали, но применения им так и не нашли. Офицеры заставляли их копать огороды, разводить птицу, кроликов и свиней. Занятия, достойные, разумеется, всяческих похвал, но в тот момент, пожалуй, важнее было усилить оборону Арраса и возвести укрепления по берегам Скарпа. Майор Пумье осмелился высказать подобные соображения своему начальству. Это вызвало крайнее недовольство: — Укреплять Скарп? Да немцы никогда до него не дойдут! Что за пораженческие мысли? Ступайте и ждите распоряжений. После нескольких недоразумений такого рода самые ретивые командиры возвращались к своим будничным проблемам. Солдаты от сытной пищи и безделья жирели. С наступлением вечера английские томми принимались за длинные послания своим женам и sweethearts[298]. Офицеры едва справлялись с цензурой. Не успевал несчастный капитан просмотреть одну кипу писем, как на его столе вырастала новая. Мужчины, которым должно было помнить, что судьба всего мира и свобода родины зависит от их воинской доблести, — эти мужчины изо дня в день, в каждом письме, обсуждали и пережевывали пустячные бытовые неурядицы. Гитлер обещал сгноить наши войска. Он выполнил свое обещание. Совершенно иначе обстояли дела на линии Мажино, которую я посетил в декабре 1939 года. — Я собираюсь, — сказал как-то генерал Горт, — заставить каждую британскую бригаду провести несколько недель на фортификациях в Лотарингии, чтобы научить их воевать. Я поехал к шотландцам, ожидавшим неприятеля в предместьях Меца. С французской стороны там командовал капитан де Шамбрён, сын того самого генерала, который когда-то принимал меня в Фесе. Служил капитан в крепостном гарнизоне одного из фортов коалиции, который я по его приглашению посетил. Я нашел там бравых солдат, на которых не страшно было положиться. Все в Лотарингии меня радовало: и современное вооружение, и детально разработанный план огня, и многочисленные посты, и мощные артиллерийские установки, дополнявшие противотанковые рвы, — все то, чего не хватало во Фландрии. — Здесь, по крайней мере, враг не прорвется, — сказал я моему провожатому. Но я не подумал о том, что если враг прорвет оборону в другом месте, то подойдет к укреплениям Мажино с тыла и вся их военная мощь окажется бессмысленной, а блестящая армия попадет в плен. На Рождество Шамбрен повез меня смотреть форты и деревни передовой. Было очень холодно. Искристый снег укутал военную технику в сверкающие чехлы. Никогда еще наши союзники не видели такой красоты. Лотарингская зима в тот год куда больше соответствовала Рождеству, чем любой диккенсовский пейзаж. Красота кругом была неземная; природа утопала в таинственном белом тумане. На пятьдесят метров ничего нельзя было разглядеть, но внутри этого магического круга царила настоящая сказка. Каждое дерево, каждый куст были густо утыканы кристаллами инея и смотрелись как огромные колючие букеты. Устрашающих заграждений из колючей проволоки, казалось, коснулась волшебной палочкой какая-нибудь шекспировская волшебница, превратив их в серебряную мишуру для рождественской елки. Опустевшие деревни превратились в сказочные ледяные хоромы. У маленькой гостиницы лавровые кусты, как две жирандоли, раскинули сверкающие ледяными кристаллами ветки. Садовые деревья, переплетаясь ветвями, образовывали пещеры, похожие на рождественские вертепы; каждая аллея становилась беломраморным храмом. Торопливо скользя по заледенелым дорогам, французские и английские солдаты радостно приветствовали друг друга при встрече. На подходах к переднему рубежу оживление стихало: молчали пушки; ни крик, ни голос не нарушализавораживающего безмолвия. На покинутых фермах не подавали голоса собаки, не мычали коровы. Туман скрывал наблюдательные посты и часовых, пряча их в сияющие шары заледенелых куп. — Здесь мин понаставлено, — признался шотландский полковник, сопровождавший нас на передовую. — Только я не знаю, где они. Его фраза заставила меня вспомнить о старине Брэмбле, которого я искал и не нашел в этой новой армии. На следующий день я взял отпуск и из Лотарингии поехал прямиком в Перигор. Наш дом служил теперь убежищем для шести с лишним десятков эльзасских беженцев. По загадочной случайности они прибыли с родины моего отца: из Страсбурга, Бишвиллера, Хагенау. Я с наслаждением прислушивался к их певучему говору и вспоминал старых рабочих с нашей мануфактуры. Симона и ее мать нарядили для детей елку и ждали моего приезда для раздачи подарков. И снова горели розовые, голубые и зеленые свечки, и снова на елке серебрился дождь и блестели золоченые орехи пастора Рериха. А маленькие эльзасцы пели рождественскую песенку моего детства:
2. BLITZKRIEG[299]
Многие военные корреспонденты тоже разъехались на Рождество по провинциям. Назад они вернулись охваченные беспокойством. — В тылу все слушают немецкое радио… — говорили они. — Пора нам отвечать. Нужны факты, а не громкие пустые слова. Почему бы не послать нас в Англию посмотреть, что делают англичане? За это взялся Блез Сандрар[300], журналист и талантливый писатель, которого англичане просто обожали за его колоритную внешность: старый однорукий пират с кирпично-красным лицом и боевой медалью на груди. Он рассказал о нашем проекте D. М. I. (начальнику английской военной разведки). Им был генерал Мейсон Мак-Фарлейн, своеобразная и загадочная личность в духе Макиавелли. Он состоял в секретных службах и досконально знал немецкую армию, которой восхищался и одновременно побаивался. За ним по пятам ходил огромный бульдог и, когда хозяин начинал говорить, ложился у его ног. Генерал читал военным корреспондентам пронизанные мрачным юмором, порой пророческие лекции. — Радуетесь затишью? Напрасно, — говорил он. — Это затишье перед бурей. После нелепой войны будет нелепый штурм… Вот тогда-то… Он одобрил предложение Сандрара. — Я сам займусь организацией этой поездки, — пообещал он. И вот хмурым январским днем на черном корабле без единого огонька человек десять корреспондентов, которых мне поручили возглавлять, пересекли Ла-Манш. Погребенная под снегом Булонь выглядела весьма мрачно. По другую сторону пролива нас встречал генерал Бейт, он же Ян Хей, мой старый друг по предыдущей войне, автор «Первых ста тысяч». Теперь он был весь в пурпуре и злате, при орденах, но сохранил юношеское остроумие. В Лондоне министр информации предоставил нам огромный автомобиль, и мы, несмотря на жестокий мороз, принялись колесить по Англии. Нам показали, как тренируются летчики, как делаются самолеты и пушки, — все было организовано четко и безупречно. И тем не менее каждый вечер наши журналисты, сами когда-то воевавшие, переглядывались с грустным видом. — Больше всего пугает, — говорил мне Лефевр, чудесный человек, ас войны 1914 года, — что все у них — лишь образцы… Все в отдельности великолепно, методы работы отличные, не хватает только количества… Мало людей, мало танков, мало самолетов. Скажите, капитан, часто ли мы видели более тысячи человек разом? — Один только раз, — подтвердил я. — Канадскую дивизию. — Вот именно, только одну дивизию! Танков им даже для учений не хватает. А вы хоть раз слышали, чтобы устраивались совместные маневры пехоты, танков, бомбардировщиков? Ни разу! Нет, это несерьезно… Все это, разумеется, прекрасно и мило, но перешибить самую совершенную военную машину они не смогут… Да и мы тоже. В душе я был с ним согласен, хотя и пытался убедить себя в обратном, вспоминая, что англичане «проигрывают все сражения, кроме последнего», и что только «зажатые в угол» они всерьез принимаются за дело; кроме того, возможно, нам просто не хотели показывать крупных войсковых соединений. И все же в глубине души ясно сознавал: то, что делают англичане и что делаем мы, катастрофически ничтожно. Я нашел в Англии все, что полюбил в ней когда-то: отвагу, дисциплину, юмор… Не нашел только одного, самого нужного для борьбы с врагом: понимания, что родина в опасности. В военном министерстве я спросил у принимавшего меня генерала: — Сэр, вы говорите, что кадровая армия, резерв и территориальные войска составляют в целом 750 тысяч человек, а помимо этого у вас 600 тысяч новобранцев… Скажите, каким же образом вы еще не сформировали тридцать или сорок обещанных дивизий? — Вообще-то я не в курсе, — честно сознался мой собеседник, — а полковника, занимающегося вопросами личного состава, сегодня нет. Вечером в парламенте я встретил Хор-Бел ищу. — Что вы думаете о нашей новой армии? — спросил он. — Части и подразделения, которые я видел, прекрасно организованы. Но, как Оливер Твист, I ask for more…[301] В самом деле, нигде, кроме канадской дивизии, нам не представили более крупной единицы, чем батальон. Пехоту обучали штыковому бою: занимались этим два престарелых унтер-офицера. Но что значили штыки против авиации Геринга? В танковой школе учения были поставлены хорошо, да только танков не хватало и были они старого образца. Одно меня утешало: убеленный сединами шофер, сидевший за рулем нашего автомобиля. Этот маленький человечек героически возил нас по заледенелым дорогам, кюветы вдоль которых были доверху завалены снегом; с четырех часов в стране воцарялась непроглядная тьма, старательно поддерживаемая с целью маскировки. Сколько раз мы сбивались с пути, застревали в грязи, промерзали до костей. И никогда наш шофер не терял присутствия духа. — Don’t you worry, — говорил он, — it will be all right in the end… He волнуйтесь, все в конце концов образуется. И действительно, благодаря его терпению, упорству и самообладанию все образовывалось. Глядя на него, я успокаивал себя мыслью, что он — воплощение Англии, которая тоже за эту войну не раз собьется с пути, не раз окажется в безвыходном положении, но в конце концов справится с трудностями и приведет нас в лагерь Победы. Время от времени меня просили выступить перед офицерами и солдатами. Однажды я читал лекцию курсантам авиационной школы. Выходя из зала, я оказался позади двух молодых людей; они разговаривали, не замечая меня. — Что это за старикан читал нам сегодня? — спросил один. — Понятия не имею, — отвечал другой. — Вроде какой-то полковник Брэмбл. Из Саутгемптона в Гавр я добирался ровно сутки. Корабль наш плыл зигзагами, чтобы обмануть подводные лодки противника. На борту я встретил профессора Ланжевена[302] и группу французских ученых, возвращавшихся из Англии с военнотехнической конференции. Новости, которые я услышал, заставили меня воспрянуть духом. — То, что сделали англичане за короткий период с начала войны, просто невероятно, — сказал Ланжевен. — Они разработали способ обнаружения самолетов на дальнем расстоянии и, кроме того, тысячу хитроумных способов зашиты. Что касается магнитных мин, сами знаете, как быстро они с ними справились. Всего лишь за две недели они определили способ их действия, разработали ответный удар и простое, недорогое средство защиты кораблей. Вот это работа… Я тоже занимаюсь сейчас некоторыми важными исследованиями… И он стал рассказывать мне о внутренней энергии, заключенной в материи, и о том, что если расщепить и высвободить эту энергию, то можно произвести взрыв небывалой силы, способный смести с лица земли целые города. — Мы провели несколько опытов в Южном Алжире, — сказал он. — Это ключ к победе. Так оно и было, но у Франции не хватало средств, чтобы раскрыть все тайны атома. Однако беседа со знаменитым французским физиком заставила меня по-новому взглянуть на многие вещи. Позже, приехав в Америку, я встретился с великим физиком Лоуренсом[303], который совместно с другими учеными вел секретные работы по созданию атомной бомбы. Мы обсуждали, как выиграть войну, и я вполне невинно упомянул о расщеплении атома. Лоуренс как будто испугался. — Откуда вы знаете? — настороженно спросил он. Я рассказал ему о моей беседе с Ланжевеном. Увидев, что я не в курсе их грандиозного замысла, он ловко перевел разговор на другую тему. По возвращении в Аррас я встретился с капитаном Жоржем де Кастелланом, служившим в штабе Первого армейского соединения и пришедшим от имени генерала Бийотта просить меня выступить с лекциями во всех армиях. Я знал генерала еще с тех времен, когда он был комендантом Парижа. Человек энергичный и проницательный, он обладал всеми достоинствами, необходимыми для командования отборными войсками. Но, увы, ему было суждено погибнуть в автомобильной катастрофе в самом начале немецкого наступления. — Я хочу, чтобы вы посетили все мои части. Расскажите им о британской армии, об Англии, о ее могуществе… Я хорошо знаю англичан: они медлительны, страшно медлительны, пока-то они раскачаются… Зато потом их голыми руками не возьмешь. Объясните это французам. И вот на несколько недель я окунулся в суетную кочевую жизнь. Утром за мной приходила военная машина, чтобы отвезти в очередной штаб. Там я днем обедал у генерала, а вечером шел на лекцию; в зале собиралось обычно до двух тысяч офицеров, унтер-офицеров и солдат. Таким образом я повидал много наших военачальников. В первой армии, в Боэне, командовал генерал Бланшар — подтянутый, молодцеватый, много знающий. Бланшар пригласил меня присутствовать на торжественном построении, которым командовал генерал Бугрен, и я получил возможность полюбоваться прекрасно обученными полками. Вслед за тем я выступал у генерала Альтмейера, в Валенсьене; потом у генерала Ла Лоранси, с которым мы познакомились в Руане перед самой войной; затем у генерала Приу и генерала Жансена, которые стали впоследствии героями обороны Дюнкерка. (Генерал Жансен был сдержанно-остроумен; офицеры его просто боготворили; он погиб, дав приказ: «Умереть, но не отступать!») В марте 1940 года, в период веселых застолий в офицерских столовых, трудно было представить себе, что опасность так близка. Некоторые военачальники понимали это и, оставшись со мной с глазу на глаз, делились своей тревогой. — Мои люди — отважные солдаты, — сказал мне один из них, — но не смогут же они своими телами остановить танки. Если нам не дадут противотанковых пушек, я ни за что не отвечаю. В апреле я все еще ездил с лекциями. Познакомился с генералом Фагальдом — он горел воодушевлением. Слева от него, вдоль побережья находилась седьмая армия с генералом Жиро во главе. Жиро обладал твердым характером и незыблемыми нравственными устоями; это подкреплялось столь блестящей военной выправкой, что я увидел в нем идеал командующего. Он с горечью подтверждал нашу неподготовленность. — Мы созреем не раньше 1941 года, — говорил он. — Знаете, сколько у меня, командующего армией, самолетов на вооружении? Восемь! А сколько пилотов на эти восемь самолетов? Тридцать! Вот такая у нас авиация. Беззащитность Франции и Англии в 1940 году была не следствием дурной организации их армий, но лишь результатом легкомыслия властей, будь то лейбористы или консерваторы, правые или левые, военные или штатские; в тот момент, когда не только безопасность, но и сама судьба наших стран была поставлена на карту, они продолжали заниматься второстепенными проблемами и сведением междоусобных счетов. Относительно вопиющей неподготовленности союзников к войне наиболее дальновидные английские военачальники сходились во мнении с генералом Жиро. Флегматичный аристократ, вице-маршал английской авиации Блаунт не скрывал своей тревоги. «Будь у нас хотя бы на двести бомбардировщиков больше, — говорил он мне, — я бы уже не так беспокоился». Главой правительства Франции стал Поль Рено[304]. Я всегда ценил в нем смелость мысли, но что он мог изменить? По его собственному признанию, получив власть, он обнаружил, что положение дел в стране отчаянное: ни танков, ни самолетов. Министр военной промышленности Рауль Дотри[305], человек благородный и большой патриот, работал не покладая рук, но было очевидно, что и он теряет надежду. «Мы начнем производить вооружение в 1941 году, — говорил он, — но по-настоящему производство развернется только к 1942-му… Что-то еще произойдет до этого времени?» По природе своей я был столь оптимистичен, что даже предсказания сведущих специалистов не могли поколебать моей наивной веры в лучшее. И все же, когда в конце апреля я приехал с лекциями под Седан, в девятую армию, которой командовал генерал Корап, меня снова охватило отчаяние — как после пребывания на слабо укрепленных позициях Севера. Под Седаном рубеж охраняли несколько военных частей, а за ними — голый тыл. Сколько уже раз эта седанская дыра оказывалась вратами, через которые во Францию входил враг! Штаб девятой армии располагался в Вервене, маленьком сонном городишке с прикрытыми ставнями, с кривыми щербатыми улочками, по которым каждый день в один и тот же час офицеры отправлялись на службу неспешным, размеренным шагом штатских функционеров. В письме, которое я написал жене в день приезда в Вервен, сегодня читаю: «…Встретил здесь хороших и милых людей, только пыльных и потрепанных». Генерал Корап был человеком умным, тихим и мало походил на военного. Он успел отрастить животик и теперь с трудом садился в машину. Говорить с ним было интересно, но чувствовалось, что он живет прошлым. Он рассказал, как в молодости, когда он состоял в чине младшего лейтенанта, его мобилизовали в Алжир против Англии; как в 1925-м в Марокко он взял в плен восставшего Абд-эль-Крима. Корап считал это вершиной своей карьеры; по сравнению с тем, что ждало его впереди, это был лишь маленький пригорок. Посещая военные части на подходах к Шарлевилю, я был поражен тем, насколько они удалены друг от друга. А когда возвращался в Вервен, мне показалось, что я пересекаю и вовсе брошенный на произвол судьбы край. Я не мог не думать о том, что будет, когда в эти деревни, где нет ни одного солдата, придут немцы. Как просто им будет, перейдя границу, добраться до Вервена! А что они найдут у входа в город? Деревянные заграждения, перевернуть которые под силу даже ребенку, часового со штыком и начальника жандармерии. Неужели таким способом можно остановить бронетанковую дивизию? Все наши лучшие войска стояли на границе. Было ясно, что если враг прорвет линию фронта, то продвижение в глубь Франции будет для него не более чем прогулкой. Городов на его пути много, а защищать их некому. Все живо помнили атаку 1914 года, когда противник медленно наступал сразу по всей линии и наносил сокрушительные удары по тем участкам обороны, которые не успели вовремя отступить. Так что об обороне Дуэ, Вервена, Аббевиля и Амьена никто не беспокоился. Полковники и генералы, командовавшие в этих городах, были милыми стариками, давно вышедшими в отставку, но вновь призванными с началом войны; их распределили по спокойным и не хлопотным с военной точки зрения административным постам, хоть и расположенным вблизи границы. Ни разу эти честные бюрократы, заваленные ворохом бумаг, не задумались над тем, что они будут делать, если вражеские танки или мотоциклы с пулеметами появятся у врат их цитаделей. В начале мая я получил отпуск, приехал в Париж и отправился обедать к Полю Рейно на площадь Пале-Бурбон. Вместо обоев стены были оклеены огромными тонированными картами. Рейно был как всегда оживлен и разговорчив. Однако чувствовалось, что он нервничает: они с Даладье расходились во мнении по поводу генерала Гамлена. Его друг и посол Соединенных Штатов Уильям Баллитт пришел к нам в Нёйи на ужин и привел с собой Лоуренса Стейнхардта, американского посла в Москве, находившегося в Париже проездом. Они сообщили, что американцы недовольны союзниками. — Вы предоставляете противнику свободу действий. — Просто противник делает, что хочет, не заботясь о международных договорах… А мы вынуждены считаться с общественным мнением, в частности с вашим. — Наше общественное мнение, как и любое другое, только и ждет, чтобы его попрали. Во время отпуска я встретился в Париже с известной журналисткой Дороти Томпсон[306]. Она возвращалась из турне по Европе и была совершенно подавлена могуществом фашистской лиги. — В руках Германии уже вся Восточная Европа, за исключением Турции. Конец отпуска я намеревался провести в Перигоре; мы с женой решили выехать десятого мая на машине. Утром, перед тем как тронуться в путь, я включил радио послушать новости. И вдруг: — У микрофона министр информации господин Фроссар. Я вздрогнул: в те времена министр обращался к народу только в чрезвычайных случаях. — Этой ночью немцы захватили Бельгию, Люксембург и Нидерланды, — услышал я. — Все офицеры, находящиеся в увольнении, должны немедленно вернуться в свою часть. Вот и началось наступление, о котором давно уже предупреждал генерал Мак-Фарлейн. Мне нужно было вернуться в Аррас. Симона проводила меня на Северный вокзал. Весь перрон был запружен офицерами, пришлось обходить поезда по путям. Мои товарищи наивно радовались: — Наконец-то нормальная война! А уж победим мы в два счета… Утром 10 мая 1940 года в битком набитом военными поезде я не услышал ни одного мрачного, недоверчивого слова. В Аррасе меня встречал капитан Грант. — Мы немедленно едем в Бельгию, — сказал он. — В каком направлении? — Брюссель, Лёвен… Действуем по плану «Д»: мы, то есть англичане, должны укрепиться вдоль реки Диль в окрестностях Лёвена. Тем временем генерал Жиро должен продвинуться на левом фланге до устья Рейна и занять голландские острова. На правом фланге нас поддержит бельгийская армия… Неплохой план, правда? Капитан ликовал. Пересечь наконец границу, на которую мы так долго смотрели издалека, было для него заманчивым, увлекательным приключением. Что все пройдет успешно, он нисколько не сомневался. После первой мировой войны французская армия котировалась у англичан как самая сильная в мире. Она живо расправится с зарвавшимся австрийским капралом! В суете никто из нас не заметил, на какой риск пошел Гамлен: он делал то, чего совсем недавно, в Гортовской столовой, советовал никому не делать, — вылез из укрытия и отправил свои лучшие войска, свои драгоценные бронетанковые дивизии одну за другой в Голландию. Ни Грант, ни я не думали об опасности. Мы участвовали в спектакле, в игре, в действе. С самого раннего утра английская армия продвигалась вперед, сохраняя идеальный порядок. Грузовики были закамуфлированы ветками. Вдоль дороги, протягивая солдатам цветы, стояли женщины и дети. У въезда в Брюссель колонны сворачивали и огибали город. Мы поехали напрямик. К нашему вящему удивлению, у гостиницы «Метрополь» нас окружила и приветствовала гигантская толпа с криками: «Да здравствует Франция! Да здравствует Англия!» С чего вдруг два скромных седовласых капитана привлекли к себе такое внимание? Я, не откладывая, отправился во французское посольство. Увидев в своем кабинете француза в военной форме и рядом с ним английского капитана, посол де Баржетон удивленно вскричал: — Что вы тут делаете? Разве вы не знаете, что Брюссель объявили открытым городом, чтобы спасти его от бомбардировок? Никто из союзников не имеет права здесь появляться. Простите, что вынужден вас так принимать, но уезжайте скорей отсюда, и вы, и ваш английский друг. Вот так объяснилась загадка торжественного приема, оказанного нам в Брюсселе. Просто мы с Грантом были первыми офицерами, ступившими на улицы города. Поспешно ретировавшись подальше от незаслуженных почестей, мы получили приказ ехать в Лилль. Часть следующей ночи я провел в башне, где размещались «Эко дю Нор», вместе с деканом филологического факультета Одра и его женой. Мы смотрели, как немцы бомбят предместья. Немецкие самолеты были, казалось, повсюду. Вокруг города взметнулось кольцо пожаров. На следующий день мы вернулись в Бельгию. За ночь все изменилось. Никаких цветов. Никаких приветствий. Женщины и старики стояли на порогах и тревожно смотрели в небо. — Что это с ними? — спросил Лефевр, один из наших военных корреспондентов. — Они какие-то пришибленные. Они и в самом деле были «пришибленные». Вдоль дороги повсюду виднелись следы ночной бомбардировки. Разрушения, правда, были невелики: где пара обрушившихся домов, где развороченная железная дорога; чуть дальше пострадал участок шоссе и валялась разнесенная в куски машина. Но каждая деревня получила свою бомбу, и этого было достаточно, чтобы навести ужас на жителей. Где-то погибла девочка, и все матери, подчиняясь естественному порыву, бросились спасать своих детей. Вскоре мы встретили первых беженцев. Впереди катились автомобили богатых горожан с чопорными шоферами за рулем. За ними ехали те, что победнее, — их машины были битком набиты съестными припасами и придавлены привязанными к крышам матрацами. За автомобилями тянулась вереница велосипедов — целая деревня во главе с кюре. Затем скорбным кортежем брели пешие беженцы. Замыкали шествие босоногие бедняки. Люди уходили с насиженных мест, и как только людской поток достигал города или деревни, он уносил с собой все население. Наконец мы достигли края, где жителей совсем не осталось. Двери были заперты, ставни наглухо закрыты. И среди тишины — блеяние и мычание брошенной скотины. Театрально-красным пламенем горели заводы и монастыри. Мы были под Ватерлоо. Оставив машину в овраге по дороге в Охэйн, мы пешком дошли до линии, обороняемой английской армией. Откуда-то доносилась артиллерийская стрельба, но фронт пока был спокоен. Непонятно, зачем союзники оставили возводимые с таким трудом в течение восьми месяцев укрепления и пришли ждать немецкие танки в открытое поле. Прошло еще два дня, и я стал замечать отчуждение во взгляде некоторых англичан. Недовольный ропот, осторожные намеки… Наконец я узнал, что французский фронт прорван под Седаном. Полковник Кайу, член французской военной миссии, рассказывал, что с этого момента отношения двух армий, до той поры доверительные и корректные, изменились. Англичане прятали глаза, и французы чувствовали, что своим присутствием мешают бывшим друзьям говорить свободно. — Вы уверены, что ваши части выдержат? — спрашивали англичане. Существование крошечной британской армии и в самом деле зависело от того, выдержат ли французы натиск противника. Вскоре я тоже начал замечать то, о чем говорил мне полковник Кайу. Английские офицеры вели между собой тихие таинственные разговоры. Если к ним в этот момент подходил француз, будь то даже старый друг вроде меня, они смущенно замолкали. Иногда до меня долетали отдельное слово или обрывок фразы: «Эвакуация… Отход к портам…» Потом мы все обратились в бегство, беспорядочное, несуразное. Получили распоряжение возвращаться в Аррас. Ехали еле-еле, потому что дороги были запружены беженцами. На подъездах к Аррасу путь нам преградили наспех построенные из мешков баррикады. Отеля «Юнивер» больше не было, в него попала бомба. Полгорода пылало. Мои друзья с улицы Капуцинов, Пумье и Пютом, оставались, однако, по-прежнему веселыми и полными энергии. Спать я лег в нашем доме — он уцелел — и всю ночь напролет слушал завывание сирен и захлебывающееся рычание немецких бомбардировщиков. Это напомнило мне вечера в Аббевиле двадцать два года назад и вопли маленького Дугласа. Шестнадцатого мая я написал Симоне письмо:«Дорогая моя, мы переживаем дни тоски и безысходности. Но надо не терять спокойствия и надежды. Что бы с нами ни произошло, остается то главное, что неподвластно разрушению: наша любовь. Готовиться надо ко всему, как к хорошему, так и к плохому. Поэтому вот вам мои наставления: а) Сюда вам больше приезжать нельзя. Это невозможно. Да и самого меня в любой момент могут перевести. б) Если положение исправится, меня, возможно, на будущей неделе пошлют в Париж, но я не смогу и не успею вас предупредить. в) Если станет совсем плохо, я хочу, чтобы вы уехали в Эссандьерас. Отчаянно надеюсь, что в этом не будет надобности, и все же хочется знать наверняка, что у вас достанет мудрости вовремя отступить. Семья как армия: осторожность и гибкость могут спасти ее. С тех пор, как началась эта маета, только ваша мудрость и ваша нежность заставляли меня не желать смерти…»У нас на севере ходили слухи, проверить которые было невозможно. То вдруг узнаем: «Немцы в Камбре!» Французская миссия сворачивается и забирает меня с собой. Потом выясняется: слух не подтвердился и мы возвращаемся в Аррас. «Немцы в Бапоме!» Глава службы public relations полковник Медликотт объявляет нам: «Встречаемся в Амьене»… Так 20 мая мы оказались в Амьене, заполоненном беженцами, опустошившими его, как саранча. Я не нашел ни одной свободной кровати и заснул где пришлось, завернувшись в одеяло. Среди ночи полковник Медликотт прислал ко мне английского офицера. — Штаб переезжает в Булонь, — сказал тот, разбудив меня. — Две машины у нас разбомбило. Вас и ваших корреспондентов посадить некуда. Немцы наступают… Возвращайтесь в Париж. — Но как? — Поездом. — Но ведь поезда не ходят… — Добирайтесь как сможете. И он растворился в темноте. Меня охватило отчаяние: нас было десять человек, багаж мы потеряли, транспорта никакого не предвиделось. Глупо было бы из-за этого попасть в плен. Мы бросились на вокзал. Его уже штурмовали волны разъяренных беженцев. К счастью, нам попался понимающий и сообразительный военный комиссар. — У меня есть только один способ отправить вас, — сказал он. — В Париж идет фургон от Французского банка, груженный золотом. Поедете? — Разумеется, поедем! — обрадовались мы. Путешествие было похоже на кошмар. Стремясь перерезать путь, поезд преследовали немецкие самолеты; бомбы падали в двух шагах; состав полз со скоростью пешехода; на каждом переезде дорогу нам преграждал людской поток; люди шли по шпалам, и мы часами стояли в ожидании, пока освободится путь. В конце концов мы все-таки добрались до Парижа и были удивлены, что город почти не изменился. Внезапное поражение вызвало сильный шок; Франция, оглушенная и растерянная, не понимала, что с ней происходит. Жена, не получавшая от меня писем с 16 мая и считавшая меня пленником или пропавшим без вести, вскрикнула при моем появлении. Она рассказала, что говорили в Париже: нашей армией командовал теперь Вейган; люди были настроены оптимистически и возлагали все надежды на сражение на Марне. Наутро я явился за указаниями к моему новому французскому командиру полковнику Шифферу. Присоединиться к генералу Горту я уже не имел возможности. О капитуляции думать не хотелось. Я попросил разрешения отправиться на восточную базу ВВС Великобритании. Шиффер дал согласие, и на несколько дней я уехал в Труа. Там я нашел вице-маршала Военно-воздушных сил Плейфера и британские эскадрильи. Летчики были смелыми ребятами; самолеты были великолепны; но на небе, как и на земле, немцы превосходили нас числом. 28 мая в одном из кафе Труа я услышал по радио объявление о капитуляции бельгийской армии. Вернувшись в Париж, я отправился с отчетом о поездке к полковнику Шифферу и застал у него капитана Макса Эрманта, члена штаба Вейгана. Мы стали говорить о том, что британская общественность не понимает, в какое безнадежное положение мы попали. — А почему бы вам не поехать в Лондон и не выступить по «Би-би-си»? — спросил меня капитан Эрмант. — Английский посол уже пригласил меня выступить в лондонском Институте Франции 25 июня; надо просто послать меня туда пораньше. — Я сообщу об этом в ставке, — ответил Эрмант. 3 июня Париж бомбили триста немецких самолетов. Было много убитых и раненых, но жители отнеслись к этому без паники. Как и я, они не верили в возможность окончательного поражения. 5 июня немцы перешли в наступление на Сомме и Эне. Вести с фронта первое время были не так уж плохи. Министерство информации подтверждало, что «войска держат оборону», что противотанковые установки творят чудеса и что «вражеская авиация, похоже, выбилась из сил». Это была политика страуса. Вдруг 8 июня передали скверную сводку: под угрозой Форж-лез-О близ Руана. Неужели немцы дойдут до Парижа? Будет ли столица обороняться? Судя по многим признакам, правительство собиралось уезжать. У дверей военных министерств стояли грузовики, на которые грузили архивы. — Идет эвакуация тяжелого оборудования, — застенчиво поясняли министерские службы. В воскресенье, 9 июня, полковник Шиффер сообщил мне, что капитан Эрмант звонил в ставку и что мне надлежит немедленно отправляться в Лондон. Он снабдил меня письменным приказом, по предъявлении которого я мог рассчитывать на место в английском военном самолете. При себе у меня был также другой приказ, подписанный за министра иностранных дел Марксом, директором отдела культурных связей на набережной д’Орсе. Вторым приказом меня командировали в Бостон, чтобы осенью 1940 года участвовать в знаменитом лекционном цикле «Lowell Lectures». Таким образом мы получали возможность обратиться напрямую к американской элите и рассчитывали быть услышанными. Я встретился с военно-воздушным британским атташе, который сказал мне: — Завтра в полдень будьте на аэродроме в Бюке. Я не был вполне уверен, что 10 июня, в полдень, еще можно будет добраться до Бюка. Поговаривали, что немецкие моторизованные дивизии уже дошли до Вернона и Манта. Танки видели в Иль-Адане, а это как-никак парижское предместье. Я умолял Симону забрать Жеральда и ехать с ним в Эссандьерас — наш сын еще не оправился после аппендицита — ему сделали операцию в американском госпитале в Нёйи. — Если немцы перейдут Сену и перережут дороги на Шартр и Орлеан, вы окажетесь в плену. — Я не боюсь, — отвечала жена. — Хорошо, вы не боитесь, но подумайте о других… Ведь есть еще Жеральд, он солдат, он пока слаб, и шов его не зарубцевался. Есть Эмили, у которой муж в армии… Когда немцы возьмут город, вы будете отрезаны от мира, мы долгие месяцы не сможем друг другу ни писать, ни звонить. В конце концов Симона согласилась. Наш последний вечер вдвоем мы провели, отбирая вещи, которые она возьмет с собой. Места в машине было мало, а воспоминаний, которые нам хотелось спасти, так много; порой мы стояли перед мучительным выбором. Время от времени включали радио. — Враг ослабил натиск… — сообщали оптимистически-бессмысленные сводки. — Мы сдерживаем его на нескольких участках фронта. Но географические названия свидетельствовали о том, что немцы неумолимо продвигаются вперед. Утром, встав пораньше, мы поехали прощаться с нашими любимыми парижскими уголками. Жена сидела за рулем своего малёнького белого автомобиля. Стояло солнечное утро, и легкая золотистая дымка окутывала город. На полупустых улицах полицейские регулировщики с никому не нужным, но трогательным рвением останавливали машины на перекрестках. Мы с женой зашли купить мне дождевик и чемодан (все мои вещи уехали с грузовиком полковника Медликотта). Продавщицы внимательно и услужливо, как всегда, выполняли свои обязанности. Глаза у них были красны от ночных слез, но по общему молчаливому соглашению никто не говорил вслух о том, что было у всех на уме. — Французы — такой отважный народец, — сказала жена. — Простые храбрые люди. Не понимаю, как их можно было победить… Как рубеж Мажино… — Люди не в силах остановить машины… Им приказали: «Обороняйте этот участок». И они готовы были оборонять. Но только от кого? Линию Мажино обошли и взяли с тыла. — Не могу поверить, что немцы действительно возьмут Париж… — вздохнула Симона. За несколько дней до этого мы долго говорили о вероятности оккупации Парижа с одним из наших самых близких друзей, хирургом Тьерри де Мартелем[307]. — Я уже принял решение, — сказал он. — В ту минуту, когда я узнаю, что немцы вошли в Париж, я покончу с собой. Он нам объяснил, что большинство людей не в состоянии правильно застрелиться, но в руках хирурга револьвер так же точен, как скальпель, и безошибочно поражает жизненный центр. Потом, как бы в шутку, добавил: — Если вы, как и я, не хотите быть свидетелями трагедии, я к вашим услугам. Вечером 10 июня, когда я уже улетал в Англию, а жена печально упаковывала незамысловатый багаж, ей позвонил Тьерри де Мартель. — Вы с мужем еще в Париже? — спросил он. — Андре в Лондоне, в командировке. А я уезжаю рано утром. — Я тоже уеду, — сказал Мартель странным голосом, — очень-очень далеко… Жена вспомнила разговор о самоубийстве, все поняла и попыталась его отговорить: — Вы можете сделать так много хорошего. Вы нужны: и вашим пациентам, и ассистентам, и медсестрам… Как же без вас? — Я не могу больше жить, — сказал Мартель. — Моего единственного сына убили на той войне… Я всегда считал, что он погиб ради спасения Франции… А теперь и Франция погибла. Все, ради чего я живу, рушится. Не могу больше. Симона продолжала его уговаривать. Он повесил трубку. Позже, 25 июня, когда «Клиппер» причалит к Азорским островам, жена сойдет на берег купить американскую газету; листая ее, она наткнется на сообщение, что известный французский хирург Тьерри де Мартель покончил с собой, когда немецкая армия вступила в Париж. В его лице мы с Симоной потеряли бесценного друга, а Франция — благороднейшего из своих сыновей. Он был рыцарем. Зарабатывая огромные деньги, он употреблял их на содержание бесплатных больниц и спасал своими операциями тысячи обреченных. Однажды, сделав операцию, которую никто, кроме него, делать не умел, он спас жизнь своему врагу, долгие годы донимавшему его завистью и ненавистью. Ничто так убедительно не доказывает величайшую растерянность французов перед надвигающейся катастрофой, как отказ от жизни столь мужественного человека, каким был Тьерри де Мартель. Во время отступления из Фландрии на крыльце дома у дороги я увидел старуху крестьянку. Провожая глазами поток беженцев, она горестно сказала, обращаясь ко мне: — Какая жалость, капитан!.. Такая великая страна… «Какая жалость», — подумалось мне, когда я узнал о смерти Мартеля. У меня опускались руки при мысли о том, какие замечательные люди (а во Франции их было немало) дошли до отчаяния, какая богатая культура стояла на краю гибели, — и все из-за того, что мы могли, но не построили вовремя каких-то пять тысяч танков и десять тысяч самолетов. Купив, что нужно, мы с женой прошли пешком до Дома инвалидов — из всех архитектурных красот Парижа мы больше всего любили стройный фасад и купол этого здания. Потом по набережным дошли до собора Парижской богоматери и острова Сен-Луи, отсюда через площадь Вогезов вернулись обратно. Мне пора было ехать в Бюк, и, так как по дорогам сплошным потоком шли беженцы, приходилось спешить. Мы в последний раз постояли вместе на балконе нашей квартиры в Нёйи, которую так любили, в последний раз полюбовались на Булонский лес, Триумфальную арку и холм Валерьен, напоминавший своими кипарисами Италию. Потом мы обнялись. Кто знал, увидимся ли мы вновь. — Я была безмерно счастлива все эти пятнадцать лет, — сказала Симона. Она проводила меня вниз и стояла под каштанами на бульваре Мориса Барреса до тех пор, пока увозившая меня машина не скрылась из вида. К моему величайшему удивлению, до аэродрома я добрался без проблем: мириады машин, покидавших в этот день Париж, двигались на юг, а не на запад. У выхода на летное поле караульный сержант тщательно проверил мои документы. — Немцы в тридцати километрах, господин капитан, — сказал он. Это было совсем близко, но он оставался спокоен и, как парижские продавщицы, до последней минуты аккуратно исполнял свои обязанности. Английский самолет, который должен был меня забрать, еще не прилетел. Я сел на траву и стал ждать. Стояла удушающая предгрозовая жара. Я заснул, и мне приснилось детство, ветвистая сирень в Эльбёфе и белорозовые анемоны, поникшие у меня в руках. Проснулся я от какого-то шума: на посадку шел огромный «Фламинго». Из него вышел лорд Ллойд[308]. Мы были знакомы, и я подошел пожать ему руку. — Вот прилетел встретиться с Рейно, — сказал он. — Вы не знаете, он в Париже? — По-моему, да… В Лондон я должен был лететь на его великолепном самолете, но, когда пилот включил двигатели, оказалось, что один винт не работает. — Вот так мы и воюем! — в ярости прошипел молодой летчик после двадцатой попытки заставить винт вращаться. В это время приземлился другой «Фламинго», не такой презентабельный, но зато исправный, и меня пересадили в него.
3. Тарпейская скала[309]
But break, my heart, for I must hold my tongue.[310]Я летел в Англию и, глядя, как подо мной проносятся облака и волны, подводил итоги. Они были страшны. Франция повержена и не сможет продолжать бой, если Америка и Англия прямо сейчас не помогут ей подняться. Я видел разбитую, отступающую армию, дороги, запруженные бегущими от смерти людьми. Сколько потребуется времени, чтобы из обломков построить новую армию? Или надо смириться с тем, что ненасытный враг захватит нашу страну?.. У меня там остались жена и дети; я разлучен с теми, кого люблю. А все дорогие моему сердцу идеалы — свобода, честность, справедливость, доброта, милосердие — будут попраны и преданы забвению. Горечь поражения, растравляемая вражеской пропагандой, вызовет к жизни самые низменные инстинкты и стремления. Где мое место в этом мире? «Если бы самолет упал сейчас в Ла-Манш, — подумал я, — он оказал бы мне неоценимую услугу». Обычный перелет через Булонь и Кале показался пилоту опасным, и мы, взяв курс на запад, вскоре увидели под собой нормандскую равнину и движущиеся по ней немецкие колонны; над Канном мы покинули французское небо. Я успел заметить устье реки Див и кабурский пляж, на котором часто играл в детстве. В самолете капитан Кроуши рассказал, как погиб Гордон, так понравившийся мне когда-то блестящий шотландский офицер из штаба лорда Горта: он попросил перевести его в действующую армию и взял на себя командование батальоном шотландцев. Мое уныние вскоре рассеялось. Приземлились мы на аэродроме в Хендоне, после чего меня проводили во французскую военную миссию, которой командовал генерал Лелон. Прочтя мои командировочные документы, он препоручил меня капитану Брету, моему давнему знакомому, с которым мы отправились в британское Министерство информации. Там я встретил другого моего знакомого, Чарльза Пика из Министерства иностранных дел. — Я думаю, вам надо рассказать англичанам о том, что происходит во Франции, — сказал он. — Вы приехали как нельзя более кстати. Через пять минут у меня начинается пресс-конференция. Вот и расскажете все нашим журналистам. Я попытался отказаться; рассуждать по-английски на такие темы без подготовки… Но Брет, Пик[311] и сэр Уолтер Монктон, оказавшиеся рядом, уже тянули меня на сцену. Тогда, едва переведя дух, в коротких, но жарких фразах я рассказал о нашей катастрофе. — И не в 41-м нам нужна будет ваша помощь, — говорил я, — не через месяц и даже не завтра. Она нужна уже сегодня, прямо сейчас, в эту минуту. — К моему величайшему удивлению, когда я замолчал, триста слушавших меня журналистов встали и принялись аплодировать. — Радуйтесь, — сказал Хэрольд Николсон[312], бывший в министерстве правой рукой Даффа-Купера, — вы сумели расшевелить этих hard-boiled boys of the press[313]. — Да я всего лишь сказал то, что и так всем ясно… К тому же сказал плохо. — Вы не правы. У нас еще далеки от понимания трагизма вашей ситуации. То, что вы сказали, вам надо повторить по радио для всей Англии, а затем для доминионов и Америки. Вслед за тем Николсон и Пик повели меня к Даффу-Куперу. Договорились, что выступать по радио я буду вечером и скажу то же, что уже говорил; British Broadcasting Corporation[314] предоставит мне для этого свое лучшее время: Post-Script to the News[315] в 21.15. «Не в 1941 году, не будущей осенью и даже не через месяц мы ждем помощи от друзей: мы ждем ее сейчас. Мы знаем, как храбро сражались английские армия и авиация, мы знаем, что они сделали все возможное. Настало время сделать невозможное. Мы верим в наших британских союзников. Мы знаем, что они готовы пожертвовать всем ради победы. Но мы просим их понять также, сколь дорого время. Вспомните Дюнкерк. Вы считали, что невозможно за несколько дней эвакуировать из полуразрушенного порта более тридцати тысяч человек. Оптимисты говорили: можно и пятьдесят тысяч. Но в действительности было спасено триста тридцать пять тысяч солдат. Каким образом? На этот вопрос лучше всего ответите вы сами, потому что сделали это вы… Если вы вспомните, какие чувства руководили вами тогда, то вы выиграете сражение, вы выиграете всю войну. Для Дюнкерка вы не пожалели всех своих судов. Не пожалейте для нас людей, пушек и самолетов. Давайте вместе попросим Америку, готовую прийти нам на помощь, сделать за два месяца то, что в нормальных условиях можно сделать за два года. Специалисты намскажут, что невозможно за несколько недель экипировать, обучить и перебросить на другой материк большую армию. Это и в самом деле невозможно, но это надо сделать, и это будет сделано…»Шекспир
Я был движим любовью к истерзанной, поруганной Франции и страстным желанием ее спасти. Но английские генералы считали, что бросить все силы в уже проигранную битву — значит заведомо обречь себя на поражение в будущем; изменить же настоящее все равно невозможно. Они берегли свои истребители, которые одни только и могли спасти Англию, нависни над ней опасность. Во Францию они отправили лишь несколько войсковых частей и несколько эскадрилий. Но это было все равно что пучком соломы затыкать пробоину, в которую хлещет вода. Когда я почувствовал, что они руководствуются принципом «Англия прежде всего», то сразу понял, что на сегодняшний день Франция обречена. Тогда меня охватила безысходная тоска и горечь. Но будущее показало, что заблуждался я, а англичане видели дальше. Спасти Францию было не в их силах, но они могли еще спасти Англию, и именно Англия помогла потом Франции подняться. Стратегия английских генералов по прошествии страшных лет оправдала себя. Но французу, метавшемуся в безысходности и сомнениях, она казалась в то время эгоистичной. Английский народ, не посвященный в стратегические планы правительства, всем сердцем откликнулся на мой призыв. После выступления по «Би-би-си» ко мне хлынул поток писем. «Мы хотим помочь Франции. Что мы можем сделать?» — спрашивали люди. Меня поражало сочетание готовности протянуть руку, безграничного великодушия и абсолютного незнания, что такое современная война. Когда я рассказывал о мытарствах беженцев, о кровопролитных сражениях, о стертых с лица земли деревнях, то на меня смотрели, как на пришельца с другой планеты. Общественность стала требовать от правительства принятия радикальных мер для помощи французам. К сожалению, готовность помочь не может заменить ни танков, ни самолетов. — Все это очень трогательно — и письма, и визиты англичан… — сказал я Дафф-Куперу и Николсону. — Но что вы конкретно можете нам дать? Лица их приняли серьезное и скорбное выражение. — Мы уже отправили к вам канадскую дивизию, — вздохнули они. — У нас больше нет войск для континентальной войны… И нечем заменить погибшую во Фландрии технику. Мы можем послать вам несколько эскадрилий, но это символический жест. Вы не менее нас заинтересованы в том, чтобы английские порты и авиазаводы были хорошо защищены… Если бы вы продержались до 1941-го… Увы, я слишком хорошо понимал, что на французской земле мы до сорок первого не продержимся.
Послом Франции в Лондоне был тогда Шарль Корбен, проявивший в этот трудный для всех нас период истинное благородство и мужество. Я сказал ему: — Странно все-таки, что на десятый месяц войны у Англии все еще нет армии. — Надо тем не менее отдать им должное, — возразил посол. — Англичане безукоризненно выполнили взятые на себя обязательства. Для формирования британских дивизий были установлены определенные сроки, и они в эти сроки уложились. Мы сами виноваты, что не запросили у союзников столько же дивизий, сколько в 1914-м. Во всяком случае, теперь мы стоим перед фактом: больше, чем получили, мы у них не просили. Басня об обороне и укрепленных рубежах усыпила наших министров… да и генералов тоже. Утром 13 мая газеты сообщили о том, что немцы подошли к Парижу. Я грустно листал «Таймс», как вдруг зазвонил телефон. Это была фрейлина королевы; она сказала, что меня желает видеть Ее Величество и я должен прийти к одиннадцати часам в Букингемский дворец. Мы с женой не раз встречались с герцогом и герцогиней Йоркскими в те времена, когда они еще не были королем и королевой. Я виделся с ними в Лондоне у миссис Гревилл и в Париже у Фиппсов. Говорить с герцогиней было необыкновенно приятно; она хорошо знала французский, прочла множество наших книг и в суждениях о них выказывала изысканный вкус. Она приглашала меня на коронацию и позже, приезжая в Париж, неизменно находила повод выразить нам свою симпатию. Но чем я мог заслужить подобную честь теперь, я понятия не имел. Букингемский дворец с рослыми и одетыми в красную форму гвардейцами у входа, с историческими картинами по стенам и бамбуковой мебелью все еще хранил викторианский дух. Сэр Александр Хардиндж проводил меня к королеве. Она была, как всегда, прекрасна. На столе стояла огромная корзина пунцовых роз. — Месье Моруа, — сказала она, — я хотела вам выразить мою искреннюю печаль в связи с положением в Париже и мою горячую симпатию к французам, переживающим трагическое время… Я так люблю Францию… Два года назад, когда мы ездили в Париж, я почувствовала, что сердца французских женщин так созвучны моему… Сегодня вечером я хотела бы обратиться к ним по радио. Не согласитесь ли вы написать для меня текст выступления? Я ответил, что всегда к ее услугам, но что, может быть, Министерство иностранных дел… — Нет-нет, — решительно возразила она, — министерство, разумеется, напишет мне замечательную речь, но это будет речь королевы. А я хочу быть женщиной, которая обращается к другим женщинам. Я объясню вам, что хочу сказать, вы вернетесь в отель, напишете речь и принесете ее мне. Отель «Дорчестер», где я жил, находился от Букингемского дворца в двух шагах. Час спустя я принес королеве готовую речь. И снова сэр Александр Хардиндж проводил меня. Королева прочла текст и сказала: — Это именно то, что я хотела. А теперь давайте репетировать. Сначала прочтете вслух вы, затем я. Будем тренироваться, пока не выйдет совсем хорошо. Я начал читать. В тексте была следующая фраза: «Страна, взрастившая таких замечательных мужчин, чтобы ее защищать, и таких замечательных женщин, чтобы ее любить, не может погибнуть». В одном месте королева сделала ошибку в произношении. — Простите меня, — остановил я ее, — но тут нужно произнести «з». — Странно. Моя французская гувернантка учила меня, что этот звук в конце слова не читается, — удивилась королева. — Здесь особый случай… И вдруг вся эта сцена, пунцовые розы на столе, портрет королевы Виктории, взволнованное лицо нынешней королевы — все показалось мне диким. «Да что же это? — подумай я. — Мою страну захватил враг, жена скитается бог знает где, мать и дочь в оккупированном Париже… Завтра немецкие офицеры ворвутся в мой дом, завладеют моими архивами… Сердце рвется на части! А я сижу тут с английской королевой и обсуждаю тонкости фонетики!» Пришлось, однако, взять себя в руки и продолжать репетицию. Внимательность королевы придала мне сил. Доведя свой монолог до совершенства, она принялась расспрашивать меня о том, что я видел на войне, о жене и детях. Ее глаза, в которых стояли слезы, выражали столь подлинное человеческое сострадание, что я был тронут до глубины души. «Месье Моруа, — сказала королева, — я знаю, что вы потеряли все. Но даже когда все потеряно, остается еще так много, не правда ли?» Она была права. Осталась маленькая, хрупкая, но стойкая надежда. В моей беседе с королевой, состоявшейся в один из самых драматических моментов истории, о котором я много раз писал позднее, была странная, ошеломившая меня смесь абсурда и задушевности. На следующий день я получил письмо от фрейлины с выражением благодарности Ее Величества. К письму была приложена коробочка, а в ней — ониксовые запонки с инкрустацией из крошечных бриллиантов: вензель «Е» (Елизавета). Я до сих пор любовно их храню. В тот момент, когда лакеи в красных, расшитых золотом ливреях вводили меня в пышные залы Букингемского дворца, всего богатства у меня было — военная форма, две рубашки да несколько франков. В 1939 году по приказу министерства финансов я перевел во Францию все гонорары, ждавшие меня в Англии и Америке, так что за границей у меня не было ничего. Новости из Франции меж тем приходили все более тревожные. 15 июня я уехал на уик-энд в Мальборо к моим друзьям Фиппсам. У них я, как всегда, нашел полное доверие и полное понимание. Но когда 17 июня, в понедельник, я услышал по радио, что Франция запросила перемирия, я закрылся в своей комнате, бросился на кровать и зарыдал как ребенок. В моем дневнике той поры я читаю: «Дружеская забота Фрэнсис и Эрика немного утешила меня. Новости ужасны: линия Мажино обойдена с тыла; Рейно подал в отставку…
18 июня. — Каждый день спрашиваешь себя, неужели может быть еще хуже, чем сейчас? И тем не менее каждый день приносит все более печальные новости. Сегодня маршал Петен попросил перемирия, но согласился на условия, которые ставят страну в отчаянное положение; о том, чтобы обеспечить отход английских войск, даже речи нет. Безрадостно все это». В те дни англичане еще не озлобились на несчастную Францию. Фиппсы изо всех сил старались меня ободрить. Когда же я вернулся в Лондон, то лорд Уинтертон, леди Диана Дафф-Купер, Хэрольд Николсон, чета Эмери, Десмонд Мак-Карти и Реймонд Мортимер проявили чудеса деликатности и любезности. Прохожие на улицах, завидев мою французскую военную форму, останавливали меня, чтобы выразить сочувствие. Но недоверие рождает неловкость. «А где же ваш флот?» — спрашивали меня с тревогой. Что мог я ответить? Я не знал. Вскоре между Лондоном и Бордо начался обмен упреками. Я совсем потерял голову от этой перепалки, которая казалась мне несправедливой и глупой. Что еще могло быть бессмысленней и пагубней для обеих стран после поражения, за которое они обе были в ответе? Все эти распри были на руку врагу, который своей пропагандой пытался спровоцировать разрыв между союзниками. Я отлично понимал, что Англия была неприятно удивлена и даже оскорблена некоторыми условиями перемирия (я и сам разделял это негодование). Но мне казалось, что единственно правильной позицией Англии по отношению к поверженной Франции была бы сердечная забота воина о своем раненом товарище; такое отношение было бы достойно нашего союза. От Франции я ждал горечи выронившего оружие солдата, обращающего безмолвный призыв к своим счастливым, продолжающим бой товарищам и не теряющего надежду, что однажды он снова вернется в их ряды. Мои чувства разделяли посол Франции Шарль Корбен и советник при посольстве Роже Камбон, оба проверенные друзья Великобритании. Я чувствовал себя как несчастный, которого разрывают на части несущиеся в разные стороны лошади. Никогда в жизни я так не страдал от внутренней смуты и противоречивых мыслей. В течение двадцати пяти лет я изучал Англию и успел полюбить ее традиции и историю. О ее политических ошибках я тоже знал и в мирное время говорил о них открыто. Но я знал также, насколько смелы и мужественны англичане; я знал, что их победа принесет освобождение Франции. Я всей душой надеялся, что оба наших народа снова найдут когда-нибудь общий язык, но не мог отделаться от щемящего предчувствия, что, прежде чем это произойдет, они переживут период мучительных, порой кровавых ссор. Буквально накануне перемирия Уинстон Черчилль решил поддержать кабинет Рейно и предложил объединить оба государства под эгидой единого правительства. Таким образом все французы и англичане имели бы двойное франко-британское гражданство. Ресурсы обеих стран тоже стали бы общими. Будь это предложение сделано на несколько недель раньше, оно могло бы изменить ход истории. Но идея слияния родилась в тот момент, когда Франция, не в силах более сражаться, запросила немедленной помощи: самолетов, танков, артиллерии. Черчилль полагал, что осчастливит Францию своим предложением, удивившим даже английский парламент, который нашел усердие премьер-министра чрезмерным. Увидев, что Франция довольно равнодушно отнеслась к идее слияния, Черчилль оскорбился. Многие англичане оскорбились вместе с ним, а больше всех, пожалуй, самые преданные друзья Франции. — Право, жаль! — признался мне знаменитый критик Десмонд Мак-Карти. — Я был бы счастлив стать французским гражданином. Вместе с ним и с талантливым писателем Реймондом Мортимером мы провели тихий и грустный вечер, во время которого впервые за долгое время я сумел оторваться от устрашающей реальности и вести разговор о вечном. Должно быть, в IV или V веке в захваченных неприятелем галло-романских городах читатели Вергилия и Горация так же коротали свои вечера. Мы говорили о французской поэзии, которую прекрасно знали мои собеседники, читали наизусть Малларме и Валери, Малерба и Расина. Вдруг Десмонд перевел разговор на другую тему. «Мы все понимаем, что над нами нависло множество бед. Во-первых, смерть, но это не так уж страшно. Куда опасней угроза тирании. Наш долг спасти то, что еще можно спасти: доверие, которое мы питаем друг к другу. Сберечь или утратить его — зависит только от нас. Давайте же не забывать, что мы друзья, любящие и добрые. Даже если мы не будем видеться долгие годы, даже если французам будут внушать, что мы, англичане, — чудовища, а англичанам будут твердить, что французы их предали… Давайте будем вспоминать тех французов и тех англичан, про которых мы с уверенностью можем сказать, что их помыслы всегда чисты и благородны. А когда представится случай встретиться, давайте будем добры, намного добрей, чем обычно. В мире так не хватает доброты! Давайте восполним этот недостаток!» Этот вечер, как и другие, которые я провел у Фиппсов или с Морисом Бэрингом, напоминали мне прежнюю Англию. Времена, однако, изменились, и я болезненно это ощущал. Отношения между странами продолжали портиться. Иногда я оказывался в обществе, где был единственным французом, и тогда обстановка напоминала мне Лилль в момент отступления. При моем приближении замирали заговорщически-тихие беседы, я ловил лишь обрывки фраз: «Блокада Франции позволит…» Я ни минуты не сомневался, что англичане будут стойко сопротивляться. Никогда Черчилль не отступит перед Гитлером. Он не уставал клеймить «this wicked man»[316] и его пособника «шакала» Муссолини по радио. Он разъезжал по острову и готовил оборону. При помощи своих советников он затормозил стратегическую политику и взялся за создание новой армии: «the Home Guard»[317]. По всему побережью тысячи англичан рыли противотанковые рвы и ставили колючие заграждения. Хорошо вооруженных дивизий было мало, их держали в резерве, чтобы бросить в зону прорыва. Черчилль не собирался повторять ошибку Гамлена и ограничиваться обороной побережья, он предусмотрел ударный резерв. Не хватало вооружения; его выпросили у Рузвельта. Гигантские суда доставили в Англию американские винтовки, пушки, танки. Я не мог не восхищаться отчаянной решимостью англичан и знал, что если у Гитлера хватит безрассудства сунуться в Англию, то его сюда не пустят. И все же любое сравнение с Францией я считал недопустимым: ведь она не была защищена противотанковым рвом Ла-Манша. В Лондон приехал генерал де Голль. Уже 15 июня Корбен предупредил меня, что ждет его. Но генерала, вероятно, задержал совет кабинета министров. Я восхищался де Голлем с давних пор и был одним из первых французских писателей, кто хвалил его за стиль и четкость мысли (в книге «Искусство жить», 1931). В издательстве «Плон» серией, в которой вышла тогда «Франция и ее армия», заведовал Даниель-Ропс; он-то, прочитав мои хвалебные отзывы, и пригласил меня на обед в обществе тогда еще полковника де Голля. Так что де Голля я немного знал и был расположен к нему всей душой. Воззвания 18 июня я не слышал; прочел его позже в газетах. Мне полюбилась там одна фраза: «Франция проиграла битву; но она не проиграла войну». Насколько это соответствовало моим собственным мыслям! Помню, с каким жаром я проповедовал в частях: «Главная сила армии в ее дисциплине!» Ведь надо было, дожидаясь, покуда раскачаются Англия и Америка, сплотить французов… По правде говоря, теперь я считаю, что старался зря. Разумеется, дисциплина важна, но в истории стран случаются безнадежные ситуации, когда приказам лучше не подчиняться. Лиотей именно так и поступал. Несколько позже и я последовал его примеру, отправившись в Северную Африку. Но в июне 1940 года я исступленно требовал от всех исполнения долга. 21 июня генерал де Голль вызвал меня к себе. Его адъютант лейтенант Курсель явился за мной в «Дорчестер». Меня привели в крошечный кабинетик, где я нашел молодого генерала, потрясшего меня своей уверенностью. Если бы в тот момент он предложил мне стать офицером в небольшой армии, которую он тогда набирал, я бы согласился без колебаний. Но он предложил мне другое. «Я формирую правительственную комиссию, — сказал он. — Хочу, чтобы в ней были вы». Роль моя состояла в том, чтобы выступать перед французами по «Би-би-си». Демобилизованный французской миссией, я устал сидеть без дела в Лондоне и жаждал приносить пользу. Это был подходящий случай вновь включиться в активную жизнь, к тому же на высшем уровне. Вернуться во Францию, как собирались поступить все наши дипломаты, я не мог. Я немедленно стал бы жертвой нацистских законов; кроме того, я вел непримиримую кампанию против самого Гитлера, написал малоприятную для него книжицу об истоках войны тридцать девятого года. Со мной бы быстро свели счеты. К тому же я получил каблограмму, из которой явствовало, что опасность угрожает и моей жене; жить у матери в Дордони ей было нельзя, и она через Испанию пыталась перебраться в Америку. «Вот оно, решение всех моих проблем», — думал я, слушая генерала де Голля. Но в то же время существовали серьезные причины отказаться от этого предложения, столь выгодного для меня лично. Сильнее всех доводов в тот момент была мысль, что только Соединенные Штаты, вступив в войну, помогут Франции и Англии остановить Гитлера. Того же мнения был генерал де Голль; он говорил об этом в своей речи 18 июня. Более того, в Америке у меня была обширная аудитория. Там я мог принести несравненно больше пользы, чем в Англии, где поддержка Черчилля была нам давно уже обеспечена. Общественное мнение Америки определяют университетские преподаватели, писатели и женщины. Именно с этой аудиторией я умел ладить, и она стала бы меня слушать. Я был убежден, что ключ к победе находится в Америке. Мне приходилось также помнить, что моя мать, дряхлая и беспомощная, осталась в Париже. Осталась и дочь. Если я соглашусь выступать по радио, они станут заложницами и жизнью заплатят за мою деятельность. Сыновья мои находились в «свободной зоне», но долго ли продлится эта лжесвобода? И еще кое-что меня смущало: приняв предложение де Голля, я вынужден буду по радио публично обвинить маршала Петена. Меж тем он стар, слаб здоровьем и не может нести ответственность за все. В Лондоне же я достаточно наслушался разговоров, чтобы почувствовать: против Петена готовится кампания. Возможно, другие имели на это право или даже видели в этом свой долг. Но не я. И вот почему. Во-первых, знал я его очень давно и относился к нему с глубоким уважением. В 1917 году я был свидетелем его попыток унять мятежников; в первую мировую он невероятно много сделал для победы. Одно время я состоял в совете Французской службы информации для Соединенных Штатов — Петен был президентом этого совета и всеми силами способствовал дружеским отношениям между Францией и Америкой. В книге «Голые факты» я пересказал некоторые наши беседы. Беседовали мы часто и всегда дружески. Кроме всего прочего, я испытывал к Петену чувство личной благодарности: в 1938 году, когда я был кандидатом во Французскую академию, против меня резко и злобно выступил Луи Бертран, увлеченный фашистскими идеями. «У нас уже есть один еврей в Академии, это Бергсон, — сказал он при нескольких свидетелях, в ярости потрясая щеками. — Принять еще одного — это переходит все границы!» Маршал Петен ответил ему: «Сударь, это неважно. Единственное, что нас интересует, — является ли месье Моруа хорошим французским писателем. А этого, я думаю, вы отрицать не станете». Жорж Леконт[318], пересказавший мне эту сцену, добавил, что заступничество Петена решило мою судьбу. Я мучился, не зная, на что решиться. Политическая сфера давно привлекала меня. И вот мне представился шанс, да еще в той области, которую я считал своей… Я попросил у де Голля сутки на размышление. Ночь я не спал. Всей своей душой, рассудком, волей я хотел сказать «да». Но мне виделся офицер в высокой фуражке со свастикой на рукаве; он входил к моей матери и приказывал: «Следуйте за мной». На следующий день я пошел за советом в посольство. Принял меня Кастеллан. — Возвращаюсь на родину, — сказал он. — Я должен разделить с Францией боль поражения и помочь ей возродиться… С вами, конечно, дело обстоит иначе. Вернуться для вас равносильно самоубийству. Поезжайте-ка вы в Америку, вас там ждут. Ваше присутствие там будет весьма кстати, тем более что у вас есть командировочное предписание Министерства иностранных дел. Вас все равно демобилизовали… Это и есть ваш долг. Во время нашего разговора вошел Роже Камбон. Он собирался остаться в Лондоне. Относительно моего случая он полностью согласился с Кастелланом. В пять часов я явился к генералу де Голлю и, еле сдерживая отчаяние, сказал ему, что принесу Франции и Англии больше пользы, если поеду в Соединенные Штаты (он описал нашу беседу в своих мемуарах). Ни на секунду не кривя душой, я совершенно убежден, что принял в 1940 году мудрое решение и, находясь в Америке, сделал для Франции и союзников то, что никакой другой француз сделать не смог бы. Нелегко мне было принять такое решение, долго еще я мучился потом сомнениями. Когда мы стоим перед серьезным выбором, чаши весов почти всегда уравновешены. С 23 по 30 июня мне много пришлось ходить по разным инстанциям, чтобы получить визу и право на выезд. С американской визой проблем не было. Консул сказал мне: «Мы рады будем видеть у себя человека, который был и остается нашим другом». Разрешения французского посольства тоже добиваться не пришлось, так как у меня было командировочное предписание. Я встретился с Корбеном, послом Франции. Он одобрил мое решение. Сам он готовился к возвращению на родину. Однако с английскими службами возникли некоторые осложнения. Перемирие задело англичан за живое. В паспортном бюро служащий злобно отмахнулся от меня: «We have no ruling for the French»[319]. Благодаря Николсону мне удалось получить место на теплоходе, который должен был переправить в Канаду английских детей. Билет мой стоил пятьдесят два ливра, которых у меня не было. Необходимую сумму мне ссудили мои издатели и литературные агенты. Теплоход отправлялся из Англии 4 июля. Назывался он «Монарк оф Бермьюда». Последние дни перед отплытием я употребил на то, чтобы приобрести штатскую одежду и попрощаться с друзьями. Вместе с Фрэнсис Фиппс и ее сыном Алланом, находившимся в отпуске по состоянию здоровья, мы навестили Мориса Бэринга. Он страдал болезнью Паркинсона, и все тело его сотрясалось так сильно, что дрожала кровать. На плече у него сидела диковинная сине-желтая птица, его любимица. Дрожь хозяина смешивала цвета ее перьев, смазывала очертания, так что на плече у Мориса мы увидели сине-желтое переливчатое облако. Мой друг, верный себе, сказал: «Обстоятельства слишком серьезны, давайте же поболтаем легкомысленно». Потом мы с Фрэнсис пошли гулять на взморье. Все английские пляжи превратились в гигантские строительные площадки. Старая Англия собиралась с силами, в ее победе я не сомневался. Но Франции, увы, предстояло пережить тяжелые времена, прежде чем пробьет ее час. Служба «Би-би-си» попросила меня обратиться к франко-язычным канадцам. Я старательно изложил им причины наших бед: стечение обстоятельств, технические проблемы, местные сложности, длинная череда ошибок и катастроф, которые ничуть не умаляли неоспоримых достоинств Франции.
«Помните ли вы, как сложилась судьба Франции после 1870 года? Страна быстро вернулась к жизни, опираясь на новое поколение необыкновенных молодых людей. В особенности это касалось армии. Новое поколение дало Галлиени[320] и Лиотея, Жоффра[321] и Фоша[322]. Что же послужило толчком для возрождения страны? Возможно, именно невзгоды заставляют человека и целый народ развивать то лучшее, что в них заложено. Благополучие усыпляет душу. Страдание же — суровый, зато надежный наставник. И вы скоро убедитесь, какое яркое и сильное поколение породит растерзанная Франция. Это будет поколение, которому откроются не только внешние, но и самые глубинные причины невзгод их отцов; это поколение увидит опасность политических разногласий, которым приносятся в жертву национальные интересы; они увидят бессмысленность легких побед и важность самопожертвования. В то же время это новое поколение сохранит все лучшее, что достанется им от предшественников. Возможно ли, чтобы Гитлер лишил Францию ее культурного достояния? Даже если он запретит наши любимые книги, помешать матерям рассказывать детям то, что они помнят наизусть, он не в силах. Лафонтен и Мольер, Корнель и Расин, Гюго и Бальзак, Стендаль и Пруст всегда будут живы в наших сердцах. Вчера в Лондоне я до поздней ночи разговаривал о французской поэзии и французском языке с английскими друзьями, которые любят мою страну и наших писателей. Мы находились далеко за пределами Франции, но это был по-настоящему французский вечер, воскресивший лучшие проявления французского духа. Но не только в области литературы и культуры живет французский дух. Настанет день, и мы покажем себя в действии. Невероятное сочетание мужества и доброжелательности, предприимчивости и доброты отличало великих французских колонистов. Не сомневайтесь, что завтра теми же качествами будут отмечены молодые офицеры, которые придут освободить и возродить свою искалеченную родину. Вы лучше, чем кто-либо другой, должны это понимать, ибо именно вы на другом краю земли пронесли через века все то лучшее, чем богата французская нация. Обращаясь сегодня к вам, слышащим меня французским канадцам, я хочу попросить вас о двух вещах. Первое — постарайтесь не судить слишком строго действия несчастной Франции. Она так нуждается в понимании и участии тех, кто ее любит. Помните, что многие тысячи французов остались сегодня без крова и ничего не знают о своих родных и близких, что восемь миллионов женщин, стариков и детей скитаются по городам и дорогам. Постарайтесь воспринимать это без гнева, ведь в вашей стране, к счастью, мир, ваши семьи не знают разлук и вам трудно себе представить, что это такое, когда миллионам людей нечего есть. Не спешите осуждать, а лучше дайте себе слово помогать, чем можете, этим несчастным и протянуть руку гибнущей Франции, чтобы восстановить ее величие. И второе, о чем я хочу попросить вас. Возьмите сегодня с полки вашу любимую французскую книгу и прочтите вслух то, что вам больше всего нравится. Взгляните на изображения знаменитых французских соборов: шартрского или амьенского, везлейского или руанского. Всмотритесь внимательно в портрет скромной темноволосой женщины, написанный Мане, в подернутый утренним туманом берег реки на картине Клода Моне. Вспомните о французе или француженке, которых вы нежно любите. Вспомните череду тополей на берегу канала; старого букиниста на набережной Сены; провинциальный городок с белыми домами, закрытыми ставеньками, аспидными крышами; вспомните запах глицинии на залитой солнцем тихой улочке; вспомните какую-нибудь глубокомысленную певучую фразу Шатобриана или Барреса, и бледное небо Иль-де-Франс, и мелодичный французский голос — и на это короткое мгновение Франция будет жить в вашем сердце, как живет она в эту минуту в сердцах многих и многих французов, страдающих ради нее и горячо ее любящих».
Среди ночи — последней, которую я провел в «Дорчестере», — меня разбудил вой сирены. Самолеты Геринга забрасывали Лондон бомбами. В случае воздушной тревоги всем надлежало спуститься в подвал. Там я тихонько сел в углу, где меня и нашла прекрасная Диана Дафф-Купер. «Что вы здесь делаете совсем один?» — спросила она смеясь. Она взяла меня за руку и увлекла к группе мужчин в халатах и женщин в розовых и белых пеньюарах. Ее муж в это время беседовал с какими-то офицерами. «Посмотрите, кого я нашла», — сказала Диана, указывая на меня. Ах, как мне было жалко покидать таких замечательных друзей. На теплоход я сел в Глазго. Как сон вспоминаю теперь населенное детьми судно, переносящее меня в Канаду. Было что-то ирреальное в этой плавучей детской площадке. На палубах копошились маленькие человечки, кудрявые, белобрысые, чернявые. Они возились, смеялись, галдели, лазали по тросам и мостикам, падали, плакали и снова смеялись. На малышах было что-то вроде сбруй, какие надевают на пони, и матери могли привязать к стулу или держать в руке поводья целой упряжки. Каюту делил со мной восьмилетний мальчуган Адриан, путешествовавший совсем один. Он был сдержан и исполнен достоинства. Воспитывался он в английской школе и с раннего детства был приучен к тому, чтобы самостоятельно регулировать свой распорядок дня. Робостью Адриан не отличался, но и дерзким не был. Все для себя он норовил сделать сам: сам залезал на верхнюю полку, довольно высокую; сам принимал по вечерам холодный душ, а утром старательно складывал свою пижамку и прятал ее под подушку. Он был очень чистенький, аккуратный и вообще славный парнишка. Родители его жили в Сиаме. В Глазго Адриана привез его дядя и дал ему семь шиллингов и шесть пенсов. Для малыша это было целое состояние. У меня денег было не больше, правда, я экономнее их тратил. В судовом киоске Адриан то и дело покупал карандаши, свистки, конфеты, так что, когда он попал в Канаду, у него оставалось только пять шиллингов. Он очень переживал, что в Шотландии ему пришлось расстаться с велосипедом, зато он успел прихватить с собой карманный фонарик и, просыпаясь по ночам, гордо освещал нашу каюту. Судно, на котором мы плыли, сопровождали крейсер «Ривендж» и два миноносца, защищавшие нас от плавающих в океане немецких подводных лодок. Однажды на нижней палубе вывесили официальное сообщение о прискорбных событиях в Мерс-эль-Кебире[323]. Из всех несчастий, обрушившихся на Францию за последние несколько недель, это показалось мне самым ужасным. Будучи французом и преданным другом Англии в течение двадцати лет, я чувствовал себя ребенком, чьи родители разводятся: дитя цепляется за мать, но тяжело переживает разлуку с отцом. Сердце говорило мне: «Му country, right or wrong»[324]. Но ум оплакивал ставший очевидным разрыв между нашими двумя народами, которые так нуждались друг в друге. Опершись на парапет, я долго смотрел на море, изрисованное пенистыми прожилками, и на огромный крейсер, беззвучно скользивший рядом с нами. Сострадая моей боли, английские пассажиры проходили мимо меня молча. Вдруг мне вспомнились слова Десмонда Мак-Карти: «Что бы ни случилось, давайте не забывать, что наши друзья преданы нам». И я, сам того не замечая, принялся нашептывать слова старой шотландской песенки: «Should auld acquaintance be forgot…»[325] В башне «Ривенджа», наверху, блеснул огонь — это были световые сигналы, длинные и короткие, передававшие нам таинственное сообщение. На борту кроме меня находилось еще несколько французов: дипломат и поэт Алексис Леже[326], знаменитый журналист Анри Жеро (Пертинакс) и его жена. Еще с нами плыл английский писатель, чьи книги я высоко ценю, Норман Энджел[327]. Он, как и я, направлялся в Соединенные Штаты читать лекции. Иногда я вставал на заре и в течение часа, пока палубу еще не захватили дети, сидел в шезлонге и наслаждался безмолвной красотой океана. Стремительный черный «Ривендж» даже в этот ранний час не прекращал своего светового монолога. Вокруг него, как собаки вокруг хозяина, носились два миноносца; время от времени один из них уплывал куда-то, охотясь за призрачной подводной лодкой. Как-то раз, когда я вот так сидел на палубе, ко мне подсел Норман Энджел. — Я узнал, что вы тоже плывете на этом корабле, и решил поговорить. В этой ужасной французской трагедии для меня много непонятного. Я не о поражении говорю, тут все ясно, оно объясняется плохой подготовкой наших стран и неверной стратегией… Меня удивляет упадок морального духа. Если это не слишком тягостная для вас тема, я хотел бы задать вам несколько вопросов… — Задавайте, — ответил я. — Тема, разумеется, тягостная, но от собственных мыслей все равно не спрятаться. Энджел лег на соседний шезлонг и задал первый вопрос: — Действительно ли боевой дух французской армии и народа в 1939 году был ниже, чем в 1914-м, действительно ли ослабла воля к победе? — Многие наши части самоотверженно сражались, в целом же воля к победе и в самом деле слабее, чем в 1914-м. — Но почему? Ведь сейчас, как и тогда, от победы зависит судьба Франции, а опасность сейчас даже больше. — Все верно. Но нельзя не учитывать, что общество было едино в 1914-м и совершенно разобщено в наши дни. — Если не ошибаюсь, в этом смысле Франция разобщена с 1793 года? — Шатобриан считал, что террор — это кровавая пропасть, заполнить которую невозможно. Воспоминания о революции и в самом деле надолго определили французскую политическую жизнь. В 1914-м партии искренне примирились друг с другом перед лицом врага. В течение четырех лет социалисты и капиталисты, радикалы и монархисты считали себя братьями. Идиллия кончилась с восстановлением мира. Русская революция пробудила великие надежды среди рабочих и великий страх среди буржуазии. Некоторая часть буржуазии по глупости решила, что фашизм защитит ее от угрозы коммунизма. Московскому правительству противостояли, но лишь до времени, авторитарные режимы Рима и Берлина. С каждой стороны на пропаганду расходовались колоссальные средства, за французский народ шла борьба. Новая пропасть, разъединившая французов, была делом чужих рук. — Но ведь и в 1914-м… — В 1914-м не существовало идеологической пропаганды; к 1939 году она уже пять или шесть лет как шла полным ходом и чертовски ловко работала. А в демократическом обществе все определяется общественным мнением, без которого никуда не деться. Теперь посмотрите, что происходило во Франции, в Англии и Америке: во всех трех странах общественное мнение впало в заблуждение — или же его методично вводили в заблуждение. Общественность не почуяла опасности и слишком поздно поняла, что вооружаться необходимо. — Но ведь есть политические лидеры, которые должны направлять народ. — К сожалению, вместо того чтобы направлять, политические лидеры взяли за правило спрашивать совета. Они заискивали перед общественностью, интересовались ее мнением, пытались понравиться и одновременно убедить ее, что для страны гораздо заманчивей жить, чем погибнуть. Что касается военных лидеров, то они зависели от политиков и не решались ни противоречить им, ни торопить их. Не получая конкретных распоряжений, ученые и исследовательские группы тоже не торопились с работой. Ни о каких сроках никто у нас не думал. А Гитлер думал. «Я хочу быть в Париже к 15 июня, — говорил он. — Значит, в начале мая я должен перейти в наступление. Соответственно, к началу апреля мне нужны новые танки». Готов план, и попробовал бы кто-нибудь его не выполнить! А что у нас? «Сколько вам нужно времени, — спрашивали у экспертов, — чтобы начать производить столько-то самолетов или столько-то танков в месяц?» Те наугад называли сроки, которые и брались за ориентир. Весь наш календарный план строился задом наперед. Военные действия определялись техническими возможностями, хотя на самом деле промышленность должна была бы работать, учитывая военные планы! И вот результат: решающую битву мы готовили к 1942 году, а она произошла в 1940-м. Норман Энджел закурил и некоторое время молчал, наблюдая за чайками, которые, покружив над кормой, опускались на воду и лениво качались на волнах. Потом сказал: — Какие, собственно говоря, свободы мы хотим сохранить любой ценой? Мы хотим, чтобы закон был един для всех, что обеспечивает всем равные возможности. Мы хотим, чтобы все имели свободный доступ к источникам информации (именно в этом суть свободы мысли). Мы хотим, чтобы каждый имел право свободно высказывать свои суждения при условии, что они не нанесут ущерб государству, предоставившему эти свободы. И наконец, мы хотим иметь возможность изменять состав правительства, если такова будет свободно высказанная воля большинства. Вот, по-моему, и все… — Все, — согласился я, — но это не означает, что государственные деятели, прежде чем что-либо предпринять, должны советоваться с общественным мнением, как с оракулом. Страна не станет менее свободной, если лидеры, избранные свободным волеизъявлением, перестанут спрашивать разрешения на каждый шаг. Если бы в 1936 году английским министрам хватило мудрости не считаться с общественным мнением и поддержать Францию на берегах Рейна, мы бы сейчас не воевали. Солнце тем временем уже поднялось, и кудрявые карапузы высыпали на палубу; под стулья и шезлонги покатились мячи. — Или вот, к примеру, мячики, — сказал Норман Энджел. — Если бы мы предоставили играть в мяч детям, возможно, мы бы серьезней отнеслись к нависшей над нами опасности. Но от фактов никуда не денешься: вместо того чтобы смотреть в лицо суровой реальности, требовавшей от нас усилий и мужества, мы на протяжении долгих лет предпочитали играть в игры. Англия ни о чем и думать не хотела, кроме как о крикете и футболе. Штаты занимались исключительно бейсболом и кино. Франция — своими внутренними неурядицами и литературными кружками. Спорт и искусство — достойные сферы приложения сил, когда не нужно думать о безопасности, но уделять им столько внимания, когда жизненные проблемы ждут своего разрешения, — это какое-то коллективное безумие… Политика, и та превратилась в спорт. Но ведь речь-то идет о жизни, и, когда дорога каждая минута, не время всем вместе валять дурака… Пока наши дети млели от голливудских хэппи-эндов, юные немцы строили реальный мир. И счастливой развязки ждать не приходится. Энджел встал. — Время завтракать, — сказал он. — Овсяная каша и омлет с ветчиной — тоже реальность, и я не хотел бы ею пренебрегать. Оставшись один, я долго размышлял о нашем разговоре. Потом взялся за карандаш и на обложке книги, которую читал и которую до сих пор храню, написал:
Быть сильным. Народ, не готовый до смерти отстаивать свою свободу, потеряет ее.
Действовать быстро. Десять тысяч самолетов к сроку значат больше, чем пятьдесят тысяч после сражения.
Направлять общественное мнение. Лидер должен вести, а не быть ведомым.
Поддерживать единство нации. Партии подобны пассажирам на борту корабля; если они начнут его раскачивать, утонут все.
Оберегать общественное мнение от влияния иностранных правительств. Отстаивать идеалы — законно; брать на это деньги из-за границы — преступно.
Немедленно противостоять всякому противозаконному применению силы. Даже побуждение к применению силы преступно.
Оберегать молодежь от всякого влияния, способствующего разобщению страны. Страна, не ищущая единства, совершает самоубийство.
От власть предержащих требовать высокой нравственности. Любой порок на руку врагу.
Свято верить в идеалы и правильность того образа жизни, за который сражаешься. Только вера формирует армию; армию и оружие. За свободу надо сражаться еще более страстно, чем за тиранию.
Тут ко мне подбежал Адриан и протянул окровавленный палец. «Я порезался, — сказал он. — Вы умеете бинтовать?» Я бросил свои записи и принялся помогать ему.
4. AMICA AMERICA[328]
Душа наша должна проявлять себя не напоказ, но втуне, в глубинах, куда никто не заглядывает.12 июля я прибыл в Галифакс и уже на следующий день поездом добрался до Монреаля. На перроне меня ждали репортеры; они заговорили со мной по-французски с тем легким нормандским акцентом, за который я так люблю речь французских канадцев. Среди репортеров я неожиданно увидел свою жену, с которой расстался в Париже 10 июня и с тех пор ничего о. ней не знал. Я даже не предполагал, что она в Канаде, ведь предупредить ее я не мог. Как описать нашу радость — ведь мы думали, расставаясь, что никогда больше не увидимся. Она рассказала, что с ней произошло. Покинув Нёйи на рассвете 11 июня, Симона влилась в сплошной поток машин, который перетекал из Парижа в Орлеан со скоростью пешехода. На подъезде к Дурдану вдруг в три волны налетели немецкие самолеты и принялись расстреливать колонну из пулеметов. Жандармы заставили жену и ее спутников спрятаться в кювете и поступили мудро. Рядом с ней ранило двух детей — одного в плечо, другого в ногу. Слава Богу, никого не убило. Ночевала она во Вьерзоне, не выходя из машины, разделив участь множества семей, у которых не было теперь другого пристанища, кроме автомобиля. К вечеру следующего дня она все-таки добралась до своей матери. Дом в Дордони приютил более ста беженцев. Оттуда Симона пыталась связаться с Лондоном, где я тогда находился, но все ее телеграммы оставались без ответа. Через пять дней, охваченная беспокойством, она поехала в Бордо и застала там душераздирающую картину: агонизирующее общество. Административный костяк Франции, казавшийся нам столь прочным, не выдержал немецких бомбардировок. Так и не добившись господства в воздухе, правительство теряло господство на земле. На беспорядки полиция уже не обращала внимания. К президенту Государственного совета, равно как и к президенту Республики, в Бордо входили без доклада. Послы в растерянности метались по лицею, где обосновались службы, обязанные сообщать, в каком из окрестных замков надлежит расположиться тому или иному посольству. Унизанные жемчугами посольские жены обливались потом в своих «роллс-ройсах» на аллеях Турни. Среди всей этой суматохи Симонавстретила одного нашего друга, министра, который поведал ей о том, что Поль Рейно собрался в отставку, а новое правительство намерено просить перемирия. — А я полагала, что война будет продолжаться в Северной Африке, — сказала Симона. — Такова была программа Рейно, но он не получил поддержки совета министров: за него проголосовало только десять человек и тринадцать — против… Он, должно быть, сейчас у Лебрёна. Мне кажется, он все еще надеется, что до перемирия не дойдет и его снова вернут на пост. Только это иллюзия. Перемирие будет подписано, и немцы будут здесь через неделю. Так что вам лучше уехать. — Но куда же? — растерялась жена. — Мужа в Лондоне, наверно, демобилизовали… Может, ему удастся вернуться во Францию? — Это вряд ли… Не так-то просто сейчас перебраться из Англии во Францию. К тому же легко себе представить, что станет с вашим мужем у немцев. Тут уж, знаете…Монтень
Симона не забыла, что в октябре я собирался читать лекции в Штатах и очень серьезно относился к этой работе; помнила она и про командировку Министерства иностранных дел. Она правильно рассчитала, что в сентябре я попытаюсь приехать в Бостон. Желая удостовериться в этом, она послала мне еще одну телеграмму и, опять не получив ответа, решилась плыть в Америку и ждать меня там. Имея при себе письма Института Лоуэлла, она быстро получила визы и без сожаления покинула Бордо, с отвращением вспоминая своих беспечных соотечественников (увы, многочисленных), потягивающих славные старинные вина под обветшалыми сводами «Шапон-фина», в то время как Франция доживает последние дни. Вечером 17 июня, переправляясь из Андая в Ирун, жена увидела на пароме плачущих французских таможенников. — Как же это случилось, мадам? — спрашивали они. — Почему мы сдались? Разве нельзя было воевать дальше? Хоть бы кусочек нам оставили от прежней Франции… Неужели правда, что они дойдут и досюда? После всего, что ей довелось увидеть в Бордо, этот патриотизм простых людей согрел Симоне душу. В Лиссабоне при содействии Котнараню (тогдашних владельцев «Фигаро») Симоне удалось 25 июня сесть на корабль «Янки Клиппер», который доставил ее в Нью-Йорк. Оттуда жена послала мне каблограмму на адрес французского посольства в Лондоне. Я ответил сразу же, но мог сообщить только, что приеду. Ничего, кроме этого, английская цензура не разрешила мне передавать: ни даты отплытия, ни названия судна, ни порта, куда я приплыву. Из американских газет Симона узнала, что меня ждут в Канаде. И в день моего приезда встречала меня в шесть часов утра на Виндзор-Стейшн в Монреале. К счастью вновь обрести друг друга примешивалась горечь за нашу несчастную Францию. — А ведь сегодня 14 июля, — сказала жена. — Помните, в прошлом году, в Париже?.. Какой замечательный был парад на Елисейских полях. Как мы были счастливы, как гордились! За окном монреальской гостиницы плескались трехцветные знамена. Французские канадцы были верны традиции. «Ах, если бы и Франция могла быть себе верна», — подумал я. Оставаться в Канаде мы не могли. Деньги у меня кончились, а у Симоны было всего несколько долларов; их едва хватило на два билета до Нью-Йорка. Там я надеялся кое-что заработать, чтобы прокормить нас обоих. Робер Шокетт, наш приятель, организовал мое выступление по канадскому радио, после чего мы отбыли в Нью-Йорк. В поезде жена преподнесла мне сюрприз. Я собирался писать заметки для своих лекций, как вдруг слышу: — Можете мне их диктовать. — Но вы же не знаете английской стенографии… — Я выучила ее. За время войны. Это новое умение Симоны очень пригодилось нам в Соединенных Штатах. Встреча с Нью-Йорком пробудила в нас по контрасту дивные воспоминания о поездке предыдущего года. Но к горечи за Францию добавилась новая боль: многие американцы враждебно относились теперь к нашей родине. В Америке нас изумила неизвестно кем развернутая кампания: французских солдат обвиняли в том. что они отказываются воевать. Но ведь я сам был в армии и видел наших генералов; я видел ошибки командования и героизм солдат. Я знал, что причина поражения не в малодушии, а в малой подготовленности, в неверной стратегии. Если уж искать виноватых, то в Англии и Америке их было не меньше, чем во Франции. К счастью, в Нью-Йорке мы не знали недостатка в друзьях. Мой издатель Харпер выдал мне в счет будущих публикаций небольшую сумму денег, а президент Французской торговой палаты Пьер Картье предложил крупный кредит. Однако влезать в долги не хотелось. Кларенс Диллон, известный банкир (он был отцом Дугласа Диллона, будущего американского посла в Париже), на второй день прислал мне в подарок великолепное издание Бэкона с надписью: «Первая книга вашей будущей библиотеки». Нам с женой нужно было где-то жить. Нелепость ситуации заключалась в том, что, несмотря на крайнюю бедность, нам приходилось искать жилье в дорогих отелях, где нас знали. Для начала мы пошли в «Плазу». Потом в «Риц-Тауэр» (что на углу Пятьдесят седьмой улицы и Парк-авеню); там нам предложили маленькую квартирку на восемнадцатом этаже, проявив при этом сказочную любезность. — Мы знаем, что у беженцев нет денег, — сказали нам. — Рассчитаетесь, когда они появятся. И если мадам Моруа желает обставить ваши три комнаты французской мебелью, ей достаточно пройтись по антикварным магазинам. За мебель заплатим мы. Я вновь узнавал открытых, неиссякаемо-сердечных американцев. Наша старинная знакомая миссис Марри Крейн, вдова сенатора и влиятельнейшая в политических кругах особа, пригласила нас за город на наш первый уик-энд. (Второй уикэнд мы провели у Кларенса Диллона, следующий за ним — у Юджина Майера из «Вашингтон пост».) — Сегодня у нас будет Адолф Берл, правая рука президента, — предупредила меня миссис Крейн. — Рузвельт хочет, чтобы он расспросил вас про ваши впечатления об Англии. В самом деле, немного погодя приехал Берл, человек блистательного, острого ума. Главный вопрос, который он для меня приготовил, был следующий: — Насколько вероятно, по вашему мнению, что англичане сумеют дать отпор противнику и не допустят захвата своей территории? Президент хочет знать положение вещей. Дело в том, что у англичан мало эскадренных миноносцев и они просят у нас пятьдесят. Осуществить передачу можно только нелегальным путем (ведь это противоречит нашему нейтралитету). Но если списать миноносцы как старые и непригодные к делу, это может пройти. Вероятно, президент и решится на подобную махинацию, но он бы не хотел, чтобы американские корабли попали в руки нацистов. У него есть официальная инструкция посольства. Непригодность миноносцев должна быть заверена частными лицами. И вами в том числе. Я ответил, что совершенно уверен в стойкости англичан, которые остановят врага любой ценой, и в непреклонности Черчилля. Я собственными глазами видел колоссального размаха работы по возведению оборонительных сооружений. Я лично знал летчиков Королевских военно-воздушных сил и заверил Берла, что у меня нет ни малейших сомнений относительно исхода немецкой кампании: она обречена на провал. — Остальное зависит от вас, американцев, — продолжал я. — Без вашей помощи войну не выиграть. Это также и ваша война. Победа нацизма уничтожит культуру, за которую боролись Вашингтон[329] и Линкольн[330], Вильсон и Рузвельт. — Президент знает это, — сказал Берл, — но он не может пренебречь общественным мнением. На американском Западе и Среднем Западе люди не склонны заниматься европейскими проблемами. В ноябре новые выборы, президент рассчитывает остаться еще на один срок. Впрочем, я уверен, что он все равно даст вам миноносцы. Это будет акт политического героизма. Рузвельт совершил этот акт, обменяв для вида миноносцы на восемь британских военных баз. Он оказал неоценимую помощь Англии, поддержав ее в борьбе с немецкими подводными лодками. В Нью-Йорке меня посетило множество знакомых. Встреча со Стефаном Цвейгом потрясла меня до глубины души. Незадолго до этого он женился на молодой женщине, которую горячо любил, но даже любовь не могла заставить его забыть о своем горе. Я чувствовал приблизительно то же и поэтому очень хорошо понимал его. В Вене его чтили как великого писателя, одного из замечательнейших людей отечества, окружали любовью и восхищением; и вдруг какой-то крикливый, злобный капрал изгоняет евреев, оккупирует Австрию, и Цвейг оказывается вне общества, гордостью которого он являлся. Было от чего прийти в отчаяние. С момента нашей встречи я сразу почувствовал, что эта трагедия закончится самоубийством. Я и сам находился в похожем состоянии, но надежда не покидала меня. Кроме того, я верил, что мои французские друзья меня не забудут. Некоторые, разумеется, отвернутся; но их будет немного и они со временем устыдятся своего предательства. В Нью-Йорке я вновь встретился с семьями Жюля Ромена, Метерлинка, Томаса Манна. Чета Роменов не разделяла моих сложных чувств по отношению к маршалу Петену (я испытывал к нему смесь благодарности, жалости и настороженности) и отзывалась о нем весьма недружелюбно; тем не менее мы прекрасно понимали друг друга и великолепно ладили. У миссис Лэмонт я встретился с Г.Дж. Уэллсом, путешествовавшим в то время по Соединенным Штатам, с Полети, всемогущим нью-йоркским политиком, и с Винсентом Шином. Все они строго судили Францию, и мне каждый божий день приходилось произносить настоящие проповеди в ее защиту. Правда, старался я не зря, потому что мои слушатели искренне стремились понять. Так у меня возникла мысль рассказать как можно более точно все, что я видел за эту войну, объяснить причины нашей катастрофы и подготовить общественное мнение к участию в войне Америки. Я спешно написал несколько статей, которые затем были объединены в сборник «Трагедия Франции». Это было в августе 1940-го. Нью-Йорк изнемогал от влажного, душного лета, и я, садясь за работу, ставил с двух сторон по вентилятору. Статьи вышли в свет и вызвали поток взволнованных писем. «Теперь мы снова можем поднять головы», — писали мне французские моряки, чей корабль был интернирован в одном из нью-йоркских портов. «Я плакала навзрыд, читая ваши статьи, — признавалась в другом письме скромная французская портниха, — но вы вернули мне гордость». Английские читатели, знакомые с реальными фактами, подтвердили, что все сказанное мной о франко-английских взаимоотношениях верно и справедливо. Английский писатель Гренвилл Баркер[331] (он занимался в ту эпоху британской пропагандой в Соединенных Штатах) написал мне: «Какая хорошая книга!.. Какая справедливая, благородная и поистине оздоровляющая книга…» Я процитировал это письмо в числе других, потому что впоследствии, вовсе не из малопорядочных соображений, смысл моей книги постарались исказить. Впрочем, свидетельства генерала Горта должны были доказать непридуманность и выдержанность моего рассказа. После того как статьи были напечатаны, самая известная журналистская ассоциация Нью-Йорка «Dutch Treat Club» пригласила меня выступить с лекцией об уроках войны. Я рассказал о причинах нашего поражения, а потом добавил: «На прощанье мне бы хотелось поделиться с вами нашими надеждами. Несмотря на постигшую нас страшную участь, мы с отчаянным упорством верим в будущее нашей страны. Разве возможно, чтобы сорок миллионов мужчин и женщин, умных, честных, трудолюбивых, в один день изменили свои взгляды только потому, что правительство не подготовило к сроку десять тысяч самолетов и шесть тысяч танков? Никогда еще история не посылала народу более тяжкого испытания. Никогда еще, я в этом уверен, несчастье не поражало более благородных сердец, способных вынести из этого испытания суровый урок. Победа в первой мировой войне усыпила нашу бдительность, сделала легкомысленными. Поражение закалит нас, пробудит наш боевой дух. Кто знает, может быть, наши дети сумеют обратить поражение в победу. Я верю в них. Верю в молодых лейтенантов с линии Мажино, в молодых французских летчиков, горячих и смелых, которым так и не довелось проявить свою доблесть. Вы увидите еще, что это за поколение! Вы еще услышите, как ваши дети с любовью и благоговением будут произносить имя Франции. Старое, засохшее дерево расцветет на ваших глазах будущей весной. Возможно, кто-то из вас помнит чудное стихотворение Киплинга, написанное после Трансваальской войны; каждая строфа там заканчивается припевом:
Меня начали приглашать с выступлениями: в Гарвардский клуб, в Колумбийский университет, в мэрию и в тысячу других мест. Благодаря постоянной работе мы легче переносили удручающие новости, доходившие до нас с родины. Как же больно было вместо цветущей и гордой Франции, которую мы помнили, представлять себе жалкую, беспомощную страну! Довольно скоро под давлением немцев там были введены расовые законы, коснувшиеся старинных французских семей, ветеранов обеих войн, достойных граждан, чьи сыновья отдали жизнь за отечество. Я оказался перед мучительным моральным выбором. — Довольно вам защищать Францию, — говорили мне циники. — Что вам с нее теперь? Все, что она может вам предложить, — это унижение и нищета. Вам нужно демонстративно от нее отвернуться. Ваша популярность здесь сразу возрастет — а это в ваших интересах. К тому же вы ничем не рискуете. Если Франция победит, вы вернетесь домой победителем. Если нет — у вас остается Америка и доминионы. Ребенок, и тот поймет, что для вас выгодно. К сожалению, долг никогда с выгодой не совпадает. Я свой долг видел в том, чтобы служить многострадальной Франции до тех пор, пока это возможно. И твердо решил защищать ее в своих выступлениях. Но защищать не то, что я сам считал достойным осуждения, а французскую культуру, память о тех, кого уже нет, честь нашей армии; я вступался за наших детей, за наших пленных, которым так нужна была помощь Америки. Несколько недель кряду я пребывал в состоянии отчаяния и лихорадочного возбуждения. Моя скованная по рукам и ногам родина казалась мне плененной Андромедой, которую я в юности мечтал полюбить и спасти. А вскоре пришло время доказать, что даже личные обиды не властны над моей любовью. Американская пресса опубликовала телеграмму, в которой сообщалось, что наша старая текстильная фабрика в Эльбёфе подлежит конфискации. «Значит, если бы мой отец был жив, — подумал я, прочтя эту новость, — то ему, человеку, который с маленькой группой помощников создал эту фабрику и всем рисковал ради того, чтобы она осталась французской, ему бы не моргнув глазом заявили, что он не достоин управлять своим детищем!» Мне было горько думать, что новая дирекция наверное сорвет со стены черную мраморную доску с надписью:
Погибли за Францию: КАПИТАН ПЬЕР ЭРЗОГ, Кавалер ордена Почетного Легиона и Креста за боевые заслуги, ЛЕЙТЕНАНТ АНДРЕ ФРЕНКЕЛЬ, Кавалер ордена Почетного Легиона и Креста за боевые заслуги.В тот самый вечер, когда я прочел телеграмму, один американский журналист пожелал взять у меня интервью по поводу этой экспроприации. — Вам станет легче, — уговаривал он меня, — выскажите все, что у вас накипело. — У меня много чего накипело, но только не против Франции! Она не сама совершает эти чудовищные акты — ее вынуждают. За нее я спокоен, она признает своих детей, как только ей дадут вздохнуть. Тем не менее я считал, что маршалу Петену не следовало подписывать унизительные декреты. Возможно, он хотел избежать худшего зла. Может быть, хотел дать евреям возможность уехать, так как прежде всего пострадали бы они. Рене Шамбрён, бывший в ту пору в Нью-Йорке, нисколько в этом не сомневался. Я же сомневался и потому мучился. Из Северной Африки вернулся Сент-Экзюпери и заклинал меня ни единым шагом не способствовать разделению французов. «Поражение поражает в самое сердце, разрушает все, что 302 было выстроено», — говорил он. В книге «Военный пилот» Сент-Экзюпери высказал мысль, что все французы в равной степени виноваты в поражении и не должны перекладывать эту ответственность на других. «Не верьте, что войну можно продолжать в Северной Африке, — объяснял он мне. — Я специально летал туда со своей эскадрильей. Там нет горючего, нет запчастей, а англичане твердят, что помочь нам в этом не смогут. Вести войну в таких условиях означает спровоцировать немцев на оккупацию Северной Африки. Им ничего не стоит добраться туда через Испанию. Но, сохранив Алжир, Тунис и Марокко, мы обеспечим себе будущее. Только бы американцы поняли…» Приблизительно в это же время мне нанес визит мистер Полк, видный адвокат, представитель фирмы «Полк, Дэвис и др.», состоявший некогда в Государственном секретариате и все еще выполнявший роль личного консультанта при Рузвельте. — Я знаю о ваших несчастьях, — сказал он, — знаю, что у вас отобрали фабрику. Но постарайтесь не принимать близко к сердцу, что наш президент оставляет в Виши посольство. Он считает, что Америка и Англия совершат непростительную ошибку, если бросят Францию на произвол Германии и ограничатся нравоучениями или, хуже того, открытым порицанием. Президент считает полезным и мудрым открыто кормить ваших детей и ваших пленных. Сколько тонн мы можем дать? Не так много: сто тысяч тонн… — А если молоко, предназначенное для детей, попадет к немцам? — спрашиваю я. — Это маловероятно. Распределением займется международный Красный Крест. К тому же немцы не заинтересованы в том, чтобы извести все французское население. Если они все же захватят наше молоко, Красный Крест проинформирует нас и мы прекратим поставки. Короче говоря, президент поручил мне посвятить вас в его планы и надеется, что, несмотря на ваше вполне оправданное негодование, вы не будете против. Вы должны знать, что президент давно готов бросить американские военные силы на поддержку Франции и Англии, но он вынужден медлить. Согласитесь, что американское посольство будет оптимальным наблюдательным постом для того, чтобы следить за намерениями Германии и оповещать о них Англию. — Я верю президенту и понимаю его, — ответил я. — Но популярность его заметно снизится. — Президент Соединенных Штатов должен, когда надо, жертвовать популярностью во имя всеобщего блага, — сказал мистер Полк. — Не за горами тот день, когда мы сможем драться с поднятым забралом. Я ответил на это, что намерен по-прежнему выступать в защиту Франции и за участие в войне Америки и что буду терпеливо ждать, когда президент решит, что час пробил. — Со своей стороны, он обещает вам покровительство, так как, ратуя за вступление Америки в войну, вы нарушаете закон. Мистер Рузвельт позаботится о том, чтобы вы и впредь могли продолжать свои выступления. В поддержке я очень нуждался. Комитет «America First Commitee»[332] вел кампанию против Рузвельта и одновременно против вмешательства в европейские дела. В комитет входили пронацисты, ирландцы-сепаратисты, немцы, итальянцы, а кроме них еще действительно убежденные люди, сторонники непротивления. В противовес им существовала другая организация — «Комитет защиты Америки через помощь союзникам», председателем которого являлся один из лучших американских журналистов Уильям Аллан Уайт[333]. Но и он не решался настаивать на военном вмешательстве Соединенных Штатов. «Я сторонник помощи англичанам, — писал он, — ибо это шанс оградить Америку от участия в войне». Он склонялся к политике выжидания. Я упорно призывал американцев к участию в войне, выступая в университетах, колледжах, перед ассоциациями адвокатов, такими как «Брэндис Сосайэти» в Филадельфии. Там я завязал интересные знакомства. Артур Коун, заядлый франкофил, верный и надежный друг, представил меня своим друзьям, членам Верховного суда. 5 ноября я вернулся из Филадельфии в Нью-Йорк, и мы с женой стали внимательно следить за президентскими выборами. Мне было чрезвычайно любопытно наблюдать за американцами в тот момент, когда разыгрывалась партия, от которой зависела политика страны в сложный исторический момент. Я более или менее знал обоих кандидатов; у Рузвельта я бывал дважды: сначала в 1932-м, затем в 1939 году. С Уилки[334], его соперником-республиканцем, меня познакомила Клэр Люс[335]. Уилки был убежденным либералом и в общем-то разделял устремления Рузвельта. Профессиональные политики принудили его отречься от европейской войны. В результате Рузвельту тоже пришлось пообещать американцам: «Ваши сыновья никогда не будут воевать на чужой войне». Он знал, что обманывает своих соотечественников, но был убежден: чтобы защищать правое дело, надо прежде всего удержать власть. В день выборов я был поражен всеобщим спокойствием. Как только по балконам «Таймса» побежали первые цифры, конечный результат стал ясен. Но, независимо от того, выиграли они или проиграли, люди продолжали весело шутить. Когда на следующее утро я сел в такси, шофер, обернувшись ко мне, спросил: — Как вам эти выборы? Пятьдесят пять процентов за Рузвельта и сорок пять за Уилки… Знаете, что это значит? Что с каждой стороны нас приблизительно поровну. Править поперек воли сорока пяти процентов? Невозможно. Придется все решать серединка-наполовинку. Такое здравомыслие удивило меня. Потом оказалось, что это расхожая точка зрения, и тогда я понял, насколько американская демократия здоровее французской. Когда же я услышал речь Уилки о роли демократической оппозиции, то окончательно утвердился в этом мнении. Как я уже говорил, основной целью моего приезда в Америку были Лоуэлловские лекции в Бостоне. Не все, вероятно, знают, что это такое. В 1836 году Джон Лоуэлл, младший отпрыск прославленной семьи, скончался, завещав значительную сумму на учреждение Лоуэлловского института, высшего учебного заведения свободного типа. Ежегодно туда съезжаются ученые и писатели и читают бесплатные публичные лекции, имеющие огромный резонанс. В то время во главе института стоял Лоуренс Лоуэлл[336], который и пригласил меня читать лекции по-французски. В 1939 году, присылая приглашение, Лоуэлл имел в виду лекции по литературе, но теперь, когда я был в Нью-Йорке, он посоветовал мне поделиться впечатлениями о войне. Это вполне соответствовало моему желанию сделать из этих лекций, которые обычно широко комментируются прессой, инструмент политического воздействия. Я был несказанно удивлен, найдя в Бостоне чуткую аудиторию в четыре-пять сотен человек, притом что лекции должны были звучать на иностранном языке. Там были французы: преподаватели, музыканты Бостонского симфонического оркестра; были гарвардские студенты, канадцы, бельгийцы, швейцарцы, русские и много англичан. Мистер Лоуэлл, в прошлом президент Гарвардского университета, был человеком восьмидесяти лет, но поражал юношеской живостью ума. Однажды я заметил ему, что Соединенные Штаты слишком долго готовятся к войне и Германия может застать их врасплох; надо сделать последнее усилие и сделать его сегодня, не дожидаясь завтрашнего дня. — Я с вами не согласен, — сказал он. Изумившись, я спросил: — Когда же, по-вашему, Америка должна сделать это усилие? — Вчера, — ответил мистер Лоуэлл. Он повел меня обедать в «Сэтэди Ланчен Клаб», членами которого являлись Оливер Уэнделл Холмс[337] и другие прославленные бостонцы. В день моего появления там члены клуба отмечали восьмидесятилетие Блисса Перри, преподавателя Принстонского и Гарвардского университетов и Сорбонны; профессор Рэнд произнес блестящий тост на латыни, и я раз и навсегда уверился в том, что Бостон не похож ни на один из городов Америки и целого мира. Я полюбил его таким, каким он предстал передо мной в тот раз: узкие улочки, дома и скверы на английский манер, старинные залы, где зародилась американская свобода, сияющий красотой и золочеными куполами Капитолий, припорошенные снегом крыши. Я полюбил школы в окрестностях Бостона: Андовер, где во главе французского клуба нашел дочь и зятя моей старинной приятельницы Элмы Клейбург; Сен-Поль, Эксетер, Гротон, столь напоминающие Итон и Хэрроу. Полюбил бостонцев, скромных по образу жизни и горделивых по образу мысли, прижимистых и сказочно богатых, походивших на персонажей Джона Маркуонда[338] и одновременно на лионских фабрикантов. Так я прожил два плодотворных месяца, совмещая работу с новыми знакомствами. Несколько позже я получил письмо от французского консула Франса Бриера (ныне он посол). Бриер писал, что помнит Лоуэлловские лекции и «те дни, исполненные боли и тревоги, которые мы прожили вместе». «Ваш мудрый и твердый патриотизм, — писал он, — поддерживал нас. Вы были примером француза, не отрекшегося от своих идеалов и от своих старых друзей. Я никогда не забуду эти лекции, способствовавшие восстановлению справедливости в отношении Франции. Вы не должны сожалеть об ушедших в прошлое прекрасных днях, ибо ваша миссия в изгнании, несмотря на ее кажущуюся тщетность, должна приносить вам удовлетворение: вы исполняете свой долг, преодолевая невежество, недоверие и ненависть». Пожалуй, надо отметить, что англичане, слушавшие меня в Бостоне (а особенно консул), в письмах столь же горячо благодарили меня за то, что в своих лекциях я отзывался об Англии справедливо, дружелюбно и восторженно. Я продолжал выступать в роли примирителя, и достойные люди сумели это оценить. К сожалению, были еще и другие.
5. Странник, гонимый войною
Первое января 1941 года мы с Симоной провели одни в гостиничном номере. Нас пригласили на ужин американские друзья, но вести, доходившие из Франции, были настолько печальны, что мы чурались любого веселья. Когда пробило полночь, радио передало нам веселый шум с Бродвея. Мы думали об Эссандьерасе и о том, как грустно, наверное, было там в этот Новый год после поражения. И где были теперь те маленькие эльзасцы, что пели «Марсельезу», встречая Новый, 1940-й год?.. Немного погодя по радио вновь раздались крики; им вторила мелодия джаза; полночь пришла в Сент-Луис, штат Миссури… А что думали о Франции в Сент-Луисе, штат Миссури?.. Вскоре мне предстояло об этом узнать, так как я пообещал выступить там с лекцией. Мы стали говорить о детях, которых так хотелось бы повидать, о друзьях, о моей матери — она такая мужественная, а жизнь у нее была, наверное, такая тяжелая… Наконец новый взрыв смеха и пения возвестил, что пробило полночь в Сан-Франциско. Теперь вся Америка вступила в 1941-й год. Наше собственное положение было мрачнее, чем когда-либо. Возникли серьезные материальные проблемы. Я мог заработать на жизнь, лишь ни на секунду не прекращая своей деятельности. Работал же я с чувством беспокойства и отчаяния. Редкие, неясные, противоречивые вести из Франции не позволяли составить представление о реальном положении дел. Теща говорила о маршале с уважением. Была ли она искренна или боялась цензоров? Я этого не знал. Моей матери и дочери удалось раз или два переправить письма в свободную зону; я трепетал за них. Мы и сами писали лишь с крайней осторожностью. Один из сыновей перенес тяжелую болезнь. Я спросил тогда у родителей жены, нельзя ли мне приехать хотя бы на неделю повидать его и помочь ему. Маршал, которому они передали мой вопрос, ответил: «Нет! Я не поручусь за его жизнь». Мой друг Луи Жилле, пламенный англофил, писал мне: «Старый маршал достоин восхищения; держится, насколько возможно». Я доверял чувствам Луи Жилле, патриота и героя 1914–1918 годов. Между тем мой сын Жеральд, а также Андре Жид как будто давали понять, что режим невыносим. Я знал, что на все мое имущество наложен арест и что даже в свободной зоне книги мои под запретом. В Париже какой-то капитан Геринг занимал мою квартиру. Какова же она, плененная Франция? Те, кто приходил ко мне, не слишком проясняли дело. Луи Ружье[339], побывавший в Лондоне и в Северной Африке, виделся с Черчиллем, и из его рассказов у меня создалось впечатление, что Петен ведет двойную игру и уступает по некоторым пунктам лишь для того, чтобы подготовиться к скорому возобновлению войны. Я хотел, чтобы это было правдой. Поль Азар, собираясь ехать во Францию, пришел попрощаться со мной, он был преисполнен веры. Мне же было мучительно больно оттого, что я не понимаю, не знаю, что происходит в моей собственной стране. Сент-Экзюпери, с которым я часто виделся, говорил мне: «Мы не имеем права, находясь здесь в безопасности, судить несчастных французов, раздавленных сапогом оккупанта… Мы с вами, по крайней мере, приехали сюда без средств и готовые, если доведется, снова испытать на себе все превратности войны… Но что может быть смешнее утверждения Н.: „Я продолжаю бой“, если он живет здесь, вовсе не собираясь воевать и имея прочный фундамент в виде вовремя вывезенных миллионов?» И мы вместе процитировали «Тартюфа»:План работы 1 января 1941 года Автобиография — или Жизнь Бертрана Шмидта История Франции. История Соединенных Штатов. Жизнь Виктора Гюго. Жизнь Бальзака. Литературные исследования (мои лекции в Принстоне). Пьесы: Филипп (Македонский), Вечный Жид. Романы… (я говорил о них выше).
Почти все эти книги (кроме пьес) должны были рано или поздно появиться на свет. Туда же, в «Садок», я переписывал цитаты, понравившиеся мне и отвечавшие моим тревогам. Джордж Вашингтон: «Важно никогда не отчаиваться; сколько раз казалось, что положение наше ухудшается, а потом оно снова изменялось к лучшему; я думаю, так будет и впредь. Если возникнут новые трудности, нам придется сделать новые усилия и запастись мужеством в соответствии с требованиями времени». Без имени автора: «Вы полностью убеждены в чистоте своего идеала и благородстве ваших целей. Но то же самое убеждение — у каждого человека, за исключением нескольких циников, убежденных в благородстве цинизма». После последней цитаты я приписал: «Подходит к нынешним распрям. Какое море презрения! Французы, оставшиеся во Франции, презирают тех, кто живет за границей и не разделяет страдания родины; французы, живущие в изгнании, презирают тех, кто, имея возможность уехать, согласился жить под немецким игом. А истина заключается в том, что в каждом из лагерей есть люди честные и бесчестные. Критерий — в бескорыстии. Молодой француз, сражающийся с де Голлем, абсолютно честен; старый француз, как я, выступающий с лекциями ради Франции, — тоже…» В Нью-Йорке я виделся в основном с Сент-Экзюпери, Роменом, Моникой де Ла Саль[349], Рушо[350], Пьером Клоделем[351], Робером Лакур-Гейе[352] и многочисленными друзьями-американцами. Мюррей Батлер, ректор Колумбийского университета, часто приглашал нас на ужин, а однажды пригласил вместе с миссис Рузвельт, которая стала говорить со мной о благотворном влиянии моих лекций. Она всецело была за американское вмешательство в Европе. Мой английский друг Грэнвилл Баркер свел нас с сэром Томасом Бичемом[353], блестящим дирижером с замашками диктатора, приехавшим с концертом. Но подошло время выполнить одно важное обязательство — принять участие в летнем семестре (французском) в Миллз-колледже в Калифорнии. Мы пролетели через весь континент. Нет ничего удивительнее бескрайней пустыни, отделяющей Средний Запад от Дальнего. Видя эти сухие, серые, потрескавшиеся, как кожа старого слона, земли, простиравшиеся до самого горизонта, мы восхищались первопроходцами, пересекшими их пешком или на убогих крытых повозках. Когда самолет поднимался на четыре тысячи метров, чтобы преодолеть Скалистые Горы или Сьерру-Неваду, у нас перехватывало дыхание, но снижения над зеленым и богатым Рено и над бухтой Сан-Франциско, такой прекрасной, с шариками голых вулканических островов, погруженных в синюю воду, вознаградили нас за страдания над горами. «Я понимаю, — сказал я жене, — что эмигрантам, остановившимся на вершине одного из этих холмов и после жуткой суши увидевшим такую красоту, должно было показаться, что перед ними наконец земля обетованная». Калифорния в моих глазах осталась страной счастья. Она не слишком населена; ей достался самый постоянный и здоровый климат планеты; она прекрасна, как Греция, нежна, как Франция, живописна, как Испания, и широка, как Африка. Возможно, Восток живее; Средний Запад — активнее; зато в Калифорнии больше первобытного. Там гражданин по-прежнему близок к первопроходцу. Два дня я провел неподалеку от Сан-Франциско в Бохемиен-Гроув — лесном уголке с гигантскими деревьями, где полторы тысячи деловых людей, художников и преподавателей из Сан-Франциско и других мест две недели живут голышом на свежем воздухе, спят в палатках и едят все вместе. На центральной поляне пылал гигантский костер, и языки пламени поднимались до середины больших деревьев. На сцене, расположенной на склоне холма, поросшего папоротниками, пел Лауриц Мельхиор[354], рассказывал истории Ирвин Кобб[355]. Меня втолкнули в лучи прожекторов: «Расскажите о Франции!» Я старался, как мог. Окружавшие меня деревья росли здесь, как мне сказали, еще во времена высадки Христофора Колумба.
Миллз-колледж. Прекрасный городок, усаженный гигантскими эвкалиптами; патио на испанский манер, где под сенью кипарисов журчит источник. Мы читали и комментировали великие книги; по вечерам квартет из Будапешта играл Бетховена; Дариус Мийо[356] преподавал историю музыки; Фернан Леже[357] — живописи; Рене Белле, сын директора руанского лицея, где я учился, — поэзии; Мадлен Мийо — фонетику — и все с пылом и талантом. Этот французский дом традиционно существовал при Миллз-колледже и наряду с Миддлбери был одним из центров французского образования в Соединенных Штатах. В момент катастрофы все боялись, что он рухнет. Но потом президент г-жа Рейнхардт и м-ль Сесиль Рео мужественно отстояли колледж. Мы знали, что от нашего успеха зависело будущее этого учебного заведения. А потому работали с воодушевлением, подогреваемым общим желанием внушить в те тяжелые дни больше, чем когда-либо, любовь к нашей культуре. Как ранее в Принстоне, я радовался, что занят одним из тех дел, ради которых родился на свет, — преподаю. Часто я садился на скамью, вызывал к доске какую-нибудь девушку, и мы все вместе выстраивали план сочинения. Мне казалось, что такие упражнения в построении были чрезвычайно полезны этим молодым американским умам, исполненным свежести, поэзии, но не привыкшим «наводить порядок в своих мыслях». Вечером 14 июля студентки собрались в холле и попросили меня сказать им несколько слов. Я воспользовался прекрасной фразой Ромена Роллана, процитированной накануне одной из них: «Разве позволительно клеветать на народ, который вот уже более десяти веков действует и созидает?.. Народ, который двадцать раз проходил испытание огнем и снова в него окунулся… Народ, который, ни разу не умерев, двадцать раз воскресал…» Потом Мадлен Мийо стала читать стихи поэтов, убитых на этой и прошлой войнах; несколько минут все хранили молчание, потом разошлись. Сердце слишком быстро привыкает к миру. И я уже, просыпаясь по утрам, с радостью думал о милых внимательных лицах, с которыми мне вновь предстояло встретиться, и о том, какие чувства отразятся на них при той или иной фразе Стендаля, том или ином письме Флобера. Когда настал день «последнего звонка», я вспомнил, как в детстве в такой же день Киттель плакал, читая нам сказку Доде. Я тоже, если бы не дал себе слово сдерживаться, мог заплакать при мысли о том, что этой маленькой группе, ныне объединяемой столькими общими радостями, суждено распасться навсегда.
6. Операция «ФАКЕЛ»
7 декабря 1941 года японские самолеты атаковали американский флот у Пёрл-Харбора. Как всегда по воскресеньям, американцы устроились возле своих радиоприемников, чтобы послушать легкую музыку. Вместо песен они услышали невероятные известия: потоплено восемь броненосцев, три крейсера, три миноносца, убито две тысячи триста человек. Что это, научно-фантастический роман или кровавая реальность? Волна оцепенения, потом ярости пронеслась над страной. На следующий день в Конгрессе президент подтвердил, что война действительно развязана. «Нам это не нравится, — сказал он, — но раз так, мы будем сражаться всеми имеющимися у нас средствами». 10 декабря Германия и Италия объявили войну Соединенным Штатам. Черчилль облегченно вздохнул. «The Lord has delivered them into our hands»[358], — сказал он. Да, Господь отдал нацистов в руки союзников и тем предопределил их гибель. Это будет еще очень-очень нескоро. Но решение, за которое я так давно ратовал — вступление в войну Соединенных Штатов, — наконец взяло верх. Часто говорили: «Если бы не Пёрл-Харбор, решение это так и не было бы принято». Это неправда. Президент давно сделал свой выбор, я знал это и чувствовал, как с каждым месяцем народ приходил к тому же мнению. С октября месяца я гораздо реже слышал после своих лекций замечания изоляционистов. Отныне задача моя несколько изменилась. Теперь стало бесполезно призывать свободные народы к солидарности. Она уже достигнута. Нужно было дать Рузвельту средства для его политики. Джон В. Дэвис, бывший кандидат на пост президента, ныне возглавлявший комитет военных займов, умолял меня выступать по всей стране в их поддержку. Позже канадское правительство попросило меня провести такую же кампанию во Французской Канаде. Я знал, что подобные выступления не могли иметь никакой литературной ценности, но тогда надо было действовать, а не блистать. Я не хочу приводить здесь нудный перечень моих лекций 1942 года. Почти каждый месяц я уезжал на пятнадцать — двадцать дней. А когда мог остаться в Нью-Йорке, работал в Публичной библиотеке над подготовкой «Истории Соединенных Штатов». Моя жена, всегда обладавшая способностями архивного работника, помогала мне. Она страдала больше, чем это можно описать, оттого, что была вдали от Франции, от столь любимого ею Перигора, от Парижа, и все же отлично приноравливалась к новой жизни. Все окрестные торговцы знали и любили ее. Иногда мы позволяли себе провести выходные в Принстоне. Наше пребывание в этом старом университете в 1931 году — одно из самых дорогих воспоминаний. Его зеленые, тщательно причесанные парки напоминали нам Францию и Англию. Мы ужинали вместе с нашим другом Куэндро[359] у Казадезюсов[360], вместе с супругами Жирар (родственниками Даниель Делорм[361]). А потом на воскресенье ехали к поэту Аллану Тейту[362] в восхитительный уголок с альпийским ландшафтом на берегу горного потока. В начале 1942 года «Нью-Йорк таймс» опубликовала на видном месте мою статью «Дух Франции». Статья эта была написана в 1941 года в Миллз-колледже. По возвращении я передал ее в «Нью-Йорк таймс». Газета украсила ее замечательной фотографией «Марсельезы» Рюда[363]. Вот отрывок из статьи:«Часто кто-нибудь из американских друзей задает мне вопрос: „Неужели дух Франции переменился? Неужели французы готовы принять иностранное господство в своей стране? Неужели они оставили всякую надежда на освобождение?“ Мой ответ всегда прост и ясен: дух Франции не изменился. Ни один француз, достойный этого имени, не приемлет мысль об иностранном господстве во Франции. Французы в своем огромном большинстве далеко не оставили всякую надежду и убеждены, что в конце этой войны Франция будет полностью освобождена и сможет распоряжаться своей судьбой. По этому поводу я хотел бы привести несколько строк из одного письма, написанного во Франции в начале ноября 1941 года и свидетельствующего, насколько еще тогда, до вступления в войну Соединенных Штатов, французы были исполнены мужества и веры в победу. „В 1914-м, — пишет мой корреспондент, — с нами была Россия; в 1917-м, после русского краха, с нами оказалась Америка. На этот раз обе они, и одновременно, противостоят Германии. Случай делает для нас то, чего не могла бы достичь вся стратегия дипломатов. Все козыри он сдает на одну руку… Германия и не подозревает еще, что война для нее очень далека от конца, она только-только начинается. Для Англии она по-настоящему начнется лишь в 1942 году, а для Соединенных Штатов — еще через год. И тогда Германии, с ее изнуренными силами, разбитой армией, изможденными войсками, предстоит выдержать встречу со свежими силами. То, что я вам сейчас говорю, — это мнение девяти с половиной французов из десяти…“ Когда я показываю это письмо да и многие другие в том же духе моим американским друзьям, я вижу, что некоторые из них удивляются. „А как вы объясните, — говорят они, — такую веру в будущее, когда поверженная, беспомощная Франция находится во власти врагов?“ „А знаете ли вы, — говорю я в ответ, — что у Франции за плечами тысячелетний опыт?“ Перечитайте историю Франции. Вы узнаете, что ни одна страна на свете так-часто не подвергалась захватам. Поскольку Франция расположена на самом краю Европейского континента, поскольку земли ее богаты, на нее падал выбор завоевателей. Ее захватывали гунны, арабы, англичане, испанцы, австрийцы, а не раз и союзные войска всей Европы. Немецкие солдаты оккупировали ее в 1814, 1815, 1871, 1914 и 1940 годах. Не раз ее король или император попадал в плен: Святой Людовик — к туркам в 1250-м; Иоанн II Добрый — к англичанам в 1356-м; Франциск I — к испанцам в 1515-м; Наполеон III — к немцам в 1870-м. Разве когда-нибудь французы принимали эти ужасающие поражения как окончательные? Разве когда-нибудь оккупация Франции иностранной державой становилась постоянной? Разве завоеватели оказывали длительное воздействие на умы и культуру Франции? Никогда. „В течение всей своей истории, — пишет один американец, — французы демонстрировали способность переносить катастрофы и быстро подниматься; упорство и мужество, которых не могло ослабить никакое несчастье“. Но были ли прошлые испытания, выпавшие на долю Франции, столь же серьезны, как теперешнее поражение? Конечно. Бывали и похуже. Во время Столетней войны Французское королевство было урезано до размеров, значительно уступающих территории нынешней свободной зоны. В те времена две враждебные мятежные группировки — Арманьяки и Бургиньоны — надвое раскололи народ Франции и сражались столь же ожесточенно, как правые и левые в недавнем прошлом. Между тем французский крестьянин, французский торговец, французский ремесленник XIV века ни на секунду не допускали, что жизнь Франции кончена и что французам предстоит влиться в чужую историю. Еще задолго до того, как мудрая и героическая пастушка из Домреми повела их к победе, многие были глубоко взволнованы великими бедствиями королевства. А так как они стремились бороться с невзгодами, явилась Жанна д’Арк; что же осталось во Франции от долгих лет английского владычества? Ничего. А что осталось после 1871 года от германского владычества? Ничего. Хотя это был полный разгром. И опять страну раздирали политические группировки. Монархисты, бонапартисты, республиканцы, социалисты брали друг друга за горло. Французы убивали французов на парижских улицах. Гражданская война противопоставила столицу провинции. Холодный и расчетливый Бисмарк думал, что сочетание военного поражения и политической неразберихи истощит Францию на целый век. Что же получилось? Семь лет спустя, в 1878 году, в Париже открылась Всемирная выставка, доказавшая всему свету, что в мирных искусствах первенство по-прежнему остается за Францией. Двадцать лет спустя путем скорее мирного проникновения, а не завоевания Франция создала великолепную процветающую колониальную империю. Так удивляла мир вескими доказательствами своего молниеносного возрождения страна, в упадок которой хотелось поверить ее врагам. „Пусть так, — скажет скептик, — подобные пробуждения были возможны в прошлом, потому что завоевания не были полными. Ныне вы имеете дело с завоевателем, которому мало занять территорию, он стремится еще и к господству над духом“. Наверное, так оно и есть, и именно по этой причине во Франции он потерпит неудачу. Жестокостью и насилием не усмирить француза; этого он не потерпит. Его можно принудить уступить на время; но он не забывает и не прощает принуждения. И дело не в том, что он ненавидит другие нации. Ненависти в нем нет. Он полон готовности понимать и даже восхищаться всем, что есть великого в германской, английской, испанской культурах. Но сам он не немец, равно как и не англичанин, и не испанец, и всегда отражал натиск иностранцев, покушавшихся на господство над французской землей. „Каждый — хозяин у себя дома“, — гласит французская поговорка. Французы признают за всеми иностранцами право лелеять свои предрассудки, идеи и обычаи и вести себя как им заблагорассудится. Но только не во Франции. Как объяснить это неодолимое сопротивление Франции всякому завоеванию? Прежде всего любовью к земле — той земле, что веками терпеливого труда французы превратили в необъятный сад. „Быть французом — нелегкий труд. И ему не бывает конца“. Но это и приятный труд. Быть французом значит вести образ жизни, который всегда будет дорог всякому, познавшему его. Значит любить простые, хорошо сделанные вещи. Значит, будучи плотником, ювелиром, художником или писателем, стараться быть хорошим работником. Значит требовать и оберегать свободу слова. Никогда еще ни один режим не помешал и не сможет помешать французам говорить то, что они считают нужным. Французский дух — это искусство выражать мысли без слов. Преследования не только не притупляют его, а наоборот, оттачивают. И потом, француз сопротивляется всякому духовному завоеванию, потому что знает, что французская культура — одна из главных составляющих западной цивилизации. Зачем ему идеи и мораль, навязанные незваными гостями, тогда как его моралисты веками учили думать и чувствовать весь мир? Он предпочитает следовать собственным традициям и будет им следовать, угодно это чужакам или нет. Здесь, в Америке, мы получили несколько книг, опубликованных после перемирия лучшими французскими писателями. Книги эти полностью отвечают нашим ожиданиям и надеждам. Авторы ни на йоту не уклонились от своего обычного образа мысли. Ни полсловом не выразили они признания философии, единственный аргумент которой — бронетанковые дивизии. И наконец, француз сопротивляется захватчику, потому что француз — солдат. Гордость, которую внушает ему славное военное прошлое, не может и не должна быть так просто забыта. Нынешние французы — это потомки тех, кто сражался у Вальми[364] и Ваграма[365], на Марне[366] и у Вердена[367]. И они не чувствуют себя недостойными отцов. Из-за недостатка техники, самолетов, танков, из-за отсутствия политического единства они в начале этой войны были разбиты. Но это всего лишь несчастное стечение обстоятельств. По нему нельзя судить о боевом духе нации. Сегодня для тех французов, что живут безоружными во Франции, военное сопротивление невозможно; моральное же никогда не ослабевало. Было бы очень несправедливо и весьма нелепо недооценивать его значение. Франция, перенося выпавшие на ее долю муки, не молит о жалости более удачливые нации; она просит их уважения и достойна их восхищения. Притом, что на нашем континенте есть все продукты, необходимые для жизни, многие мужчины и женщины во Франции жестоко страдают от голода. От истощения умирают дети. Большинство французских домов не отапливаются. Полтора миллиона пленных еще находятся в Германии, уже два года они разлучены со своими семьями. Все это очень тяжело. Но разве французы пытались купить облегчение столь тяжких страданий ценой новых уступок? Их сотни раз обвиняли в этом; и сотни раз было доказано, что обвинение это безосновательно. Разве французы пытались смягчить оккупантов братанием с ними? Все получаемые сведения, наоборот, говорят о мужестве и твердости населения. Не нарочито, но с большой твердостью французы и француженки отказываются иметь дело с захватчиком, исключая официальные и вызванные необходимостью контакты. Патриотизм достиг небывалого накала. Один мой друг был свидетелем прибытия на маленькую станцию нескольких сотен эльзасцев, изгнанных немцами. Этих несчастных лишили всего, что у них было, загнали в опломбированные вагоны, где они без пиши провели два дня. Но, прибыв по назначению, они умудрились бог весть каким образом смастерить трехцветные флажки, и дети выпрыгивали на перрон, размахивая ими и распевая „Марсельезу“. Нет, дух Франции не переменился. Завоеватель не может его укротить. Впрочем, и у самого завоевателя на этот счет не осталось иллюзий. Он знает, что Франция, благосклонно относящаяся к образованию свободной Европы, никогда не примет европейского порядка, основанного на иностранном господстве. „Славные подвиги в прошлом, общая воля в настоящем, великие устремления в будущем — вот что определяет понятие „народ““, — говорил Ренан. О том, что французы свершили вместе славные подвиги, достаточно красноречиво говорят музеи, памятники и колонии по всему миру; что они полны решимости свершать их и в будущем — вам скажет любой молодой француз. Поэтому французы составляют нацию и нацией останутся. Дух Франции сегодня тот же, что был во времена Жанны д’Арк. Это дух сопротивления и веры в себя. Драма повторяется, и она будет иметь ту же развязку. „Жанна, ненавидите ли вы ваших врагов?“ — коварно спросил один из руанских судей. „Не знаю, — ответила Жанна д’Арк, — знаю только, что все они будут вытеснены из Франции, все, кроме тех, кто умрет в наших пределах“. Таким был и остался дух Франции».
Новости из Франции по-прежнему были редкими и малоутешительными. Маршал Петен встретился с Гитлером в Монтуаре. Возможно ли было после этих переговоров продолжать двойную игру? Позже, когда вернулся адмирал Лии, бывший во Франции послом, я узнал от него некоторые правдивые подробности. Здравомыслящий по утрам, Петен к концу дня оказывался во власти опасных советчиков. Лии нашел его сентиментальным, проамерикански настроенным и полным решимости никогда не покидать французов, которых он называл: «Мои дети». Когда немцы потребовали отозвать генерала Вейгана, закрывшего для них Северную Африку, маршал признался, что не способен его защитить. «У меня нет сил, — сказал он послу, — а вы ведь знаете, когда нет сил, ничего нельзя сделать». В июле 1942-го я снова отправился в Миллз-колледж, штат Калифорния, где мне предстояло прочитать двухмесячный курс лекций. Жена осталась в Нью-Йорке, так как проходила долгое и неотложное лечение у стоматолога. 14 июля, в «День Бастилии», как говорят американцы, «Сан-Франциско кроникл» попросила меня написать обращение. Вот оно:
«14 июля напоминает Франции о счастливых днях, когда она была свободной. Это день, когда все французы должны задуматься о том, что они могут сделать, чтобы ускорить освобождение своей страны. Это день, когда все французы должны почтить память погибших — воинов и заложников, уничтоженных захватчиком. Это день, когда все французы, единственное желание которых — увидеть Францию свободной, а немцев побежденными, должны объединиться. И наконец, это день надежды — надежды на грядущее 14 июля в освобожденной Франции».Я счастлив был снова встретить в Миллзе ректора университета, супругов Мийо, моих студенток, но теперь я с нетерпением ждал случая вновь надеть форму и отправиться на войну. Куда? О планах объединенного англо-американского командования в точности ничего известно не было. В американских лагерях проходила подготовку огромная армия. Какой будет ее первая задача? В октябре я провел несколько дней на Лонг-Айленде в большом деревенском доме, снятом Сент-Экзюпери. Там жил Дени де Ружмон[368], и беседы наши были возвышенны и серьезны. В полночь Консуэло с гостями отправлялась спать, а Сент-Экзюпери (которого Консуэло называла Тонио) оставался один и работал над «Маленьким принцем». Около двух ночи голос Тонио будил спящих: «Консуэло! Мне скучно; давай сыграем в шахматы». По окончании партии Консуэло возвращалась в постель, а Тонио — к своей книге. Потом около четырех утра: «Консуэло! Я хочу есть!» Через секунду слышались шаги Консуэло, спускавшейся в кухню. Мои книги хорошо продавались — и на французском, и на английском, и в Канаде, и в Соединенных Штатах. Так что мы уже не испытывали недостатка в средствах. Но жили в постоянной тревоге и ожидании. Настоящее казалось нам нереальным и пустым. Мы ждали победоносного будущего. Наконец ноябрьским вечером около полуночи, включив радио, мы узнали, что американцы высадились в Северной Африке. Операция эта в случае успеха создавала трамплин, позволявший в дальнейшем совершить прыжок на Сицилию и в Италию. А как поступят французские североафриканские войска? Я от всего сердца желал, чтобы они присоединились к союзникам. Так и получилось после нескольких столкновений. Американское правительство пыталось добиться, чтобы маршал Петен (или генерал Вейган) приехал в Африку и принял командование. Потом, после переговоров, согласился генерал Жиро. Понемногу стали просачиваться более конкретные новости. Высадка в Тунисе и Алжире, хорошо подготовленная небольшой группой французов и генералом Кларком, тайно прибывшим на подводной лодке, не встретила серьезного сопротивления. Генерал Жюэн[369] держал связь с американским консулом Мерфи. В Марокко бои были более тяжелыми. Генерал Бетуар[370], возглавлявший просоюзнические силы, был схвачен, приговорен к смерти, но потом, с приходом американцев, спасен. Не вся французская африканская армия признавала власть Жиро. Сам он жаловался, что попал под начало к Эйзенхауэру, тогда как ему было обещано верховное командование. Многие генералы и офицеры считали себя связанными присягой, принесенной маршалу (напрасно, поскольку она была вынужденной). Чтобы добиться согласия, пришлось Рузвельту скрепя сердце прибегнуть к помощи адмирала Дарлана[371], находящегося в Алжире подле больного сына. Выбор этот меня чрезвычайно удивил; Дарлан, особенно после Мерс-эль-Кебира, поносил Англию. (Насколько искренним будет его согласие работать на союзников? Мне больше нравился Жиро, с которым я был немного знаком, так как в 1940 году провел неделю в его штабе. Я знал его как опытного и храброго солдата.) «Все могло бы отлично устроиться, — думал я. — Де Голль — глава правительства, Жиро — верховный главнокомандующий». Мысль о том, что у этих двух людей могут быть разногласия, не приходила мне в голову. Разве у них не одна цель — освобождение Франции? Как только развеялись тучи над полем боя и стал виден новый Алжир, мы с Сент-Экзюпери послали телеграмму, чтобы предложить наши услуги в качестве офицеров. Они сразу же были приняты; из Алжира в Вашингтон должна была быть отправлена миссия, с ней нам и предстояло связаться. Моя жена пришла в отчаяние, узнав, что немцы вошли в Дордонь. Что будет делать ее мать? Что станет с эльзасскими беженцами, которыми она столько занималась в 1940 году в Эссандьерасе? Что ждет рукописи и картины, которые она с таким трудом спасла, привезя их в Перигор на своей машине? Как всегда, все оказалось не так, как она предполагала. Прежде всего, опасность была серьезнее, чем она себе представляла. Родители Симоны согласились спрятать в своих амбарах оружие бойцов Сопротивления. Моя теща при всей двусмысленности ее писем в деле проявляла большое мужество. Когда эсэсовцы, угрожая поджечь замок, стали допрашивать ее, то на вопрос: «Где ваш зять? У нас приказ его арестовать», — она ответила со всем своим актерским дарованием: «Как? Вы же гестапо, всеведущая полиция, и вы спрашиваете меня, где мой зять, тогда как все знают, что он в Америке! Это что, шутка?» По-видимому, эсэсовский офицер уловил насмешку и восхитился отважной старой дамой, ибо он удалил своих людей, но — увы! — лишь после расстрела несчастного, всеми любимого эльзасца Эжена Оша, обвиненного в дезертирстве. Позже мы узнали, что целый отряд армии Сопротивления тайно расположился в Эссандьерасе и простоял там два года, а родители моей жены носили бойцам пишу. Что касается меня, то я будто заново родился и заказал себе у американского портного форму французского капитана. Фуражку я смог отыскать у торговца театральными аксессуарами. Вот записи тех дней:
31 декабря 1942 года. Работал над историей Соединенных Штатов. Приходил Пьер Клодель с тремя очаровательными дочерьми. Ужинал у Жида с Левелем[372] и Рушо. Потом отправился встречать «победоносное 1 января» к Эдвину Джеймсу, главному редактору «Нью-Йорк таймс». Я сказал, что теперь, как мне кажется, единство французов, враждебно настроенных по отношению к нацизму, восстановлено, но Айстел, высокопоставленный чиновник, ответил: «Не верьте этому! Конечно, они все желают освобождения. Но многие озабочены еще и тем, чтобы обеспечить себе определенное положение в послевоенной Франции. Весь вопрос в том, чтобы узнать, кто будет проводить первые выборы, кому достанутся места, почести, власть». 1 января 1943 года. Работал целый день. Около пяти к нам заглянул Пьер Дэвид-Вейл[373]. Он очень умно объясняет, что предстоит Франции завтрашнего дня. Ужинали с Симоном и Мийо у Фернана Леже, который приготовил нам французское жаркое. Этот великий художник еще и великий кулинар. Очень шумная беседа о планах и надеждах. Замечательное начало года. 2 января 1943 года. Французская миссия прибыла в Алжир. Во главе — генерал Бетуар, герой марокканской кампании, и Лемегр-Дюбрёй. Этот промышленник когда-то вел переговоры с тайно прибывшим на подводной лодке генералом Кларком о тактике высадки десанта. Обаятельный Лемегр-Дюбрёй немного напоминает мне Франсуа-Понсе[374]. Вот его рассказ: с 1940 года он предлагал генеральному консулу США Бобу Мерфи свое содействие в подготовке союзного десанта. Его многочисленные заводы давали ему возможность легко перемешаться с места на место. Вейган держал немцев за пределами Африки. Понемногу Лемегр-Дюбрёй и его друзья установили связь с Жиро. В назначенный день официальные представители вишистского правительства были арестованы: в Алжире четырьмя сотнями молодых штатских заговорщиков, а в Марокко — стрелками Бетуара. Опоздание Жиро чуть было все не испортило. «В общем, дело сделано, — сказал мне Лемегр-Дюбрёй. — Вашим первым заданием будет помочь в Америке Бетуару, приехавшему просить у Рузвельта современное оружие для французской африканской армии. Мы никого в США не знаем; вы же дружны с американскими журналистами, политическими деятелями — установите первые контакты… Бетуар в данный момент находится в Вашингтоне, президент нас всецело поддерживает, но нам нужна помощь нью-йоркской прессы, имеющей власть над общественным мнением… Как только вернется генерал Бетуар, организуйте пресс-конференцию». — Вы знаете, — сказал я, — что я хочу записаться в армию и отправиться в Африку? — Ну конечно! Это вы уладите с Бетуаром, а пока ваше место здесь. Первым ощутимым признаком возвращения Франции к войне было появление французского флага на броненосце «Ришелье» на рейде в Нью-Йорке. Об этом мне дрожащим от волнения голосом сообщил Пьер Клодель. «Идите, — сказал он мне по телефону, — идите посмотрите на трехцветный флаг». Такой безумной, такой живой, такой чистой радости, как при виде этого сине-бело-красного флага, плещущегося на морском ветру, я не испытывал с 1940 года. Все три цвета оглушительно пели во мне «Марсельезу». Вскоре капитан броненосца пригласил меня пообедать на борту, и я имел удовольствие заметить в библиотеке свои книги. «Я думал, они запрещены», — сказал я ему. «Только не у нас», — гордо ответил он. Генерал Бетуар вернулся из Вашингтона. Какое счастье! О таком человеке можно было только мечтать: великодушный, энергичный руководитель, политически объективный и уже доказавший свое мужество сначала с альпийскими стрелками в Нарвике, а потом со стрелками в Марокко. Там ему пришлось, к великому его сожалению, выступать против французов; по секретному телефону, о существовании которого он и не подозревал, генеральному резиденту было разрешено арестовать его. Но как только его освободили, он спросил у своих вчерашних противников: «Ну и когда же теперь мы выступим против фрицев?» Я организовал для него у себя дома пресс-конференцию, о которой он просил. Мой друг Эдвин Джеймс, главный редактор «Нью-Йорк таймс», прислал свою лучшую сотрудницу Энн О’Хара Мак-Кормик. Все журналисты были очарованы искренностью и объективностью Бетуара и пообещали свою поддержку. Многие спрашивали: «А что станет в этой ситуации с голлистами?» — «Тут все ясно, — сказал Бетуар, — может быть только одна французская армия». Но все было не так просто. Председатель Госдепартамента допустил большую ошибку, не сохранив никаких контактов с генералом де Голлем. Корделл Халл[375], под внешним хладнокровием скрывающий вспыльчивый нрав, затаил обиду на «Свободную Францию», захватившую Сен-Пьер и Микелон[376], тогда как сам он гарантировал статус-кво этим французским владениям. Незначительный укол самолюбию повлек за собой воспаление. Рузвельт отказывался принимать всерьез этот ничтожный инцидент, однако подготовил операцию «Факел» (Северная Африка) без консультации с генералом де Голлем. Это был серьезный промах. Голлистским бойцам, выступившим сразу после перемирия, было тяжело видеть, как возникают новые начальники. «А как же мы?» — говорили они. Дарлан был убит в декабре. Оставались де Голль и Жиро. Эйзенхауэр сообщал Рузвельту, что африканская армия в большинстве своем отдавала предпочтение Жиро, но гражданское население пламенно желало де Голля. Боб Мерфи писал президенту, что Жиро готов сотрудничать с де Голлем. Хэролд Макмиллан[377], представлявший в Алжире Великобританию, предлагал, чтобы генерал де Голль сыграл роль Клемансо, а Жиро — роль Фоша. В январе Рузвельт и Черчилль добились в Марокко от двух генералов примирительного коммюнике и «исторического» рукопожатия. В действительности это показное примирение не могло дать длительных результатов. Превосходный военачальник, Жиро вовсе не был и не хотел быть государственным деятелем. Его интересовало только одно: изгнать немцев из Франции. Генерал де Голль заглядывал дальше: ему важно было удержать Францию в числе великих держав. Это сложное дело было под силу ему одному. Что касается меня, я упорно продолжал надеяться, что французы наконец достигнут единства, и обратился к Бетуару с просьбой зачислить меня в кадровый состав. «Для капитана пехоты вы слишком стары, — сказал он мне, — но вы сможете быть офицером связи… А приняв участие в операциях, вернетесь и расскажете американцам, как французы распорядились оружием, которое они нам предоставляют». Итак, я поехал в Вашингтон, чтобы уладить формальности. Генерал Бетуар попросил меня еще на некоторое время остаться в Америке, где я мог оказать услуги французской миссии. Затем американцы позаботятся о моей переправке в Алжир. К моему счастью от предстоящего присоединения к французской армии примешивалась большая грусть от расставания с женой. Как-то она будет жить одна в Нью-Йорке? Она приехала туда, чтобы не разлучаться со мной; и, покидая ее, я испытывал угрызения совести. Конечно, в Нью-Йорке у нас были неоценимые друзья, которые позаботятся о ней, но на что она будет жить? Уже два года наше существование обеспечивалось моими лекциями и статьями. Когда я уеду, эти ресурсы иссякнут. В миссии мне сказали, что я смогу переправлять жене значительную часть моего капитанского жалованья. «И я буду работать, — сказала она, — буду переводить». Наш друг Том Кернан доверил ей свой роман «Утренняя звезда», написанный по-английски и принятый издательством Французского дома к изданию на французском языке. Время ожидания было одновременно приятным и мучительным. Приятным, потому что мы были вместе и радовались каждому мгновению отсрочки; мучительным, потому что час расставания приближался, как некогда в Париже. Снова мы вступали в тревожное время. Что ждет меня в Африке? Роммель[378] угрожал Тунису. Французской африканской армии, вооруженной американцами, предстояло стать основным подкреплением. В Нью-Йорке распространилась весть о моем отъезде. Она вывела из себя моего неумолимого врага, потому что свидетельствовала о поступке, на который он оказался не способен, и тем самым доказывала ложность его обвинений. Многие из тех, кто охладел ко мне, снова явились с изъявлениями горячей дружбы, потому что считали, что в Алжире я стану влиятельным человеком, хотя это совсем не отвечало моим желаниям. Я перечитывал «Тимона Афинского»[379] и дивился, как неизменна человеческая натура. Франк Полк, неоднократно передававший мне что-нибудь от Рузвельта, попросил меня о встрече. — Президент знает, — сказал он, — что вы отправляетесь в Северную Африку. Он поручил выяснить, каковы ваши намерения. Рассчитываете ли вы там заняться политикой? — Конечно нет. Я буду и хочу быть просто офицером. — Жаль, — сказал он. — Президент хотел бы, чтобы вы отстаивали там его позицию относительно Франции. Он думает, что после освобождения, в котором он не сомневается, нужно будет созвать Национальное собрание, исключив лишь тех депутатов, что сотрудничали с врагом. Другие будут полезны, потому что у них есть опыт в общественных делах. В разгар кризиса невозможно ни набрать новых людей, ни создать новый политический аппарат. Президент считает, что всех объединить мог бы Эррио. Я повторил, что не хочу вмешиваться в политику и что французы должны быть свободны в выборе своей судьбы и своего лидера. Когда приблизился час отъезда, французские и американские друзья устроили мне прощальный обед. Меня привели в волнение число и состав гостей. Когда меня попросили выступить, я был счастлив воспользоваться случаем, чтобы снова призвать к единству. Вот заключительная часть моей речи в том виде, как она была в свое время опубликована:
«Бывают мгновения, когда за одну секунду французу воздается за все, что он выстрадал в дни раздоров. В полной мере мы изведаем их в тот день, когда последний немец покинет Париж, а союзнические войска войдут в город через символ победы — Триумфальную арку. Но даже сегодня, во время оккупации, тайно, в глубине души парижане переживают такие мгновения, когда поэт или музыкант во время спектакля намеками напомнит им о былом величии и о величии грядущем. Тогда встречаются взгляды, вспыхивает искра и безмолвный гимн исходит из сомкнутых уст. Подобные мгновения мы, французы, на время удаленные от Франции, познали в тот день, когда с неописуемой радостью услышали, что американцы высадились в Северной Африке, а французские генералы встретили их как союзники и что в Тунисе трехцветный флаг развевается среди других флагов Объединенных Наций. Два года назад здесь пели: „The last time I saw Paris“[380]. Я хотел бы сказать моим американским друзьям, ныне столь многочисленным: „The next time you’ll see Paris“[381]. Когда в следующий раз вы увидите Париж, вы найдете его столь же прекрасным, каким он остался в ваших воспоминаниях. Чистые линии памятников и площадей не изменятся; тем же приглушенным блеском будут сиять золотые трофеи на куполе Дворца инвалидов; два прелестных здания розового кирпича будут по-прежнему охранять вход на площадь Дофина. Парижан вы найдете похудевшими, ослабевшими, но не утратившими чувство юмора, здравый смысл и мужество. Наверное, они, как выздоравливающий, поднявшийся с одра после долгой болезни, станут более серьезными и пылкими, чем раньше. Они обретут горькую силу много выстрадавших людей. Они будут хранить образ расстрелянных заложников, невинно притесненных, и жгучую ненависть к захватчику. В то же время они сохранят свой вкус, свой гений и свою любовь к свободе. Дошедшие до нас картины парижской жизни во время оккупации со всех точек зрения трагичны; но, доказывая немецкую жестокость, они открывают столько французского мужества, что воодушевление наше не уступает нашей печали. Мне приятно знать, что, когда в „Комеди Франсез“ один из персонажей „Авантюристки“ поет: „Спасем империю“, весь зал» моментально встает. Мне приятно знать, что наши музыканты и поэты трудятся, что Арагон пишет замечательные стихи, Жироду создает прекраснейшие из своих трагедий, а Пуленк сочиняет очень французские балеты на сюжеты басен Лафонтена. Мне приятно знать, что, когда пожилая дама, носящая по распоряжению врага звезду Давида, хочет перейти улицу, все французские мужчины спешат предложить ей руку и помощь. Париж, город с большим сердцем, Париж, город пылкий и строптивый, Париж, город оккупированный, но не покоренный, — вот что найдете вы, о мои американские друзья, когда в следующий раз увидите Париж. Придет время, и вы поможете нам залечить раны. Выможете это сделать тысячью различных способов. Вы можете это сделать — и мы знаем, что вы уже готовитесь к этому, — накормив, как только откроются границы, наших изголодавшихся детей. Вы можете это сделать (и многие из вас это уже сделали и делают ежедневно), придя на помощь нашим пленным. Вы можете это сделать, поддерживая в наших рядах не ссоры, подозрения и обиды, а взаимное согласие, трудовую солидарность и любовь. Вы можете это сделать, напоминая французам о том, чему, должно быть, и вас самих научила ваша история: что Свобода и Единство — это одно неделимое целое. Вы можете это сделать, никогда не забывая о том, что на протяжении десяти веков Франция была передовым рубежом западной цивилизации на Европейском континенте; что в 1914 году она потеряла два миллиона человек, павших за дело, ныне ставшее и вашим делом; что к войне 1939 года она пришла обескровленной, и если в этой войне она так долго прозябала в слабости и нищете, то только потому, что с первого же часа все отдала без счета. Вы можете это сделать, не забывая о том, что завтра Франция будет столь же необходима миру, столь же глубоко незаменима, как и вчера; что она не стала и никогда не станет маленькой нацией, но останется равной самым великим и достойной их. Вы можете это сделать, оставаясь для нее тем, чем с таким сердечием и постоянством на протяжении трех лет были в этом доме, — друзьями, готовыми любить и понимать, друзьями, которые понимают, потому что любят. А мы, французы, живущие среди вас, что мы можем, что мы должны делать? Мы можем, мы должны, по-моему, сказать примерно следующее: «В ошибках, совершенных за минувшие двадцать лет, есть доля каждого из нас… А выяснять, насколько одни виновны более других, надлежит не актерам разыгравшейся драмы, но тем, кто в успокоенном мире станет ее историками и судьями. Часто, несмотря на расхождения в наших поступках и словах, чувствовали мы одинаково. Мы все (или почти все) хотели, надеялись, верили, что действуем на благо Франции. И может быть, нам всем многое простится, поскольку мы так любили ее… Сегодня пришло время думать только о победе. Враг пошатнулся, наши лидеры сблизились, над миром повеяло великой надеждой. Откуда бы ни выступали французские армии: из Алжира, Чада или Ливии — все они вместе с союзниками теснят одного противника. Французские солдаты, воссоединяющиеся в песках пустыни, сразу же понимают, что все воины с Запада, Востока или Юга — братья по оружию. Так сумеем же и за линией фронта выглядеть так же. Заявим единодушно: что мы всеми средствами будем поддерживать всех французских военачальников, сражающихся за освобождение нашей родины; что правительство Франции должно быть свободно избрано французским народом, после того как территория страны будет очищена от врага; что правительство это должно будет гарантировать равенство всех граждан перед законом, без различения религиозной и расовой принадлежности и политических воззрений; и наконец, что мы будем братски сотрудничать со всеми французами, отстаивающими эти принципы. Повторим же вместе с нашими американскими друзьями: „Liberty and Union, now and for ever, one and indivisible“[382]. И Родина будет спасена».
Наконец французская военная миссия прислала из Вашингтона приказ о моем отъезде. На следующий день мне предстояло отправиться шестичасовым утренним поездом в Ли Холл, штат Виргиния, откуда меня должны были препроводить в лагерь «Патрик Хенри» в ожидании посадки на корабль. Жена проводила меня до перрона Пенсильванского вокзала. Позже она говорила, что, глядя, как мой поезд углубляется в туннель, напоминавший ей парижское метро, она в который раз подумала: «Когда я снова его увижу?.. Да и увижу ли?» Она медленно вышла на улицу и оказалась одна в огромном пробуждающемся городе. Из лагеря я написал жене (по-английски, ибо письмо должна была прочесть военная цензура): «Я хочу сказать вам, что никогда еще не любил вас сильнее и, что бы ни случилось, минувший год, несмотря на изгнание, благодаря вам был самым счастливым в моей жизни. Никогда мы не были ближе, никогда так хорошо не работали вместе… И все же я покидаю вас, чтобы вернуться на войну, хотя ничто меня к этому не понуждает. Я делаю это потому, что чувствую, верю, надеюсь, что, поступая таким образом, подготавливаю наше будущее счастье. Когда мы вернемся во Францию, я хочу быть среди тех, кто сражался за нее до конца». Океан мы переплывали на военном судне. Мне предстояло разделить каюту с тремя американскими капитанами. Через час после отплытия ко мне пришел молодой морской офицер. — Сэр, — сказал он, — правда, что вы всего лишь капитан? — Правда. — Но как это возможно? Вы немолоды, известны, имеете самые высокие французские и британские награды… В нашей армии вы были бы генералом. — Может быть, но во французской армии я капитан. — Как жаль, — сказал он. — Капитан корабля хотел поместить вас с генералами. — Пусть не беспокоится! Доброжелательность возобладала над уставом, и я отправился в Африку, удобно устроившись в генеральской каюте.
7. Рабство и величие
Я начинаю рассказ о великом и мрачном времени. Великом потому, что я снова был с французской армией и радовался, видя, что после всех невзгод она исполнена отваги и уверенности. Мрачным потому, что в этой временной столице мне предстояло столкнуться с образом все еще разобщенной Франции. В деле войска напоминали Виньи и Пеги; от мелочных алжирских ссор веяло Сен-Симоном и Рецем. Справедливости ради следует объяснить, откуда проистекали эти досадные недоразумения. Генерал Эйзенхауэр, обнаружив после высадки, что, как я уже говорил, генерал Жиро не объединил вокруг себя всю африканскую армию (многие ее солдаты считали себя связанными присягой), прибег к помощи адмирала Дарлана и образовал Имперский совет, в котором принимал участие Жиро, но куда входили и несколько человек, названных лондонскими французами «вишистскими феодалами». Такая уловка не могла привести к успеху. Когда после смерти Дарлана де Голль согласился сотрудничать с Жиро, которого он уважал, то потребовал упразднения Имперского совета и учреждения в Африке центральной французской власти — Комитета национального освобождения, возглавляемого поочередно де Голлем и Жиро. Столь шаткий компромисс не мог не породить конфликтов. Эти конфликты, в которых не было моей вины, ибо я ничего не знал о них и приехал снедаемый жаждой единства, причиняли мне тогда такую боль, что хотелось кричать. Не забывайте, читая эти горькие строки, отражающие истину того времени, что сразу после конца войны пелена рассеялась. Чернила быстро тускнеют в анналах Времени. «Встань у окна и жди, — гласит арабская пословица, — и ты увидишь, как несут труп твоего врага». Я человек не злопамятный и охотнее сказал бы: «Открой дверь и жди, и ты увидишь, как войдет к тебе твой бывший враг, ставший близким другом». Но не будем забегать вперед и вернемся в Касабланку 1943 года. Мне было очень приятно снова оказаться за столом французской офицерской столовой. К моему великому удивлению, многие знали о роли, которую я играл в Америке. Один офицер сказал мне: «Впервые я почувствовал уверенность в том, что Франция будет освобождена, когда прочел одну из ваших статей для „Нью-Йорк таймс“, перепечатанную швейцарской газетой». Другой добавил: «В 1940 году я слышал вашу речь, обращенную к канадцам, и она меня очень ободрила». В Касабланке я встретил аспиранта[383] Кристиана де Фельса (сына моих друзей Андре и Марты), собиравшегося в Соединенные Штаты, где он должен был получить специальность летчика, и Пьера Лиотея, племянника маршала, который предложил мне жить у него, на что я с благодарностью согласился. Пьер рассказал об окончании тунисской кампании. «Как жаль, что вы это пропустили! Это было восхитительно. Французская армия сыграла решающую роль. Идея рокады, решившей конец сражения, принадлежала нашему генералу Жюэну».В Марокко население не испытывало недостатка в провизии. «Но если бы вы видели Алжир!..» — говорили мне со вздохами. И все же мне не терпелось туда попасть; надо было только найти место на борту самолета, а это представлялось делом довольно сложным. Однако приказ, согласно которому я был приписан к штабу главнокомандующего, давал мне преимущество, и три дня спустя я высадился на аэродроме Белого дома. Там от имени генерала Жиро меня встретил капитан Клермон-Тоннер, который заказал мне номер в гостинице «Алетти». Он передал приглашение на обед у главнокомандующего, назначенный на следующий день. В Белом доме меня ждал другой офицер — это был Сент-Экзюпери. Он проводил меня до гостиницы и, когда мы остались одни, сказал: «Ах, бедный мой друг! В какое же осиное гнездо мы угодили. Вы очень скоро увидите, какова здесь политическая атмосфера. Просто удушающая!.. В городе царят два двора, две соперничающие группы. Мы-то с вами думали, что отныне у нас будет единая и неделимая французская армия. Но это не так — по крайней мере, пока. Мне очень тяжело, и вам предстоит то же самое». Однако в первые дни я решил, что Сент-Экзюпери ошибается. Я был так рад вновь увидеть стольких друзей, что мне все казалось прекрасным. На обеде у Жиро я встретил Маста, главного резидента в Тунисе; Жокса, генерального секретаря правительства; Анри Бонне, начальника штаба генерала Девэнка; одного из выдающихся летчиков прошлой войны генерала Шамбра. После обеда генерал Девэнк объяснил, как он собирается со мной поступить; «Генерал Бетуар написал нам, что американцы должны понять, какова наша роль, а поэтому для вас самое главное — следить за военными операциями и писать историю обновленной африканской армии. Затем, через шесть — восемь месяцев, мы командируем вас в США, чтобы вы там в статьях и лекциях рассказали о том, что увидите. Потом вы вернетесь, чтобы присутствовать при дальнейших событиях, и это — мы уверены — будет уже победа». Не стоит удивляться этой бодрой уверенности. Поражение Роммеля в Тунисе было, как сказал Черчилль, «не началом конца», но «концом начала». Ось Рим — Берлин потеряла тогда двести пятьдесят тысяч человек, более двухсот пятидесяти танков и две тысячи триста самолетов. «В данный момент, — продолжал генерал Девэнк, — военных действий не ведется. Но не волнуйтесь; союзники будут продолжать наступление; французская армия примет в нем участие, и вы отправитесь вместе с ней. А пока капитан Клермон-Тоннер проводит вас в наши перевооруженные дивизии и на боевые позиции в Тунисе. Вы будете нашим историографом, а потом, когда возобновятся военные действия, — нашим связным». Программа эта мне понравилась. В ней было все, чего я желал. Письмо к жене: «Вот я и на французской земле. Это очень волнующее ощущение, хотя, может, не такое сильное, как я ожидал, потому что в этом городе живет столько американцев, арабов и людей других национальностей, что французы несколько разбавлены. И все же какое восхитительное чувство — вновь слышать, как дети на улице говорят по-французски, улавливать старые выражения (парикмахер кричит: „Глянь-ка в кассу!“), заходить в книжные магазины, очень бедные, но французские по виду, по атмосфере, по запаху, говорить с французскими офицерами, которые здесь у себя дома и хозяева города».
Письмо к жене: «Милая моя, пять дней я провел в дороге. Ездил по полкам и штабам новой французской армии. Пятьсот километров в день, сирокко, а значит, раскаленные пески, марши по горам, чтобы посмотреть, как идут маневры, недосыпание, потому что выезжали в пять утра… Хорошая тренировка перед предстоящими боевыми действиями… Прием повсюду превосходный. Естественно, тут всего понемногу: есть энтузиасты и безразличные, умеренные и неистовые, но мне кажется, что добро преобладает над злом. Ты скажешь, что это мой вечный оптимизм, может быть. И все же, наблюдая за такими людьми, как мой спутник Клермон-Тоннер или генерал Монсабер, я не могу не восхищаться нашими французами. Такого сочетания культуры и мужества не встретишь больше нигде в мире. Во время тунисской кампании генерал Монсабер пошел в атаку во главе своих войск с тростью в руках; тот же самый генерал цитирует Цезаря, разбирает латинскую надпись; он знает свою историю и сам творит историю. Клермон-Тоннер готовился к высадке 8 ноября, перечитывая по-гречески „Одиссею“…»
Я задумал книгу «Победа Франции», которая была бы продолжением и противовесом «Трагедии Франции». Итак, первые недели оказались счастливее, чем я мог ожидать после предостережений Сент-Экзюпери. Капитан Клермон-Тоннер подолгу водил меня по большим частям, получившим новое вооружение от американцев. Везде настроение было великолепным. Меня встречали старые соратники, как, например, Дюрозуа, которого я знал как адъютанта Лиотея и который теперь командовал танковым полком. Я провел несколько прекрасных часов с генералом Монсабером и Анри Мартеном, людьми высокой культуры. Генерал Катру и его жена, мои старинные друзья, распахнули передо мной двери своего дома в Алжире. Когда я оставался в городе, что случалось редко, я ел или в офицерской столовой в «Атлетти», или в союзническом клубе, чудесно украшенном в арабском стиле и руководимом г-ном Витассом, дипломатом, который так тепло встретил меня в Уджде в 1925 году. Но почти всегда меня кто-нибудь приглашал к себе: то Боб Мерфи, министр США, то лорд Дункэннон, то Лемерг-Дюбрёй в свой восхитительный дворец, то моя дорогая Анна Эргон, у которой я в конце концов поселился. Очень скоро мне стало ясно, что жить в гостинице «Атлетти», в нижней части города, тогда как все учреждения моего штаба находятся на самом верху улицы Мишле, просто невозможно. Машины у меня не было (кроме служебной, разумеется), денег тоже, поскольку большую часть жалованья я отправлял жене; и, подверженный ревматизму, я в этом знойном городе прихрамывал на одну ногу. Климат я переносил очень плохо, пищу — еще хуже. Чтобы подобраться поближе к штабу, я сначала поселился у одного инженера, г-на Тома, чья жена сдала мне комнату. Супруги Тома, милая и дружная чета, делали все, чтобы мне у них было хорошо. На следующий же день по приезде я побежал к Анне Эргон (Анне Дежарден из Понтиньи). У нее жил Жид. Это была очень нежная встреча. Жид, судя по всему, был в отличной форме, весел, игрив, чрезвычайно любознателен. Его молодость духа вызывала удивление. Анна, с ее безграничным гостеприимством, сразу же предложила взять меня к себе (я согласился после отъезда Жида), но у нее в квартире, помимо мужа, преподававшего латынь в Алжирском университете и мобилизованного в звании капитана, жили дети, а вскоре поселились еще и молодые офицеры из Нью-Йорка Кристиан де Николе, Мишель Порже и Кристиан д’Омаль. Дом был полон. Я очень часто обедал у Анны. За столом нас было человек десять — двенадцать. Ей, уж не знаю каким образом, удавалось кормить нас кускусом и давать финики на сладкое. Думаю, она вставала на заре, чтобы занять очередь в магазин и раздобыть продукты. Долго я не имел никаких известий от Симоны. Потом в американской армии изобрели систему микрофильмирования, и я стал получать миниатюрные послания, переснятые с оригиналов. Только эти мини-письма и связывали меня с женой, только она связывала меня с жизнью. Из них я узнал, что генерал Бетуар и майор Пило из французской миссии относятся к ней очень доброжелательно и помогают посылать мне лекарства, в которых я так нуждаюсь, что с помощью жесткой экономии ей удается сохранять нашу квартиру; что ее часто принимают в семье Клоделя; что она работает. Иногда кто-нибудь из друзей, отправлявшихся в Америку, соглашался взять более длинное письмо. В частности, такую услугу оказал мне Филипп Супо[384]. Тогда я писал целые тома и свободнее изливал душу, ибо основным злом, от которого страдали тогда в Алжире, было отсутствие свободы. Газета «ТАМ» (Тунис, Алжир, Марокко) заказала мне статьи, которые я и написал с разрешения своего начальства и которые дышали чистым патриотизмом без примеси политики. Но какие-то неведомые силы предупредили директора издания, что если они меня напечатают, то не получат больше бумаги! Множество эпизодов такого рода столь же удивляли, сколь и огорчали меня. Неужели мой свирепый нью-йоркский враг обрушился на меня из-за океана? Я не знал, не понимал, и огорчения подтачивали тело, уже ослабленное усталостью, влажным воздухом и непривычной пищей. Жуткое известие окончательно сразило меня. Моя мать была арестована нацистами. Об этом сообщили американские газеты. Мне написали об этом из Нью-Йорка; ее отправили не в лагерь, а в больницу, служившую тюрьмой для стариков-инвалидов (у нее был артрит бедра, и она не могла ходить). Мне не только было больно сознавать, что она в заключении, что с ней, может быть, плохо обращаются, — к этому примешивалось еще одно смутное опасение. А вдруг причиной ее ареста был мой уход на фронт? Впоследствии выяснилось, что это не так. Одна женщина позарилась на квартиру моей матери и, чтобы занять ее место, донесла на нее, хотя все про нее забыли! Как помочь матери? Я ничего не мог сделать, увы! Позже я узнал, что бывший депутат Эльбёфа вступился за нее в Виши и получил отказ. С родителями жены я вообще не имел никакой связи с тех пор, как была оккупирована Дордонь. Через Красный Крест от них пришла короткая записка, где они спрашивали, в Нью-Йорке ли моя жена и как она себя чувствует.
Письмо к Симоне 22 июля 1943 года: «В перерывах между поездками я, естественно, больше всего общаюсь с Жидом и Анной Эргон (у которой всегда приготовлен для меня прибор, если только я не занят в другом месте); с капитаном Клермон-Тоннером, моим обычным спутником, который мне очень нравится; с генералом Шамбром (ты знаешь его по книгам, это сама обходительность); с нашим другом Жорж-Пико [385] ; с четой Катру; с консулом Соединенных Штатов… От мира политики держусь в стороне; это мир капризный, расколотый, опасный… А еще есть бесчисленный арабский люд — их встречаешь на улице, загадочных, скрытных и куда лучше осведомленных, чем нам кажется. Сегодня утром в трамвае я слышал разговор двух арабских девушек — естественно, по-французски. Они были под чадрой, добрые мусульманки, и одна другой говорила: „Моя хозяйка невыносима. Она проводит пальцем по мебели, чтобы проверить, нет ли пыли. Пыли нет, я работаю хорошо и добросовестно. Но пусть оставит меня в покое! Она взяла привычку за столом, говоря с мужем обо мне, переходить на испанский. Я ей сказала: „Имей в виду: я знаю и испанский, и французский, и арабский, и американский…“ И потом, я не хочу, чтобы она звала меня Фатма; если она будет звать меня Фатма, я буду звать ее Мари“.
1 августа. Большая новость: Оливье в Мадриде; он пешком перешел Пиренеи и приедет ко мне сюда. Об этом мне телеграфировал из Мадрида монсеньор Буайе-Масс. Я был удивлен и очень обрадован; значит, в нем не иссякли энергия и мужество… Я провел неделю в штабной поездке, после этого полон энтузиазма. У нас прекрасная, превосходная армия, хорошо вооруженная американцами и состоящая из людей, обожающих свою технику. Попытаюсь написать об этом в статье, которую тебе пошлю. Повсюду натыкать на друзей. Все бы хорошо, если бы климат не делал меня совершенно больным. Такая жара! Такая влажность! Меня прихватил ревматизм, я хромаю; печень, о которой я обычно и не думаю, резко заявляет о своем недовольстве. В таком состоянии не всегда легко наблюдать за маневрами, но энтузиазм побивает усталость… Мне только что сказали, что здесь Мину. Может, она мне что-нибудь сообщит о тебе. Постараюсь с ней связаться. Ты не представляешь, до какой степени трудно передвигаться в этом городе-пекле, где все улицы круто идут вверх, если ты беден и у тебя нет машины.
5 августа. Эрве Альфан, возвращающийся в Америку, любезно согласился взять это письмо… Я собираюсь в Марокко, где буду жить у главного резидента (Пюо, которого мы знали послом в Вене)… Сегодня ужинаю в союзническом клубе. Там собираются две сотни человек, которые „думают, что раз они поздно ложатся, значит, правят Алжиром и всем миром“. Там представлены оба „двора“, хотя ни тот, ни другой консул там никогда не показываются. Все рассаживаются на подушках на восточный манер в патио, украшенном фаянсовыми вазами, и разговаривают до поздней ночи, которая обязательно усеяна звездами. Вчера я ужинал там с Жидом, одним американцем — Варбургом — и англичанином лордом Дункэнноном. Живем ожиданием. И потом, стоит выехать из Алжира на природу и посмотреть на солдат, как чувствуешь прилив надежды, патриотизма и словно возрождаешься».
* * *
Как я писал жене, телеграмма монсеньора Буайе-Масса, капеллана французского посольства в Мадриде, известила меня, что мой младший сын Оливье находится в Испании. Узнав (по радио), что я в Алжире, он сразу же захотел ко мне приехать. Первая попытка преодолеть Пиренеи не удалась. Немцы арестовали его в запретной зоне и посадили в тюрьму неподалеку от Бордо; обращались с ним там плохо. К счастью, во время поездок в Андей он уже давно через общих друзей познакомился с испанским военным комендантом Ируна, одним из моих верных читателей, который, узнав о его заключении, предпринял серьезные шаги и через три месяца сумел сначала вызволить его из тюрьмы, а потом помочь перейти границу. Оливье надеялся достаточно скоро получить разрешение на выезд в Алжир, где хотел присоединиться ко мне. Старший мой сын Жеральд жил во Франции в подполье и ждал момента уйти на фронт, который в конце концов и наступил после высадки сил союзников. Моя работа в штабе оставалась прежней: пополнять архивы тунисских операций, ездить по всей стране, воссоздавая ход сражений, и прежде всего обеспечивать связь. Англичане и американцы часто просили меня выступить с лекциями перед их войсками. С одной стороны, их надо было чем-то занять в период затишья, с другой — объяснить, что такое Франция и Северная Африка. Почти каждый день я говорил по-английски. Это проповедничество заинтересовало генерала Эйзенхауэра, и он пришел на одно из моих выступлений. Жена генерала Катру, командовавшая отрядом француженок, состоящих при армии, тоже несколько раз брала меня в свои поездки. Генерал Девэнк под большим секретом отправил меня на неделю в один лагерь, где майор Гамбье (ныне генерал) готовил диверсионные группы по образцу тех, что формировал лорд Маунтбеттен. Их обучали бесшумному внезапному нападению, тактике единоборства; проходили они и тренировку по прыжкам с парашютом. Я присутствовал при первых этапах этой подготовки, но прыгать с самолета военный врач мне запретил: не тот возраст. Меня приводил в восхищение майор Гамбье, внушавший беспредельную любовь и доверие своим людям, из которых формировали отборные ударные войска. Генерал Девэнк по секрету поведал мне, что вскоре они найдут себе применение. «И вы тоже», — добавил он.8. С Корсики — в Италию
Я думал, что первым делом меня направят в Италию. После тунисской победы союзники заняли Сицилию и высадились в Неаполе. Генерал Жюэн, с которым мы были хорошо знакомы, должен был принять командование французскими дивизиями, и я полагал, что поеду с ним. Но неожиданно грянули события на Корсике. Остров был давно оккупирован итальянцами. И как оккупирован! Восемьдесят тысяч итальянцев, а вскоре еще и двадцать тысяч немцев с танками, пушками и самолетами. Гитлер понимал важность этого плацдарма, откуда можно было перекинуться как в Италию, так и во Францию. Вот и вышло, что Корсику, которая со своим трехсоттысячным населением едва ли могла выставить больше тридцати тысяч бойцов, охраняла стотысячная армия. Это делало честь военной доблести корсиканцев. Честь заслуженную, ибо они сразу же организовали сопротивление. Французский штаб, со своей стороны, подготавливал экспедицию на Корсику. Для успеха операции требовалось, чтобы ее поддержали внутри острова — вооруженные и организованные отряды сопротивления, а в момент высадки (обещавшей быть трудной) — авиация и флот союзников. Прежде всего нужно было вооружить корсиканских патриотов. Оружие одновременно сбрасывали с воздуха и подвозили на подводных лодках. Капитан Лерминье неоднократно приводил свою подводную лодку «Касабланка» к корсиканским берегам. Войсками сопротивления на острове командовал майор Колонна, герой античного склада, которого подчиненные называли Ганнибалом, потому что он тоже сражался с Римом. Я увидел его позже, когда он лежал в госпитале, изнуренный девятью днями боев, в жару, изможденный, но прекрасный, с мечтательными светлыми глазами. «Только не говорите, что я был душой восстания. Тут каждый отдавал душу. Моя роль заключалась в том, чтобы вооружить партизан, собрать их в полки, а главное, внушить, что, если они поднимут восстание слишком рано, их перебьют понапрасну. Английское радио должно было дать сигнал, когда все будет готово… Тяжелая была работа. Не забывайте, что сто тысяч врагов разбили наш остров на квадраты, что выехать из своей деревни можно было только при предъявлении паспорта и что если кого из сопротивления уличали и ловили, его пытали, а потом убивали. И все же нам удалось собрать тонны оружия. Бывало, я приезжал на подводной лодке с оружием, а на берегу в условленном месте моих ребят не было. Приходилось выгружать оружие с помощью матросов и прятать его в кустах. Но в конце концов все уладилось. Я располагал десятью тысячами вооруженных дисциплинированных солдат с командиром в каждой деревне». И вдруг в начале сентября 1943 года — неожиданный поворот: король Италии прогоняет Муссолини, и маршал Бадольо[386] подписывает перемирие с союзниками. Это в корне меняло стоящую перед корсиканцами задачу. Они готовились вести диверсионные действия против итальянцев, а теперь оказались перед необходимостью дать настоящее сражение великолепно вооруженной немецкой армии, занимавшей не только порт Бастия, но и целый коридор вдоль восточного побережья, что позволяло ей контролировать береговую линию и полевые аэродромы от Бонифачо до Бастии. И все же, поскольку между итальянцами и немцами после перемирия повсюду то и дело возникали стычки, патриоты сочли 9 сентября благоприятным моментом для начала выступления. Стихийный взрыв оказался одновременно и военным и политическим. Повсюду возникали импровизированные засады. Немцы среагировали быстро. С Сардинии прибыли танковая бригада и пехотная дивизия. Партизанам грозил разгром, и они призвали на помощь французские войска. Этот призыв ставил перед главнокомандующим страшную проблему. В Италии американцы и англичане сражались с еще весьма сильной немецкой армией, цепляющейся за занятые земли. Им нужны были все транспортные средства, воздушные и морские. И планы, рассчитанные на союзническую поддержку высадки на Корсику, таким образом, за неимением техники, аннулировались. А если так, разумно ли было бросать на штурм острова французские войска, численность которых явно недостаточна? Предприятие казалось рискованным. Но можно ли было не ответить на призыв французов, отважно взявшихся за дело собственного освобождения? Если мы ничего не предпримем, казалось очевидным, что немцы завладеют всем островом и лишат тем самым союзников ценного плацдарма. Жиро принял решение. Он вызвал генерала Анри Мартена, только что назначенного командующим корпусом, и сказал ему: «Я собираюсь немедленно послать на Корсику ударный батальон, марокканцев и горную дивизию. Вы возглавите эти войска и возьмете Корсику». Замысел представлялся дерзким. В качестве морского транспорта мы располагали лишь двумя старыми теплоходами да подводной лодкой «Касабланка». Нужно было пересечь Средиземное море, а у немцев там были и подводные лодки, и самолеты. «Город Аяччо», судно, долгое время обеспечивавшее связь между Западной Францией и Корсикой, было вовсе не подготовлено к противовоздушной обороне. В крайнем случае оно могло перевезти полторы тысячи человек, но имело при этом все шансы быть потопленным. Услышав об этой экспедиции, я порадовался тому, что смогу сразу же принять участие в военных действиях и одним из первых вновь ступить на французскую землю. Я попросил генерала Девэнка определить меня в качестве офицера связи к генералу Анри Мартену. Сначала он отказал мне. «Это более чем опасно, — сказал он. — Если вы утонете или будете убиты, меня станут осуждать за то, что я отправил вас в это рискованное предприятие». Позже, в Париже, адмирал Лемоннье, присутствовавший при нашем отплытии на «Городе Аяччо», сказал мне: «Я не верил, что вы когда-нибудь вернетесь из этого дела». Честно говоря, в то время я мало дорожил жизнью. Умереть означало ускользнуть от алжирских раздоров. Вопреки всем ожиданиям, путешествие на старом, набитом солдатами корабле прошло без приключений. Каким-то чудом, объяснить которое мне не удается до сих пор, ибо Средиземное море кишело немцами, ни самолеты, ни подводные лодки нас не атаковали. «Касабланка» с частями ударного батальона пришла раньше нас; они должны были пустить слух, что составляют авангард огромной армии. Аяччо был еще в руках итальянцев, но они соблюдали перемирие и не препятствовали нашей высадке. Население встретило нас восторженно. Генерал Анри Мартен предложил мне питаться в его столовой вместе с начальником штаба, молодым английским генералом по имени Пик и американским полковником. Но бывали мы там не часто. То с бойцами ударного батальона, то с генералом Гюмбером, ставшим военным комендантом, я ездил по всему острову и видел первые столкновения. Ударный батальон творил чудеса. По ночам немецкие самолеты бомбили Аяччо. У меня в памяти остался удивительный и прекрасный вечер, который мы с генералом Гюмбером провели в парке под бомбежкой за возвышенной беседой. Необыкновенное сочетание звездного неба, свистящей вокруг смерти, собеседника и темы! Мне это напомнило некоторые разговоры в «Брэмбле». Вместе с нами приехал уполномоченный правительства Люизе, которому потом предстояло занять пост префекта парижской полиции, он назначил главой кабинета Филиппини, молодого корсиканского инженера, некогда работавшего вместе с моим тестем Морисом Пуке. Главного инженера путей сообщения звали Леаннер. «Я учился в Кане, — сказал я ему, — и там был очень строгий пожилой преподаватель латыни, который носил ту же фамилию, что и вы…» — «Это был мой отец», — ответил он. Судьба умело ткет свое полотно. Ко мне пришел один книготорговец из Аяччо; он хотел показать мне, что все мои книги были хорошенько спрятаны в подвале его лавки. «Немцы запретили их, но они пользовались большим спросом и я продавал их. Итальянские офицеры покупали их из ненависти к своим союзникам, ведь эти две армии друг друга не жаловали». Наш командир генерал Анри Мартен побывал у итальянского коменданта генерала Мальи и добился, чтобы тот если и не выступил против своих бывших союзников, то хотя бы предоставил нам грузовики. Удивительно, что немцы, которых было несоизмеримо больше, чем нас, не сбросили нас в море, это не составило бы для них большого труда. Но они решили покинуть Корсику через несколько дней. А чтобы сделать это с наименьшими потерями и увезти с собой танки и пушки, им необходимо было сохранить за собой до самого конца лучший порт острова — Бастию, который было относительно легко защищать, поскольку сообщение с сушей осуществлялось через высокий Тегимский перевал. Я отправился к подножию перевала в Сен-Флоран и засел там вместе с марокканцами, которым предстояло захватить ущелье и во главе которых стоял полковник Буайе де Латур. Немцы обстреливали Сен-Флоран, не причиняя нам большого вреда. Наконец перевал остался позади и мы взяли Бастию. Меня поселили у директора лицея. Едва мы проникли в город, как он был подвергнут страшной бомбардировке, оказавшейся на сей раз весьма эффективной и погубившей немало народу. Этот удар был нанесен прибывшими из Египта эскадрильями союзников, желавших помочь нам и вовремя не извещенных, что город уже в наших руках! «Вот она, армия!» — как сказал бы доктор О’Грэди. О том, что значила для меня эта небольшая экспедиция, дает некоторое представление одно из моих писем жене:8 октября 1943. Где-то во Франции. «Моя дорогая, ты, конечно, знаешь, где я, в какой кампании я только что принимал участие и почему не мог писать. Дело было дерзкое и рискованное. Горстка французов на острове, занятом сотней тысяч иностранцев. Но нам повезло — успех не заставил себя ждать. Я думаю, генерал Бетуар передаст тебе мои рассказы обо всем этом. Я видел все очень близко, отчетливо, повсюду. У нас был превосходный командир, и он считал меня своим другом. Счастливая интерлюдия среди горестей, в которые мне снова предстоит погрузиться. Если бы ты была рядом, я мог бы жить здесь. Остров этот — горный сельский край невиданной и неизменной красоты. Ни одного неприглядного уголка мне пока не попадалось. Пейзаж напоминает то Шотландию с вересковыми холмами, то Италию между Флоренцией и Сиеной, то альпийские потоки, то бухты Прованса. Деревни здесь каменистые, довольно бедные, но гостей принимают с величайшим радушием. Работают очень мало; любят охоту, кафе и долгие политические беседы. В любое время дня на улице полно народу. К местным жителям прибавилась наша армия, которая нравится мне все больше и больше, марокканцы, прекрасно освоившиеся здесь, как и везде, и разъезжающие на „джипах“ по немыслимым тропам, бесчисленные грустные итальянцы — такие грустные, что хочется их утешить, да еще изысканные англичане (мне было очень приятно снова обрести в них боевых товарищей) и несколько американцев, из своих рационов помогающие нам выжить в этом опустошенном войной краю. У меня такое впечатление, что, когда мы вернемся во Францию, с пищей будет трудно. Когда посидишь на фасоли с горохом, кусочек шоколада покажется счастьем. Скоро созреют каштаны, это будет ценным подспорьем. Где то время, когда мы ели бланшированные каштаны со сливками в Эссандьерасе? Я говорил тебе, что меня спрашивали о тебе из Эссандьераса (через Красный Крест) и я им ответил? Что же касается Оливье, я все еще жду его; он пишет мне из Испании, надеется получить приказ об отъезде. У меня, дорогая моя, только одна мечта: снова зажить подле тебя, прилежно трудиться, видеть лишь редких и верных друзей, держаться подальше от политики. Толпа безумна, непостоянна, ее легко захватить, легко потерять. Вся эта суета не сулит ни уверенности, ни подлинной славы. Я бы хотел успеть написать еще несколько настоящих, долговечных книг. Где найти необходимое для этих занятий уединение? В Нёйи? В Перигоре? На Юге? Не знаю… Здесь я как бы вне общества. Если бы я хорошо себя чувствовал и мог иногда видеть тебя, кампанию эту можно было бы назвать счастливой, однако — увы!..»
Генерал де Голль приехал поздравить войска, население встречало его как героя. Люизе сказал мне: «Теперь понятно, что будет по возвращении во Францию. Всех затмит один де Голль». С 1 октября генерал Жиро уже не был сопредседателем комитета, поскольку совмещать гражданские и военные должности было запрещено, но остался верховным главнокомандующим. Освобождение Корсики было завершено, и он дал мне приказ самолетом возвращаться в Алжир. Там меня встретил генерал Девэнк. «Теперь, — сказал он, — у вас есть что порассказать американцам… Еще одна небольшая кампания в Италии, и я вас командирую в Штаты». Вернувшись с Корсики, я нашел у Анны Эргон Оливье — она поселила его у себя. Он очень тяжело перенес заключение. Для его нервной натуры это была слишком большая нагрузка. Но он очень хотел пойти на фронт, и его взяли в войска связи. Поскольку он говорил по-английски, его направили в Бари, на юг Италии, в расположение британских войск. Я и сам к концу ноября отправился в Италию на военном самолете. После захода на Сицилию я прилетел в Неаполь. Там меня поселили в бывшем французском институте, сильно пострадавшем от бомбардировок. Лестница рухнула, на второй этаж поднимались по шаткой доске. Город сохранил свое лицо. Вечерами разноязыкие офицеры ужинали у «Тетушки Терезы», и прекрасные голоса пели «Санта-Лючию». Я был прикомандирован к верховному главнокомандующему союзнических сил генералу Кларку в Казерте, бывшей резиденции короля обеих Сицилий. Американская армия разместила свой штаб в этом восхитительном парке, в этом барочном Версале, украшенном гигантскими статуями. Я провел там несколько очень интересных дней в обществе начальника штаба генерала Гантера (которого пятнадцать лет спустя мне довелось встретить в SHAPE[387] — он командовал союзными войсками в Европе. Он показал мне американские рубежи, а потом отправил к генералу Жюэну. Последний прежде всего отвел меня в расположение разных французских дивизий. С их командирами я уже был знаком. Моральный дух войск показался мне очень высоким. В офицерских столовых царили веселье и надежда. Затем генерал Жюэн взял меня с собой в инспекционную поездку вдоль линии фронта. «Будет тяжело, — сказал он мне. — Немцы окопались в горах. Взять Монте-Кассино нелегко. Но мы это сделаем». О Жиро он говорил с уважением: «Африканской армии нельзя забывать, что он добился для нее современного вооружения, а это позволяет нам здесь, в Италии, играть, как вы могли заметить, роль первостепенной важности. С другой стороны, ему мы обязаны рядом мудрых и важных решений во время тунисской кампании и освобождения Корсики. На счету этого охотника немало дичи. В военном плане лучшего предводителя не найти… А что его устранили в плане политическом, горько, но в общем-то естественно. Вишистскому правительству, продолжающему жить растительной жизнью с беспомощным главой государства, может противостоять только такая политическая организация, которая воплотит в себе сопротивление. А тут право первенства за де Голлем». Покинув Жюэна, я вернулся в Неаполь. Затем я должен был на неделю поехать в британскую армию, куда звал меня генерал Александер, и я многого ждал от предстоящего общения. Внезапно в ночь по возвращении в Неаполь у меня началась рвота и дикие боли в кишечнике. Это продолжалось несколько дней. Отравился ли я чем-то в офицерской столовой или был истощен всеми бесконечными переходами вдоль всей линии фронта? Не знаю, но никогда в жизни я не чувствовал себя так плохо. Вызвали военного врача, и он велел как можно скорее вывезти меня самолетом в Алжир. Врач советовал мне сразу по приезде лечь в госпиталь. Этого я решил не делать. Приближался день отъезда в Соединенные Штаты, и я не хотел откладывать свидание с женой. К тому же в Алжире от меня не было никакого толку (армии там уже не было), в Америке же рассказ о том, что я видел, был бы весьма полезен. Потом мне предстояло вернуться назад, чтобы быть свидетелем возвращения во Францию. Я думал, что получу приказ о командировке, как только приеду. Но все оказалось сложнее, чем я предполагал. Приказ должен был исходить из штаба союзнических сил, то есть от Эйзенхауэра. Поскольку речь шла о командировке, связанной со службой информации, американцы требовали разрешения Государственного департамента. Его взялся получить мой друг Денни, директор Таун-Холла в Нью-Йорке, где мне предстояло выступать, — его предупредила моя жена. Наконец я получил эту бумагу:
AG 201 — AGP — Моруа Андре Командировочное предписание 20 декабря 1943 г. Капитану Андре Моруа (Фр.) 1. Убыть 26 декабря или в приближенные сроки в Вашингтон, Д.К., с целью выполнения задания. По окончании временных обязанностей вернуться к месту службы. 2. Проезд военным самолетом, железнодорожным и/или другими видами наземного транспорта. По распоряжению генерала Эйзенхауэра
Только тогда Девэнк дал мне французский приказ о командировке:
Ставка Верховного главнокомандующего Военная канцелярия, Алжир, 27 декабря 1943 г. Служба связи и информации Приказ о командировке Капитана Моруа, приписанного к военной канцелярии Верховного главнокомандующего, командировать в Соединенные Штаты Америки, разрешить вывоз фотографий, рисунков и документов, необходимых для выполнения задания. Гражданским и военным властям оказывать посильную помощь и поддержку в выполнении задания. Верховный главнокомандующий генерал армии Жиро. Начальник военной канцелярии генерал Девэнк.
28 декабря в аэропорту Мезон Бланш я взошел на борт американского самолета. Пассажиров было много, и лететь пришлось сидя на листах железа. Мы совершили посадку в Касабланке, потом в Бразилии. Я был истощен дизентерией и высокой температурой, но меня поддерживала мысль о том, что новый год я начну вместе с женой.
9. Возвращение в Америку
Мой самолет сел в Вашингтонском аэропорту 31 декабря. Какое-то время ушло на то, чтобы добраться до города, найти комнату. Когда я смог наконец лечь, было два часа ночи. Симона наверняка ничего не знала о моем возвращении, и я не хотел звонить ей среди ночи. Письма по-прежнему шли очень долго, а решилось все быстро. Но, едва проснувшись, я сразу же побежал к телефону и позвонил. Она была еще совсем сонная. — Ты откуда? Из Алжира? А я думала… — Я говорю из Вашингтона и буду рядом с тобой через несколько часов. — Какое счастье! — вскрикнула она. — Ты проведешь со мной 1 января. Это просто чудо!.. Вчера у Клоделей мне было так грустно… Во сколько ты приедешь? Я встречу тебя на вокзале. Когда я увидел жену, нашу крошечную, но прелестную квартирку, шартрского ангела, я испытал невозможное, невыразимое словами счастье. Здесь нужны чистые, сверхчеловеческой высоты, парсифалевские ноты. «Но как ты ужасно выглядишь!» — сказала жена. И правда, ячувствовал себя совсем больным. Взвесившись, чего не делал уже полгода, я убедился, что потерял десять килограммов! Я пошел к своему врачу, доктору Клинту, и он назначил мне полное медицинское обследование: анализы, рентген. Результат оказался очень плохим. «Я с трудом узнаю человека, которого провожал в добром здравии пол года назад. У вас дизентерия, надеюсь, не амебная, и сердечная аритмия с тахикардией… И потом, эта ужасная потеря в весе… Вам необходимы пол года полного покоя». Легко сказать… У меня было задание: рассказать американцам о возрожденной французской армии, и я хотел его выполнить. Впрочем, «Альянс Франсез» и американские группы («Американ Лиджен», «Пен Клаб», университеты) сразу же организовали мне выступления. В лекциях я с волнением, передающимся публике, описал то, что видел. В Вашингтоне и Нью-Йорке, в Чикаго и Бостоне мне был оказан незабываемый прием. Теперь я мог сказать нашим друзьям уже не «Франция воспрянет», а «Франция воспряла». Привожу вырезку из американской газеты, чтобы дать некоторое представление об атмосфере того времени и ощутить контраст с последовавшей вскоре новой волной несчастий.«Стихийная дань. — Моруа и прежде всегда встречали бурными овациями. Но теперь, вернувшись из Северной Африки, Корсики и Сицилии с удивительным рассказом о сражавшихся бок о бок французских, американских и английских войсках, он пробуждает самые глубокие чувства. Не затрагивая политику, он заставляет слушателей почувствовать себя среди бойцов и командиров. Подчиняясь невольному порыву, аудитория в конце выступления встает и запевает „Марсельезу“. Рочестер и Чикаго подали пример. Теперь это стало чем-то вроде традиции».
Естественно, будучи в тот момент офицером, я обратился во французскую военную миссию в Вашингтоне за разрешением выступать с лекциями и печатать статьи и получил его без всяких затруднений. Генерал Бетуар отправился в Алжир, где ему предстояло стать начальником генерального штаба. Пришедший ему на смену генерал Бене представил меня полковнику Пило, офицеру с высокими интеллектуальными и моральными достоинствами. Несколько дней все шло как нельзя лучше, за исключением моего здоровья, остававшегося в плачевном состоянии и еще более ослабленного поездками. А потом неожиданно и непонятно почему грянул гром. Военный уполномоченный правительства Алжира г-н Ле Троке телеграфировал мне приказ немедленно возвращаться. Что произошло? Генерал Бене в ответной телеграмме указал на то, что я имею приказ о командировке, подписанный Верховным главнокомандующим и что задание мое далеко от завершения. Троке ответил, что Верховный главнокомандующий не имел права подписывать подобный приказ. Точнее было бы сказать, этого права его только что лишили. Еще один прискорбный эпизод борьбы двух французских штабов. — Что же вы будете делать? — спросил меня полковник Пило. — А что я могу делать? Подчиняться. — Тогда вам снова придется перенести весь набор прививок: желтая лихорадка, столбняк и так далее. — Отлично. Я попрошу своего врача этим заняться. При моем нынешнем весьма ненадежном здоровье во время этой серии шоков мне надо быть под наблюдением. Когда я сказал доктору Клингу, что собираюсь ехать обратно, и попросил сделать мне прививки, он был возмущен. «Это просто бред, — сказал он. — Вы слишком серьезно больны, вам не вынести ни уколов, ни военной жизни. Я категорически отказываюсь отправлять вас туда; я дам вам справку». — Я хочу ехать. — А я против этого! — Я пойду на консультацию к председателю американской корпорации медиков. Светило обследовал меня со всех сторон и пришел к заключению, что помимо нарушений сердечной деятельности у меня еще и хронический аппендицит. (Диагноз был верным, так как позже мне пришлось сделать операцию.) Я очень расстроился, потому что стремился доказать Ле Троке, что остаюсь дисциплинированным солдатом. Полковник Пило, к которому я обратился за советом, сказал: «Я направлю вас на военно-медицинскую комиссию. Тогда посмотрим». Вывод комиссии слово в слово подтвердил заключение нью-йоркских экспертов. После этого приговора Ле Троке оставил меня в покое. Десять лет спустя я встретил его на фестивале в Сен-Мало, проходившем под его председательством. Я должен был выступить там с речью о Бернарде Шоу — его «Цезаря и Клеопатру» играли под открытым небом. Ле Троке представил меня публике, воздавая хвалы писателю, человеку и гражданину. За ужином, где мы сидели рядом, я не смог удержаться и спросил его: — Какого черта вы меня дергали в 1944-м, ведь я работал на благо родины? — Я? — сказал он. — У меня не было ни малейшего желания вас дергать, но телеграммы некоего француза из Нью-Йорка вынуждали меня вас отозвать… Что я и сделал… Вот и все. Я снова принялся за работу. В перерывах между поездками я писал роман «Земля обетованная» и собирал материалы для «Истории Франции». Я знал, что «Историй Франции» написано много, но американцы их почти не читали, а мне казалось полезным показать им роль Франции в западной цивилизации. Кроме того, мне хотелось, чтобы эта история отличалась от предшествующих. Чтобы она не только излагала факты, но и трактовала их, опираясь на великие идеи и личности. Как я уже говорил, у меня была старая привычка каждые полгода составлять план работы. Вот запись на 1944 год из моего «Садка».
План работы История Франции. Жизнеописания: Толстой, Бальзак, Констан[388], Ламартин, Санд, Браунинг[389]. Литературные исследования: Бодлер, Верлен, Рембо, Малларме, Валери. Романы: «Бертран Шмидт в изгнании» (роман в письмах). «Огненные птицы». «Соланж на войне». Музыкальный роман. Центральная идея: художник, живущий ради того, чтобы выразить нечто, присущее ему одному. (Как Дебюсси — натура, чуждая условных форм.) Законный эгоизм такого рода человека, которому приходится оберегать свое творчество. Любовь для него — только средство. Писать героя частично с Дебюсси, частично с Вагнера. Рассказ от лица очевидца: «Я поначалу думал написать его биографию, но…» Эссе: «Я думаю…» «Иллюзии». «Монологи мертвых» (наподобие Браунинга и «Понтия Пилата» Клоделя). Новеллы: Показать персонажей моих романов в условиях этой войны. Отправить сына Изабель Алена Марсена в Нью-Йорк. Сделать Бернара Кенэ офицером «Свободной Франции». «Голые факты»: в тоне «Что я видел» Виктора Гюго.
* * *
Многие из этих проектов стали книгами; некоторые остались в лимбе замыслов. Очень жаль, они почти вызрели. Что же касается лекций, я много выступал на тему «Общего наследия», то есть наследия нашей цивилизации, основанной одновременно на греческой мудрости, римском законе и иудео-христианской религиозности. Я старался показать, что в сохранении этой цивилизации Франция может играть столь же значительную роль, что и раньше. Мне помогали университеты. Мой друг Уильям Аллан Уайт, журналист, большой души человек, так славно потрудившийся во имя союзнического дела, умер в январе 1944-го. Но незадолго до того он представил меня другому выдающемуся журналисту, своему соседу, Генри Гаскеллу из «Канзас-Сити стар». Знакомство для меня важное, ибо Генри Гаскелл позаботился о том, чтобы меня на две недели пригласил молодой университет Канзас-Сити. Я упоминаю об этой поездке среди многих других, потому что она была приятной, плодотворной и потому, что ей суждено было повлиять на продолжение этой истории. Ректор университета Кларенс Декер и его жена Мэри, у которых я жил, действительно стали для меня очень близкими друзьями, а Дек (прозвище ректора) попросил меня снова приехать на целый семестр в начале 1946 года прочитать курсы лекций о Бальзаке и Толстом. Не зная, что ждет нас впереди, я согласился.В августе 1944 года в Нью-Йорк пришла весть об освобождении Парижа. Это был день небывалого счастья не только для нас, французов, но и для наших американских друзей. Вся Пятая авеню была украшена сине-бело-красными флагами. На площади у Рокфеллер-центра стихийно собрался митинг. Генеральный консул Франции Герен де Бомон выступил с речью, говорил очень хорошо. Лили Понс спела «Марсельезу». Моя жена плакала, и я, по-моему, тоже. Во Франции освободили мою мать и привезли домой, в Нёйи. Эмили и Гастон Вольф бережно ухаживали за ней, моя дочь почти каждый день приходила ее навестить. Мама говорила: «Теперь я снова увижу сына». Но плен подорвал ее силы; в ее возрасте, с ее недугом жить в обшей комнате было очень тяжело; и хотя мужеством и стойкостью она вызывала восхищение товарищей по заключению (многие говорили мне об этом), вышла она оттуда истощенной и обессиленной. Через несколько недель после возвращения в Нёйи она умерла от кровоизлияния в мозг. Гастон Вольф закрыл ей глаза. Мы узнали об этом сначала из телеграммы, потом из писем. Для меня это было большое горе. Она, как и отец, была человеком безупречным; ей я обязан первым знакомством с поэзией, с книгами; я восхищался ею не меньше, чем любил ее. Я видел ее во сне: она стояла в своей эльбёфской гостиной с закрытыми ставнями возле красивого книжного шкафа золотистого дерева и выбирала для меня томик Расина, Виктора Гюго или своих любимых моралистов (Ларошфуко, Паскаль[390], Лабрюйер[391], Вовенаг[392]) — эту книгу она девушкой получила в качестве почетной награды. Я по-прежнему страстно желал вернуться во Францию, но с уходом матери возвращение это уже было не таким, как я мечтал, и у счастья моего появилась на рукаве траурная повязка. Родители жены решили оставить особняк на улице Ош (который на самом деле принадлежал Симоне, но они всегда там жили) и окончательно переселиться в Эссандьерас. Они писали, что наша квартира на бульваре Мориса Барреса разгромлена. Это было преувеличением, но для нормальной жизни там предстояло сделать немало. Нужно было покрасить стены, купить занавески, ковры. Симоне хотелось отправиться на разведку, временно остановиться в Нёйи и заняться восстановительными работами; мы договорились, что я последую за ней, как только выполню все свои американские обязательства, последним из которых был семестр в университете Канзас-Сити (январь — июнь 1946 года). Сразу же после капитуляции Германии в мае 1945-го мы отправились к генеральному консулу Франции Герену де Бомону и попросили помочь жене выехать. Он сказал: «Сделаю все, что смогу, но еще некоторое время это будет нелегко. Война на Дальнем Востоке продолжается. Через океан ходят только суда, перевозящие войска, и боевые корабли. Они находятся в ведении американцев, которые, насколько мне известно, не берут женщин. У вас с ними замечательные отношения. Попробуйте. А я вас поддержу». Благодаря ему уже в августе Симона получила каюту на сентябрь на «Вулкании», итальянском транспортном судне, захваченном американцами, которое должно было отвезти во Францию санитаров, военных врачей и лекарства. Как только наши друзья в Нью-Йорке узнали, что она возвращается, все стали умолять ее взять подарки, одежду, пищу для их близких, лишенных всего. Один только Морис де Ротшильд прислал нам на квартиру огромный багаж. Вскоре у Симоны было одиннадцать чемоданов. Чтобы получить разрешение на их погрузку, понадобилось изрядно похлопотать. Наш благодетель Герен де Бомон облегчил формальности. Я чувствовал себя одновременно несчастным, оттого что оставался в Америке без жены, и счастливым, сознавая, что она едет подготавливать нашу жизнь во Франции, и предвкушая радость, которую подарки доставят нашим близким. Иллюминаторы корабля, на котором плыла Симона, были заделаны черной материей. В Гавре ее встречали Морис Пуке, Эмили и Гастон Вольф. На бульваре Мориса Барреса она нашла пустые книжные полки. Ее сразу же стали приглашать к себе друзья: Мориаки, Лакретели[393], Эдме де Ларошфуко, Пьер Сарду и еще два десятка домов. Чтобы поздно возвращаться из гостей, ей понадобилось разрешение, так как в Париже еще действовало что-то вроде комендантского часа. Она отправилась к новому префекту полиции Люизе. Он знал меня по корсиканской кампании и дал ей все необходимые бумаги. Она бы охотно провела зиму в Эссандьерасе, где было отопление, но в Париже не хватало жилья и пустующие квартиры могли быть реквизированы. Так что Симона, съездив ненадолго в Перигор повидаться с матерью, временно обосновалась в Нёйи. В декабре Жорж Дюамель и его жена Бланш известили меня о своем приезде в Нью-Йорк. Дюамель должен был прочесть лекцию во Французском институте. Я предложил им поселиться у меня, поскольку после отъезда Симоны комната, служившая ей кабинетом, был свободна. Дюамель приехал в Америку впервые после того, как опубликовал свои антиамериканские «Сцены будущей жизни», и я знал, что многие газеты готовили враждебные статьи. У меня было достаточно друзей среди журналистов, чтобы погасить эту кампанию, и все прошло хорошо. Я с радостью показывал Жоржу музеи, водил в концерты, чтобы он убедился, что в Соединенных Штатах музы занимают больше места, чем агенты по делам иммиграции, о которых он сохранил столь дурное воспоминание. Мы замечательно проводили время, хотя Дюамель так и не мог простить американцам, что они не французы. «Мне смешно слышать их английский», — говорил он. Приезд Дюамеля был для меня краткой и счастливой интерлюдией. Сколько прекрасного мы повидали вместе с ним: полотна Коро в «Метрополитен»; стрельчатые своды Музея монастырей; шпалеры с единорогом, в которых Бланш Дюамель увидела символическое изображение истории Франции; и это возвращение в тумане из Стэйтен-Айленда в Нью-Йорк рядом с «Вулканией» — кораблем, на котором уехала Симона и который возвращался из Европы, полный необычайно возбужденных солдат. «У нас был просто кубистский день», — сказал мне в тот вечер Дюамель. За несколько дней до Рождества мои друзья сели на маленькое норвежское судно, блестящее, таинственное, ибсеновское. Мне было грустно прощаться с ними и приятно сознавать, что скоро мы снова увидимся в Париже. Во всех расставаниях той поры была какая-то горькая нежность.
10. Конец изгнания
Игру должно вести время, а человек лишь следует ему.1 января 1946 года. Печальное пробуждение. Я один. Каждый год в этот зачинательный день я, как Бастер Браун, принимаю множество решений: работать, работать, работать. Жить во Франции, желательно в деревне — там дни вдвое длиннее. По возможности подниматься над нашим трудным временем и видеть в нем не острое орудие моральной пытки, но спектакль, который надо описать. Не позволять себе страдать от воображаемых невзгод, в то время как столько людей страдают от невзгод истинных и непреодолимых. Быть во всем точным и справедливым… Но к чему этот перечень решений? Им надо следовать в жизни. Около десяти за мной зашли наши друзья Мийо, и мы поехали обедать за город к Пьеру Клоделю. Серьезная и трепетная Виолен читала Виньи. Доминик разбирала пьесу, написанную для нее Мийо, — «Здравствуй, Доминик!». Дом Пьера и Марион расположен в двух часах езды от Нью-Йорка и отгорожен от внешнего мира лесами и лугами. Сколько мудрости в том, чтобы вот так удалиться от города, укрыться среди деревьев и книг и там воспитывать детей! День, проникнутый прекрасным ощущением душевности и семейного уюта.Ален
4 января. Приехал Жеральд, которого я не видел шесть лет. Я волновался, тревожился. Каким я его найду? Он плыл на маленьком французском судне «Дезирад», у которого в непогоду ушло на этот путь три недели. В агентстве «Трансат» мне сказали: «В девять часов». Последний раз я был на пирсе, когда с щемящим сердцем провожал Симону во Францию… Сегодня утром многие нью-йоркские французы пришли сюда, как и я, встречать своих детей, родных, друзей. Вчерашние политические противники косятся друг на друга, колеблются, потом улыбаются и взволнованно протягивают друг другу руки. Долгое ожидание в пакгаузе, некогда набитом багажом, а ныне пустующем. И вот наконец к пристани подплывает, словно лебедь из «Лоэнгрина», на удивление маленькое судно. И сразу же на верхней палубе я вижу Жеральда, который ищет меня глазами. Ему удается выпрыгнуть на пристань и прокричать мне через головы американских чиновников: «Не ждите, возни с оформлением хватит на два часа. Я приду к вам в гостиницу. О’кей?» Я отвечаю: «О’кей!» Вот самое интернациональное словечко!
В тот же вечер. Он очень изменился. Стал более зрелым. Необходимость сделала его энергичным. Ушел в прошлое избалованный ребенок, привыкший жить на всем готовом, которого я покинул в 1940 году. Я заранее предвкушал, как буду показывать ему Нью-Йорк и наслаждаться его удивлением, но ему как будто все знакомо. Америку он знает по фильмам и по армии и не чувствует себя здесь за границей. На вечер мне удалось взять два билета на «State of the Union»[394], политическую комедию, доброжелательную сатиру. «Американская публика смеется так, как в Европе уже не смеются», — заметил Дюамель. Жеральду было очень весело: «Какие хорошие актеры!» — сказал он. And so to bed[395].
Я спешил устроить Жеральда в своей квартире, ибо отъезд в Канзас-Сити был неминуем. Хватит ли у него средств, чтобы остаться в этой гостинице? Должно хватить, ведь я благодаря Филиппу Картни нашел ему место у Коти, к тому же мог отдавать ему часть своего профессорского жалованья. В Канзас-Сити жизнь недорогая. Я знал, что мой друг ректор Кларенс Декер — для своих Дек — снял для меня за сорок долларов в месяц две комнаты в Эпперсон-Хаузе — доме, странным образом соединившем в себе черты нормандского шале и феодального замка и доставшемся университету по завещанию одного местного мецената. Еда в кафе обойдется в один доллар. Да, я вполне смогу помогать сыну. Заехав ненадолго в Сент-Луис (штат Миссури), чтобы прочитать лекцию, 23 января я прибыл в Канзас-Сити. Кое-кто из моих восточных друзей был удивлен, что я согласился четыре месяца преподавать в таком молодом учебном заведении, в то время как многие престижные университеты предлагали мне гораздо лучше оплачиваемые должности. Но я ни о чем не жалел. Вернуться в этот город меня побудила дружба. Как я уже говорил, Дек и его жена Мэри оказывали мне самый сердечный прием во время моих предыдущих приездов. Этот молодой, исполненный энтузиазма ректор сам был похож на студента. Вокруг них собрались образованные люди: Генри Гаскелл, директор «Канзас-Сити стар», влиятельной и единственной в этом регионе газеты; Эрнест Хауард, инженер, строитель мостов; художник Томас Бентон[396]; профессор Крейн, известный специалист по Бальзаку. Их общество значило для меня больше, чем солидное жалованье. Я должен был читать два курса: первый, по утрам, об искусстве биографического жанра; второй, общий курс, по вечерам, — об отдельных писателях. Месяц — о Бальзаке, месяц — о Толстом, месяц — о Прусте, месяц — о По. Биографический курс несколько меня озадачил. Шестьдесят часов! Я вышел из положения, решив говорить не только о материале, но и о стиле; определенное число биографий я взял за основу для изучения композиции, а каждого студента попросил написать большое эссе, выбрав персонаж по собственному усмотрению. Чтение в классе, комментирование и обсуждение этих эссе оказалось наиболее плодотворной частью наших занятий. Еще при первой встрече я попросил каждого выбрать тему. Неожиданность: никто не хотел писать о великих исторических деятелях собственной страны. Ни о Вашингтоне, ни о Джефферсоне, ни о Линкольне. Один человек назвал Рузвельта и один — Уилки. Остальные взяли писателей: Томаса Вулфа, Эмили Дикинсон, Хемингуэя, Уолта Уитмена, Т.-С. Элиота, Стивенсона, Свифта. Или художников: Ван Гога, Пикассо. Попадались профсоюзные лидеры и промышленные магнаты. А также композиторы: Шопен, Бетховен, Шуберт, Бах, Чайковский, Гершвин, Дебюсси. На мой курс записались сорок студентов — юношей и девушек. Я всегда любил преподавательскую работу. Мне нравится заниматься огранкой умов. Редко в моей аудитории собиралась такая сильная группа. В первых рядах были фронтовики, получавшие стипендию от государства; война привила им умение разбираться в людях и научила суровой философии; блестяще зарекомендовали себя три или четыре девушки. Все эти дети фермеров или ремесленников обнаружили тягу к культуре и недюжинный ум, что доставляло мне большую радость. Что же касается общего курса, то аудитория, хотя и большая, не могла вместить всех желающих, несмотря на неискоренимый французский акцент, из-за которого мой английский с трудом воспринимался уроженцами Среднего Запада. Вскоре вся городская элита говорила о Бальзаке, Толстом и Прусте. Представляю, что можно было бы сделать в этой стране для французской культуры и для культуры вообще, если б два десятка французов, владеющих английским языком и преданных своему делу, предприняли бы нечто вроде крестового похода. В конце курса по Бальзаку я набросал план «Американской комедии». «Может, кто-нибудь из вас, — сказал я своим студентам, — попытается стать в нынешних Соединенных Штатах тем, чем был Бальзак для Франции своего времени. Для молодого американского писателя это было бы великое и благородное стремление. Почему Бальзак по справедливости считается самым знаменитым из французских романистов? Потому что он имел мужество вывести не только отдельные общественные слои, но и общество в целом. Как ему это удалось? Благодаря созданию двух тысяч характеров, во многих из которых типичного столько же, сколько и индивидуального, — и этого оказалось достаточно, чтобы в сотне романов и новелл представить чуть ли не все разновидности рода человеческого. Понемногу читатель узнает этих героев, особенно когда они встречаются в нескольких романах, лучше, чем знает людей в реальной жизни. Бальзак, как и обещал, заменил собой национальную службу регистрации гражданского состояния и создал целый мир. Так разве невозможно попытаться сделать для Америки XX века то, что сделал Бальзак для Франции ХIХ-го? Вы, как и он, принадлежите к относительно стабильному обществу, которое тоже выработало типы. Некоторые из ваших романистов, Синклер Льюис[397] например, могли бы, если бы захотели, создать между своими книгами такую же связь, какая существует между книгами Бальзака. Но они предпочли писать отдельные произведения, и ваша „Американская комедия“ еще ждет своего демиурга. Ваши две тысячи типичных персонажей ищут автора. Неужели он не придет? Весьма очевидно, как должен выглядеть план его произведения. Он будет отличаться от бальзаковского плана, учитывая необъятность территории и региональные различия Америки. Итак, первую серию романов следовало бы посвятить наиболее ярко выраженным местным типам. Один из вас, кому я говорил об этой идее, дал мне список названий для „Сцен региональной жизни“: I. „Джентльмен Старого Юга“. — II. „Бедные белые“. — III. „Ривертаун“. — IV. „Цветные“. — V. „Миссуриец“. — VI. „Последний из пуритан“. — VII. „Нью-йоркский житель“. — VIII. „Миннесота и скандинавы с Великих Озер“. — IX. „Родина-чужбина“ (квартал недавних эмигрантов в Чикаго). — X. „Море, или Блюдо с омарами“ (Мэн). — XI. „Фриско“. — XII. „Пастухи“ (Северо-западное побережье Тихого океана). — XIII. „Бордертаун“ (граница с Мексикой). — XIV. „Даллас, Техас…“ Некоторые из этих названий вполне приемлемы; иные можно было бы улучшить, но географически все распределено более или менее так, как сделал бы сам Бальзак. Затем он, скорее всего, занялся бы изучением социальных и профессиональных групп. „Сцены политической жизни“: I. „Мэр Мидлтауна“ (выборы, честные способы и подкуп избирателей). — II. „Машина“ (в политическом смысле слова). — III. „Депутат в зените“. — IV. „Сенатор“. — V. „Мнение меньшинства“ (роман о Верховном суде). — VI. „Группа давления“ (исследование „лоббизма“, кулуарные интриги в Вашингтоне). — VII. „Дом на Р-стрит“. — VIII. „Хозяйки больших салонов“. — IX. „Секретная служба“ (роман о Белом доме)… Естественно, нашему романисту предстоит создать собирательный образ президента и вице-президента… Вашингтон станет также местом действия некоторых из „Сцен военной жизни“. Например: „Пентагон“. Но армия и флот должны быть представлены в другой серии, аналогичной той, от которой Бальзак оставил нам, к сожалению, только план; в нее должны были войти темы: французы в Египте, консульская гвардия, Москва, алжирские пираты и два десятка других. „Сцены деловой жизни“, естественно, будут связаны со сценами политической жизни множеством общих персонажей. Там должен быть роман о гигантских банках Нью-Йорка, еще один — о провинциальном банкире; один — о больших магазинах: „Барген бэйзмент“ (совершенно не похожий на „Дамское счастье“ Золя); один — о промышленнике типа Генри Дж. Кейзера; один или два — о жизни профсоюзов и их лидеров; один — о черном рынке („Нейлоновый чулок“). Некоторые типы будут сильно отличаться от аналогичных типов у Бальзака и дадут материал для превосходных диссертаций на докторскую степень 2000 года. Ростовщик Гобсек из „Человеческой комедии“ был человеком с тонкими губами, носил потертую одежду и жил в убогой комнатенке; американский Гобсек будет веселым молодцом, владельцем небоскреба („Гобсек Лоун энд Кэш Ко“), восседающим в мягком кресле роскошного офиса. Ко всему этому надо, как у Бальзака, прибавить жуликов („Underworld“[398]), а также, разумеется, полицию. Будет в „Американской комедии“ роман, чрезвычайно интересный для написания, посвященный ФБР, организации, превосходящей все, что могли вообразить Бальзак и По. Не надо также забывать о „Сценах религиозной жизни“, столь разнообразной в Америке из-за обилия конфессий и сект, „Сценах учебной жизни“ и особенно о „Сценах литературной и артистической жизни“. Один роман, „Бестселлер“, покажет механизм, выпускающий и распродающий миллионные тиражи. В „Миссии“ можно будет раскрыть контраст между творчеством великого писателя и крахом его частной жизни. В „Fifty-seventh Street“[399] наш Бальзак займется изучением того, как несколько богатых женщин, несколько специалистов и один умелый торговец прокладывают путь начинающему художнику; а в „Рембрандте мистера Прига“ — как миллионер покупает подделку. Что же касается театра и Голливуда, тут он найдет два неистощимых источника. Во всех этих циклах определенную роль будут играть журналисты, служители закона, врачи, но сами циклы должны быть иными, чем у Бальзака, с учетом своеобразия американских нравов. Например, один из вас подсказал мне идею „Сцен дорожной жизни“, ведь американцы и в самом деле беспрестанно бороздят страну вдоль и поперек. Видите, чем пристальнее мы изучаем этот проект, тем более осуществимым он нам представляется; единственное серьезное возражение — то, что он слишком обширен, и ни одному писателю не под силу изучить все американское общество. Но ведь и сам Бальзак знал далеко не все французское общество. Он наводил справки, ездил, наблюдал. В разных кругах у него были друзья, помогавшие ему своим опытом. В самом деле, „Американскую комедию“ можно и нужно написать. Как я себе представляю, молодой писатель лет тридцати, который возьмется за нее сегодня и будет, как Бальзак, писать по четыре романа в год на протяжении двадцати лет, как и он, умрет за этим занятием, но оставит после себя бесценную картину своего времени и станет величайшим американским романистом всех времен. Мне кажется, этому стоит посвятить жизнь». У меня бывали гости, и это помогало выносить долгое ожидание. Из Нью-Йорка приехал мой сын Жеральд и был удивлен красотой садов и домов. Мои друзья из Канзас-Сити очень старались, чтобы ему было хорошо. Мэри Декер устроила ужин в его честь; преподаватель русского языка Соловейчик пригласил его на типично русский обед: борщ, блины с икрой. Жеральд привязался к Америке, но работа у Коти ему не нравилась. Мысли его, как и мои, уносились за океан. Каждое утро я с щемящей тревогой ждал писем из Франции, писем в зеленых, фиолетовых, красных конвертах, с головой Республики, увенчанной лаврами. Вынимая почту, я гадал: «Кто из друзей даст о себе знать на этот раз? Чей зов из далекой родной страны достигнет моих ушей? Какого ребенка, какую семью обрадовали мои посыпки с одеждой и продуктами?» А вот и знакомые продолговатые конверты с синими и красными полосочками по краям — я знал, что они надписаны ровным угловатым почерком моей жены и что в них содержатся все те же просьбы: «Заканчивайте поскорее свой курс и приезжайте в Нёйи…» «Возвращайтесь, вас все ждут», — взывал ко мне мелким почерком Эмиль Анрио. Маленькие желтые конверты из шероховатой бумаги, надписанные детским почерком, — наверное, из какой-нибудь перигорской или нормандской школы… Но в то утро мой взгляд сразу привлек один зеленый конверт. Какой твердый почерк, сплошной нажим, как только не рвется бумага — похоже на Алена. Спешу вскрыть… О радость, радость до слез… Это Ален: «Всем сердцем ваш…» Читаю и перечитываю эти несколько строк, отмеченных когтями старого льва. Потом раздается звонок; пора начинать лекцию; но, входя в аудиторию, я как будто вижу перед собой на скамье молодого человека, «который похож на меня, как брат», а в окне — зубчатые башни того самого Руана, что теперь несет на своем теле такую жестокую рану. Как-то в апреле, в воскресенье, ко мне в комнату вошел иезуит отец Минери в форме капитана спаги[400]. Он состоял в дивизии Леклерка[401]. В нем, таком молодом, энергичном, я с радостью увидел француза, сохранившего безграничную веру в свою родину. Я попросил его занять на следующее утро мою кафедру и поговорить со студентами. На превосходном английском он описал страдания молодых французов под игом оккупации и опыт, которым обогатились лучшие из них: бесстрашие, твердая воля, общение с людьми помимо сословных перегородок. Декеры пригласили его на чай. Студенты осаждали его вопросами: «Вы были офицером действующей армии? Церковь вам это разрешила?» — «Конечно, все французские священники, кто только мог, были солдатами». Уезжая, он сказал мне, что ему очень понравилась эта атмосфера молодости и дружбы. Мне она тоже нравилась. Приятно было после рабочего дня, часов в семь, услышать стук в дверь и увидеть хорошенькую девушку. — Профессор, вы свободны сегодня вечером? — Как будто бы да. — Тогда я приглашаю вас поужинать, а потом сходить со мной в кино. Но сердце мое рвалось во Францию. Я знал от жены, что наша парижская квартира будет готова в июне. Мой нью-йоркский издатель Креспин, которому принадлежали права на французские издания моих произведений военных лет, поехал в Париж, чтобы заняться их осуществлением. Он писал мне, что его встретили восторженно. Я зря боялся — меня, кажется, не совсем забыли. Приближался конец семестра. В день моей последней лекции Дек произнес небольшую речь о роли французской культуры в мире и значимости моих лекций для университетской общины. Многие из моих верных слушателей подошли пожать мне руку и пожелать всего хорошего. «Good luck! Come back to us!»[402] В Эпперсон-Хауз я возвращался, нагруженный тяжелыми томами Пруста, а над головой у меня простирался небесный свод, усеянный звездами. Ночь была теплой, спокойной, счастливой. «Когда-нибудь, — подумал я, — я пожалею об этом прекрасном месте, об этом единодушии и дружбе». 31 мая. Экзамены. Студенты и студентки по очереди заходят в кабинет. До чего же приятно видеть, как за эти месяцы работы раскрылись несколько блестящих умов. Дарлен Ван Бибер, очаровательная девушка (которая хочет быть актрисой), сказала мне: «Вы даже не представляете, что вы сделали для меня, раскрыв мир Бальзака, Пруста… От этого вся жизнь моя пойдет по-другому». Другая студентка рассказала: «Однажды в трамвае я читала Толстого, готовясь к вашему занятию… Сидевшая рядом со мной пожилая дама заглядывала мне через плечо. Вдруг она сказала: „Семья Ростовых — прелесть, правда?“ Мы стали говорить о Вере, Наташе, Соне. В конце концов она пригласила меня к себе и мы очень подружились. И это чудо сделал Толстой». Я ненавижу отъезды и расставания. Зачем убивать росток счастья? Эпперсон-Хауз, показавшийся мне зимой таким мрачным, на ярком солнце стал уютным и милым. Чудесное было время. Я ничего не имел, ни за что не отвечал, кроме своего курса. Вокруг меня снова собиралась классическая библиотека; ведь куда бы я ни приехал, я везде окружаю себя книгами. У меня был постоянный распорядок дня. Глубже становились человеческие привязанности. Вот награда за долгий труд! Так стоит ли, увидев первые всходы, уезжать, не собрав урожая? Стоит; больше всего мне хочется вернуться во Францию и там жить.
Оставалась только церемония напутствия, на которой студентам вручают дипломы. Накануне была репетиция. Университетский хор пел «Gaudeamus igitur juvenes dum sumus». Студенты и преподаватели облачились в традиционные одежды. Дек хотел, чтобы я надел свою красную мантию доктора Оксфордского университета, но у меня ее не было. Студентам присваивались те же степени, что и в Сорбонне, Кембридже или Болонье: бакалавр, магистр искусств, доктор. Европейское средневековье оживало на равнинах Среднего Запада. Поскольку я был иностранным гостем, мне доверили почетное право произнести «напутственную речь», которую в Соединенных Штатах называют «Commencement Address», ибо конец учебного года рассматривается как начало нового пути, новой жизни для студентов. В своей речи я обращался к Америке, призывал не забывать о долге перед миром, которому она обязана своей силой и богатством, и осуждал пессимистический фатализм, твердящий о неизбежности третьей мировой войны.
* * *
«Прежде всего мы можем и должны хранить веру в жизнестойкость западной цивилизации; перед лицом величайшей катастрофы и неуверенности в будущем некоторые склонны пожать плечами, разувериться в человеческом разуме и заключить: „Если все остальные перестали бороться за лучшее, почему бы и мне не поступить так же?“ Если все мы станем так думать, партия будет проиграна. Основы мира заложены в людских сердцах, или же их вообще не существует; мы должны хранить веру в нашу веру. Что может сделать каждый из нас? Когда речь идет о жизни и смерти, мы не должны допускать, чтобы наши страсти, интересы или наша лень влияли на наши суждения: этим проблемам мы должны уделять больше внимания, чем самым насущным из своих личных, потому что, если разразится третья мировая война, это будет означать одновременно конец и лично для нас, и для наших проблем. На вас, американцах, ответственности больше, чем на ком бы то ни было, ибо вы теперь — одна из двух самых могущественных наций земли; мысли ваши должны быть достойны вашей силы; мир означает самоконтроль, жертвенность и способность понять противника; мир означает помощь голодающим и обездоленным и защиту угнетенных; мир означает понимание прошлого, потому что прошлое — это ключ к настоящему; другими словами, мир означает культуру и воспитание. На днях я говорил с одним молодым французским офицером, который был в Эльзасе, когда немцы перешли в контрнаступление и чуть было снова не взяли Страсбург; это было бы страшным ударом, так как Страсбург для нас не просто город, это символ французского единства; было крайне важно не дать прорвать линию обороны. Молодой капитан сказал мне: „Под моим началом была всего сотня солдат, но у меня было странное чувство, что, если мы удержим свой маленький сектор, все будет хорошо; это, конечно, не совсем так… и все же, если бы все маленькие секторы чувствовали так же и решили никогда не сдаваться, линия действительно не могла бы быть прорвана, — и она не была прорвана“. Мы сегодня в том же положении: если мы не хотим, чтобы линия мира снова была прорвана, каждый из нас — мужчина или женщина, юноша или старик — должен сказать себе: „Все зависит от меня, и я сделаю все, что в моих силах“. Это не даст нам уверенности в том, что битва за мир будет выиграна, но без этой обшей воли, без этой веры в свою веру выиграть битву за мир наверняка невозможно. И вот пришло время покинуть это содружество, ставшее для меня чем-то вроде земного рая; прощайте, мои студенты! Работа, проделанная некоторыми из вас, останется одним из самых дорогих моих воспоминаний! Прощай, прелестный „кампус“, где под переменчивым миссурийским небом вечно купаются Три Грации! Прощайте, Музы, увенчанные фиалками, вы так часто помогали мне забыть грустные воспоминания и мрачные прогнозы! Прощай, Америка… Я не скажу, как Байрон: „Прощай, и если навсегда, то навсегда прощай…“ Нет, я всем сердцем надеюсь, что это не навсегда; я надеюсь однажды приехать сюда снова и еще раз испить вместе с вами из вашего источника юности. Прощай, Америка, ты — последняя и лучшая надежда нашей земли и хранительница наследия человечества; мы знаем, что оно в хороших руках, и уверены, что оно будет спасено».На следующий день, 3 июня, в 6 часов утра, я должен был вылететь в Нью-Йорк на самолете «Констеллейшн». Дек и Мэри встали ни свет ни заря, чтобы проводить меня на машине на аэродром. Они принесли мне текст передовой статьи, которую должна была опубликовать (и опубликовала) в тот же день «Канзас-Сити стар». Хотя она слишком лестна для меня, я все же позволю себе привести оттуда несколько фраз, так как они помогают понять, какую роль мне удалось сыграть в этом городе и в этой стране.
МОРУА В КАНЗАС-СИТИ В течение последних месяцев Франция имела в Канзас-Сити замечательного представителя в лице Андре Моруа… Его роль заключалась в том, чтобы объединить французов и помочь американцам понять гений и судьбу Франции. Французская революция, писал Шатобриан, вырыла кровавый ров. Один из аспектов миссии г-на Моруа заключается в том, чтобы помочь засыпать этот кровавый ров… Другой ее аспект — показать иностранцам, что Франция далеко не погибла, что факел европейской культуры, который она так долго несла, не угас. Благодаря мудрости г-на Моруа, его тонкости и высоте чувств лекции его стали для слушателей уникальной школой. Они пробудили новое понимание того гения, что, несмотря на временные затмения, не перестает сиять сквозь века во французской нации.
О большем вознаграждении я не мог и мечтать. Но жизнь — это сон. Еще вчера студенты, работа, лекции заполняли всю мою жизнь. Несколько часов в воздухе — и уже столь недавнее прошлое отошло в бледный мир воспоминаний. В Нью-Йорке я снова встретился с теперь уже единым мирком местных французов. Две французские газеты устроили «ужин единства», на котором был и я. Чествовали Жюля Ромаена, только что избранного во Французскую академию. Симона должна была прилететь из Парижа 11 июня. Уезжала она только затем, чтобы подготовиться к нашему переселению. В нью-йоркской квартире у нас скопилось несметное множество бумаг, книг и тысяча предметов, которые могли нам пригодиться для восстановления нашего дома. Она уже на славу потрудилась, привезла из Эссандьераса картины, отправленные туда в 1940-м, забрала часть мебели с улицы Ош, где не хотела больше жить ее мать; но предстояло еще многое сделать, чтобы склеить осколки нашей жизни. Самолет прилетал в семь часов утра в аэропорт Гуардиа-Филд. Естественно, я был там уже в шесть. Наконец приземлился большой лайнер, и я сразу же увидел в одном из иллюминаторов Симону. Конец тревогам! Три дня, разбирая бумаги и упаковывая вещи, мы с женой беспрестанно говорили о том, что она видела и слышала во Франции. Дочь Мишель она нашла похудевшей, но полной мужества. Эмили и Гастон Вольф присматривали за нашей квартирой. Будут ли у нас средства, чтобы оставить ее за собой? Сразу же после освобождения арест, наложенный на мое имущество, был снят, но в банках Симоне сказали, что, поскольку делами никто не занимался, счета значительно сократились. Нажитого состояния у нас больше не было. Зато мои книги, снова поступившие в продажу, опять заняли свое место во всех книжных магазинах. Страдания французов и особенно наших родственников и друзей-евреев бесконечно превосходили все, что мы могли себе представить. В Нью-Йорке мы читали статьи, смотрели фильмы, слушали рассказы, но не соприкасались с людьми и не знали кошмара повседневного накапливающегося страха. «Когда я увидела, — говорила Симона, — что семьи, которые мы знали такими счастливыми, сократились до одного ребенка, до одного старика, я была потрясена… Материально нам будет трудно. Все дорого, удручающие налоги. Конечно, дома мы не сможем жить так, как жили бы здесь. И все же там мне лучше… Не стоит жалеть о вашем долгом отсутствии; все в один голос говорят: если бы вы остались во Франции во время оккупации, вас бы уже давно не было в живых. Немцы двадцать раз приходили с обыском в дом моих родителей в Пери-горе, чтобы выяснить, не там ли вы прячетесь… Но когда отсутствие затягивается, утрачивается живая связь. За один месяц в Париже вы узнаете больше, чем знали из газет, книг и рассказов очевидцев». Оставалось только выполнить ряд связанных с отъездом формальностей. Компания «TWA» обещала мне два билета на 12 июля, но 11-го вечером мы были поражены, прочитав в «Ньюс» набранный крупным шрифтом заголовок: «КРУШЕНИЕ ЛАЙНЕРА „КОНСТЕЛЛЕЙШН“». В Ридинге (Пенсильвания) шесть человек погибли… Еще в прошлом месяце у одного самолета отошел мотор прямо во время полета и загорелось левое крыло. Очевидно, в самой конструкции есть какой-то дефект и опасность возгорания. Поль-Луи Вейлер на днях нам это объяснял. Мы с Симоной подумали, что от смерти не убежишь, что невозможно предвидеть, откуда она придет и что не так уж она и страшна. Но в семь часов утра радио сообщило: «По распоряжению правительства все машины „Констеллейшн“ снимаются с полетов на тридцать дней». И вот нам снова грозит отсрочка этого долгожданного отъезда. Звоню в «Трансконтинентл энд Вестерн Эйрлайнз» — запрет подтверждают. «Мы постараемся обеспечить сообщение с помощью других моделей, ноэто займет несколько дней…» Странное положение у задержавшегося пассажира. Он упаковал вещи, со всеми попрощался, и внезапно время его оказывается свободным, у него нет никаких обязательств. Такое обилие досуга вроде бы должно принести радость, мы мечтаем об этом, когда переутомляемся. Но приходит оно неожиданно, мы не готовы воспользоваться им, и подобно тому, как птица, если открыть ей клетку, остается на пороге, ослепленная свободой, так и пассажир не замечает, что клетка будничных забот открылась. Я надеялся быть в Париже 14 июля; утром услышать, как под сенью деревьев играют полковые оркестры; вечером на перекрестках увидеть, как под трехцветными фонариками танцуют пары под аккомпанемент аккордеона. «Dis aliter visum»[403]. Мне обещали два билета на 18-е. Но отправиться в путь во времена Хемингуэя куда труднее, чем во времена Монтеня. Последние дни проходят в беготне за необходимыми бумагами. Я уплатил все свои американские налоги до 10 июня и имел соответствующую квитанцию («sailing permit»). Но в то утро в агентстве путешествий мне сказали: — Поскольку ваш отъезд был отсрочен, вам нужно поставить еще одну печать на квитанции. — Но это немыслимо! Там в конторе надо стоять в очереди два-три часа. — Это необходимо. Я снова иду на Сорок вторую улицу; снова стою в очереди; и все для того, чтобы подойти к милейшему старику и услышать от него: «А я вас узнал, друг мой… Вам совершенно не стоило беспокоиться из-за каких-то нескольких дней». Эта сумасшедшая беготня в последний час напоминает мне одну фразу из «Дневника» Жида, где он говорит, что смерть, видимо, похожа на отъезд. Это наводит меня на мысль о сказке. День прошел за написанием сказки «Отъезд» (ее можно найти в сборнике «Соло для фортепьяно»).
19 июля. Вчера вылетел из Нью-Йорка. Самолет «Скаймастер» меньше, чем «Констеллейшн», но комфортабелен и устойчив в полете. За облаками я читал Шопенгауэра («Мир как воля и представление»). «Каждый человек является тем, чем он является, благодаря своей воле. Человек — свое собственное творение…» Экзистенциалист ли Шопенгауэр? Нет, ведь он не верит в возможность сознательного выбора позиции. Характер дается раз и навсегда, он неизменен: «Сначала мы должны на основе опыта узнать, чего мы хотим. Пока мы этого не поймем, у нас нет характера. Характер — это возможно более совершенное знание нашей собственной индивидуальности». Человек — сам себе зритель или человек — сам себе скульптор… Мне, Господи, ближе скульптор. Над унылыми болотами самолет поворачивает: это Новая Земля. Стоим час; мы выходим на солнышко, так как, несмотря на время года, на улице совсем не жарко. Снова поднимаемся в воздух. Вскоре темнеет, гаснут огни. Мы не спим, но грезим. Завтра — Франция. Я представляю себе наш дом в Нёйи, деревья в лесу, перигорское небо с неторопливыми облаками, по которым можно судить о погоде… На рассвете показывается суша. Это Ирландия, совершенно зеленая, окутанная легкой дымкой. Невыразимо европейские деревни; самые настоящие замки. Мы садимся возле приветливой гостиницы с креслами, обитыми кретоном, где нам подают классический британский завтрак: овсяную кашу, «eggs and bacon»[404]. Когда самолет снова поднимается в воздух, я уже не могу читать. Следующая посадка — в Париже; ближайшее побережье — побережье Франции.
Долина Сены; я думал, что отлично помню ее, но эти своенравные излучины, эти плывущие по течению, словно караван барж, острова, эта река-сад, эти бесчисленные крыши цвета шифера и черепицы, мозаикой разбросанные по полям, — оказывается, я уже успел забыть, до чего все это прекрасно. Сверху я узнал Мант, потом, прежде чем спикировать над Орли, самолет пролетел над парижскими кварталами, исполненными серого строгого благородства. Орли. Уже издалека я вижу свою дочь Мишель, вижу, как сверкают на солнце ее белокурые волосы, и с этого момента не вижу ничего, кроме нее. Мне показалось, хотя все и произошло очень быстро, что время между приземлением и открытием двери тянулось бесконечно. И вот наконец трап. Человечные и тактичные журналисты понимают, как хочется нам побыть одним, и очень быстро задают обычные вопросы. Я, как и Жюль Ромен в момент своего возвращения, поражен крайней вежливостью всех окружающих — таможенников, носильщиков, фотографов. Формальности занимают в десять раз меньше времени, чем в Гуардиа-Филд. Вот мы уже едем в Париж… Сена… Лувр… Я ожидал сотни счастливых потрясений. Но за шесть лет я так часто вызывал в памяти все эти образы, что появление их мне кажется совершенно естественным. Разве не вчера вот так же смотрел я на площадь Согласия? Нёйи. Вот наш дом. Сколько раз, пересекая на поезде пустыни Аризоны или пролетая на самолете над Скалистыми горами, я спрашивал себя, суждено ли мне еще раз увидеть из окна зеленые волны лесных каштанов, контур Эйфелевой башни, словно тушью нанесенный на небо кистью Будэна, а на заднем плане в дымке — похожие на флорентийский монастырь строения холма Валерьен. Вот они, долгожданные пейзажи, в точности такие, какими их рисовала память. Если бы из соседней квартиры пришла сюда встретить нас моя мать, это была бы одна из тех чудных минут, когда человек говорит мгновению: «Остановись, ты прекрасно!» Так и вижу, как она стоит, опираясь на палочку, лицо ее сияет, сквозь смех угадываются слезы. Те, кто закрыл ей глаза, рассказывали мне: «Бедная мадам Эрнест! Она была такой мужественной. Однажды вечером французская полиция предупредила ее, чтобы дать ей время скрытся, что на следующий день немцы собираются ее арестовать. Ее бы спрятали. Она отказалась: „Я не хочу никого подводить“. Несмотря на свои восемьдесят лет, она стойко держалась все время, пока была в немецком плену. „Я хочу жить, чтобы снова увидеть сына“, — говорила она. А потом, когда ее освободили, переживание оказалось слишком сильным. Она прожила еще несколько счастливых дней и почила навеки…» Я открываю дверь. Те самые полки в моем кабинете, которые я на протяжении сорока лет заполнял любовно подбираемыми книгами, теперь пустовали. Не найдя хозяина, гестапо забрало библиотеку. Невольно я пробегаю глазами уголок Литтре[405], уголок Алена, где лежало у меня столько его рукописных статей, уголок Стендаля. Мое желтое кожаное кресло сохранилось. Я сажусь за свой стол. Дружеские руки с утра приготовили мне бумагу — ту самую, которой я пользовался когда-то. Что же, будем работать.
Часть четвертая Годы безмятежности
1. Возвращение
Эссандьерас. Лето 1966 года. Стоило мне написать название этой, четвертой части, как я засомневался в его точности и собственном благоразумии. Кто может гарантировать, что жизнь моя завершится в безмятежности? Конечно, я сегодня уже настолько стар, если судить по числу прожитых лет, что кажется, партия сыграна. «Но годы, как горы: стоит преодолеть те, что видны вблизи, как перед глазами возникают новые вершины. Увы! Эти самые высокие, последние горы необитаемы, бесплодны и покрыты снегом». Так говорил Шатобриан. Ему нравилось кутаться в переливчатый плащ уныния. Я же редко позволяю себе прибегать к столь мрачному лиризму. Необитаемы вершины? Да, наверное, на этих последних заснеженных вершинах я уже не встречу друзей моей юности. Отец и мать мои покоятся на Эльбёфском кладбище, на том каменистом склоне, откуда некогда виднелись высокие плоские крыши наших заводов, которые ныне мертвы, как и их основатели. Что сталось с моими товарищами по лицею Корнеля? Последний, кого я время от времени видел среди воинствующих писателей, недавно покинул этот мир. Но пока жива земля, каждой весной на смену тем колосьям, что были сжаты неумолимой косой, приходят новые. Вокруг меня по-прежнему немало друзей, и многие из них достаточно молоды, чтобы я мог не страшиться одинокой старости. Бесплодны ли они, эти последние горы? Надеюсь, нет. «Садок» изобилует планами. Конечно, я могу оказаться во власти какой-нибудь болезни, которая подорвет мои творческие силы. Стоит только лопнуть сосуду в мозгу или сломаться шейке бедра — и замыслы рискуют навсегда остаться лишь тенью книг. Но, поскольку до сих пор Бог миловал меня от подобных катастроф, я с наслаждением вдыхаю высокогорный воздух. Подъем был тяжелый; товарищи отдыхают; так оглянемся же на преодоленную стену льда.Yet we have gone on LivingLiving and partly Living.T.S. Eliot[406]
1946 год. Впервые проснулся во Франции. Каждый спасенный предмет приводит в волнение. Эмили и Гастон Вольф, прожившие у нас весь период оккупации, взяли на себя смелость спрятать множество вещей. Благодаря им я нахожу свою одежду, галстуки, обувь, белье. Так странно после того, как во время изгнания долгое время имел буквально только то, что зарабатывал ежедневным трудом, вдруг оказаться владельцем квартиры, машины. (Она простояла в Эссандьерасе всю войну без колес, которые были спрятаны на сеновале, так что оккупанты отказались от мысли ею воспользоваться.) Бульвар Мориса Барреса блистал в лучах июльского солнца горделивой, насыщенной красотой. Зеленое море листвы катило свои волны к далеким обрывистым берегам холма Валерьен. Гостиную Симона обставила мебелью с улицы Ош, из квартиры, оставленной ее родителями. Высокая шпалера, кресла в стиле Людовика XV с вышитыми на них сценами из басен Лафонтена, мраморные бюсты создавали куда более торжественную обстановку, чем была в нашей довоенной гостиной. При виде пустого книжного шкафа я просто остолбенел. Там было столько книг и столько крылось в них воспоминаний! Где «Русская душа», некогда подаренная мне Киттелем по окончании шестого класса? Где Спиноза («B.S. Opera Posthuma»)[407], ценный подарок Алена, который сам получил его от Ланьо[408] и вручил мне в конце философского курса? Где полученные на межлицейском конкурсе призы в золоченых переплетах? И где труды моих друзей: книги Валери, украшенные теплыми дарственными надписями и рисунками; книги Жида, Мориака, Дюамеля? «Не горюй, — сказала жена, увидев, как моя рука в отчаянии гладит опустевшие полки, — я соберу тебе библиотеку лучше прежней». С первого же дня (ибо она успела предупредить друзей) стали приходить полные собрания сочинений Мориака, Эмиля Анрио, Жюля Ромена, а также трогательные посылки от соседей и неизвестных читателей, которые из газет узнали о моем возвращении и дарили мне свои лучшие книги взамен украденных. К сожалению, Валери уже не мог исписать форзац своим мягким почерком с сильным наклоном. Кстати, на следующий день после моего возвращения министр народного образования должен был открыть улицу Поля Валери, бывшую улицу Вильжюст, где жил наш друг и которая — о чудесное пересечение! — упирается в улицу Леонардо да Винчи. Уже в девять утра мне позвонил Жорж Леконт[409]: «Вы должны присутствовать на этой церемонии… Это даст вам возможность с первого дня возобновить общение со многими из наших собратьев… Приходите!» Я пошел. Там возвели трибуну. Был чудесный летний день. Голубое небо с крошечными белыми хлопьями. Меня удивило, что воздух такой теплый, а еще — что дома такие маленькие. Весь этот уголок Парижа после высоких скал Рокфеллер-центра представлялся мне произведением искусства, но миниатюрным. Небо и вещи здесь окрашены не так ярко, как в Америке. Радость и удивление при виде стольких знакомых лиц сразу. В Нью-Йорке в такой толпе я бы почти никого не знал. А здесь мне улыбаются Анри Мондор[410], Пастер Валери-Радо[411], Эмиль Анрио, Жерар Боэ[412], адмирал Лаказ, Жорж Леконт со своей неизменной окладистой бородой. Ко мне подходит префект полиции Люизе и говорит о нашей корсиканской кампании. Из своего дома, расположенного совсем рядом, выходит мадам Валери с детьми. У всех полицейских — красные аксельбанты, что для меня ново. После церемонии мы с женой пешком отправились обедать к дочери. Мишель ценой больших усилий приготовила великолепный стол, но сколько ради этого пришлось ей бегать по магазинам, искать, стоять в очередях. Дочь сообщила мне, что мой кузен Робер Френкель, с которым я пятнадцать лет вместе работал на семейном заводе в Эльбёфе, один из тех, кого я особенно охотно повидал бы и чье длинное письмо я получил в Америке несколько дней назад, скоропостижно скончался, пока мы ехали домой, от грудной жабы. Будто какой-то враждебный дух ополчился на тех, кто мне дорог. Мать умирает, едва выйдя на свободу, Робер — в тот момент, когда после шести лет разлуки я собирался его позвать; столько ударов по самым уязвимым местам. Вдова Робера Ольга в Париже. Мы встречаемся с ней после обеда. Она говорит, что он переутомился. Большая часть завода была сожжена немцами в 1940-м. Потом его конфисковали и назначили недостойного директора. После освобождения Робер с племянниками (зятьями Поля и Виктора Френкелей) попытался наладить дело с сотней станков, что было безумно трудно. В Эльбёфе при бомбежках было разрушено много жилых домов, а потому приходилось объединяться по нескольку семей. Робер и Ольга в собственном доме занимали лишь две или три комнаты. Фабрика, этот всемогущий организм, которому отец посвятил всю свою жизнь, а я — часть жизни, теперь боролась за выживание. Казалось, на моих глазах угасает дорогое, некогда полное сил существо. Так прошло воскресенье. В понедельник мне хотелось первым делом повидать Алена. Его домик в Везине цел и невредим. Я застал его за столом перед раскрытой книгой, больного, не способного двигаться, но мужественного и блестящего. Верный своей вневременной манере, он тремя фразами отметает войну и тут же погружается в текст, лежащий у него перед глазами, — «Беатрикс» Бальзака. «Хорошая книга, — говорит он, — но под конец теряется в песках. Опасно превращать роман в хронику. Искусность повествования в его цельности». Он показывает мне в своем небольшом шкафчике мои собственные книги. «Я часто перечитываю „Бернара Кенэ“. Мне нравятся эти несколькими штрихами очерченные силуэты… Например Амиль! Я о нем никогда не забываю!» Пытаюсь навести Алена на разговор о политическом положении. «О! Миллион французов, — говорит он, — занимаются своим ремеслом, как занимались во все времена… Это и восстановит Францию. Остальное предоставим оратору с Юга. „Франция — это работа; работа — это Франция“, — говорит оратор с Юга… Этакая поэма в исполнении тенора, который пробует голос и стремится взять полный аккорд…» Грузный, в своем синем халате, он упирается локтями в стол, угощает меня чаем, пирожными. Говорит, что не любит людей, кладущих в чай лимон, и «Коломбу» Мериме — она лежит у него на столе. «Пустая вещь». Потом переходит к письмам администратора Стендаля: «Восхитительно!» Замечательные два часа; обещаю приехать еще. Вся неделя посвящена встречам. Анна Эргон пригласила меня на обед вместе с Андре Жидом и Жаном Шлюмберже, Мишель — с Клодом Мориаком, сыном Франсуа. Дочь показывает мне новеллы, написанные ею во время войны и обладающие несомненными достоинствами (горечь, юмор, смесь сатиры и поэзии). До чего же приятно обнаружить в ней писателя. Клод во время освобождения был секретарем генерала де Голля. Он опубликовал весьма примечательные критические очерки. После обеда брожу по парижским улицам. Какое счастье исследовать любимые пещеры — книжные магазины, издательства. Я сходил к Лемерсье на площади Виктора Гюго, к Фламмариону, Блезо, Бересу, Анри Лефевру[413], блестящему эрудиту Камилю Блоку[414]. Я привез немного долларов и пытаюсь купить книги взамен тех, что украли у меня оккупанты. Существует специальная служба, занимающаяся розыском произведений искусства, — там меня не слишком обнадежили. В ходе Нюрнбергского процесса была найдена записка: «Библиотеку Моруа, представляющую большую ценность, распродать в Швейцарии и Италии». Выбор новых издателей представляет для меня некоторую проблему. Бернар Грассе, опубликовавший мою первую книгу и затем множество других, уже не возглавляет свое издательство. У него было психическое расстройство, потом какие-то неприятности при освобождении, сам не знаю почему. В его кабинете меня встречает некий полковник Манес, приближенный Марсель-Поля, коммуниста, министра промышленности. Он очень любезен, предлагает предоставить машину в мое распоряжение и опубликовать любую рукопись, которую я ему доверю; а я вижу, что человек этот — непрофессионал, и чувствую некоторое замешательство. Мне не хватает фантазии Бернара; он был невыносим, эгоцентричен, но при этом полон обаяния и жизни. Да и потом, строго говоря, мои военные книги, привезенные Креспином из Америки, купил Фламмарион. Это дает ему определенное преимущество. Приходят ко мне и бесчисленные посланцы молодых издательств, жаждущих текстов. У них красивые названия: «Молодая Парка», «Пьяный корабль», «Два берега», но я слишком мало знаю об этих новых землях, чтобы рискнуть осваивать их иначе, как при помощи небольших брошюр.
25 июля 1946 года. Это первый четверг с момента моего возвращения, то есть день заседания Французской академии. Дюамели приходят к нам обедать, и мы с Жоржем вместе отправляемся в Академию. Место это за три века изменилось меньше, чем любое другое место на земле. Прекрасный дворец Мазарини приветливо простирает свои крылья. Как некогда, давным-давно, и совсем недавно, мы поднимаемся по двойной винтовой лестнице; пальто оставляем в зале с бюстами; расписываемся на листке присутствующих. Служитель говорит мне: «Надо же! Месье Моруа! Надо вписать ваше имя… Прошло так много времени… Я уж и не включал вас в список». Когда в 1874 году Виктор Гюго вновь пришел на набережную Конти на избрание Дюма-сына, один из служителей сказал ему: «Сюда нельзя!» Вмешался другой: «Это же Виктор Гюго». И только пятеро членов пожали ему руку. Я не столь гениален, но у меня больше друзей. Несколько новых лиц: Робер д’Аркур[415], историк Груссе[416], философ Ле Руа[417], последователь Бергсона. Сажусь рядом с Жюлем Роменом. Заседание посвящено словарю. Когда в 1939 году я покинул Академию и отправился в действующую армию, он был на слове «agresseur»; через семь лет я застаю его на слове «ardeur». При таких темпах для завершения нового издания потребуется целый век. Но какое это имеет значение? Академия, как и Церковь, не считается со временем. Сегодня она произвела на меня большое впечатление своей спокойной учтивостью. Прекрасно и полезно, чтобы в эпоху сплошных потрясений существовали учреждения, обеспечивающие преемственность. Вероятно, Академию, как и Францию в целом, раздирают на части политические страсти, но соблюдаются внешние формы, а это уже много. Церемонии — основа цивилизации. В целом с тех пор, как я вернулся, меня поражают хорошее настроение и терпимость парижан. Я вспоминаю политические беседы в Нью-Йорке, Алжире, которые так быстро оборачивались язвительностью, если не ссорой. Здесь же — ничего подобного. Каждый задает вопросы, хочет узнать, что и почему вы думаете, но никто на аргументы не отвечает оскорблениями. Мало кто отказывается встречаться друг с другом. Единственный журналист, который по моем возвращении написал враждебную статью, пришел ко мне с извинениями. «Я был плохо осведомлен», — сказал он. По правде говоря, мало найдется периодов в моей жизни, которыми бы я гордился так же, как последними пятью годами. Вопреки моим очевидным интересам, вопреки трудностям, я служил Франции так, как мне казалось наиболее действенным, — да так оно и было. Прием, оказанный мне французами, доказывает, что они это поняли. Нет слов, чтобы выразить скорбь еврейских семей, с которыми нацисты обращались немыслимо жестоко. Жинетта Лазар рассказывает нам, как арестовывали брата ее мужа Кристиана Лазара, безупречного, достойнейшего человека. Немцы забрали его и отвезли в лагерь неподалеку от Парижа. Жинетта вместе с его женой пытались повидаться с ним, но их не пустили, и они только издали видели, как он, завернувшись в плащ, помахал им рукой на прощание поверх колючей проволоки. Когда его привезли в Германию, он сошел с поезда и встал в цепочку, сохраняя (по рассказу одного бывшего рядом с ним человека) все то же царственное достоинство. Один офицер спросил, глядя на него: — Эй вы там, сколько вам лет? — Шестьдесят один. — Выйдите из строя… Садитесь в грузовик. — Надо же, — сказал Кристиан Лазар соседу, — неужели они проявляют гуманность? Но прошло несколько дней, а этот сосед так и не нашел его в лагере. В конце концов он решил узнать, в чем дело. «Как вы говорите? Он сел в грузовик? Тогда, значит, он мертв. Стариков везли прямо в газовую камеру». Слушая этот рассказ, я вспоминаю тонкие черты, короткие усики лицо британского вельможи.
26 июля 1946 года. Сегодня мне исполняется шестьдесят один год. Это уже старость, хотя я и не ощущаю ее воздействия — если не считать некоторого облегчения, напоминающего то чувство, что возникает в театре, когда смотришь не очень хорошую пьесу и упорно думаешь: «Остался только один акт». Все утро занимаюсь переработкой моей «Истории Англии», которую Кэйп (английский издатель) просит довести до нынешнего года. На обед приходят Мариус Муте, министр заморских территорий Франции, старый друг-социалист; Жюльен Кэн[418] с женой, Жюль Ромен с женой и моя нью-йоркская приятельница Женевьева Табуи. Очень приятно вновь повидать Кэна, образованнейшего человека, высокопоставленного чиновника, ученика Алена, перенесшего Бухенвальд. Министр приходит с опозданием. Он сейчас занят сложными переговорами с Хо Ши Мином. «Обсуждайте и договаривайтесь, — говорю я ему. — В таком далеком, загадочном, таящем в себе всякие угрозы деле самый худший компромисс лучше, чем самая хорошая война». Он придерживается такого же мнения. «Но я не один», — добавляет он.
28 июля. Вот уже снова, как и до войны, приходят ко мне утренние воскресные посетители. Да, дружба, связи действительно восстанавливаются очень быстро. И все же — глубокое огорчение: Пьер Бриссон меня избегает. Это ранит меня в самое сердце. С его матерью (Ивонной Сарсе) мы дружили со времен моих первых литературных дебютов. В «Анналах» я был одним из ее любимых и постоянных лекторов. С Пьером мы вместе работали в составе первой редакции «Фигаро», я высоко ценил его мужество. Он мне нравился. Именно он сказал, когда появились мои первые статьи, направленные против Гитлера: «Давайте, давайте! Надо высказываться во всеуслышание». В общем, он был одним из тех, на кого я больше всего рассчитывал, кто мог в мое отсутствие позаботиться о моих детях, а когда я здесь — поддержать меня. И вот я нахожу его сдержанным. Что произошло? Две вещи: одна легкоустранимая, другая более опасная. Прежде всего до него дошла клевета, занесенная западным ветром. Но тут вывести его из заблуждения проще простого. Я договорился с ним о встрече в «Фигаро» и принес свои американские статьи. «А даты?» — спросил он. — Они обозначены в этих газетах. Он проверил. Тексты были неопровержимы, и об этом речи больше не было. Вторая проблема оказалась гораздо сложнее. Вот она: когда Леон и Ивонна Котнаряну, держатели большей части акций «Фигаро», покидали Францию, они на несколько дней остановились в нашем перигорском доме в Эссандьерасе. Вынужденные бежать до прихода немцев (поскольку Леон — еврей), они через нотариуса передали все свои полномочия моему тестю Морису Пуке, который должен был представлять их как в деле Коти[419], так и в «Фигаро». Мысль довольно странная, но все диктовалось необходимостью. После их отъезда между Пьером Бриссоном, директором «Фигаро», и Морисом Пуке, поверенным в делах Ивонны Котнаряну, завязались долгие переговоры. А поскольку оба они — люди с трудным характером, столкновения непременно должны были принять грубые формы. Морис Пуке утверждал, что печется об интересах Котнаряну. Пьер Бриссон отстаивал честь своей газеты. В результате они возненавидели друг друга. Их ссора неизбежно ставила в сложное положение мою жену, не желавшую порвать со своей матерью, и косвенно — меня. 30 июля Пьер пригласил нас пообедать в ресторан на Елисейских полях вместе с Жанной и Франсуа Мориаками. То есть отношения оставались сердечными, но в конце Пьер произнес такую фразу: «Что касается нашего с Морисом Пуке конфликта, то вы должны либо убедить его уступить, либо порвать с ним». Ситуация была безвыходная. Я любил Пьера Бриссона, восхищался им, а к Морису Пуке у меня тоже было немало претензий, но не мог же я потребовать от жены порвать с собственной матерью. На следующий день мы уехали в Эссандьерас, где должны были провести свой двухмесячный отпуск. Меня отвез туда на машине мой американский издатель Креспин. Он, как иностранец, имел право на получение талонов на бензин. Орлеан произвел на меня грустное впечатление. Центр города был практически стерт с лица земли. Луару мы переехали по временному мосту. Пообедать остановились в Ламотт-Бевроне. Зал ресторана «Клош» был полон. «Ничего не поделаешь, — крикнул хозяин. — Нет ни одного столика!» Тут жена его шепнула несколько слов. «А! Вы месье Моруа, писатель?.. Тогда совсем другое дело. Неужели у нас не найдется для вас столика, когда вы только вернулись!» И он устроил нас в своей комнате. Эта любезность согрела мне сердце. Я все еще опасался, что после столь долгого отсутствия буду забыт если не друзьями, то по крайней мере людьми незнакомыми, но французы — народ верный. Мы приехали в Эссандьерас около шести вечера. Вся семья, как и раньше, вышла на крыльцо, едва заслышав шум мотора в дубовой аллее. Я с наслаждением глядел на любимую обстановку: старый дом, увитый диким виноградом, кусты гортензии по обе стороны двери, а в глубине — красные крыши фермы Бруйака. Объятия. Слеза радости. В доме ничего не изменилось: те же шпалеры с темной зеленью, те же архаические деревянные фигурки, те же комоды с изящной инкрустацией. Меня удивляют эти гигантские комнаты и еще — обилие картин, ценных безделушек, миниатюр. В Америке, за исключением, быть может, Бостона, Филадельфии, да еще каких-нибудь старых жилищ на Юге, редко встретишь такое нагромождение старинных вещей, видавших ушедшие поколения. Поднимаюсь на второй этаж и со вздохом удовлетворения усаживаюсь за свой большой письменный стол, откуда через широкий просвет между деревьями мне виден ряд кипарисов, башни замка, колокольня Эксидёя, а вдалеке — подернутая дымкой долина, уходящая вглубь, к Перигору. В этом краю мне довелось познать любовь и плодотворный труд. И я вновь освящаю его, садясь за старый стол писать свою первую статью — благодарение. Весь следующий день мы проводим в рассказах. Меня расспрашивают об Америке, о Северной Африке, о Корсике. Я хочу узнать, что происходило здесь. Дом наш чудом уцелел. Многие замки в округе (Растиньяк, Бадефоль д’Ан) были сожжены оккупантами. В Эссандьерасе они приходили за мной несколько раз и однажды привезли с собой зажигательный фургон. Офицер гестапо из Перигё, великолепно говоривший по-французски, спросил Роже Менико, сына управляющего: «Моруа ведь здесь прячется, правда?.. Ну-ка давай говори». Всех, кто работал на ферме, выстроили вдоль стены, грозя расстрелом. Теще моей, обладавшей чувством юмора и большим присутствием духа, удалось (как я уже рассказывал) отвлечь этих людей насмешками над их подозрительностью: «Проходите в дом, господа! Нам скрывать нечего». А в амбарах и хлевах были спрятаны танки и военные грузовики, принадлежавшие «тайной армии». Два года жили в постоянном страхе. Но таково уж свойство человеческой природы, что эти впечатления если не стерлись, то, во всяком случае, очистились от всего, что причиняло боль. В рассказах было много страсти, но страх уже улегся и нервы успокоились. С первого же дня мы вошли в привычный ритм. Подъем в семь часов. Работа за столом — с восьми до половины первого. Обед. Прогулка с женой по аллеям: туда — по дубовой, обратно — по каштановой. Работа с четырех до семи. Ужин. В десять часов — спать. «Уединение — прекрасная вещь, если ты в ладу с самим собой и у тебя есть четко определенная задача». Моя задача — завершить «Историю Франции», начатую в Соединенных Штатах. Великое утешение, даруемое историей, — это осознание того, что на человечество в разные эпохи обрушивались одни и те же несчастья и что рано или поздно худо-бедно все улаживалось. К приходу Бонапарта в 1798 году Франция лежала на самом дне, деньги были обесценены, граждане — на ножах; за несколько месяцев он поднял страну. Так же было в 1872-м, так будет и завтра. Но сделать предстоит много. Прогулки по полям и пастбищам позволяют судить о размерах бедствия. Земли наши плодоносят вдвое меньше, чем в 1939-м. Почему? Потому что истощенным лугам не хватает удобрений; потому что рабочих рук мало и без пленных немцев возделывать поля было бы вообще невозможно; потому что коровы на плохих кормах дают меньше молока и меньше телятся; потому что куры, вынужденные сами добывать себе пропитание на лугах, слишком много ходят, худеют и несутся под кустами, так что яйца теряются. И нищета растет, как снежный ком. Симона в утешение дает мне каждое утро послушать по радио преподавателя физкультуры, который под звуки скрипки и фортепьяно учит таким сложным движениям, что я чуть не сломал ногу, пытаясь выполнить одно из них. Но уроки эти приятны, а музыканты-импровизаторы весьма изобретательны. Последний куплет:
2. Ток восстановлен
Вернувшись в Париж осенью 1946-го, мы принялись возобновлять прежние связи. В июле мы прожили там слишком недолго, чтобы повидать всех друзей. И, если не считать тех, кого унесла смерть, наш тесный довоенный кружок сплотил ряды вокруг нас. Не стало кое-кого из самых дорогих людей: Поля Валери, каноника Мюнье, Шарля Дю Боса, Сент-Экзюпери, Луи Жилле, но Поль Клодель, Франсуа Мориак, Робер Кемп[420], Анри Мондор, Эмиль Анрио, Жюль Ромен по-прежнему были самыми близкими коллегами. Очень скоро в это братство вступят и люди помоложе. Американское окружение стало нашей «новой гвардией», прибыли Дариус и Мадлен Мийо, Фернан Леже, Женевьева Табуи, Моника де ла Салль, Лакур-Гейе, отец Кутюрье. С теми, кого я знал до 1939 года, восстановились самые тесные отношения. Доктор Делоне, возглавляющий лабораторию патогенеза в Институте Пастера, великодушнейший и образованнейший человек, знавший мои книги лучше меня самого, помогал мне понять суть научно-исследовательской работы. Многим обязан я Франсису Амбриеру, который после смерти мадам Бриссон взял на себя организацию лекций в «Анналах». Утвердив свою первую программу, он попросил меня прочитать курс из десяти лекций о каком-нибудь писателе по моему выбору. Я согласился*, и в дальнейшем подобные курсы легли в основу второй половины моего творчества. Восстановились связи и с миром политики. Четвертая Республика делала первые шаги. Какой она будет? Мне казалось, что она будет, как сестра-близнец, похожа на Третью. Она использовала тех же людей. Эррио был председателем Национального собрания; Венсан Ориоль[421] должен был стать президентом. Обоих я хорошо знал. Жюльен Кэн, директор Национальной библиотеки, играл в закулисной парламентской жизни все ту же роль серого кардинала, умного и бескорыстного, что и до войны. Его как узника Бухенвальда окружало особое уважение, которое он употреблял на благо общества. У него мы встречали Леона Блюма, Мендес-Франса[422]. Хотя власти относились ко мне доброжелательно и даже с уважением, я не без тревоги смотрел на возрождение довоенных нравов. Снова будут создаваться непрочные коалиции, начнутся частые падения министерств. Я вспоминаю программу под названием «Лекарства», которую написал на книжной обложке в 1940 году, когда плыл в Канаду. Мое политическое «лечение» не было применено, и, хотя Франция на диво быстро поднималась из развалин, будущее вызывало серьезные опасения. Неужели невзгоды ничему нас не научили? В конце октября я поехал в Эльбёф сопровождать тело матери — она всегда хотела покоиться рядом с отцом. Конечно, я с большим волнением приближался к городу, где родился и провел тридцать лет своей жизни. Казалось, я знаю там каждый камень, и я решил пройтись пешком по некогда ежедневным своим маршрутам от дома до завода, потом до Кодбека и Сент-Обена. По дороге из Парижа я с нетерпением ждал привычных пейзажей: при выезде из Сен-Жермена — живописная деревушка д’Эквийи, примостившаяся в низине; башни собора Мантской богоматери — две едва различимые в дымке вертикальные линии; берег в Рольбуазе и изумительный вид на острова Сены, так поразившие меня, когда я увидел их с борта самолета, возвращаясь из Америки. «Я и сейчас бы мог, — говорил я жене, — назвать в Эльбёфе каждый магазин на улице Баррьер от площади Кальвер до площади Кок. На заводе я бы мог ходить с закрытыми глазами и узнавать цеха по шуму машин, по запаху шлака, мыла или мокрого сукна. С высоты кладбища, возвышающегося над городом, я показал бы вам сотню труб, поднимающихся к небу, словно заостренные минареты, и каждую из них смог бы назвать по имени». Увы! Когда мы приехали на площадь Кальвер, я не смог удержаться и вскрикнул. Центра города больше не существовало. Вместо столь долгожданной картины нам открылись большие пустыри. Кое-где росла трава. В своей жизни я видел немало городов, подвергшихся бомбардировке. Во время войны 1914 года я провел несколько месяцев в Ипре, потом в Сомме между Амьеном и Аббевилем на выжженной земле. В 1940-м у меня на глазах исчезли целые кварталы Арраса и Лилля; в 1943-м я был в Тунисе, Бастии и Неаполе. К несчастью, мне не в первый раз доводилось лицезреть руины. Но одно дело видеть разрушение незнакомого города, и совсем другое — найти искалеченным город, где каждый камень — воспоминание. Человеку всегда кажется, что дом его детства, город его юности прочнее, чем все остальные. Они глубоко укоренены в его существе, и он, чувствуя, что вырвать их из него невозможно, питает иллюзию, что их столь же невозможно стереть с лица земли. Ужасно ощутить себя потерянным в собственном городе и не найти родного дома. «Вот ваш завод», — неожиданно произносит Симона. Но нет, не могут эти низенькие постройки, стоящие на краю пустыни, быть фабрикой, ради которой мы работали, которая некогда горделиво вздымала свои высокие фасады, увенчанные яркой черепицей. Неужели этот двор, обращенный к городу зияющей раной, — тот самый, что был прежде окружен шумными цехами, машинами, бобинами ниток, тюками шерсти, куда въезжали бесчисленные грузовики, груженные разноцветными тканями? Пришлось смириться перед лицом печальной очевидности. Да, это была та самая фабрика. Я знал, что нацисты подожгли ее, подожгли намеренно еще в 1940 году, но не мог представить себе размеров катастрофы. Между тем, зайдя внутрь, я увидел, что там работали, как и раньше. Стучали станки, вертелись стригальные агрегаты, подпрыгивали наконечники сукновалов. Готовые ткани поступали на склад хоть и в меньшем количестве, но с той же частотой, что и раньше. Приемщик и упаковщики, приносившие товар, были старые товарищи по работе, ветераны первой мировой войны. В тот день я испытал восхищение, видя всеобщую веру в будущее. Мы должны были получить компенсацию за ущерб, причиненный войной; строились грандиозные планы; мне изложили проект создания более современного и лучше спланированного завода, чем тот, что строился по мере надобности и смены лет дядями, отцом и мною. Увы! Бедствие оказалось серьезнее, чем считали готовившие это восстановление молодые люди, возмужавшие от военных невзгод. Впоследствии оказалось, что наш дорогой завод не смог пережить развал, царивший в текстильной промышленности Франции на протяжении двадцати лет, с 1945-го по 1966-й.* * *
После церемонии на могиле матери на Эльбёфском кладбище, где собрались только самые близкие, я направился на кладбище Ла Соссе собраться с мыслями и помечтать у могилы Жанины. У меня перед глазами возникло ее ангельское лицо, словно сошедшее с полотна Рейнольдса, белые цветы, которые она так заботливо расставляла в высокие вазы у себя в комнате, ее таинственная и печальная улыбка. Ах, чего бы я только не отдал за пять минут разговора с нею! Но под этим мрамором и задумчивой ивой она была лишь призраком. Самые любимые, бесценные образы со временем уходят в непроницаемый туман. Вернувшись в Париж, я пошел обедать к Мориакам, где встретил Фрэнсис Фиппс, вдову английского посла, который был мне таким преданным другом, а ужинать — к Джефферсону Кэффери, послу Соединенных Штатов. Внешний мир вступал в свои права. И все же чувствовал я себя плохо; меня тряс лихорадочный озноб, сильная боль сковала поясницу. Это был опоясывающий лишай, очень мучительный и прихвативший меня совсем не вовремя, так как я только что пообещал прочитать несколько лекций в Швейцарии. И снова я уступил своему злосчастному пристрастию к публичным выступлениям. Покорить аудиторию, чувствовать, что удалось завладеть ее вниманием, угадывать, что она готова разразиться шквалом аплодисментов и только ждет паузы, — всю жизнь я находил в этом неизъяснимую радость. А потому не смог устоять перед предложением моих швейцарских читателей. Лишай, не дававший мне свободно двигаться, в день отъезда поставил меня в несколько смешное положение. Я был поражен, когда на Лионском вокзале увидел в своем купе молодую женщину, столь же удивленную, как и я. До войны я никогда не встречал смешанных «sleepings»[423]. Наверное, столь смелое изменение распорядка произошло из-за нехватки мест. Итак, мы оказались в ситуации последней главы «Сентиментального путешествия» Стерна[424], осложненной моей болезнью, вынудившей меня попросить ночную спутницу занять верхнюю полку, так как взобраться туда я был не в состоянии. Она охотно согласилась, а так как была к тому же хорошо образованна, то, прежде чем пожелать друг другу спокойной ночи, мы, лежа на полках, беседовали о Шекспире, Аполлинере, Сезанне и Утрилло, в то время как поезд стучал по рельсам в ночи. Я обрадовался, когда на следующий день моему взору предстал столь хорошо знакомый женевский пейзаж: замысловато изогнутые мосты, медленно плывущие стаи лебедей, наискось перечеркивающие небо чайки, величавые и благородные фасады, напоминающие о том, какими некогда были руанские набережные. Но Руан был серым и синим; Женева — желтоватой и розовой. А вот Берг, где 1924 году я восхищался Брианом. Так и вижу, как мы с ним сидим в гостинице и он говорит мне своим звучащим как виолончель голосом: «Я все перепробую… Если Сообщество Наций не приведет к успеху, я изобрету европейский Союз… Надо любой ценой избежать новой войны, Европа ее не переживет». Бедный Бриан. Он был гуманен и мудр. Циники всех направлений так и не смогли простить ему этого. А вот парк Дезо-Вив, где я впервые сел на скамейку рядом с Жаниной — каждая поездка в Женеву становится паломничеством в страну воспоминаний.Женева, 16 ноября 1946. Озеро подернуто легким туманом. Лебеди и чайки. За десять лет ничего не изменилось. Конечно, это уже не те лебеди и не те чайки, что когда-то, но какая разница? Лебеди и чайки здесь — это лишь аксессуары декорации. Так и представляешь себе Микромегаса[425], который, взглянув после войны с Сириуса на Землю, говорит: «Ничего не изменилось. Там по-прежнему живут люди. Конечно, это уже не те люди, но какая разница?..» Все дело в масштабе. Обедаю с Робером де Тразом[426]. Он тоже не изменился. Вернувшись в Европу после шестилетнего отсутствия, я ожидал застать здесь бал у Германтов, а друзей — переодетыми стариками. Ничего подобного. За исключением нескольких человек, я нашел Париж мало затронутым Временем. Кажется, на людей больше влияет моральный дух, чем возраст. Те, кто благодаря обстоятельствам или собственному мужеству оказались в первых рядах, расцвели; невзирая на былые преследования, они помолодели, окруженные всеобщим уважением. Те же, кого сегодня, напротив, осуждают — одних справедливо, других несправедливо, — выглядят изможденными, потерянными или же преисполненными жаждой мести. Мне довелось встретить не одного Тимона Афинского: «Гори, дом! Сгиньте Афины! Да возненавидит отныне Тимон человека и все человечество!» Об этом, как и о многом другом, Шекспир все сказал заранее. Смена власти, взлеты и падения неминуемо влекут за собой все то же: неблагодарность, отчаяние, презрение, триумф. Человеческой комедии неведома хронология. Вечером в гостинице после лекции (огромная, очень молодая аудитория) я читаю перед сном «Дневник» Делакруа. Вот что он пишет о Ноане, где живет уЖорж Санд. «Ждали Бальзака, но он не пришел, что не особенно меня расстроило. Он болтун и нарушил бы атмосферу всеобщей беспечности, в которую я с таким наслаждением окунулся». Подумать только, можно было ждать Бальзака и радоваться, что он не пришел! Уже в 1850 году Делакруа понимает, что прогресс (идея тогда почитаемая) — это всего лишь случайное, обратимое явление: «Завтра мы можем кинуться в объятия деспотизма с тем же пылом, с каким добивались независимости от каких-либо пут». А вот фраза, которая по тону вполне могла принадлежать Стендалю: «Приехав сюда, я не испытал тех радостных и грустных душевных переживаний, что связаны были у меня с этим местом и память о которых была мне так мила». Я мог, к счастью, все еще сохранять свежесть чувств; и дни, проведенные в Женеве, произвели на меня то же впечатление, что и раньше: Женева — это размытая Франция, достойная и изящная в своей строгости, великолепно сохранившийся кусок восемнадцатого и девятнадцатого веков. Да, здесь определенно все дышит не роскошью и сладострастием, но порядком и красотой. Спокойно здесь? Да нет, не очень. Женевские жители любят словесные прения и Чудно́й Ангел охотно слетает на Птит-Фюстери.
19 ноября. Снова в пути. Ели. Невысокие гребни Юры. Кто же это сказал: «Карманные Альпы»? В поезде дочитал Делакруа. В пятьдесят девять лет он изумлен, что еще может работать «в столь пожилом возрасте». Ни один романист никогда не описывал, говорит он, «разочарование или, скорее, отчаяние зрелого возраста и старости». А я-то, безумец! Я намного старше его, живу в более сложные, прямо-таки апокалиптические времена и все же верю в какой-то счастливый исход и в человеческое великодушие. Что же еще тебе нужно, чтобы сдаться и признать поражение — свое и своего времени?
После двух недель поездов, университетов и снега, излечившийся от болезни, я вернулся в Париж, вернулся как раз вовремя, чтобы опустить в старинную урну Академии бюллетень в пользу Эдуарда Эррио. Моя жена устроила обед «эрриотистов»: пришли Дюамели, Пастер Валери-Радо, Таро, Ромены и сам Эррио. «Извините за скудное угощение, — сказала жена. — Сегодня утром на рынке ничего не было. Ни рыбы, ни яиц». Дружеская и оживленная беседа восполнила недостатки меню. Эррио великолепно рассказывает о том, как он был в плену, как его освободили русские, о налетах союзнической авиации на Берлин… «В подвале я перечитал всего Бальзака», — говорит он. В 4.30 — Академия. Председательствует Пастер Валери-Радо, рядом с ним — Жорж Леконт и Эмиль Анрио. Я сижу между Сигфридом и монсеньором Грантом[427]. По другую руку от Сигфрида оба брата Бройль[428]. Присутствует двадцать шесть человек. Большинство голосов — четырнадцать. Председательствующий, согласно регламенту, просит каждого поклясться, что он свободен в своем волеизъявлении. По мере того как называются имена, одна за другой поднимаются руки. Я вспоминаю, как Виктор Гюго в «Что я видел» рассказывает о г-не де Сегюре[429], который на вопрос: «Свободны ли вы в совсем волеизъявлении?» — ответил председательствующему: «Столь же, сколь и вы». Идет голосование. У Эррио двадцать четыре голоса; у историка Саньяка[430] — два. Чистых бюллетеней нет. Все облегченно вздыхают. Академии не нравится, когда оказывается, что она неспособна принять решение. Еще одно голосование: Мадлена выбирают председателем, а меня — хранителем печати. Потом мы с Роменом идем поздравить Эррио. Он счастлив, да и мы тоже. На следующий день после выборов мы снова поехали в Эссандьерас, чтобы встретить там Рождество и Новый год.
15 декабря 1946. Леса и поля оделись по-зимнему. Из моего окна, откуда этим летом я смотрел на густую листву, теперь виден один лишь скелет. Луга и холмы покрыты пожелтевшей травой. В дом нанесли дров, так как на улице холодно, и все печки потрескивают. Отопление у нас здесь гораздо лучше, чем в Париже. Чем примитивнее быт, тем менее уязвим человек. В это первое с 1939 года Рождество во Франции мы ели традиционную индейку, каштаны и рождественское полено, купленное в кондитерской Эксидёя, которая ожила в дни праздников. Страна понемногу возрождается. Это полено с кремом, о котором и помыслить было нельзя три месяца назад, кажется символом. В витринах магазинов снова появляется множество исчезнувших было предметов. Стало возможным вызвать такси по телефону. Мы везем игрушки соседским детям. О лучшей рождественской погоде нельзя и мечтать. Морозец и яркое солнце. Крыши фермы Бруйака кажутся не такими ярко-красными, как летом, на фоне зелени. Уже не легкой дымкой, а серым туманом окутаны дальние фермы. Эксидёй в своей долине напоминает город-призрак. И весь день обволакивает тишина. Я задумал роман «Сунамитянка». Темноволосая Ависага, согревшая старые кости царя Давида, не дает мне покоя. Может, это потому, что мне уже минуло шестьдесят и я испытываю неопределенную потребность окунуться в источник юности? Или потому, что «наказание для тех, кто слишком любил женщин, в том, что они будут любить их всегда»? Возможно. Но роман идет нелегко. Его героиня — плод воображения, и это чувствуется. У меня нет темноволосой Ависаги, да, впрочем, я не желаю ничего, кроме душевного покоя. Однако придется отказаться от этого романа и составить план другой работы. Не так уж много лет осталось мне прожить в добром здравии. Что еще хотел бы я дописать? а) Закончить «Мемуары». С точностью рассказать о том, что я делал и видел во время этой войны. б) Дописать «Историю Франции» и тем самым завершить трилогию (Франция — Англия — Соединенные Штаты). в) Еще несколько романов о нашем времени, особенно о периоде 1939–1946 годов, ввести в действие детей моих героев. — Написать биографии Чехова и Толстого, обе книги были почти закончены в 1939 году, но все записи пропали. Затем… Но будет ли еще что-нибудь затем?
31 декабря 1946. Последний день года. Наш холм окутан такой густой пеленой, что на расстоянии ста метров уже ничего не видно. Только несколько призрачных деревьев маячат в тумане. Сегодня ночью обрабатывать наши луга приходили кабаны. Почты нет. Почтальон, должно быть, заблудился или отдыхает. Дом, стоящий вдалеке от деревни на вершине другого холма, как будто повис внутри парового шара. Подведем итоги. Первая половина года у меня была полностью посвящена лекциям в Канзас-Сити. Хорошо бы время от времени повторять такие курсы, роль преподавателя мне по душе. Потом — возвращение во Францию. Родину я нашел не настолько больной, как мне предсказывали. Трудностей много, мучительно не хватает продуктов и топлива, противоречия между партиями слишком велики, но Франция все та же, какой я ее знал. Все, в общем, неплохо. Города и деревни спокойны. Республика продолжает жить и не погибнет. Надеюсь, она сумеет приучиться к дисциплине. С радостью вижу у власти таких испытанных либералов, как Эррио и Блюм. На последнего я смотрел со смешанным чувством симпатии и беспокойства, но теперь он поднялся над партиями и над самим собой. Его принимают, уважают, и он того заслуживает. Старая гвардия даст время созреть молодым. Дело пойдет.
1 января 1947. Первый Новый год во Франции. По радио выступает Блюм. Он обращается к соотечественникам с просьбой приложить все усилия, чтобы снизить цены и таким образом спасти франк. Тон речи пылкий, простой, волнующий. Я восхищаюсь этим старцем, которого страдание вознесло над обидами и догмами и который стал сегодня фигурой национального масштаба. К его политэкономии я отношусь несколько скептически. Цены не снизишь ни указами властей, ни даже призывами к гражданскому согласию. Ведь нельзя же сбить температуру, взывая к здравому смыслу больного. Менико, заходивший нас поздравить, сказал о Блюме: «Я никогда не разделял его взглядов, но снимаю перед ним шляпу… Чтобы ему помочь, мы сделаем все, что в наших силах!» Окрестные коммунисты все еще артачатся: «А наши запасы пшеницы, ячменя, кукурузы, что же, продавать их подешевке?» Я отвечаю: «Лучше небольшая, но верная прибыль, чем риск разорения… У вас у всех есть боны, векселя… Что же вам останется, если франк упадет до нуля?..» Иветт и Роже Менико привели к нам детей. Им уже не придется беспокоиться за новую Францию. Они будут расти вместе с нею, они ее создадут. Смотрю на них и внезапно чувствую себя успокоенным. «Молодость — лучшее пророчество; одно то, что она есть, — гарантия будущего». Ко мне зашла мадемуазель Турт, очаровательная девушка, преподающая английский в Эксидёйском лицее. Она рассказывает, что на деревенском кладбище похоронили шестерых английских летчиков, погибших в этом районе во время войны, и что жители деревни бережно ухаживали за их могилами. Летом из Англии приезжали их родные и моя знакомая была у них переводчиком. Она с удивлением заметила, как женщины прятали записки в букеты цветов, возлагаемые на могилы. Это были письма к покойным… Одна молодая вдова сказала ей: «Я написала мужу французский стих:
3. Интермеццо
Летом 1947 года я долгое время ездил с лекциями по Южной Америке. Еще три года назад, когда я жил в Нью-Йорке, ко мне явился один импресарио, полурусский-полуиспанец, Эжен Рогнедов, человек восторженный и экспансивный, и сказал: «Поверьте мне, мэтр (он произносил „мэтре“). Поверьте мне! В Латинской Америке вас просто обожают… Там живут самые красивые и страстные женщины на свете… А какие пейзажи! А публика!.. Ах! Мэтре! Поверьте мне! Не пожалеете». Хотя он был очень настойчив и даже назойлив, я устоял. После моего возвращения во Францию он снова стал подбираться ко мне. «Поверьте мне, мэтре… Самое прекрасное путешествие в вашей жизни!» В конце концов я сказал: «Ладно, поеду на два месяца». По правде говоря, мне любопытно было повидать эти страны, о юности и свежести духа которых говорил мне когда-то философ Кайзерлинг[432]. Я не был разочарован. В Бразилии и Аргентине, в Чили и Колумбии — повсюду я обнаружил подлинную страсть к французской культуре, огромные залы, не вмещающие всех жаждущих послушать лекции, и, как заверял меня мой пылкий импресарио, самых прекрасных женщин на свете. Несравненный Рогнедов повсюду сопровождал меня. В результате я даже привязался к нему. Он забавлял и раздражал меня. Организатор по призванию и по профессии, он слишком много организовывал. Президентов каждой американской республики он побуждал устраивать ужин в мою честь, на что те любезно соглашались. В каждом городе Рогнедов готовил пресс-конференцию, приводил ко мне редакторов газет, студентов, таскал меня на радио. Я представлял себе спокойное путешествие в одиночестве, приятный досуг; он же превращал это турне в президентскую поездку. Но я открыл для себя прекрасные страны и приобрел замечательных друзей. Бразильская академия избрала меня своим членом, и милейший Федерико Оттавио торжественно меня поздравил. Один грузный и обаятельный поэт по имени Федерико Шмидт, пошутивший: «Я Барнабут[433] Валери Ларбо», — вызвался быть моим гидом и показал мне старую Бразилию. Мне нравилось просыпаться в Копакабане и видеть перед собой величественную панораму бухты Рио с ее причудливыми горами: Сахарный Хлеб, Перст Божий, Корковадо; нравились прекрасные слушательницы, подходившие ко мне после лекций с тонкими, трудными вопросами; нравилась бразильская «saudade»[434], эта ностальгическая грусть народа, который вобрал в себя три печальные расы и который вдруг во время карнавала способен предаться буйному, безоглядному веселью; нравились тропические деревья, гигантские цветы, джунгли у городских ворот. Посол Франции Юбер Герен, брат поэта Шарля Герена, был очень деятелен и предупредителен. В Буэнос-Айресе Францию представлял мой друг Владимир д’Ормессон. В Марокко он состоял в группе Лиотея, и тот часто читал мне его стихи. Войдя в свой номер в гостинице «Альвеар», я обнаружил там множество белых и красных роз. «Мы не знали, как поступить, — простодушно объяснили мне аргентинские устроители моих лекций. — Герой вашего романа „Превратности любви“ любит только белые цветы; а герой „Земли обетованной“ — только красные розы. Ну, мы и решили…» В Рио я должен был выступать в огромном театре, в «Политеаме». В Париже бы никогда не стали снимать такой зал ради простой недолгой беседы. В Буэнос-Айресе каждую лекцию пришлось повторять по два-три раза. Там я познакомился с первоклассными писателями: Хорхе Луисом Борхесом, Эдуардо Мальеа[435], Мухикой Лайнес. Перонистский режим практически не допускал никакой свободы печати; когда я выступал, сцена была окружена полицейскими, но, к счастью, все сказанное мною носило чисто литературный характер и не давало им повода вмешиваться. С удивлением посмотрел я аргентинский фильм «Зеленый рай», поставленный по мотивам моего романа «Земля обетованная». Меня поражало и восхищало, что на этом далеком континенте меня читали так же много, как во Франции, а то и больше. Хозяева мои предоставили в мое распоряжение на все время пребывания в Аргентине машину и шофера. Последний, Антонио, был настоящий «caballero», гордый, честный и преданный. Он ухаживал за мной, когда я прихварывал, учил меня испанскому, доставал все, чего мне хотелось. Через две недели, уезжая из Буэнос-Айреса, я хотел дать ему сто раз заслуженные чаевые. Он отверг их вежливо и с достоинством. «От поэта, — сказал он, — я могу принять только стихи». Я подарил ему один из своих романов с дарственной надписью: «Антонио, который все умеет и все делает лучше всех на свете». Мы летели над Андами, самолет лавировал между двумя стенами льда. Страшно перепуганный Рогнедов в отчаянии крестился все время, пока не прекратились эти воздушные трюки. У него было больное сердце, и в негерметичных самолетах того времени бедный малый подвергался реальной опасности. Чили — дивная страна. Мне показывали ее две волшебницы: Чавела Эдвардс (жена хозяина большой газеты «Меркурио») и ее сестра Лала. На фоне снежных вершин Анд вырисовывался Сантьяго, современный, оживленный город. Приятно было поговорить со студентами по-французски. Приятно купаться в лучах славы. Оттуда я отправился в Перу, в Лиму, старый испанский город, таинственный, завораживающий. Кастильская аристократия жила в домах мадридского стиля, где на балконах с коваными решетками росли красные и фиолетовые бугенвилеи. Старейший университет обеих Америк, Сан Маркос, очень торжественно провозгласил меня доктором «honoris causa»[436]. Жан Сюпервьель, сын поэта, исполнял при посольстве функции атташе по культуре. Он был феноменально рассеян. Однажды, например, он предложил проводить меня на машине и стал искать ее на прилегающих улицах. Не найдя, он вдруг стукнул себя по лбу. «Как же я забыл! — сказал он. — У меня же нет машины». В Лиме на меня вдруг повеяло живой поэзией. Я уже говорил, что безуспешно пытался написать роман «Сунамитянка», где собирался перенести в наше время историю темноволосой Ависаги, согревшей последние годы царя Давида. Не найдя прототипа для героини, я отказался от замысла. В Лиме же сунамитянка внезапно возникла передо мной, хотя я ничего не делал для того, чтобы ее призвать. Увы! Прелестная девушка, ставшая под именем Лолиты центральным персонажем «Сентябрьских роз», ныне мертва, и я имею право говорить о ней с нежностью и «saudade». Я обратил на нее внимание уже на первой пресс-конференции в лимском аэропорту прежде всего из-за поразительной красоты, а также потому, что в нашей беседе с перуанскими журналистами она оказалась на редкость умным переводчиком. Она не только говорила по-французски, она знала наизусть Верлена, Лафорга, Арагона и снабжала мои ответы очень милыми и глубокими комментариями. — Кто эта удивительная женщина? — спросил я у Рогнедова после конференции. — Ах! Мэтре! — воскликнул он в экстазе. — Это самая замечательная женщина из тех, что я когда-либо встречал. Великая актриса, очень здесь известная; невероятно образованна, имеет влияние в политических кругах! Просто чудо! Затем, обладая сильным нюхом сводника, он добавил: — Она мне сказала, что вы произвели на нее большое впечатление. Ах, мэтре, если хотите… Я ничего не хотел. Мне было шестьдесят два года; я страстно и преданно любил свою жену. И уж конечно не искал приключений. И все же я очень часто виделся с той, кого позднее назвал Лолитой. Она предложила показать мне дом Периколы[437], этот любопытный дворец в стиле Людовика XV на креольский манер, где колонны сделаны не из розового мрамора, а из бамбука. Там она гениально разыграла для меня в лицах «Карету Святых Даров». Потом мы вместе посетили музей Магдалены, потрясающее собрание произведений искусства доколумбовой эпохи, где она обратила мое внимание на пестрые ткани инков. «Гогеновская палитра, — сказала она, — зеленые, темно-синие и интенсивно-красные тона». Выйдя из музея, она зашла в находившуюся совсем рядом барочную церквушку и преклонила колени на каменном полу у подножия алтаря, над которым возвышался балдахин, поддерживаемый серебряными витыми колоннами. — Вы верующая? — А как же? Шесть дней слушал я, как она говорит о религии, о театре, о поэзии, и восхищался все больше и больше. Она бралась за все с непосредственной и возвышенной страстью. Необычайно уверенно переводила она мне с листа наиболее красивые места из своих любимых испанских авторов — Лопе де Веги и Федерико Гарсии Лорки. Потом вдруг показывала на стене своей комнаты портрет тореодора Манолете, одного из своих кумиров, и описывала его неподражаемый стиль. Благодаря ей я учился познавать испанскую душу, великую, благородную, презирающую смерть, набожную и неистовую. После приема во французском посольстве она повела меня в священную рощу, где на фоне лунной ночи вырисовывались бледные тени оливковых деревьев. Я чувствовал себя вне времени, далеко от родины, свободным от запретов и сказочно счастливым. В конце недели я должен был ехать в Колумбию. Рогнедов отправился туда заранее, чтобы по своему обыкновению поставить на ноги президента республики, французского посла (Леконта-Буане) и бог весть кого еще из высокопоставленных лиц. К моему великому удивлению, рано утром в аэропорту я встретил Лолиту. Она, как и я, летела в Боготу. Скромность не позволяла мне допустить, что она решила предпринять это долгое путешествие, чтобы ехать вместе со мной, но вскоре я вынужден был признать, что другого объяснения нет; радость подавила во мне все прочие чувства. В Боготе, где все знали ее и восхищались ее талантом (она часто играла там Клоделя и Кальдерона[438]), она от меня не отходила. «Вы увидите, — сказал мне Сюпервьель, — что в Колумбии о поэзии говорят больше, чем о политике». И правда, так оно и было. Высокопоставленные чиновники переводили Валери. Банкиры писали драмы в стихах. Лолита была королевой этого волшебного царства. А бедный Рогнедов, которому уже не удавалось затащить меня на свои официальные приемы, исходил бессильной злобой. Над городом возвышалась большая гора Монсеррат. А на вершине ее — невероятный, неожиданный, светящийся, воздушный белый силуэт церкви. Лолита повезла меня смотреть водопад Текендама. Водопад этот — живой. Вода не падает отвесной стеной, как в Ниагаре. Она выбрасывает во все стороны жидкие ракеты, и они устремляются вперед, вытягиваются на лету, а потом, просияв отчаянной точкой, сходят на нет и умирают. Вода кажется бледно-желтой, а поднимающийся над бездной пар образует переливающуюся сиреневую дымку. Красота была необыкновенная, хотя, по правде говоря, с Лолитой все мне казалось прекрасным. Она так хорошо говорила о том, что любила. Однажды мы вместе, «шапо а шапо»[439], пошли посмотреть корриду. В другой раз она повезла меня в саванну, неширокую равнину, где трава растет вперемежку с тростником, а местами возникают нежно-зеленые кроны эвкалиптов. Картины эти связаны для меня с ее звучавшей, как пение птиц, речью: «Ты доволен?.. Como se dice?»[440] Я знал, что через три дня, через два дня, на следующий день чары превратятся в воспоминание, но отдавался радостям Волшебного Острова. Я наконец нашел сунамитянку. Теперь мне предстояло без всяких усилий написать свой последний роман. Называться он должен был «Сентябрьские розы» в память о небольшом стихотворении, написанном мною для Лолиты, ибо старик, на две недели превратившийся в юношу, самозабвенно сочинял стихи для той, кого звал companera[441]. Расставшись в аэропорту Боготы, мы пообещали друг другу когда-нибудь снова встретиться в Испании. В Нью-Йорк, где я остановился на неделю на обратном пути, она присылала мне пылкие, прекрасные письма. Но едва я вернулся в Париж, мне стало ясно, что сон — это сон, а прочные, нерушимые связи у меня — во Франции, и «Сентябрьские розы» — роман и действительность — закончатся полной победой супруги. Я посвятил далекой Лолите еще одно рондо и балладу с рефреном: «Но где они, те ночи знойной Лимы?» — рифмуется с «Где та, к кому меня влекло неодолимо?». Где та, к кому меня влекло неодолимо? Увы, в могиле! «А как же иначе?» — сказала бы она. Лолита ничего не ела, курила сигарету за сигаретой и пила, как она говорила, напитки дикарей. Она играла «Тессу» (играла самое себя), танцевала, читала Аполлинера. Но жила она вне жизни и не делала ничего, чтобы приблизиться к ней. Не знаю, была ли она еще жива, когда вышли «Сентябрьские розы». Вопреки всему, что думали и говорили многочисленные критики, роман этот не автобиографичен. Образ старого писателя был навеян в основном Анатолем Франсом, который, путешествуя по Латинской Америке, влюбился в актрису; прообразом жены героя стала бабушка Симоны, мадам Арман де Кайаве, тяжело переживавшая эту историю. Чего стоил этот запоздалый роман, розы моей осени или даже скорее зимы? Я относился к нему снисходительно, с нежностью, но не думал, что он сможет заинтересовать широкую публику. Однако же он привлек ко мне внимание — его читали те люди, которые в свое время полюбили «Превратности любви». В этом путешествии на новый континент, в этом неожиданно теплом приеме, в этой пленительной «companera» было что-то пьянящее. Нужно было оставить этот сон в стране грез и вернуться на землю. На обратном пути я много читал Монтеня, единственную взятую с собой книгу. «Незачем нам вставать на ходули, ибо и на ходулях нам надо передвигаться с помощью своих ног. И даже на самом высоком из земных престолов сидим мы на своем заду…»[442] Замечательное наставление, урок смирения. Но, как и предсказывал мне перед отъездом несравненный Рогнедов, я ни о чем не жалел.4. Большие биографии
После «Сентябрьских роз» я на протяжении пятнадцати лет работал в основном над серией больших биографий. По правде говоря, у меня не было сознательного намерения посвящать столько времени этому жанру. Это, как и все важные веши в жизни, получилось случайно (любое наше решение поначалу весьма произвольно), потом, занявшись исследованиями, я втянулся. Когда в детстве и юности я страстно мечтал писать, то, конечно, не думал о биографиях. Как же возникла у меня такая мысль? Во французской литературе жанр этот не играл практически никакой роли. Было несколько знаменитых книг: «Карл XII» Вольтера (которого я не люблю), «Жизнь Ранее» Шатобриана (не что иное, как исповедь), очень поверхностные биографии, написанные Стендалем, банальные жизнеописания Виктора Кузена[443], биографии малоизвестных лиц, разбросанные у Сент-Бёва[444], героические жизнеописания Ромена Роллана. У каждого из этих произведений свои достоинства; но ни одно из них нельзя счесть биографией, как я ее себе представляю. То есть ничто во Франции не могло увлечь меня на этот непроторенный путь. В свое время я рассказал о том, как возникло в 1924 году жизнеописание Шелли. За ним последовали Дизраэли, Лиотей, Шатобриан, но в промежутках между биографиями я с наслаждением возвращался к романам. В 1939 году топор войны перерубил мой путь. Вернувшись во Францию, я собирался написать серию романов, как вдруг (как я уже говорил) Франсис Амбриер попросил меня прочитать в «Анналах» курс из десяти лекций. Я по-прежнему остро ощущал ностальгию по преподавательской работе. Отдельная лекция не давала мне такого наслаждения. Великая радость от пребывания в американских университетах заключалась в том, чтобы жить одной жизнью со слушателями, видеть, что с каждой лекцией они становятся внимательнее и многочисленнее. К сожалению, в «Анналах» аудитория не могла быть столь же молодой, но я надеялся, что мне, возможно, удастся привлечь студентов, если я изберу тему, одинаково близкую им и мне. И я решил посвятить этот курс Марселю Прусту. Курс имел успех, и после солидной доработки из него вышла книга «В поисках Марселя Пруста». Наследница Пруста, наша хорошая знакомая Сюзи Мант-Пруст, великодушно предоставила в мое распоряжение множество неопубликованных текстов, записные книжки Марселя, семейную переписку. Моя жена, хорошо знавшая Пруста, помогала мне понять его. Тогда, больше чем когда-либо, она была моей незаменимой сотрудницей. Я задался целью написать одновременно жизнеописание и исследование творчества. В наше время много обсуждался вопрос о возможности сочетания этих двух аспектов в одной книге. Сам Пруст в статье «Против Сент-Бёва» настаивал на том, что автор великих, всеми любимых книг — это не тот человек, который любил, страдал, старел, но совершенно другое существо, превосходящее себя и само на себя не похожее. Пруст вменяет в вину Сент-Бёву, что он пытается «всесторонне изучить» писателя, занимаясь историей его семьи, особенностями его характера, друзьями, перепиской, то есть применяя к истории литературы методы естественной истории. Он высмеивает его, когда тот, чтобы узнать Стендаля, расспрашивает его друзей: Мериме, Ампера[445], Жакмона[446], вместо того чтобы просто усердно вникать в его романы. Чудак, о котором в обществе ходят забавные и часто выдуманные анекдоты, не имеет с писателем ничего общего, считает Пруст. Можно описывать дома Бальзака, его странную манеру одеваться, его любовниц, но это не даст читателю никакого представления о моментах вдохновения, когда мысли начинают толпиться и теснить друг друга в голове гения, вовсе не похожего на толстого коммивояжера, каким он может казаться в обычное время, и он создает Вотрена или Рюбампре. Честно говоря, мне кажется, что писатель и его творчество неразделимы. Человеческое существо едино. Одно и то же лицо может быть творцом в моменты экстаза и жалким, заурядным человеком в неприглядные моменты и в повседневной жизни. Сам Пруст, анализируя «Спящего Буза», обнаруживает в нем старческое сладострастие Гюго, а комментируя «Гнев Самсона» — ярость Альфреда де Виньи. Жанр биографии тем и хорош, что позволяет показать, как из обыденной на первый взгляд жизни может возникнуть возвышенное произведение. Я постарался уловить художественную суть великих судеб. Это значит недолговечный образ мира и людей, что создает себе любой подросток, заменить образом более адекватным, который жизнь постепенно открывает его взору. Гете написал «Годы учения Вильгельма Мейстера». Вот чисто художественный поворот, когда Пруст показывает, что в детстве в Комбре Германты были для него лишь именем, а впоследствии за этим именем он обнаружил некую реальность, ничего общего не имеющую с тем, что он воображал; он, как Бальзак, пишет «Утраченные иллюзии», но обретает спасение в той намеренной иллюзии, что и есть искусство. Именно это я и пытался отразить в моих биографиях. Их главное достоинство — картина общества, которая вырисовывается постепенно, по мере того, как она открывается герою. Я хочу, чтобы читатель увидел семью Бальзаков, Тур, Вандом глазами маленького Бальзака, чтобы потом мы познали вместе с ним жизнь, женщин, любовь, разорение, нищету и величие писателя. Я хочу, чтобы иногда читатель чувствовал себя рядом с Бальзаком, сидящим в его кабинете, богатым всеми его воспоминаниями, в момент той самой потрясающей плавки, из которой выйдут «Отец Горио» или «Дочь Евы». Если мне это удалось, если читатель ощутил себя немного причастным к жизни Бальзака и бальзаковскому творчеству, значит, я выиграл, значит, я сделал полезное дело. Наблюдать за гением и восхищаться им — важный нравственный опыт. Восхищаешься не холодным мраморным изваянием, а человеком, таким, как он есть, с его силой и слабостями, причем подчеркиваешь силу, ибо раз это великий человек и раз он сотворил великие произведения, значит, сила его возобладала над слабостями. «Я знаю и признаю, что Жорж Санд была земной женщиной, подверженной, как и все мы, различным соблазнам, но это не помешало ей, — говорил Ален, — создать ту самую Консуэло, что стала образцом для всех женщин». Я знаю и признаю, что Виктор Гюго был иногда груб, иногда похотлив, а иногда злобен, но это не помешало ему создать возвышенный образ христианина епископа Мириэля. Я знаю и признаю, что Бальзак был неблагодарен по отношению к Лоре де Берни и забывчив по отношению к Зульме Карро, но это не помешало ему воспеть госпожу де Морсоф. Жизнь великого человека доказывает читателю, что возможно примирить большое и малое, и вселяет в него веру в себя… Это и была моя цель. Успех «Пруста» вдохновил меня продолжать в том же духе. Нужно было подобрать новые персонажи. Однако все великие люди уже были описаны. Правда, чаще всего не так, как мне бы хотелось. Я, например, прочел все, что было написано о Жорж Санд. Конечно, объемный труд госпожи Карениной содержал бо́льшую часть основных фактов (хотя многие письма, находившиеся у нас с женой, были обнародованы уже после его публикации), но в нем не было Жорж Санд. Что она чувствовала? Как понимала любовь? В чем смысл ее странного романа «Лелия»? Каренина лишь слегка касалась этих вопросов. На мой взгляд, многое нуждалось в объяснении, следовало показать, что Жорж Санд далеко не была сладострастной любовницей, но всю жизнь гонялась за физической любовью, потому что не могла ее найти. Проблема эта интересовала бесчисленное множество женщин; они стали моими слушательницами и читательницами. Когда я писал о Жорж Санд, мне, помимо всего прочего, хотелось ответить на одно пожелание Алена. Он почитал эту великую женщину и считал, что к таким романам, как «Консуэло», относились несправедливо. Я думал так же, как и он, и постарался как можно лучше выразить свою мысль. К сожалению, Алену так и не пришлось прочесть это жизнеописание, вышедшее в 1952 году, через год после его смерти. И опять же в память об Алене я выбрал темой одного из курсов — и героем очередной биографии — Виктора Гюго. Здесь тоже речь шла об устоявшемся несправедливом отношении. Меня раздражала знаменитая фраза Андре Жида: «Увы, Виктор Гюго!» — этакий снобизм умника по отношению к гению. Университетская критика (Леметр[447], Фаге[448]) издевалась над общими местами у Виктора Гюго. Но строфа несет общие места на гребне рифмы. «Сюжет велик, когда в нем нет великого сюжета». Поэт не нуждается в великом сюжете; биограф же нуждается в великой судьбе. Наверное, обладая талантом, можно обнаружить и показать величие самой заурядной судьбы. Обыкновенная жизнь обыкновенной женщины рождает на свет прекрасную книгу — «Госпожу Бовари». Можно представить себе и боварийскую биографию. К сожалению, только великие люди оставляют за собой достаточно хорошо различимый след. Их письма сохраняются; воздвигнутыми в их честь памятниками становятся мемуары современников. Гюго — это великий сюжет по многим причинам: он с детства был связан с историей Франции; его юношеские любовные похождения, неудачный брак, долгая страсть к Жюльетте Друэ, ненасытная старость полного сил восьмидесятилетнего писателя могли бы стать темой превосходного романа; его политические и религиозные взгляды заслуживали углубленного изучения, его частная жизнь была тесно связана с его гением. Я обязан ему тремя счастливыми годами, отданными труду и поэзии. После Гюго, желая еще пожить в эпохе, ставшей мне ближе и понятнее, чем наша собственная, я решился написать «Три Дюма». Все написанное Дюма (отцом и сыном) не столь значительно, как творчество Виктора Гюго или Пруста. Мне трудно было отождествлять себя и с одним, и с другим Дюма, чтобы научиться понимать их. Зато они захватили меня своей творческой энергией, темпераментом. Кроме того, мне был уже знаком фон: снова возникали Жорж Санд, Виктор Гюго, мадемуазель Жорж[449], мадемуазель Марс[450] и многие другие. Мы с женой дошли до того, что, оставшись одни, намного больше говорили об обществе 1840 года, чем о том, что нас окружало. Наших друзей звали Шарль Нодье[451], Теофиль Готье[452], к Сент-Бёву мы относились одновременно с интересом и с некоторым недоверием. Может быть, для того чтобы досконально изучить это время, мне следовало написать еще про Мюссе и Виньи, но, пока я колебался, на пути моем возникли иные соблазны. Однажды утром, разбирая почту, я нашел письмо от леди Флеминг, вдовы великого шотландского ученого, которому мир обязан открытием пенициллина. «Мне бы хотелось, — писала она, — чтобы жизнь моего мужа была описана и чтобы это сделали вы». Я ответил, что ее выбор делает мне честь, но что я для этого недостаточно компетентен. Сэр Александр Флеминг был видным микробиологом. А что я понимал в этой науке? В ответ пришла телеграмма: «Выезжаю». И через несколько дней леди Флеминг была в Париже. Она покорила меня красотой, умом и преданностью памяти мужа. Моим возражениям она не придала никакого значения. Я не знаю микробиологии? Значит, надо изучить ее. Впрочем, в Институте Пастера у меня был бесценный друг, Альбер Делоне. Я спросил у него совета; он вызвался давать мне уроки и вместе со мной проделать над микроскопом тот же путь, что и Флеминг. Я знал, что Делоне может быть превосходным учителем и что объяснения его отличаются предельной ясностью. С другой стороны, я подумал, что изучение жизни ученого, природы его вдохновения дополнит то, что мне уже известно о литературном творчестве. Наука всегда интересовала меня, я считал, что человек XX века не может считаться образованным, если он совершенно не разбирается в физике и биологии своего времени. Правда, имея самые общие представления об этих предметах, я никогда в них не углублялся. И раз теперь мне представился такой случай, нужно было им воспользоваться. Начался трудный период сбора материала. Я работал не только с леди Флеминг и Делоне, но ездил в Англию к профессору Флори и в Италию к профессору Чейну, разделившим с Флемингом Нобелевскую премию. Я спросил у леди Флеминг, нельзя ли найти какого-нибудь врача, учившегося вместе с Флемингом, и она сказала: «Да, есть доктор Джеймс». Так звали одного из моих товарищей по войне 1914–1918 годов, с которым мы делили палатку в непролазной фламандской грязи во времена полковника Брэмбла. Великолепный доктор Джеймс в моей книге превратился в доктора О'Грэди. «Просто неправдоподобно, — сказал я, — чтобы речь шла о моем докторе Джеймсе. Это было бы слишком. В жизни чудес не бывает». И тем не менее это в самом деле был мой Джеймс. В маленькой, овеянной воспоминаниями квартире леди Флеминг он рассказывал мне о сэре Александре столь же красочно и живо, как некогда, бывало, разглагольствовал в палатке где-нибудь в районе Армантьера или Ипра под звуки пулеметных очередей и при свете ракет. Снова Судьба замкнула в моей жизни очередной круг. После Флеминга я снова поддался искушению взяться за сюжет, казавшийся весьма далеким от моих обычных изысканий. Ко мне пришел мой друг Рене де Шамбрен, один из немногих потомков Лафайета[453], и сказал, что обнаружил на чердаке замка Ла-Гранж (где жил его предок) удивительное собрание семейных бумаг, писем, дневников, документов, открывавших факты биографии Лафайета, которые совершенно по новому освещали его жизнь; что американский издатель, с которым он связался, выразил пожелание, чтобы я написал эту биографию; что сам он согласен и что, следовательно, он предоставит мне возможность прочесть и использовать эти бумаги. Поначалу я, как и в случае с Флемингом, заколебался, потому что «это не мой период». Но потом, как и следовало ожидать, решил поехать с Шамбреном в Ла-Гранж, чтобы, по крайней мере, взглянуть на собрание. Я был потрясен. Там почти все осталось нетронутым. В кабинете Лафайета так и лежала нераспечатанной его последняя почта. На чердаке стояли бесчисленные ящики с документами, каким-то чудом не пострадавшие от сырости и мышиных зубов. Я начал читать бумаги. Это было просто поразительно! Я перенесся в старинные времена, в узкий круг знатной семьи, а потом попал в окружение «героя Старого и Нового Света». Особенно привязался я к жене Лафайета Адриенне. Раньше я ничего не знал о ней, а то, что узнал, привело меня в восхищение. Адриенна была буквально святая, вся состояла из доброты, любви и веры. Начисто лишенная ханжества, удивительно терпимая ко всему, она жила подлинно христианской жизнью, исполненной героизма и совершенства. В ранней юности соединив свою судьбу с мужественным человеком, но далеко не идеальным супругом (чего стоили его постоянные измены, политическая одержимость), разрываясь между верностью мужу и королевскому дому, она в каждый момент своей трагической жизни умела избрать самую благородную, самую великодушную линию поведения. Она была рядом с мужем, когда он пытался обуздать Революцию и удержать ее в рамках законности; она поддерживала его, когда он впал в немилость, и последовала за ним в тюрьму. Позже она разделила с ним изгнание, как и он, не покорившись Бонапарту. И все это — без всякой напыщенности, без гордыни, без ревности. «Да она же, — сказал я своим друзьям Шамбренам, — самая замечательная из святых. И раз вы даете мне все необходимое, я хочу описать ее жизнь, а не жизнь Лафайета». Оказалось, что мой выбор отвечал их заветным желаниям. Оба они боготворили Адриенну. Я присоединился к этому обожанию. Книгу о ней я писал с нежностью, волнением и почтением. Я познал неземную силу глубокой и чистой веры. Я часто предчувствовал, угадывал нечто подобное; но мне никогда не приходилось ощущать столь тесную духовную связь с верующей и живущей по вере женщиной. Это мне показалось прекрасным, да и не только мне, так как я получил тысячи писем от читательниц, благодаривших меня за то, что познакомил их с Адриенной. Единственной страной, где книга не имела никакого успеха, были, к моему великому удивлению, Соединенные Штаты. Я думал, что имя Лафайета окажет там магическое действие. В глазах американцев героем должен был быть сам Лафайет. У меня же он вышел слабее и, прямо сказать, без того величия, какое было в его жене. Отсюда и разочарование, вызванное книгой у американцев. Но я все равно счастлив, что написал ее. В дальнейшем мне предстояло еще раз вернуться к любимому занятию и написать еще одну биографию великого писателя, а именно Бальзака. Но всему свое время. Здесь же следует рассказать о книге, которая была не биографией, но данью благодарности, — книге, посвященной творчеству и философии Алена. С 1946 года я продолжал по мере возможности ездить в его маленький домик в Везине и всегда заставал его за столом перед раскрытой книгой. Долгие дни неподвижности он заполнял тем, что перечитывал любимых авторов: Бальзака, Стендаля, Сен-Симона, Гюго, Санд, Диккенса, «Мемориал», Марселя Пруста. Когда я входил, он радостно поднимал голову и сразу же начинал экспромтом рассуждать о только что оставленном писателе. Я подолгу сидел у него. Это были удивительные часы. Пораженный молнией дуб был по-прежнему прекрасен. Одно из самых моих заветных желаний заключалось в том, чтобы моему учителю воздали должное. Конечно, и я, и другие верные ученики всегда относились к нему с пиететом, но один из величайших, на мой взгляд, писателей и мыслителей своего времени (Валери, Жан Прево, Симона Вейль[454] были со мной в этом согласны) заслуживал всемирной и долгой славы. Тогда же, в послевоенный период, многие отказывали ему в этом праве, одни — по каким-то весьма смутным политическим соображениям, другие, будучи профессиональными философами, не могли простить ему, что он обходился без их специфического языка. В той скромной мере, в какой я мог оказывать влияние на моих читателей, я решил познакомить их с этим неподражаемым умом. Сразу же после возвращения в большой статье для «Нувель литтерер» я написал:«Я мало знал великих людей — то есть людей цельных, без малейшего изъяна. Их можно пересчитать по пальцам. Философ Ален из их числа, и об этом знают все, кому довелось быть его учениками или читателями. Истина эта, уже достаточно известная, будет распространяться и через сто лет будет жить в памяти потомков среди писателей нашего времени где-то неподалеку от Валери, тогда как многие из тех, кто сегодня наивно убежден в своем бессмертии, будут забыты. В одном анонимном тексте, опубликованном в 1932 году слушателем курса высшей риторики лицея Генриха IV об учителе Алене, читаю: „В его лекциях мы видим движение мысли более значительное, более глубокое, чем в бергсонианстве, и это без малейшего усилия быть оригинальным, стать во главе школы… Эту загадку не выразишь в трех строках, здесь тысяча загадок. Здесь несметное множество живых идей и в то же время — прямое, оптимистическое, мужественное, бодрое действие, необычайную силу которого ощутили все, даже самые неприметные его ученики“[455]. Это факт. Есть во Франции несколько тысяч человек, которые, обращаясь к лучшим своим воспоминаниям, приводя самые громкие титулы, сгордостью заявляют: „Я был учеником Алена“. К ним, в частности, относился Жан Прево, которого нам так сильно не хватает, который мог бы стать одним из идеологов новой Франции и который никогда не упускал случая подчеркнуть, сколь многим он обязан своему учителю. Что касается меня, Л сотни раз говорил, что обязан ему всем, и даже некоторыми из моих несчастий, ибо он приучил меня метить слишком высоко. Но учение его остается моей религией, впрочем, оно религиозно в своей основе. …Когда я вернулся из Америки, одним из самых сильных моих желаний было вновь повидать Алена. Его последняя книга, „Приключения души“, была так же прекрасна, как и то, что он писал в прежние времена, и я узнал в ней его чуждое догматизму учение. Я нашел своего учителя в уединенном месте близ Парижа, которое он никогда уже не покинет. Старость никак не отразилась на живости его ума. Он стал говорить о вечности — неувядаемая тема! — о Бальзаке и о наших руанских занятиях. Какое счастливое было время, когда, оба еще молодые, мы каждое утро отправлялись на охоту за идеями. Сегодня и учитель и ученик поседели. Но за час, проведенный подле Алена, я вновь ощутил радость свободы. Ярким и прекрасным светом сияла эта могучая, склоненная ко мне голова. Я вышел из его маленького домика более чем когда-либо уверенный в силе его сверкающего и искрометного духа».
Успех этой акции превзошел наши надежды. Галлимар издал Алена в «Плеяде», и он стал у них одним из самых читаемых авторов. Молодежь черпала в его книгах жизненные установки. Его произведения цитировали государственные деятели. Я бережно и с любовью попытался написать о нем книгу, не биографию, повторяю, а нечто вроде изложения моральной, политической, эстетической, метафизической системы Алена. Это было весьма смело, ибо сам Ален так этого и не сделал. Он, как Монтень, предпочитал спонтанный ход мысли. Поэтому я сильно робел, неся ему свой труд. Но напрасно, ибо вот что он написал мне на следующий же день (28 декабря 1949 года):
«Мой дорогой друг Моруа, я только что целиком прочел вашего „Алена“. Я восхищен до такой степени, как вряд ли буду восхищаться когда-либо впредь; вот и сел вам писать: есть о чем… Вот мое впечатление. В философии Алена есть очень трудные места. Я заранее сказал себе, что вы, с вашим писательским талантом, сумеете их всякий раз легко и умело обойти. Так вот, этого не произошло! Всякий раз я, напротив, видел, с каким напряженным вниманием вы штурмуете дебри. И всякий раз я сам начинал лучше понимать свою мысль. Пример — рассуждение о кресте в „Богах“, учение Сократа, понятия „другой“, „подобие“ и т. д. Я действительно много узнал о себе, читая вашего „Алена“. Как сказала, не вдаваясь в философию, Габриэль, для понимания нужна любовь. Что ж, я готов. Теперь мой черед садиться за парту и брать уроки, мое „подобие“ (мой „другой“) у меня в долгу. Что значит думать? Это значит думать, как другой. Я пришел к этому и на том останусь. Сохраню „общечеловечность“. Это немало. Но не более чем могу, оставаясь человеком сам. Прочтите любую мою строчку, и вы поймете мою устойчивую позицию. Но не стану повторять всю вашу книгу, а то пришлось бы ее переписать. Скажу только, до чего хорош тон рассуждений вашего „ученика в роли учителя“: наставительно-серьезный, но не без лукавства. Вы уловили даже мой стиль, это просто удивительно! Короче говоря, никогда ни одного автора не читали так, как читали меня вы, мой единственный друг. У каждого из прочих есть свое слабое место. Один, например, упрямо возражает. Другой просит объяснений. Я и так, черт побери, достаточно всего наобъяснял в своей жизни. Принимал же я Ланьо таким как есть. Не возражал и не придирался. Хотя на других кидался с яростью. Тягаться с Ланьо казалось мне кощунством. Вы поняли меня? Я написал две страницы — и будет. Ваш Ален».
В этом мире, где все быстротечно — почести, удовольствия, богатство, — чудом и утешением нам, как мне кажется, могут стать неприступные бастионы дружеской верности. На преданность учителю, которую я хранил с ранней юности, не повлияли ни разлука, ни болезнь, ни новые встречи. И я был счастлив, что не без моего участия ему за несколько недель до смерти присудили только что учрежденную Национальную премию по литературе. Я поехал вручать ее ему в Везине вместе с главой комиссии по искусству и литературе Жаком Жожаром[456] и Жюльеном Кэном. Ален умер в 1951 году, и его жена, друзья, ученики попросили меня высказать на кладбище Пер-Лашез то, что переполняло нас всех. Я не мог, да и не хотел отказываться: говорить о таком человеке перед такой аудиторией — большая честь. Церемония была прекрасна в своей простоте. Все собрались почтить память усопшего. Многие бывшие ученики съехались из самых отдаленных районов Франции. Поколения перемешались, все испытывали одни и те же чувства. Я воспроизвожу здесь часть той речи, что произнес тогда над раскрытой могилой, так как это, на мой взгляд, был один из ключевых моментов моей жизни.
«Мы собрались в этом скорбном месте, чтобы почтить память нашего учителя и друга. Мертвые перестают быть мертвыми, если о них помнят. Как сказал Гомер, „мертвые оживают благодаря живым, узнают их и говорят с ними, испив свежей крови, которая на время возвращает теням память“. С ранней юности мы питались мыслью Алена. Настало время, когда тень Алена должна питаться нашей мыслью. А так как он присутствует в каждом из нас, в этот миг он вступает в вечность. Все, что любили в нем, все, чем восхищались, по-прежнему живо. Наши мысли, наши труды, наши чувства, наши поступки и даже наши мечты отмечены печатью учителя. Нас, свидетелей этой великой жизни, немало; и память о ней мы передадим последующим поколениям. Сократ не умер, он живет в Платоне, Платон не умер, он живет в Алене. Ален не умер, он живет в нас. Есть люди, начинающие жить только после смерти. Ален любил слово „легенда“, поскольку именно легендой следует называть историю человеческого существования, очищенного временем и забвением. Но сама жизнь нашего учителя уже была его легендой. Он всегда отвечал самым благородным нашим ожиданиям. Мы всегда имели возможность сполна насладиться высотой полета его мысли, красотой стиля, смелостью решений. „Я благоговел перед Ланьо“, — говорил он о своем учителе. Мы благоговеем перед Аленом. Нам, седовласым ученикам, нравилось приезжать к нему в Везине, в этот приют мудреца, святилище духа. Тяжела была его старость. Сведенные, негнущиеся члены отказывались служить ему. Он страдал. Но никогда не жаловался. Улыбка, обращенная вам навстречу, свидетельствовала о дружеском постоянстве. Верный сократовскому методу, старый учитель будоражил ум гостя, и тот становился свидетелем бурной работы его поэтического гения. Скромным и внимательным слушателем при разговоре была замечательная женщина, облегчавшая ему мучения своими заботами и нежностью. Вскоре в комнату слетались великие тени: Декарт, Стендаль, Бальзак, Огюст Конт. Незабываемые встречи. В прошлое воскресенье мы вошли в маленькую комнату и увидели на кровати истощенное долгим голоданием тело нашего учителя. На его навсегда застывшем лице смерть запечатлела добрую всепонимающую улыбку. На мгновение я подумал, что снова вижу перед собой ни на кого не похожего веселого молодого преподавателя, который почти полвека назад вошел в класс руанского лицея и написал на черной доске: „Всеми силами души надлежит стремиться к истине“. Долго простоял я у этого ложа. Естественно, мы часто мысленно обращаемся к покойным, с которых брали пример. Чему учил этот великий ум и какой клятвы он ждет от нас? Я думаю, эта клятва заключается в одном слове — надеяться. Ален учит доверять человеку, уважать его свободу и доверять своему разуму, который от одной ошибки к другой продвигается к истине; доверять своей воле, ищущей дорогу в хаотическом мире. Кто умеет сомневаться и желать, будет спасен. Такою его завещание, таков образ, который мы должны сохранить в себе живым, чтобы не дать умереть духу Алена. Мы клянемся хранить, насколько это в наших силах, верность его урокам и его примеру. А сделать это мы, его бывшие ученики и друзья, сумеем, если сбережем то прекрасное братство, что объединяет нас ныне вокруг него. Мы знаем, что он любил преемственность, связь живых с ушедшими, святой обычай добавлять свой камень к надгробной пирамиде великого предка. Быть или не быть Алену — зависит от нас. Сегодня мы закладываем первый камень этого памятника духу».
Не стало того, кто на протяжении полувека поддерживал, вдохновлял и направлял меня. Нужно было продолжать путь без этого светоча. Но как звезды, угасшие несколько веков назад, продолжают сиять на нашем небосклоне, так и Ален остался моим учителем, хотя тело его исчезло под толщей земли и цветами на кладбище Пер-Лашез. Всегда, в Париже и за городом, книги его у меня под рукой. Я непрестанно перечитываю «Беседы», «Богов», «Историю моих мыслей». И каждый раз я нахожу новую, единственно необходимую на данный момент моему уму пищу. Через Алена мне становятся доступнее Платон, Декарт, Спиноза, Гегель. Даже на Бальзака, Стендаля, Диккенса он проливает удивительный свет. Привить тысячам молодых людей, сначала своим ученикам, потом ученикам учеников, благородное представление о человеке — великое призвание.
5. В поисках утраченного времени
Быть может, истинный человек проявляется только в торжественной обстановке, ибо настроение всегда обманчиво.Бергсон и Пруст совершенно правы, говоря, что прожитое время в корне отличается от времени часов и календарей. Когда я думаю о двадцати годах, истекших с момента окончания войны, то нахожу всего лишь несколько ярко озаренных мгновений. Остальное тонет в безвременной тени. Восстановить, какой была моя жизнь в период этого штиля, я могу только по вехам своих книг и кое-каких документов. О книгах я уже рассказал. Документы напоминают, что в то время, сам того не желая и даже страшась, я играл определенную роль в официальной и международной жизни. Одна из опасностей, подстерегающих в старости, — это капкан общественных обязанностей. Молодому человеку легко отмести все, что ему навязывают; человеку же пожилому и сколько-нибудь известному никуда не уйти от предлагаемых ему как старейшине председательских функций. Обязанность эта почетна и тяжела. Я таким образом был президентом общества «Франция — Америка» (позже — «Франция — Соединенные Штаты»); президентом Ассоциации лауреатов национального конкурса; президентом Общества друзей Алена; президентом (временным) Французского института. Титулы незначительные, но подразумевающие собрания, речи. Академия просила меня быть ее представителем; к столетию Ламенне[457] я должен был спешить в Сен-Мало, где шквалистый ветер рвал из рук листы моей речи; по случаю столетия Виктора Гюго — выступать в Пантеоне перед президентом Республики и правительством, в то время как снаружи слышался шум толпы, бившейся в бронзовые двери; по случаю четырехсотлетия Шекспира — вешать в Сорбонне перед многочисленной студенческой аудиторией. Я старался, как мог, соответствовать этой роли публичного оратора, но боялся ее, ибо в глубине души остался робким провинциальным приверженцем камерной атмосферы. На мой вкус, я предпочел бы класс, небольшой лекционный зал, нескольких студентов. Гюго, Бальзак, Шекспир собирали колоссальные аудитории. Я подчинялся. За границей моя аудитория также росла. У меня с самого начала было много читателей в Англии и Америке. Я их сохранил и по-прежнему часто ездил в эти страны. В 1964 году английские писатели попросили меня выступить на открытии литературного фестиваля в Челтенхэме с лекцией (на английском языке) о философии чтения. Мой английский несколько заржавел. Поначалу мне было трудно справляться с акцентом. Но публика оказалась настолько снисходительной, что вскоре я освоился. В 1956 году во время конгресса Пен-клубов в Лондоне меня попросили произнести тост за город Лондон, а также заключительную речь после ужина в палате общин. Во время этой поездки я снова увиделся с королевой, чье сочувствие и деликатность так поддержали меня в дни невзгод. Теперь она была королевой-матерью. Меня звали и в другие страны. Италия попросила выступить в римском Капитолии. В Испании, Югославии, Японии издавали полные собрания моих сочинений. Меня переводили в СССР, а я принимал у себя в Париже советских писателей, высоко отзывавшихся о моих книгах. В Германии до прихода нацизма у меня было много почитателей. Во времена Гитлера мои произведения находились под запретом. После войны оказалось, что читатели остались мне верны. Меня со всех сторон приглашали выступать с лекциями. Я колебался; конечно, я не распространял на весь немецкий народ ответственность за лагеря смерти и безумные жестокости СС; я был убежден, что многим немцам это так же претило, как мне; но рана еще не зарубцевалась. И все же, когда в Мюнхене восстановил свой замечательный театр Кувельер и меня попросили выступить на его открытии, добавив, что этот визит будет символическим, я счел нужным согласиться. Франко-германское примирение было необходимо для мира в Европе. Прием был неописуем. Пока длилась овация, я невольно подумал, что несколько лет назад я не ушел бы живым из этого прекрасного города. Но сердца бились уже по-другому; сиял театр; очаровательная молодая женщина, дочь героя-антифашиста, была моим переводчиком и гидом. Горечь обиды таяла в тепле добрых чувств. Дай-то Бог! Менее легкие на подъем друзья спрашивали меня: «Зачем столько ездить?» А я вспоминал Жида в то время, когда репетировались его «Подземелья Ватикана». «Зачем вам эта опасная игра? — говорил ему Роже Мартен дю Гар. — Эта пьеса ничего не прибавляет к вашему творчеству». А Жид отвечал тоном избалованного ребенка: «Я знаю, что это не очень хорошо. Но что поделаешь? Мне уже за восемьдесят, а это мне интересно. Так почему бы и нет?» Я бы ответил так же. «Зачем выступать с лекциями? Потому что мне это интересно. Пробовать сюжет на разной публике, импровизировать, находить в каждом городе новых друзей — да, признаюсь, я любил это. И думаю, что все это небесполезно. Европе нужны были посредники. Этим я и занимался». Я вовсе не чувствовал себя знаменитостью. В собственных глазах я остался ранимым, робким юношей из лицея Корнеля, жадным до учебы, до чтения, счастливым каждый раз, когда ему доведется прочитать хорошую новую книгу, послушать прекрасную музыку или посмотреть пьесу Мариво, Бомарше в отличном исполнении. Из безмолвных глубин времени для меня выступают лишь те часы, когда вдруг какая-нибудь книга, спектакль или беседа приводили меня в восторженное состояние. Помню «Записные книжки» Поля Валери; помню Элен Пердриер[458] в пьесе Мариво; помню беседы Жана Кокто, когда он по-дружески заходил к нам на обед. Мне нравились резкие черты его лица, пышные волосы, его трагическая серьезность и детский смех. Для поддержания памяти я в своем солидном возрасте учил наизусть стихи Бодлера, Верлена, Малларме, Валери. Чтобы было средство скрасить часы одиночества и ожидания. Продекламировать Корнеля или Мольера, почитать Стендаля или Бальзака, познакомиться с умным человеком — таковы были мои истинные радости. Официальная сторона жизни? Я терпел ее; исполнял то, что требовалось; она почти ничего для меня не значила. В 1952 году мой друг и сверстник Франсуа Мориак получил Нобелевскую премию. Я был согласен с таким выбором и очень радовался. Мориак — большой писатель, он принадлежит замечательной французской традиции, подспудно связующей Боссюэ и Руссо, Шатобриана и Барреса. Я опубликовал восторженную статью: «Он смело и уверенно шел по краю пропасти, его бубенцы гордо звенели в тумане. Извилистый путь по склону горы был долог и опасен, Мориак преодолел его не дрогнув. И вот он выбрался из полосы тумана на залитую солнцем вершину. Люди его поколения, его товарищи, те, что шли вместе с ним до последнего перевала, иногда теряя его из виду, но всегда восхищаясь его дарованием и оставаясь преданными друзьями, от всего сердца этому рады». Подозрительный читатель, всегда стремящийся найти уязвимое место, вероятно, подумает: «А не примешивалось ли к вашей радости немного зависти? Не приходило ли вам в голову, что и вы, писатель, читаемый во всем мире, могли бы на это претендовать?» Но я совсем не завистлив, кроме того, я знаю свое место, горжусь им, но понимаю, что оно не первое. Не только Мориака, но и Мальро, Арагона, Монтерлана я считаю писателями более высокого уровня, чем я. Лучшие мои страницы («Дизраэли», «Ален», «Превратности любви», «Голые факты», несколько новелл, конец «Пруста» и «Бальзака»; некоторые места из второй части этих «Мемуаров»), может быть, на некоторое время переживут меня. С остальным будет видно. Все рассудит время. Вся жизнь размечена повторяющимися вехами. Каждый год незадолго до Пасхи мы ездили в Монако вручать Княжескую премию. Там собиралась целая группа близких друзей: Дюамель, Анрио, Женевуа[459], Паньоль[460], Ашар[461], Жеральди[462], Доржелес[463], Жан Жионо[464], Жерар Бауэр, Жак Шеневьер, Карло Бронне. Княжество размещало нас в «Отель-де-Пари». Ели за общим столом. Вокруг нас вился скрипач. Каждый просил своего композитора: Шумана, Шуберта, Форе, Гранадоса, Альбениса. Церемониал, остававшийся всегда неизменным, предполагал, что сразу после результатов голосования нужно позвонить лауреату, сообщить, что ему присужден миллион, и пригласить его как можно скорее прилететь к нам. Поскольку кандидатуры на эту премию не выдвигались, избранник всякий раз бывал крайне изумлен. Так, Поль Жеральди позвонил только что избранной Луизе де Вильморен[465]. Она не могла ничего понять. «А кто говорит?» — спросила она. «Поль Жеральди». — «Поль Валери? Он же умер». Она приехала и всех очаровала, как позже Камиль Дютур[466], которая прилетела вместе с мужем, избранным по моей просьбе.Ален
11 апреля 1954. Вербное воскресенье. Собрание в Монако, к сожалению, близится к концу. За огромным круглым столом весело и непринужденно звучат воспоминания, анекдоты, идеи, и все мы счастливы, ибо что может быть лучше беззаветной, открытой дружбы! Наш лауреат, Жюль Руа, на высоте. Внушительный получается список лауреатов у этой премии! Главное — и впредь держаться на том же уровне! Жерар Боэ рассказывает самую короткую историю о привидениях: «Я встретил такого-то с его вдовой». Это напоминает Полю Жеральди художника, который, показывая на портрет своей жены, живой и присутствующей при разговоре, говорил: «Портрет первой жены художника». Она его пережила. На обеде у князя я сидел рядом с Колетт. Она сказала, глядя на меня своими прекрасными, усталыми и нежными глазами: «В моем возрасте удовольствие заключается в том, чтобы не работать». Это навело меня на тревожные размышления. А что я, черт возьми, буду делать, когда перестану работать? Но это несуществующая проблема: я буду другим человеком и сочту это вполне естественным.
В Париже каждый второй вторник месяца устраивался обед в «Анналах», на котором десять писателей должны были назвать пять лучших книг месяца для зарубежных читателей. Я называл эту трапезу обед Маньи[467], в память о собраниях, на которых присутствовали Флобер, Готье, Гонкуры, Ренан, и еще потому, что в ней принимала участие критик Клод-Эдмонда Маньи, ныне покойная. На самом деле, это был обед Амбриера. Он основал традицию, он созывал друзей. Увы! Из основателей живы (на 1966 год) только Амбриер, Андре Бийи[468] и я. Нахожу запись: «Обед Маньи. Шумно и весело, как обычно. Мы сегодня на редкость благодушны. Робер Камп и Эмиль Анрио расхваливали Фаге, Лансона[469]… Клод-Эдмонда замолвила словечко за Жюля Леметра. Не успели даже поругать собратьев».
6 октября 1954. Обед Маньи. Говорим о книгах месяца. Андре Бийи жалуется на наивность романистов, считающих себя обязанными, «чтобы идти в ногу со временем», сдобрить свои книги известным количеством непристойностей, кстати, весьма скучных. Можно было бы объявить конкурс: кто впишет в «Принцессу Клевскую» или «Пармскую обитель» пару страниц, которые превратили бы их в современные романы. — Очень просто: Немур развел ноги принцессы и осторожно проник… И так далее… — Господа, господа, — говорит Амбриер своим красивым ораторским голосом, — нам все-таки надо продолжить обсуждение книг месяца. Будьте серьезны. Но ему трудно совладать с компанией.
Я никогда не писал для театра. Это может показаться удивительным, так как еще в ранней юности моим излюбленным развлечением было сочинение небольших пьес для Эльбёфских любителей или для армейских товарищей. А в детстве была написана трагедия в стихах об Одетте де Шандивер в пяти актах. [Но случай играет в нашей жизни не меньшую роль, чем призвание.] На литературном поприще я дебютировал как автор романов и биографий, и мною стали интересоваться издатели, а не руководители театров. Мне скажут, что и Жироду, и Мориак успешно перешли от прозы к драматургии. Это правда. Но Жироду посчастливилось встретиться с Жуве[470], а Мориаку — с Эдуардом Бурде[471]. Мне же такой удачи не выпадало. Но вот мой друг Пьер Декав[472] возглавил «Комеди Франсез». Он старался привлечь новых авторов и предложил мне свою поддержку. — Это соблазнительно, — сказал я. — Я страстно люблю театр, особенно тот, которым вы руководите. Но сочинять пьесы — не мое дело, и разбираюсь я в этом довольно плохо. А учиться уже поздно. Роман и пьесу пишут по разным принципам… — Диалоги вашей прозы — это готовые театральные реплики… Если не хотите начинать с большой пьесы, напишите одноактную. Мне нужно дополнить несколько слишком коротких спектаклей. Вы же любите «Пословицы» Мюссе[473]… — Именно поэтому мне страшно браться за жанр, где он неподражаем. Пылкий и настойчивый Пьер Декав одержал верх. Это было нетрудно, ибо его предложение отвечало моему давнему заветному желанию и напоминало то время, когда мать и тетушки водили меня в каникулы смотреть классических авторов в огромный, красный с золотом храм, именуемый Французским театром. И вот в Доме Мольера будут играть мои сочинения — какая неожиданность и какое счастье! Я обещал Декаву сделать «пословицу» из одной из моих новелл. И взял за основу пословицу: «Удача любит простодушных». Честно говоря, я был не слишком доволен собой. Диалоги написаны легко и непринужденно, неплохо выстроена интрига, но сюжет казался мне слабым, излишне литературным, а среда недостаточно колоритной. В утешение я говорил себе, что Мольер в «Ученых женщинах» вывел на сцену жеманных мещанок и литераторов, а сюжет «Каприза» тоже весьма слаб. Внутренний голос отвечал на это: «Даже если признать, что ты написал „Каприз“, что на самом деле не так, как отнесется к тебе критика? Вероятно, неважно. Ты старик, академик, предвзятость тебе обеспечена, а поскольку пьеска твоя не шедевр…» Но охота одержала верх над благоразумием. «Пословицу» я написал быстро. Мне предстояло прочитать ее перед театральным комитетом. Большое впечатление произвела на меня организация заседания. Автора вводят в кабинет председателя комитета со знаменитыми гобеленами на стенах. Комитет заседает в соседнем помещении. «Я пойду к ним, — говорит мне Декав. — Затем вас позовут. Ваше место за столом будет отмечено стаканом воды. Вы прочтете пьесу и выйдете. Комитет займется обсуждением, а потом я приду сюда сообщить вам результат». Болезненное ожидание. Немного тревожно. Говоришь себе: «У меня сдавило горло; я буду читать очень плохо». Наконец меня вызывают, и я, как в сонном тумане, вижу своих судей — известных актеров. Читаю, не поднимая головы, так что никак не могу уловить, нравится им или нет. Дочитав, я кланяюсь и ухожу. К счастью, в кабинете председателя я нахожу милую секретаршу, которая помогает мне перенести мучительную неизвестность. «В общем-то, это безделица, — говорю я ей, — . это не так уж важно». И сам себя стараюсь убедить. После короткого обсуждения таинственная дверь открывается, и я вижу лицо Пьера Декава. Он улыбается и еще не успевает раскрыть рта, а я уже понимаю, что все хорошо. Он торжественно заключает меня в объятия. Мы же в театре, черт побери! В «Комеди Франсез» меня баловали. Постановщиком моей пьесы назначили Жака Шарона[474], тончайшего, изысканнейшего мастера. Я видел, как на первой же репетиции он стал переводить в движения мои несчастные фразы. Ведь пьеса — это еще и балет. Простым, доступным комментарием Шарон умел высветить какое-нибудь слово, указать верную интонацию. А распределение ролей было просто потрясающим: Лиз Деламар, Элен Пердриер. Меня удивило, что столь великие актрисы согласились на такие маленькие роли. На роль субретки мы выбрали Анни Жирардо[475], тогда еще совсем молодую и никому не известную актрису, которой вскоре предстояло стать знаменитой. На мужскую роль взяли Поля Гера. Прибавьте к этому, что репетировали в артистическом фойе среди прекраснейших картин, что мадемуазель Марс, Рашель[476], мадам Дорваль[477] смотрели на нас с высоты своей славы, а над сценой возвышался сам Мольер на портрете работы Миньяра. Так заветная мечта моей далекой юности неожиданно становилась явью. Во время репетиций всем было очень весело. Остроты срабатывали. В день генеральной репетиции я поглубже забился в служебную ложу. Публика тепло встретила пьесу, но в зале собрались друзья. С большим волнением ждал я реакции критики. Робер Камп был великодушен: «Давно уже „Комеди Франсез“ ищет новые пьесы, чтобы немного пополнить свой репертуар. На сей раз, по-моему, найдено то, что надо. Пьеса Моруа изящна и остроумна, мастерски закручен сюжет, высоки достоинства стиля… Спектакль имел большой успех, чувствуется уровень труппы». Поль Гордо («Франс-Суар») написал: «У Моруа есть драматургический дар. Он умеет выстраивать сцену; он саркастичен и умен». К сожалению, моему другу Жан-Жаку Готье пьеса не понравилась: «Мало назвать одноактную пьесу „пословицей“, — писал он, — чтобы она напоминала Мюссе». Это строгое суждение огорчило меня, но нисколько не отразилось на моей дружбе с судьей. В общем, у публики эта небольшая одноактная пьеса имела успех. Пьер Декав, довольный, сказал мне: «Комитет был бы рад, если бы вы написали для „Комеди Фрасез“ пьесу в трех-четырех актах. У вас есть сюжеты?» У меня в «Садке» вот уже лет двадцать хранилось про запас без всякой надежды около дюжины сюжетов. Декав попросил рассказать о них, что я и сделал, но сделал отвратительно, ибо, мне кажется, невозможно кратко пересказать пьесу или роман, не исказив их смысл. К моему великому удивлению, он выбрал исторический сюжет — историю миссис Фитцхерберт, бывшей любовницы принца Уэльского, а потом его тайной жены, покинутой им после того, как он стал Георгом III и женился на Каролине Брауншвейгской. Героиня эта (любимица моей жены) всегда привлекала меня (у нее много общего с Адриенной Лафайет), а политическая ситуация была как нельзя более драматическая. «Замечательно! — сказал Декав. — Отложите все дела и напишите за лето эту пьесу. А зимой мы ее сыграем». Я поддался соблазну. В июле в Эссандьерасе я написал четырехактную пьесу. Отдельными сценами я был доволен, но не произведением в целом. Мы договорились, что в августе Пьер Декав с женой приедут слушать чтение. Этот домашний спектакль (были только моя жена да чета Декав), казалось, был успешным. Одна из актрис труппы сказала мне, что Декав написал ей тогда: «По-моему, у нас в руках шедевр». И все же… И все же пьесе этой (которую я назвал «Королева сердца») не суждено было увидеть огни рампы. И вот почему. Когда в конце сентября я вернулся в Париж, Декав сказал мне: «Прежде чем читать в комитете, нужно дать вашу рукопись Жану Мейеру[478] и спросить его мнение. Он всемогущ, остальные смотрят на все его глазами. Я сам ничего не могу сделать без его согласия». «В таком случае, — сказал я, — лучше сразу отказаться. Я знаю Жана Мейера, у него свой вкус, у меня свой; он возненавидит пьесу и заранее настроит против нее своих товарищей». Но Декав настаивал, и я имел слабость уступить. Все произошло так, как я и предвидел. Жан Мейер прочел пьесу, пришел ко мне и сказал: — Это невозможно! Этот текст не для сцены. — Да я и сам первый нахожу его несовершенным, — сказал я. — И прошу вас, специалиста по этому делу, подсказать мне, как его улучшить. — Его нельзя улучшить, — сказал он. — Это безнадежно. Должен ли я был после столь лаконичного суждения отказаться от чтения перед комитетом? Я полагал, что да. Жан Мейер наверняка сказал всем, что пьесу играть нельзя. В ту пору он слыл оракулом. Передо мной оказалась бы стена предвзятого отношения. Раздосадованный Декав посоветовал мне устроить, по крайней мере, домашнюю читку перед несколькими актерами. Не питая никаких иллюзий, я согласился. Читали у меня дома. Я сразу же почувствовал, что атмосфера неблагоприятна. С самого начала лица приняли скептическое выражение. Слушатели, которых я любил, которыми восхищался, которые часто выказывали дружеские чувства ко мне, казалось, заранее замкнулись. Ледяное дыхание парализовало меня, и я читал плохо, очень плохо. В конце никто не проронил ни слова. Да в этом и не было необходимости. Этот молчаливый отказ подтвердил грубый отказ Жана Мейера. Таким образом, «Королева сердца» так никогда и не была представлена на суд театрального комитета. Не думаю, что стоит об этом жалеть. Пьеса страдала (как я сам чувствовал) серьезными композиционными недостатками. Умелый драматург, вроде Эдуарда Бурде, подсказал бы мне, как их устранить. Над этим стоило бы потрудиться, так как в диалогах не было фальши, а сюжет был не лишен интереса. Обстоятельства сложились иначе; я покорился, немного сожалея, что лето потрачено впустую, но оставаясь верен идее Алена, что [от сожаления толку нет]. «Не забывай забывать». За два дня я справился с чувством досады. В результате всего этого я навсегда отказался от театра. Впрочем, было весьма дерзко надеяться, что я смогу начать театральную карьеру в семьдесят лет. А жаль! Это было бы так прекрасно!
К 1954 году я стал более активно заниматься выборами в Академию. До сих пор я ограничивался голосованием, а в кампании участия не принимал. Как-то вечером в Версале после ужина у одного общего друга Жак Кокто взял меня под руку и увел в малую гостиную: — Я хочу с вами поговорить… Вам, наверное, говорили, что у меня нет ни малейшего желания вступать во Французскую академию и что даже если такая честь была бы мне предложена, я бы все равно отказался, потому что это не в моем стиле и противоречило бы всей моей жизни… Так вот, все неправда. Если бы Академия захотела меня принять, это доставило бы мне колоссальное удовольствие… Вопреки сложившейся легенде я всегда всем сердцем уважал и любил традиции. На мой взгляд, ничего не может быть глупее конформизма нонконформизма. И еще: мне необходимо чувствовать поддержку и опору дружеского сообщества. Вы не можете себе представить, как меня гнали, изводили, преследовали… Решайте сами. Если вы сочтете, что у меня есть серьезные шансы, и окажете мне поддержку, я выставлю свою кандидатуру. Я стал быстро соображать. На протяжении полувека Кокто играл во Франции большую роль и как поэт, и как театральный деятель; его знали во всем мире; слава его говорит сама за себя. С другой стороны, мне хотелось омолодить (при поддержке моих собратьев) этот древний институт и, насколько возможно, превратить его в верное отражение своего времени. Кокто впустил бы в него свежий ветер. Сартр, Ануй, Арагон отказывались выставлять свои кандидатуры. Кокто сам шел к нам; не приняв его, мы поступили бы одинаково плохо по отношению к нему и к себе. — Я всеми силами буду вам помогать, — сказал я ему. Я заручился серьезной поддержкой: Жака де Лакретеля, Мориса Женевуа, Пьера Бенуа[479]. Некоторые академики говорили, что их пугает прошлое Кокто, его дерзкие выходки. Я встречался с ними, успокаивал. Визиты наносил и сам Жан Кокто, и его обаяние покоряло самых строптивых. Он был избран в первом туре голосования. Торжественное посвящение должен был проводить Леон Берар, возглавлявший Академию с тех пор, как умер его предшественник. Он пришел ко мне и сказал: «Я хочу поговорить с вами о Кокто… Я плохо знаю его творчество. Мне трудно что-нибудь о нем сказать… Вам же, наоборот, будет приятно произнести речь в честь друга. Окажите мне эту услугу». Я был рад публично заявить о своей дружбе. Я председательствовал на том заседании и выступал с речью. Кокто лучился счастьем. Собравшаяся на набережной Конти толпа доказывала, сколь велика его слава. Барабанная дробь, отдающие честь гвардейцы, поэты в первых рядах публики — все это наполняло его восторгом. Этот успех побудил меня активно заняться продвижением других достойных кандидатур (Рене Клер[480], Анри Труайя[481], Андре Шамсон[482], Жан Полан[483], Луи Арман[484] и другие). Мне кажется, Французская академия за последнее десятилетие преодолела весьма опасный подъем, на котором поскользнулось классическое правое движение. Сообщество это сегодня представляет собой либеральную организацию, радушно привечающую таланты, сколь бы непривычными они ни были. Если ей и не хватает нескольких великих имен, то происходит это не по ее вине, как во времена Бальзака. Принуждать строптивых она не может. Когда я бился за Андре Шамсона, мы вместе с ним прикидывали вероятность противников и сторонников и наконец дошли до Поля Клоделя. «Боюсь, — сказал мне Шамсон, — что этот непреклонный католик не станет голосовать за такого безбожника, как я». «Вы идете к нему завтра? Поговорите с ним о Библии. А я перед этим Поговорю с ним о вас. И все будет хорошо». И действительно, в ближайший после визита четверг Поль Клодель сказал мне: «У меня был ваш друг Шамсон. Он мне очень понравился, такой же фанатик, как и я… Знает наизусть книгу Иова… Я буду голосовать за него». Вскоре после этого Клодель умер. Мы в полном составе присутствовали на всенародных похоронах. В скованном зимней стужей соборе Парижской Богоматери стучали зубами облаченные в мундиры академики. Прямо перед ними через готическую розу лился сверхъестественный свет, окрашенный в яркие, редкостные тона. В центре с монументального древка ниспадало огромное знамя. Синий и белый драпировались мягкими складками, красный обволакивал катафалк. Клирос отливал пурпурным, фиолетовым цветом и черным с золотом. Хорошо, когда в столице есть освященные места для подобных церемоний. Гюго проследовал от Триумфальной арки до Пантеона, Фош — от собора Парижской Богоматери до Дворца Инвалидов, и это справедливо. И в том, что французские министры, верующие и неверующие, столпились вокруг Клоделя на этом священном клиросе, был символический смысл, не лишенный величия. Франция сплачивалась. Насколько такая сплоченность необходима, стало ясно очень скоро.
6. 1958–1962
Древний мореплаватель, захваченный сильной бурей, говорил Нептуну: «Спаси меня, коли захочешь, но я и сам не выпущу кормила».«Не проходит и двадцати лет, — писал Лабрюйер, — как люди меняют взгляды на самые серьезные вещи и разуверяются в том, что представлялось им безусловно надежным и истинным». Будучи республиканцем и либералом, я чистосердечно полагал, что Четвертая Республика, несмотря на свои очевидные слабости, просуществует долго, и я кончу свои дни при этом режиме. С президентом Коти[485] у меня сложились доверительные отношения. Часто, когда я должен был ехать с лекциями в Америку, он принимал меня (как некогда Венсан Ориоль), чтобы просветить относительно внешней политики Франции. Иногда он мне писал. Однажды я с удивлением увидел из окна, как республиканский гвардеец остановился около моего дома и передал консьержу большой пакет. Мне сразу же его доставили. Это было письмо президента Республики. Накануне я опубликовал одну литературную статью. «У меня закралось дерзкое подозрение, — писал Коти, — что я обнаружил ошибку в вашей статье (вполне возможно, что это опечатка). „Prends l’eloquence et tords-lui son cou“[486] — написал, как мне кажется, Верлен», — продолжал президент. Да, Верлен написал «son cou», а я неточно процитировал «…et tords-lui le cou». Я допустил грубую ошибку, и Коти с большим вкусом объяснял мне, что это очень важно и что грамматическая неправильность составляет всю диссонирующую прелесть стиха.Монтень
«Любопытно, что Поль Рено точно также исказил этот стих. Когда я обратил его внимание на это, он решил, что прав он, а бедный Верлен погрешил против синтаксиса. Но поэзия выше грамматики. Что же касается отношений поэзии и политики, то знаете ли вы такую фразу из письма Гнейзенау[487] к Фридриху-Вильгельму Прусскому: „Надежность тронов зависит от поэзии…“ Прошу покорно, дорогой мэтр, простить мне эту болтовню и не взыскать за буквоедство. Примите уверения в самых сердечных и, если позволите, дружеских чувствах. Рене Коти».
Признаюсь, я ощутил определенную гордость оттого, что во главе Франции стоит президент, способный сказать: «Но поэзия выше грамматики». В другой раз он написал мне, что думает в одной речи провести параллель между двумя Андре — руанским и гаврским (Андре Сигфридом и Андре Моруа) — «сынами прибрежных земель. Их корни глубоко уходят в родную почву, а взоры обращены к широким горизонтам, за Ла-Маншем и за Атлантикой». Да, у нас во главе государства и в самом деле стоял знаток литературы. Президент Коти открыто заявлял о своем глубоком уважении к генералу де Голлю и считал его последним прибежищем в случае несчастья. Глава его военного ведомства генерал Ганеваль, с которым я виделся довольно часто, поддерживал постоянную связь с Коломбе-ле-Дёз-Эглиз[488]. В первые годы семилетнего срока его полномочий я даже не видел, откуда может исходить угроза существующему строю. Но 1958 год начался очень мрачно. У Франции больше уже не было валюты для закупки сырья. Неужели всей нашей промышленности предстояло остановиться? В то же время события в Алжире, к которым я долгое время относился как к тяжелой партизанской войне, хронической и безвыходной, активизировались и стали принимать более тревожный оборот. Мало того что силы партизан ФНО[489] и не думали идти на убыль — между алжирской французской армией и метрополией пролегла пропасть. Ничего не может быть опаснее для страны, чем сосредоточение лучших ее солдат в далеких землях. Об этом неоднократно свидетельствовал опыт Рима, и каждый раз, возвращаясь из Африки или из Галлии, проконсул при поддержке легионеров диктовал Сенату свои законы. Франция в 1958 году оказалась в таком же положении, осложненном еще и тем, что армия наша, осознавая свою силу и отвагу, остро нуждалась для самоутверждения в какой-нибудь победе. В 1940 году она познала трагичнейшее поражение; после драматических событий в Дьен-Бьен-Пху[490] ей пришлось оставить Индокитай. Многие офицеры видели свой долг в том, чтобы исправить положение, победоносно закрепившись в Африке. В этом их поддерживали, подбадривали и на это подталкивали алжирские французы, которые отстаивали дело, казавшееся им совершенно справедливым. Разве не жили в этой стране их предки в четвертом-пятом колене? Разве не превратили они своим трудом эту бедную землю в край изобилия? Разве можно заставить их поверить, что французская армия с ее вооружением и организацией не способна покончить с партизанами? Внезапно в Алжире вспыхнул французский мятеж. Ни с того ни с сего толпы жителей Алжира устремились к Форуму, понося парижское правительство и громко приветствуя генералов. Презрение к властям метрополии высказывалось уже неоднократно. Председателя Национального совета Ги Молле уже встречали градом помидоров. Но в 1958 году все обстояло куда серьезнее. Ответственность за недовольство алжирских французов падала на генералов. Вскоре военные лидеры стали угрожать гражданским властям и метрополии. Впрочем, там у них нашлись и союзники. Многие французы страдали от недавних капитуляций и не желали соглашаться с новыми уступками. Настал день, когда господину Пфлемлену, председателю Совета, не подчинились ни армия, ни полиция. Никто не внял даже воззванию самого президента Коти. Правительство, утратившее всякую власть, перестает быть правительством. Казалось, недалек час, когда мятеж перерастет в военный переворот. Существовало два обстоятельства, которые привели в движение колоссальные силы и направили их к генералу де Галлю. Верные голлисты решили навести алжирскую толпу и приветствуемых ею генералов на мысль о том, чтобы потребовать возвращения к власти генерала после его двенадцатилетнего уединения в Коломбе. В результате аналогичной кампании в Париже на Елисейский дворец обрушился целый поток писем и петиций, содержащих то же самое требование. Не думаю, что генерал верил тогда в успех. И дело не в том, что он сомневался в своем праве встать во главе Франции в минуту опасности или в своей способности положить конец кризису, — он сомневался, насколько это угодно французам. «Они не хотят де Голля», — говорил он. Но и вболее трагические моменты он умел показать, что ему не обязательно надеяться для того, чтобы действовать. Убежденный, что сможет обеспечить спасение страны, он, переговорив с тайными посланцами и самим президентом Республики, заявил о готовности взять ситуацию в свои руки. Его условием было соблюдение законности в противовес межпартийной возне. Другим элементом, способствовавшим возрождению голлизма, было не смирение, а горячее согласие президента Коти. Не видя иного решения, не питая никаких честолюбивых замыслов, от души восхищаясь генералом, он охотно согласился бы уступить ему свое место во главе нации. И все же было решено, что операцию разумнее провести в два этапа, и генерал де Голль стал сначала председателем Национального совета. Чтобы оставаться в рамках республиканской доктрины, на это требовалось согласие парламента. Отношения де Голля с Ассамблеей в 1946 году были натянутыми и привели к разрыву. Однако генерал умел быть обаятельным и привлекать людей; это удавалось ему тем легче, что таким, как он, резким натурам все обычно бывают благодарны и за минутное дружелюбие. Словом, он покорил парламент за одно заседание. Оставалось только, чтобы страна приняла новую конституцию, необходимую для стабильности нового правительства. Предполагалось провести референдум. Газета «Франс-Суар» взяла интервью у четырех писателей, обладавших, по ее мнению, некоторым влиянием на общественность, и спросила, как будут они голосовать: «за» или «против». Я ответил: «Я буду голосовать „за“, потому что Франция должна кем-то управляться, потому что для демократического управления необходимо большинство и потому что получить это большинство может только генерал де Голль». Я был глубоко убежден в мудрости этого выбора. В образовавшемся хаосе никто, кроме де Голля, не имел достаточного влияния, чтобы добиться повиновения армии и полиции. Никто, кроме де Голля, не обладал настолько твердой волей, чтобы довести до конца реформу системы управления. На следующий день ко мне пришел один молодой друг, пользовавшийся тогда влиянием в голлистских кругах, и сказал: — У нас не вызывает сомнения, что генерал получит на референдуме большинство, но в сложившихся обстоятельствах для того, чтобы авторитет его был непререкаем, важно добиться сильного перевеса и не допустить, чтобы было слишком много воздержавшихся. Так вот, мы собираемся создать «Фронт гражданского действия», главной целью которого станет борьба за всеобщее участие в голосовании; хотите возглавить его? Этого желают все. Заметьте, речь идет не о том, чтобы говорить избирателям, как надо голосовать, а просто, что голосовать надо. — Я, как и вы, считаю, что в этот час выбора неучастие равносильно дезертирству. Но буду ли я убедительнее других? И станут ли меня слушать больше других? Признаюсь, я не имею об этом ни малейшего понятия. — Мы так полагаем… В вашем распоряжении будут все необходимые средства. У вас будет штаб, свободный доступ на радио и телевидение, мы создадим местные комитеты в каждом департаменте. Меня немного пугала эта миссия, которая должна была отнять у меня много времени и вызвать неудовольствие кое-кого из друзей, но я не видел никаких веских оснований для отказа. Дело это не противоречило ни одному из моих убеждений, и я согласился. Активную роль в работе «Фронта гражданского действия» помимо меня играли профессор Рише и особенно посол Оффруа. Я писал тексты плакатов, многочисленные статьи на тему: «Голосуйте „за“ или „против“. Только голосуйте!» Я выступал по радио, по телевидению, неоднократно собирал и инструктировал наших корреспондентов в провинции. Очевидно, работа наша не прошла даром, ибо процент голосовавших, находившийся под строгим контролем всех партий, составил 85 %, что было (и остается) для Франции рекордом. Победивший генерал де Голль написал мне прекрасное письмо с изъявлением благодарности «за вашу деятельность по пропаганде голосования. Выборы 28 сентября показали, насколько она была полезной и эффективной». А несколько дней спустя во дворце Шайо хранитель печати Мишель Дебре устроил праздник для благотворительных организаций при Министерстве юстиции. Генерал де Голль был там. В антракте в фойе генерал подошел ко мне и сказал: «А, Моруа! Я страшно рад видеть вас здесь. Только что перечитал вашего Шатобриана. Какая прекрасная книга! И какой великий человек!» Возможно, читатель, видевший, что в 1943 году в Алжире я не поддерживал с генералом де Голлем никаких отношений, будет удивлен моей преданностью и его любезностью в 1958-м. Но читатель этот должен учитывать два фактора. Прежде всего, даже в те времена, когда я был не вполне согласен с политикой де Голля, я не прекращал питать живейший интерес к нему как к человеку, восхищаться им как писателем и уважать его как лидера. Я говорю это сегодня не из лести (к чему мне льстить?), но просто из чувства справедливости, ибо это правда. Генерал же, едва вышли в свет его «Воспоминания», послал их мне из своего уединенного пристанища с теплой дарственной надписью. Я в свою очередь посылал ему мои новые книги, и он каждый раз отвечал мне. В конце концов я хорошо изучил этот наклонный, как у поэта, почерк. Процитирую несколько фраз из этих писем, выбирая наугад, чтобы дать представление об их стиле и тоне: «Дорогой мэтр, я только что прочел „Жизнь сэра Александра Флеминга“ и восхищен необычайной гибкостью и глубиной вашего таланта, позволяющего столь основательно проработать эту крайне сложную тему и столь рельефно представить незаурядность человека, вовсе не стремившегося к оригинальности…» — 4 апреля 1961 г.; «Героиня книги „Адриенна, или Жизнь мадам де Лафайет“ — образец добродетели, преданности и простоты. При этом ничего интереснее я у вас не читал. Позвольте вас поблагодарить, дорогой мэтр, и прошу принять уверения в моем искреннем восхищении и преданности…» — 26 мая 1963 г.; «Дорогой мэтр, „Голые факты“ — вот поистине в добрый час рожденная и удачно названная книга! Мне очень нравится, что, рисуя портреты множества людей, вы не прибавляете к ним ничего, кроме тонких и остроумных, но ни в коем случае не злых замечаний. А как талантливо умеете вы обрисовать персонажей, даже тех, кого не надо выдумывать!..» Надо заметить, что выдающиеся люди действия часто бывают и большими писателями: Наполеон, Лиотей, Черчилль. Их стиль несет на себе отпечаток их силы.
В 1959 году знаменитый американский импресарио Колстон Ли попросил меня отправиться на следующий год в долгосрочную поездку с лекциями по Соединенным Штатам. Как и во время войны, я должен был проехать по всей стране, начать с Библиотеки Конгресса в Вашингтоне; ездить из университета в университет, из клуба в клуб до самой Калифорнии, вернуться через южные штаты и закончить в Нью-Йорке. Предприятие это для семидесятичетырехлетнего человека было весьма дерзким, но, как и в 1941 году, я считал его необходимым. Отношения между Францией и Соединенными Штатами ухудшались. В алжирском вопросе американцы заняли «антиколониальную» позицию. Многих французов (включая и разделявших это мнение) сильно раздражали выговоры из-за океана прежде всего потому, что они не желали, чтобы кто-либо вмешивался в их дела, и, главное, в этой «моральной» позиции они усматривали известную долю лицемерия. После смерти Поля Клоделя я согласился возглавить общество «Франция — Соединенные Штаты» и по мере сил способствовать взаимопониманию двух стран во Франции. Но представлялось еще более необходимым предпринять то же усилие в Соединенных Штатах и объяснить, что такое новая Франция. Ибо существовала новая Франция, и я попытался нарисовать ее портрет в длинном интервью под название «Франция меняет лицо», опубликованном Пьером Лазареффом во «Франс-Суар». В глазах американцев Франция долгое время была милой старомодной страной. Они любили Париж за связанные с ним исторические и литературные ассоциации, за свободу нравов, за школу живописи и театра. Между тем зарождалась новая Франция, которая, не желая пропускать вперед поезд технического прогресса, готовилась впрыгнуть в него на ходу. Промышленность, торговля, сельское хозяйство — все во Франции стремилось достичь уровня могущественных современных держав. Не всегда нам все удавалось, но то, что удалось, заслуживает внимания — и признания. Итак, я согласился на предложение Колстона Ли и не пожалел об этом. Я счастлив был снова очутиться среди студентов и студенток под градом вопросов, сыпавшихся со всех сторон к концу лекции. Это были два беспокойных и упоительных месяца. Каждое утро я садился в самолет: из Вашингтона я летел в Чикаго, из Чикаго — в Лос-Анджелес, из Лос-Анджелеса — в Хьюстон. Каждый вечер выступал перед рукоплещущей аудиторией. Американцы любят триумф и лучше всех умеют его создавать. В этом турне у меня была еще одна цель. Перед отъездом из Парижа я пообещал вместе с Арагоном написать «Параллельную историю США и СССР». По правде говоря, убедительной параллели мы провести так и смогли. Но я был счастлив воспользоваться случаем, чтобы чаще видеться с Арагоном, талантом которого всегда восхищался; к тому же, сколь ни были несовершенными обе наши истории, я считал их поучительными. Их предполагалось перевести в обеих странах, и, возможно, они могли способствовать мирному сосуществованию. С СССР во времена Сталина я был мало связан. Теперь же он был широко открыт для моих книг; советские журналы заказывали мне статьи; ко мне в Париж приезжали переводчики; читатели писали мне из Москвы и даже из Сибири. Я радовался, что у меня налаживаются связи со страной Толстого и Чехова, Пушкина и Горького. Кроме того, эта «Параллельная история» должна была включить в себя мои интервью со знаменитыми американцами и беседы Арагона с русскими. Путешествие облегчало необходимые встречи. Я виделся с физиками и астрономами, биологами и архитекторами, историками и художниками. Узнал много нового и оценил высокий уровень научной мысли в Соединенных Штатах. Нью-йоркская гостиница «Риц-Тауэр», где мы жили в 1941 году, была перестроена, и апартаменты сдавались не меньше чем на год, но дирекция любезно согласилась предоставить мне номер на месяц. После окончания турне ко мне приехала из Парижа жена, и мы прожили там несколько недель, радуясь, что верные друзья тяжелых времен остались ими и во времена счастливые. Симоне было очень приятно, что хозяева всех окрестных лавочек узнавали и приветливо встречали ее. Перед отъездом «Альянс Франсез» и общество «Франция — Америка» объединились, чтобы устроить в нашу честь банкет на пятьсот человек под председательством посла Армана Берара. Франция по-прежнему относилась к Соединенным Штатам с доверием и дружбой; и я от всей души желал, чтобы так было и впредь.
1961 год был отмечен для меня самой тяжелой болезнью в моей жизни. Уезжая в июле из Парижа в Перигор, я уже чувствовал, что меня лихорадит. На самом деле у меня начинался плеврит, но я этого не знал и не заботился о лечении. В Эссандьерасе мы принимали одного американского друга, советника по культуре при посольстве, и решили в палящий зной показать ему Дордонь. В романе «Превратности любви» я показал, как герой Филипп Марсена в жару входит в ледяной грот, заболевает пневмонией и умирает. Это было любопытное предчувствие. Вместе с американскими гостями я, горя и обливаясь потом, постоял в гроте Страшного Суда в Брантоме; вечером мне было так плохо, что жена попросила доктора Больё, нашего эксидёйского врача, срочно приехать в Эссандьерас. Он поставил диагноз: плеврит и двустороннее воспаление легких. Для Симоны началось тревожное время. Сам я вполне осознавал опасность. Но я не боялся. Мысль о смерти вовсе не пугала меня. Я думал о Монтене: «Даже если бы это была сама смерть…» И еще об Алене, говорившем: «Смерть — нечто вполне реальное». В то же время я старался как можно лучше помогать своим спокойствием тем, кто так заботливо за мной ухаживал. Еще одно любопытное совпадение: я только что написал жизнеописание Флеминга и мог со знанием дела наблюдать, как Больё подбирает антибиотики. Из Перигё и Бержерака приезжали специалисты — кардиолог, радиолог. Газета «Юго-Запад» написала, что я тяжело болен. Радио распространило новость по всей Франции. Ее подхватила зарубежная печать. Думали, что я при смерти. На Эссандьерас обрушился целый поток писем и телеграмм. Приехал мой парижский врач, профессор Клод Ларош, хоть и был в отпуске. Он всецело одобрил лечение, предписанное доктором Больё. Напряжение не спадало две недели. А утром 14 июля мать Симоны почувствовала себя плохо, легла, впала в забытье и умерла от сердечного приступа, так и не придя в сознание. Бедной Симоне пришлось от моей постели идти в церковь и на кладбище под праздничными флагами. А едва только она вернулась в Эссандьерас, как на кухне нашего дома вспыхнул пожар. Приехавшие по вызову эксидёйские пожарные сказали: «Если не удастся справиться с огнем сразу, будет разумнее перевезти месье Моруа в другое место… Едва займутся балки, как рухнет крыша и вспыхнет весь дом». К великому счастью, пожарные совершили чудо, и меня не пришлось эвакуировать. Я был так слаб, что это было бы непросто. Месяц спустя мы вышли из этой кошмарной атмосферы, но даже вне опасности я был в полном изнеможении от болезни и от огромных доз антибиотиков, которые мне вводили. Ходить, а позже спускаться по лестнице было для меня тяжелейшим упражнением. И все же в той тревожной поре была своя прелесть. Врачи и медсестры были необыкновенно внимательны и преданны: множество знакомых и незнакомых друзей расточали мне заботы, окружив мою старость нежными и теплыми чувствами. В августе я смог снова приступить к работе и почувствовал, что возрождаюсь. «Знают ли люди, что значит писать? — говорил Малларме. — Это древнее, очень неопределенное, но требующее полной отдачи ремесло, тайна которого заключена в глубине сердца. Кто занимается им всерьез, тот уходит в затвор». Да, писатель — это затворник, который не может существовать иначе, как перед листом бумаги «неприкосновенной белизны». С того дня, как врач разрешил мне писать, я знал, что спасен. По возвращении в Париж профессор Ларош направил меня к известному кардиологу, и тот провел длительное обследование. «Ну что ж! — сказал он под конец. — Вам очень повезло; по наследству от родителей вам достались хорошие ткани». Так оно и было: им я обязан был хорошими тканями, равно как и манерами, моральными устоями, а матери — еще и любовью к поэзии. Я прошел по краю пропасти; я чуть было не сорвался; любовь и дружба удержали меня. От этой угрозы осталось только большое черное пятно на плевре и огромная вера в людей в сердце.
7. Эссандьерас
На протяжении тридцати лет Эссандьерас принадлежал не нам, а матери Симоны и ее мужу Морису Пуке. Мы приезжали туда как гости и не имели права голоса ни в том, как управлять имением, ни в том, как содержать дом. Жизнь там шла в замедленном темпе. Теща моя, женщина пожилая и усталая, выходила из дому лишь чтобы немного пройтись под руку с мужем, которого обожала в полном смысле этого слова. Она предоставила ему управление делами, и это было ее ошибкой, так как он быстро вел ее к разорению. Я уже неоднократно говорил о Морисе Пуке, человеке очень умном, обаятельном, загадочном. Иногда меня покоряло его очарование, иногда шокировали его поступки. Судьба щедро давала козыри ему в руки: в свое время он занимал крупные должности в управлении рудников, компании «Коти», был администратором газеты «Фигаро», но каждый раз проигрывал из-за неуживчивости характера и нежелания поступаться теориями и учитывать практику. После войны он, торжествуя, показал моей жене, что владеет многочисленными акциями рудников, золотыми приисками, открытыми им в Лимузене, и фармацевтическим производством «Острейод». Десять лет спустя от его предприятий не только ничего не осталось — они поглотили солидное состояние, оставленное моей теще ее первым мужем. Все акции были проданы. Золотые прииски растворились, как туман. Оставался Эссандьерас, и это было немало. Я любил его широкие просторы с холмами и лесами, просеки, за которыми открывались голубоватые горизонты, фермы с коричневыми крышами, луга с ленивыми стадами. Во времена деда моей жены имение арендовали фермеры. Большого дохода это не давало, зато не было и убытков. «Эссандьерас? Это как кольцо на пальце», — говорил старый биржевой маклер с окладистой бородой. Морис Пуке, имевший свои соображения относительно сельского хозяйства, как и по любому другому поводу, внезапно решил, что Эссандьерас может быть источником дохода. Он дал истечь сроку или досрочно расторг договоры с арендаторами и решил сам эксплуатировать все земли. Не знаю точно, почему дело потерпело крах. То, что владелец земли, который сам на ней не живет, а предоставляет всю полноту власти управляющему, разоряется — это закон, еще давно описанный Бальзаком в «Крестьянах». Но Морис Пуке круглый год жил в Эссандьерасе, лично занимался и земледелием и животноводством и слыл таким специалистом, что многие владельцы соседних земель обращались к нему за советом. В его оправдание можно сказать, что земля в Перигоре не так уж плодородна, что луга уступают по обилию трав нормандским лугам, а потому скот не может давать столько молока. Эти факторы сыграли свою роль, но к ним прибавилась еще пагубная склонность моего тестя испытывать любой новый и необычный метод, вычитанный им в каком-нибудь американском журнале. Очень подверженный чужому влиянию, падкий на техническую терминологию, он был способен сменить целое стадо после случайного разговора. Причем потери при продаже и покупке его не смущали. Я говорю об этом, не тая на него зла и даже не осуждая его, поскольку я сам допускал столь же серьезные ошибки, когда впоследствии занялся сельским хозяйством, просто после смерти Мориса Пуке у меня перед глазами оказались его счета. Потери колебались от двух до четырех миллионов тогдашних франков в год, и это притом, что значительная часть великолепных дубов, составлявших гордость и украшение имения, были срублены и проданы. Разумеется, нам с женой он не сообщал о своих просчетах, но многое после войны указывало на то, что финансовое положение родителей Симоны внушает опасения. Самый необходимый ремонт, которого требовало естественное обветшание дома, бесконечно откладывался. Стоило нам сказать, что надо хотя бы починить крышу, как нам отвечали: «Ладно, только за ваш счет», на что мы соглашались не без некоторого беспокойства, ибо не знали, достанется ли нам вообще Эссандьерас. У Мориса было тайное, но прозрачное намерение разбить имение на части, «чтобы делать деньги», а Симона видела у нотариуса объявление о продаже «Вишни» — самой лучшей из ферм. Он уже продал Капиан, имение мадам де Кайаве, находящееся в Жиронде, и, невзирая на все наши протесты, ее библиотеку. Точно так же рассчитывал он продать и все остальное, а самому укрыться где-нибудь в другом месте. Однако на пути самых продуманных планов всегда возникает что-нибудь непредвиденное. Морис Пуке был намного моложе жены и имел все основания полагать, что переживет ее. Он основательно уже примерялся к вдовству: было составлено завещание в его пользу, все движимое имущество, белье, столовое серебро переведены на его имя (хотя все это, конечно же, осталось от бабушки и дедушки его жены); все, что могло быть продано, было превращено в наличные деньги. О таком хитроумном захвате Бальзак написал целый роман. Но смерть способна порушить все расчеты. Не знаю, что так внезапно подорвало здоровье этого полного сил человека. Все началось с заражения, вызванного уколом каким-то садовым инструментом. Но этого было недостаточно, чтобы объяснить страшное похудание, преждевременное старение, внезапную глухоту. Моя жена, ездившая без меня зимой в Эссандьерас, пришла в ужас, увидев состояние отчима. Хотя у нее и было к нему много серьезных, наболевших претензий, она попыталась спасти его, поместив в лучшую клинику Бордо. Там после основательного обследования обнаружили рак кишечника, уже достигший той стадии, когда операция невозможна. Поскольку преклонный возраст и немощь не позволяли теще покинуть Эссандьерас, жена (с моего согласия) решила поселиться в Бордо и ежедневно посещать этого несчастного. Он умер в ноябре 1956 года. Как ни глубоко было горе моей тещи, все же после смерти столь горячо любимого мужа я ожидал большего. Часто говорят, что старики замыкаются в своем эгоизме и не в состоянии испытывать сильные чувства. Теща красноречиво описывала свою скорбь, но переносила ее неплохо. Делами своими она никогда не занималась и знать ничего не хотела о том, как составлено завещание. Да это и к лучшему, ибо ее доля сводилась к нулю; то немногое, чем он еще владел, Морис завещал свои сестрам, особам весьма преклонного возраста, что было справедливо. Наверное, он как-то тайком распорядился некоторыми скудными наличными ресурсами. Жену он оставил совершенно разоренной, не имеющей ничего, кроме Эссандьераса. Можно было бы продать имение и таким образом обеспечить себе доход, но она в основном заботилась о том, чтобы в ее однообразной и уютной жизни ничего не менялось. Впрочем, и Симона сохраняла органическую привязанность к этому прекрасному месту. Она не мыслила свою жизнь без старого родительского дома, без парка, где росли деревья, хранившие в своих ветвях обрывки воспоминаний детства. Для меня проблема состояла не в том, надо ли продавать Эссандьерас, а в том, что делать, чтобы не пришлось его продавать. Конечно, я мог бы значительно сократить расходы, не засевая земли и используя их под пастбища для овец. Но в имении работали многочисленные семьи, чьи отцы и деды всегда жили здесь. Со многими из них Симону с детства связывали дружеские отношения. И речи не могло быть о том, чтобы бросить их на произвол судьбы, а тем более вынудить уехать. Чтобы занять их, нужно было возделывать землю. Естественно, я в этой области совершенно не разбирался. Промышленным предприятием в молодости я управлял весьма успешно. О земле же знал только то, что на протяжении тридцати лет рассказывал мне тесть, а он постоянно что-то привирал и недоговаривал. Но во мне жила опасная самоуверенность. Некогда, берясь за управление заводом, я думал: «Это не может быть труднее, чем писать сочинение или переводить с латыни», и успех подтвердил мою правоту; так почему бы на старости лет мне не стать образцовым землевладельцем, перигорским Оливье де Серром?[491] Я поддался искушению. Увы! Предприятие оказалось мне не по силам. Ситуация резко отличалась от той, что я застал в 1904 году на нашем семейном заводе, тогда еще крепком и процветающем. Но даже в Эльбёфе, едва став писателем, я сразу же перестал быть хорошим промышленником; внимание и воля должны быть, наподобие лазерного луча, всецело сосредоточены на одной точке. Чтобы посоветоваться, я вызвал в Эссандьерас экспертов. Они изучили счета и констатировали, что, как мы и сами отлично знали, расходы намного превышали доходы. Чтобы снизить расходы, следовало уволить часть персонала, а мы с женой этому противились. Оставался один выход: увеличить доходы. Мои эксперты рекомендовали мне солидные вложения: закупку крупных партий удобрений для создания искусственных пастбищ; приобретение высокомолочных голландских коров. Я заметил, что эта программа требовала изрядного количества миллионов, и получил традиционный ответ: «Хочешь добиться результата — раскошеливайся». Мне изложили перспективу. Если я куплю сотню породистых коров, бабушки которых давали 6000 литров молока в год каждая, то на молоке получу столько-то; кроме того, ежегодно буду продавать столько-то телок и столько-то молодых бычков. На бумаге выгода казалась неоспоримой. Действительно ли такое блестящее будущее стоило колоссальных затрат времени и денег? Я удобрил пастбища; я купил коров фризонской породы, черно-пегих и элегантных, образовавших восхитительные пятна на зеленом фоне наших лугов. Увы! Внучки не унаследовали молочных талантов своих бабушек. То ли климат не подходил, то ли трава наших пастбищ, но только они так и не смогли дать больше 2500–3000 литров, которые давали их скромные предшественницы из Нормандии и Бретани. По правде говоря, этого следовало ожидать. Внук великого поэта никогда не бывает великим поэтом. Но я упорствовал. Опыт с голландскими принцессами я повторил с породистыми свиньями, построив образцовые свинарники, оборудованные инфракрасными облучателями. Несмотря на всю эту роскошь, свиньи наши тяжело заболели. Те, что выжили, продавались плохо. Я узнал на своем горьком опыте, что курс свиней подвержен колебаниям, как и курс акций на бирже. Причем, как правило, он понижается, когда у вас есть скот на продажу, и повышается, когда его нет. Прощайте, телята, коровы, свиньи, молодняк! Я вложил в это безнадежное предприятие все, что зарабатывал литературным трудом; ежегодно потери по-прежнему были удручающими, одной книги в год едва хватало на то, чтобы кормить коров и свиней. Между тем жена все больше и больше привязывалась к Эссандьерасу. Мать ее после смерти мужа стала совсем пассивной, она еще блистала в разговоре, но была безразлична к тому, что происходит в доме, и теперь жена смело взяла инициативу в свои руки. Чтобы у нас могли гостить друзья, она приводила в порядок новые комнаты, используя фантастические резервы этого старого дома, где на чердаках было полно мебели и гобеленов. Ее чересчур разборчивые родители никогда не принимали у себя даже владельцев соседних имений. Для Симоны же сделалось привычкой приглашать парламентариев от всех партий, чиновников из департамента, многочисленных священников, наших парижских друзей, местных писателей. Мне предложили стать мэром нашей коммуны — Сен-Медар-д’Эксидёй, но во главе ее уже стоял замечательный мэр, да и вообще мне не хотелось заниматься местной политикой. Зато жена моя согласилась войти в муниципальный совет и относилась к своим обязанностям очень серьезно. Чуть ли не каждый день кто-нибудь из избирателей просил ее походатайствовать о его делах в префектуре или в парижском министерстве, и ей нравилось быть полезной. Поистине великое, неописуемое счастье — глубоко пустить корни в каком-нибудь уголке земли, где ты знаешь все до малейшей тропинки и где тебя все знают. Такое же приятное ощущение было у меня в молодости в Эльбёфе; и я снова обрел его в Дордони. Для соседей мы были не соперниками, а друзьями. Жена знала по имени всех детей в имении, и величайшей радостью для нее было каждый год устраивать для них елку. Каждый раз она переписывала все подаренные игрушки, чтобы на следующий год купить новые. Праздник этот вовсе не носил «покровительственного» характера. Родители разных политических убеждений приходили вместе с детьми. Равенство было полным. Симоне чудесным образом удавалось быть в дружеских отношениях с коммунистами, социалистами, радикалами, голлистами и одновременно — с землевладельцами и духовенством. Ее дом был одним из тех редких мест, где все охотно встречались друг с другом. Кроме того, она пыталась превратить Эссандьерас, «mutatis mitandis»[492], в некое подобие Ноана[493] Жорж Санд, где могли бы собираться писатели и художники. Работа почти целый день держала меня взаперти в моем кабинете; жена была занята не меньше меня. Гости, приспосабливавшиеся к такому образу жизни, и сами были большими тружениками. В Эссандьерасе Франсуа Мориак завершил «Конец ночи», Симона Порше — свои «Мемуары», Марселла Оклер[494] — «Святую Терезу», Рене Клер — один из сценариев, Лакур-Гейе — свою «Историю Канады», Жак Сюффель — своего «Флобера». Пуленк[495], Соге[496], Жак Дюпон[497] иногда доставляли нам радость, приезжая на несколько дней. Понемногу среди близких друзей появились и представители более молодого поколения. Жан Дютур, Морис Дрюон, Мишель Друа, Жан-Жак Готье, Морис и Констанс Дюмонсель не считали нас старыми развалинами и общались с нами по-дружески. Трапезы проходили весело, вечера были посвящены иногда беседе, иногда телевидению (если показывали какой-нибудь хороший фильм или спектакль), иногда музыке.Август 1959. Восхитительно провели выходные в Эссандьерасе. Лето, самое настоящее лето, и аттическое небо над головой. С нами были наши хорошие друзья. Говорили без конца. Говорили в машине, любуясь на замок Отфор, возвышающийся на своей одинокой площадке, или на долину Везера, проглядывающую сквозь черные, усеянные дырами, скалы. Говорили в Сен-Леоне, обедая у Дельсо в увитой виноградом беседке. О незабвенные трюфели и белые грибы! Я не знаю большей радости, чем разговор с людьми, близкими по духу. Если собеседники доверяют друг другу и не стараются покрасоваться, если они любят одни и те же книги или хотя бы книги примерно одного рода, если у них общий круг знакомых — тогда в разговор вступают и украшают его Стендаль, Бальзак, Пруст, Мериме. Это увлекательная игра, в которой вместо мячика игроки перебрасываются цитатами. Например: «Любопытство — это дань, которую добродетель отдает пороку». Поток слов несет в себе столько сюжетов, что они могли бы дать пищу десятку романистов. Жан Дютур цитирует Леона-Поля Фарга: «Спорить можно, только когда собеседники во всем, до мелочей, согласны друг с другом». За эти два счастливых дня я оценил, насколько это верно.
Сентябрь 1959. Приехали Жан и Камила Дютуры. Работа, прогулки, свобода. По вечерам слушаем пластинки. Сегодня — «Героическую симфонию». Никогда еще траурный марш не казался мне таким прекрасным. — Мне бы хотелось, чтобы именно это сыграли на моих похоронах, — говорю я. — Да, — говорит Жан Дютур, — мне тоже. Такой и должна быть смерть, героической и безмятежной. Каждый составляет себе похоронную программу. Симона предпочитает марш, под который Зигфрид всходит на костер в «Сумерках богов». — Но для этого нужен целый оркестр! — вздыхает она. — А это в церкви невозможно. Ну, тогда «Реквием» Фора… — А мне только бы не «Траурный марш» Шопена, — говорит Дютур. — Почему? — спрашиваю я. — Он тоже по-своему красив, хотя, наверное, не так глубок, как марш Бетховена. Потом, чтобы выбраться из склепов, обсуждаем следующую тему симфонии. — Тут вся итальянская кампания, вступление в Милан, прекрасные равнины Ломбардии… — И молодая графиня Пьетранера, глядящая из окна на солдат Бонапарта. Следующая пластинка — увертюры Россини под управлением Тосканини. Они рассеивают грусть, не нарушая чар Стендаля. Какое замечательное сочетание композитора, оркестра и дирижера! Не так давно в Карнеги-холле я слушал репетицию тех же увертюр с самим Тосканини за пюпитром. Он был строг, оживлен, обаятелен, великолепен. Итальянец на сто процентов. Дютур приводит блестящее определение, данное Полем Валери музыкальной увертюре: «Это отсветы будущего в прошлом». Опера, идущая следом, возвещает о себе отдельными образами.
Вот пример тех эссандьерасских разговоров. С Морисом Дрюоном на первый план выходили римские развалины, греческая мифология, Нерон и Юлиан Отступник и знаки Зодиака. Ему вторила моя дочь Мишель, обожавшая путешествия. Во время столь многочисленных в Перигоре фестивалей гости вместе с нами ездили посмотреть Гюго или Кальдерона в Бонневале, Шекспира или Мольера в Сарла, а в Брантоме, в гроте Страшного Суда — классический балетный спектакль. Правда, у нас не было, как у Жорж Санд в Ноане, своего театра марионеток, зато по всей нашей провинции в летние месяцы не смолкала поэтическая речь. Но тяжелое облако тревоги омрачало наш чистый небосклон. Сколько может продолжаться такая сказочная жизнь? Зависело это от того, насколько мы в силах сохранить Эссандьерас. А потери от имения все возрастали и возрастали. Стоило только одной из моих книг не найти читателя или мне заболеть и перестать писать, как ноша оказалась бы совсем непосильной. Мы с женой часто обсуждали этот больной вопрос. «Я жалею, — говорила жена, — что у меня не хватило мужества положить конец всему этому сразу после смерти Мориса. Но была еще мама, ничего не желавшая и не способная знать. Да я и сама не знала, смогу ли пережить такую потерю». И все же из года в год ценой больших расходов мы «держались», и правильно делали, ибо спасение, как всегда, пришло самым неожиданным образом. В 1962 году на одном обеде в префектуре Перигё моя жена сидела рядом с Сальвеном Флуара, уроженцем Перигора, ставшим одним из крупнейших французских промышленников. Сын почтальона из соседней деревни Найлака, воспитанный школьным учителем, который был для него тем же, чем для меня Ален, он благодаря своему уму, работоспособности и отваге сделал карьеру, напоминающую судьбу магнатов американской промышленности. В момент нашего знакомства он был всемогущим человеком, возглавлявшим авиационные заводы Бреге, ракетное производство Матра и десятки других предприятий. Правительство прибегало к его помощи, «Экспресс» называл его «нашим национальным спасателем». За столом префекта Симона, говоря со своим соседом о любимом ими обоими Перигоре, сказала, что боится, как бы со дня на день ей не пришлось покинуть милую ей провинцию. — Но, мадам, никогда не надо отчаиваться, — сказал он, — надо действовать. — Мы действовали — и все безрезультатно. — Надо действовать в другом направлении; всегда есть какой-нибудь выход… Какова площадь вашего имения? — Пятьсот гектаров, из которых двести годятся под пахоту, остальное — подлесок и песчаные равнины. — А для фруктовых деревьев ваша земля годится? — Не знаю, мы не пробовали. — Мадам, надо испробовать все. Я пришлю к вам специалистов, которые исследуют образцы почвы. Если ответ будет благоприятным, то я предложу вам одно дело. Вы предоставите земли, я дам капиталы, и мы разведем яблоневые сады. У меня уже есть здесь неподалеку от вас экспериментальный сад, и там все идет хорошо. Флуара был человеком, который, едва наметив план, сразу же переходит к действию. В течение недели были взяты образцы почвы и получен великолепный результат. — Ну, теперь надо действовать быстро, — сказал он. — Если мы хотим посадить яблони в начале 1963 года, общество наше должно быть создано прямо сейчас. Он привел в движение свой штаб юристов, нашего нотариуса, своих друзей, и через несколько недель было образовано «Общество садовых насаждений Эссандьераса», в котором он был главным акционером, но и жене моей принадлежала солидная доля. Внезапно имение заполнили бульдозеры и экскаваторы. Голландские принцессы и кашляющие свиньи были ликвидированы; земля покрылась маленькими прутиками, которые, как меня уверяли, должны были стать яблонями. Мне трудно было в это поверить, но сейчас, когда я пишу эти строки, с момента той посадки не прошло и четырех лет, а у меня перед глазами до самого горизонта тянутся шпалерные яблони, увешанные огромными плодами. Неужели садоводство удастся нам лучше, чем выращивание зерновых? Пока не знаю, но Симона сможет сохранить свои липы и дубы, свои утренние туманы и пылающие закаты, восхитительный вид на башни Эксидёя и долину Иля. И потом, у всех ее друзей по имению будет работа. А это главное.
8. К развязке
Мои жизнеописания Флеминга и Адриенны де Лафайет были уклонениями от истории литературы. В 1962 году меня энергично призвал к порядку Франсис Амбриер, сыгравший в моей карьере биографа роль тирана и опекуна. «Это что же такое? — сказал мне Амбриер. — Как это понимать? От вас ждут продолжения серии биографий, а вы увиливаете от занятий в компании с Флемингом или проповедуете катехизис вместе с Адриенной! Нет! Тысячу раз нет! Есть большая тема, созданная специально для вас, — это Бальзак». Я признался ему, что восхищаюсь Бальзаком больше, чем любым другим романистом, что читаю и перечитываю его вот уже шестьдесят лет и занимался изучением бесценного собрания книг Бальзака, переданного в дар библиотеке Лованжуль в Шантийи. Я всегда мечтал написать биографию Бальзака, но мне мешало убеждение, что это было бы покушением на права Марселя Бутерона[498], короля бальзаковедов, человека бесподобного, знавшего все о Бальзаке, а потому способного лучше, чем кто-либо другой, справиться с этой колоссальной задачей. Но Бутерон ушел из жизни, так и не написав этой книги. Я признал, что Амбриер прав, — настал тот миг, когда я должен увенчать здание жизнеописанием Бальзака. Работа по сбору материала внушала ужас. Во всех странах, а во Франции особенно, бальзаковеды составляют активную, блестящую и увлеченную когорту. Они черпали из всех источников, копали во всех направлениях, изучали мельчайшие подробности из жизни самых неприметных членов этой божественной семьи. Собрать все, что было написано о Бальзаке, прочесть это, разъяснить — такая работа, казалось, была выше человеческих сил. К счастью, я мог рассчитывать на жену, тоже страстную поклонницу Бальзака, знакомую с архивами Лованжу; да еще неоценимую поддержку оказала мне одна молодая женщина, ассистент из Сорбонны Мадлен Фаржо, которой Бутерон перед смертью отдал свою картотеку и архивные материалы. Благодаря ей редчайшие брошюры о наименее известных моментах жизни Бальзака оказывались на моем письменном столе, как раз когда они были мне нужны. Понемногу сюжет прояснялся, и я начинал различать главную тему: взаимоотношения Бальзака-человека и «Человеческой комедии». Три года предстояло мне с наслаждением растворяться в этом одновременно банальном и возвышенном существовании. Для начала я стал штурмовать архивы Эндры-и-Луары, где удивительный господин Бальзак-отец оставил множество следов своей осторожно-соглашательской карьеры. Для многих последующих эпизодов я нашел неизданные документы в прекрасной коллекции автографов, собранной моей женой. Дотошная и неутомимая труженица, она еще во времена «Лелии» снабдила меня многими письмами Жорж Санд, а во время «Олимпио» — письмами Виктора Гюго к мадам Биар. В Лиможе она откопала все бумаги, оставленные мадам Марбути, молодой женщиной, которая, переодевшись в мужское платье, поехала с Бальзаком в Италию и стала прообразом «Провинциальной музы». Симона совершенно бескорыстно помогала мне. Это тем более достойно восхищения, что она и сама могла бы, если бы захотела, стать писателем. У нее был оригинальный стиль, живой ум, чувство юмора, неистощимая эрудиция. Ее маленькая книжка о мисс Хауард (англичанке, сделавшей Наполеона III императором французов) пользовалась большим успехом. Она очень хорошо описала дружбу Жорж Санд с Мари Дорваль, восстановила историю последней любви Виньи. Среди ее бумаг были три черновые рукописи на оригинальные сюжеты. Она все бросила, чтобы помочь мне в исследовании бальзаковского мира. Скромность и страстная преданность были единственными чертами характера, которыми она гордилась, и по праву. Как раз когда я работал над своим «Бальзаком», я стал бессильным свидетелем агонии, а потом гибели той самой Эльбёфской фабрики, которой когда-то отдавал молодость и силы. Я, разумеется, не мог следить за тем, как идут дела, но время от времени мои двоюродные братья, стоявшие во главе фабрики, знакомили меня с ситуацией. А она быстро ухудшалась. Текстильные заводы создавались по всему миру. Производство во Франции превышало потребности. Одежды становилось меньше, люди одевались по-другому. Меньше жилетов, меньше пальто. В женской (а частично и в мужской) одежде искусственное волокно заменяло шерсть. Почти все Эльбёфские заводы вынуждены были закрыться один за другим. Правда, наш конкурент героических времен «Блен и Блен» выжил. Но разница в судьбе двух заводов объяснялась тем, что во время войны и оккупации им выпала различная доля. Оба производства были конфискованы оккупантами как имущество евреев. Но «Блену и Блену» повезло: ведение дел было поручено временному администратору, оказавшемуся честным человеком, да и от бомбежек завод почти не пострадал. Наш же завод, напротив, был наполовину разрушен, а временный администратор повел себя очень некрасиво. Поэтому сразу же после победы Блены смогли вновь завоевать зарубежные рынки, тогда как «Френкель и Эрзог» с трудом залечивали раны. Потери росли с каждым годом. Возникла опасность, что, упорствуя, можно привести предприятие к банкротству. Такой конец был бы недостоин почтенной фирмы, насчитывавшей более ста лет от роду. Лучше было закрыть дело, продать здания и оплатить все сметы. Решение далось тяжело. Когда я думал о столь долгой привязанности моего отца, его братьев, моих двоюродных братьев к этому предприятию; когда вспоминал о том, сколько эльзасских и нормандских семей из поколения в поколение передавали традицию сукноделия; когда представлял себе последний день, навсегда остановившиеся станки, неподвижные ремни, технику, обреченную стать металлоломом, у меня разрывалось сердце. Если бы я верил, что, снова взяв бразды правления в свои руки, смогу спасти фабрику, я бы сделал это. Но надежды не было, красивые жесты ничего не дают. Заводу не нужен был старый руководитель; молодые были не хуже. Зло коренилось глубже и превышало человеческие силы. Преображалась французская экономика. В древнем суконном городе открывались новые заводы: автомобильный, металлической мебели. По крайней мере, рабочие будут иметь возможность сравнительно легко переквалифицироваться. Одним из последствий этого «Падения дома Кенэ» стало то обстоятельство, что я был лишен всего или почти всего, что между 1914 и 1939 годами казалось моим состоянием. Все шло так, будто я всегда был только писателем. Империи рушатся быстрее, чем вырастают.* * *
Поскольку подготовка к биографии Бальзака требовала напряженной работы и лишала ни с чем не сравнимой радости сочинительства до тех пор, пока я не почувствую себя готовым приняться за книгу, я время от времени позволял себе сделать передышку и набросать новеллу. Я всегда любил этот жанр, и скоро у меня накопилось достаточное количество историй, чтобы собрать их в один том — «Соло для фортепьяно». Читатель, быть может, помнит о моих первых рассказах, которые я написал в юности, а потом счел негодными. За шестьдесят лет работы мой стиль почти не изменился. Он оставался простым инепосредственным. Нельзя сказать, что новые формы были мне безразличны. Мне очень нравились новеллы Кэтрин Мансфилд[499], а также жесткие и лаконичные новеллы Хемингуэя. Меня интересовали и попытки молодых французских писателей обновить роман. Где-то году в тридцатом я для забавы написал около ста страниц в манере Пруста — «Направление Челси». С помощью подобной игры я мог бы забавляться, имитируя Роб-Грийе, Натали Саррот. Но моя естественная манера была иной. У меня совершенно не было ощущения, что я живу вне своего времени. Корифеями, на которых ссылались молодые авторы «нового романа», были мои любимые писатели: Марсель Пруст, Джойс, Кафка. Я никогда не испытывал ужаса перед сюрреализмом и сознавал, как много он дал такому писателю, как Арагон. Я признавал, что шок может оказаться необходимым, когда надо разрушить стандарты. Бальзак был гениальным романистом, но это не означает, что всякий роман должен быть похож на бальзаковский. Возглавляя жюри стипендии Дель Дука, я присудил ее тогда еще начинающему Роб-Грийе; будучи членом репертуарного комитета в «Комеди Франсез», я голосовал за Ионеско. Все это свидетельствует о том, что я не отрицал экспериментов. Но различал те, что предпринимались ради лучшего постижения мира, и те, что стремились только удивить. Убрать из романа сюжет, историю и персонажей казалось мне бесполезным и опасным. Ни Пруст, ни Джойс этого не делали. «Любовь Сванна» — это такая же история, как любой традиционный роман. Шарлюс, Альбертина, Сванн — это персонажи, равно как и Блум, и его жена в «Улиссе». Отказ же от устаревших условностей казался мне вполне законным. Валери говорил: «Я никогда не напишу: „Маркиза вышла в пять часов“». Клод Мориак сделал эту фразу ироническим названием романа. В «Ужине в городе» он устранил не персонажей, но их представление и имена. Предполагалось, что читатель сам не растеряется, «разместит» собеседников в окружающем мире по их речам и в особенности по тому подтексту, что сопровождает произносимые фразы. Как правило, новые романисты играют со временем и пространством. Часто сбитый с толку читатель вообще перестает понимать, что происходит. Настоящее, прошлое, будущее перемешиваются; декорации размываются и превращаются в новые картины, как при «наплывах» в кино. Средний читатель жалуется: «Почему такой беспорядок? Здесь ничего не понятно». Молодой читатель отвечает, что все эти внезапные смены обстановки, все эти «головоломки» из разбросанных деталей побуждают разум к вниманию и поиску, не дают ему уснуть. Экранное искусство уже давно приучило зрителя уяснять фабулу из разрозненных картин. С кино я соприкасался по-прежнему часто. Меня неоднократно просили председательствовать на Каннском фестивале. Это было очень утомительно и требовало много времени. На протяжении двух недель надо было смотреть по два-три фильма в день. Я соглашался на эту жертву, потому что находил там образы мало знакомых стран и пользовался случаем немного лучше понять, как чувствуют, любят далекие народы, а также узнать, какие сюжеты предпочитают их художники. Ничто не могло быть для меня интереснее знакомства с эпическим пафосом советских фильмов; с эротикой и символической поэзией шведов; с трагикомическим реализмом итальянцев; с юмором и гениальным абсурдизмом англичан. Мне не всегда удавалось добиться от жюри результатов, которые отвечали бы моему личному вкусу. Был год, когда я тщетно пытался присудить Золотую пальмовую ветвь «Ночам Кабирии» (Феллини). Иногда при поддержке молодежи мне удавалось настоять на своем. Так получили признание шведский фильм «Фрёкен Юлия», итальянский «Чудо в Милане», замечательный британский фильм «Трюк» и «Мужчина и женщина» Лелуша. Иногда я терпел поражение, и тогда атмосфера на фестивале становилась невыносимой; зал освистывал жюри. Я в значительной степени должен был нести ответственность за выбор, сделанный вопреки моей воле. Утешало меня то, что среди нас присутствовали очаровательные женщины вроде Софи Лорен и Оливии де Хэвиленд. Прекрасное лицо всегда казалось мне «прекраснейшим из зрелищ». В мои восемьдесят лет я сохранил убеждение далеких времен, когда восторгался Еленой Троянской. В 1963 году я получил письмо из Мэрилендского университета, создавшего в Европе свой филиал — Армейский университет. Американские военные могли продолжать там образование. Располагался он в Гейдельберге. Ректор предложил мне диплом доктора «honoris causa» и попросил приехать в Гейдельберг получить его. Он сказал, что древний, прославленный немецкий университет предоставит по этому случаю американцам большую аудиторию. Как тут отказаться? И я поехал в Гейдельберг за своей докторской степенью. Церемония напоминала аналогичные в Оксфорде и Принстоне. Из Америки приехал губернатор штата Мэриленд. Декан выступил с длинной, чересчур лестной для меня речью.С Англией я также поддерживал связи. Иногда это было нелегко. Политика и экономика слишком часто противопоставляли две нации. Французская Торговая палата в Лондоне пригласила меня на банкет в качестве почетного гостя на следующий день после брюссельского провала[500] и отмены визита в Париж принцессы Маргарет. Я подумал: «Англичане расстроены, обижены. Обстановка будет неважной». Ссылка на грипп была бы трусостью. Я согласился выступить с речью. «Toas-master», гигант, одетый в красное, постучал по столу своим молоточком. Рядом со мной сидел государственный секретарь по иностранным делам. Я начал: «Когда Джозеф Чемберлен впервые выступал в палате общин, он был великолепен. Красноречие, точность формулировок, уверенность молодого оратора удивили его коллег. После заседания к нему подошел один пожилой депутат и сказал: „Все было хорошо, мистер Чемберлен, очень хорошо… Но палата была бы вам очень признательна, если бы вы могли колебаться… хотя бы иногда“. Уверяю вас, я долго колебался, прежде чем выбрать предмет, о котором смогу безбоязненно говорить с вами сегодня…» (Смех, аплодисменты. Я выиграл.) На следующий день я должен был выступить с лекцией в Кембридже. Я счастлив был вновь увидеть этот колледж, где когда-то под портретом Генриха VIII говорил о биографическом жанре. Студенты угостили меня чаем. Они очень чисто говорили по-французски и рассказали мне, что университетское французское общество насчитывает четыреста членов. Вечером они ждали выступления Мишеля Бютора[501]. — Две лекции на французском в один день? Не слишком ли много? — Вот увидите. Обе будут иметь одинаковый успех. Нам интересно познакомиться с двумя поколениями французов. Вечером действительно пришлось перебираться в аудиторию попросторнее. Нет, никакого непоправимого слома в результате недоразумения в Брюсселе не произошло. Я чувствовал, что достаточно связать несколько нитей, чтобы укрепить столь ценную дружбу. Из окна я видел ивы, готические башни и лебедей, скользивших по холодной воде. В камине у меня горел уютный огонь. Это была Англия. Во Франции ряды друзей редели. В том же 1963 году у Жана Кокто случился сильный сердечный приступ, причем уже не первый. Мы пошли навестить его к Жану Марэ. В белом халате, страшно бледный, с всклокоченными волосами и худым лицом, он был похож на сошедшую с экрана тень. Он смотрел телевизор, но без звука, поскольку любой шум мог плохо подействовать на него. На это молчаливое зрелище, эти движущиеся и остающиеся без объяснения картины накладывалась прерывающаяся речь Жана. Это было странно и прекрасно, как какой-нибудь его фильм. Больше увидеть его мне не довелось. О смерти этого друга, полвека бывшего рядом со мной, я узнал из газет в Англии, куда поехал рассказывать о Теннисоне[502] в его родной провинции. И тут же примчался в Париж. Его похороны в Мйайи-ла-Форе были церемонией мучительной и трогательной. Октябрьское небо казалось весенним: на чистом интенсивно-голубом фоне плавали крошечные белые облачка. Солнце щедро освещало маленький городок. Все стоявшие у гроба, покрытого трехцветным шелком и усыпанного великолепными цветами, были друзьями. Площадь перед мэрией своими белыми домами и вывесками напоминала лучшие полотна Утрилло. Пожарники в медных касках и школьники кольцом окружали академиков и префектов. На отпевании хор из церкви Сент-Эсташ исполнял возвышенную музыку. Потом процессия направилась в часовню, расписанную Кокто, за которой была вырыта могила среди лекарственных трав — растений, украсивших его фрески. Столь же просты, но прекрасны были и речи. Иногда на желтеющие ветви деревьев садились запоздалые птицы. Мы оплакивали мертвого и провожали бессмертного — не тем «убогим и увенчанным лаврами» бессмертием, что достигается почестями и титулами, но тем подлинным и долговечным, что живет в умах и сердцах. Еще одна смерть потрясла меня как личное горе — это смерть Джона Фицджеральда Кеннеди, молодого президента Соединенных Штатов. Незадолго до того я видел его в Париже. В Елисейском дворце я смог немного поговорить с его очаровательной супругой. На обеде для представителей прессы мне понравился остроумный тост президента, о чем я и сказал ему. Как и у Черчилля, у Кеннеди был свой стиль — и в речах, и в поступках. Он допускал иногда ошибки, но великодушно исправлял их. В моей памяти осталось милое, усеянное веснушками лицо. И вдруг ноябрьским вечером, когда мы с женой и Рене Клером сидели на просмотре какого-то фильма в киноцентре на улице Любек, кто-то вошел и сказал: «Кеннеди убили». — Не может быть! — Точно. Только что сообщили по радио. «Какое несчастье! — подумал я. — Нам так повезло что во главе сильнейшей в мире страны оказался сильный человек. В конце концов, я уверен, он нашел бы общий язык с де Голлем. Разница в возрасте облегчала общение. После неудачного старта Кеннеди начинал ладить с русскими. И вот пуля, направленная неведомой злой волей, кладет конец стольким надеждам!» В нашем мире малое и великое одинаково важны. Песчинка в уретре Кромвеля. Пуля в горле Кеннеди. Мы воображаем диалоги между главами государств; мы боимся, взвешиваем, строим планы, мы ждем ответа; а тот, кто, возможно, дал бы его нам, падает замертво, потому что кто-то неуловимый вложил винтовку с оптическим прицелом в руки никому не известного статиста, унесшего свою тайну в могилу. «То, чего мы страшимся, никогда не происходит, — сказал мой друг Жан Ростан. — Происходит нечто худшее».
9. ANNUS MIRABILIS[503]
Ален говорил: «Старость следует почитать». Это верно. Старость слаба. Она утратила свежий цвет лица, легкость в движениях, привлекательность. Утешение и поддержка ей необходимы. Иногда и ей выпадает власть, и случается, что, отрешившись от всего, она властвует мудро. Я же никогда этого не желал. За свою жизнь я дважды имел возможность пойти по этому пути; и, оказавшись на распутье, избирал другую дорогу. Всякая должность меня угнетала; я предпочитал созерцательную жизнь или такую деятельность, в которой и обязанности, и ответственность падали на меня одного. Между тем в восемьдесят лет я оказался не то чтобы «на вершине скользкой мачты», как говорил Дизраэли, но на почтенной высоте, достаточной, чтобы не испытывать горечи и не иметь «комплексов». Восьмидесятый год жизни принес столь милое моему сердцу сердечное тепло близких. Суждено ли мне в этой сердечности и любви окончить свою жизнь, которая уже не может быть долгой? В 1965 году я пожинал плоды долгого труда. Удача и люди улыбнулись мне. На этой бы счастливой развязке и опустить занавес. Но как? Тело и дух целы и невредимы; и мне приходится экспромтом сочинять шестой акт. Не знаю, каким будет конец моей жизни, если она продлится дольше, чем хотелось бы. Как в ранней юности, я часто думаю о кольце Поликрата. Что бросить ревнивым богам? В марте 1965 года вышел «Бальзак», которому я посвятил три года жизни. Вполне естественно, я волновался. В предисловии я заявил, что это моя последняя биография; итак, это была для меня решающая партия. Прав ли я был, отрекаясь от занятия, долгое время доставлявшего мне столько удовольствия? Мне казалось, что у меня для этого были весьма веские основания. Солидная биография требует двух-трех лет исследовательской работы. После восьмидесяти такое предприятие кажется дерзким. Не хватает времени. Да и потом, разве удалось бы мне после Бальзака найти сравнимого с ним героя? Жена, питавшая слабость к Виньи, хотела бы, чтобы последнюю книгу я посвятил ему. Но я не мог бы работать над ней с тем же воодушевлением и уверенностью, что вдохновляли меня все время, пока я писал «Бальзака», кроме того, меня ждали другие труды. Прежде чем написать слово «КОНЕЦ» на последней странице моей жизни, нужно было закончить эти «Мемуары», дававшие о ней более или менее верное представление. Успех «Бальзака» превзошел мои ожидания. Во всех газетах, во всех странах критики отмечали, что это моя лучшая книга. Я не мог не вспомнить, как Ален предупреждал меня во время «Брэмбла»: «Такую единодушную похвалу прессы получат только ваша первая и последняя книга». Читатели не отставали от критиков. Тиражи следовали один за другим. Вероятно, это в значительной степени объяснялось колоссальной популярностью Бальзака и колоритностью его жизни, но, я думаю, мой метод, заключающийся в том, чтобы обнажить художественную основу судьбы великого человека и показать мир его глазами, тоже прибавил книге увлекательности. Профессиональные бальзаковеды, чьей реакции я побаивался, не оскорбились, увидев, что непосвященный ступил на их территорию, и проявили снисходительность. Я получал бесчисленное множество восторженных писем. Процитирую начало одного из них, поскольку в нем подсказано очень удачное название (свою книгу я назвал: «Прометей, или Жизнь Бальзака»); это письмо Андре Мальро:«Мой дорогой мэтр и друг! В Елисейском дворце говорили о вашем „Бальзаке“, которого все хвалят. В этом нет ничего удивительного, ибо вы вносите доброжелательность в наше время раздоров и ратуете за справедливость, когда кругом царит предвзятость. Кроме того, вы переосмыслили биографию Бальзака. Сначала об этом мало говорили, но теперь, кажется, это чувствует каждый. Вы стерли традиционный образ Бальзака-писателя, преследуемого долгами Бальзака-типографа. То, что казалось случайным и внешним, оказалось органичным и постоянным. Вашей биографии подошло бы название „Сизиф“. Не раз утверждали, что Бальзак боролся с прошлым; вы же устанавливаете, что он боролся с самим собой».
* * *
Приведу еще одно письмо, так как оно пришло от столь же страстного почитателя Бальзака, как Ален и я сам, человека, принадлежащего к гораздо более молодому поколению, — от Жака Дютура, любимого и глубоко уважаемого мною автора.«Дорогой Андре, я просто потрясен „Бальзаком“. Это нечто большее, чем биография; вам действительно очень удалось единственное в своем роде перевоссоздание. Вы разрабатывали тему не как великий биограф (как говорится в рекламных объявлениях), но как великий романист. Интерес читателя возрастает по мере чтения. И постоянно дает о себе знать рука мастера — я имею в виду вашу руку, а не руку вашего героя — в глубоких размышлениях. Например: „Он приобрел опасный для всякого художника опыт презрения к своему искусству“. Это прекрасно и поистине достойно Бальзака или Алена, то есть самых великих. Постепенно проступающий портрет Бальзака великолепен. Все детали, все краски на месте. Контуры очерчены удивительно точно, а общая композиция не уступает пуссеновской. Так, в самом начале портрет семьи Бальзака — это просто чудо. Ни одного мазка не изменишь. Браво! Бальзак-отец, его сельские любовные увлечения, Лор, Лоране, мать, Мадам де Берни, бабушка Саламбье, все это сделано с не меньшей силой и блеском, чем у самого Бальзака. Редкий случай: биограф не „возвышается над“ своим персонажем; он, наоборот, стоит перед ним и смотрит на него таким же проницательным, объективным, добрым взглядом, каким смотрел бы он сам. Впредь будет невозможно не поместить вашего „Бальзака“ в начале полного собрания сочинений Бальзака. Он станет введением к нему и маяком. Короче, я очень рад, и, думаю, вы тоже должны быть рады. Вы написали книгу как человек, в совершенстве владеющий своими средствами выражения, книгу, где есть сила, размах и уверенность, на которые вряд ли кто-нибудь сегодня способен. Не так давно я был поражен одним высказыванием Клоделя. В восемьдесят пять лет он все еще считал необходимым и возможным совершенствоваться во всем… Слава Богу, вам не восемьдесят пять, но вы великолепно иллюстрируете эту мысль. В вашем „Бальзаке“ есть нечто большее, чем в других ваших книгах, какое-то углубление, какая-то новая и таинственная форма, свидетельствующая о молодости вашей души. И хорошо, что это так…»
* * *
Я назвал эту главу «Annus mirabilis» в память о Байроне, определившем таким образом год, когда публикация «Чайльд-Гарольда» внезапно открыла молодому безвестному поэту двери дворцов и сердец. В моем случае все было совсем по-другому, но старый человек испытывал не меньшую радость от благожелательности, окружавшей его последнюю книгу. Радость эту дополнил еще один успех, правда, не столь значительный. Экономист и философ Жак Рюефф[504] был только что избран во Французскую академию. А Андре Шамсон, который согласно регламенту сообщества должен был его принимать, не решался выступать с речью. Экономические доктрины приводили его в ужас; и хотя он был превосходным оратором, одним из лучших в Академии, он чувствовал, что это не его область. Наш бессменный секретарь, мой близкий друг Морис Женевуа обратился ко мне с просьбой взять на себя эту задачу. Для этого требовалось изрядно потрудиться, поскольку Жак Рюефф написал много и на сложные темы, но у меня всегда была противоестественная склонность к трудностям. Я согласился и с головой погрузился в работу. И был вознагражден. Тема оказалась не только не скучной — я нашел увлекательный сюжет. В ранней молодости Жак Рюефф занимался финансовой историей Франции, тесно связанной с историей политической. Об этом рассказывалось легко, с юмором, и я увидел, что некоторые колоритные оценки могли дать пишу для «анекдотов», необходимых академическому красноречию, чтобы с помощью пикантности стиля или парадоксальности контрастов внести оживление в весьма унылый тон долгих заседаний. Когда настал день принятия, Рюефф пригласил абсолютно всех своих бывших и нынешних начальников. Под куполом Института в первом ряду слушателей Поль Рено и Антуан Пине[505] сидели рядом с Кув де Мюрвилем[506], Кристианом Фуше[507], Пейрефитом[508] и Палевски[509]. Партер занимали не королевы, как у Кокто, но министры. Жак Рюефф шел на место Жака Кокто, и мне таким образом пришлось помянуть последнего (с величайшей любовью и грустью) в том же самом месте, Где я принимал его десять лет назад. Речь моя имела счастье прийтись по душе этой взыскательной аудитории. Я думаю, благодаря успеху «Бальзака» и успеху этой речи глава государства и Совет министров выбрали меня для вручения 14 июля 1965 года единственного присужденного в тот раз Большого Креста Почетного Легиона. Почему не признать, что это меня обрадовало? Я, конечно, не хуже Марка Аврелия и Алена знаю, что ленточка — это всего лишь ленточка, какой бы широкой она ни была, но эта ленточка связана с великими историческими воспоминаниями. Ребенком я с восхищением смотрел, как она красовалась на груди президента Сади Карно. Мне она напоминала о родителях, которые были бы так счастливы, и о вручении призов во дворе руанской школы, под навесом в красную и белую полоску. Между тем труды следовали за трудами, время шло, и понемногу я вместе со своими друзьями Франсуа Мориаком и Жюлем Роменом становился своего рода патриархом в литературе. Сам я этого не замечал; сердце оставалось молодым, почти наивным; мне до сих пор часто казалось, что я переживаю «утраченные иллюзии». На самом деле их утрачивают постоянно и постоянно питают новые. Я чувствовал себя начинающим литератором, которому еще только предстоит все написать, как вдруг, обернувшись, видел за собой длинную вереницу томов. От этого кружилась голова. Я бы охотно сказал (фраза Арагона): «Как я еще на себя похож; а все остальное мне что, приснилось?» Но это был не сон. В 1965 году пресса напомнила мне, что я родился 26 июля 1885 года, что скоро мне стукнет восемьдесят лет и исполнится пятьдесят лет литературной деятельности и что такие юбилеи принято отмечать. Мои парижские друзья не преминули это сделать, а потом, когда мы приехали на лето в Эссандьерас, несколько коммун Дордони избрали меня своим почетным гражданином. Так, целый месяц произнося речь за речью, я не мог не вспомнить ответа, данного маршалом Жоффром. Сразу же по окончании войны 1914–1918 годов коммуны департамента Марны решили отпраздновать годовщину знаменитой победы и попросили Французскую академию прислать на церемонию своего представителя. Она, естественно, выбрала маршала Жоффра. Через год снова настала годовщина, и Академию снова попросили прислать в Марну одного из своих членов. И опять сообщество единодушно указало на Жоффра. От возмущения и досады он всплеснул руками: «Нет! Не может же битва на Марне повторяться каждый год!» В своей последней речи, произнесенной в Перигё, я рассказал эту историю и добавил: «Я очень тронут вашей любезностью, но тем не менее счастлив сознавать, что церемония эта последняя и что впредь мне не будет каждый день исполняться восемьдесят лет». И действительно, мне на смену пришли те, кто был моложе на несколько месяцев. Жюля Ромена чествовали в Сен-Жюльен-Сетёй, Мориака — в Бордо, потом обоих — в Париже, со вполне оправданным рвением. 4 августа 1965 года генерал Катру, возглавлявший орден Почетного Легиона, лично приехал в Эссандьерас, чтобы вручить мне Большой Крест. Церемония совершалась в очень тесном кругу: наш милейший префект Жан Толель, местный епископ монсеньор Луи, депутаты Дордони, Морис Дрюон, Мишель Друа, а также окрестные мэры, работники фруктового сада и моя семья. Генерал Катру, высокий, худой, удивительно молодой, экспромтом произнес очень теплую речь:«Сейчас вы получите высочайшую награду Франции — Большой Крест Почетного Легиона, призванный увековечить все ваши заслуги и все ваши таланты, известные не только собравшимся здесь, но всей стране и, могу сказать без преувеличения, всему миру — ведь ваши произведения переведены во всех странах. На этих заслугах и достоинствах я бы должен был остановиться подробнее, но я солдат и, всецело посвятив себя действию, мало знаком с явлениями духовными. Итак, поскольку самому найти материал мне не удается, я вынужден позаимствовать его у вас и процитировать одну вашу фразу: „Большинство людей бьются со своей тенью. Самый первый долг — обладать волей; это единственный способ быть человеком“. Вот уж действительно прекрасно сказано. Быть человеком, обладать волей — такова избранная вами линия жизни. Вы верны Франции. Французы узнают в ваших произведениях Францию, и иностранцы тоже находят ее там, поэтому их читает весь мир. Вы послужили Франции, дорогой мэтр, и пером и оружием. Я думаю, что могу от лица генерала де Голля — уверен, что могу, ибо он сам мне об этом сказал, — выразить ту радость, которую он испытал, награждая одного из мэтров французской литературы и французской мысли».
Префект поблагодарил главу ордена за то, что он оказал Перигору честь, лично приехав в Эссандьерас: «Наша провинция счастлива с признательностью и любовью приветствовать у себя и новоиспеченного кавалера, и его крестного отца». Так закончилась последняя глава юбилейных торжеств. Начиналась подготовка к президентским выборам. Я уже принял решение: голосовать за генерала де Голля. Почему? Потому что стабильность дала хорошие результаты; потому что, хотя и не всегда все к лучшему в этом лучшем из миров, но наша страна пришла к относительному процветанию; потому что я не видел, кто мог бы добиться большего. Кое в чем я был с ним не согласен. Я предпочел бы, чтобы отношения с Соединенными Штатами были более гибкими. Многие из моих друзей (Мориак, Жюльен Кэн, Дрюон, Дютур, Мишель Друа) были пламенными голлистами, другие (Поль Рено, Жюль Ромен, Эдуар Бонфу[510]), наоборот, кинулись в оппозицию. Я слушал разговоры, в то время весьма резкие, и предсказания. — Еще ничего не известно, — говорили противники. — Совсем не известно. Буржуазия недовольна маразмом, царящим на бирже; землевладельцы — провалом Общего рынка… Во внешней политике наши союзники опираются прежде всего на Америку. Они ослеплены ее невероятным процветанием. — Процветанием совершенно искусственным, — отвечал другой хор. — Там колоссальные частные и общественные долги… Золотой запас Соединенных Штатов тает на глазах. — Золото — не богатство. Истинный капитал страны — это ее молодость, наука, армия и промышленное оснащение. Если бы золото было единственным критерием, вся капиталистическая система зависела бы от одной революции в Южной Африке. — Почему оппозиции не удается даже сгруппироваться вокруг серьезного кандидата? — Потому что такова Франция… Вы никогда не заставите члена МРП[511] голосовать за социалиста или сторонника Морраса[512] — за Леканюэ[513]. Вечера в Эссандьерасе зачастую превращались в предвыборные собрания, вспыхивали искры, но последнее слово перед отходом ко сну всегда принадлежало дружбе. По радио мы следили за блестящими дебатами Дебре[514] и Мендеса-Франса. Они бросали в лицо друг другу цифры, которые невозможно проверить. Мендес вменял правительству в вину стабилизацию: «Каждый раз, приходя к власти, вы, правые, ввергаете страну в дефляцию… Посмотрите на Пуанкаре, Пине, Жискар д’Эстена…» — Конечно. А каждый раз, когда к власти приходите вы, левые, вы занимаетесь демагогией, а нам затем приходится исправлять ваши ошибки. Мы вынуждены расплачиваться за ваши безумства… Да и вообще, мы не правые. В Дордони казалось очевидным, что победит Миттеран. Я плохо знал его, а избиратели вообще не знали, но в этом радикальном социалистическом департаменте они подчинялись наследственным рефлексам. Да и потом, фермеры с трудом зарабатывали на жизнь, были недовольны, а ответственность возлагали на правительство. У оппозиции легкая роль: она обещает, но не действует. Придя к власти, она вынуждена держать свои обещания, и вот тогда-то наступает разочарование. Настал день выборов. Мы с женой пошли голосовать в маленькую мэрию Сен-Медар-д’Эксидёй. Вечером мы спустились в деревню, чтобы присутствовать при подсчете голосов. Члены счетной комиссии открывали бюллетени и передавали их мэру, объявлявшему: «Миттеран… де Голль… Миттеран… Миттеран… де Голль… Леканюэ…» О том, кто что думает, можно было судить по лицам. Все избиратели, сидевшие на скамьях мэрии, знали, что я голосовал за де Голля; я сообщил об этом в печати. Они уважали мою свободу, как я — их. Никаких комментариев не было. Если бы вся Франция голосовала, как Дордонь, голосование было бы явно безрезультатным, но мы находились к югу от Луары; север и восток могли все изменить. Как только были объявлены результаты по нашей коммуне, мы сразу же вернулись в Эссандьерас, чтобы по телевизору следить за ходом выборов в стране. Это занятие возбуждает, как скачки. В полночь было подтверждено, что никто не набрал нужного количества голосов. Мы вернулись в Париж, а потом снова приехали на второй тур. На сей раз был достигнут положительный результат. Жизнь вернулась в обычное русло. Восемьдесят лет! Солидный возраст, дожить до которого я и не думал, помня, как в восемнадцать лет военный врач сказал мне: «Нет, я не могу вас взять, у вас слишком хрупкое здоровье». Как многих слабых людей, меня хватило надолго. Почему? Частично потому, что жизнь, отданная непрерывной работе, требовала строгой дисциплины. В особенности же потому, что Ален научил меня, — как быть счастливым. Мне, как и всем, случалось переживать тяжелые удары; но я спешил забыть о них. И все же тело изношено. Раньше я любил долгие прогулки, теперь всякая ходьба меня утомляет. Я любил беседовать и сейчас порой получаю удовольствие от беседы, но только в небольшом дружеском кругу, в обществе побольше я плохо слышу. Короче, пора идти на посадку. Пристегнуть ремни — и тормозить. Но тормозить нелегко, даже в конце путешествия. Меня еще просили сделать тысячу дел. Режиссер Раймон Жером[515] обратился с просьбой обработать одноактную пьесу Бернарда Шоу «Дон-Жуан в аду» — фрагмент «Человека и сверхчеловека», так полюбившийся мне в начале века в Лондоне, где я смотрел его вместе с Флоренс — прелестной англичанкой, которую я катал по Темзе. Текст был трудный и слишком нравился мне, чтобы я мог отказаться. Зрительский успех казался маловероятным, несмотря на превосходных актеров. Парадоксы Шоу о Небе и Преисподней больше подходили для англосаксонской публики, воспитанной на библейской культуре, чем для французов — католиков или скептиков. И все же пьесу сыграли сто раз. Почетно, хотя и не триумф. В 1966 году издатель Альбен Мишель, уже опубликовавший серию «Открытых писем», в которой приняли участие Жюль Ромен, Морис Гарсон[516], Робер Эскарпи[517], попросил меня написать «Письмо к молодой женщине». Я предпочел сочинить «Письмо к молодому человеку», позволявшее мне не то чтобы давать советы юношеству (которое у меня их не просило), но рассказать об опыте долгой жизни. Я не думал, что этой книге удастся найти широкого читателя, особенно среди молодежи. К величайшему моему удивлению, шестьдесят тысяч экземпляров разошлись за три месяца; телевидение и радио устраивали мне встречи со студентами «Лицом к лицу». Все прошло лучше некуда. Кое-кто упрекал меня за излишнее благоразумие. Я похвалил их за такую критику и напомнил фразу Алена: «Кто не был анархистом в двадцать лет, у того к тридцати не остается энергии, даже чтобы командовать пожарными». По правде говоря, мои юные собеседники вовсе не были анархистами; они бурно предавались страстям и удовольствиям своего времени. «Письмо» снова бросило меня в активную жизнь: «круглые столы», коллоквиумы, выступления. Я не жалел об этом. В старости особенно важно жить каждую минуту. Пусть смерть застанет нас на коне или сажающими капусту — примерно так говорил Монтень, — «среди игр, пиршеств, шуток, дружеских бесед, музыки и любовных стихов». У каждой эпохи свои нравы; игры и пиршества не особенно привлекали меня, зато маленький экран располагал к дружеским разговорам. Я по-прежнему «шагал в ногу» и радовался этому.
10. Смерть, старый капитан…
Увы! Как я был прав, когда, подбирая название для этой четвертой, и последней, части, подумал, что дерзко и неосмотрительно называть ее «Годы безмятежности». После вспышки счастья в 1965–1966 годах я опасался, что жизнь снова будет охвачена пламенем, и опять вспоминал о кольце Поликрата. Да, к великому сожалению, я был прав. Вдруг, всего за несколько дней, безмятежность обернулась тревогой. Серьезно заболела и страшно похудела жена. Отчего? Этого не могли объяснить крупнейшие врачи. Она сильно перенапряглась. Ее подтачивала излишняя требовательность и добросовестность, с которыми она относилась ко всему. Переписав от начала до конца огромную рукопись «Бальзака» с моего мелкого почерка, она подорвала зрение; бегая по канцеляриям в интересах своих бесчисленных подопечных, она явно не рассчитала силы. Истощенная, испуганная, что не сможет больше читать, она впала в тяжелейшую депрессию. Любая пища вызывала у нее отвращение. Раньше она любила видеться с друзьями, принимать их у себя и ходить к ним в гости; теперь же ей хотелось только одиночества и тишины. Еще недавно такая активная, она часами сидела перед экраном телевизора, прикрыв рукой свои бедные глаза. Рентген и анализы ничего не обнаружили. Я был в отчаянии и думал только о том, как ее вылечить, а пока — как развеять ее таинственное томление. Так прошла первая половина 1967 года, а единственным событием за все время была моя недолгая поездка в Англию. Я давно уже обещал прочитать лекцию в Оксфордском университете. Профессор Сезнек (мой давний друг) предложил мне погостить у него в Олл-Соулз-колледже, замечательном, единственном в мире заведении такого рода. В старом здании из камней цвета меда живут пятьдесят «fellows», эрудитов, ученых, экономистов, от которых не требуется ничего, кроме хорошего образования, остроты ума и соблюдения традиций колледжа. Студентов там нет, и колледж настолько хорошо обеспечен, что жизнь в нем, чем-то напоминающая монастырскую, все же протекает восхитительно, без пышности, с большим вкусом. Повсюду газоны, гостеприимство, поэзия и юмор. Вот он, вечный Оскфорд. Я опять был покорен странным и могущественным очарованием Англии. Я снова повидал милую Френсис Фиппс, с которой были связаны воспоминания о счастливых днях. Но задерживаться я не мог. На следующий же день я полетел обратно. Жена встретила меня в Орли, хрупкая, исхудавшая, но довольная, что мы снова вместе. 20 июня мы переехали в Эссандьерас. Мы планировали провести там все лето, а потом, в октябре, я должен был отправиться в Соединенные Штаты, чтобы прочитать там весьма оригинальную серию лекций. За год до этого я получил приглашение от Национальной лаборатории Брукхэвена провести «Пергамские чтения» для аудитории, состоящей из физиков, химиков и биологов. До сих пор в этих чтениях принимали участие только знаменитые ученые вроде Оппенгеймера; я ответил, что хотя и интересуюсь науками, но мало сведущ в этой области, а следовательно, не достоин выступать перед такой аудиторией. Тем не менее переписка продолжалась, и мы сообща выбрали прекрасную тему — «Иллюзии». Три или четыре лекции под названием: «Иллюзии ощущения», «Иллюзии чувств», «Иллюзии науки», «Сознательные иллюзии, или Искусство». Над этими циклами я с величайшим удовольствием работал всю зиму. Размышления такого рода возвращали меня к лекциям Алена. За три месяца в Эссандьерасе я отшлифовал свой текст, не прекращая работы над небольшой книжкой, заказанной мне молодым издателем Роже Мария. Писал я вот о чем: в 1927 году я небольшим тиражом опубликовал брошюру под названием «Следующая глава», где, опережая события, набросал историю мира с 1927 по 1967 год. Роже Мария сказал мне: «Многие ваши предсказания сбылись, другие — нет. Я предлагаю вам снова напечатать этот текст, прибавив к нему: 1) самокритику, где вы изложите свои взгляды на возможность предсказывать историю; 2) историю планеты с 1967 по 2007 год». Я соблазнился, но попросил, чтобы последняя часть была представлена в двух вариантах: гипотеза А — оптимистическая и гипотеза Б — пессимистическая, которая должна была привести к ядерной войне и уничтожению цивилизации. Книжка была почти закончена, когда здоровье мое пошатнулось и поездка в Америку, как и вся моя работа, была снова поставлена под вопрос. Казалось, ничего серьезного не было, но когда я, по совету моего друга доктора Больё, обратился за консультацией к специалисту, тот после осмотра сказал, что мне срочно необходимо хирургическое вмешательство. Это было неожиданно, как удар грома. Годы безмятежности все больше и больше сменялись годами невзгод. Мне не страшно. Меня и раньше оперировали; я знаю, что бывает немного больно, что это можно перенести и что потом, когда опасность минует, наступает облегчение. Но по силам ли нагрузка…Основные даты жизни и творчества Андре Моруа
26 июля 1885 г. В семье Эрзогов в Эльбёфе под Руаном родился сын Эмиль. 1897 — Поступление Эмиля в лицей Корнеля в Руане. 1903 — После службы в армии работа на текстильной фабрике семейства Эрзогов. 1912 — Женитьба на Жанине Шимкевич. 1914 — Рождение дочери Мишель, в будущем писательницы М.Моруа. 1914 — С начала первой мировой войны Эмиль Эрзог — в составе Британского экспедиционного корпуса. 1918 — Выход в свет первого романа, подписанного псевдонимом Андре Моруа, «Молчаливый полковник Брэмбл». 1919 — Моруа демобилизован в чине лейтенанта. 1920 — Рождение сына Жеральда. 1921 — Рождение сына Оливье. 1922 — Публикация романа «Речи доктора О’Грэди». 1923 — Выход книги «Ариэль, или Жизнь Шелли». 1924 — Смерть Жанины Шимкевич. 1925 — Первый этюд к биографии Байрона. Поездка в Марокко. 1926 — Женитьба на Симоне де Кайаве. Публикация психологического романа «Бернар Кенэ», в том же году переведенного на русский язык. 1927 — Выход в свет художественной биографии «Жизнь Дизраэли». Первое путешествие в США. 1928 — Чтение цикла лекций в Тринити-колледже (Кембридж), опубликованных под названием «Типы биографий». Присуждение почетного звания доктора Эдинбургского университета. Выход в свет романа «Превратности любви». 1930 — Публикация художественной биографии Байрона. Цикл лекций в Принстонском университете. 1931 — Выход в свет книги «Тургенев». 1932 — Публикация романа «Семейный круг» и сборника новелл «Англичанка… и другие женщины.». 1933 — Первый исторический труд А. Моруа «Эдуард VIII и его время». 1934 — Присуждение почетного звания доктора Оксфордского университета. Публикация романа «Инстинкт счастья». 1935 — Выход в свет книг о Вольтере, Диккенсе, сборника этюдов об английских писателях («Волшебники и логика»). 1937 — Публикация работы «История Англии». Награждение А. Моруа орденом Почетного Легиона. 1938 — Первая книга цикла художественных биографий французских романтиков — «Шатобриан». Избрание во Французскую академию. 1939 — А. Моруа получает назначение в ведомство информации. Поступает в распоряжение английского экспедиционного корпуса. 1940 — Отъезд А. Моруа в США. Встречи с Метерлинком, Т. Манном, С. Цвейгом, А. де Сент-Экзюпери. В Нью-Йорке выходит работа «Трагедия Франции», в октябре того же года опубликованная в газете «Правда». 1941–1942 — Поездка по США с лекциями о Франции и ее культуре. В издательстве «Дома французской культуры» (Калифорния) вышли «Мемуары» А. Моруа и два тома литературных этюдов. 1943 — Публикация двухтомной «Истории Соединенных Штатов Америки». Известие об аресте в оккупированной Франции 83-летней матери писателя. 1944 — Смерть матери. 1945 — В Нью-Йорке выходит роман «Земля обетованная» и сборник речей и выступлений «Надежды и воспоминания». 1946 — Возвращение на родину. 1947 — Поездка с лекциями по Южной Америке. 1949 — Публикация литературно-критического исследования «В поисках Марселя Пруста». 1951 — Выход сборника новелл «Обед под каштанами» и книги «Париж». 1952 — Публикация книги «Лелия, или Жизнь Жорж Санд». 1953 — Книга-эссе «Письма к незнакомке». 1954 — Публикация книги «Олимпио, или Жизнь Виктора Гюго». 1956 — Выход в свет последнего романа «Сентябрьские розы». 1957 — Издание биографического труда «Три Дюма». 1959 — Выход в свет книги, посвященной создателю пенициллина А. Флемингу. 1962 — В сотрудничестве с Л. Арагоном выходит параллельная история США и СССР (1917–1961). Перу Моруа принадлежит часть, посвященная США. 1963 — Выход книги из серии литературных портретов французских писателей — «От Пруста до Камю». 1964 — Публикация сборника «От Лабрюйера до Пруста». 1965 — Выход в свет последнего биографического труда А. Моруа — «Прометей, или Жизнь Бальзака» и сборника литературоведческих статей «От Андре Жида до Сартра». 1966 — Публикация эссе «Открытое письмо молодому человеку». 1967 — Выход в свет сборника статей «От Арагона до Монтерлана». Писатель заканчивает «Мемуары», доведя их до осени 1967 г. (опубликованы в 1970 г.). 9 октября 1967 г. Смерть А. Моруа.Иллюстрации
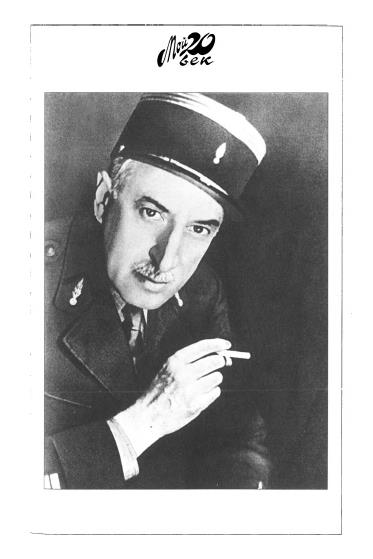


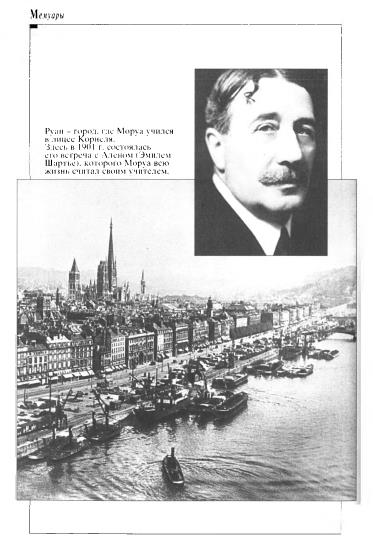








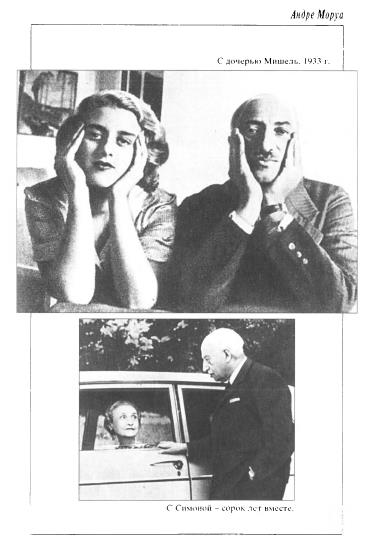








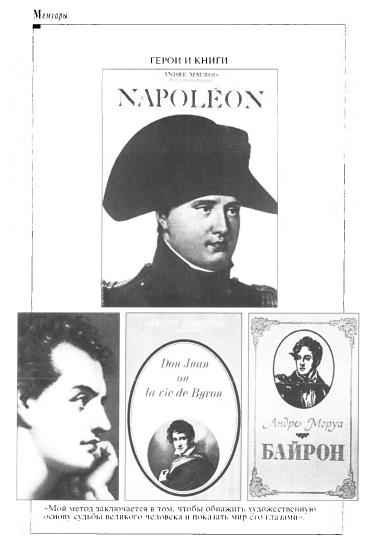



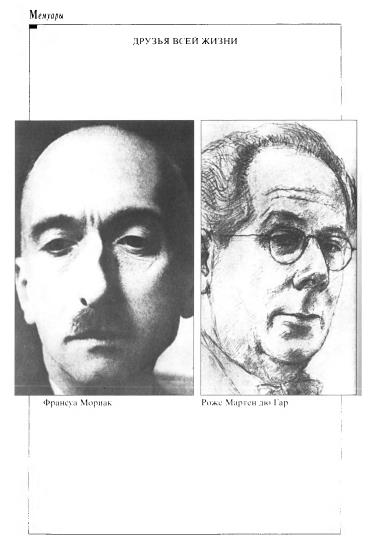
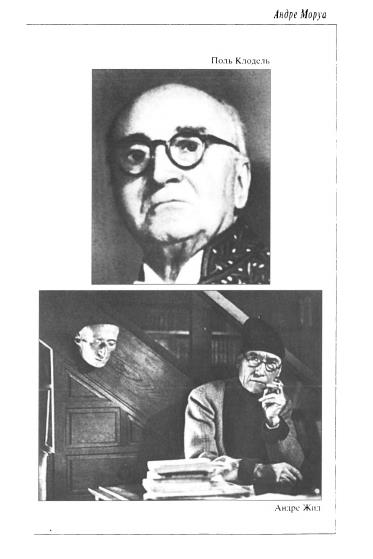







Последние комментарии
1 день 6 часов назад
1 день 10 часов назад
1 день 12 часов назад
1 день 14 часов назад
1 день 20 часов назад
1 день 20 часов назад